[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Угль, пылающий огнем
Российский государственный гуманитарный университет Мандельштамовское общество Кабинет мандельштамоведения научной библиотеки РГГУ Записки Мандельштамовского общества Том 15
Семен Липкин «Угль, пылающий огнем…»
Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка
Москва 2008
УДК 821.161.1 ББК 83.3(2 Рос-Рус)6я 43 СЗО
Редакционная коллегия:
О. Лекманов, И. Делекторская, Д. Мамедова,
П. Нерлер (гл. редактор), Н. Поболь, Ю. Фрейдин
Составители: П. Нерлер, Н. Поболь, Д. Полищук
Художник М. Туров
© Российский государственный ISBN 978-5-7281-0925-9 гуманитарный университет, 2008
Записки Мандельштамовского общества Том 15
Семен Липкин «Угль, пылающий огнем…»
Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка
Москва 2008
УДК 821.161.1 ББК 83.3(2 Рос-Рус)6я 43 СЗО
Редакционная коллегия:
О. Лекманов, И. Делекторская, Д. Мамедова,
П. Нерлер (гл. редактор), Н. Поболь, Ю. Фрейдин
Составители: П. Нерлер, Н. Поболь, Д. Полищук
Художник М. Туров
© Российский государственный ISBN 978-5-7281-0925-9 гуманитарный университет, 2008
От составителей
Материалы, собранные в настоящем издании, распределены между двумя большими частями. В первую вошли избранные произведения самого поэта, во вторую — избранные произведения о нем и его творчестве. Открывается первая часть воспоминаниями Липкина об О. Э. Мандельштаме, одним из лучших мемуарных очерков о поэте. Его заглавие дало имя всему сборнику, выходящему в серии «Записки Мандельштамовского общества». Второй и третий разделы книги составили стихи С. И. Липкина (они предварены вступительным словом И. Л. Лиснянской), а также статьи и очерки поэта, в том числе заметки из рабочих тетрадей. Всех их объединяет то, что они или не входили в прижизненные авторские сборники, или не публиковались вовсе. В четвертый раздел вынесена избранная переписка С. И. Липкина, в частности с В. Гроссманом, Е. Макаровой, А. Солженицыным, М. Фаворской и Л. Чуковской. В эту же часть включен и раздел, состоящий из интервью с С. И. Липкиным, данных им различным массмедиа на протяжении многих лет. Все разделы первой части выдержаны в условно-хронологическом порядке. Вторая часть открывается разделом, состоящим из мемуаров и статей общего содержания, посвященных жизни и творчеству Липкина в целом. Среди авторов раздела — С. Аверинцев, В. Аксенов, И. Бродский, М. Ватагин, М. Гейзер, Н. Иванова, П. Крючков, И. Лиснянская, Е. Макарова, П. Нерлер, Р. Полищук, С. Рассадин, А. Солженицын, Е. Степанян, О. Чухонцев и другие. Большинство мемуарных материалов сборника было написано по просьбе составителей специально для настоящего издания. В раздел вошли также статьи по поводу 90-летия поэта, отмечавшегося в сентябре 2001 г., а также отклики на его смерть. Если первая часть сборника представляет главным образом творчество Липкина последнего десятилетия, то вторая дает коллективный панорамный портрет писателя с удивительной творческой судьбой, участвовавшего в литературном процессе на протяжении почти семи десятилетий. Даты и источники материалов приводятся в конце каждого из них. П. Нерлер, Н. Поболь, Д. ПолищукСемен Липкин «УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ…» Об Осипе Мандельштаме
«УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ…» Воспоминания
Ранней осенью 1931 г. я во второй раз в жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла на Чистых прудах. Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) показалось мне помолодевшим от загара — обычно он выглядел старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выражение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. Я обрадовался тому, что он узнал меня. Услыхав, что я учусь на химическом факультете, он сказал: «Теперь вы стали благополучным советским студентом». Странная фраза должна быть объяснена. Стипендия была крохотная, в общежитии на Стромынке, в бывшем Вдовьем доме, мы жили в комнатах по шесть-восемь (а то и больше) человек, уже была в стране введена карточная система, в столовой над каждым счастливцем, успевшим воссесть за тарелкой, томился напряженно ожидавший своей очереди, не хватало вилок и ложек (ножей не давали), чаем у нас назывался просто кипяток, — и все это Мандельштам называл благополучием? Надо его понять. У студентов был быт, у Мандельштама быта не было. Студенты были веселы, молоды, здоровы, твердо верили в то, что живут как надо, что лучшее — впереди, а Мандельштам жил неуверенно и вряд ли знал, что впереди. Конечно, он догадался, что я хочу прийти к нему со своими стихами (прямо сказать об этом я не посмел), и он был так внимательно добр, что дал мне свой адрес, новый, не на одной из Бронных, где я у него был в первый раз, а поблизости от Чистых прудов, если не ошибаюсь, в Старосадском переулке, назначил день, час. Я с отроческих лет восхищался им. Стихи новых поэтов тогда к нам в провинцию доходили редко, книг почти не было, хотя в то же время «Версты» Цветаевой и «Тяжелую лиру» Ходасевича я приобрел на развале за гроши. О Мандельштаме я узнал от Багрицкого, моего старшего земляка и наставника. «Я лечу свою астму, читая вслух Мандельштама», — как-то сказал мне Багрицкий, великолепно знавший и благоговейно любивший русскую поэзию. Я не расставался с книгой Мандельштама «Стихотворения», выпущенной Госиздатом в кирпичного цвета переплете. А до этого мне на глаза попался «Лёт» — сборник произведений советских поэтов и прозаиков о первых шагах отечественной авиации, и в сборнике неожиданно оказалось стихотворение Мандельштама «Ветер нам в утешенье принес…», весьма условно соответствующее заданию сборника, и меня поразили ассирийские крылья стрекоз. Я не мог сказать толком, в чем была причина моего преклонения перед Мандельштамом, преклонения почти молитвенного. Мне нравилось как будто совсем другое — ясность, строгость, точность, 19‑й стихотворный век ценил выше 20‑го, а в 20‑м недосягаемыми образцами казались мне Бунин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чудное, волшебное — «не радость, а мученье» — властно притягивало меня к Мандельштаму, и строки, которые я не понимал, были еще притягательнее, чем строки, мне понятные, хотя футуристической зауми я уже тогда терпеть не мог. Как-то в журнале «Молодая гвардия» сотрудник познакомил Мандельштама с рифмованным самотеком, и Мандельштам отметил мое, присланное из Одессы, стихотворение «Пригород», я получил от поэта ободряющую открытку, приглашение присылать ему стихи, и, таким образом, у меня возникла возможность, когда я вскоре приехал в Москву, попасть к нему. Мандельштамы жили не то у родственников, не то снимали комнату. Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные стопки. О первой, самой большой, он ничего не сказал: значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, указывал на неправильные ударения, банальности, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. Об одном, со сложным строфическим построением, сказал: «Здесь хороши только эти ое, ое (рифменные окончания), напоминают Белого». Другое прочел дважды, пристально, вскинув длиннейшие, раввинские ресницы, посмотрел на меня, — стихотворение называлось «Петр и Алексей», — сказал: «Концепция, того-этого, не стала стихом. И после словесных открытий Тынянова уже нельзя так писать на темы русской истории». Вот как он разобрал начальную строфу:МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК
С. Липкин 1962
Стихотворения, не входившие в сборники
«Когда человек умирает, / Изменяются его портреты», — писала Ахматова. В обыденном смысле несколько изменился и портрет Семена Липкина. Трудно было бы себе представить, что педантичный, предельно аккуратный, неукоснительно соблюдающий распорядок дня, знающий место каждому предмету, никогда ничего не ищущий, поскольку ничего не теряющий, Семен Израилевич оставит после себя такой неупорядоченный архив. Вот уж, действительно, он как бы вторил Пастернаку: «Не надо заводить архива, / Над рукописями трястись». Но стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», как мне думается, мог написать только знаменитый поэт. Совсем иначе складывалась поэтическая судьба Липкина. Его многие годы знали и почитали как переводчика эпосов народов СССР и классической поэзии Востока. А его оригинальные стихи, едва начав, прекратили печатать в начале 1930‑х годов, да и опубликовано было к тому времени всего несколько стихотворений. Как оригинальный поэт Липкин был известен лишь узкому кругу литераторов. Талант его оценили в его юные годы Багрицкий и Мандельштам, а в зрелые — Ахматова, Заболоцкий, Платонов и Василий Гроссман. Борис Слуцкий, любивший поэзию Липкина, способствовал выходу в свет его первого сборника «Очевидец». Эта книга вышла в крайне урезанном виде в 1967 г., когда поэту было уже 56 лет. Да и могло ли в те годы издательство «Советский писатель» издать в достаточном объеме произведения поэта, религиозного с детства и, возможно, в силу этого говорящего о мире, времени и о себе открыто и ясно? Семен Израилевич и в частных разговорах всегда подчеркивал, что не терпит в изящной словесности темнот и туманностей, не признает таинственностей, ибо сама по себе поэзия есть тайна. В начале 1980 г. Семен Липкин в связи с участием в неподцензурном альманахе «Метрополь», в знак протеста против исключения молодых составителей альманаха Евгения Попова и Виктора Ерофеева из Союза писателей, вышел из этого Союза. Судьба круто изменилась как в худшую, так и в лучшую сторону. С одной стороны, запрет на профессию, всякого рода преследования и гонения. С другой — неслыханное счастье: наконец-то выходят в свет, пусть и за океаном, его стихи и поэмы! Издательство «Ардис» в 1981 г. издает «Волю», составленную Иосифом Бродским, в 1984 г. еще один поэтический сборник — «Кочевой огонь». А в 1991 г., слава Богу, уже на родине увидело свет избранное Липкина «Письмена». И как был счастлив Семен Израилевич, когда в 2000 г. издательство «Возвращение» напечатало «Семь десятилетий» — почти все, что он к тому времени написал стихами за 70 лет жизни. Ныне издательство «Время» подготовило свод поэзии Семена Израилевича, названный, как и его первый сборник, «Очевидец». Но эти стихи, представленные читателям «Знамени», войти в книгу уже не успеют: «Очевидец» к началу 2005 г. уже, надеюсь, будет на прилавках книжных магазинов. Здесь я не стану говорить о прозе Липкина. Но о том, как мечтал Семен Израилевич о переиздании его прозы — художественной и мемуарной, не упомянуть просто не в силах. А вдруг какой-нибудь издатель прочтет это мое предисловие и захочет переиздать в двух томах прозу Липкина?! Но вернусь к разговору об архиве, как бы изменившем портрет поэта после его жизни. Никаких дневников. Несколько записных книжек, где стихи разных лет перемежаются короткими записями адресов и телефонов, а также краткими дорожными заметками и рассуждениями. На осенние пожелтевшие листья похожи и кипы плохо, вразнобой собранных машинописных страниц, некоторые — от руки. Такое впечатление, что Семен Израилевич относился к своим стихам спустя рукава, ничуть себя как поэта не ценил. Но это впечатление разрушают не только, скажем, строка-заклинание своей поэзии «Чтобы остаться как псалом» или же скромное «Я всего лишь переписчик: / Он диктует — я пишу». Но кто диктует? Господь Бог! А к Нему и, значит, к Его переписчику Липкин не мог относиться несерьезно. О том, как серьезно относился поэт к написанному им, свидетельствуют и разбросанные по разным папкам многочисленные оглавления книжек, которые он составлял с юношеских лет. Однако ни одной рукописной книжки не осталось. Эта же публикация выбрана из разных по годам записных книжек и уцелевших страниц. Многие стихи, указанные в оглавлениях, наш драгоценный поэт и вовсе не сохранил. Казалось бы, именно тот, кого так долго не публиковали и кто был в повседневности тщательно аккуратен, должен был с особым тщанием сохранять свои рукописи и трястись над ними. Так не случилось. Это в основном касается стихов раннего периода. Почему? И можно только предполагать, что именно из отчаянья, из неверия в то, что стихи когда-нибудь дойдут до читателя. В записной книжке военных лет нашлось дивное лирическое стихотворение «На пароходе». Семен Израилевич, прошедший всю войну от Кронштадта и Сталинграда, в начале 1967 г., когда мы встретились с ним на всю жизнь, много говорил мне о своей давней фронтовой любви, но этого стихотворения мне никогда не показывал. Что же касается неопубликованных стихов 1980–1990‑х годов, то он их, видимо, просто забыл отдать в печать, занятый своей прозой и увлеченный переводом древнейшего эпоса «Гильгамеш». И я их непростительно запамятовала, ведь каждое, свежеиспеченное, как выражался Липкин, стихотворение он мне тут же прочитывал по нескольку раз. Писал же Семен Израилевич чаще всего на ходу, обкатывал строки в уме, а уж потом переносил на бумагу. Еще он рассказывал мне, как ему пишется: стихотворение виделось (именно «виделось») сразу и целиком, он почти точно знал, сколько будет строф, и работа над словом происходила уже внутри увиденных строф и услышанной музыки. Господь даровал Семену Израилевичу длинную жизнь и долгую муку непечатанья. ИЛ. Лиснянская Публикуется по изд.: Знамя. 2005. № 2.1 * * *
1928
2 В БОЛЬНИЦЕ
1929
3 * * *
<1929>
4 ВТОРОЙ ПОХОД
<10.1929>
5 НА СТРОЙКЕ
<Не позднее 1929 г.>
6 СЛЕПОТА
<Конец 1920‑х — начало 1930‑х годов>
7 ДЕРЕВНЯ
8 ГОРОДУ НА МОРЕ
1931
9(*) ОСЕНИ
1932
10 В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ
1932
11 РУЧЬЮ
1932
12 * * *
1932
13 МУЗЫКА
1933
14 НОЧЬ ПЕРЕД ЭВАКУАЦИЕЙ
Воспоминание
<1934>
15 МИР
1934
16 ПИСЬМО В СТОРОНУ ПОНТА
Михаилу Скалету Долго беседу веду с любезными сердцу друзьями.Овидий. Письма с Понта
1935
17 НА ПАРОХОДЕ
20.08.1941. Кронштадт
18 ВОЗВРАЩЕНИЕ
22.08.1941
19 ПОСЛЕ ИНФАРКТА
1957
20 ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
30.6.1967
21 ИННЕ
1979
22 ЛИПА
09.08.1979
23 * ЧИТАЯ ЛЬВА КОПЕЛЕВА
17.10.1979
24 * * *
<1980‑е>
25 * * *
03.05.1980
26 * * *
27.05.1980
27 СУМАСШЕДШИЙ
05.06.1980
28 (*) ЛИК
14.07.1980
29 * * *
05.10.1980
30 ЕЛЬ В ОКНЕ
22.01.1981
31 НОЧНАЯ ТЬМА
07.03.1981
32 В гостинице
15.08.1981
33 СОНЕТ КЛАРЕ
11.10.1981
34 ВДВОЕМ
04.11.1981
35 Я ЦАРЬ, Я РАБ…
20.11.1981
36 (*) НЕСКОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЙ
1
2
3
16.11.1983
37 НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
При реках Вавилона сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе.Псалом 136
03.05.1986. Красновидово
38 РАСПАД
09.05.1986. Красновидово
39 * * *
<1989>
40 * * *
<1990>
41 ПЕРЕД БОЕМ
<1990>
42 ЗАКАТНАЯ СВЕЧА
<1990>
43 (*) НА СМЕРТЬ А. Д. САХАРОВА
1991
44 КЕСАРИЯ
21.04.1991
45 ПРЕДКИ МАСТЕРОВ
02.05.1992. Переделкино
46 ТРИ ДОЧЕРИ
08.06.1992. Переделкино
47 ***
02.10.1992
48 НИКОГДА
11.04.1993. Переделкино
49 (*) АТЛАНТИДА
22.04.1993. Переделкино
50 ТРИ БАБКИ
07.04.1994. Переделкино
51 МОГИЛЕВ
19.04.1995. Переделкино
52 (*) ЛИТЕРАТУРНАЯ ПУТАНИЦА
19.06.1996. Переделкино
53 (*) СУД
11.08.1996. Переделкино
54 СРЕДИ МОГИЛ
<1997>
55 У ФИНСКОГО ЗАЛИВА
<1997>
56 (*) ЛЕТО БУДУЩЕГО ГОДА
10.12.1997
57 ДРОБЬ
23.12.1997
58 ЗЕМНАЯ ЗВЕЗДА
Безмолвье твоего лица.Оссиан
06.12.1997
59 (*) ТАМАРЕ ИВАНОВОЙ
04.02.1998
60 (*) ДРЕВНИЙ ЗАКОН
25.02.1998
61 ВОЗРОЖДЕНИЕ
27.05.1998
62 ***
21.07.1998
63 ***
27.08.1998. Переделкино
64 ***
<1999>
65 БАШНЯ
<1999>
66 ЛОРД
16.05.1999. Переделкино
67 ***
12.07.1999
68 ***
10.08.1999
69 ТЕЛЕФОН
19.08.1999
70 ШКОЛА
Рассказ учительницы
19.08.1999
71 ОДНО МГНОВЕНЬЕ
29.08.1999
72 ***
19.09.1999
73 ОСЕННИЙ САД
03.10.1999
74 ПЕСОК
28.10.1999
75 ***
02.11.1999
76 ОТОШЕДШИЕ
01.12.1999
77 Перевод Из Лиджи Инджиева РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ БУДДЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Статьи и выступления
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА (Джангар. Калмыцкий народный эпос)
В 1936 г. редакция альманаха «Творчество народов СССР» предложила мне сделать стихотворный перевод довольно большого отрывка из неизвестного мне прежде калмыцкого эпоса «Джангар». Речь шла о вступлении к «Песни о походе против лютого хана Хара Киняса». Новый, самобытный мир открылся мне при чтении подстрочного перевода. Степи и луга с их странными деревьями, травами и цветами; сказочная архитектура дворцов-кибиток; образы и сравнения, такие реальные и неожиданные; богатыри, рассевшиеся семью кругами на пиру, — отважные, сильные, мудрые; удивительная страна Бумба, — поэзия, исполненная красоты нам не знакомой, но нам не чуждой, своеобразной, но не экзотической, — все это заняло все мои помыслы, перевод «Джангара» стал моей заветной мечтой. Калмыцкого языка я не знал. Имел я довольно смутное представление и об истории калмыков, их обычаях. При таком невежестве нельзя было ограничиться одним подстрочным переводом. Я начал изучать труды историков и путешественников — Пальмова, Грумм-Гржимайло, Иакинфа Бичурина, Палласа и других; познакомился со «Сравнительной грамматикой монгольского письменного языка» Б. Я. Владимирцова (калмыцкий язык входит в группу монгольских языков), со «Строем халха-монгольского языка» Н. Н. Поппе; впоследствии прочел (в рукописи) интереснейшее исследование С. Козина о дате возникновения «Джангариады»; несомненный налет буддийской, тибетско-индийской культуры, лежащий на эпосе, вызвал необходимость познакомиться — хотя бы в общих чертах — с основами буддизма, в особенности с его ламаистским истолкованием. Мне посчастливилось: моим чтением руководил калмыцкий писатель Баатр Басангов, страстный поклонник «Джангариады», знаток истории, обычаев, устного творчества родного народа. Общение с ним увеличило запас сведений, почерпнутых мной в литературе. Постепенно все ясней и ясней вырисовывались передо мной очертания «Джангариады», но по-прежнему оставался загадочным ритм поэмы. Сколько я ни вчитывался в латинскую транскрипцию подлинника, я никак не мог уловить стихотворного размера. Мне часто казалось, что эпос написан не стихами, а прозой. Это впечатление усиливалось незначительным количеством гласных. Высказывания же ученых по этому вопросу оказались крайне противоречивыми, — до сих пор еще изучение калмыцкого стиха находится в зачаточном состоянии. Однако со слов своих калмыцких друзей я знал, что имеются народные певцы, джангарчи, исполняющие различные варианты «Джангара» в сопровождении домбры. Выяснилось, что стихотворный размер эпоса можно определить только с их помощью. Я поехал в Калмыкию. Калмыцкие степи раскинулись между двумя историческими путями: между Кавказом и Волгой. Из Астрахани переправляются через Волгу на пароме верблюды, автомобили и кони, впряженные в подводы. Автомобиль часами несется вдоль ковыля, который в эпосе с поразительной точностью назван коленчатым… Всюду — и в улусных центрах, и в маленьких аймаках — убеждался я в горячей любви калмыков к своему поэтическому творению. «Оказывается, и в Москве знают о нашем „Джангаре“», — говорили мне колхозники, но в голосах слышалась удовлетворенность, а не удивление. Недалеко от Хулхуты у нас лопнул скат, и мы провели несколько часов в дорожной будке. Там за длинным узким столом сидели чабаны, рабочие дорожной бригады, шоферы и пили калмыцкий чай. Когда мой спутник спросил, где здесь живет поблизости хороший джангарчи, все рассмеялись. «Каждый из нас — джангарчи», — сказал водитель грузовой машины и запел главу о «Савре Тяжелоруком». Все присутствующие, как бы соревнуясь, исполнили свои любимые места из «Джангара». Тогда же один маленький старик в островерхой барашковой шапке рассказал нам легенду о создании калмыцкого эпоса. В драгоценное изначальное время, когда степь успокоилась после топота могучих коней, когда были подавлены все враги Бумбы, Джангар и его богатыри заскучали. Не стало сайгаков, чтобы поохотиться на них, не стало соперников, чтобы помериться с ними силою. Скука, как туман, вползала в страну Бумбы. Тогда, неизвестно откуда, появилась женщина, но еще не жена, и была она великой красоты. Она вошла в кибитку, где восседали семь богатырских кругов, и круг старух, и круг стариков, и круг жен, и круг девушек, — и запела. Запела она о подвигах Джангара и его богатырей, об их победах над несметными врагами, о Бумбе, стране бессмертия. От теплоты ее голоса рассеялась скука, как туман под лучами солнца. Так родилась «Джангариада». Богатыри, слушая ее, становились снова веселыми и жизнелюбивыми, и нойон Джангар приказал им заучить эту песнь. С той поры появились джангарчи, над вечно зеленой землей Бумбы зазвенела песнь победы, — поют ее и поныне. Много в калмыцкой степи можно услышать таких легенд, да это и неудивительно: долгие годы «Джангариада» была для калмыков не только литературным произведением, но и символом их национальной гордости, их источником сил, их утешением… Вслушиваясь в исполнение джангарчи Ара Човаева, Дава Шавалиева и других, я стал различать плавный, пусть не похожий на европейские стихи, ритм. Почему же я не улавливал его при чтении? В калмыцком языке слово имеет два ударения: главное, падающее на первый слог, и второстепенное, музыкальное, падающее во многих случаях на последний слог. В письменной литературе, как и в обыденной речи, ударение всегда падает на первый слог, а остальные гласные произносятся кратко, чаще вовсе не произносятся. Я уже писал, что меня поразило при чтении оригинала незначительное количество гласных; согдавалось впечатление, что поэма сложена не стихами, а прозой. Если же прочесть «Джангар» так, как его исполняют джангарчи, — пользуясь музыкальным ударением, падающим во многих случаях главным образом на конец строки, на последний слог, то неударные гласные обретут ясность и силу, и прозаическая, казалось бы, строчка зазвучит, как стихотворная. Сопоставление записей, сделанных со слов различных джангарчи, привело к выводу, что стих «Вступления» и первых восьми песен состоит из восьми-девяти слогов (хотя встречаются строки и с большим и меньшим количеством слогов), а стих последних четырех песен состоит из 11–13 слогов. Так в основу русского перевода легла музыкальная мелодия «Джангариады». Оригинальна и калмыцкая рифма. В эпосе преобладает анафора, т. е. стихи начинаются на одну и ту же букву или группу букв. В русском языке такая рифма читателем почти не ощущается; анафора как основная система рифмовки не свойственна русскому стихосложению. Поэтому в переводе анафора заменена знакомой нам концевой рифмой, но чтобы читатель получил представление о звучании калмыцкого стиха, нередко применяется и анафора, не исключающая, однако, концевой и даже внутренней рифм, например: БУрый ЛЫСКО ВСПРЫГНУЛ вдруг, БУдто ИСКРА ВСПЫХНУЛ вдруг… ЛЮДи не знали в этой стране ЛЮТых морозов, чтоб холодать, ЛЕТнего зноя, чтоб увядать… ШЕСТИ крепостей разрушил врата, ШЕСТЫ сломал сорока пик. Чтобы читатель не только видел, но и слышал анафорическую рифму, я решил как можно чаще рифмовать начальные слова строк, например: БЛАГОУХАННАЯ, сильных людей страна, ОБЕТОВАННАЯ богатырей страна. В «Джангариаде» часто встречаются редифы, т. е. повторы одного слова или группы слов в нескольких строках. В этих случаях в переводе рифма поставлена перед повтором, например: Что тебе, желанная, дать, Что тебе в приданое дать? БУДда свидетель: верные воины мы. БУДем ли, наконец, удостоены мы… Стремился я передать и свойственную стиху «Джангариады» аллитерацию (повторение одинаковых звуков): РЕШИл он: ШИРЕ на целый аРШИн… Естественно теперь задать вопрос: если переводчик передаст абсолютно точно смысл каждой строки подлинника, воссоздаст его форму, проявит изобретательность при передаче трудно переводимых выражений, — можно ли утверждать, что перевод будет удачным? Нет. Перевод можно считать удачным только тогда, когда он воспроизведет и то обаяние, которое оказывает оригинал на читателей. Это обаяние нужно искать во всем: и в рифме, и в ритме, и в словаре оригинала, и в синтаксисе, и — это, может быть, самое главное — в живой интонации стиха, которую научил нас слушать Владимир Маяковский. Пусть читатели судят, насколько мне удалось разрешить эту задачу, но должно отметить, что все благоприятствовало моей работе. Прежде всего я слушал древнюю калмыцкую поэму из уст ее авторов, ибо как же иначе назвать джангарчи, этих народных певцов, исполняющих одни и те же главы, но каждый раз только в своих, отмеченных личным дарованием, вариантах! Я наблюдал, какой мимикой сопровождались отдельные места эпоса и как они воспринимались слушателями. Было необычно и то, что моя работа, работа молодого литератора, заинтересовала целый народ, я получал письма от рыбаков и табунщиков, от представителей калмыцкой интеллигенции, — письма критикующие, ободряющие, советующие… Отдельные главы, эпизоды, монологи переводил я несколько раз заново. Появление нового джангарчи, нового, более яркого варианта какой-нибудь из глав «Джангариады» вызывало соответствующие изменения в переводе. Вдохновенные гравюры В. А. Фаворского уточняли мое представление об одежде богатырей, об их доспехах, о снаряжении коней, об убранстве кибиток, о древней утвари. Пользуюсь случаем, чтобы принести благодарность редакторам С. Я. Маршаку, Баатру Басангову и Е. С. Мозолькову. Публикуется по изд.: Джангар. Калмыцкий народный эпос / Пер. Семена Липкина. Худ. В. А. Фаворский. М.: Худож. лит., 1940. С. 11–14.ГРАВЮРЫ «ДЖАНГАРИАДЫ»
Старый богатырь, вождь племени, держа в руках плеть, сидит на траве. Он в голубом кафтане, и седина его тоже стала голубой от движения времени, от дряхлости. За его спиной — табун одномастных коней, стадо быков — его труд, его богатство, а впереди, перед его глазами, — будущее, мы, читающие книгу о нем. Таким изобразил его художник, сделав сначала — до гравюры — множество рисунков со знакомого мне старика сторожа при складе на элистинском базаре. Как угадал художник в нем то, что, думается, сам старик и не ощущал в себе? Это и есть единственно верный путь искусства — от повседневного к прекрасному. Тогда-то становится ясно, чем привлекло к себе внимание В. А. Фаворского лицо этого, казалось бы, ничем не примечательного старика. И теперь — после Фаворского — вспоминаешь, каким пристальным был пытливый взгляд узких, уже выцветших глаз, как бы заглядывающих вам в душу. Сколько лиц, сколько мест вижу я, когда смотрю на гравюры «Джангариады»! Хорошо помню того загорелого, широкоплечего калмыка, каспийского рыбака, с которого написан богатырь Хонгор, Алый Лев, и ту молоденькую актрису с некрасивым умным лицом, которая изображена на гравюре в качестве мудрой Заидан Герел, и то местечко в степи около Яшкуля, которое, возродившись в душе художника, стало фронтисписом к вступлению. Вспоминаются мне и наши поездки по калмыцкой степи, и в особенности одна такая поездка летом, когда трава сгорела и волны песка двигались навстречу нашей машине по сухой и, казалось, очень твердой земле, но так только казалось, а на самом деле мы вскорости попали в ерик, и машина надолго в нем застряла, и мы ее толкали вчетвером: и водитель, и Баатр Басангов, и я, и уже тогда седобородый Владимир Андреевич Фаворский в старенькой чистой парусиновой толстовке, из бокового кармана которой выглядывали толстый карандаш и дерматиновый потертый очечник. Машина наконец вырвалась из соленого вязкого плена, сумерки широко, полно и густо легли на половину видимой степи, а другая половина еще насквозь золотилась дневным червонным золотом, и на небе одновременно зажглись круг солнца и круг луны. — Видите, — сказал Владимир Андреевич, — на буддийских иконах тоже бывают одновременно и солнце и луна, считают, что это условность, а какая же это условность — вот они два круга на небе. Заночевали мы, не помню уже в каком селении — или то было отделение совхоза? Хозяева дома, твердо соблюдая обычаи калмыцкого гостеприимства, сперва угостили нас маханом и чаем, а потом уже спросили, кто мы. Пришли соседи, и в кибитке запахло особенным ароматом степного жилья — кизячным дымом, овцой, перегнанным молоком. Владимир Андреевич был удивительно хорош с простыми людьми, потому что естествен. Когда перед маханом выпили по чарочке «тепленького» — водки из молока, — Владимир Андреевич произнес нечто вроде тоста: — Вы, калмыки, сначала показались мне чудными, а теперь кажетесь чудными. И все с удовольствием смотрели на то, с каким непритворным удовольствием московский профессор, зурач, пьет золотистый калмыцкий чай, о котором поэтесса сказала, что вкус его зависит от той, кто этот чай приготовил. Владимир Андреевич, взявшись за иллюстрации к национальной эпической поэме, изучил довольно-таки обширную литературу о калмыках, о монголах, о буддизме. Книгами его снабжал Баатр Басангов. Фаворский полюбил степной народ так, как может полюбить русский, чье сердце чисто и радостно открыто всему человечному в человеке. И как бы смущенно, что ли оправдываясь, объясняя эту любовь, говорил: — Пушкин целые страницы выписывал из Иакинфа Бичурина, из разных книг по истории калмыков. И сказочка, которую сказывает у него Пугачев в «Капитанской дочке», — калмыцкая. Осталось в моей памяти и такое его мимолетно произнесенное высказывание: — Неправильно говорят, что степь однообразная. Степь разная. Иная в «Слове о полку Игореве» (он делал ударение на первом слоге — пблку), иная она у Чехова, иная у калмыков. Мы часто, на протяжении нескольких лет, встречались с ним и его учениками во время общей работы над «Джангариадой». Учеников своих он всегда хвалил, появились у него и ученики-калмыки, среди которых он выделял безвозвратно ушедшего Ивана Нусхаева, а о своем сыне Никите говорил с какой-то лукавой гордостью: — Есть такие, что считают: сын, мол, отца превзошел! Нет сына, он пал на фронте, нет и пережившего его отца… Я приходил к ним на квартиру на улице Кирова, подъезд был в глубине двора. На высоком этаже, с окном во двор, была их — отца и сына мастерская. Они сидели друг против друга, Владимир Андреевич и Никита, и работали на досках продольного распила. Сидели они босиком, в рубашках навыпуск. Рядом с возникающими гравюрами на доске побольше был рассыпан колотый сахар и стоял большой фарфоровый «трактирный» чайник. У Никиты была маленькая шелковистая светло-каштановая бородка, борода отца — серебро с чернью. Что-то простое и вместе с тем величаво-значительное было в этой сцене, почему-то вспомнились где-то прочитанные в юности строки:АНКЕТА «ВЕСТНИКА РХД» К СТОЛЕТИЮ АННЫ АХМАТОВОЙ (1889–1966)
1. Какое место в Вашем поэтическом пантеоне занимает Ахматова? — На Олимпе русской поэзии XX в. есть боги, полубоги, герои. Можно увидеть и смертных, однажды призванных на пир. Боги: Анненский, Ахматова, Блок, Бунин, Мандельштам, Пастернак, Ходасевич. 2. Какие стихотворения Вы больше всего любите или считаете лучшими? — Одно стихотворение назвать трудно. «Жена Лота», весь «Реквием», «Поэма без героя». 3. Какой период творчества Ахматовой Вы предпочитаете и почему? — Раньше я считал (и написал об этом Анне Андреевне в день ее рождения), что, когда вышли в свет «Вечер» и «Четки», знатоки решили: перед ними женщина-поэт, автор любовной лирики — и только. Трудно было предвидеть знатокам, что Ахматова станет могучим русским поэтом. Теперь я думаю иначе. Уже в молодых стихах Ахматовой чуткий слух мог бы услышать голос великого народного поэта. Все периоды ее творчества суть периоды творчества божества. 4. Как бы Вы выразили в нескольких строчках ахматовскую поэтику? — Волшебная точность; трагическая ясность; тайна; музыка мысли. 5. Кто, по-Вашему, из критиков лучше всех написал об Ахматовой? — Недоброво, Жирмунский, К. Чуковский, Л. Чуковская, А. Найман. 28 марта 1989 г. Публикуется по изд.: Вестник РХД. 1989. № 156, II. С. 104–105.КАТАЕВ И ОДЕССА
В сознании читателя Одесса утвердилась как город многокрасочной и нищей Молдаванки с ее налетчиками и волапюком, город черноморских анекдотов и печально остроумных стариков, город Бабеля, Багрицкого, Олеши, Славина, Ильфа и Петрова. Меньше запомнилась Одесса как второй по величине и мощности русский порт, как город Новороссийского университета, блестящей разноплеменной интеллигенции, связанной с именами Пушкина, Гоголя, Бунина, Куприна, Бялика, Леонида Пастернака, Мечникова, Королева, чайковцев, Желябова, город, где рядом с пьяным и трагическим Гамбринусом сверкал Гранатовый браслет, где происходили Сны Чанга и наступили Окаянные дни. Этот необыкновенный город увидел своими глазами по-бунински звериной зоркости и воссоздал точным, долгожительским словом Валентин Катаев. Ему было 23 года — лермонтовский возраст, — когда он твердой рукой зрелого мастера написал рассказ «Бездельник Эдуард», поссоривший его с прототипом. Несколько фраз, музыкальных и живописных, вобрали в себя и черты молодого поэта, и черты приморского города, только что захваченного большевиками. Вот эти фразы. Целый день он проводил на улице или в греческих кофейнях, кривых аквариумах, наполненных голубой водой табачного дыма. Начальники Красной гвардии вселяли в его сердце подобострастную зависть своими офицерскими рейтузами и полированными ящиками маузеров, висевших на крупных задах. В каждом коренастом матросе черноморского флота с оспенным лицом, отлично и грубо сработанным из орехового дерева рашпилем и долотом, он видел необыкновенного какого-то вождя… Город, пропитанный резкими колониальными запахами, город, видевший на своих площадях оккупационные войска более чем шести европейских держав… был его стихией… и только иногда по вечерам, при нищем пламени керосиновой лампочки, он писал, слюня карандаш, поверх торговых записей отца, в засаленной, как колода кучерских карт, общей тетради романтические стихи о революции отличным пятистопным ямбом, с цезурой на второй стопе… Не все соединяет героя этого рассказа с прототипом, ставшим через семь лет одним из самых знаменитых поэтов нашей страны. Он и при мне, в 1929 г., в кунцевской избе писал, слюня карандаш, стихи на чистых газетных обрывках. Искусство, созданное истинным художником, превращает очевидца в провидца. «Бездельник Эдуард» — великолепный рассказ. Великолепный — и только. Через год молодой Катаев начинает — и работает над ним три года — рассказ, которому суждена долгая, прочная жизнь: «Отец». Во многом писатель автобиографичен. Фамилия героя — Синайский — говорит о его происхождении из духовенства, и действительно, дед Катаева был священником. Как и Синайского, Катаева в 1921 г. бросили беспричинно — старая большевистская привычка — в тюрьму. Катаев описал ее изумительно. Через четыре года, в 1925 г., я приезжал на трамвае в эту тюрьму к своему отцу, его арестовали (на полгода), когда стали сажать бывших меньшевиков, эсеров, бундовцев, анархистов. Тюрьма выглядела не так страшно, как во времена, описанные Катаевым, но многое вспомнил я, читая рассказ. А каково в те голодные, темные годы было сидеть в тюрьме? Раз в день заключенные, дежуря, несли на гнущихся палках чаны с ячной кашей. Но было нечто ужасней голода. Однажды ночью к Синайскому приполз полковник, при белых — начальник карательного отряда. Он говорил: — Есть у меня одна заветная папироска. Но я ее берегу… месяц… когда меня будут выводить… Как вы полагаете, Петр Иванович, а? Выводили ночью на расстрел. Думаю, что некоторые поздние поступки Катаева, далеко не привлекательные, объясняются тем, что в ранней молодости его, ни в чем перед властью неповинного, бросили в большевистскую тюрьму, в которой он каждую ночь ожидал расстрела. Страх поселился в нем крепко. Может быть, и «Батум» Булгакова — позднее следствие его таинственного пребывания во Владикавказе в годы Гражданской войны. Осуждать легко. В рассказе «Отец» Катаев себя осуждает. Молодой, с сильным, плотским желанием жить, и жить хорошо, Синайский был невнимателен к отцу, которого обожал, который все шесть месяцев, каждую среду, навещал арестованного сына. Рано, в детстве, лишившись матери, Синайский-Катаев вспоминает, как мертвая голова матери придавила подушку, а он, маленький, влез к отцу на колени «и очень близко увидел его заплаканные, малиновые, удивительные, без пенсне, собачьи глаза». Чтобы глаза назвать малиновыми, надо обладать дерзким глазом. Чтобы назвать их собачьими, надо быть смелым художником, обладать светящимся сердцем. И вот Петя стал взрослым, он в тюрьме. Рядом с тюрьмой, из-за стены богадельни, появляется с передачей отец. «Рот отца был полуоткрыт, и нижняя челюсть немного отвисала, показывая несколько гнилых корешков. Тупой язык лежал между ними коротко и неподвижно, как у немого. Просительно улыбаясь, он смотрит через пенсне на окно сына. Он видел, что егосын жив, и больше ему ничего не нужно было в жизни». Как странно и горько звучит это «просительно». Что надо отцу у арестованного сына просить? Прощения? Потому что сына могут в тюрьме расстрелять? Или старый учитель в чем-то виноват перед новой властью, потому-то и арестовали его сына? Второе предположение подтверждается такими словами: «Папа, — хотел крикнуть Синайский, — папа, — но вдруг почувствовал бессильный ужасный стыд перед отцом, и равнодушие, и отвращение к нему, и жалость к себе, и страх…» В небольшой фразе — целая жизнь двух близких людей, нарождающаяся советская жизнь, нарождающийся долгий страх. Но вот Синайский на свободе. Он живет не с отцом. Он стал благополучным советским служащим, ему дали по ордеру комнату в центре города, в буржуйской квартире, к нему часто приходит юная барышня, в комнате тепло, уютно. Отец заглядывает к нему редко: боится помешать? — Да ты посиди, погрейся, — приглашает сын, — куда тебе? Раздевайся. У меня тут тепло. Кофе пьем. Давай свое пальтишко. — Что ты, что ты, — испугался отец. — Я в пальто. Привычка, знаешь ли. Всюду холодище. В техникуме все в пальто сидят. А дома вода стынет. Печки, ведь, знаешь, нет; раздобыть бы, да где уж… «Он испуганно хватался за пуговицы, не расстегнулись ли, и, стыдясь своей рубахи и того, что под пальто уже не было пиджака, щупал крючки на горле…» Сын приспособился к новой власти, живет по тогдашним временам недурно, но отца не посещает, не помогает ему. Молодой Синайский беспощаден к себе. Он любит отца и боится его любить. Почему? Мы не знаем. Но маленькая сценка, только что описанная, станет украшением русской литературы. Синайский оказался в командировке, когда умер его отец. Племяннику рассказывает тетка Дарья: «Его отпевало шесть священников — все его семинарские ученики. Было два хора. Пришла масса народу. Откуда только взялись, не знаю. Свечи. Ладан. И вот теперь он лежит на том самом месте, где всегда мечтал лежать, — между могилками матери и жены». Позвав старьевщиков, Синайский вошел в квартиру своего детства. Жестоко продал все: фотографические карточки, частый гребень, забитый перхотью и седыми волосами, кровать, портрет матери-епархиалки, письменный стол, лакированную шкатулку, полную запонок, перышек, катушек, аптечные склянки, коробочки, стенные часы, книги — множество книг, от «Истории государства Российского» Карамзина до сочинений Боборыкина и зеленой бронзы энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Ящики пустели, как жизнь. Синайский уезжает. В Москву, за славой, как сам автор. «И небо, как незабываемое отцовское лицо, обливалось над сыном горючими, теплыми и радостными звездами». Заметим: звездами, да еще радостными, а не слезами. Так мог сказать только Катаев. Через четверть века Катаев пишет рассказ о другом Отце. «Отче наш» называется этот рассказ. Существо катаевского таланта не все понимают. Он и сам, по-моему, его не понимал. Сказочно одаренный, он умел писать все — и стихи, и фельетоны, и пухлые советские романы. От этого непонимания, как мне кажется, и те поступки, которые талант его унижают. Он написал сатирические «Растратчики» (Гроссман считал, что главное у Катаева — сатира, что он пошел не по своему пути), и очень смешную, имевшую большой зрительский успех пьесу «Квадратура круга», и пасторальный «Белеет парус одинокий», и официальное «Время, вперед!». В действительности, Катаев — писатель трагический. Это стало особенно ясно, когда возник «новый» Катаев, когда мы прочли такие вещи, как «Святой колодец», «Трава забвения», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер», «Спящий». «Отче наш», величиной в девять книжных страниц, огромен по содержанию, написан строго, резко, скупо. В нем нет когда-то милого катаевскому перу юго-западного красноречия, которое иногда возникало в «Отце». «Гроб матери — пышный торт с зубчатой бумагой» или «ночь уже заводила свои звездные часы граненым ключиком чистого сентябрьского сверчка». Не до красот в рассказе о том, что творилось в Одессе, когда ее захватили немцы и румыны. Нет красот, есть Красота страдания, жизни и смерти. Рано утром мать и ее четырехлетний сын вышли на улицу. Редкий для Одессы (но так случалось и прежде) двадцатипятиградусный мороз. Однако мать и сын хорошо и одинаково одеты в шубки из искусственной обезьяны, на ногах валенки, на руках пестрые шерстяные варежки. Видимо, мать и сын из благополучной семьи. Почему они в такую морозную рань вышли на улицу? Детский ангельский голос громкоговорителя возвещает: «С добрым утром!» Но вслед за этим пожеланием тот же голос возвестил и молитву: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя…» Как славно, что при Советах созданное радио таким проникновенным голосом наконец-то произнесло эти вечные, светлые слова. Но произнесло не по-русски. По-румынски. Матери страшно. Она хочет спасти сына. Она русская, но мальчик по отцу еврей. Отец на фронте. Она хорошо знает родной город, ведет мальчика через проходные дворы. — Мама, мы уже гуляем? — Да, уже гуляем. Но они не одни на улице в эту рань. Далее следует картина, которую следовало бы кратко пересказать, но я пересказать не могу, потому что автор могущественно краток. Цитирую с небольшими пропусками: В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на Пересыпи, в той скучной, низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны… Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой проволоки и оставляли один вход, как в мышеловку… Попадались старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках… Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян… За укрывательство еврея также полагался расстрел… Мать вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор блуждать по улицам, пока все не уляжется. Они заходят в молочную, где мальчик пьет кефир (при румынах возродилась частная торговля), где топилась железная печка и можно было согреться. Потом мать догадалась, что можно несколько часов провести в кинематографе, где сеансы начинались рано. В кинематографе мальчик выспался. Потом — опять блуждания. Когда мальчику захотелось пи-пи, мать отвела его за афишную тумбу. Дошли до Пироговской улицы (в тех местах жил когда-то автор, теперь недалеко от них есть улица Катаева), потом свернули в сторону парка культуры и отдыха имени Шевченко, который тянулся вдоль моря. На следующее утро, когда еще не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замерзших ночью людей. Грузовик остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком. Они сидели рядом. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны… Они сидели, как живые. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами… Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный… А затем из рупора раздался нежный детский голос: Отче наш, Иже еси на небесех! Мать и мальчик погибли. Рассказ не умрет. Он как молитва: в нем нет ни одного лишнего слова. Он как стихи: в нем есть музыка и мера. «Отче наш» — вершина катаевского творчества и, как вершина, рассказ прост. Ему невозможно подражать. Как подражать вершине? Лет через 30 после этого рассказа возник «новый» Катаев. Он, в молодости поэт (и поэт недурной), делит прозу на строки и строфы, печатает их, как стихи, с интервалами. Но и новый, он не может забыть прожитое с его тюрьмами и убийствами, он упорно, может быть, даже против своей воли возвращается в Одессу своей молодости, в годы Гражданской войны, Чека, расстрелов. Был на Руси такой писатель — Александр Митрофанович Федоров, крестьянский сын, второстепенный подражатель Чехова и Бунина, с которыми был лично знаком. Он печатал стихи и прозу в обеих столицах. Он построил себе в Одессе дачу, за 16‑й станцией, за монастырем, над поросшим полынью обрывом, спускающимся к морю. Место было тогда необжитое. Теперь эта дача превращена в Дом творчества писателей Украины. Во время Гражданской войны Федоров эмигрировал в Болгарию. В свои юношеские одесские годы я вместе с писателем Сергеем Бондариным доехал на трамвае до 16‑й станции, потом верст шесть отмахали до полуразвалившейся дачи Федорова. Было лето, в мазанке одиноко жила старуха — жена Федорова. Она нам обрадовалась, рассказывала о Бунине, который подолгу живал у них на даче, о Куприне. Слушать ее было трудно, зубов осталось мало, к тому же нерусский акцент. То, что осталось от некогда уютной дачи, она сдавала летом, на эти крохотные деньги и жила. У нее было немецкое имя-отчество, я его забыл. Она и стала персонажем рассказа Катаева «Уже написан Вертер». Катаев назвал ее Ларисой Германовной — Герман, Германия, это отчество должно было указать на ее немецкое происхождение. В рассказе она русская, а ее эмигрировавший муж — в прошлом — преуспевающий адвокат. Название «Уже написан Вертер» не намеком, а открыто утверждает: то, что творилось в стране при Сталине и его наследниках, уже было заложено в стране в начальные, псевдоромантические годы большевистского правления. Рассказ ведется от лица Спящего, но никакой мистики, все предметно, явственно. И сюжет прост. Юный сын Ларисы Германовны Дима, не очень способный художник, наивный и милый, зарабатывает тем, что изготовляет советские плакаты. Его арестовали за то, что участвовал (он считает — не участвовал, а присутствовал) в одном безобидном, но с антисоветским настроением собрании молодежи на маяке. Диму выдала его жена, до революции — горничная из богатого питерского дома, теперь — секретная сотрудница Чека, о чем Дима, конечно, не знает. Благодаря хлопотам Ларисы Германовны, с помощью ее знакомого, эсера, но бывшего политкаторжанина, Диму освобождают, но он, к ужасу матери, остается в распространенных по городу списках расстрелянных. Вскользь говорится о том, что впоследствии, лет через двадцать, Дима рисует плакаты, но уже в концлагере. Вот и все. Но дело не в фабуле. Дело в умерщвляющем воздухе, которым дышит город, в новых людях города. Один из них — Наум Бесстрашный. Псевдоним, характерный для тех лет. Узнаются некоторые черты известного Блюмкина, стрелявшего в германского посла. Они разные, эти люди, решавшие судьбу Димы, но есть нечто, их объединяющее: зло. Наум Бесстрашный заворожен стилем Марата, издававшего газету «Друг народа» (вскоре распространится палаческий термин «Враг народа»), его вдохновляют романтика Французской революции, конвент, Пале-Рояль, Демулен, Са ira, предмет его подражания — Лев Давыдович Троцкий, он бывал в Москве в «Стойле Пегаса», где собирались, во главе с Есениным, поэты-имажинисты. Иной тип — председатель губчека Маркин, мужик, прошедший каторгу, и рядом — правый эсер, савинковец, бывший комиссар Временного правительства Серафим Лось (настоящая фамилия Глузман), друг Маркина по каторге, и сексот Инга, жена Димы, на много лет старше его, красивая простонародной, жадной и жаркой красотой. А сам Дима так неопытен, так молод, у него «нежная шея скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста». Я был мальчиком в те годы, когда происходили события, нарисованные в рассказе, когда так часто менялись власти, когда, по безнадежному замечанию автора, «злые духи рая отпугивали злых духов зла», когда ходили слухи, что поляки уже заняли Раздельную (так называлась последняя станция перед Одессой, где железная дорога разделялась на две ветки — одна на Одессу, другая на Кишинев), когда человека расстреливали на улице (я это в детстве видел) только потому, что он был одет в шубу, а на голове у него была каракулевая шапка, помню и белых, и французов, и англичан в шинелях горчичного цвета, и с какой болью описывает Катаев Одессу в несчастные первобольшевистские дни: «Его поразил вид торгового города, лишенного своей торговой души: вывесок, витрин, банков, меняльных контор, оголенного без фланирующей публики на тенистых улицах и бульварах. В своей целомудренной обнаженности город показался ему новым и прекрасным». Какая жизнь была раньше! И какая музыка катаевской прозы! Я познакомился с Катаевым в 1928 (или в 1929) году на одесском пляже, на «камушках» — излюбленное место начинающих сочинителей. Его, приехавшего из Москвы на родину, привел Сергей Бондарин, он был ближе к нему по возрасту, чем остальные. Дети на «камушках» не купались, там было глубже, чем в других местах на Ланжероне. Катаев окинул всех близорукими, но быстро вбирающими в себя глазами, разделся до трусов и, высокий, молодой, красивый, встал на одной из опрокинутых дамб и с неистребимым одесским акцентом произнес: — Сейчас молодой бог войдет в море. Потом мы встречались в Москве, беседовали на уровне земляческой близости, но не больше. Случилось так, что в связи с каким-то литературным мероприятием мы с ним и Эстер Давыдовной поехали в Бурятию. Вдвоем гуляли по тайге. Он наклонился и сорвал цветок. Спросил с подначкой: — Вот вы перевели бурятский эпос. А знаете, как называется этот цветок? — Да. Ая-ганга. — Имеет какое-то отношение к знаменитой реке? — Не знаю. Он глубоко, как собака-ищейка, внюхивался: — Пахнет лавандой. Прошли годы. Мы с Инной Лиснянской вышли из Союза писателей в знак протеста против исключения из этого Союза двух молодых «метропольцев», неожиданно для себя оказались диссидентами. Поселились в Переделкине на даче у вдовы профессора Степанова, моего приятеля, и часто встречались с прогуливающимся Катаевым, обменивались незначащими словами, но дружелюбно, что я отметил в это трудное для нас время, когда обыватели переделкинских дач и Дома творчества из числа прогрессивных старались с нами не здороваться. Однажды он подошел ко мне, похожий в своей красной рубашке на Савву Леонида Андреева, и сказал: — Я прочел вашу «Волю». Вы новатор в традиции. Большой поэт. И тут же, на улице Гоголя, гуляя со мной, стал читать наизусть запомнившиеся ему строки, восхищался и лирикой, и поэмами. Замечу: о книге, опубликованной в Америке издательством «Ардис», составленной изгнанником Иосифом Бродским, он говорил таким тоном, как будто книга вышла в обычном московском издательстве, вещи весьма не советского содержания оценивал только с художественной стороны, как бы не замечая их политической направленности. Я сначала понял это как осторожность, как то, что слушать предоставлялось только мне. Я ошибался. Живший в Переделкине наш земляк Л. И. Славин с некоторым даже удивлением сообщил мне о восторженном (его эпитет) отзыве Катаева о моих стихах, добавив, что такая восторженность — редкость для Катаева. Я понимаю, что некрасиво писать о том, как тебя хвалят, но потому так отважно, не боясь насмешек, сообщаю мнение Катаева о книге, изданной нелегально за рубежом, что мне хочется понять и изобразить сложный, как теперь принято выражаться в таких случаях, характер моего знаменитого собеседника. Я узнал, что «Волю» показал отцу вскоре ставший моим другом Павел Катаев, талантливый писатель, унаследовавший зоркий глаз отца, один из первых модернистов, чья литературная судьба сложилась, увы, не так хорошо, как у Валентина Петровича. Позднее Павел показал отцу и книгу Лиснянской «Дожди и зеркала», вышедшую в Париже, Катаев восхитился и этой книгой и сказал Инне много лестных, искренних слов. Запомнилось: «Я не мог оторваться от книги, открыл ни на кого не похожий лирический дар». Эту оценку также подтвердил Славин. Мы стали часто гулять вместе втроем, и горько нам было, когда наш близкий друг, замечательный писатель и благородный человек Вениамин Каверин дважды вынужден был не поздороваться со мной и с Инной, так как не хотел здороваться с Катаевым. Бывали мы и в доме Катаева, отдавая должное хлебосольному гостеприимству Эстер Давыдовны. Однажды, во время прогулки, я сказал Катаеву, указывая на дачу Леонида Леонова: — Вот, смотрите, сидит себе, как барсук, никаких противных подписей, никаких рабских заявлений, а государство его любит, ласкает. Почему же вы так стараетесь, ведь вы несравненно талантливей автора «Русского леса», могли бы спокойно работать в башне из слоновой кости, никто бы вас не трогал, у вас есть слава, любовь читателей, вы богаты, чего же вам еще надо от государства? Он вспыхнул: — Меня Союз писателей ненавидит, — все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы, лакейские Марковы, тупорылые Алексеевы и прочие хребты саянские. Они знают, что я презираю их, и я спасаюсь, подчеркивая свою официальную преданность власти. И не забудьте, я член партии. — А для чего вы в нее вступили? Вы ее любите? Вы марксист- ленинист? Он продолжал, не отвечая на мой вопрос, волновался: — Иначе житья мне не будет. Вы не знаете, как трудно печатались лучшие мои вещи, каждая встречалась отрицательными статьями влиятельных критиков. В сталинское время бывало страшно. Да вот и теперь не понят «Алмазный мой венец», клюют, щиплют. — Я вам сочувствую, но вы платите дорогой ценой. Например, своей подписью под требованием выслать из страны Солженицына, великого русского писателя. — Он не великий. Он хороший писатель. Хороши «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Дальше пошло хуже, просто плохо. — Я с вами не согласен. Дальше пошло хорошо. Но допустим на минуту, что вы правы. Как может писатель требовать, чтобы власть выслала собрата по перу за пределы родины? Поступили бы так Короленко, Чехов, Бунин? Иногда мне кажется, что вы не понимаете величину своего таланта, унижаете его. — Какой талант, я средний писатель. Собирают ареопаг. Один из секретарей предлагает, чтобы КГБ снова бросил Солженицына в концлагерь. Выступает Расул Гамзатов, советует выдворить Солженицына за границу. Я, жалея Солженицына, присоединяюсь к хитрому горцу. Все-таки жизнь вашего гения была спасена… Я не хоронил его: лежал дома после онкологической операции. Один даровитый поэт сочинил четверостишие, в котором бичует его и Алексея Толстого, с фамилией «Катаев» рифмуется «негодяев». Можно понять его гражданское возмущение, но законы искусства вечные, а не временные. И Алексей Толстой, и Валентин Катаев — крупные таланты, они останутся в великой русской литературе, и вполне возможно, что в будущих академических изданиях их сочинений, в примечаниях, будет упомянуто имя автора этого четверостишия. 30.09.1996 Публикуется по изд.: Знамя. 1997. № 1.КУЛЬТУРА БЕССМЕРТНА
<Речь при вручении премии независимого движения писателей «Апрель» «За гражданское мужество писателя» имени А. Д. Сахарова>
Я благодарю «Апрель», наше литературное объединение порядочных людей, за оказанную мне честь. Признаться, я чувствую себя неловко, принимая от близких мне по духу литераторов награду за мужество. Было бы более правильно, если бы награда была мне присуждена за нормальное поведение русского литератора. Понятие мужества связано у меня, как и у всех нас, с именем Андрея Дмитриевича Сахарова, с именами Елены Георгиевны Боннер, Марченко, Буковского, Григоренко, Ларисы Богораз, с именем Георгия Владимова, который за несколько лет до нас не только вышел из Союза писателей, но возглавил Московское отделение Международной амнистии, с дорогим мне именем Лидии Корнеевны Чуковской, которая, хотя и не была репрессирована, как, скажем, Лев Разгон, вела наступление на тоталитарный режим умно, яростно, талантливо. Я не наступал. Я тихо сопротивлялся: полвека писал в стол. Мне было легче, чем другим, потому что с самого начала сознательной жизни я не был очарован режимом. Не будучи очарованным, я не разочаровывался. Из Союза писателей я вышел вместе с Инной Лиснянской и Василием Аксеновым. Мы протестовали против исключения двух молодых, наименее защищенных наших собратьев, заявив: «Честь и достоинство русского писателя не позволят нам оставаться в союзе писателей, если не восстановят в членстве двух наших молодых коллег». Не восстановили. Значит, надо выходить. Решение давалось нелегко. Друзья не советовали нам так делать, резонно доказывая, что выход из Союза с точки зрения органов гораздо хуже, чем исключение. Литфонд, получив указание, прислал нам поздравление с Новым 1980 годом и коробку шоколадных конфет. Но я чувствовал сердцем и разумом, что, если нарушу свое слово, не смогу людям смотреть в глаза, не смогу смотреть в свои глаза, когда бреюсь. Прикидывали, что будет: очень трудно, или очень плохо, или ужасно. Слава Богу, оказалось не ужасно, а очень плохо. Историку советской власти, возможно, окажется небезынтересным исследовать поведение КГБ и его филиала — руководства Союза писателей. Обе организации не только не хотели, но и не могли понять нашего поступка. С помощью своего актива они широко распространяли слухи, что наше поведение не есть протест против беззакония, а вызван желанием облегчить себе выезд в Америку или Израиль. Недавно я получил письмо от незнакомого мне татарского писателя Альберта Хасанова. Оказывается, он выступил на писательском съезде в Казани, критикуя новые переводы стихов, сработанные вместо моих, запрещенных, и призывал восстановить мои переводы. На другой день, пишет мне Хасанов, его вызвали в КГБ, добродушно и грозно сказали: «Эх, ты, баранья твоя татарская башка, разве ты не знаешь, что Липкин уехал в Америку». Другой случай. Лиснянская повстречалась на улице с писательским руководителем Карповым. Тот изумился: «Как, вы здесь, не уехали?» — «Мы и не собирались уезжать». — «Так для чего же вы оба вышли из Союза?» Да. Мы не собирались покидать родину, не думали наступать, но сама жизнь всем своим течением толкала нас на наступление. В США, Франции, Западной Германии, Англии стали издаваться наши книги — стихи, проза, мемуары, в зарубежной печати, русской и иностранной, сочувственно упоминались наши имена. КГБ сильно рассердился. Особенно доставалось Лиснянской, видимо, считали ее наиболее уязвимой в нашей семье. Инна однажды заявила на допросе: «Если возникнет дилемма — концлагерь или Запад, то выберем концлагерь, а на Запад — только в наручниках». <…> Я останавливаюсь на мелких подробностях только для того, чтобы еще раз проиллюстрировать органическую связь государственных писателей с тайной полицией. Большинство государственных писателей цинично, но немало и таких, которые совершенно искренно считали и считают себя продолжателями Тургенева, Некрасова, Герцена. Часто это не обман. Это самообман. В действительности государственные писатели являются убежденными продолжателями Фаддея Булгарина, и нередко случалось так, что их романы имели не меньший читательский успех, чем «Иван Выжигин» Булгарина. Соцреалистические критики громили за безыдейность хороших художников. Точно так же и Фаддей Булгарин писал об одном литераторе: «В его голове не зародилась ни одна идея». Этим безыдейным литератором был Пушкин. Надо сказать, что Булгарин сотрудничал с Третьим отделением, но не падал так низко, как его правопреемники, никогда не хулиганил, не был погромщиком. У него был фрак и он дружил с Грибоедовым. Мы собрались здесь в роковое время. Об этом времени размышлял Сахаров не только как общественный деятель, но и как физик и философ. Нам кажется, что сегодняшний день есть обычное продолжение вчерашнего. В новом тысячелетии историки будут рассматривать 90‑е годы двадцатого века как знаменательную веху, такую же грандиозную, как век великого переселения народов. Ошибочно полагать, что планетарный рубеж двух тысячелетий определяется русской революцией 1917 г. Эта революция осталась внутри своей эпохи. Линию рубежа ведут нарезом по человеческому сознанию нынешние годы распада сталинской империи полумира, простиравшейся от Восточного Берлина до Пхеньяна и Пекина. Я часто думаю о том, что испытывал рядовой, вроде нас с вами, римлянин в годы крушения Римской империи. Понимал ли он, что крушение действительно началось? Понимал ли, что германские и кельтские племена на окраинах создадут свои мощные государства? Однако, что же это за штука — национальное самосознание? Неужели это самосознание клана, колена, стойбища? Нет, это всегда самосознание культуры. Рухнули, умерли империи Ассиро-Вавилонии, Ксеркса, Александра Македонского, Августа, Чингиз-хана, Сталина, но жива культура этих империй. На Апеннинском полуострове родился новый народ, близкий римскому, но уже не римский, а итальянский. Не стало прежних римлян, но есть Гораций, Вергилий, Овидий, у них учились Данте, Петрарка, Боккаччо. Я уверен, что великая русская литература, ставшая для мира тем же, чем некогда была для мира культура эллинов, будет жить для грядущих на Руси читателей, будет жить свежо и умно, начиная от Ломоносова и Фонвизина до Солженицына и Бродского. Империя умирает, культура бессмертна. Если Бог даровал кому-нибудь из нас художественный талант, то этот талант только временный пропуск на вход в литературу, и лишь одному Богу известно, задержимся ли мы в ней, а тем более останемся ли мы в ней. В нас должно существовать взволнованное и плодоносное двуединство: трепет перед нашими гениальными предшественниками и дерзость продолжать их труд. Это тяжкий и нередко неблагодарный труд, но в то же время такой сладостный, такой чистый. 1995 Публикуется впервые по рукописи из семейного архива поэта. Публикация И. Л. Лиснянской.О СТИХАХ ЮЛИИ НЕЙМАН
Юлия Нейман прожила долгую жизнь, но многие годы ее были крайне трудными — в быту и в литературе. Она училась на брюсовских курсах вместе со своими ровесниками Марией Петровых и Арсением Тарковским. Это были друзья и моей юности. Однажды Маруся рассказала мне о том, как нелегко живется Юлии Нейман. Она растит свою дочь одна, имея скудный заработок то ли в газете, то ли в журнале для детей. Нельзя ли помочь ей в переводческом деле? Она же, как и мы, пишет стихи в стол. Мы условились, что Юлия познакомит меня со своим творчеством. Встреча и чтение состоялись, и меня сверх ожидания поразила лирика Нейман не только зрелостью мысли, но и живописностью изображения, что далеко не всегда совпадает. Открылся талант. Я свел ее с Давидом Кугультиновым. Так было положено начало ее активной переводческой деятельности, которая оказалась плодотворной. Недавно Давид позвонил и сообщил мне, что одна из улиц в столице Калмыкии Элисте названа именем Юлии Нейман. Согласимся, что не часто встречаешь такую благодарность республики переводчику за многолетнюю творческую дружбу. Если не ошибаюсь, впервые оригинальные стихи Юлии Нейман были опубликованы в альманахе «Литературная Москва». И тут же появилась статья в «Комсомольской правде», где стихи подверглись разгрому. Но талант не победить! Читатели, пусть поздно, получили первый сборник стихов Юлии Нейман, за ним последовали и другие. В России появился новый истинный дар. Кроме калмыков, Нейман переводила многих разноязычных поэтов, работая до последних дней с неизменным блеском. Последнюю книгу своих стихов она издать не успела. Обычно, когда говорят о поэте-женщине, вспоминают Ахматову или Цветаеву. У Юлии Нейман родословная, по-моему, другая: Каролина Павлова, Зинаида Гиппиус. Сейчас русские поэты переживают тяжелую пору. Издать стихи отдельной книгой означает обрести чудо. Но хотелось бы, чтобы наши читатели дожили до того дня, когда будет издано полное собрание стихотворений Юлии Нейман, куда вошли бы и ее живые красочные переводы Рильке.«ПРЕОДОЛЕЙ СОБЛАЗН СТРАНИЦЫ…»
(о стихах Павла Нерлера)
Меняются эпохи, культуры, значимость народов и стран, — неизменно понимание красоты поэтической словесности. Это понимание твердо и прочно опирается на незыблемость двух опор — важности, точности, необходимости слова и его неповторимой музыки, причем ее неповторимость всегда таинственна, ее невозможно построить искусственно, придумать, расчислить. Как сильно изменился быт человека со времен, скажем, индийской «Махабхараты», библейских преданий или поэм Гомера, и как мало изменился сам человек, он точно так же взыскует правды, ревнует, завидует, хочет познать добро и зло, свет и тьму, любит, жертвует собой, он так же могуч и беспомощен, как стародавние герои древности. Искусство бессмертно, потому что бессмертны духовные поиски человека. Не в этом ли одна из причин того, что нам, русским читателям, одинаково близки Державин, Батюшков, Пушкин, Некрасов, Блок и другие поэты Серебряного века, и совсем уже молодой Бродский, и одинаково чужды беспомощные, пусть в свое время шумные, виршеслагатели, будь то последователи графа Хвостова или Крученых, Ратгауза или Лебедева- Кумача. Все истинные поэты, не только великие, но даже скромного дарования, — наши современники, собеседники, а лишенные божественной искры утонули в Лете, даже в том случае, если они, согласно паспортным данным, числятся среди живых. Читатели русских стихов избалованы величием, глубиной мысли и художественной гармонией родной поэзии. Остаться в русской поэзии даже третьестепенным ее деятелем — огромная, неслыханная, почти невозможная честь. Все вышесказанное необходимо повторять и повторять, когда заходит речь об имени новом, о поэте пока мало известном, предлагающем читателям свою первую книгу. Вряд ли имя Павла Нерлера много скажет любителям поэзии (хотя они имели случай познакомиться с ним по периодическим изданиям), разве что вспомнят это имя как принадлежавшее автору серьезных исследований о Мандельштаме. Стихи для печати Нерлер отбирает скупо, придирчиво. Когда-то Мария Петровых, столь ценимая Мандельштамом, призывала: «Умейте домолчаться до стихов». Нерлер следует завету Петровых:СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО КЛАД
В послеперестроечные годы, которые нам даровали одну только радость — свободу слова, стала довольно широко известна фраза Сталина: «Смерть решает все проблемы. Нет человека — нет проблемы». Действительно, все то (или почти все), что мы называем сталинизмом, заключено в этой краткой и колоссально дьявольской фразе вождя. Но, оказывается, не Сталин сказал эти слова. Они принадлежат Анатолию Рыбакову. В этом признается автор книги «Роман-воспоминание». Сталин и Гитлер — самые знаковые имена последнего трагического века нашего тысячелетия. Таких злодеев не ведало человечество от времен Ирода и Понтия Пилата до испанской инквизиции, я бы сказал, даже до Муссолини. Те убивали тысячи, десятки тысяч. Сталин и Гитлер уничтожали миллионы. Для Гитлера смерть была связана только с одной проблемой: окончательное решение истребления ненавистного ему племени и, конечно, неприятеля во время войны. Для Сталина смерть решала не одну, а все, именно все проблемы, потому-то он уничтожал прежде всего своих соотечественников, десятки миллионов, несравненно больше, чем вражеских солдат. Сталин всем своим существом понимал, что он, как глава государства рабов, не может существовать, если не будет убивать. О Сталине писали и пишут много, нередко умно и талантливо. Но никто — никто! — не изобразил эту нечистую силу так, как Рыбаков. Вспоминал Каверин, которому Рыбаков (как и другим своим друзьям) читал главы еще неизданных, незаконченных «Детей Арбата»: «Провели вечер со Сталиным. Сталиным был Рыбаков». Анатолий Наумович не сразу ощутил, что главное в его романе — фигура Сталина. Когда, в начале 60‑х, писатель предложил в Малеевке нам, своим приятелям, прочесть рукопись «Детей Арбата», мы были, что называется, потрясены правдой жизни, очарованы письмом, глубиной постижения персонажей, особенно женщин (что удается не всем), но Сталин при всей портретной живописи еще не был главной темой романа. Каким должен быть Сталин, автор понял в процессе работы. Художник-труженик бальзаковской породы, он точности ради поехал туда, где родился его персонаж, — в Грузию. Можно себе представить, как после ликвидации культа личности обрадовались видные деятели республики тому, что известный русский писатель решил посетить Гори, маленький городок на границе с Южной Осетией, где жена сапожника зачала того, чьим именем были названы многие большие города бывшей русской империи. Побывал Рыбаков и в Баиловской тюрьме в Баку, где сидел будущий вождь. В книге, о которой идет речь, есть такое замечание автора: «Рассказчик должен быть участником событий или хотя бы свидетелем». Читая «Роман-воспоминание», мы видим, как автор напрягает все свои духовные (и даже физические) силы, чтобы его формула стала художественной явью. Воспоминания, естественно, начинаются с детства. Автор родился на Украине в довольно зажиточной еврейской семье: отец управлял винокуренными заводами. Уже с первой страницы начинается первая боль: всегда испуганное лицо матери, искривленные в злой насмешке губы отца, который не любил своего сына, будущего писателя, и свою дочь, а дети тоже не любили и боялись его. В этих тяжелых, на редкость откровенных словах обнажается зачин тех бед, которые обрушились на юного автора. Своих близких он изображает отлично. Вот дед со стороны матери: «У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, оттененное черной цыганской бородой, и раскосые японские глаза с синими белками». Дед был противником революции, а его сын Миша, дядя автора, — блестящий красный командир в папахе, длинной кавалерийской шинели, перетянутой ремнями, с шашкой и пистолетом на боку, со женящими шпорами на сапогах. Весь город им гордился — герой Гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени. Война кончилась. В Чернигове арестовали нескольких людей за спекуляцию. Им грозил расстрел. Миша, командир расквартированной в городе части, явился со взводом солдат в тюрьму и освободил самовольно этих мелких спекулянтов. Трибунал приговорил его к расстрелу. Останавливаюсь на этом событии, потому что оно и объясняет, и разрушает мысль автора: «Революция вошла в мое сознание, когда она утверждала принципы свободы и справедливости». Увы: утверждала, но ни одного дня не придерживалась этих принципов. Раннее детство закрепилось в памяти писателя мягкими украинскими красками, огнем Гражданской войны, мелодией и вековой печалью еврейских молитв. А воспитываться он стал по ленинской формуле: «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата». Он считает, что Сталин исказил эту формулу, превратил ее в «нечто жестокое и бесчеловечное». Рыбаков ошибается: Сталин, среди прочих большевиков, самый верный продолжатель дела Ленина. Я еще к этому вернусь. Семья переехала в Москву, когда будущему писателю исполнилось восемь лет. Поселились не где-нибудь, а на самой московской из улиц — на Арбате. Будущая «военно-грузинская» дорога, по которой Сталин ездил из Кремля на дачу, Арбат уже в те ранние годы был улицей необычной. В школах в Кривоарбатском и Обыденском переулках вместе с детьми портных, сапожников, дворников учились дети из интеллигентных, чисто арбатских семейств — братья Келдыши, сын Е. Ф. Никитиной, хозяйки известных литературных «Никитинских субботников», и рядом, близко — Кремль, и улица Грановского с 5‑м Домом советов, и вот в школе — сын Дзержинского Ян, дочь наркома А. П. Розенгольца, в общем — советская знать. К ученикам приезжали важные деятели, например Бухарин, беседовали со школьниками, которые видели и Зиновьева, Каменева… Особенно запомнился автору Троцкий: «Копна черных с проседью волос, бородка клинышком, нервное, подвижное, выразительное лицо, острый взгляд голубых глаз из-под стекол очков… Голос неожиданно молодой и звонкий»… Хорошо рисует! Разноклассовость улицы, школы, порожденная ранними большевистскими годами совокупность детей демоса и детей элиты — все это стало основанием того памятника, который получил название «Дети Арбата». Школьник Толя принадлежал не элите, а демосу, но верхушке демоса. Его дом не знал бедности, был рояль «Беккер», приходили преподавательницы музыки и французского языка. Окончив школу, пионер, потом комсомолец, еще не достигнув полных 18 лет, пошел работать на Дорогомиловский химический завод: не имея производственного стажа, не мог поступить в вуз, получить стипендию. Был разнорабочим, грузчиком, потом шофером. Работа тяжелая, ломовая, а химическое производство — вредное, я сам в этом мог убедиться, когда был студентом химфака инженерно-экономического института, часть практики проходил на Дорхимзаводе. Рыбаков заслужил нелегкое право сказать: «Я узнал свой народ, неся его ношу». Заработав производственный стаж, наш автор осенью 1930 г. стал студентом автодорожного факультета транспортно-экономического института. Здесь подстерегала его беда. На последнем курсе студенты-комсомольцы избрали его членом редколлегии стенной газеты. Газета была тусклая, помещались портреты отличников с однообразными, нудными характеристиками: морально устойчив, ударник учебы и прочее. Чтобы несколько оживить газету, новый член редколлегии предложил на каждого отличника писать шутливые эпиграммы в стихах, выпускать стенгазету без передовицы, поскольку таковая печатается в институтской многотиражке. Руководство института восприняло это новшество как «вылазку врага». Оно, руководство, выяснило, что студент Рыбаков учился в средней школе вместе с детьми многих «врагов народа». Рыбакова исключили из института и вскоре арестовали. Его дело вел следователь Шарок, ставший под своим именем прообразом одного из главных персонажей «Детей Арбата». Его характер — на мой взгляд — удача автора и всей литературы наших лет. Что и говорить, трехлетняя ссылка не лагерь, но и не сахар, а после нее — скитания, паспорт «меченый», право жить — только в «нережимных» городах, ведь статья знаменитая: «58–10». Был шофером, слесарем, жил в бараках, где можно было не прописываться, работал и перевозчиком на моторке, преподавал западноевропейские танцы, нанимался в разные экспедиции, в такие, где документы особенно не спрашиваются, мог бы продолжить горьковские «Мои университеты». Эти трудные годы, однако, подарили Рыбакову слова русского языка в его советском пошибе. В 1941 г. скитаниям пришел конец: удалось попасть в сражающуюся с немцами армию. Я заметил, что оставшиеся в живых жертвы большевизма, прежде всего лагерники, но и ссыльные, гораздо толковее нас, счастливчиков, в понимании людей в разных ситуациях, они быстрее разумом и проницательней, смелее в поступках. Таким был в армии Рыбаков, старший лейтенант, капитан, майор с нехорошим, весьма нехорошим политическим прошлым. За годы скитаний с «минусом» он привык «шкурой» ощущать, что означает любой брошенный на него взгляд: подозрительность, сочувствие или просто любопытство. Последний год войны. Рыбаков уже начальник автомобильной службы гвардейского корпуса. Командиру корпуса генералу Глазунову (нарисованному замечательно) предстоит форсировать реку. С автомобильным транспортом дело обстоит плохо. Рыбаков уже об этом рапортовал своему непосредственному начальству. Но генерал недоволен рапортом. Вызванный Рыбаков говорит разгневанному генералу: «Никакие заявки в автоотдел армии не помогут». — «Куда же обращаться?» — «В автоуправление фронта». — «У тебя там, что, знакомые есть?» — «Да». — «По Москве, по институту?» Рыбакову становится ясна истинная причина вызова к самому командиру корпуса: начальник отдела кадров (т. е. гепеушник) ознакомил генерала с личным делом Рыбакова. Генерал: «Поезжай в штаб фронта. В Москве где жил?» — «На Арбате». — «Знакомая улица». Машины Рыбаков раздобыл. Читая этот эпизод, начинаешь понимать, почему Рыбакову удавалось впоследствии вести то открытую, то хитрую борьбу за «Детей Арбата» с руководством Союза писателей, с редакторами, с ответственными, могущественными работниками ЦК КПСС. Мне вспомнилось, как бессильны были в подобных обстоятельствах мои друзья Гроссман и Платонов. И дело не только в том, что они были гораздо дальше от советской структуры, чем Рыбаков: у них не было за плечами опыта статьи «58–10». Рыбаков много, обстоятельно и, видимо, со знанием дела пишет о военных операциях, о расположении наших и вражеских войск. Признаюсь,что я, участник войны, всем этим мало интересовался. Серьезным знатоком этого дела был писатель Симонов. А я уже заранее томился, тосковал, если мой начальник-редактор приказывал мне интервьюировать начальника штаба или самого члена Военного Совета. Милы мне были беседы в кубриках или в землянках с матросами или с солдатами — и не на военные темы. Вот почему я, читатель, оживился, когда Рыбаков прервал военные информации рассказом о своей первой жене Асе, матери его рано скончавшегося старшего сына. Война для Рыбакова кончилась в маленьком Райхенбахе. Наш майор на собственной машине «опель-капитан», обладатель репарационной пишущей машинки и солидной пачки оккупационных марок, въезжает в разрушенный Берлин. Среди развалин — здание американской комендатуры. О чем думает русский офицер? «Войти, представиться, сказать, что я в прошлом судим по политической статье „58–10“, отбыл ссылку и сейчас опасаюсь новых репрессий. Прошу политического убежища». Я не помню советского писателя (а Рыбаков был писателем советским), который писал бы о себе с такой непривлекательной, даже очень жестокой для своего образа откровенностью. Мне вспомнилась беспощадность «Исповеди» Руссо. В своих воспоминаниях Рыбаков не хочет нравиться. Он хочет правды. И мы верим его торжественным и таким простым словам: «Я люблю Россию, в ней родился и вырос, за нее воевал… я включил мотор, нажал педаль сцепления, перевел рычаг скоростей и поехал на восток. Домой». С него в армии за храбрость снята судимость, но в родном доме ему жить нельзя: Арбат — режимная улица. Инвалид войны, получавший жалкую пенсию, поселился в подмосковной деревне. Начал писать повесть: «Писать не умел, но упорства хватало». Повесть о детстве называлась «Кортик». В 1948 г. ее напечатали. Успех, критика хвалит, дети читают запоем. Но хочется быть писателем и для взрослых. Следует рассказ о первом романе «Водители». Роман в «Октябре» напечатал Панферов. Знаменитый слуга государства, влиятельный редактор тогда мерзкого журнала, пьет и закусывает с новым автором, дает Рыбакову понять, что введет его в состав редколлегии, представит на соискание Сталинской премии, выхлопочет для него квартиру, дачу в Переделкине, обещает высшую гонорарную «лауреатскую» ставку и просит собеседника — просит не кто-нибудь, а он, Панферов, любимец режима — прочесть первую книгу своего нового романа. Следует диалог. Хочу передать его в сокращенном виде — не могу отказать в удовольствии себе и читателю. Начинает Панферов: — Читал мой роман? — Читал. — И как? — Первая книга… Надо бы до конца дочитать. — Ишь ты какой, — он недобро усмехнулся. — Твой роман я тоже не до конца дочитал, договор подписывал, оценил тебя. А ты, видишь ли, конца дожидаешься. — Вещь читается, роман, думаю, получится… — Ах, значит, романа еще нет, еще «думаю, получится»… Что же тебя там не устраивает? Говори прямо, по-писательски. — Один сюжетный ход неубедительный… В романе написано: в Прикаспии гибнут овцы, положение в области отчаянное, туда срочно посылают нового секретаря обкома. Казалось бы, он должен вылететь первым самолетом, а он садится в Химках на теплоход и спокойно плывет по Волге две недели… а овцы тем временем гибнут. Читатель этому секретарю не поверит. Панферов сидел, набычившись, потом с горечью сказал: — Да, вам этого не понять. — Кому вам? — Вам не понять… В этой поездке я показываю Волгу. Нашу Волгу, великую русскую реку, дорогую каждому русскому человеку… А вам, конечно, не понять. — Кому это нам? — Вам, инородцам. — Ах так… Мало того, что ты графоман, ты еще и антисемит. Значит, правду о тебе говорят. Панферов разорвал и бросил в корзину договор: — Со шпионами договоров не заключаю. — Что, что? — Ты же спал со шпионкой, с Анной Луизой Стронг, вот с кем ты спал… — Дурак ты! — сказал я на прощание. Через несколько лет Рыбаков узнал, что Панферов смертельно болен. И навестил его. И простил. Я пробовал прочесть «Водителей». Не то. Впрочем, сам автор теперь в этом признается. Первый «взрослый» роман Рыбакова был представлен к Сталинской премии второй степени. На высочайшем заседании сам Сталин назвал «Водителей» «лучшим романом этого года». Но добавил: — А известно ли товарищам, что Рыбакова исключили из партии и судили по пятьдесят восьмой статье… Неискренний человек, не разоружился. Рыбаков начинает борьбу за Сталинскую премию. Места его борьбы — кабинеты Союза писателей, нотариальные конторы. Да, он был судим по 58‑й статье, сослан, но никогда в партии не состоял и на фронте судимость с него была снята за отличие в боях. Борьба ведется с упорством, с находчивостью, с тем опытом, повторяю, который приобретается в лагерях и в ссылках. И побеждает. Сталин говорит: «Информация была неточной, восстановить его в списке…» И вот Рыбаков — сталинский лауреат. Наш автор не только памятливый, честный воспоминатель, не только превосходный портретист. Он и размышляет. По его мнению, Февральская революция не сумела выполнить те задачи, которые выполнила Октябрьская, например вывести Россию из войны. Нет, не вывела: когда война прекратилась в Европе, русские с русскими воевали еще три года. Сожалея, что народы в 1930‑х годах не избавились от Гитлера, Муссолини, Сталина, автор высоко оценивает Ленина, свершившего революцию под лозунгом социальной справедливости и братства народов, провозгласившего нэп, предоставившего экономическую свободу крестьянам и предпринимателям. Я с этим не могу согласиться. Конечно, нэп — смелое и разумное решение Ленина, но Ленин такое же зло, как и Сталин. <…> Неразумная, неграмотная политика нынешнего правительства России по отношению к Чечне, увы, очевидна. Но то, что нам показали в Чечне по телевизору, что возмутило весь мир, начато не сегодня, начато Лениным. Ради того чтобы укрепилась его власть, он готов был идти на любые преступления против своих сограждан. Сталин — продолжатель дела Ленина. О своих соседях, о детях Арбата, Рыбаков начал писать в 1958 г. Через девять лет он предложил роман «Новому миру»: в этом журнале был напечатан роман Рыбакова «Лето в Сосняках». Редактором журнала был Александр Твардовский, с небывалой смелостью опубликовавший «Один день Ивана Денисовича», произведение бессмертное. Рыбаков надеялся, что Твардовскому понравятся «Дети Арбата», которые, не дойдя до редактора, уже больше года томились в редакции. Роман высоко оценили сотрудники Твардовского — Анна Берзер, Кондратович, Лакшин. Измученный ожиданием, Рыбаков обратился к Твардовскому с письменной просьбой прочесть роман. Вот что сказал автору по телефону Твардовский. Позавчера начал читать и прочел одним махом, не отрываясь. Я — крестьянский поэт и думал, что поэзия — в деревне, а вы показали поэзию города… Москва, Арбат, улицы, эти мальчики и девочки, арбатские и дорогомиловские, первая юношеская любовь, тюрьма, все это прекрасно… такого удовольствия, такой радости от чтения я давно не получал… Роман, конечно, попадет под «табу», но не я это «табу» установил. А когда «табу» будет снято, наш журнал сочтет за честь опубликовать его на своих страницах. Не унывайте!.. Вы — человек мужественный, мы вас поддержим, деньги для вас найдем. Вы поставили перед собой грандиозную задачу и блестяще ее выполнили. Я познакомился с Твардовским в 1929 г., оба — безвестные юноши. Близости не было, но было взаимное уважение, даже тогда, когда один стал знаменит, а другой значился рядовым литератором. В наших беседах он редко кого хвалил из пишущих. Такая, я бы сказал, восторженная оценка «Детей Арбата» дорогого стоит. Вскоре Рыбаков встретился с Твардовским в редакции «Нового мира». Вот слова Твардовского. Каждый писатель мечтает о своей главной книге, но не всякий, даже очень талантливый, ее создает, потому что не находит того, что должно послужить для нее материалом. Вы нашли свой золотой клад. Этот клад — ваша собственная жизнь. И то, что вы пренебрегли своей славой известного беллетриста, своим материальным положением, пишете такую книгу, без надежды на скорое ее опубликование, пишете всю правду, подтверждает, что вы настоящий писатель… Вы прекрасно показали ту эпоху, показали общество во всех его разрезах — от сына портного до дочери наркома… Вы достигли поразительной силы и убедительности изображения. Мне очень горько, что я ничего не могу пообещать вам конкретно. Журнал в очень тяжелом положении, его медленно удушают. Через три года Твардовский случайно навестил Рыбакова на его даче в Переделкине. Выпили. Снова похвалив «Детей Арбата», сказал: «Солженицын активнее вас, он деятель, такой он человек, и таким его надо принимать. А мы с вами другие. Может, поколение другое, может, закалка не та. Моя мать тоже была в ссылке… А отец, тот был в бегах… Мои родители вон где были, а я стихи про колхозы сочинял… И не знал, что будет со мной». В свое время Гроссман передавал мне некоторые слова самобичевания Твардовского, но такой покаянной горечи — «а я стихи про колхозы сочинял», как в беседе с Рыбаковым, в них не было. Нельзя сказать, что Твардовский страдал скромностью. В одной беседе со мной он по-человечески сочувственно, но свысока отозвался о Мандельштаме и Пастернаке. Во время совместной поездки в Италию сказал Заболоцкому: «Надоело мне быть первым парнем на деревне». Заболоцкий не удержался от улыбки — и увидел обиженное лицо собеседника. Читая разговор с Рыбаковым, я подумал, что Твардовский сильно изменился под влиянием встречи с Солженицыным. Этот рязанский школьный преподаватель математики, вероятно, бедно одетый, всем своим обликом, отвагой, прежде всего гениальностью «Одного дня…» против своей воли, конечно, заставил Твардовского усомниться в правильности своей литературной жизни, в служении своему большому таланту. Идут годы, «Дети Арбата» все еще в утробе письменного стола, Рыбаков пишет новый роман: «Тяжелый песок». Один одаренный, с хорошим пером, литератор, еврей, никогда не испытывавший религиозного чувства, недавно, следуя моде, крестившийся, как-то спросил меня: — Кто у вас Мессия — человек или Бог? Я ответил: «У нас, в Ветхом Завете, священном и для христиан, Мессия, Мешиах — человек. А у вас?» Русский писатель Рыбаков никогда не забывал о своем еврействе. Он написал много повестей и романов, приобретших большую популярность и на родине, и за ее рубежами. Я уверен, что он надолго останется в литературе как создатель «Детей Арбата» и «Тяжелого песка». А ведь хорошо как-то сказал Корней Чуковский: «В литературу трудно попасть, еще труднее в ней задержаться и почти невозможно в ней остаться. Рыбаков останется». Название «Тяжелый песок» взято из Библии, из книги Иова: «Если бы была взвешена горесть моя, и вместе страдания мои на весы положили, то ныне были бы они песка морского тяжелее». Удачливый, широко известный автор впервые понял, как трудно у нас напечатать не беллетристику, пусть увлекательную и честную, а истинно художественную вещь, чуждую политическому направлению тоталитарного государства. «Тяжелый песок» отклонили новый (после Твардовского) «Новый мир», «Дружба народов». Напечатал отважный Ананьев в «Октябре». Как всегда, были потребованы купюры, поправки. Рыбаков скрепя сердце шел на уступки. Один персонаж романа был расстрелян как «враг народа». Теперь Рыбакову пришлось бросить его под поезд. Антисемитские листовки с текстом из Достоевского, которые немцы разбрасывали на фронте, теперь снабжались текстами из Кнута Гамсуна. Цифра уничтоженных фашистами евреев — шесть миллионов — государством запрещалась. Преодолев сопротивление редакции, Рыбаков — впервые в нашей стране — назвал эту цифру в своем романе. Были и смешные придирки. Один из персонажей романа родился в Цюрихе. Но в это время мы узнали книгу Солженицына «Ленин в Цюрихе». Пришлось, по требованию редакции, заменить Цюрих Базелем. Но когда роман вышел отдельным изданием, Рыбакова пригласили в ЦК КПСС. Цекистский чиновник прочел по бумажке замечания «серого кардинала» Суслова, касающиеся романа. Оказалось, что некий профессор написал в ЦК письмо, сообщая: «„Тяжелый песок“ — роман сионистский. Не случайно главный герой романа родился в Базеле, где происходил первый гионистский конгресс». Вряд ли Рыбаков об этом знал. Как трудно сделать героя родившимся в Швейцарии: Цюрих плох, а Базель и того хуже. Читательский успех «Тяжелого песка» был оглушителен. Множество писем прислали автору русские, украинцы, белорусы и, конечно, евреи, писали люди, уцелевшие в лагерях уничтожения, в гетто, дети, потерявшие родителей, родители, потерявшие детей. Советская печать роман замолчала. Но на Западе публикация «Тяжелого песка» рассматривалась как «поворот Кремля в еврейском вопросе». Роман был издан в 26 странах. Заголовки статей в большой, многоязыкой прессе: «Роман поворачивает душу», «Долгое молчание разбито», «Еврейская семейная сага», «Высокая песня любви», «Семейная хроника, продолжающая старую русскую традицию», «Сильный одинокий плач», «Советским людям нравится еврейская сага». Окрыленный успехом, Рыбаков предложил «Детей Арбата» редактору «Октября» Ананьеву. Восторг и отказ. Предложил «Дружбе народов», редактору Баруздину. Ответ: «Сразу же поздравляю, это не „Кроши“ и даже не „Тяжелый песок“, это намного выше и серьезнее… Все поразительно точно, достоверно и весомо… Это прекрасно…» И все же роман «категорически не устраивает». Рыбаков отступал, но не сдавался. Борьба за роман продолжалась, приобретя партизанский характер. Удалось переправить «Детей Арбата» в Хельсинки, сыну друзей автора, женатому на финке. Другой экземпляр романа удалось вывезти в Париж, отдать на хранение дочери русского эмигранта, приятельнице автора. Прочитав об этом в «Романе-воспоминании», я опять подумал о Гроссмане: умен, смел, но так был наивен, так был неприспособлен к советской системе. А о Платонове и говорить нечего: гений, но не борец, храбр, но не воин. Отважные солдаты в борьбе с немцами, подполковник Гроссман и капитан (майор?) Платонов оказались беспомощными в борьбе с советским идеологическим гнетом. Другим был майор Рыбаков. Резко критически относясь к некоторым вещам, опубликованным в «Метрополе», он, прирожденный боец, высоко оценил этот альманах, потому что «Метрополь» «был первым отчаянным прорывом в бесцензурную печать, мужественной попыткой сбросить с литературы оковы государственного партийного контроля». Многоопытный, умный, умелый боец сочувствовал пусть не таким опытным, но все же неробким собратьям. В своих мемуарах М. С. Горбачев пишет о рукописи «Детей Арбата»: «Она стала общественным явлением еще до того, как вышла в свет». О существовании «Детей Арбата» знали в ЦК КПСС. В 1983 г. туда вызвал Рыбакова видный партийный чиновник Альберт Беляев. Он предупредил автора: «Если роман будет опубликован за границей, за это ответит автор». Предупреждение Беляева не остановило Рыбакова. Он решил давать своим знакомым читать «Детей Арбата» с условием: держать не больше недели. Дал и Самуэлю Рахлину, корреспонденту датского телевидения. Мы с Инной Лиснянской тоже были с ним знакомы, прелестный человек. Кажется, он родился в России, во всяком случае, по-русски говорил свободно. Рахлин дал на краткий срок прочесть роман своему соседу по жилью в дипломатическом корпусе, шведу, страстному поклоннику «Тяжелого песка». Горничная, конечно, сотрудница КГБ, увидела рукопись на столе хозяина и сообщила куда следует. Швед уехал на рождественские каникулы в Стокгольм, взял с собой рукопись, чтобы ее дочитать. На таможне рукопись отобрали. Вскоре Рыбакова пригласили на закрытое заседание секретариата Союза писателей. Кабинет первого секретаря Маркова. Допрашивают главные помощники Маркова: Верченко, Карпов, Боровик. Разговор с начальством занимает несколько страниц книги, пересказывать не надо, думаю, читателю и так понятно, что могли сказать эти люди автору. Остановлюсь только на быстроте реакции и находчивости Рыбакова. Меня это всегда в нем восхищало, так как сам я такими качествами не обладаю. Карпов, как новый редактор «Нового мира», уже знакомый с первой частью романа, говорит: — Я прочел вторую и третью части, правда, не в рукописи, а в ксерокопии. Рыбаков: — Вот как? Откуда взялась ксерокопия? Верченко: — Это не имеет значения. Рыбаков: — Нет, это имеет значение. Если вы сняли с него ксерокопию, то роман выходит из-под моего контроля, что я и фиксирую. Крайне неприятная беседа закончилась просьбой (просьбой, а не приказом!) Верченко: «Весь сегодняшний разговор должен остаться между нами». Рыбаков об этом заседании никому не рассказал, но слухи распространились по Москве, отчего интерес к роману повысился. Теперь, давая его читателям, Рыбаков, по совету своего младшего друга Евтушенко, ставил условие: письменный отзыв — обязательно. Решил активнее пробивать «Детей Арбата», создать общественное мнение, на которое — такая началась пора — можно будет опереться. Пришло около 60 восторженных отзывов: их прислали знаменитые писатели, артисты, режиссеры. Еще одна цитата из мемуаров М. С. Горбачева: «Рукопись прочли десятки людей, которые стали заваливать ЦК письмами и рецензиями, представляя книгу „романом века“…» Я уверен, что описание борьбы писателя с государственным аппаратом, книга «Роман-воспоминание», станет документом истории нашей страны. Живописная галерея чиновников аппарата, писателей (тоже чиновников) — драгоценный материал для будущих исследователей советской эпохи. Следует отметить, что в это время иным стал государственный аппарат. Горбачев, сам того не желая, нанес и поныне незаживающие раны одряхлевшему телу советского государства. Не умея, а может быть, и не думая расстаться с коммунистическим мироощущением, всегда бесчеловечным, совершенно не понимая нашей бессмысленной экономики, важного, решающего значения для нашей страны национального вопроса (из большевиков его хорошо понимал только убийца народов Сталин), Горбачев сделал главное — разрушил советскую систему. О том, что пошло дальше, говорить не будем, но должное неудачливому Горбачеву воздадим. И вот по просьбе Рыбакова его принял на Старой площади секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев, второй после Горбачева человек в партии, о котором шла молва, что он инициатор и теоретик перестройки. Литераторы благодарно запомнили его знаменитую статью «Об антиисторизме», направленную против черносотенцев. Я, как и многие, не раз видел и слышал А. Н. Яковлева по телевизору. Его облик, спокойная и (чего не скажешь о Горбачеве) интеллигентная русская речь внушали симпатию. Недавно я впервые увидел его близко. Это произошло на вручении Инне Лиснянской литературной премии журнала «Арион». Яковлев сидел рядом с нами. Лохматые брови, коренастый, с залысинами, сдержанно улыбающийся. Он сказал героине вечера, что ее строки «Кого бы я не встречала, я встречала себя» есть продолжение мысли Канта. Высказанные Рыбакову мысли Яковлева так важны для понимания не только видного деятеля партии, но и всей перестройки, что мне хочется их воспроизвести как можно подробнее. — Мы с вами взрослые люди, — начал Яковлев, — фронтовики, будем говорить без обиняков, прямо и честно, да, я читал ваш роман, но не как секретарь ЦК, а как директор Института экономики. Штука сильная, написана хорошо, читается великолепно. Но у меня два замечания. Первое: вина Сталина в убийстве Кирова не доказана. Хрущев пытался доказать, но не сумел… В вашем романе действуют исторические личности, значит, вы должны придерживаться исторических фактов, а этот факт не доказан. Второе возражение: в романе много сексуального. Молодые люди, девицы только и думают, с кем переспать. Я тоже был молодой, но в наше время так не думали. Рыбаков: — Сколько было вам лет, Александр Николаевич, когда вы ушли в армию? Яковлев: — Семнадцать с половиной. Рыбаков: — Не было бы войны, вы бы через год-два спали с девочками за милую душу. Яковлев: — Особенно не настаиваю на этом. Главное — Киров. Рыбаков ссылается на выводы комиссии старой большевички Шатуновской: доказано, что это сделал Сталин. И добавляет: — Тираны не дают письменных указаний, убивая неугодных. Почему же вы о Кирове требуете предъявить письменное указание? Яковлев: — Сам-то Киров был такой уж святой? Рыбаков: — Я не писал Кирова святым. Но не Киров убил Сталина, а Сталин убил Кирова. Яковлев: — Меня поразила одна фраза Сталина. Он приказывает расстрелять белых офицеров, ему возражают, это незаконно. Сталин отвечает: «Смерть решает все проблемы. Нет человека — нет проблемы». Где Сталин это сказал? В его сочинениях такого нет. Вы действительно сами выдумали и приписали Сталину эту фразу? Рыбаков: — Возможно, от кого-то слышал, возможно, сам придумал. Беседа завершается предложением автору сделать некоторые поправки. Рыбаков сделал. Об этом Яковлев сообщил редактору «Дружбы народов» Баруздину. В журнале рукопись читается снова, 9 сентября 1986 г. Рыбакова приглашают на заседание редколлегии журнала. Баруздин настаивает на своем: «Нужно убрать одностороннее, сугубо субъективное изображение Сталина». Но члены редколлегии — такие времена — уже не послушны главному редактору. Аннинский: «Могучая, мощная, шекспировской силы вещь. Какое счастье, что она попала в журнал». Калещук (заведующий отделом очерка): «Мы все изолгались… Пора кончать с этим… Считаю, что получить такой роман — большая наша удача». Тер-Акопян (заместитель Баруздина): «Я восхищен романом и тоже считаю, что трогать там ничего бы не следовало. Но именно я имею дело с цензурой и вам прямо скажу — они роман не пропустят, на каждое слово Сталина потребуют письменное доказательство». Баруздин взмолился: «По Сталину пройдись еще раз пером». Видимо, Рыбаков идет на уступки. Но не изменяет своему бойцовскому характеру. Спрашивает: — Когда будете печатать? — В будущем году, конечно. — Дайте анонс в октябрьском номере. — Номер уже набирается. — Ничего, успеете. Телефонный разговор с типографией. Анонс вставлен на обложке октябрьского номера. Свершилось. Роман печатается. Рабочие типографии берут себе по десять экземпляров (как известно, приблизительно так же происходило когда-то в типографии с первыми рассказами Гоголя). На почте тревога: журнал воруют из ящиков в подъездах. В библиотеках очередь на роман на год вперед. На «черном рынке» — астрономические цифры стоимости журнала. «Книжное обозрение» провело опрос читателей: «Дети Арбата» по популярности вышли на первое место. Тираж романа — вместе с изданием в «Роман-газете» — десять с половиной миллионов. Но глава Госкомиздата заявляет: чтобы удовлетворить спрос на роман, его надо издать тиражом минимум 30 миллионов. Наверху испугались. Неужели властители полумира так пугливы? Здесь я позволю себе вернуться на много лет назад. Сталин в семинарии дружил с одним однокашником (фамилию забыл). До революции он священствовал, потом стал школьным учителем. В Грузии его начали преследовать за церковное прошлое. Он обратился в Москву к другу юности с просьбой защитить его. Сталин ответил, адресовав письмо так: «Народному учителю такому-то». Был слух, что с этого письма началось звание народного учителя. И вот страна готовится к юбилею Сталина. Издательство «Детгиз» отыскало в Грузии сталинского однокашника. Редакторы, писатели, связанные с издательством, помогли старому учителю написать воспоминания о вожде. Получилось так, как было задумано. Coco — отличник учебы, заботливый товарищ, обаятельный, добрый, уже в детские годы мудрый. Книга напечатана, готовы сигнальные экземпляры, «Детгиз» в восторге, старика приглашают в Москву, поселяют в гостинице «Москва», и вдруг: книга свыше запрещена. Сталин приглашает к себе друга ранних лет, хорошо, по-кавказски угощает, ласков с ним и, объясняя запрет книги, учит: «Слово не так скажешь — государство потеряешь». Наши вольнодумцы привыкли считать соратников и наследников Сталина людьми малообразованными, ограниченными, тупыми. Но вот в чем нельзя отказать руководителям советского государства: они знали, что народ обманывают, что их идеология — ложь, вот почему и Сталин и его наследники всегда боялись слова, боялись, что даже намек на правду губителен для их власти над населением. «Дети Арбата», сказанные «не так», сильно испугали властителей страны. Когда на обложке «Дружбы народов» было объявлено, что в журнале будет напечатан роман Рыбакова, срочно собрали заседание Политбюро ЦК КПСС (в октябре 1986 г.)… Через десять лет, в 1996 г., стенограмму этого заседания опубликовали в «Московских новостях». Читаем: Лигачев: — Ясно, что такой роман опубликовать нельзя. <…> Чебриков: — Сейчас по телевидению есть одна популярная передача — «Двенадцатый этаж». В ней идет перепалка между молодежью и старшими поколениями. Старшее поколение выглядит довольно бледно, не может дать отпора вызывающе ведущим себя молодым интеллектуалам. Горбачев: — Зачем нам предоставлять трибуну всякой падали? Громыко: — Видимо, жестковато поступили в свое время с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, но нельзя же, как это делается теперь, превращать их в иконы… Мы не можем быть добренькими. Шеварднадзе: — Кто-то сейчас стал предлагать опубликовать неизданные произведения Твардовского в защиту кулака. Он, как вы знаете, был, видимо, сыном кулака. Так что в литературе немало лиц, которые пытались и будут пытаться использовать творческие организации и журналы в своих личных целях… Рыбаков использовал журнал не в своих целях, а в целях любви к угнетенным и преследуемым. «Дети Арбата» вышли в свет в 52 странах. Роман пролежал в столе 20 лет и, как Илья Муромец, накопил такую силу, которая удивила, восхитила весь читающий мир. Однажды Рыбакова посетил знаменитый английский писатель Грэм Грин. Он сказал, что в СССР атмосфера меняется, что русский народ терпеливый, что он, Грэм Грин, сторонник социалистической идеи. И тут Рыбаков, тоже как будто сторонник социалистической идеи, неожиданно возражает: — Сделаем так: вы нам отдадите свою свободу, а мы вам свой социализм. Поменяемся. Хотите? «Дети Арбата» — трилогия. Вторая часть называется «Страх», третья — «Прах и пепел». Вторая часть сильно уступает первой, написана поспешно. Но в «Прахе и пепле» возрождается художественная сила Рыбакова, талант глубок, умен, живописен и так молод, так молод! «Прах и пепел» заканчивается тем, что разделенные трудной судьбой муж и жена наконец соединились после смерти: их могилы оказались рядом. Рыбаков, всегда прислушивающийся к замечаниям собратьев, сказал мне, что его знакомые сочли такую концовку слащавой, надуманной. Я возразил: «Концовка глубоко народна, она существует в фольклоре Востока и Запада, так кончили свою жизнь Лейли и Меджнун, Ромео и Джульетта. И как хорошо, что современный реалистический роман завершается такой истинно человечной, из древности до нас дошедшей легендой». Анатолия Наумовича обрадовали мои слова. Как странно, даже загадочно: великие книги Солженицына, книги Булгакова, Бабеля, Зощенко, Платонова, Гроссмана, «Тихий Дон» (Шолохова?), «Дети Арбата» и «Тяжелый песок» Рыбакова возникли в самую жестокую, в самую несвободную, в самую античеловеческую пору истории России. Сила человечности оказалась сильнее дьявольской мощи большевизма. Так решил Тот, Кто создал человека. Публикуется по изд.: Знамя. 1998. № 1.ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
<Речь на праздновании 80-летия А. И. Солженицына>
В золотом XIX веке русской литературы писатели приходили к читателям из лицея, соседствующего с императорским дворцом, из дворянских усадеб, а если из крестьянских низов, то, скажем, из семьи скотопромышленника, которого в советское время могли расстрелять, а сына, Алексея Кольцова, с домочадцами выслать в места не столь отдаленные. Был один великий писатель, который, задолго до нашего современника, провел несколько лет в остроге, но тот Мертвый дом был домом отдыха по сравнению с каторгой, где немало умерщвляющих лет провел Солженицын. И там и тут были несчастные люди, а вселенная, учит нас Солженицын, имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Есть еще одно обстоятельство, весьма существенное, которое отличает судьбу Солженицына от судьбы Достоевского. Отбыв года каторги и солдатской службы, Достоевский вернулся в привычную писательскую и журнальную жизнь, дыша воздухом воли и славы. Солженицын после каторги, после тяжелейшей операции, став всемирно известным писателем, опять попал в сатанинские лапы власти такой жестокой, какую не знала царская Россия. С этой властью, с этим прогнившим, но все еще сильным дубом боролся не теленок, а Богом избранный человек, и у этого человека было такое оружие, какого никогда не было у советской власти — мудрая, жизнетворящая мысль, преисполненная любви к людям, музыкальное слово, ослепительно яркая живопись. Сегодняшний праздничный день Солженицына — это праздник измученной десятилетиями и продолжающей мучиться России. Страшно подумать, что худшее впереди, и поэтому, Александр Исаевич, что-то важное, нужное и нежное есть в том, что Вы среди нас. Живите долго и счастливо для наших сердец, для нашей России. <1998> Публикуется впервые по рукописи из семейного архива поэта. Публикация И. Л. Лиснянской.О МОИХ МЕМУАРАХ
Хорошо помню, что побудило меня впервые заняться воспоминаниями. После гибели Мандельштама в концлагере была издана в Ленинграде книга стихов несчастного поэта. Примечания составил Н. И. Харджиев. О стихотворении «В разноголосице девического хора…» я прочел: «Сообщено С. И. Липкиным». Я позвонил Николаю Ивановичу, с которым познакомился еще в одесской юности, и сказал, что я не сообщал этого стихотворения, оно не нуждалось в сообщении, так как было давно напечатано, между прочим — в наиболее полной из книг Мандельштама, вышедшей, кажется, в 1928 г. Николай Иванович ответил, что основывался на указании Н. Я. Мандельштам. Выяснилось, что Надежда Яковлевна спутала это стихотворение со строфой, действительно сообщенной мною, не включенной, по воле автора, в окончательный текст стихотворения «Жил Александр Герцевич…». Тут я вспомнил, как Осип Эмильевич читал мне это стихотворение, многое вспомнилось, и я решил написать о своих встречах, беседах с великим поэтом, начавшихся осенью 1929 г. П редложил эти воспоминания одной редакции. Случилось это в конце 1970‑х. Потребовали снять несколько крамольных мест (например — что для меня недосягаемыми образцами были стихотворения Ахматовой, Бунина, Ходасевича: мол, последние два — скажут наверху — были белыми эмигрантами, и Ахматова недалеко от них ушла). Я согласился — снимем. Но когда потребовали снять имя Гумилева, я отказался: без Гумилева, о котором часто говорил мне Осип Эмильевич, торжественно произнося «Николай Степаныч», не получался разговор об акмеизме, а без акмеизма — о Мандельштаме. Мою работу отвергли. Ее напечатали, когда я вышел из Союза писателей, в Нью-Йорке, насколько я помню, в издательстве «Чалидзе-Пабликейшн», опубликовавшем до этого мою повесть «Декада». Впоследствии воспоминания о Мандельштаме были напечатаны в немецком переводе в ФРГ. После моего восстановления в Союзе писателей, по рекомендации В. Пискунова, члена редколлегии журнала «Литературное обозрение», мое воспоминание о Мандельштаме «Угль, пылающий огнем» было напечатано в этом журнале. Молоденький, а теперь знаменитый критик Андрей Немзер, сотрудник журнала, любовно отнесся к своим обязанностям, исправил несколько цитат, которые я изложил неточно. В конце 1980‑х швейцарское некоммерческое издательство «L’age d’Homme» опубликовало небольшим тиражом арестованный советской властью роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Об этом событии заговорили в московских литературных кругах. Лидия Корнеевна Чуковская, знавшая о моей давней дружбе с Гроссманом, попросила меня рассказать о «Жизни и судьбе», об истории ареста этого романа, предложенного автором журналу «Знамя». Я ответил на все ее вопросы, но не сказал, что я сохранил рукопись (машинопись) романа и с деятельной помощью В. Н. Войновича отправил «Жизнь и судьбу» за рубеж. Мы с Инной Львовной Лиснянской снимали тогда комнату на даче вдовы моего приятеля Н. Л. Степанова. К нам пришли дочь Лидии Корнеевны Елена Цезаревна (Люша) и секретарь Корнея Ивановича Чуковского Клара Лозовская — пришли с магнитофоном, чтобы я наговорил то, что рассказывал в их присутствии Лидии Корнеевне. Когда рассказ превратили в машинопись, получилось десять (или двенадцать) страниц, Инна Львовна сказала, что это недостаточно, что я знаю больше, и настояла на том, что я должен о Гроссмане написать книгу. Жили мы тогда трудно. КГБ не оставлял нас в покое, угрожал, к тому же на нас наложили запрет на профессию, даже на переводческую, но при этом — какой-то душевный подъем, мы оба много писали, и я решил, что засяду за воспоминания о Гроссмане. Получилась книга около семи печатных листов. Я сперва назвал ее «Сталинград Василия Гроссмана»: смысл названия был тот, что, как в разрушенном Сталинграде началась наша победа над немцами, так и арестованный роман Гроссмана станет победой над его жестокими преследователями. Книга вышла в свет в американском издательстве «Ардис», уже к этому времени познакомившем читателей с моими книгами стихов «Воля» (составитель И. Бродский) и «Кочевой огонь». Через несколько лет на перестроечной родине книга была названа «Жизнь и судьба Василия Гроссмана»: издательство не хотело, чтобы на переплете книги красовалось имя Сталина. Эту книгу во французском переводе издало «L’age d’Homme». Успех, как говорится, окрылил меня. Я подумал: вот ломаю восьмой десяток, а как ценно то, что я в разные годы услышал от Эдуарда Багрицкого, Николая Клюева, Георгия Шенгели, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Николая Бухарина. Как необходимо (прежде всего — мне) рассказать о друге моей молодости Аркадии Штейнберге, оригинальном, сильном поэте, который умер, так и не дождавшись выхода в свет книги своих чудных стихов (переводные печатались). И тогда я стая со страстью писать воспоминания. Последняя работа (лишь отчасти мемуарная) опубликована в «Знамени» к 100-летию со дня рождения Валентина Катаева, с которым познакомился еще в Одессе. Статья так и называется «Катаев и Одесса». В ней впервые рассказывается о мне известных (увы, наверно, теперь только мне) прототипах одесских персонажей в рассказах и повестях небезгрешного, но первоклассного русского писателя. Сейчас, на 87‑м году жизни, память моя сильно ослабела. А была она у меня недурной, никогда ничего не записывал. Вот и наказан судьбой. Хотелось побольше рассказать об Андрее Платонове (персонаже моих воспоминаний о Гроссмане). Я помню, что говорил Платонов, но забыл, как он говорил, а искажать его речь не позволяет совесть художника. В литературе, в искусстве необходимо, чтобы «что» слилось с «как», а «как» превратилось в «что». Публикуется по изд.: Вопросы литературы. 1999. № 1.ДУХ ГИТЛЕРА ОДОЛЕЛ ДУХ СТАЛИНА
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДНЕ ПОБЕДЫ
День Победы я встретил в Москве. За несколько месяцев до окончания войны был демобилизован по ходатайству татарских властей: мне поручено было закончить перевод татарского эпоса «Идегей», начатый мною накануне войны. Победа многонационального, многоязыкого Советского Союза над одноязыкой Германией была прежде всего победой русского народа, вдохновившего силой духа другие народы нашей страны. Не говоря уже о союзных республиках, особенно хорошо воевали, как я слышал от командиров, татары, башкиры, якуты, кавказские горцы, калмыки. Эта была победа армии, обессиленной сталинскими расстрелами военачальников, и все же мы сокрушили отлично организованную, мощную немецкую армию. Почему незадолго до величайшей войны мы не сумели победить маленькую армию Финляндии? Не потому ли, что нашей армией тогда командовали полководцы типа Ворошилова и Буденного, а финской — образованный русский генерал Маннергейм? Или потому, что для Гражданской войны весьма пригодилась классовая идея — «кто был никем, тот станет всем», «грабь награбленное», а для победы над внешним врагом необходима, как показала жизнь, идея национальная? Поразмыслим: почему фашистская армия, захватившая большие и малые европейские страны, дойдя до Москвы, Москву не взяла? Почему наши враги, достигнув Волги, Северного Кавказа, театрально установив свой флаг на Эльбрусе, все же потерпели поражение? Сталин первым из большевиков понял, что для войны с могущественным внешним врагом коммунистическая идея бессильна, нужна идея национальная, русская. Немцам-то хорошо, их в Германии подавляющее большинство, но как быть с многонациональной советской страной? Конечно, и другие наши народы отважно воевали, но как нам быть: сегодня они с русскими, а завтра… Сталин уничтожил плоть Гитлера, но дух Гитлера одержал победу над духом Сталина. «Вождь народов» хитро решил, что советское надо представить как русское. Если раньше большевики преследовали дворян, купцов, так называемых кулаков, потом партийцев — врагов народа, то во время войны стали выселять из разных мест в назидание другим, не по классовому принципу, балкарцев, калмыков, карачаевцев, крымских татар, чеченцев, ингушей. Многие парни были участниками войны, кто без руки, кто без обеих ног, орденоносцы. Рухнула идея пролетарского интернационализма, когда Сталин выслал в Среднюю Азию и в Казахстан всех волжских этнических немцев — рабочих, крестьян, коммунистов, комсомольцев, пионеров. В каждом высланном народе погибала в пути треть, а то и половина депортированных. Сталин лелеял такую же мечту для евреев — не успел, умер. Преследованиям подверглись не только люди, но и древние, всегда насыщенные национальной идеей, эпические поэмы мусульман и буддистов, и первой жертвой был татарский «Идегей». А как Сталин, коммунистическая партия обошлись с русскими победителями немецкого фашизма? Тех, которые оказались в плену, — на каторгу, а миллионы победителей были обречены на полуголод, на нищету. Как горько было знать, что побежденные живут лучше нас, победителей, не только в буржуазной Западной, но и в подсоветской Восточной Германии. Распад Советского Союза и то, что сейчас происходит в Чечне, — это результат сталинского человеконенавистничества. Наш День Победы прекрасен и значителен потому, что это — День Победы многострадального, измученного народа над фашизмом. День Победы — это начало долгого и трудного освобождения народов России от фашистского и коммунистического зла. Публикуется по изд.: Сто дней одного века. М.: АНО РИА «Общая газета», 2000. С. 182–183. (Материалы рубрики, которую «Общая газета» вела на протяжении двух лет.)КОГДА Я ОТДЫХАЛ В МАЛЕЕВКЕ
Союз писателей возник в 1934 г., когда Малеевка уже существовала. Попал я туда впервые, если мне не изменяет память, в 1932 г. Точно не помню. В то время на месте нынешнего Дома творчества стоял деревянный домик, в котором жила вдова Вукола Лаврова. Это была очень гостеприимная женщина. Конечно, я мало что запомнил, но на всю жизнь в памяти осталась та радость, с которой она встречала каждого. Истосковавшись по общению, она очень много рассказывала о тех, кто бывал в доме В. Лаврова в прежние годы. Вспоминалось ей также, что вроде бы даже свадьба А. Чехова была где-то недалеко от Малеевки, в одной из деревень. Кроме того, у нее была потрясающая библиотека, в которой сохранились журналы прежних лет — «Русская мысль», «Русское богатство», «Мир Божий». Время было такое, что книг у нас не было, а в обычной библиотеке выдавалось не все. Например, М. Горького выдавали, а И. Бунина нет. Но чем мне особенно запомнилось то время, так это проводившимися в Малеевке творческими семинарами. В то время существовала такая организация — РАПП. Именно она и устраивала эти кружки, или семинары, на которых присутствовали, как они тогда назывались, «пишущие ударники». Конечно, я не был таким ударником, но руководил одним из семинаров И. С. Рахилло, мой приятель. Это был представительный мужчина атлетического сложения и высокого роста. Он позвал меня, и было неудобно отказываться. И почему-то мне запомнился один из вопросов молодых писателей. В то время были широко известны очерки Бориса Лапина — писателя, женатого на дочери И. Эренбурга. Дальнейшая судьба его сложилась трагически, но в те годы это имя было известно всем. Теперь, правда, его мало кто знает. И когда задали вопрос, что И. Рахилло думает об очерках Лапина, то получили ответ: — Вы знаете, он такого небольшого роста. Неподалеку от Малеевки на месте теперешнего Дома творчества ВТО был Дом учителей, подавляющее большинство отдыхающих которого составляли женщины. Помню, многие писатели частенько туда хаживали. Конечно, время было суровое, голодное. Я был студентом. Но в Малеевке кормили немножко лучше, чем в студенческой столовой. Зато условия жизни были; как нам тогда казалось, царские. Постоянно я стал посещать Малеевку с 1934 г. Мне как молодому автору частенько давали бесплатные путевки. Правда, я уже забыл, с кем я тогда общался там. Помню только С. Михалкова. Он тогда только начинал свою писательскую карьеру, как мы все, был молод и беден и сам стирал свое белье, которое, как и у нас, знавало лучшие времена. Запомнился его искрометный юмор и шутки, которыми он непрестанно сыпал, всячески обыгрывая свое заикание. Шестидесятые годы я помню лучше. В то время там отдыхали не только писатели. Бывали и другие известные люди. Например, Б. Е. Вотчал, капли которого лечат людей до сих пор, знаменитые физики Е. Файнберг, И. Шкловский. Моя компания состояла в основном не из ровесников. В нее входили С. Рассадин, Л. Лазарев, Б. Сарнов. (Году в 1960 с чем-то мы вместе с Рассадиным ездили в Голландию, тогда и подружились.) Именно им я и читал свои вещи. Печатать тогда их было нельзя, их напечатали только в 1980‑е годы. Там же, в Малеевке, я познакомился с Инной Львовной Лиснянской, ставшей моей женой. Это было в 1967 г. Мы очень много гуляли, беседовали на малеевских дорожках, а время было зимнее, и мое признание в любви выражалось в том, что я постоянно выводил палкой на снегу ее имя. Когда я отдыхал в Малеевке в 1970‑е годы, круг общения уже сложился и был, за некоторым исключением, тем же. По вечерам показывали кино, играли на бильярде и стучали костями домино. Вспоминается курьезный случай. Я сам из Одессы, и в годы юности у меня был товарищ, который писал стихи по-украински. В один из приездов в Малеевку я с радостью обнаружил его имя среди отдыхающих. Но оказалось, что вместо него приехала его жена, на наших глазах разворачивался ее роман с известным тогда писателем. И мне было так больно за друга. Потом Дом творчества перестроили, достроили многоэтажные дома, а гораздо позже номера стали двухкомнатными. Я жил в старом, в главном, корпусе, там же отдыхали писатели из союзных республик — М. Карим, Турсун-Заде и другие. Но в новых домах было даже лучше. Сложность проживания в многоэтажке — что надо было выходить на улицу, чтобы попасть в столовую. Но пройтись по малеевским дорожкам — одно удовольствие. А порядки тогда были такие — не мешать работе! Но мало кто обращал на это внимание. Время творчества у каждого писателя различно, и многие из проживающих на первом этаже страдали, когда мимо них шумно шли в столовую и возвращались обратно. Особенно нервные из писателей выбегали, сердились на шумных соседей. Кто был библиотекарем в то время, я не помню, а ведь я знал тогдашний фонд как свои пять пальцев. В основном в Малеевке я работал, писал, переводил, там удивительно хорошо работалось. В Малеевке я перевел многие главы из индийского эпоса «Махабхарата», впоследствии напечатанные в серии «Всемирная литература». Писал стихи. Мы с Инной Львовной отдыхали там только зимой, и в моих зимних стихах — как правило, малеевские пейзажи. Там же в 1961–1963 гг. я написал поэму о войне «Техник-интендант» — о том, как наша часть оказалась на территории, захваченной немцами. И вспоминается, что читывал я ее своим друзьям в Малеевке — Шкловскому, Сарнову, Рассадину и Лазареву. Им понравилось. Живал там Борис Слуцкий, и именно в Малеевке умирала его жена. Мы дружили семьями. Вчетвером гуляли, когда ей становилось лучше. Очень красивая была женщина, умирала она от рака крови. Помнится, встречался я там и со Щипачевым. Он как-то позвал меня к себе, читал стихи… Я похвалил. Мой грех. Там же частенько отдыхал и мой сосед по московской квартире — Галич. Это был широко образованный человек, знал два языка — немецкий и французский, свободно говорил на них и читал. Вспоминается, что он всегда переживал тот факт, что у него нет официального признания. Помню, как-то раз именно в Малеевке, а не в Москве (наши квартиры соединялись по кухне), он подходит ко мне и с восхищеньем протягивает сборник стихов поэтессы С, жившей в ту зиму в Малеевке, — мол, посмотрите, как хорошо пишет! Возвращая ему книгу, я сказал: — Как Вам не стыдно! Это же полная ерунда! Для чего я это рассказываю? Да потому, что сам Галич всегда говорил: — Почти каждый, кто издает книжку стихов, вызывает во мне восторженную зависть. У меня же ничего не издается, только пою свои песни по квартирам и вот так странно завидую каждому, у кого издаются книги. Кроме того, Галич был замечателен тем, что, когда он входил в магазин, — а при деньгах он любил ходить по магазинам, — мгновенно угадывал, что здесь хорошего и что нужно купить. Он всегда одевался с большим вкусом. Бывали и курьезные истории. Как-то, находясь на своей кухне, я услышал за стеной «народную» ругань, произносимую милым женским голосом. Встретив жену Галича на улице, я намекнул, что слышал что-то у них на кухне. Помню, она спросила: — Плохое? — Ну как сказать. Антисоветское. — Только-то, и слава Богу. Галич все свои знаменитые песни неоднократно пел в нашем доме. Вспоминается еще один фрагмент из прошлого. Помню, как-то мы сидели у него в квартире — я, писатель Войнович и Галич, других не запомнил — и ждали В. Некрасова, который должен был прибыть самолетом из Киева к 7 вечера. И представьте себе, идет час за часом, а Некрасова нет как нет. Позвонили в аэропорт — прилетел ли самолет. Отвечают, что уже два часа тому назад прилетел. Вот тогда-то Войнович, кажется, на чужой машине, поехал туда. Оказалось, что Некрасова задержали. Не помню, за что. Его долго допрашивали и наконец отпустили. Так что Войнович привез его только к полуночи. Именно в доме Галича я познакомился с академиком А. Сахаровым. И когда вышла книга к 60-летию А. Сахарова (он тогда был в ссылке), там были мои стихи и стихи Инны Львовны. Я прошел войну, знал голод и холод, но самое тяжелое в моей жизни — это наше участие в альманахе «Метрополь». Это было хорошее дело. У нас была редколлегия, составители альманаха — В. Аксенов, А. Битов, Ф. Искандер и молодые писатели В. Ерофеев и Е. Попов. Молодые делали всю, так сказать, механику. А ведь я был знаком с отцом и матерью В. Аксенова. Евгения Гинзбург отдыхала в Малеевке. Отец Василия когда-то был, как теперь говорят, мэром Казани, его посадили в тюрьму, затем и его жену. Она была умной женщиной, любившей жизнь. Но, что характерно, хоть и написала «Крутой маршрут», никогда не рассказывала о том мрачном времени. Вспоминала только хорошее — как отдыхала с семьей в Крыму, какие тогда пелись песни. Хорошо знала и любила поэзию. Ей очень понравились стихи Инны Львовны, особенно стихотворение «Судил меня Бог и щадил меня Бог». Это мне запомнилось потому, что Евгения Семеновна назвала их католическими и сказала, что сама — католичка. И вот когда из-за альманаха разразился скандал, мы с Аксеновым вышли из Союза писателей. Мы договаривались во времена альманаха, что если кого-нибудь из составителей исключат, то все остальные составители выйдут из Союза писателей. А если и другие участники так поступят, то будет хорошо. Мы с Лиснянской и были участниками. В. Аксенов уехал в Америку, а нас с Инной Львовной немало помучили, и дом переворачивали вверх дном, и вызывали, заявляли, что мы срываем договор ОСВ‑2. Не правда ли, забавно? В 1988 г. мы с Инной Львовной впервые после восьмилетнего перерыва поехали в Малеевку. Условия стали лучше, двухкомнатные номера с ванной и уборной. Но почему-то прежних друзей там не было. 6 мая 2000 г. Переделкино. Записали Н. В. Бабочкина, И. С. Борисов. Публикуется по изд.: Милая сердцу Малеевка: Сб. / Сост. Н. В. Бабочкина, И. С. Борисов. М., 2001.ОДНАЖДЫ В «ЗНАМЕНИ»…
«Знамя» (прежнее название «Локаф» — Литературное объединение Красной армии и флота) — было всегда журналом престижным. В нем печатались популярные произведения Эренбурга, Леонова, Ильфа и Петрова, Фадеева, Гроссмана, Твардовского. Из иностранных писателей — Хемингуэя. Редакция помещалась то в Леонтьевском переулке, то на Тверском бульваре, в двухэтажном здании, примыкавшем к Дому Герцена. Мои вещи в журнале печатались редко, главным образом переводы. Хочу рассказать не о себе, а о Гроссмане. Почему Гроссман решил отдать свой последний и впоследствии самый знаменитый роман — «Жизнь и судьба» — именно в «Знамя»? Прежде всего, конечно, причина — воспаленная обида на Твардовского, который вынужден был каяться в том, что поместил в «Новом мире» роман Гроссмана «За правое дело», подвергшийся жестокой, озлобленной партийной критике. Бессмысленно предполагать, что «Новый мир» напечатал бы «Жизнь и судьбу», но могу поручиться, что роман не был бы арестован, если бы рукопись была сдана автором в «Новый мир». Гроссман, понятно, не хотел иметь дело с отрекшимся от него редактором. Это была не только обида автора, но и бывшего близкого друга. Другая причина заключалась в том, что Гроссманом овладела странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливей казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов. Именно тогда, когда нервы Гроссмана были так напряжены, редактор «Знамени» В. М. Кожевников предложил ему отдать роман в «Знамя». Гроссман сидел без копейки, и Кожевников, имея, возможно, об этом сведения, обещал ему солидный аванс — под произведение, которое не читал. Гроссман согласился не сразу, пробовал испытать Кожевникова, предложил ему рассказ «Тиргартен», в свое время отвергнутый либеральным альманахом «Литературная Москва», редактируемым Э. Г. Казакевичем. «Знамя» пожелало рассказ напечатать. Кожевников довел его до верстки, но цензура запретила рассказ. Кожевников тут ни при чем, он не хитрил, он и впрямь хотел рассказ напечатать, сумел в этом убедить Гроссмана. И Гроссман окончательно решил связать судьбу романа со «Знаменем». 30 июля 1960 г. Гроссман мне писал: «„Знамя“ наседает, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи». Вскоре Гроссман окончательно завершил работу над романом. Перед тем как отдать рукопись в редакцию, Гроссман попросил меня прочесть весь роман снова и ответить ему на два вопроса. 1. Считаю ли я, что после неизбежных купюр, вставок, тяжелых и легких ранений есть все же реальная возможность того, что роман будет опубликован? 2. Какие места, по-моему, следует снять заранее, — такие, что даже показывать нельзя? И вот я прочел «Жизнь и судьбу» в третий раз и, как нередко бывает, нашел много прекрасного, раньше мною не замеченного, со всей силой почувствовал свое приобщение к художественному познанию человека в мире и мира в человеке. Окончив чтение, я отвез две тяжелые папки на Беговую. На первый вопрос я ответил Гроссману так: нет никакой возможности, что роман опубликуют. Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был литераторам достаточно известен. На лице Гроссмана появилось злое выражение: «Что же, — спросил он, — ты считаешь, что, когда они прочтут, меня посадят?» — «Есть такая опасность», — сказал я. — «И нет никакой возможности напечатать, даже оскопив книгу?» — «Нет никакой возможности. Не то что Кожевников, — Твардовский не напечатает. Но ему показать можно. Он не только талант, но и порядочный человек». Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали: «Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть столетья прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна, пока меня били и топтали, спокойно переводил своих восточных клиентов, предаваясь холе и неге». Я подумал, что Гроссман ко мне несправедлив. Я делал при Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам говорил, что попытки эти напрасны. В конце разговора я сказал: — Вася, у тебя дико расставлены знаки препинания. Я попытался выправить, надо перенести правку в другие экземпляры. Гроссман обозлился, вспылил: «Ты, кроме знаков препинания, ничего в романе не заметил». Встретившись с моим изумленным взглядом, он быстро обнял меня, слезы стояли в его глазах. Роман был сдан в «Знамя». Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от «Знамени» — ни звука. Вконец измученный, Гроссман надумал вот что. В это время сильно пошел в литературно-бюрократическую гору Николай Чуковский. Он стал членом редколлегии «Знамени». Гроссман и я с ним дружили, потом разошлись. Я продолжал с ним встречаться только на переводческих заседаниях. Гроссман поручил мне порасспросить нашего бывшего приятеля. Коля охотно откликнулся на мой вопрос: — Я не читал роман Василия Семеновича. Насколько я знаю, не читали и другие беспартийные члены редколлегии. В редакции говорят, что роман прячут от всех Кожевников, Кривицкий и Скорино. На прошлой неделе мы поехали на читательскую конференцию в Ленинград. Я был в одном купе с Кожевниковым, спросил его о романе Гроссмана. Он буркнул: «Подвел нас Гроссман» и перевел разговор на другую тему. Наконец Гроссмана вызвали на заседание редколлегии. Он не пошел. Ему прислали стенограмму. Все выступавшие, среди которых малюты Скуратовы чередовались с Тартюфами, единодушно отвергли роман как произведение антисоветское, очернительное. Николай Чуковский в заседании не участвовал. В феврале 1961 г. роман был арестован. После ареста, в тот же день, Гроссман меня позвал к себе и подробно рассказал, как происходил арест. Не буду на этом останавливаться, так как об аресте написал в книге «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», впервые опубликованной в Америке. Хочу только сообщить вот что. За несколько месяцев до ареста романа Гроссман помирился с Твардовским. Александр Трифонович сказал: «Дай мне роман почитать, просто почитать». И Гроссман отвез ему роман в редакцию «Нового мира», видимо, с некой тайной надеждой. После ареста романа (изъяли экземпляр и в «Новом мире») к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: «Нельзя у нас правду писать, нет свободы». Говорил: «Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены. Но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь». По словам Твардовского, рукопись романа была передана «куда надо» Кожевниковым. Через три года после ареста романа Гроссман скончался в 1‑й Градской больнице. По решению руководства Московского отделения Союза писателей была создана комиссия по литературному наследию Гроссмана в таком составе: Березко (председатель), Твардовский, Письменный, Галин, Козлова (ЦГАЛИ), Ольга Михайловна и я. Председательское место сначала предложили Твардовскому, мы этого желали, но Твардовский от председательства отказался, сославшись на свою занятость в качестве редактора «Нового мира». Мне поручили сообщать Твардовскому о заседаниях нашей комиссии. Однажды, после моего очередного сообщения, Твардовский сказал: «Гроссман был человеком честным, порядочным, но писателем средним». Эти слова меня поразили. Раньше Твардовский так не думал и не говорил. Возможно, в его понимании великого таланта Гроссман был вытеснен Солженицыным. «Жизнь и судьба», слава Богу, был напечатан не только за границей, но и в России, в которой многое изменилось. Я знаком сейчас с тремя журналами. Если «Новый мир» фундаментален, «Дружба народов» ярка, то «Знамя» жизнелюбиво и, несмотря на свои 70 лет, молодо и свежо. Публикуется по изд.: Знамя. 2001. № 1.<О КАВЕРИНЕ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ>
С Кавериным я познакомился вскоре после войны, мы были некоторое время соседями на Беговой улице, в двухэтажных домах, только что отстроенных пленными немцами. В 1948 г. рядом с нами поселились Заболоцкий и Гроссман, наши отношения окрепли. Но по-настоящему и тесно я подружился с Кавериным, когда мы с Инной Лиснянской вышли из Союза писателей и по совету Каверина недорого сняли две комнаты на даче у вдовы литературоведа Степанова, его близкого друга. Дача была напротив каверинской, и мы с Вениамином Александровичем, очень любящим длинные прогулки, почти ежедневно подолгу гуляли. Дорогой беседовали на политические, но чаще на литературные темы. Меня удивляла одна его черта: знаменитый писатель, он сомневался в себе. Давал читать свои вещи и с волнением выслушивал мнение, советы. Часто соглашался с замечаниями. Принимал их не только к сведению, но и делал изменения в рукописи. А ведь был так широко известен, его роман «Два капитана» и другие вещи запоем читали люди всех возрастов. Когда он, молодым, начал печататься, всевластный в ту пору РАПП обвинял его в формализме, в те времена серьезная опасность. Сюжеты его романов сложные, порой почти детективные, таковы его популярные романы об ученых — «Исполнение желаний», «Открытая книга». Поэтому удивляло то, с каким радостным удивлением выслушивал Каверин похвалы от своих более молодых коллег, выслушивал как начинающий. Много доброго делал Каверин для писателей, которых ценил. Он занимался наследием Тынянова, в тяжелые для Зощенко годы в связи с известным ждановским постановлением всячески, насколько я знаю, помогал Зощенко материально. Из своих современников высоко ценил Василия Гроссмана, Анатолия Рыбакова. Когда после часу дня мы с ним гуляли по Переделкину, часто доходили до дачи Рыбакова, видели его в окне, и Каверин с любовью говорил: «Работает лысый!» Очень высоко ставил Солженицына и сокрушался, что его выслали: как не хватает великого писателя именно здесь и сейчас. Из более тогда молодых Каверин в разговорах особенно отмечал прозу Войновича и Георгия Владимова. И когда Владимов перед вынужденной эмиграцией попросил меня познакомить его с Кавериным, Вениамин Александрович чрезвычайно тепло и широко принял нас с Владимовым. А ведь мы были людьми «опасными» — слежка шла по пятам. Из поэтов высоко ценил Пастернака, Ахматову, Мандельштама, из следующего поколения — Заболоцкого и Арсения Тарковского, а еще из более следующего Лиснянскую и Ахмадулину. И если вернуться к тому, как мы с Инной и Кавериным гуляли по Переделкину, то невозможно не вспомнить, как мы молчком продвигались, когда навстречу шел Катаев. Каверин и Катаев не только не разговаривали друг с другом, даже не раскланивались. Естественно, мы с Инной Львовной испытывали некоторое замешательство, ибо с Катаевым и здоровались и частенько общались, чего, естественно, не скрывали от Каверина Однажды, после очередного замешательства, я, чтобы скрыть неловкость, напомнил одну историю, связанную с сыном Каверина Колей, ныне профессором, и мы развеселились. А история такова: Коля, еще ученик младших классов, прибежал из школы домой с вопросом: «Папа, кто такие евреи?» — «Нация. Вот мы, например, евреи». «Мы евреи?» — с огромным удивлением переспросил мальчик. Когда Пастернака исключали из Союза писателей, Каверин один из немногих не пошел на собрание. Таких соответствующие органы сразу брали на заметку. А когда запретили печатание повести Солженицына «Раковый корпус», Каверин на собрании дал бой запретителям. По этому поводу он выступил с «открытым письмом» к Федину, с письмом, прогремевшим на весь мир. А за два года до своего открытого письма, в 1966 г., Каверин поддержал письмо Солженицына, направленное против цензуры и адресованное Четвертому съезду писателей. Каверину исполнилось 100 лет со дня рождения, писателю суждена более долгая жизнь. <2002> Публикуется впервые по рукописи из семейного архива. Публикация И. Л. Лиснянской.Я СЧАСТЬЕ ОТРАБОТАЛ НЕ ТОЛЬКО СТИХАМИ
Последнее выступление Семена Липкина
Я хочу вам прочесть страничку, которую я назвал «Ответственность текста». В эти дни в основе нашего внимания творчество молодых русских поэтов, прозаиков и критиков, чей возраст от 20 до 45 лет. Может быть, вас удивляет, что я говорю о поэтах — поэтов приехало мало. Но прозаик — он тот же поэт. Разве «Мертвые души» не поэтическое произведение? Особенно радует молодость критиков. Есть надежда, что они свежее поймут творчество своих сверстников. Мы имеем дело с одной из самых молодых литератур Европы. Итальянец Петрарка возник в XIII в., француз Рабле в XV в., Шекспир в XV, Сервантес в XVI. В XVII в. появился первый российский поэт Симеон Полоцкий, использовавший польско-украинский силлабический стих, но почти в том же веке в семье северного некрепостного крестьянина родился великий создатель российской поэзии Михаил Васильевич Ломоносов. Он окончил Славяно-греко-латинскую академию и создал тот стих, которым мы пишем в наши дни. Без этого великана не мог бы возникнуть другой великий — Державин. Вспомним его чудо — стихи на смерть полководца Суворова. Кто из нас не позавидует гениальной музыке этой строки «Флейте подобно милый снегирь». Стихи Державина были началом великой поэзии и прозы Пушкина, Баратынского, Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Достоевского, Чехова, Солженицына. Они явили нам ответственность текста, т. е. чтобы в литературном произведении была мысль, музыка, живопись, страсть и ничего лишнего. Ответственность текста и есть талант. Не забудем старую истину: талант — большая редкость. Если в эти нужные дни среди молодых пишущих мы обретем пять талантов — всего пять талантов — это будет большой успех, большая радость России. Откровенно говоря, особенно радостно будет мне, в мой 91‑й год жизни. То, что я нахожусь среди вас — подарок жизни. И я хочу прочесть вам три стихотворения, если вы не против. Но если вы меня пригласили, не думаю, что кто-то будет против. <С. Л. читает стихотворения «Имена», «На Тянь-Шане»> Я последнее стихотворение прочту, чтобы дать вам возможность работать. < С. Л. читает стихотворение «Молдавский язык»> Спасибо за то, что вы меня слушали. Я вам желаю, прежде всего, хорошо писать. Если бы вы знали, как это трудно, вы, молодые. Это необходимо. В России великая проза, и мы должны служить России. Спасибо вам. Вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы всю жизнь прожили в литературе, и когда Вы вспоминаете вашу долгую жизнь в литературе, какой момент был самым главным, самым трудным, самым ответственным? Ответ. Я писал не то, что было нужно советской власти, поэтому самым трудным и ответственным моментом моей жизни была вся моя жизнь. Я первую свою книгу стихов издал, когда мне было уже 56 лет. До этого я не мог издавать. Единственный редактор, который меня издавал, был Твардовский в «Новом мире». Но стоило ему напечатать одно мое совершенно не страшное, как говорится, стихотворение, как в «Известиях» были нападки на это стихотворение. Твардовский вызвал меня и сказал: «Отвечать не будем, печатать будем». Но когда я принес, отказал. Правда, вскоре опять пошло. Ну, а то, что я написал, полностью печаталось уже после того, как исчезла советская власть, в журналах. Все, кроме прозы, напечатано в книге «Семь десятилетий» в издательстве «Возвращение» — все это на самом деле писалось в течение 70 лет. Вот все, что я могу вам сказать. Вопрос. Как известно, Ваша книга вышла с предисловием Иосифа Бродского 1, где он в чрезвычайно превосходных выражениях говорит о вашей поэзии. Что Вы можете сказать о стихах Бродского и его месте в русской поэзии? Ответ. Я вас немного рассмешу. У меня есть детская привычка. Я считаю, кто в XX в. есть великие поэты, называю по алфавиту: Анненский, Ахматова, Белый, Блок, Бунин, Мандельштам, Пастернак, Ходасевич, Цветаева. Потом идет другая группа, которую я называю просто прекрасной — здесь Бродский на первом месте — по алфавиту. Бродский очень большой поэт, оригинальный, новый, смелый. Мы с ним не были знакомы, я его никогда не видел. Однажды я пришел навестить в больницу моего друга Анну Андреевну Ахматову. Оказалось, что она в палате, где восемь или двенадцать человек, и мне велели подождать. У нее кто-то сидел. Это был мальчик, рыжий. И я думаю, не был ли это Бродский. Потому что и мальчик, и рыжий. Насколько это верно, не знаю. Вопрос. Трудно ли Вам было работать над эпосами различных народов, углубляться в историю этих народов? Ответ. Я изучил персидский язык. Или таджикский — это один язык. Потому что мне поручили переводить Фирдоуси, и я решил изучить этот язык. Сейчас, когда мне пошел 91 год, я много слов забыл. Гуляя в доме творчества, я встретил молодых. Один из них меня узнал, заговорил по-таджикски. Я ему ответил. Теперь мне было бы уже трудно. Другие вещи в таджикском языке я переводил уже по подстрочнику. Подстрочник был научный. Очень много я перевел Махабхараты — индийского эпоса. Я приехал в Индию и был хорошо встречен — считалось, что я хорошо перевожу. Но я изучал грамматику. Мне трудно было изучать целый язык, но много слов я знал. Ведь первая моя работа была переводом калмыцкого эпоса, который был потом переведен на многие языки. Я тогда много слов изучил. Теперь забыл. Честно скажу, забыл. Вопрос. Поддерживаете ли связь с Калмыкией? Ответ. С Калмыкией я поддерживаю связь и они поддерживают связь. Мне присудили звание героя Калмыкии. Руководство приходило ко мне, мой ученик Кугультинов стал теперь первым поэтом Калмыкии. Вообще для меня Калмыкия — это молодость, моя первая работа, которая вызвала большой интерес в России. Когда праздновали юбилей 500-летний [1], приехали крупнейшие писатели — те, кто тогда считались крупнейшими писателями. Конечно, Фадеев как главный в Союзе писателей и другие. Это моя молодость и даже мое счастье. Я добавлю, что я это счастье отработал не только стихами. Когда началась война, я служил моряком на Балтике, но потом создали дивизию и меня вызвали. Я вступил в калмыцкую дивизию. Это было трудное время. Нас разбили. Мы попали в окружение. Об этом рассказывать тяжело, но мы вышли. Воюя, хитря, вышли. <…> Выступление в октябре 2002 г. на открытии семинара молодых писателей «Ответственность текста» в Звенигороде. Публикуется по изд.: Полит. ру. Вып. от 2.4.2003, http://www.polit.ru/country/2003/04/02/613674.html. 1 Книга С. И. Липкина «Воля» была подготовлена к печати И. А. Бродским, но предисловия не имела. На последней странице обложки были приведены фрагмент о С. И. Липкине из «Записок об Анне Ахматовой» Л. Чуковской, отзыв В. Аксенова и издательская аннотация.Я ТАНЦЕВАЛ ЛЕЗГИНКУ
<Ответ на вопрос редакции «Полит. Ру» о дне смерти Сталина>
Мы жили с Василием Гроссманом у меня на даче в Ильинке. У Гроссмана дела тогда были плохи (его роман «За правое дело» был подвергнут разгромной критике). У нас в доме была женщина, которая топила печку. Вдруг она сказала, что слышала о болезни Сталина. Мы не поверили этому счастью, пошли на станцию, чтобы посмотреть, написано ли в газете, что он заболел. Когда убедились в этом, купили бутылку вина и тут же распили ее. Мы чувствовали себя абсолютно счастливыми. Значит, уже сдох! В тот день я первый и последний раз в жизни танцевал лезгинку. Вообще-то я не танцую. 28 февраля 2003? Публикуется по изд.: Полит. ру. Вып. от 28.02.2003, http://www.polit.ru/country/2003/02/28/607258.htmlЗАМЕТКИ ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ
Март 2001
Вечер. Подмосковное, необычайно звездное первобытное небо грозно освещает березы и сосны и, наверно, широкую ель у входа в дом. Утром, проснувшись, открыл занавеску окна. Падал мелкий, но настойчивый снег. Так длилось до полудня. Снег затих, стал белым покрывалом дачной земли. Деревья задумались. О чем? Может быть, о том, что они ближе к небу, чем этот многочасовый, с неба упавший снег. В 1928 г., когда родилась Инна, я, 17-летний, закончил художественную профшколу. Решил, что через год, как мне советовал Багрицкий, поеду учиться в Москву. Чем я был занят весь этот год? Каждый день писал стихи, по субботам посещал литературный кружок «Станок» при газете «Одесские известия», был принят в «Южнорусское общество писателей», чем гордился. С утра подметал мастерскую, часто приходилось стоять в длинной очереди в Финотдел, платил налоги, иногда относил сшитую отцом одежду заказчикам, читал сказки семилетней Кларе и пятилетнему Мише. Вторая половина дня целиком принадлежала мне. Это время я проводил в нашей замечательной публичной библиотеке на Херсонской улице. Читал много, больше всего любил книги по истории — Ключевского, Соловьева, по философии — Канта, Шпенглера и, конечно, стихи, начиная с Ломоносова и Державина и кончая русским XX веком. Выдавала книги пожилая женщина (потом узнал, что ей еще не было пятидесяти) восточного типа. Еврейка? Армянка? Ко мне относилась хорошо, видимо одобряя мою страсть к книге. Однажды я попросил у нее бунинского «Господина из Сан-Франциско». Она на меня странно посмотрела: — Вы знаете, что Бунин в эмиграции? — Поэтому его книги не выдаются? — Не всем. Хорошо, я вам выдам. Случилось так, что, когда я вернул прочитанную книгу, одна из библиотекарш позвала ее: — Цакни, тебя к телефону. На другой день я ей сказал: — У вас необычная фамилия. — Я гречанка. Разве вы не знаете, что я была женой Бунина? Я обомлел. Мне, конечно, хотелось спросить о писателе, обожаемом мною, но я стеснялся, моя ошибка. Она всегда встречала меня с улыбкой, выдавала ценные книги. Она держалась просто, думаю, что охотно ответила бы на мои вопросы, но я был глуп, ограничивался только обыкновенными словами, связанными с выдачей книг.Апрель 2001
Одесса была многонациональна. Русские (многие с украинскими фамилиями), евреи, армяне, греки (многие, такие как Цакни, со смешанной кровью), поляки, малочисленные французы, караимы, турки. Отдельной жизнью от русских жили, может быть, наиболее русские — старообрядцы, все, как правило, зажиточные. У каждой нации были свои храмы, разумеется, наиболее большие — у православных, у которых была главная церковь — собор, сразу же разрушенный большевиками, когда они взяли город. Даже у немногочисленных французов был свой храм — Святого Петра в конце Гаванной, за этим храмом начинался спуск в порт. Гаванная была улицей богатой, перпендикулярной Дерибасовской, наискосок от французского храма, напротив него была на втором этаже портновская мастерская Корчина, отца поэта Семена Кирсанова. В раннем детстве я любил посещать этот храм, знал их праздничные дни, входил с благоговением, которое я не мог бы объяснить. Верующие ко мне относились спокойно, даже хорошо, только из караимской кинессы, казалось бы, наиболее близкой евреям, меня сердито прогоняли. Больше всех мне нравилась греческая церковь на Екатерининской, если не ошибаюсь, между Троицкой и Успенской, на стенах были нарисованы розовые цветы. Когда, приехав в Одессу, я привел в греческую церковь Инну, она вспомнила, что такие же розовые цветы были нарисованы на стенах в ее родном доме в Баку. В середине 80‑х годов я прочел древнюю книгу о Гильгамеше. Написал ее известный ученый И. М. Дьяконов, между прочим, брат моего приятеля М. М. Дьяконова, профессора-ираниста. Книга строго научная, разделенная на таблицы, текст сливается с примечаниями, порой обширными, всегда очень нужными. Большое событие в области востоковедения. Переведена книга Дьяконова с аккадского, одного из древних семитских языков. Среди множества богов — трое главных: Шймаш — бог Солнца, Эллйль — бог воздуха и населенной Земли, мудрый воитель, и Ану — прародитель богов. Меня заинтересовал Эллйль — герой между богами, умнейший и наиболее жестокий из богов. Это он задумал потоп. Его имя близко к иудейскому Элохим, Элох, к арабскому Аллах (тоже два «л»). Описание потопа очень близко к описанию в Ветхом Завете. Да и имя бога Солнца Шамаш перекликается с ивритским словом шамш — Солнце. В аккадском эпосе нет имени Ноя, которому Бог сказал: «Собери говорящих, парящих и рычащих, мычащих…» Ной погрузил в ковчеге скот домашний и дикий, мастеров именитых. Как и в библейском сказании, семь ночей и семь дней бушевал ветер, описание потопа полностью сходно с библейским. Глава ковчега выпускает ворона. Тот быстро вернулся, испугавшись потопа. Был выпущен и голубь, но и тот в испуге вернулся в ковчег. Во рту у него был свежий масличный лист. Через семь дней голубь был выпущен снова, но не вернулся. Как в Библии, потоп окончился на восьмой день. Меня поразило не только сходство описания потопа в аккадском эпосе с Библией, но и то, что потоп задумал Эллиль, чье имя так похоже на иудейское Элохим. Кстати, суффикс «им» означает множественное число, следовательно, у евреев было многобожие. Вспомним, что отец Авраама был изготовителем идолов. Книга замечательного ученого меня потрясла. Некоторые строки были представлены латинскими буквами, и мне показалось, что я сумел бы найти метр и ритм подлинника на русском языке. Чтение аккадского эпоса проходило в наше с Инной тяжелое время: мы вышли из Союза писателей — страшный грех для советского человека. Разумеется, нас перестали печатать. Мои переводы восточной классики были запрещены, некоторые вещи быстро, без любви и знания, переводились заново. Но «Гильгамеш» так очаровал, околдовал меня, что я без надежды на публикацию решил изложить русскими стихами аккадский эпос. Работал страстно, с наслаждением, переложил около четырех песен из 12 таблиц (как назвал их И. М. Дьяконов), когда Инна отвезла меня в больницу к профессору Б. Б. Александрову: мне предстояла тяжелая и, по мнению Александрова, малонадежная онкологическая операция. Соседям по палате, в которой меня готовили к операции, я сказал, что служу в издательстве. Этим я объяснял посещение Ахмадулиной, вызвавшей шум и восторг в больнице. Еще больший шум вызвал посетивший меня некогда мой студент Расул Гамзатов. Меня спасли не только врачи, но и Инна, не отходившая от меня днем и ночью (с разрешения Александрова). После двух операций я провел некоторое время дома, перед тем как лечь на третью операцию к профессору Кану в другую больницу. Одним ранним утром к нам внезапно пришел С. Михалков с предложением написать заявление о восстановлении меня в Союзе писателей. У меня, изрезанного, не было сил написать или напечатать заявление, за наш письменный стол сел Михалков и под мою диктовку отстукал все нужное на машинке. Текст одобрил. На другой день, опять рано утром (он ночевал в одной из квартир в нашем доме), Михалков пришел снова и предложил заявление перепечатать. Я сказал: «Ты же вчера его одобрил». Он ответил: «Это было вчера». Оказалось, что я должен указать мои заслуги военные и гражданские, назвать ордена и медали, отметить таджикское лауреатское звание, титул Народного поэта Калмыкии. Не помню, был ли я уже снова членом Союза писателей, когда меня положили в третий раз в больницу, все кончилось благополучно. Наступил 1987 год. <…> Выздоровев, я начал печатать свои стихи и прозу, вышедшие раньше в Америке, в Германии, целиком погрузился в новые стихи. Работа над переводом «Гильгамеша» прервалась на много лет. В 1998 г. меня, старика, вновь охватила очарованность аккадским эпосом, охватила с новой силой, и я закончил перевод всех 12 песен (так я назвал таблицы) «Гильгамеша», предложив свою строфику и размер, как мне кажется, по духу близкие к подлиннику. И вот книга вышла в Петербурге с весьма для меня лестным послесловием великого ученого Вяч. Вс. Иванова, в издательстве «Пушкинский Фонд».Октябрь 2002
МНЕНИЕ Стихотворения Инны Лиснянской
Второе стихотворение «Сосед» посвящено поэту Олегу Чухонцеву. Черты пейзажа служат портрету соседа. Дачка затворника. Первая зелень срослась в сияющий купол. Задником (так неожиданно!) становится беглая вязь облачной кириллицы. Эпитет вязи, и особенно кириллицы, точны при всей своей неожиданности. В этой картине внезапно возникает жаба. Хозяин обходит ее граблями, как рыбу в реке веслом. При этом он толкует с закадычными друзьями — скворцами и синицами, он напоминает им даже, о чем забывает апрель, но помнит художник — о слоге внутри словаря, о том, что гордое дерево в действительности полно тайной робости, и даже то, что весьма некрасивая жаба прекрасна, потому что несет на своем горбе жабенка. Хозяин не потому поэт, что пишет стихи, а потому, что видит красоту даже в жабе. Стихотворение редкой, огромной силы, в нем живут мысль, музыка и живопись. Если вернуться к первому стихотворению «Мгновенное», то оно мне не кажется удачным. Автору нравится дыхание ветра, но чуждо дыханье молвы. Однако и молва бывает разная, бывает и необходимая, бывает и трагическая. Автору внушает радость — и это хорошо — ветер, как может ее внушать свежеиспеченный хлеб, но, нужный как хлеб, он одинаково равнодушен и к прошлому и к будущему. Третье стихотворение одически воспевает поэтессу Беллу Ахмадулину, известную всему миру, увы, мне чуждую. Но сама ода прекрасна. Голос воспеваемой из пуха и выдоха летних деревьев, из галактических нитей и ангельских перьев, и само стихотворение просто, «как уличное просторечье». Как свежо и нежно сказано! Вслед за одой возникает «Вербный день». Мы узнаем, что удивительная красавица Лилит создана Богом внутри адамовых вежд, и это сон, и он свеж, как измена супруге. Но любимый никогда не вспоминает Лилит, он любит ту, для которой сберег кусты прозорливой вербы, потому что говорит та, кто написала эти стихи: «Жена я твоя, Россия твоя». И не о Лилит поет на вербе маленькая птичка, а о том, что Христос воскреснет и к нам придет, и рассеянный народ соберет в одно целое. Я не помню, чтобы так просто и глубоко писали современники наши о любви. «Вербный день» будет жить долго, не один день. Вечная старая тема осталась вечной, но стала молодой. В стихотворении «Гиацинт», которое начинается с неумелой, невозможной рифмы «везет — аэропорт», поэт говорит о важном и большом — о распаде советской империи. Казалось бы, случилось то, что давно должно было случиться в разноязычной стране, с большей близостью, скажем, с Турцией или Персией, чем с Россией, но можем ли мы забыть, что поэтесса там родилась, там в военные годы бинтовала раненых, там, где была кровь привычней школьных чернил и земля становилась красной, как гиацинт. Я эту боль чувствую всем сердцем, русский труженик письма, я, оказалось, родился за границей, в Одессе, где родились многие знаменитые русские ученые, писатели, музыканты, актеры. Я понимаю боль Лиснянской, родившейся в заграничном ныне Баку, но она тоньше меня, не великих деятелей вспоминает, а просто гиацинт. Боже, как тяжело сложилась наша жизнь. В стихотворении «Во чреве полночи» все обычно. Четыре строфы, в которых мужские окончания чередуются с женскими, глагольные, бедные рифмы (вопрошает-выбирает, держась-родясь), тема взята из Ветхого Завета, мне знакомого с детства. Начинаются стихи с известного, но уже волнующего факта: «Исав выбирает плоть, Иаков дух выбирает». Но вот фраза, которая никогда не приходила мне в голову: «Неужто уже во чреве, еще не родясь, / Праведник-брат слабее, чем брат-убийца». Эти две строки поразили меня: неужели всегда праведник слабее грешника? И все же поэт выбирает не плоть, а дух, хотя и ищет в утробе ночи телесную опору. В этом выборе — величье Божьего создания. Просто, без высоких фраз, без мнимого новаторства, поэт говорит то, что всегда будет жить, всегда будет ново. Стихотворение «Четыре руки», к стыду моему, мне не всегда понятно. Мне неизвестен древний миф, в котором четыре руки протянуты через лето, а четыре реки протекают по саду Света (Свет с большой буквы). Автор, видимо, в этом не виноват, виноват я, читатель. И все же неизвестный мне миф прекрасно разворачивается. Оказывается, у четырех рек есть могучая стража — 300 ангелов, здесь для скромного есть приют «и нет лазейки проныре». Читаю дальше. Строфы хорошо написаны, но в них истины давно известные. Может быть, в самом начале, в первой строфе, должна была существовать ясность, доступная каждому. Последнее стихотворение в журнальной публикации великолепно. Оно умно, музыкально и ясно. Остро и глубоко замечено: «Меж смертных не бывает равенств, / Но путь у всех один». Неожиданное (потому что талантливо) обращение к близкому другу: «И если сравнивать с монетой, /Я — решка, ты — орел». Хочется целиком (потому что великолепна) процитировать последнюю строфу:Из переписки
«ИСТИННАЯ С. И. А — ДОБРОТА» (Два письма Василия Гроссмана)
Роясь в своем архиве, я неожиданно нашел два письма Гроссмана, которые теперь решил впервые опубликовать. В письме, отправленном мне в марте 1958 г. в Ташкент, есть крайне отрицательная оценка Гроссманом романа «Доктор Живаго». Я с этой оценкой не согласен. Не думаю, что пастернаковская проповедь христианства «далека от истинного христианства». Не думал так и Борис Зайцев, приветствовавший роман Пастернака как художник и христианин. Впрочем, Анна Ахматова, восхищаясь стихами в «Докторе Живаго», отозвалась о романе так: «Не умеет рисовать людей» (фразу цитирую по памяти). В то же время мне близки и дороги (поэтому и публикую их) слова Гроссмана, вслед за Толстым и Чеховым горевавшего о «пришествии декадентства в самую великую из литератур, самую добрую, самую человечную». Мысль о доброте и человечности, о жалости к падшим, виновным Гроссман повторяет и в другом письме, отправленном мне в октябре того же года из крымского поселка недалеко от Коктебеля. Здесь лестная для меня — хотя и не без шипов — оценка переложения одного из эпизодов индийского эпоса «Махабхарата». Упоминание о Гослите и директоре издательства Владыкине связано с проектом (неосуществленным) издания сочинений Гроссмана. Слова: «Зайдешь в помещение, Беня…» — цитата из Бабеля. Горик — мой младший сын Георгий, теперь врач. Не помню, в связи с чем Гроссман его упоминает. Упоминаемые в письмах Ольга Михайловна и Екатерина Васильевна — это О. М. Губер, жена Гроссмана, и Е. В. Заболоцкая.Здравствуй, дорогой Сема, наконец получил твое письмо, тоже уже волновался, что долго не отвечаешь. Объяснял твое молчание тем, что ты переживаешь описанную тобой ситуацию, но не предвидел, что у тебя ячмень. Поэтому и волновался, — за твое здоровье, конечно. Я сейчас много работаю, без выходных. Спешу! Редакция «Знамени» стала просить меня, чтобы я дал им рассказы, которые не пошли в «Литературную] Москву». Я дал им читать «Тиргартен», «Лось», «Старая и молодая». Обещали на днях сообщить мне свое решение. Просили очень настойчиво, по-деловому. Говорили, что кто-то, кажется Казакевич, им говорил об этих рассказах. Жду ответа. В Гослите пока движения нет, им, правда, сейчас не до меня — у Владыкина были неприятности крупные за издание некоторых западных книг, — он, говорят, даже заболел. По такой же части были неприятности и у Чаковского. Прочел первый том и часть второго тома романа Пастернака. Приедешь, я подробно расскажу тебе свое впечатление. Оценка моя лежит не в сфере наших современных литературных дел и отношений. Как правильно говорили Толстой, Чехов о пришествии декадентства в самую великую из литератур, самую добрую, самую человечную. Как далека от истинного христианства эта пастернаковская проповедь христианства. Христианство лишь средство утверждения его особенной, талантливой, живаговской личности. Какая нищета таланта, равнодушного ковсему на свете, кроме самого себя, таланта, который не горюет о людях, не восхищается ими, не жалеет их, не любит их, а любит лишь себя, восхищен «самосозерцанием духа своего». Худо нашей литературе! И не только потому, что на свете есть Софроновы, Панферовы, Грибачевы. И это худо предвидел Лев Толстой. Но Лев Толстой не предвидел декадентства в терновом венке, декадента в короленковской ситуации. Это не шуточное зрелище, есть над чем подумать. Приедешь, поговорим об этом. Когда-то Гете сказал: «Если в душе великого человека есть темнота, то уж и темно там!» Можно прибавить: «Если в душе таланта есть пустота, то уж и пусто там!» Читаю сейчас шеститомные мемуары Черчилля, прочел первые два тома. Много интересного, но есть и неинтересное. Интересен он сам — бульдог от демократии с примесью Стивы Облонского. В этой страшной буре он чувствовал себя в своей тарелке. Ладно уж, ты понимаешь, что об этом можно писать так длинно, что нет смысла писать. Зайдешь в помещение, Беня, — поговорим. В общем, все соображения, Семушка, клонятся к тому, что пора уж расстаться с Ташкентом и приехать в Москву. Кого ты назвал чемпионом слалома? Я ломал голову, не мог понять. Звонил я вчера Фраерманам, старик здоров, — очень зовут к себе. Целую тебя. Вася. Привет от Ек. Вас. 29.111.58 г. Напиши, сообщи, когда приедешь.<1>
Дорогой Сема, хочу написать тебе несколько слов по поводу книги Махабхараты — «Сожжение змей». Во-первых, спасибо, что прислал ее. Я прочел ее внимательно, некоторые главы читал вслух Ольге Михайловне. С твоей легкой руки я знаком с Манасом, Джангаром, Нартами. Случилось мне прочесть Илиаду и Одиссею. Сразу бросается в глаза внутреннее глубокое различие (так у Гроссмана. — С. Л.) «Сожжения змей» от этих древних легенд. Оно — в человечности. Человечность — не только в ситуациях и положениях и в основных первичных понятиях, таких как понятие силы, справедливости, права. Истинная сила — доброта. Справедливость — в человечности. Жалость к падшим, к слабым, виновным. А ведь древние эпосы совершенно безжалостны, написаны тиграми. Драма сожжения змей вне государства, вне национального, вне народного величия, вне военной силы. Это драма человеческой души, плохого в ней и хорошего. Думаю, что самый серьезный и главный успех твой в работе над переводом «Сожжения змей» в том, что ты остро ощутил эту особенность индийского эпоса и смело, резко подчеркнул ее определяющее значение. Этот твой успех главный — потому что он выше стихотворческого и переводческого твоего умения, он — твой человеческий успех. Перевод, мне кажется, выполнен превосходно. Особенно хороши две последние главы — музыкальны, плавны, торжественны. А главное — в них подтекст, который всегда воспринимается внутренним, неясным ощущением, приобретает почти такую же силу, как текст, обретает форму, ритм, мелодию. Чтоб уберечь тебя от гордыни, к которой ты так склонен, напомню тебе, что и на солнце есть блохи. Две из них приведу тебе. На стр.52 написано: …но в темной глуши не нашел антилопы. Еще не бывало, чтоб грозный и дикий, Чтоб раненый зверь ускользал от владыки. Получается, что антилопа грозный и дикий зверь. А она ведь сама кротость, символ беспомощности и робости. Да и вообще рифмовать антилопу в силу ее некоторых особенностей рискованно. Горик знает об этом. На стр.132 написано: «Явились прислужники с маслом топленым». Речь идет о том, чтобы лить масло в огонь. Но ведь топленое масло материя твердая. Лить в огонь можно горячее, кипящее, жидкое, растопленное масло. Ну вот, дорогой мой, дело не в блохах, а в том, что есть хорошая книга. Хлеб… (так у Гроссмана. — С. Л.) главу Махабхараты кончим на этом. Целует тебя крепко недобрый змей Вася. 29 октября 1958 г. Напиши ответ, я его успею получить здесь. Публикуется по изд.: Вопросы литературы. 1997. № 1. С. 270–273. Вступительная заметка и публикация С. Липкина.<2>
ПИСЬМА С. И. ЛИПКИНА Л. К. ЧУКОВСКОЙ
Дорогая Лидия Корнеевна, спасибо Вам за книгу. Эти же слова скажут Вам и те, кто будет жить после нас. Читая Ваши Записи (записи? Или большой роман в жанре записей?), я и восхищался, и волновался, и думал, и даже иногда плакал, и даже не тогда, когда говорилось о тяжком. Очень нужными оказались предисловие и послесловие, они обозначили суть дела, а дело — непростое. Я не хочу сравнивать Вашу собеседницу с Гете, а Вас — с Эккерманом, но обязан сказать, что оба новых собеседника выше прославленных старых, потому что время, в котором жил великий Олимпиец, не идет ни в какое сравнение с нашим временем. Кое-кто из читавших до меня (Вам не знакомые) сказали мне: «Как хорошо, что ее (т. е. Вас) почти не видно». Это неверно. Вы видны, и очень отчетливо, и это хорошо. Спасибо. 23.6.1977 г. Публикуется по изд.: Знамя. 2005. № 8. «Сколько людей! — И все живые». Отзывы читателей о «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской. Предисловие, примечания и публикация Е. Ц. Чуковской.С. И. Липкин — Л. К. Чуковской
Милая Лидия Корнеевна, для Инны и для меня Ваше письмо явилось неожиданной радостью. Как хорошо, что биобиблиографическое любопытство прислало нам весточку от Вас. Отвечаю на вопросы по пунктам. 1. В КЛЭ кое-что напутано. Главными своими переводческими работами я считаю переложения народного эпоса — калмыцкого «Джангар» (об этом переводе первое доброе слово сказал в «Правде» Корней Иванович), киргизского — «Манас», кабардинского — «Нарты», индийского — «Махабхарата», переводы «Шахнаме» Фирдоуси, поэм Джами, Навои, Калидасы. 2. В каталоге библиотеки им. Ленина пропусков нет, все правильно. 3. С Анной Андреевной я познакомился дважды. В первый раз в мае 1943 г., когда я после Сталинградской победы получил отпуск на пять дней для свидания с матерью и ныне покойной сестрой, живших в Ташкенте. Нас познакомил, если не ошибаюсь, композитор Козловский. О моих литературных занятиях Анна Андреевна понятия не имела, да и я ей не говорил, но ее интересовало то, что я прибыл со Сталинградского фронта, что на мне форма морского офицера. Она показалась мне очень красивой, лучше, чем на известных мне портретах. Во второй раз (без воспоминания о первом) нас познакомила М. С. Петровых, на Беговой, в 1949 г. 4. В «Вопросах литературы» (года и месяца не помню, у меня в Москве этот номер есть) опубликована беседа с Анной Андреевной, в которой она перечисляет шесть-семь поэтов, ей нравящихся, среди них — Петровых, Тарковский, я. По радио я услышал, что такое же мнение она высказала и во время своей заграничной поездки (выступал Адамович). В издательстве «Художественная литература» вышла книга избранных переводов Анны Андреевны с моим предисловием. В рецензии на мой сборник «Очевидец» в «Литер, газете» (1968 г.?) было написано, что Анна Андреевна присутствовала на моем вечере в ВТО. Я умолял ее не приходить, говорили, что там лифт не работает, но она с известным Вам упорством сказала, что должна прийти и придет. До сих пор сотрудники ВТО гордятся ее посещением. 5. У меня есть стихотворение, навеянное образом Анны Андреевны. Оно не опубликовано. 6. Я не помню, какие свои стихотворения я успел прочесть Анне Андреевне. Может быть, Вам интересно будет узнать следующее. На квартире у Нины Леонтьевны Шенгели я читал поэму «Техник-интендант». Анна Андреевна плакала. У меня есть ее книга с надписью: «Такому-то, чьи стихи я ценю (кажется, так), а один раз плакала». Я прошу извинения у Вас за тот странный разговор, который был у Вас по телефону. Это не первый случай. Конечно, в этом виновен и я, моя неправильная, нескладная жизнь. Я вспоминаю, как мы с Вами гуляли по Малеевке, Вы мне сказали, что я похож на Вашего брата, и так как я тогда был сердит на Н. К., то я глупо спросил: «Какого брата?» Вы на ходу читали Фета — «В каждый гвоздик душистой сирени…» Инна, к сожалению, не пишет и, к еще большему сожалению, переводит. Она Вам сердечно кланяется. 24.1.1979 г. Публикуется впервые по автографу из архива поэта. Черновик письма. Машинопись с авторской правкой. Письмо с вопросами Л. К. Чуковской не найдено. Публикация И. Л. Лиснянской. Подготовка текста Д. Полищука.С. И. Липкин — Л. К. Чуковской
С. И. ЛИПКИН И А. А. АХМАТОВА ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Письма
Дорогой Семен Израилевич! Посылаю Вам рукопись, в которой поправки, сделанные мною, отмечены красным карандашом, и книжку Ивана Франко. Очень прошу Вас, посмотрите опытным глазом и отдайте, пожалуйста, перепечатать, а затем передайте тов. ДОРОНЯНУ. Простите, что Вас беспокою, Вам скажут, как я заболела. P.[S.] Все это, к сожалению, страшно спешно, т. к. я получила телеграмму от Турганова о том, что пришла верстка и они очень торопят. Ахм. [04.06.1958 г.]1. А. А. Ахматова — С. И. Липкину
Дорогая Анна Андреевна, поскорее выздоравливайте, — что Вам стоит? А между тем не только Вам, но и нам стало бы от этого хорошо. Я надеюсь, что скоро увижу Вас в Москве. Все исправления Франко я перепечатал, посылаю Вам оригиналы, — [а] вдруг пригодятся. [Всю] рукопись я передал моему опасному соседу — Турганову. Книжечку Франко оставил у себя. Ради бога, [выздоравливайте] Станьте вновь здоровой и веселой.2. С. И. Липкин — А. А. Ахматовой
ПИСЬМО ПОЛУЧИЛА БЛАГОДАРЮ ЗА ВСЕ НАЧИНАЮ ОЖИВАТЬ ПОЗВОНЮ = АХМАТОВА =3. А. А. Ахматова — С. И. Липкину
Дорогой Друг, с ужасом узнала о постигшем Вас горе. По своему опыту знаю, что при этом не может быть никаких утешений, кроме одного: Слава Богу, что я пережил свою мать, а не она — меня. Часто думаю о Вас. Берегите себя для детей и для Музы. Приеду — позвоню. Анна Ахматова 18 сентября 1964 Ленинград Надписи на книгах 5. А. А. Ахматова С. И. Липкину. На книге «Из шести книг» (Л., 1940). С. Липкину / поэту и другу / Ахматова / 8 ноября / 1957 / Москва 6. А. А. Ахматова С. И. Липкину. На книге «Стихотворения» (М., 1961). С. Липкину, чьи / стихи я всегда слышу, / а один раз плакала / Ахматова / 6 июля / 1961 / Ордынка 7. А. А. Ахматова С. И. Липкину. На книге «Бег времени» (М.; Л., 1965). С. Липкину / Поэту, который знает, что / такое стихи / дружески / в долготу дней / 10 января 1966 / Москва4. А. А. Ахматова — С. И. Липкину
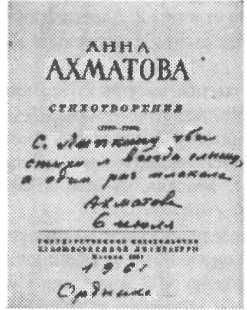 8. С. И. Липкин А. А. Ахматовой
Надпись на книге «Манас Великодушный»
Быть может, на улице Конницы, В спокойствии позднего часа, Вы, средство ища от бессонницы, Загляните в юрту Манаса. И жизни оседлой коллизии Развеются, пусть на мгновение, Кочующим ветром Киргизии, В котором песок и забвение.
Публикуется впервые по автографам из архива поэта. Сохранена орфография и пунктуация оригиналов. 1–3 относятся к работе А. А. Ахматовой над ее переводами для седьмого, стихотворного, тома собрания сочинений Ивана Франко, вышедшего в «Гослитиздате» в 1958 г. под ред. и с примеч. Б. А. Турганова.
1. Машинопись, подпись от руки. Датируется по штемпелю на конверте.
Адрес: Москва, 2-ая Аэропортовская, д.7/15, кв 36. Семену Израилевичу Липкину. тел. № Д-7-18-72. От А. А. Ахматовой. Штемпель: Москва, Д-167, 4658-0 [04.06.1958].
2. Рукописный черновик. Без даты. В квадратных скобках приведены зачеркнутые места.
3. Телеграмма. Без даты. Предположительно ответ на 2. Адреса: Москва,
Вторая Аэропортовская, 7/15, кв.36. Семену Израилевичу Липкину; Комарово Л НГ 7 18 1717.
4. Заказное письмо. От руки. По поводу смерти матери С. И. Липкина, Розалии Моисеевны Липкиной. Адреса: Москва, Д-319, 2-ая Аэропортовская, д.7/15, кв.36. Семену Израилевичу Липкину; П-136, ул. Ленина, 34, кв.23. Ахматова. Штемпели: Ленинград, П-136, 3096418 [30.09.1964], Москва, А-319, 1106419 [01.10.1964].
5-7. Косой чертой обозначено графическое деление текста на строки.
8. На отдельном листе. Заглавие от руки, основной текст машинопись. Предположительно надпись была сделана на 3‑м издании книги «Манас Великодушный», вышедшем в «Детгизе» в 1958 г., но в любом случае между 1952–1961 гг., когда А. А. Ахматова проживала в Ленинграде на улице Красной Конницы (Кавалергардская).
Публикация И. Л. Лиснянской. Подготовка текста и примечания Д. Полищука.
8. С. И. Липкин А. А. Ахматовой
Надпись на книге «Манас Великодушный»
Быть может, на улице Конницы, В спокойствии позднего часа, Вы, средство ища от бессонницы, Загляните в юрту Манаса. И жизни оседлой коллизии Развеются, пусть на мгновение, Кочующим ветром Киргизии, В котором песок и забвение.
Публикуется впервые по автографам из архива поэта. Сохранена орфография и пунктуация оригиналов. 1–3 относятся к работе А. А. Ахматовой над ее переводами для седьмого, стихотворного, тома собрания сочинений Ивана Франко, вышедшего в «Гослитиздате» в 1958 г. под ред. и с примеч. Б. А. Турганова.
1. Машинопись, подпись от руки. Датируется по штемпелю на конверте.
Адрес: Москва, 2-ая Аэропортовская, д.7/15, кв 36. Семену Израилевичу Липкину. тел. № Д-7-18-72. От А. А. Ахматовой. Штемпель: Москва, Д-167, 4658-0 [04.06.1958].
2. Рукописный черновик. Без даты. В квадратных скобках приведены зачеркнутые места.
3. Телеграмма. Без даты. Предположительно ответ на 2. Адреса: Москва,
Вторая Аэропортовская, 7/15, кв.36. Семену Израилевичу Липкину; Комарово Л НГ 7 18 1717.
4. Заказное письмо. От руки. По поводу смерти матери С. И. Липкина, Розалии Моисеевны Липкиной. Адреса: Москва, Д-319, 2-ая Аэропортовская, д.7/15, кв.36. Семену Израилевичу Липкину; П-136, ул. Ленина, 34, кв.23. Ахматова. Штемпели: Ленинград, П-136, 3096418 [30.09.1964], Москва, А-319, 1106419 [01.10.1964].
5-7. Косой чертой обозначено графическое деление текста на строки.
8. На отдельном листе. Заглавие от руки, основной текст машинопись. Предположительно надпись была сделана на 3‑м издании книги «Манас Великодушный», вышедшем в «Детгизе» в 1958 г., но в любом случае между 1952–1961 гг., когда А. А. Ахматова проживала в Ленинграде на улице Красной Конницы (Кавалергардская).
Публикация И. Л. Лиснянской. Подготовка текста и примечания Д. Полищука.
ОБРАЗ И ДАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ Открытое письмо
Секретарям Союза писателей СССР Секретарям Союза писателей РСФСР Секретарям московской писательской организации Членам редакционной коллегии «Литературной газеты» Членам редакционной коллегии «Литературной России» Членам редакционной коллегии «Московского литератора»
Глубокоуважаемые товарищи! Видные писатели и сотрудники аппарата, выполняя порученное им задание, проводили со мной долгие беседы об альманахе «Метрополь». Я не мог им ответить с достаточной обстоятельностью, так как, не будучи составителем «Метрополя», был знаком только с некоторыми работами альманаха. Из «Московского литератора» я сперва узнал, что произведения четырех писателей, мои в том числе, служат фиговыми листками, прикрывающими литературный срам, а затем та же газета опубликовала подборку отрицательных отзывов об альманахе почти 30 членов Союза писателей. Работая в советской литературе 50 лет, я, конечно, научился разбираться в механизме такого рода подборок, но меня смущало то, что среди осудителей было несколько людей одаренных. Мое смущение усугублялось тем, что не все участники альманаха были мне близки как художники. Ьо мне поселилась тревога. Но вот последовали дни и недели, в течение которых кое-кто из осудителей стал заявлять знакомым и составителям устно, а один письменно, что их отзывы газетой искажены, что не нравятся отдельные произведения, а в целом альманах хороший или даже очень хороший. Наконец я прочел весь альманах и, положа руку на сердце, могу теперь сказать: альманах действительно очень хороший. Может быть, мне как участнику альманаха или, пуще того, как рядовому члену союза писателей не пристало высказывать свои суждения руководителям Союза, но отвечу я: во-первых, мои настойчивые собеседники требовали от меня, чтобы я высказался, а во-вторых, некоторую надежду придает мне то, что к моему мнению, не всегда с ним соглашаясь, прислушивались Мандельштам и Ахматова, Василий Гроссман и Платонов. А вдруг прислушаетесь и вы? В альманахе есть то, что Шекспир называл «образом и давлением времени». Огромное художественное наслаждение доставили мне рассказы молодого писателя Евгения Попова, который вошел в литературу, напутствуемый Василием Шукшиным. Ткань этих сибирских рассказов насыщена прочными, яркими красками, из слов рождаются не заводные куклы, а люди, тепловая энергия жизни. В отличие от несравненного Зощенко, который своих героев не любил (Попов, как и Зощенко, продолжает линию сказа), молодой писатель любит своих незадачливых героев, а известно, что искусство возникает тогда, когда сочувствие к людям сочетается с артистизмом чувства. Мне думается, что Фридрих Горенштейн 1 (имя мне доселе незнакомое) — серьезный писатель. Его Юрий Дмитриевич, Зина, слепорожденный Аким Борисыч, считающий себя выше и счастливей ослепших, — это характеры «капитальные», как любил выражаться Достоевский, характеры, обнаруженные автором «Ступеней». Учительский дух нашей отечественной литературы стал источником ее бессмертия, и Фридрих Горенштейн мучительно-страстно развивает проповедническую сущность русской художественной мысли, Тридцатилетний Виктор Ерофеев обратил на себя мое внимание исследованиями, посвященными необычной личности де Сада, трудам Льва Шестова. В «Метрополе» опубликованы три его рассказа. Первые два я не отнес бы к его удачам, но третий рассказ, «Трехглавое детище», принадлежит к лучшим произведениям альманаха. Мастерски нарисованы престижный дачный поселок, сотрудники и коридоры института, страшная гибель Наденьки и не менее страшная гибель души Игоря. Вяземский как-то сказал о Василии Львовиче, о дяде Пушкина, что этот пожилой поэт годится отроку Александру в племянники. Я знаю иных литературных дядей, которые годятся в племянники Виктору Ерофееву. Евгения Попова и Виктора Ерофеева исключили из Союза писателей, прибегнув к маскировочной формулировке, — мол, приняли их раньше неправильно, книг у них нет, одни журнальные публикации. Но разве устав Союза не растолковывает ясно, что в Союз принимаются писатели и на основании журнальных публикаций? У нас часто ссылаются на горьковские традиции в работе Союза писателей. Меня в Союз приняла комиссия, возглавленная Горьким, когда число моих лет равнялось 22, а число моих стихотворений, опубликованных в журналах, не достигало и этой цифры, ни одной книги я не успел выпустить. В то же время в приеме в Союз было отказано почтенному писателю, издавшему собрание сочинений. Традиция существует тогда, когда ей следуют, а не тогда, когда ее декларируют. Конечно, сподручнее руководить пишущими, похожими друг на друга, как узоры на обоях. Но союз писателей по самому своему замыслу должен быть союзом неповторимых. Наш трудный, долгий опыт показал и доказал, что исключение из Союза не есть исключение из русской литературы. Один из осудителей альманаха подкрепляет свои инвективы цитатой из Пастернака, а сам, небось, голосовал за исключение великого поэта из Союза. Поговаривают, что изгнание двух молодых писателей из нашей среды есть инициатива главы московских литераторов Феликса Кузнецова. Я с ним не знаком, но когда я обдумываю его речи и действия, у меня складывается впечатление, что человек он малосильный, растерявшийся, который хочет казаться волевым и жестоким. Что же, казаться жестоким легче, чем быть рассудительным. Я хорошо понимаю, что руководить творческой организацией не просто, работы невпроворот, мероприятие набегает на мероприятие, и все же нельзя при этом ни на миг забывать о том, что нам досталась в наследство могучая литература, что у каждого из нас так мало вероятных возможностей в ней остаться, и поэтому вряд ли разумно отсекать надежные молодые таланты. На тех авторов «Метрополя», которые постарше, укоренились попрочнее, обрушился обвал экономических санкций, у всех (за одним-двумя, кажется, исключениями, впрочем, легко объяснимыми) задержаны набранные или сданные в типографии книги, рассказы, стихи, переводы, пьесы, принятые театрами, осуществленные киносценарии, а двух молодых, менее защищенных, выгоняют вдобавок из Союза, хотя тот же Феликс Кузнецов провозгласил urbi et orbi2, что никто не будет подвергнут репрессиям. Совесть не позволит мне оставаться в Союзе и пользоваться его благами, если вы в ближайшее время не исправите свою ошибку и не восстановите в Союзе двух, не по уставу исключенных. Полагаю, что я должен сказать несколько слов о тех, кто в литературе постарше. Загадочная вещь — манера письма. Ничто так не привлекает современников, как новая, острая манера письма, и ничто не устаревает так быстро, как манера письма, существующая вне содержания. Я слышал от собратьев по перу, что манера письма Беллы Ахмадулиной мешает им при чтении ее рассказа «Много собак и собака». Но если преодолеешь эту преграду, то почувствуешь в прозе знаменитой поэтессы истинную боль, боль, без которой не рождается искусство. Вот и прочтен рассказ, заканчивающийся вопросительным знаком, и нашу мысль продолжают волновать и Шелапутов — новый, бесприютный Сван, и фантомная фигура безукоризненного Пыркина, «человека никакого, опасного человека». «Похороны доктора» Андрея Битова — вещь, которой суждена долгая жизнь. Портрет женщиныврача рисуется на наших глазах в день ее смерти, но в этом, как будто бегло нарисованном, портрете — вся ее жизнь, ее прошлое, ее близкие. Многие строки рассказа хочется прочесть вслух, как стихи. Влиятельное лицо — Римма Казакова, — утверждая приверженность к целомудренной любви, обвиняет альманах в сексопатологии. Возможно, ее задело название рассказа Фазиля Искандера «Маленький гигант большого секса», рассказа очень смешного и очень грустного. Что касается секса, то он есть только в ироническом названии. Фотограф Марат охотно хвастается своими гигантскими похождениями. Делает он это довольно ловко, так что читателю приходится самому решать, фантазирует Марат или говорит правду. Но когда уличный курортный фотограф рассказывает о своей встрече с одной из наложниц Лаврентия Берия, ни ему, ни нам уже не до шуток. Фазиль Искандер — один из самых популярных советских писателей, и какое счастье, что его популярность сопрягается с тонким, благородным вкусом, с многосодержательностью. Русские читатели с гоголевских или, пожалуй, с фонвизинских времен привыкли к смеху сквозь невидимые миру слезы. Природа смеха Искандера несколько иная. Это смех кавказцев, победоносный смех людей, которые работают весело, а веселятся торжественно, живут трудно, а умирают легко. Когда появился «Звездный билет» Василия Аксенова, Анна Андреевна Ахматова мне сказала: «Талантливо! Это заговорило новое поколение, — уже не дети, даже не внуки, а правнуки». И радостно добавила: «Половину слов я не понимаю». А Ахматова редко кого хвалила, она принимала далеко не всех литературных ровесников Аксенова. Как же могло случиться, что один из известнейших писателей, автор таких шедевров, как «На полпути к луне» или «Дикой», не мог на протяжении одиннадцати лет пристроить «Четыре темперамента», пьесу с точки зрения цензуры безобидную? Произведение экспериментальное, оно не всем нравится, но оно есть, и легко предположить, что без этой пьесы личность Аксенова не может существовать, как не существует в нашем сознании Леонид Андреев, автор реалистических «Жили-были» или «Дни нашей жизни», без «Жизни человека». Поразмыслим об этом. «Московский литератор» опубликовал заявление Сергея Михалкова, касающееся меня: «Мне не понятна позиция С. Липкина. Представители национальных литератур, эпос которых он перевел и которые еще не вышли из печати (неграмотность фразы, уверен, принадлежит редакции, Михалков отлично владеет русским языком), задумываются над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин!» Действительно, в моей переводческой работе меня больше всего привлекало воссоздание памятников эпической поэзии — «Шахнаме» Фирдоуси, поэм Навои и Джами, эпоса калмыков — «Джангар», киргизов — «Манас», бурят — «Гэсэр», татар — «Едигей» (вещь, которую не могу опубликовать), кавказских «Мартов», пространных эпизодов индийской «Махабхараты». Я благодарен судьбе за то, что эта работа привела меня к изучению истории, быта, языков народов Востока, открыла мне философские прозрения мусульманства, буддизма, индуизма. Я благодарен судьбе за то, что во время войны, в рядах 110‑й кавалерийской дивизии, я делил с воинами-калмыками опасность боев и тяжкую горечь нашего временного отступления. Когда в годы сталинского геноцида решили ликвидировать как нации калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, я с ума сходил от невыносимой боли, я плакал по ночам, вспоминая высланных друзей. Эта боль мучает меня и поныне. Трагедии калмыков и чеченцев я посвятил страницы своих поэм, которые до сих пор не напечатаны, хотя я их не раз предлагал различным редакциям. Мы помним, как сталинские литературоведы и историки указывали народам: пусть они вычеркнут из памяти, втопчут в прах свое национальное достояние — эпические поэмы. К счастью, из этого ничего не вышло. Подумал ли любимец советской детворы, что он невольно продолжает бессмысленное дело варваров, указывая «представителям национальных литератур», как поступить — теперь уже не с подлинником, а с переводом. Задумался ли Михалков над тем, что в наших республиках есть образованные, умные, честные ученые и писатели, которые в указках и подсказках не нуждаются. Да и с чисто литературной точки зрения филиппика Михалкова бессмысленна. Можно назначить председателя Союза писателей, но нельзя назначить писателя, назначить поэта-переводчика. Будут другие переводы восточных эпических поэм, они будут лучше, чем мои, но моих они не заменят — точно так же, как юмор нового детского поэта не заменит михалковского юмора. Друзья меня спрашивают — жалею ли я о том, что из-за участия в альманахе «Метрополь» я оказался на старости лет в трудном положении. Да, жалею, жалею о том, что представлен в «Метрополе» весьма небольшим количеством стихотворений. Анатоль Франс рассказал о набожном акробате, который служил Богородице с помощью фокусов: иначе он не умел ей служить. Авторы альманаха — писатели, очень разные по манере письма, по кругу тем, по пониманию основ художественности. Но их сближает (если мне будет позволено применить к делам нашего цеха столь высокий термин) экуменическое начало. Все авторы хотят, каждый по-своему, служить Богу, чье имя — Правда, и не хотят служить дьяволу, чье имя — Ложь. 1979 Публикуется с исправлением опечаток по изд.: Время и мы. 1979. № 47. 1 Отрывок из повести Фридриха Горенштейна «Искупление» был опубликован в 42‑м номере журнала «Время и мы». 2 Urbi at orbi (лат.) — городу и миру, т. е. во всеуслышание, к общему сведению.ПИСЬМО С. И. ЛИПКИНА М. В. ФАВОРСКОЙ
Глубокоуважаемая Мария Владимировна! Для меня было большой радостью получить Ваше письмо и книги. Я сейчас живу за городом, возьму книги с собой и предвкушаю то наслаждение, которое в особенности доставит мне книга Владимира Андреевича «Об искусстве, о книге, о гравюре». Многое мне вспоминалось, когда пришло ваше письмо. Вспоминались совместные с Владимиром Алексеевичем поездки по Калмыкии, беседы с ним. Он — великий русский художник, и величие его сочеталось в нем с величием души и такой подвижнической простотой, что в нем видели необыкновенного человека даже такие далекие от искусства люди, как калмыцкие чабаны или рабочие на укладке шоссейной дороги. Я никогда не забуду, как, работая, сидели за досками на Мясницкой Владимир Андреевич и Никита, то, глядя на них, вспоминая строки Вячеслава Иванова: От братии прилежной Апостола Луки Икону тайны нежной Писать — мне испытанье. Перенесу ль мечтанье На кипарис? Спасибо Вам, Мария Владимировна, за добрые слова и за обещание известить меня о выставке к 100-летию со дня рождения Владимира Андреевича. Жизнь у меня сложилась нелегкая, но в ней есть радости, и одна из них — Ваше письмо. Будьте здоровы и счастливы! Ваш С. Липкин 15 мая 1986 г. Публикуется впервые по автографу в семейном архиве В. А. Фаворского.ПИСЬМА С. И. ЛИПКИНА Е. МАКАРОВОЙ*
13.7.1984 г.
Милая Леночка! Очень мне было приятно получить от тебя персональное письмо, веющее запахом роз, холодного моря и твоей добротой. Одна фраза в письме горьковатая: «Я, естественно, ничего не пишу». Конечно, лучше бы писать, но у писателя настоящего, у художника (ты в этом ряду) литературная работа не прерывается ни на миг, она происходит в его голове, в его душе, и не всегда обязательно, чтобы она воплощалась на бумаге немедленно. А работа у нас примитивная: разгадать загадку человека. Над этой загадкой бьемся со времен Гильгамеша и Гомера. Из твоего письма видно, что ты разочаровалась в людях. Но ведь они прекрасны! Подумай только: обычные животные, начиненные мясом, кишками и прочей дрянью, вдруг (именно — вдруг!) создают модели вселенной, книги, картины, музыку. Мы созданы по образу и подобию Бога, но мы ему не тождественны. Один только раз, если верить известному преданию, был создан человек, тождественный Богу, богочеловек, и как это трагически кончилось. Ветхий Завет, или «Махабхарата», или «Илиада» учат нас не только благочестию, но и художественной правде. Они обожают (в буквальном, первоначальном смысле этого слова) людей со всеми их недостатками и пороками. Между прочим, отсюда следует, что остаются жить только те писатели, которые создают вечные характеры людей, создают из ничего, из слов, душу и плоть Дон Кихота или Чичикова так, что мы таких из слов составленных людей знаем, как будто из чрева рожденных. С другой стороны, писатели, вся суть которых в манере, в словосочетаниях, подчас совершенных, — все эти Шарли Нодье, Теофили Готье вплоть до Хемингуэя или нашего Ремизова, Пильняка, — тонут в Лете, т. к. не вглядывались в человеческую ипостась двуногого животного, создавая человеческие характеры, прошли мимо сфинкса — загадки человека… <…> Я временами что-то чиркаю в своих «Картинах и Голосах», но пока основная работа — в голове.3.8.1984 г.
Милая Леночка, как хорошо ты написала о монастыре. А монастырское варенье мне захотелось у тебя украсть, оно бы мне пригодилось для той вещи, которую я написал, но последние остатки порядочности остановили мою жадную руку… <…> Ты напрасно называешь своей инфантильностью то, что веришь тому, что говорит человек. Я тоже верю людям, если ложь не нагла, не глупа. Вообще ложь заслуживает того, чтобы ее исследовал художник. Она многоголова. Некоторые считают, что самая страшная ложь — политическая. Это не так. И не очень страшна ложь мужа перед женой, или наоборот. Страшна ложь друга, который лжет, чтобы обмануть сначала себя, а потом тебя, о такой лжи говорит пословица: ржа ест железо, а лжа — душу. Все беды начинаются не с обмана, а с самообмана. Хорошо бы об этом написать рассказ, а уж если стихи, так только гениальные, что непросто. <…> Мы в пансионате, не знаю, что день грядущий нам готовит, но пока нам хорошо, хотя идут дожди. Мама написала чудесное стихотворение, сейчас за стенкой трудится над другим. В этом году нам не шибко пишется. Я начал воспоминания о Гроссмане, мне не очень-то нравится, — фраза неточная, и в ней я не слышу музыки. Трудность моей прозаической деятельности заключается в том, что я пишу прозу, даже мемуарную, как стихи, и если не слышу в ней музыки, мне хочется бросить писание. Перечитал «За правое дело», не все мне близко, но какая мощь письма. Описание Сталинградского пожара, гибель батальона Филяшкина, встреча майора Березкина с женой принадлежат к лучшим страницам русской прозы. Перечти и ты этот роман. По некоторым оттенкам твоего письма я чувствую, что в душе твоей происходит нечто значительное, может быть, тебе самой еще неясное, но оно обязательно воплотится в слово. Чехов как-то сказал, что надо писать так, как будто ты пишешь в последний раз в жизни. Совет трудно исполнимый, но точный.18. 3. 1991 г.
Дорогая Леночка, получили твои письма, они доставили нам большую радость, во-первых, потому, что узнали, что у вас все в порядке, а во-вторых, нас обрадовало, я бы даже сказал, возвысило твое отношение к стране, твоя преданность идее, может быть, самой великой из идей, твоя выдержка, и все это с таким восторгом унаследовала от тебя Маня. Теперь, слава Богу, все закончилось победой, и победой не только военной, но и добра над злом. Хочется думать, надеяться, что поражение иранского Гитлера есть начало поражения всех сил, враждебных правде, справедливости, миру и Богу. Что касается нас, то мы здесь долго болели, в сущности, начиная от приезда в Будапешт, сначала одно, потом другое. Леночка, ты нас награждаешь заслуженным званием козлов. Но пойми и нас. Мы прочно, духовно и биологически, связаны с русской культурой, литературой, без чего нам и жизнь — не в жизнь. Честно говоря, меня волнует твое самоотсекновение от русской литературы, ведь Бог наградил тебя именно русским талантом. Но то, что может быть понято в твои годы, уже не годится для моих лет, даже для маминых. Конечно, хочется, очень хочется, пожить 2–3 месяца в Израиле, подниматься навстречу вечному былому по холмам Иерусалима, но сделать это хочется не прибегая к помощи страны, у которой и без того много забот. У меня тут вышла небольшая книжечка, посылаю ее вашей мишпахе 2, а один экземпляр прошу передать Чертоку 3. Целую всех Макаровых, блондинистых, полублондинистых и прелестную черненькую. Конечно, хочется встретиться, увидеться. 21‑го переезжаем в город, нас обоих ждут медицинские хлопоты. Ваш С. Липкин20. 4. 1991 г.
Дорогая, милая Леночка, это мое кратенькое письмецо не ответ на твое письмо, по той простой причине, что я его не получил. Я рад за тебя в том смысле, что ты довольно часто ездишь по разным странам, это редкое для нашего здешнего брата счастье, а между тем это так обогащает писателя, разрушает его (присущий всякому) провинциализм, делает его глаза шире и пристальней. Завидую тебе в том, что ты можешь читать по-английски, а проза на этом языке, видимо, сейчас наиболее интересна. Мне хотелось бы, чтобы ты больше писала. Конечно, это нелегко, ведь надо думать о хлебе насущном, но это гораздо легче, чем в том случае, если бы ты жила в Химках. Бог дал тебе литературный талант, и мне было &ъ\ горько, если бы ты этим пренебрегла, тем более, что он у тебя двухсторонний: и в художестве, и в книгах, посвященных педагогике. Я понимаю, как это тебе трудно, ведь у русского писателя истинный читатель только здесь, в России, это нам говорили и пользующиеся «там» успехом Аксенов и Войнович, а между тем в России, а между тем в Москве все тяжело, и бумаги нет, и многим, большинству не до литературы, но минет и эта полоса, надо набраться терпения и писать. Нелегка наша планида, ничего не попишешь, если не напишешь. Я очень прошу тебя сосредоточиться на литературной работе, она твое истинное призвание, и счастлив тот, кто не думает о сиюминутном успехе, а пишет, потому что не может не писать. Эта фраза банальна, но, если вдуматься, на банальностях строится вся жизнь, даже жизнь гения. Заканчиваю приветами Сереже, Феде, Мане, Биллу с его добрыми глазами. Целую тебя и всех. С. Л.15.12.1992 г.
Милая и дорогая Леночка, пишу тебе под впечатлением тех слов, которые ты написала о моей книге. Спасибо тебе за них. Ты замечательно выразила то, что присуще (должно быть присуще) любому художнику: движение от плоскости, от равнинности вверх. В этом основная задача не только зодчего или живописца, но и музыканта и писателя… Как и каждый нормальный художник (если считать, что художники бывают нормальными), я большую часть своего существования пребываю в уверенности, что все, мною написанное, — ерунда и канет в Лету вместе со мной, но иногда, скажем, в тот день, когда что-нибудь напишу, бывают просветы, бывают просветы и тогда, когда слышу слова одобрения тех, кого я ценю, и вот ты написала мне такие слова. В твоем письме, рассказывая об изучении статьи Бубера на чужом языке, вообще о своих занятиях, ты вздыхаешь: «Если бы можно было учредить перерыв и сесть в тишине за стол». Занятия философией никогда не мешают писателю (истина банальная), но вот сесть в тишине за стол… Тут ты права, это необходимо. Нельзя разбрасываться. Писатель должен писать. Конечно же, не в советской системе писатель, чтобы прожить, должен как-то зарабатывать, но не трудом околописательским. Мы ведь из породы одержимых. Твои сомнения в логичности некоторых мест Ветхого Завета понятны. Ницше, наоборот (а его трудно упрекнуть в симпатиях к еврейству), считал, что Ветхий Завет куда лучше построен, чем Новый, потому что Новый Завет, по его мнению, создан людьми низшими, маргинальными, требующими уравнять всех перед лицом Бога, а всех уравнять нельзя, ибо есть сверхлюди, избранные, и вот иудеи, будучи логичными, себя назвали избранным народом, сверхнародом, их Ягве — только их и только для них. Излагал Ницше талантливо, но зыбко. Выход у нас есть один: верить. А если не верить, то шатко все: и неучастие Адама и Евы в споре Авеля и Каина, и чудеса пешего перехода по морю, и неопалимая купина. Ты возразишь: как же можно верить, не стараясь понять? Понять надо, но для этого надо сначала принять условия задачи. Понимаем же мы, что Анна Каренина и семейство Карамазовых суть плод воображения авторов, но мы верим, что эти люди существовали. И разве Дон Кихот, Гамлет, Хлестаков для нас менее явственны, чем Саддам Хусейн и Чаковский? Мы верим в существование тех, кто созданы творцами, почему же нам сомневаться в реальности действий тех, кто был создан Творцом? Впрочем, это вечная тема и она, в конце концов, плодотворна, потому что даже сомнения приближают нас к Богу. А тебе я желаю, чтобы ты больше и сосредоточенней писала, потому что Бог тебе даровал Талант, а Божий дар — редкий дар. Не пишу тебе о нашей жизни, об этом, наверное, пишет мама. Происходит катаклизм всемирного значения, рушится империя, начинается иной тип жизни на всей планете, но мы погружены в свои дела, и это естественно…5. 3. 1994 г.
Здравствуй, милая Леночка! Сейчас закончил чтение твоего плана (наброска?) будущей книги. Мне кажется, что книга должна получиться значительной, потому что значительны события, привлекшие твое внимание. Конечно, план — это только схема, чертеж, а разве можно судить по чертежу о произведении фигурной живописи? Думаю, что можно, ведь Пушкин сказал, что уже один план Божественной комедии есть создание поэтическое. Уже в твоем плане есть замечательные мазки, например, возглас нашего человека, впервые увидевшего Запад: «Неужели и они умирают!», или «Когда ты совсем один, это невыносимо, когда ты один впятером, — переносится легче», или страшное описание убийства евреев на Украине («действие ультразвуков на людей»), или блестящее описание картин — ангелов Рубенса, святого семейства Фра Филиппо Липпи, крестьян и Христа Берхема. Такого рода талантливые фразы — не единственное, что делает куски плана-чертежа — живописью: сцена смерти Сократа, история с неженатым братом, история шабес-гоя. В «Риме V» возникает Шахья — единственный (или еще Эрна?) законченный (и необыкновенный) характер в твоих набросках. И дальше — как только появляется Шахья — душа радуется: хорош! Очень рассмешил меня Алексин-Апоплексин 4. Высказывая свои впечатления от плана, я следую твоему мудрому совету: «Как проверить качество живописи? Переснять ее на черно-белую пленку». Здорово! Это я и делаю. Мне не нравится твое болезненное, по-моему, стремление следовать за модой: нецензурные слова, отсутствие знаков препинания, заумное повторение слова или группы слов. Писатель никогда не должен следовать за модой, это первый признак бессилия, а ты сильна. На худой конец, можно стать законодателем моды, какими, скажем, у нас были Бальмонт, Андреев, Ремизов, Северянин. Таланты, конечно, но второстепенные, недолговечные. Писатель-прозаик — это тот, кто, как Бог, творит характеры, такие, что мы эти созданные словом характеры воспринимаем как живых людей. Ты сама пользуешься мифами греческими, иудейскими, индийскими, китайскими, шумеро-аккадскими, чтобы зримыми, плотскими стали для нас их персонажи. Такими долгожителями должны стать персонажи твоего будущего романа, иначе — ты проиграла. Использование мата — признак слабости. За исключением Алешковского и Вен. Ерофеева, это ни у кого не получается, ни у несомненного таланта Аксенова, ни у сомнительной Нарбиковой. Откровенные сцены только тогда художественны, когда они полны веселья, радости, изящества — как у Апулея, у Калидасы, у Мопассана, у Бунина. Твоя цель, чтобы все (или, по крайней мере, два-три) твои персонажи стали нашими современниками, как булгаковский Шариков, Остап Бендер Ильфа и Петрова, шолоховские Аксинья или Нагульнов, гроссмановские Греков, Штрум — я нарочно перечисляю близких нам по времени писателей, а не великих авторов давнего прошлого. Не нравятся мне многочисленные нерусские слова, волапюк. Что такое пропозл? Пуберт? Почему напкинс 5 объясняется: салфетка, а эти слова не объясняются? Лев Толстой в «Войне и мире» целые страницы писал по-французски. Это понятно: все читающее общество тогда говорило по-французски. Джойс в «Улиссе» щедро употребляет кельтские слова, это понятно: ирландцы забыли свой язык, говорят по-английски, со времен Гом Руля это болячка ирландцев, болячка и Джойса, вот им и хочется восстановить словарь ирландских предков. А какова твоя цель? Не понимаю. Как не понимаю, какую роль должны играть в будущем романе вставки в стиле «рюсс», да еще с цитатами из Аввакума? Отсутствие знаков препинания не ново — так написана вся арабская, персидская классика — да и наше «Слово о Полку Игореве». Вообще в литературе ничто техническое не ново. Ново только одно: характеры. Писатель живет, пока живут созданные им характеры. Конечно, трудно создать Гамлета, Дон Кихота, Растиньяка, Хлестакова, Мышкина, Архиерея. Но к этому надо стремиться, другого выхода нет, все другое — блеф, обман, ерунда. Прости брюзжание, как ты бы выразилась, «старпера». Да, я раздражаюсь, но раздражаюсь потому, что вижу твой талант, твою силу, которая посильней многих. Целую тебя. С. Липкин. Какую роль играют «Приложения»? Чтобы объяснить не совсем понятное, написанное прежде? Но почему сразу не написать понятно? Сила художника не в игре. Привет мишпахе С. Л.1.3. 1995 г.
Милая Леночка, здравствуй! <…> Бог создал людей и все живое из праха, мы, грешные, потому-то Его подобья, что тоже создаем живое, но нам трудней, мы не из праха, а из слов создаем. И мы только тогда живы, когда живут наши создания — Гамлет, Рейнеке Лис, Чичиков, Каштанка, дуб в «Хаджи Мурате», пассажир в вагоне поезда «Москва-Петушки». Твое краткое пребывание в Москве было для нас большой радостью. Мама вспоминает каждый миг общения с тобой. Сейчас она второй день читает корректуру в «Знамени». Читает с пристрастием, по любой фразе, которая вызывает в ней хотя бы крохотное сомнение, советуется со мной. Мы обдумываем, и, к счастью, ты всегда (или почти всегда) оказываешься права. Я поражаюсь твоей энергии. Прилететь с другого материка — и до ночи убирать квартиру, а потом возиться с умалишенными, а потом — шведы, чехи, кино, выставка в Скандинавии, дети в музее, свои дети — в доме. А когда же ты думаешь? Достоевский как-то признался, что ему больше нравилось обдумывать свои сочинения, чем их писать. Береги, Леночка, свое время и призывай к этому тех, кто рядом с тобой. Прочел твое краткое и живописное описание весеннего дня в Иерусалиме, и сердце сжалось, потянуло туда. Что касается документального фильма о твоем покорном слуге, то спасибо тебе за заботы, но мне это не надо, ей-Богу, не надо, и вообще никому, никакому художнику это не нужно. Все придет само собой — или не придет вовсе. Суетитьсяне следует. Целую тебя и желаю успеха роману. Обнимаю двух моих коллег и одну самостоятельную красотку. С. Липкин[Апрель 1994 г.]
Милая Леночка, не сердись на меня. Я честно тебе написал то, что думаю о твоей вещи, потому что ценю твой сильный талант, а таланту нужна откровенность, иначе нельзя. Тем собратьям, с которыми я в разные годы дружил, я всегда честно говорил и слова восторга, и слова критические — Тарковскому, Штейнбергу, Петровых, Гроссману, Платонову, Заболоцкому, и они платили мне тем же. Врал я только писателям, дарившим мне книги с надписью, плохие, но авторы были люди хорошие, добрые, не всегда счастливые. Конечно, я часто ошибался, но и охотно признавал свои ошибки. Я прошу тебя поверить мне, что я буду рад, если твоя книга будет опубликована и принесет тебе успех, и я в который раз пойму, что был неправ. Еще я тебя прошу отправить мое письмецо по адресу, указанному на старом конверте. Мой адресат — израильский житель, через посредство «Нового мира» обратился ко мне — написать о его родственнике, знакомом моей юности, расстрелянном в 1938 г. Я целую тебя, а также двух близких тебе переводчиков и одну красивую девочку. Твой С. Л.9. 5. 1994 г.
Милая Леночка! Пишу тебе я в День Победы, что бы там ни говорили, а это святой для нас день, разгромили немецкий фашизм, Бог Мести вел нас, бог, а не Сталин и даже не Жуков. Все вспомнилось — окружение, Сталинградская битва… Позвонил мне сюда, в Переделкино, человек, вместе с которым провел Сталинградскую кампанию на борту канонерской лодки «Усыскин», которая погибла, — и сердце дрогнуло. Прочел твое письмо — и обрадовался. Инцидент исчерпан. Ты очень правильно и серьезно очерчиваешь свою задачу. Ты права, человек же изменился, изменилось то, что его окружает. Совсем недавно (несколько тысяч лет назад) он жил в раю и не трудился, а потом был изгнан из рая и начал трудиться недалеко от Эдема. Он сначала не знал, а теперь знает, что, и сочиняя прозу, надо быть поэтом. Пушкин считал, что уже один план «Божественной комедии» Данте есть поэзия. Я уверен, что здание романа ты возведешь, ты не обычная, Бог дал тебе талант, только ради Него не спеши, ведь ты создаешь, как и Он, мир из Слова. О мамином интервью здесь многие говорят, даже из Нальчика пришел отклик. Поразило меня, что Федя переводит тебя на иврит. Завидую коллеге, привет ему, и Мане, и парижскому Сереже. Ты права, Яна очень сердечна. Да еще и красива. В голове — туман, хотя и розовый. Она нам нравится. С ее сестрой бесед у нас не было (у меня). Желаю счастья тебе и роману. Целую тебя. С. Л. 29.11.1995 г. Милая Леночка, передо мной твой Theresienstadt6 на двух языках, ни одного я не знаю, но рисунки, картины, названия глав, которые я все-таки, хотя и с большим трудом разбираю, так ярки, так наглядны… Ты создала великую книгу, благодарная память о тебе будет жить в людях, и не только в сердцах евреев, а в каждом, кто — человек. Книга пришла к нам после похорон Миши, и мое горе слилось с горем народа, и я подумал, что все же он, и я, и многие из нас избегли участи жертв фашизма. Мама принесла сумочку с Мишиными орденами, боевыми, и тут же медаль «За отвагу», это редкая медаль, ею награждали, невзирая на отзыв политработника, она — действительно за отвагу в этой страшной войне, она ответ тем, кто кричал, что евреи — все — устроились в Ташкенте, не воевали. Спасибо тебе еще раз за книгу — подвиг, за письмо, в котором ты так поэтично описала, как читала наши книжечки, а в окне — немецкая природа, гетевские ландшафты. Спасибо и за фотоснимки — добрые глаза Сережи, пытливо-строгие Феди, слегка лукавые — Мани. Мама очень устала, постепенно приходит в себя, ведь вся тяжесть болезни легла на ее плечи, — мне трудно передвигаться, у детей своя жизнь. Миша перед смертью, увидев маму в реанимации, сказал ей: «Вы ангел», я раньше от него не слышал подобных слов. Она и мой ангел. Вспоминаю нашу встречу в Зиггене 7, как ты неожиданно легко отнеслась к неожиданным трудностям путешествия, я ждал огорчения, а ты смеялась. Прости за банальность — за твоей хрупкостью жива упрямая, жестоковыйная еврейская сила. Благодаря тысячам таких, как ты, спаслись миллионы, береги себя и цени себя, не задаваясь. Сердечно приветствую всех твоих (и наших). Любящий С. Липкин14.2.1996 г.
Дорогая, милая Леночка! Приехала мама, конечно, рассказала о тебе, и я понял, что все тяжелое осталось позади…Ты совершаешь такие перелеты, которые утомили бы могучего атлета, а не только хрупкую женщину. Может быть, обдумаешь написать новую вещь? Достоевский как-то обмолвился, что ему приятней было обдумывать роман, чем его писать. Представь себе, что и я, один из малых сих, испытываю такое же чувство. Смотрю ли я телевизор, беседую ли с гостями, я всегда что-то обдумываю, и так сладко от этого делается, так хорошо получается, а напишешь — и жуткая пакость на бумаге. Но зато счастье и минуты сладкие. А иногда и что-то дельное возникает…. Московская литературная жизнь сейчас существует уродливо. Я говорю об этом объективно, нам с мамой не на что жаловаться, охотно нас печатают в журналах, редактора у мамы просят стихи, а ей нечего дать, все опубликовано. Канули в лету года, когда писалось в стол… <…>У нас теперь настоящая зима, уже неделю, как не выхожу на улицу, когда мороз превышает 10 гр., у меня происходит сжатие сердца, стенокардия проклятая. Стихи пишутся, а проза не получается, это не совсем понятно, потому что проза та же поэзия, в ней должны быть все четыре элемента поэзии: музыка (своя, а не заемная), мысль, живопись, страсть.11.6. 1996 г.
Милая, дорогая Леночка! Хочу тебе написать несколько слов о тех золотых россыпях, которые ты назвала фрагментами. Первая россыпь — старый музыкант Франтишек Домажлицкий и его жена Итка. Сразу же, когда появляется старик, который выпятил нижнюю губу и вздернул подбородок, который лыс, но боковые кудри — артистически — до плеч, который был в страшном Терезине, но писал легкую музыку, он становится нам интересен, о нем хочется знать, о нем и об Итке, нужен рассказ, и ты обязательно напишешь этот рассказ. Другая золотая россыпь — наша общая знакомая Шира Горшман. Вдова замечательного еврейского художника (когда художник — еврей, это больше, чем национальность), и сама одаренная писательница, пишет «об убитых на убитом языке». Трагическая формула! О ней, о Шире, нужен рассказ, и ты его напишешь. Третья золотая россыпь — любовь в Терезине: Вера и Йожка Фантл, Вера и Дольфи. Могут быть два щемящих рассказа, и ты их напишешь. Одно замечание сверстника Домажлицкого, т. е. мое. Писатель (если он не пишет мемуаров) не должен быть персонажем сам по себе. Персонажи его повествований и составляют его персонаж, его лицо. Дворянин, богатый, любил охоту, написал «Записки охотника», но не о своих охотничьих делах писал он, а о Хоре и Калиныче, о певцах, соревнующихся в деревенском трактире. Все, что ты пишешь о трудностях, связанных с фильмом, бледнеет по сравнению с теми золотыми россыпями, о которых сказано выше. Американка, собирающая материал о тяжелом положении русских олим, — персонаж очерка, она не стала персонажем художественного произведения. Пронзительна история еврейского кладбища, где раз в неделю посещают могилы, а в остальные дни там бордель. Об этом можно было бы написать рассказ в 2–3 страницы. И он тоже мог бы стать золотой россыпью. Леночка, ты на зависть талантлива, у тебя острый глаз, музыкальный слух, умная голова, люби каждое слово, каждую запятую и больше, чем себя, люби своих героев, свои слова, которые творят жизнь. Целую тебя и радуюсь твоему успеху. С. Л.27.10.1996 г.
Дорогая Леночка, спасибо тебе за рассказы. «Опекун» и «Хорошо, что мы здесь» — истинное искусство. В этих рассказах есть нерв, бьется пульс, а это значит, что они — живые существа. Трагизм сдержан, как бы информативен, и от этого у читателя сжимается сердце. То, что ты печатаешь рассказы как стихи, т. е. разбиваешь прозаическое повествование на строки, не случайно, в этом есть художественная цель. Отсутствие знаков препинания вещь древняя, без них читаются Ветхий Завет (а там и «Песня песней»), Коран. Но знаки препинания облегчают жизнь читателя, их отсутствие я воспринимаю как дань моде. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Несколько слов о «Собачьей фортуне». Скотоложество — извращение, зафиксированное в древнейших великих религиозных книгах. Но в то же время — не всегда извращение. Некоторые боги и полубоги Ассиро-Вавилонии, Индии, Греции являются плодами соития богов с животными, чаще всего с быками, коровами, слонами. Но в рассказах о таких существах есть чистота, художественная прелесть. Почему в «Собачьей фортуне», в рассказе, хорошо написанном, этой прелести нет? Не потому, что речь идет о скотоложестве, а потому, что ты не воепринимаешь собаку как живое существо, у которого есть свои чувства, как у толстовского Холстомера, у чеховской Каштанки, у бунинского Чанга. Раз уж ты разрешила себе смелость — описать соитие женщины с псом, так не трусь, поведай нам, что испытывает в эти сладкие мгновения пес, уравняй его, как сказители священных книг, с человеком, и тогда возникнет чистота, чистота поэзии и жизни. Не сердись на меня, возможно, что я, старый, сильно отстал от нынешнего понимания красоты, без которой нет искусства. Женщины Содома и Гоморры погибли. Жена Лота превратилась в соляной столб. Лот входил ночью к дочерям своим. Это было необходимо, ибо всегда была иудейская забота о необходимости плодиться и размножаться. То, что в твоем рассказе происходит с братом и сестрой, не есть надежда, как у Лота. Есть отчаяние в лагерях Смерти, и это отчаяние ты воспроизвела как художник. Пиши рассказы и радуй нас. Целую тебя. С. Л. Публикация Е. Макаровой. 1 Елена Макарова, дочь Инны Лиснянской, — писатель, педагог, историк. 2 Мишпаха (ивр.) — семья. •’ Семен Черток, журналист, работал на израильском радио «Коль Израэль». С. И. Липкин состоял с ним в постоянной переписке. 4 Герой романа. 5 Салфетки (англ.). 6 Каталог выставки «Культура и варварство», 1995 г., Стокгольм. 7 Семен Израилевич с мамой были приглашены на писательскую дачу в городок Зигген, неподалеку от Гамбурга. Там у них возникли какие-то бытовые проблемы, о которых они мне и поведали.ИЗ ПЕРЕПИСКИ С А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЫМ
А. И. Солженицын — С. И. Липкину
Глубокоуважаемый Семен Израилевич! Благодарю Вас за присылку Вашей последней книги, да еще с такой лестной надписью. Осмелюсь и я Вам послать фрагменты из моей «Литературной коллекции», относящиеся в Вам — и написанные как общее впечатление от чтения Ваших стихов в разные годы. Из этих страниц Вы можете видеть, как высоко я Вашу поэзию ставлю. (Впервые Ваше имя я услышал от Л. К. Чуковской в начале 70‑х годов. Она сказала, что Вы — выдающийся поэт. Так и оказалось.) Примите Вы и Инна Львовна от нас с Натальей Дмитриевной самые сердечные пожелания. 293.1997 г.С. И. Липкин — А. И. Солженицыну
Глубокоуважаемый и дорогой нам Александр Исаевич! Ваше письмо, а потом и публикация «Литературной коллекции» в журнале — огромное событие в моей жизни. Должен признаться, что я, преклоняющийся перед русской литературой, понимаю весьма скромную величину своего дарования, и вот оказывается, что величайший писатель современного мира читает мои стихи и даже хвалит их. Всю свою сознательную жизнь я перечитываю самых любимых наших писателей — Пушкина, Тютчева, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Бунина, перечитываю без всякого плана, — то, что захочется прочесть, еще и еще раз. Точно так же я перечитываю Вас. Захочется — «Матренин двор», захочется — один из томов «Архипелага Гулага» или «Красного колеса», и каждый раз нахожу нечто новое, то, что и раньше, конечно, полюбил, но вдруг понял глубже. Это относится и к отдельным выражениям, и к портретам персонажей, а порою и ко всей заново прочтенной книге. Прошлой зимой перечитал три тома «Архипелага». Они потрясли весь мир своим содержанием. Действительно, царская каторга, в которой провел четыре года Достоевский, — сущий рай по сравнению с советским концлагерем. Когда вышли в свет «Записки из мертвого дома», Тургенев, который, что известно, не любил Достоевского как писателя и человека, сравнил эти «записки» с дантовским «Адом». Не знаю, как обстоит дело в Европе, на Западе. Но не помню, чтобы на родине появилось серьезное исследование чисто художественных особенностей «Архипелага Гулага». А между тем столько здесь чудесно обрисованных лиц, и добрых, и злых, и жалких, и обладающих какой-то, казалось бы, бессмысленной, безнадежной русской удалью. Воистину «вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ», воистину «линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека». Общеизвестно, что одна из драгоценнейших черт художественности заключается в том, что даже воспроизведение тяжестей жизни, ее зла и горя, побуждает в человеке самое лучшее, делает его ближе к Богу. И таков Дантов «Ад», «Записки из мертвого дома», «Архипелаг Гулаг». Мне известно, что не все Ваши читатели-литераторы будут со мной согласны, — и те, кто оказались в эмиграции, и те, кто остались на родине. Они, будучи политически антисоветскими, в понимании красоты искусства сохранили чисто советские признаки, между прочим, довольно примитивные. Многие из этих литераторов, достаточно образованные, оказались во тьме советской дубиноголовости. Очарованные вечным «Одним днем Ивана Денисовича», эти литераторы ожидали такого Солженицына, который будет похож на них, пусть талантливей, но похож. А он оказался другим. 1998 год — Солженицы некий. Я желаю Вам крепкого здоровья и счастья — и творческого, и просто человеческого. Прошу Вас передать сердечный привет Наталье Дмитриевне, знакомство с которой доставило мне радость. < 1997 или 1998> Письмо С. И. Липкина публикуется впервые по копии из архива поэта, письмо А. И. Солженицына — по автографу. К письму А. И. Солженицына прилагался фрагмент из «Литературной коллекции» А. И. Солженицына, посвященный С. И. Липкину. Публикация И. Л. Лиснянской. Подготовка текста Д. В. Полищука.Интервью
Я ХОТЕЛ ПЕРЕДАТЬ МУЗЫКУ КИРГИЗСКОЙ ПОЭЗИИ
Беседа с Валерием Ровинским
Яркий голос популярного в Киргизстане диктора Валерия Ровинского на протяжении двух лет наполняет эфир дыханием героической песни о Манасе. За каждой передачей — многие часы репетиций, мучительных поисков нужной интонации, мелодии, ритма… В ходе работы над эпосом возникла потребность услышать живую речь автора русского перевода, благодаря которому киргизский эпос энергично шагнул в мировую культуру, снять о нем фильм. Ровинский поехал в Москву к Семену Липкину: встреча, записанная на видеоленту, покоряет не только обаянием разговора двух интеллектуалов, но и передает драматизм нашей эпохи, драматизм борьбы за вечные духовные ценности народа. Вот фрагменты этой беседы с классиком русского поэтического перевода. — Шестьдесят лет тому назад группа русских переводчиков, пройдя предварительный конкурс, была привлечена к работе над кыргызским эпосом «Манас». Давайте вернемся к тем далеким временам, вспомним, как это начиналось… — Прежде всего я должен сказать, что я счастлив, что 1000-летний юбилей эпоса «Манас» будет праздноваться так широко и торжественно. Действительно, это произведение равно «Илиаде», «Одиссее» и другим великим памятникам народной эпической поэзии. «Манас» прошел очень тяжелый путь. На этом пути были и преследования, и отрицание, и на долю переводчиков, манасоведов в те далекие сталинские годы выпала трудная задача как-то защитить эпос. Особенно это было трудно потому, что противники были и внутри Киргизии, среди партийных деятелей и, к сожалению, среди некоторых литераторов. Как происходила переводческая работа? Вначале к этому делу приступили Пеньковский и Тарловский. Потом выяснилось, что они просто не успеют уложиться в срок, ведь решено было издать перевод к 20-летию Октябрьской революции. Поэтому решили организовать закрытый конкурс. Хотя я был очень молод, но тоже был привлечен к этому конкурсу. К тому времени я уже издал отрывок из калмыцкого эпоса «Джангар», который был хорошо встречен критикой. Конкурс был закрытым, во главе его стояли Н. Накоряков, старый большевик, агент «Искры», человек хороший, и видный поэт Илья Сельвинский. Победителями стали Пеньковский, Тарловский и я. Нас собрали всех, и три победителя читали кусочки из этого эпоса. — Семен Израилевич, Вы работали по отдельности или какие-то фрагменты создавались совместно? — Так получилось, что Пеньковский, как самый старший, был нашим «бригадиром». Он взял на себя распределение. Договаривался с Касымом Тыныстановым и с Омуркулом Джакишевым, как распределить между нами отдельные фрагменты, но и мы имели свой голос, каждый мог выбрать по желанию тот или иной отрывок. Все решалось демократически. — Скажите, каким-нибудь тюркским языком Вы владеете или все было сделано по подстрочному переводу? — Это очень серьезный вопрос. Мы не имели времени, чтобы овладеть киргизским языком в той степени, чтобы читать и говорить. Но мы изучили синтаксис, грамматику киргизского языка, каждый из нас немножко говорил по-киргизски. На бытовом уровне по-киргизски я мог говорить, понимал речь гораздо лучше. Так что мы примерно через полгода, пользуясь подстрочным переводом, все же читали подлинник, чтобы ощутить музыку киргизского стиха. — Вы много раз бывали в Киргизии… — Да, дело в том, что я был председателем киргизской комиссии Союза советских писателей, так что у меня были постоянные и тесные контакты с киргизскими поэтами и прозаиками уже вне связи с «Манасом». — Знаете ли Вы, что переводом «Манаса» занимался еще и Владимир Солоухин? — Тут вот какая история. В 1979 г. с поэтессой Инной Лиснянской мы участвовали в альманахе «Метрополь», к которому у властей было однозначно отрицательное отношение. За это участие и еще за то, что мы в знак протеста против исключения из Союза писателей двух наших молодых коллег сами вышли из Союза, наши произведения вплоть до 1987 г. были под запретом — и оригинальные, и переводные. Именно в это время Солоухин занялся этим переводом. Я его перевода не видел. — Вы встречались неоднократно с нашим знаменитым манасчи Саякбаем Каралаевым. Вы при нем читали свой перевод? — Конечно, много раз. Во время декады киргизской культуры в 1939 г. мы выступали вместе на вечере в Доме литераторов, в разных местах Подмосковья. Он пел, а потом мы читали. Каралаев был гений, и как все гении, он был наивный, что-то детское в нем было. Я тогда был тоже очень молод. И вот где-то в Подмосковье я начал свой перевод пением под музыку Саякбая. Ему это безумно понравилось, он мне сказал: «Ты тоже мастер!» Он обладал колоссальной памятью, особенно ему нравились батальные сцены. Мне особенно запомнились выступления Каралаева у себя на родине, в юртах перед земляками. Вдохновленный сценами битв, Саякбай, закатав рукава, вскакивал, и вместе с ним вскакивали с мест слушатели, так захватывало всех его исполнение. — Позвольте мне задать вопрос, который передает Вам наш культуролог, исследователь эпоса Мелис Убукеев: каково место «Манаса» в ряду других тюркско-монгольских памятников эпической культуры, каковы его особенности? — Самое замечательное в эпосе «Манас» то, что, в отличие от литературы социалистического реализма, в нем нет героев только хороших или только плохих. Каждый из персонажей совершает и благородные, и очень красивые поступки, и в то же время не очень хорошие. Так нарисован Жакып, отец Манаса, так нарисован Сыргак, любимый герой, но который, идя в разведку с Алманбет, все время ему не верит, поскольку Алманбет — китаец. Пожалуй, единственно Алманбет лишен отрицательных черт. Вообще характер Алманбета — величайшее достижение мировой поэзии. Это шекспировский характер. Он покинул родное государство, его считают изменником в китайской империи, и ему не доверяют люди, близкие ему и по религии, и по целям. Вы понимаете, как это трудно человеку. Алманбет жалуется иногда на свою судьбу, и в то же время он верит, что избрал правильный путь. Это колоссальный характер. Нужно еще сказать, что очень хорошо построен «Манас». Это огромная вещь, она передавалась изустно. Когда человек пишет, он может что-то исправить. Конечно, в «Манасе» встречаются повторения, это естественно, потому что манасчи время от времени должен был напоминать слушателям, что было раньше. Причем он пел не перед писателями, пел перед народом, я в народ включаю и правителей, это тоже был народ, и он должен был им некоторые вещи напомнить. В контексте веемо эпоса этот прием создает неповторимую архитектуру грандиозного произведения. Я не инаю, есть ли исследования в манасоведении, посвященные композиции, есть ли исследования, посвященные рифме, которая очень богата в «Манасе». К сожалению, некоторые поэты в Киргизии иногда пользовались слабой рифмой. Такого в «Манасе» нет, хотя его пели люди, не получившие специального образования. Особенно заметно выделяются места, когда целый фрагмент построен на одной рифме, так называемой анафорической. Это очень трудно, но сделано всегда с большим совершенством. — В Национальной академии наук Киргизии есть сектор манасоведения, специалисты этим занимаются. Разрешите мне вручить Вам книгу, которая вышла в этом году. Это повторение того издания «Манаса», которое вышло в 1946 г. Его организовали государственная дирекция «Манас‑1000» и научно-пропагандистский деловой проект «Мурас». Тут и приветствие Вам от издателей, и пожелание Вам благополучия, добра. — Я очень рад, что вышла такая книга. Долгое время она была под запретом. Было два обвинения: панисламизм и подрыв якобы нашей дружбы с Китаем. — Вы имеете в виду ту памятную конференцию в 1952 г.?.. — Не только. Началось это в 1949 г., и тут длинная история… — Семен Израилевич, мы знаем, что по мотивам «Манаса» Вы написали повесть «Манас Великодушный», которая переведена и на другие языки. — Очень интересен перевод на немецкий язык. Здесь переведен и отрывок из эпоса «Письма Каныкей». Так вот, эту стихотворную часть переводил поэт Эрих Миштер, которому тоже удалось великолепно передать на немецком языке музыку киргизской поэтической речи. Кроме того, повесть была издана на литовском, чешском. — Многих в Киргизии интересуют подробности вашей биографии. 1 де Вы родились? Кто были Ваши родные? Почему Вы стали поэтом? Может быть, расскажете немного и о своей поэзии. — Я родился в Одессе в 1911 г., так что уже очень стар, ведь родился еще при царе. Даже видел приезд царя, это было в 1916 г. Родился я в семье ремесленника. Начал сочинять стихи очень рано, чуть ли не пяти-шести лет. Когда учился в художественной профшколе, то решил отнести свои стихи в газету «Одесские новости». Литературным консультантом был знаменитый поэт Эдуард Багрицкий, он был моим первым учителем. Стал писать, стал печататься. В 18 лет меня стали хорошо печатать в Москве. Когда приехал в Москву, ко мне очень хорошо отнесся Осип Эмильевич Мандельштам. Я бывал у него много раз, и благодаря ему напечатали мое стихотворение в «Новом мире». Тогда напечататься было очень трудно, был нэп. Но после этого я начал широко печататься в московских толстых журналах и газетах. Одно мое стихотворение, напечатанное в «Комсомольской правде», заметил Горький и перепечатал в «Известиях», где он тогда сотрудничал. Но потом, когда начался страшный период коллективизации, этот «великий перелом», меня, мои оригинальные стихи, перестали печатать. И не печатали 25 лет, т. е. лучшую пору жизни. — Но что-то писалось, как говорят, в стол? — Все это время я писал, да. Помог наш старший товарищ, Георгий Шенгели, ведавший переводами произведений народов СССР. Он привлек к работе над переводами своих молодых друзей — Марию Петровых, Арсения Тарковского, Аркадия Штейнберга и меня. Все они тоже кое-что переводили с киргизского. Примерно через год я стал немножко понимать в своем деле и перевел Аалы Токомбаева, с которым познакомился. Кстати, Аалы Токомбаев, Кубанычбек Маликов, Тугельбай Сыдыкбеков были нашими консультантами, как и Касым Тыныстанов. Где-то я читал, что Токомбаев и Тыныстанов были противниками. Такого не было, у них были очень дружеские отношения. Большую помощь нам оказали Константин Кузьмич Юдахин, тюрколог, Сергей Ефимович Малов и Евгений Дмитриевич Поливанов. — Сохранилась ли рукопись перевода «Манаса»? — Нет, когда я был на фронте, начал войну на пятый день ее, в Ленинграде, на Военно-морском флоте, ту комнату, которую занимала моя семья, временно заняли другие люди, и они топили голландскую печь рукописями и даже очень хорошими книгами, дорогими мне, вот так получилось. — Вы окончили какое-нибудь учебное заведение? — Да, я закончил инженерно-технический институт, химический факультет. Тогда считалось, что человек литературным трудом жить не может. Это потом писатели стали привилегированным сословием. А чтобы семью прокормить, надо было быть инженером. — Долгое время Вас не печатали. А что было потом? — После смерти Сталина я начал печататься в журналах. Первую свою книгу «Очевидец» издал, когда мне было уже 56 лет. А потом началась эта история с «Метрополем», наложили запрет на профессию; и меня опять перестали печатать на восемь лет. За это время у меня вышли книги в Соединенных Штатах Америки. Это большой том стихов «Воля», составленный Иосифом Бродским, потом вышла тоже довольно солидная книга «Кочевой огонь», там же вышла моя повесть «Декада» о насильственной депортации народов Северного Кавказа. Там же была издана моя книга «Жизнь и судьба Василия Гроссмана». Наконец, в 1991 г. вышел довольно солидный том стихов «Письмена». — Сейчас, в преддверии 1000-летия эпоса, много читают отрывков из «Манаса» на сцене, разучивают в школах. Что Вы могли бы сказать о культуре чтения, о сохранении мелодии народного стиха. Какие тут существуют особенности? Какой совет нужно давать детям, когда они начинают учить на память стихи «Манаса»? — Это хороший вопрос. Все эпические поэмы всех народов всегда пелись. Пелась индийская «Махабхарата», пелась «Песня песней» из Ветхого Завета, пелись «Одиссея» и «Илиада». Из этого не следует, конечно, что когда мы читаем книгу, то должны петь. Но мне кажется, что учитель должен об этом рассказать детям, и хорошо, если он может даже исполнить кусочек с напевом или проиграть на пластинке исполнение того же Каралаева и других акынов. Учащиеся с малых лет должны почувствовать величие родной поэзии, ее особенности, не просто так хвалебные слова говорить, а рассказать суть дела. Это ребенок запомнит на всю жизнь. — О чем Вы хотели бы еще рассказать киргизскому читателю, что хотели бы добавить к нашему разговору? — Я уже говорил, что нападки на «Манас» начались с самого начала нашей работы над этим эпосом. Несколько раз мы приезжали в Киргизию для того, чтобы тогдашний обком утвердил это начинание. Все затягивалось. А в 1949 г., когда Сталин начал борьбу с так называемым панисламизмом, буржуазным национализмом, «Манасу» предъявили обвинения, что это байско-феодальный эпос. Были писатели и ученые, которые осмеливались с этим спорить. Если говорить о русских ученых, это знаменитый тюрколог Боровков, академик Жирмунский. Мы, переводчики, тоже, насколько нам позволяла наша небольшая эрудиция, защищали. Нападал человек по фамилии Климович. На «Манас» даже написали пародию, строк на 500–600 с нецензурными словами, ну вроде наших гимназических пародий на «Евгения Онегина». Так вот, этот Климович говорил, что это и есть народное, а то, что мы предлагаем русскому читателю, это антинародное. Собрания были и в Институте востоковедения, против «Манаса» выступали крупные востоковеды. Один раз меня вызвали на Лубянку, беседовал со мной человек с фамилией либо татарской, либо башкирской. Я чувствовал, что ему не нравится все это дело. Он от меня потребовал, чтобы я написал свое мнение. Я написал, что это не байско-феодальный, а народный эпос. А там, где в эпосе были такие эпизоды, как борьба с русскими, я утверждал, что это не является органической частью эпоса. Потом мне сказали, что в сравнении со всеми другими показаниями мое было самым смелым в защиту «Манаса». Потом поняли идеологи, что отнять «Манас» у киргиза — все равно, что отнять Пушкина у русских, что так не пройдет. С «Манасом» все же нашли какой-то выход: победил народ. Я думаю, учли, что это чревато чем-то дурным. — Какие эпосы Вы переводили, кроме «Манаса»? — Я перевел калмыцкий эпос «Джангар», казахский эпос «Кобланды-батыр», бурятский эпос «Гэсэр» и северокавказский эпос «Нарты». Это очень тяжелый труд, если относиться к нему серьезно, т. е. изучать историю народа, основы его языка, даже географию. Все это требовало колоссальной работы. Когда не печатали моих собственных стихов, это была моя единственная радость, мое счастье. <1995> Публикуется с исправлением опечаток по изд.: Эпос «Манас» как фактор культурной интеграции XX века: Материалы юбилейных чтений, посвященных 90-летию поэта и переводчика С. И. Липкина и 55-летию выхода книги «Манас, Великий поход» / Отв. ред. — сост.: А. Какаев, И. Исамдинов, В. Шаповалов. Бишкек: КГНУ, 2002. Впервые опубликовано: Слово Кыргызстана. 1995. 21 янв.«СТИХИ ПИШУТСЯ САМИ…»
Беседу вел Дмитрий Полищук
Прилагаемое интервью было записано мною в Доме творчества писателей в Переделкине в августе 1996 г. Оно предназначалось для «Книжного обозрения», но по каким-то причинам так и осталось неопубликованным. Текст был согласован тогда же с самим Семеном Израилевичем, но для настоящей публикации, после обсуждения с Инной Львовной Лиснянской, в текст внесен ряд примечательных добавлений из полной расшифровки. После этой встречи у меня было еще много бесед с С. И. Иногда в них всплывали вещи весьма значимые. К примеру, однажды (в 2002 г.), когда в разговоре речь зашла об Ахматовой, С. И. сказал, что составил «Реквием»: «Она мне дала стихи, а я составил цикл». На мое удивление, почему об этом нигде не упомянуто, С. И. ответил, что сама А. А. нигде об этом не написала, вот и он не считал возможным говорить. — Семен Израилевич, в жизни каждого писателя книги занимают особое место. Как складывались Ваши взаимоотношения с книгами, какие из них оказались самыми главными? — Я рано научился читать. По-моему, четырех или пяти лет, и начал со сказок Пушкина и вообще с поэзии. Сильное впечатление на меня произвел Никитин, быть может, по доступности стиха. Дети соседей, гимназисты, давали мне свои книги, но тогдашняя литература для детей мне большей частью не нравилась. Помню, что читал книги Чарской, Гектора Мало «Без семьи», знаменитого тогда «Маленького лорда Фаунтлероя». Мне не очень нравился Жюль Берн, хотя он был очень знаменит, но больше нравился Майн Рид. Зато я очень любил книги по истории, но не романы, за исключением, пожалуй, Вальтера Скотта, а учебники и русскую классику. Лет восьми-девяти прочел «Тараса Бульбу» Гоголя и «Капитанскую дочку» Пушкина. Пушкин до сих пор для меня целый мир, — другого мира я, в сущности, и не знаю. Из поэзии, кроме Пушкина, хорошо знал Лермонтова, Боратынского, Тютчева, Некрасова, Фета… Потом, хотя мой отец был ремесленник и образования не получил, но так как он был социал-демократом, меньшевиком, то выписывал легально выходившие при царе журналы революционного характера. Они оставались в нашем доме. Это были «Мир Божий», журнал социал-демократического направления, и «Русское богатство», где редактором был Короленко, — народнического, эсеровского, что ли, направления, но это я узнал уже потом, поскольку в нем не было такого, чтобы чувствовалась партия. Я не помню тех стихотворцев, которые там печатались, но я помню свое впечатление, что стихи были плохие. Но проза для меня, которая там печаталась, была трудна, так что я уже более взрослым все это перечитывал. Там иногда был Горький и очень часто Короленко. На меня сильное впечатление произвели его вещи «В дурном обществе» и «Без языка». Стихи же я больше не читал, поскольку в первый раз они показались мне такими мало интересными. Я не знаю, как бы я отнесся к ним сейчас, если б перечитал. Но никакого другого направления того времени я не знал, скажем, с символистами, я познакомился очень поздно — с помощью Багрицкого, когда мне уже шел 16‑й год. Мне шел девятый год, когда большевики вступили в Одессу. Они занимали наш город несколько раз, и я думал: вот пришли большевики и уйдут, как всегда уходили, и так все думали, и взрослые, но оказалось, что пришли на 70 лет. Последнюю их долгую победу я запомнил потому, что сразу начался голод. Закрылись книжные магазины и библиотеки, потому что не было отопления. Но когда годика через два-три библиотеки открылись, я абонировался сразу в двух детских, что приходилось скрывать, потому что в то время это почему-то было противозаконно. Тогда четыре книги вошли в мою жизнь: Пушкин, Библия, «Илиада» и «Одиссея». Электричества не было, а было блюдце, в которое наливали масло, вставляли ваточку и зажигали. Родители очень сердились, что я при таком маленьком свете читаю, но эти книги я читал и перечитывал. Тут даже, возможно, было какое-то болезненное явление: вот я кончу читать, и опять начинаю это же. Позднее, в мои взрослые годы, был период, примерно между 27‑м и 30‑м годом, когда в библиотеке можно было взять книги, ставшие потом запретными: Бунина, изданного за границей, Шмелева, Зайцева, Ходасевича, Бердяева, Франка — всех участников «Вех» и сами «Вехи», Ницше. Тогда это выдавалось и в Одесской публичной библиотеке, и в Москве в Румянцевской. Я был постоянным читателем и особенно любил философию. Самое большое впечатление на меня произвел «Закат Европы» Шпенглера. Произведения некоторых моих знакомых, например, Платонова и Гроссмана, и своих близких друзей: Тарковского, Штейнберга и Петровых я знал до их публикации… Багрицкий мне читал «Думу про Опанаса», когда она еще не была напечатана. Поэма была более антибольшевистская, там не было, скажем, таких строк: «Так пускай и я погибну у Попова Лога / Той же самою кончиной, что Иосиф Коган». Потом он это исправил под нажимом редакторов. Но Багрицкий читал мне больше не свои стихи, а Случевского, Анненского, Блока, Гумилева, Клюева… А сейчас я опять вернулся к философии. Перечитываю Шпенглера и Канта уже новыми глазами, глазами старого человека. И конечно, я каждый день обращаюсь к Библии, которую люблю читать с той страницы, на какой открою, и Новый Завет, и Ветхий. — А когда Вы сами начали писать? — Мне нравились стихи, и писать я начал в детстве, видимо, под влиянием тех поэтов, которых тогда читал. Я рано почувствовал метр, и когда я сочинял свои детские ерундовые стишки, то всегда метр в них был правильный. У меня был товарищ, который учился играть на скрипке, и у него был замечательный музыкальный слух. Он и стихи писал, но у него на стихи не было слуха, и размер в них был не выдержан, а я ему никак не мог это объяснить, так как не знал еще таких понятий, как ямб или хорей. Скажем, была у него рифма «бегом» и «богом» — неправильная для читателя классической поэзии. Он говорит: «Как? У меня разница в одной букве!», а я только мог возразить: «Так не получится». В 1926 г., когда мне было 15 лет, я принес свои стихи в газету «Одесские известия». Багрицкий там был консультантом, и мы познакомились. Что-то он во мне увидел и напечатал. Тогда же я стал посещать литературные кружки при одесских газетах. Я читал, меня часто ругали, реже хвалили. — Вы уже понимали тогда, что поэзия — Ваше призвание? — Нет, я, конечно, не знал тогда, что буду профессиональным стихотворцем. Это случилось в 29‑м году, когда я приехал в Москву учиться. Сразу поступить в институт я не смог, так как был сыном кустаря, и, хотя выдержал все экзамены, меня не приняли. Зато напечатали во всех главных журналах: в «Новом мире», в «Октябре», в «Молодой гвардии», в альманахе «Земля и Фабрика». Все пошло у меня хорошо, я стал членом Литературного фонда (Союза писателей еще не было). Но так длилось года два, а потом меня перестали печатать. — С чем это было тогда связано? — Я еще не завоевал такого признания, чтобы мне позволили писать так, как я хочу, а направление издательской политики сделалось крайне коммунистическим. И мои стихи стали отвергаться в тех же самых журналах. Но я писал и даже составлял книги, хотя не видел возможности их издать. Только после смерти Сталина мои стихи опять стали появляться в печати. Главным образом их публиковал Твардовский в «Новом мире». Тогда я подготовил большой сборник, в котором было несколько моих поэм и лирика, и предложил его издательству «Советский писатель». Года два тянулось решение: отдавали на рецензию разным людям, но рукопись мне не возвращали. И наконец, мне показали рецензию поэтессы Адалис, чрезвычайно хвалебную, что меня удивило, потому что личные отношения у меня с ней были неважные. Но Адалис была человеком образованным, знающим, свое мнение изложила убедительно, и книгу решили издать. Меня вызвал заместитель главного редактора, ведавший стихами, Борис Соловьев. Он велел выбросить обе поэмы: о чеченце, который остался в горах, когда его народ депортировали, и другую, в которой рассказывалось о преследовании абхазского большевика Нестора Лакобы, арестованного при Сталине. И вообще, все, что резко противоречило тогдашнему политическому направлению, хотя и послесталинскому, редактор предложил снять. Я с ним начал бороться, не всегда следовал его указаниям. И вот в 1967 г., когда мне было 56 лет, вышла книга «Очевидец». Прессой она была встречена сочувственно. А потом со мной произошла неприятность. — Последовал новый перерыв? — Да. Тогда в связи с моей переводческой работой я читал книгу по фольклору Южного Китая. Там меня поразило, что есть народ, чье имя в одном только звуке «И». Я написал стихотворение об этом народе, которое кончается так: «Человечество быть не сумеет без народа по имени И». То есть каждый народ ценен как часть человечества. Пресса восприняла это стихотворение как воспевание Израиля, поскольку название этой страны тоже начинается на букву «И». И хотя ясно, что речь идет не об Израиле, ведь там говорится, что этот народ молится в кумирне, значит, идолам поклоняется, а евреи — монотеисты, но на это не обратили внимания. Появилась статья «Фашизм под голубой звездой» и ей подобные, в общем, меня бичевали. Потом востоковеды написали в журнале «Азия и Африка», что народ «И» действительно существует в Китае и что Мао Цзе Дун его преследует, но это не помогло делу. Я был взят на подозрение, и меня перестали печатать опять. Эта вакханалия началась в 1968 г., и восемь лет прошло, прежде чем издали мою новую книжечку, именно книжечку, «Вечный день». И в журналах печатали меня с трудом. Но меня тогда поддержали на периферии: в Таджикистане вышел сборник «Тетрадь бытия», названный по фразе из Рудаки. Половина стихов моих, а половина — переводы из таджико-персидской поэзии. А в Элисте переиздали книгу «Очевидец», потому что мне там присвоили звание Народного поэта Калмыкии. — За перевод «Джангара»? — Да, но была, вероятно, не только литературная причина. Дело в том, что в войну я служил в составе Калмыцкой 110‑й кав-дивизии. И еще: у калмыков первым Героем Советского Союза стал солдат Эрдни Деликов. Он погиб на моих глазах, и я сообщил о нем и о его подвиге. Думаю, что все это тоже сыграло свою роль, и вскоре после того как калмыки возвратились из депортации, мне присудили звание Народного. Калмыкия — это моя первая любовь. — А как начиналась Ваша переводческая деятельность, ведь для многих поэтов в то время это было занятием вынужденным? — У Тарковского есть строчки: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова». У меня такого чувства не было, я переводил с удовольствием. Первые пробы были по рекомендации Багрицкого. Я поселился около него в Кунцеве и почти каждый день у него бывал. Я не был под его влиянием литературным, в том смысле, чтобы я ему подражал как поэту, но находился тогда под влиянием его взглядов на поэзию. Хотя потом мы неоднократно ссорились, особенно когда он написал «Смерть пионерки», которая мне не понравилась. Я по неопытности ему прямо говорил, что думаю, но Багрицкий ко мне относился не сказать, что по-отцовски, но как старший брат. Я даже его называл не Эдуард Георгиевич, а Эдя, как он сам меня попросил к нему обращаться. И вот он переводил одного поэта, и ему это надоело. И хотя он жил материально очень неважно, снимал половину избы без удобств, писал мало, поэтому и денег мало было, но ему надоело, и он попросил меня перевести под его именем ту часть, что не успел. Я это сделал, Багрицкий посмотрел, сказал, что все хорошо. И я получил большой гонорар, потому что он был на его имя. И так постепенно по его рекомендации стал кое-что переводить. Но я уже тогда учился в Московском инженерно-экономическом институте имени Орджоникидзе, делал это мало, редко — и стал переводить профессионально только году в 32–33‑м, когда заведующим отделом переводов народов СССР был назначен Шенгели. Начал я с советской поэзии. Это была чисто ремесленная работа, с подстрочников, но я относился к ней серьезно, погружался в изучение истории тех народов, поэтов которых переводил. Особенно мне нравилась их старая поэзия, но напечатать ее было трудно. И вот однажды мой сотоварищ по инженерно-экономическому институту калмык Петр Кирбасов рассказал мне о «Джангаре» и пропел целую главу. Я перевел ее довольно далеко по содержанию, но очень близко по форме. Состоялась и публикация, которую прочел Корней Иванович Чуковский, очень лестно отозвался обо мне в «Правде» и как бы поставил в ряд мастеров. С тех пор я получил возможность заниматься тем, что больше всего любил, — народно-эпической поэзией. Но «Джангар» я тем не менее переводил как бы для себя, без договора, параллельно с заказными работами. Потом быликиргизский «Манас», бурятский «Гэсэр», кабардинские, балкарские и абхазские «Нарты», казахский «Кобланды-батыр»… Я уже был в годах, когда мне предложили перевести Фирдоуси, и я стал изучать язык фарси, так что постепенно смог со словарем читать подлинник. Вообще у меня как переводчика есть масса сопоставлений Фирдоуси с мировой европейской и русской литературой. Например, в его поэме «Вахрам Чубин», Вахрам Чубин — полководец, не шах. И он встречает в лесу ведьму, которая ему предсказывает, что он станет шахом. Что вам это напоминает? Макбета. Тоже ведьма, тоже в лесу. Я проверял, мог ли знать Шекспир эту легенду через Фирдоуси. Нет, не мог, ученые говорят, что в Италии была издана прозой какая-то глава Фирдоуси, но не эта. Но интересно совпадение: два претендента на престол, оба полководцы, оба с помощью убийства становятся владыками империи, королевства. Потом у него есть поэма о другом Вахраме, «Вахрам Гур». Там есть такая история: Вахрам Гур, скрывая то, что он шах, объезжает свою державу. Попадает он в деревню, очень запущенную, и встречает там, как ему кажется, женщину и спрашивает: «Как пройти к хозяину твоему?» Та говорит: «Я и есть хозяин». То же самое, Чичиков Плюшкина сначала принимает за женщину. Далее описывается, какая скупость овладела хозяином, что он довел жителей деревни до нищеты. Конечно, Гоголь не мог этого знать, но что-то гениальное, видимо, связывает писателей разных эпох, разных языков. Я как-нибудь об этом напишу. В «Шахнаме» свыше 100 тысяч строк, а я успел перевести около 30 тысяч, когда в 1979 г. в связи со скандалом вокруг альманаха «Метрополь» мы с Инной Львовной Лиснянской вышли из Союза писателей. Тогда нам наложили запрет и на эту профессию, а мои переводы стали переделываться заново. — И это новое молчание длилось уже до перестройки. — В Советском Союзе — да. Но после «Метрополя» много моих вещей оказались на Западе. Они попали в издательство «Ардис», которое передало их Бродскому. Видимо, мои стихи ему пришлись по душе, он составил книгу и назвал ее «Воля». Лучше я бы и сам не назвал. Выбрал он очень хорошо, и несколько раз очень лестно отозвался там в печати и обо мне, и об Инне Лиснянской. — Вы были с ним знакомы? — Нет, с Бродским я знаком не был. Но с ним у меня связана одна история. Когда надвинулось на него это судилище в Ленинграде, Анна Андреевна Ахматова, с которой мы дружили, в той мере, в какой рядовой поэт может дружить с поэтом великим, попросила меня, чтобы я поговорил с Твардовским о том, чтобы тот вмешался и спас бы Бродского. Я пришел к Твардовскому, рассказал суть дела. Он предложил показать ему какие-нибудь стихи Бродского, объяснив, что иначе не может в это дело включиться. Я вернулся на Ордынку, взял все, что там было: «Шествие» и несколько лирических стихотворений, и отдал их секретарше Твардовского, Софье Ханаановне. Через несколько дней она меня вызвала к редактору. Твардовский сказал, что хотя стихи никуда не годятся, но нельзя так обращаться с мальчиком. Прокофьев — жестокий человек, чекист, но он с ним переговорит. И Твардовский меня не обманул. Как мне рассказывали Гамзатов и Кулиев, разговор с Прокофьевым о Бродском произошел в номере Гамзатова в гостинице «Москва». Твардовский сказал ему примерно следующее: человек только начал писать стихи, пусть тебе они не нравятся, мне тоже не очень нравятся, но это не форма общения с молодым поэтом, за что его преследовать? Прокофьев ответил: «Ну что ты за этого жиденка заступаешься». После чего между ними был очень крупный разговор (т. е. матом), но не сумел Твардовский защитить Бродского. — Но на Западе стали публиковаться не только Ваши стихи. Там Вы впервые заявили себя и как прозаик. Как складывалась судьба этих книг? — Повесть «Декада» вышла в США в издательстве «Chalidze publications». Она там имела успех, были рецензии, передачи по «Свободе». Названия народов в ней вымышленные, потому что повесть я начал писать, когда они еще не были возвращены. И я придумал им имена, чтобы мне было больше свободы передать обычаи и историю разных народов, а не только депортированных, т. е. я брал и балкарские, и карачаевские и кабардинские, и дагестанские легенды, потому что считал, что и другие народы могут быть депортированы, если Сталин того пожелает. Затем в издательстве «Ардис» вышла книга «Сталинград» Василия Гроссмана. Здесь ее переиздали под именем «Жизнь и судьба», поскольку нашим издателям не хотелось, чтобы было слово «Сталинград». Но у меня была в этом заглавии определенная мысль: так же как немцы подошли к Сталинграду, уже покорив огромную часть России от Бреста до Эльбруса, и потерпели поражение, так и враги Гроссмана, и преследуя его, и доведя его до могилы, были им все-таки побеждены. — У нас Ваши книги стали вновь появляться с 1989 г., когда в приложении к «Огоньку» вышел тоненький сборник «Лира», потом были «Лунный свет», «Письмена», книги прозы и воспоминаний, а где-то с 1991 по 1995 г. образовался новый перерыв. Это, видимо, связано с нынешней издательской ситуацией? — Да, когда в 92‑м году повесть «Записки жильца» была напечатана в «Новом мире», ко мне приехал некто Каминский, хозяин издательства «Олимп», и заключил со мной договор на издание двух моих повестей «Декада» и «Записки жильца» и книги воспоминаний «Вторая дорога». Но тогда он не издал ни того, ни другого. И только в прошлом году, когда я получил гамбургскую Пушкинскую премию, он в нарушение договора быстро и неаккуратно напечатал только мои воспоминания, причем вместо гонорара дал мне около 500 книг от неуказанного тиража. В общем, я попал в лапы мошенника. Потом ко мне обратилось издательство «Полярис», и со мной заключили договор о переиздании пяти моих переложений народного эпоса для детей, среди которых «Манас Великодушный» и «Приключения богатыря Шавшура» получили в свое время премии конкурса на лучшую детскую книгу. Даже мне за «Манас Великодушный» они дали аванс. Но с тех пор они пропали, и я не знаю, существует ли это издательство или оно лопнуло? А недавно в связи с 1000-летием эпоса «Манас» я получил сердечное поздравление президента Кыргызстана Акаева, в котором он между прочим пишет о том, что название моей повести «Манас Великодушный» стало народным присловьем и что он прочел эту повесть в новом издании. Так вот, я не знаю, что это за издание, а если — «Поляриса», то почему я его не видел и не имею? И только в прошлом году в издательстве «Третья волна» вышла книга моих новых стихов «Перед заходом солнца». Сейчас нашелся один крупный предприниматель, который решил переиздать мой перевод таджико-персидской поэмы XII в. «Вис и Рамин» Гургани, — куртуазная вещь с эротическими картинами. — Ваши книги выходили редко и трудно, а многое ли осталось в столе, и есть ли у вас новые произведения, которые бы вы могли предложить издательствам? — Примерно 70 процентов того, что я считаю более или менее приличным, уже напечатано. Самые мне дорогие книги это «Воля» и «Письмена»: в них наиболее полно представлено то, что я хотел предложить читателю. И сейчас я бы мог издать небольшую книгу новых стихов, такую же по объему, как прошлогодняя. Еще есть незаконченные вещи и то, что мне по разным причинам не хочется сейчас публиковать, уж после смерти, может быть, напечатают. Но я мало кого вижу. Надо честно сказать, что ко мне издатели редко обращаются, а в мои годы неудобно быть просителем. Впрочем, один издатель нашелся, он сам талантливый писатель, но у него денежные затруднения. — Что Вы пишете сейчас, есть ли какие-то творческие планы? — Прозу я не пишу, а стихи пишутся сами. 1996 Публикация Д. Полищука.НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ЛИТЕРАТУРЕ. ЭТО ХОРОШО
Беседу вела Ирина Тосунян
Когда, закончив беседу, я собралась уходить, Липкин достал с полки последнюю свою книжку стихов «Перед заходом солнца», надписал и протянул мне. Я, испытывая чувство неловкости, тем не менее тут же в нее влезла и прочитала надпись. «Это вы очень правильно делаете, — сказал поэт. — Когда-то вот так же свою книгу мне подарила Ахматова. Я взял и, не раскрывая, не читая, поблагодарил. Анна Андреевна заметила: „Две вещи нужно знать: не надписывать косо, а если вам надписывают книжку, — тут же надпись прочесть“. На мой растерянный вопрос, отчего же нельзя надписывать косо, ответил: „Не знаю, Ахматова, видимо, считала это дурным тоном“». В прошлом году на вручении Липкину немецкой Пушкинской премии за вклад в русскую литературу он произнес речь, в которой были такие слова: «Один американский писатель, кажется, Генри Миллер, посетивший Россию, удивился тому, что для русских писатель Пушкин — все равно, что для американцев политик Вашингтон. Это действительно так. Александр Первый, Николай Первый, Александр Второй Освободитель — люди значительные, но для нас они императоры, жившие при Пушкине, Тютчеве, Гоголе, Толстом, Достоевском. Я думаю, что наши потомки будут знать о Хрущеве, Брежневе, Андропове и других черненко, что они были современниками Солженицына и Бродского. Уж такова Россия». Летом 1961 г. Анна Андреевна Ахматова подарила Липкину свою «маленькую книжицу в черном переплете», вышедшую в серии «Библиотека советской поэзии», и ровно, не скашивая, надписала: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала». — Семен Израилевич, я знаю, что практически все нынешнее лето Вы провели в Доме творчества писателей в Переделкине и, наверное, там не только отдыхали, но и работали? — Не очень интенсивно, но работал. Писал стихи. — А можно читателям «Литературной газеты» стать первыми читателями какого-нибудь из написанных вами последних стихотворений?ПОКУРИМ, СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ?
Беседу вела Юнна Чупринина
С этого вопроса начался роман поэтов Семена Липкина и Инны Лиснянской, которые вместе уже 30 лет и в этом году сыграли свадьбу. По знаку судьбы, в литературной энциклопедии эти фамилии идут одна за другой. Семен Израилевич ЛИПКИН — прекрасный поэт и блестящий переводчик классической поэзии и народных сказаний с таджикского, калмыцкого, узбекского, кабардинского, киргизского языков. Лауреат гамбургской Пушкинской премии. Инна Львовна ЛИСНЯНСКАЯ — тонкий лирик, автор нескольких поэтических книг. Об их творческой жизни известно предостаточно. А вот о жизни совместной — а точнее, об известном им одним секрете «уживания» — знают гораздо меньше. Инна Львовна: Некоторые думают, что мы с Семеном Израилевичем пишем в одной традиции. И жестоко ошибаются. Может быть, это покажется вам банальным, но мы с ним — абсолютные противоположности. А противоположностям суждено сходиться. Инна Львовна и Семен Израилевич, Он и Она, встретились в Доме творчества писателей в Малеевке. Встретились — познакомились. Все началось с невинной вредной привычки: в том далеком январе 1967 г. оба курили. Инна Львовна частенько говорила: «Покурим, Семен Израилевич?» Эта фраза и стала залогом их будущего союза. Семен Израилевич давно бросил курить, Инна Львовна, к его неудовольствию, и сегодня «бешено» курит. Но если необходимо обсудить что-то серьезное, оба вспоминают: «Покурим, Семен Израилевич?» Усаживаются и начинают разговаривать. Она: В свое время я часто раздумывала — почему мы встретились, почему полюбили. Ведь у каждого в то время были свои семьи и своя устоявшаяся жизнь. Семен Израилевич был очень хитрый ухажер: все время мне внушал, что я некрасива. Это меня удивляло и даже возмущало. Все время вспоминала строчки из Ахматовой: «Если ты у ног моих положен, ласковый, лежи». И думала: подожди, придет время, и ты будешь у моих ног. (Смеется.) Он: Сам не знаю, как я мог быть так груб. Скорее всего, оборонялся от зарождающегося чувства. Я ведь старше Инны Львовны на целых 17 лет. Когда мы познакомились, не понимал, что меня к ней потянуло. Я как раз пережил некоторое личное разочарование и почему-то сразу доверил Инне Львовне, малоизвестному человеку, свои переживания. Она: Меня же в первую очередь поразил ум Семена Израилевича. По мне, так глупость убивает всякую любовь, самую страстную. И только ум ее поддерживает и освящает. Мы на самом деле совершенно противоположные натуры. Семен Израилевич педантичен и аккуратен, я, к сожалению, совершенно разбросанна. Но мы идем друг другу навстречу: за те 30 лет, что мы вместе, я, например, стала аккуратней и в доме, и во времени, и в стихах. Он: Ты исчерпала тему. (Смеется.) Конечно, у нас, как и у всяких людей, бывают споры. Но никогда не бывает бытовых разладов. Инна Львовна более тверда в своих убеждениях, я более либерален. Нельзя забывать: помимо того что мы муж и жена, мы еще и литераторы. Не скажу — поэты, именно литераторы. Которые не только уважают, но и ценят друг друга. О Семене Израилевиче и Инне Львовне ходят разнообразные симпатичные слухи. Например, рассказывают, что когда у кого-то из них выходит новая книжка стихов, они дарят ее друг другу с трогательными надписями. Оказалось, так и есть. Более того, прочтя сборник Инны Львовны «Из первых уст», Семен Израилевич сочинил резюмирующую надпись: «Книгу прочел… Что живее отрад, в чем пониманье обоих заветов? Все! Заключаю тебя в первый ряд нынешних русских поэтов». Она: Он не только свои впечатления оставляет. Иногда прямо на полях выставляет отметки: это стихотворение или даже строчка — пять, это — три с минусом. Причем не только мне. Он: Стихи сыграли большую роль еще при нашем сближении. А началось все с того, что стихи, которые Инна Львовна показала, мне не понравились. Хотя по отдельным строкам я решил, что она гораздо талантливее меня, просто гораздо меньше знает. Она: А знаете, как интересно получилось с этими стихами? В одном из издательств мне сказали: ничего из того, что вы принесли, мы печатать не будем. Это слишком далеко от народа и чересчур религиозно. Нам не нужны вторые Ахматовы и Цветаевы. А я на это: «Вам и первые не нужны». Но они все же предложили: «Вы много пишете, вот и принесите что-нибудь похуже, а еще лучше — самое плохое, что у вас есть, — тогда напечатаем». В той книжке, по которой Семен Израилевич меня судил, были собраны самые неудачные стихи. Зато я знала стихи Семена Израилевича еще до нашего знакомства. В те времена его не печатали, но в 62‑м году я попала на один вечер в Дом литераторов. Там выступали Арсений Тарковский, Слуцкий, Глазков — главным образом переводчики, коллеги Семена Израилевича. И помню, как меня поразила поэма Липкина «Техник-интендант». Это замечательное произведение с новым взглядом на войну, новым ее ощущением, о чем впоследствии говорил Иосиф Бродский. С того времени, как мы стали жить вместе, я всегда — первый читатель Семена Израилевича. В отличие от Липкина: ведь он может так резко выразиться, что я пугаюсь. В моей жизни был период — года два, — когда я совсем ничего ему не показывала, только уже вышедшие журналы. Он: Неужели так было целых два года? Она: Вы читали записные книжки Ахматовой? Читаешь и понимаешь, что ей было просто невозможно продолжать жить с Гумилевым. Она боялась, что ее будут считать его ученицей. Ничего удивительного, ведь Ахматова — характер, великий поэт, и в своем эгоцентризме, и в построении своей биографии. Кроме того, когда она боялась прослыть ученицей, она была молода, чего не скажешь обо мне. Да и кто такая я? Это случилось уже в феврале 1997 г. В квартиру Липкина и Лиснянской позвонила Белла Ахмадулина. На вопрос о том, где хозяева, женщина, которая помогает поэтам по дому, ответила: «А их нет. Ведь у нас такое событие, такое событие». Ахмадулина перезвонила позже. «Что случилось?» — «У нас радостное событие». — «Премия, что ли?» — начала гадать Белла Ахатовна. Да так и не угадала. Дело в том, что после 30 лет совместной жизни Инна Львовна и Семен Израилевич официально зарегистрировались. Свадьбу играли три дня. Один из гостей, писатель и старый друг семьи Евгений Попов, упомянул о ней в колонке светских новостей и тем самым превратил событие семейной жизни в факт светской хроники. Он: На самом деле мы стали жить как муж и жена в 67‑м году. Но в прежней семье у меня было четверо детей, и я не сразу смог их оставить. Более того, я дал слово жене, что никогда с ней не разведусь. И слово держал, хотя уже понимал, что это ошибка. В 78‑м я ушел к Инне Львовне окончательно. Но тут началась история, связанная с альманахом «Метрополь», нас преследовали. И я, честно говоря, боялся, что если начну дело о разводе, это повредит всем. Сегодня мне уже много лет. Помните, как мужики говорили о Льве Толстом: «Там его давно ждут». Я, конечно, не равняюсь с Толстым, но меня тоже уже ждут. Я решил, что настала пора завершить затянувшееся дело. И первым делом купил Инночке кольцо. Она: Теперь, когда у Семена Израилевича плохое настроение или он на меня рассердится, я всегда показываю палец и колечко, и мы начинаем смеяться. Вначале я очень переживала, что наши отношения не были узаконены. Но вскоре привыкла: мы живем под одной крышей, и слава Богу. Даже отговаривала Семена Израилевича от этой затеи, вроде мы уже стары для этого. Но когда наконец обратилась в официальную жену, то почувствовала какое-то облегчение. И радость. Да и Семен Израилевич — он во всем любит порядок — стал поспокойней. Сама я смогла оставить прежнюю семью гораздо быстрее. Хотя моя дочь, ныне писательница Елена Макарова, была моложе детей Семена Израилевича, ей было всего 16. Но жить во лжи для меня всегда было невозможно. Да и вообще я прытче. Он: Еще молода дэтына. (Смеется.) Как-то утром, много лет назад, Семен Израилевич вышел из дому. У него тогда только начиналась так называемая грудная жаба, и на свежем осеннем воздухе сразу сжалось сердце. Прежде чем пойти куда-то по делам, Семен Израилевич постоял минутку-другую на ступеньках у парадного. Вдруг проходит мимо него человек огромного роста. И говорит, показывая на Семена Израилевича пальцем: «У вас есть поэмы, у меня есть поэмы. Вы великий поэт, я великий поэт. Меня зовут Рейн». Так Семен Израилевич «познакомился» с поэтом Евгением Рейном. Он: Спустя много лет Рейн пригласил меня участвовать в литературном и абсолютно аполитичном альманахе. Он назывался «Метрополь». С еще одним «метропольцем», Василием Аксеновым, я тогда почти не был знаком, знал его как сына Евгении Семеновны Гинзбург. В ее однокомнатной квартире, в то время принадлежавшей Аксенову, все и производилось. «Метропольцы» были гораздо моложе меня. Инна Львовна, хотя и старше, скажем, Ахмадулиной, но они принадлежат к одному литературному поколению. Другое дело — я. Не случайно Аксенов потом вывел меня в одном из романов как «грузина», единственного старика в компании. Она: А меня этот альманах в первую очередь привлек заверениями в том, что не будет никакой цензуры, никто не будет ничего вычеркивать. Для меня как для идеалиста это казалось самым важным. И в таком разговоре — о любви — надо различать два понятия: идеализм и цинизм, два типа людей — идеалистов и циников. «Кто был ни с чем, тот станет всем» — это присутствует уже в Библии. Тот, кто слушает Господа Бога, пусть он нищ, возвысится. Тот, кто не внимает Богу, унизится. В нашем обществе этот постулат восприняли атеистически: «Кто был ничем, тот станет всем». Это, безусловно, не значит, что если какой-то человек живет богато, он обязательно циник. Даже при том расслоении жизни, какое сегодня происходит, мы живем нормально, мы не нищие. И наш разговор с большинством враз разбогатевших — это не разговор нищего с богатым, а разговор идеалистов с циниками. Он: Любовь — это не только отношение мужчины к женщине и детей к родителям. Самое главное, это понимание того, что любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Надо просто любить Бога и его создания. Циник не может любить никого, кроме себя. И жену, и ближних он любит только как приложение к себе, как обслугу своей любви. Именно из любви к себе рождается тоталитаризм и национал-социализм. Такие люди встречались всегда. Но, как мне кажется, сегодня их особенно много. Мы как будто завоевали абсолютную свободу, но при этом утеряли чувство любви к человеку. В первую очередь благодаря атеизму. И главным образом — атеизму воинствующему. Когда я был ребенком, я сам видел, как грабят церкви, выносят оклады, какой это разврат для человека. Это был конец любви. Поэтому сегодня только любовь спасет нас. Она: А никакая не красота. Вот посмотрите на Окуджаву, он был моим другом почти 40 лет. Он все время повторял: «Я атеист, я не верую». Но если бы он действительно не веровал, откуда бы возник «Надежды маленький оркестрик под управлением любви»? На следующий день после похорон Булата Ольга, его вдова, пришла к нам в Переделкино. Я вспоминала наши первые встречи. Ей было интересно, ведь мало кто знал Булата так же долго, как я, с 1957 г. Мы обсуждали планы открытия музея Окуджавы. По всей видимости, им станет дом в Переделкине. В 1979 г., после выхода альманаха «Метрополь», на головы его составителей посыпались обвинения. Двух самых незащищенных — Виктора Ерофеева и Евгения Попова — исключили из Союза писателей. Липкин и Лиснянская вышли из Союза в знак протеста. И тем самым Семен Израилевич ни много ни мало подорвал дружбу братских советских народов. Его, одного из крупнейших переводчиков республиканской литературы, запретили публиковать. Говорят, что в ответ на все «ахи» и «охи» по этому поводу тогдашний литературный начальник Сергей Михалков резюмировал: «Не надо паники. Мы найдем другого Липкина». Да так и не нашел. Он: Наибольшим преследованиям подверглась Инна Львовна. Наверное, из-за того, что я — старше, что участник войны, что как переводчик был в своем деле довольно известен, даже награжден всякими почетными званиями. Самое страшное, чего я боялся, — что ее вышлют, а меня оставят. Что нас разлучат. Она: А мне сегодня вспоминается только смешное… Он: Например, мне сообщили, что жители Фрунзенского района, возмущенные тем, что мы живем с ними рядом, потребовали нашей высылки. Это было уже в 1986 г. Я отвечаю: «Не все жители возмущены. Есть один видный житель, который не только не возмущен, но и желает мне здоровья и творческих успехов». Они встрепенулись: «Кто?» — «Военком Фрунзенского района. Именно он вручал мне орден Отечественной войны в годовщину Победы». Но никакого впечатления мой ответ не произвел. Я надеялся на смущение, хотя бы на улыбку, но они продолжали смотреть жестко. А вскоре после этого я перенес операцию. Инна Львовна, а она неотрывно находилась в больнице, должна была поехать домой, чтобы подготовить нашу небольшую квартирку к моему «лежанию»: зашить меня собирались только через несколько месяцев. Не успела она открыть дверь, раздался телефонный звонок: «О вас опять говорила „Свобода“». А Инна Львовна в ответ: «О Горбачеве „Свобода“ говорит целый день, а вы его не трогаете». Она: Это был последний разговор. Я пригрозила, что дам телеграмму Горбачеву: «Уважаемый Михаил Сергеевич, почему о вас можно говорить по „Свободе“ круглосуточно, а обо мне никогда?» И звонить действительно перестали. Это был март 87‑го года. Если честно, я вспоминаю это время как благословенное, мы много писали, хотя и без надежды на публикацию. Они придирались, издевались, хотели обидеть. Например, как вам такой пассаж? Вот, говорят, вышел сахаровский сборник. И в нем — ваши произведения. И еще, между прочим, творения «вашего друга, мужа, непонятно кого, этого, как его, в общем, Липкина». Он: Кроме того, в то время специально распространялись слухи, что мы вышли из Союза не в знак протеста против исключения Попова и Ерофеева, а чтобы облегчить себе выезд за границу. А мы вообще не собирались уезжать. Она: Я, наверное, очень хитрая. Уже на первом допросе мне удалось — правда, нечаянно — выбить из-под них табуретку. Я сразу поняла, что они будут настаивать на нашем отъезде. Потому что не понимали, не думали, не представляли себе, что такое настоящие 1 идеалисты. Потому что считали, что все должно быть материально оправданно и обоснованно. Он: Забавно, но их надежды на наш отъезд даже сыграли нам на руку. Мы тогда жили только на две пенсии: Инны Львовны по инвалидности и мою по возрасту. Но незадолго до этого я перевел огромный бурятский эпос. Выплаченные 60 процентов гонорара оставил в прежней семье. И во время гонений мы получили остальные 40 процентов: они просто испугались, что мы уедем и потребуем эту сумму уже в валюте. Она: Они говорили: «Там, на Западе, уже есть один, которым гордятся (имея в виду Бродского). Но вы здесь, и мы не позволим, чтобы гордились вами». А я отвечала: «Кто вам мешает, публикуйте меня и гордитесь мною здесь». Как и прежде аполитичные, Семен Израилевич и Инна Львовна недавно попали на страницы газеты «Завтра». С самыми лестными для себя эпитетами: газета напечатала сообщение о том, что «наши прекрасные поэты Семен Липкин и Инна Лиснянская» обвенчались. И прокомментировала: да как же они, столько лет писавшие все больше о Христе, жили необвенчанными, попросту говоря, в блуде? Но газета в который раз обманулась: никакого венчания не было и быть не могло. Семен Израилевич и Инна Львовна принадлежат к разным религиозным конфессиям. Она: Мне кажется, что вопрос о Боге — это самый щекотливый вопрос в любви. Ведь эти отношения еще более интимны, чем отношения между мужчиной и женщиной. Я не ортодоксально верующий человек. Мать была армянкой, бабушка и няня крестили меня втайне от комсомольцев-родителей. Сегодня, когда всех по разным причинам потянуло в церковь, я хожу туда все реже. В своей комнате держу икону, зажигаю лампадку. Когда хочу, молюсь. Во мне никогда небыло обязательной церковности. Никакого агрессивного отношения, как у некоторых сегодняшних неофитов. Может, я не права и говорю нечто антицерковное, но ведь верно было сказано: не человек для субботы, а суббота для человека. Он: Я верующий иудей. В прежние времена, когда был поздоровее, я пытался следовать некоторым обрядам. Всегда постился. Однажды во время войны, когда служил в Кронштадте, пропустил пост: мы тонули, и я даже не знал, в какой день его следует соблюдать. Это мой грех. Но я люблю Христа. Я считаю, что Нагорная проповедь, хотя она во многом повторяет слова иудейского пророка Исайи, есть величайшее творение человеческого разума. Я не могу принять святую Троицу. Но это не значит, что православный человек мне чужд. Я люблю Инну Львовну, люблю все, что ей дорого. И ее крестик кажется мне таким трогательным… Публикуется по изд.: Общая газета. 1997. 18–24 сент. № 37 (216).ИСКУССТВО НЕ ЗНАЕТ СТАРОСТИ
Беседу вела Ольга Постникова
Я не знаю, возможно ли Царство Божие на земле, но твердо знаю, что Царство Божие есть в нас. Поэтому мы сильнее зла, Россия сильнее зла. Семен Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана — Семен Израилевич, многие хотели бы задать Вам вопросы о Вашем творчестве и Вашей жизни, узнать ваш взгляд на судьбу литературы в XX в. и русской литературы в постимперское время. Поручив мне вести с Вами беседу на литературные темы, журнал «Вопросы литературы» предстает, по сути, тремя вопрошающими: главный редактор Лазарь Ильич Лазарев, Татьяна Бек и я. У каждого из названных свои вопросы, а задавать их буду я. В интервью газете «Русская мысль» от 3 февраля 1983 г. Иосиф Бродский говорит: «…Меня всегда поражало, как это получилось, что в России, на долю которой выпал такой уникальный, катастрофический во многих отношениях опыт, опыт приближения человека к самым экзистенциальным основам: годы коллективизации, война, не говоря уже о терроре… как получилось, что это не нашло почти никакого отражения в поэзии. И вот я читаю Липкина… Липкин — поэт замечательный во многих отношениях, хотя, я думаю, его поэтика пострадала от того, что ему пришлось заниматься всю жизнь переводами. И даже поразительно, как Липкин все-таки остался достаточно независим… Совершенно ошеломляет, когда, скажем, в поэтике позднего романтизма рассказывается об отступлении огромной группы войск, это что-то совершенно уникальное, это действительно эпос». Бродский был, как известно, составителем Вашей первой большой книги «Воля», собрав тексты из попавшего на Запад «самиздата». Как создавались поэмы, вошедшие в нее? — Вопрос о том, как составлялись мои поэмы, опубликованные в книге «Воля» под общим названием «Вождь и племя», заставил меня крепко задуматься. Необходимо начать с того, что мне, вышедшему в январе 1980 г. из Союза писателей, жившему в родной стране под запретом на профессию, было, конечно, известно, что в американском издательстве «Ардис» должна выйти книга моих стихов, но я не мог предположить, что книга будет издана в таком большом объеме, что ее составит такой крупный поэт, как Иосиф Бродский, с которым я не был знаком. С первых своих сознательных лет я начал задумываться над единством Бога и нации. Как объяснить это единство? Оно естественно для евреев: разбросанное по всему миру, лишенное 20 веков назад государственности, еврейство находило себя как нацию только в Боге. Окруженное со всех сторон идолопоклонниками, среди всемирного язычества еврейство начало существовать и продолжало существовать только потому, что верило в единого Бога. Христианство, могучее и революционное наследие иудаизма, родилось как религия всего человечества. Разделенная впоследствии на несколько конфессий, христианская вера никогда не дробилась на нации. Ставший у нас печально известным «пятый пункт» отсутствовал в паспортах царской России: указывалось только вероисповедание. Ганнибал был завидным женихом: никакого значения не имело, что он неф. Важно было, что он православный и, конечно, любимец Петра. В то же время в самом православии многое связано с исповедующей его нацией, с ее историей, с природой обитания, с дохристианскими языческими обычаями, с пониманием нацией своего места на земле. Например, у православных русских есть понятие «Святая Русь», в то время как у православных румын понятия «Святая Румыния» нет. Бог и нация неотделимы. Ленин этого не понял, Сталин, родившийся в котле наций, пусть не сразу, уловил это кавказским чутьем. Равенство наций, больших и малых, прекрасно и благородно. Оно рождено христианством. Интернационализм противоречит самому естеству послевавилонского человека. Октябрьский переворот отравил ядом воинствующего атеизма многих русских людей — рабочих, крестьян, ремесленников. В деревнях грабили и жгли не только дворянские усадьбы, но и церкви, а так называемая передовая интеллигенция в большинстве своем жила вне Бога. Должен сказать, что мусульманское население, покорно взирая на закрытие медресе и мечетей, само не участвовало в их уничтожении. Мусульманские коммунисты, чтобы понравиться советским властям, охотно ругали свое духовенство, но я не припоминаю их антирелигиозных высказываний, их участия в уничтожении религиозных зданий. Это понятно: для них Аллах оставался символом нации. Начавшееся в 1930‑х поголовное истребление миллионов работящих крестьян, русских и нерусских, явилось продолжением воинствующего атеизма. Еще Ленин знал: чтобы убить земную плоть, надо сначала уничтожить божественную душу. Сталин, единственный среди большевиков верный ученик Ленина, стал действовать как вождь дикого африканского племени: на пепельницы — черепа. До войны с вождем немецкого племени Сталин видел в своих рабах только врагов личных, внутренних и классовых. Победивший фюрера, но очарованный им, Сталин уразумел, что большевизму надо нацелить подвластное население на ненависть к врагам расовым. Это было нелегко осуществить в многонациональном государстве, но нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Сталин, гений практического злодейства, облегчив свою задачу, начал с преследования малых народов. А ведь недавно, когда власть большевиков еще не окрепла, заискивал перед кавказскими горцами, в ноябре 1920 г. торжественно обещал дагестанцам сохранить у них законы шариата. — Я знаю, как много писателей было очаровано советской властью и коммунистическими идеями. Когда-то я хотела спросить Вас, каково было Ваше отношение к этому на протяжении жизни, но Ваши книги «Вторая дорога» и «Квадрига» дали ответ на такой вопрос. — Должен признаться, мне, рано понявшему дьявольскую сущность большевизма, в голову не приходило, что он, большевизм, станет истреблять целые нации, истреблять вместе с преданными ему коммунистами, с комсомольцами, с пионерами, с зародышами в чреве матерей. Опыт немецкого фашизма вдохновлял Сталина. В самом начале войны была ликвидирована Республика немцев Поволжья. Немцев, всех до едина, выслали в Среднюю Азию и в Сибирь. Наше население отнеслось к этому либо безразлично, либо одобрительно: так немцам и надо. Затем высылке подверглись другие нации. Половина их погибала по пути в скотских вагонах. Это была не только жестокость. Впервые большевики (еще раз отдадим должное Сталину) признали, что класс, коммунистические убеждения — это ничто, для власти важна раса, важно не классовое, а национальное самосознание. Так возник нынешний национал-большевизм. Огромным горем для меня была поголовная высылка калмыков: еще на студенческой скамье я с помощью калмыка однокурсника Петра Кирбасова начал переводить их древний буддийский эпос «Джангар», калмыки — моя первая любовь. Выслали и чеченцев, и ингушей, чьих поэтов-сказителей я переводил еще до войны. Как переводчик киргизского эпоса «Манас» я вскоре после войны, в 1946 г., приехал во Фрунзе (теперь Бишкек) и нашел там своих друзей-поэтов, спецпереселенцев — балкарца Кайсына Кулиева, раненного на войне, и ингуша Джемалдина Яндиева. Нашел и несколько высланных калмыцких семейств. Сердце мое обливалось кровью. Тяжким горем я поделился со своим другом, участником войны, добрым и умным человеком. Слушая меня, он выражал сочувствие мне, а не высланным. Сказал: «Может быть, это диктовалось военными обстоятельствами?» Я рассердился: «Что вы запоете, когда такая же участь постигнет евреев?» Он посмотрел на меня как на глупца. Через три года, когда в «Правде» появилась первая антисемитская статья, предвестница дела «врачей-убийц», он повинно вспомнил наш давний разговор. Летом 1951 г. я с дружественной кабардинской семьей поехал высоко в горы. В машине — провизия, виноградная водка. Остановились в одной из опустевших балкарских саклей. Увидели очаг, кучки серой золы возле него, стол, две скамьи, на ободранной стене семейный портрет. А где семья? Не помню (может быть, из-за выпитой водки), как в сакле появился человек в военной форме, но без погон. Видимо, знакомый моих друзей. Он рассказал, что участвует в поисках чеченца. Все чеченцы высланы, а тот один прячется высоко в одном из ущелий. Никак не удается его изловить. Так я написал свою первую поэму «Туман в горах». В книгу, составленную Бродским, она не вошла. Выдумывать я не умею, героя поэмы я срисовал со знакомого мне ингуша, инженера-нефтяника, моего ровесника, учившегося в Москве. После смерти Сталина я предложил эту поэму «Новому миру». Твардовский ее вернул без всяких объяснений. На рукописи была только одна его пометка: большой вопросительный знак перед строками «Нет, одиноким не был он в горах, / Он был народом, он остался дома». Вторая поэма из цикла «Вождь и племя» тоже не вошла в «Волю». Называется она «Поездка в Ясную Поляну». Меня поразило, что недалеко от усадьбы Толстого, от могилы вегетарианца, происходит кипучая торговля мясом, на столах — огузок, оковалок, топор, головы коров, а глаза у коров показались мне похожими на мои глаза, это моя отрубленная голова глядит «на жадных жен районного начальства». Поехали дальше, вот заправочная, рядом буфет, «бензин и пиво надобно купить. / Тут крикнул некто в кителе брезгливо: / „Зачем евреям отпускаешь пиво?“». Далее следует разговор с Толстым. Поэма, как и предыдущая, опубликована в книге «Письмена» (1991). Я перевел стихотворную часть абхазского народного эпоса «Нарты». Мне надо было поехать в Сухуми, прояснить некоторые места с помощью фольклористов, историков. Предложил Василию Гроссману поехать со мной. Однажды, когда мы с ним завтракали в гостиничном ресторане, к нам подсел абхазец среднего роста, полуседой, с изможденным лицом. Он недавно вернулся в родной город, отбыв много лет в концлагере. Оказалось, он родственник поныне любимого в Абхазии расстрелянного по приказу Сталина руководителя республики Нестора Лакобы, брат его жены Сарии. Восхищался мужеством сестры: она терпела страшные пытки, ей выкололи глаза, но она не сдавалась, утверждала, что муж ее ни в чем не виноват. Наш собеседник признался, что он, мужчина, такой стойкости не проявил. Рассказывая, он все время смотрел на Гроссмана, и, когда через несколько месяцев я прочел Гроссману свою поэму, тот произнес с некоторой укоризной: «Рассказывал он мне, а написал ты». Я замыслил так, что название поэмы «Нестор и Сария» должно было утвердить ее связь с классическими поэмами Востока типа «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин». Это поэма о преследуемых не родителями, не феодальным обществом, а человеконенавистнической политикой коммунистического диктатора. Если «Туман в горах» написан белым стихом, «Поездка в Ясную Поляну» — обычным рифмованным, то в «Несторе и Сарии» я попытался предложить новую в русской поэзии строфику, что должно было еще глубже подчеркнуть связь этой вещи со строфическим многообразием поэтики Востока. Многое в поэме внушено моим переводом «Нартов», наблюдениями над бытом абхазских крестьян — и православных, и исповедующих ислам. Я предложил «Нестора и Сарию» журналам, которые охотно печатали мои переводы, а изредка оригинальные стихи, — «Новому миру» и «Дружбе народов», но получил отказ. Предложил поэму газете «Литература и жизнь», вещь понравилась редактору Поздняеву, отцу ныне известного поэта Михаила Поздняева, он собирался после нескольких исправлений ее напечатать, но тут произошла известная «манежная» история грубых нападок Хрущева на художников, и поэма была мне возвращена. — А «Техник-интендант»? В какой степени автобиографичен «Техник-интендант»? В этой поэме множество прозаических ходов, сюжеты отдельных судеб… Строфика выявлена графически, а не повторением стихотворных приемов. В ритмике — интонация народного сксишиия при современном словаре. Как Вы са. ми определяете особенности этого произведения? — Самая большая из поэм — «Техник-интендант» (название принадлежит Гроссману, я сперва назвал ее «Бегство») — лишена не только строфики, но и рифмы и метра. Она написана свободным стихом, основой которого, как известно, является музыка ритма. Так как мне задан вопрос: насколько автобиографична моя поэма, то я, перед тем как сделать небольшое отступление, хочу напомнить, что вся художественная литература в большей или меньшей степени автобиографична. Напомню затасканное изречение автора «Мадам Бовари»: «Эмма — это я». С первых дней войны я начал служить на Балтике, в Кронштадте, в одной из флотских многотиражек. Звание — техник-интендант 1‑го ранга, что соответствовало старшему лейтенанту. Когда нас вытеснили из прибалтийских портов, почти всех военных литераторов сосредоточили в Ленинграде при Пубалте (Политуправление Балтийского флота). Испытал немало: тонул, перенес первые месяцы блокады. В январе 1942 г. по приказу командарма 2‑го ранга Оки Городовикова был направлен в 110‑ю калмыцкую кавалерийскую дивизию. Должность — писатель при политотделе дивизии. Моряк переоделся в кавалериста. Формировалась дивизия в Малодербетовском улусе. Меня поселили в хорошем деревенском доме, хозяева, как все калмыки, были гостеприимны, а ко мне, переводчику священного эпоса, относились с особенной приязнью. Однажды я застал в доме пожилую женщину, видимо, приятельницу хозяев. Оказалось, что она немка, жительница Сарепты. И вот ее, старую коммунистку, председательницу колхоза, выселяют вместе со всеми сарептскими немцами. Она тихо плакала, хозяева ей сочувствовали. Могли ли они знать, мог ли я знать, что их ожидает такая же участь? Весной сформировавшаяся дивизия двинулась верхами к месту боевых действий, на Дон, расположилась недалеко от станции Мечетинская, штаб — в хуторе Ажинове. По правилам, кавалерийской дивизии для обороны отводится три километра. Нам пришлось растянуться на донском берегу длиною почти в 20 километров: большая часть отступившей армии была уничтожена немцами. Бои были тяжелые. В нескольких шагах от меня был убит командир эскадрона Эрдни Деликов, молодой, хорошо говоривший по-русски, красивый монгольской красотой. Я знал его. Написал о нем стихи, они были напечатаны в «Правде» (или в «Красной звезде», теперь не помню). Деликову было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. В поэме он выведен под именем Церена Пюрбеева. Мы попали в окружение. Пришлось разрозненными отрядами по ночам пробираться по захваченным немцами степям. Блуждали целый месяц. К своим вышли в Моздоке. «Техник-интендант», насколько мне известно, одно из первых сочинений об окружении, в которое, особенно в начале войны, попадали не то что полки, а целые дивизии, даже армии, даже фронты. Явление прежде неслыханное, многие считают это следствием уничтожения Сталиным талантливых полководцев. Думаю, что причины более глубокие, причины — в самом советском строе, антинародном. Впрочем, я слабо разбираюсь в военной науке. Поскольку у меня речь идет о дивизии национальной, калмыцкой, то трагедия окружения сливается в поэме с трагедией геноцида. Опять признаюсь, что не только Церен Пюрбеев, но и его сестра Нина, и майор Заднепрук, и особист Обносов, и шофер Помазан, и его отец, и Тегряш Бимбаева, и интернированный польский адвокат — все они списаны с натуры, их внешность, характер, словарь. Возможно, что это признание вызовет неодобрение, даже насмешку, но ничего не поделаешь. Правда прежде всего. — Впервые о «Технике-интенданте» как о совершенно уникальном явлении я услышала за несколько лет до ее публикации в доме Н. В. Панченко. И когда прочла поэму в книге «Декада», была удивлена, что поэтический текст такого большого объема написан верлибром. Тогда мне казалось, что свободный стих — для малых форм. — Почему я, может быть подсознательно, выбрал для этой вещи свободный стих? Не потому ли, что на тему окружения я еще во время войны, в Сталинграде, написал в той же форме стихотворение «Воля» (давшее впоследствии название всей книге)? А скорее всего не потому ли, что беспорядочное бегство разрозненных отрядов среди бескрайних степей не следовало укладывать в стройный стих, это бегство должно было дышать свободой ритма? Сейчас свободный стих в моде. У нас в России некоторые авторы объявляют его новаторским. Это вздор. Свободным стихом задолго до нашей эры написаны псалмы царя Давида, «Песнь песней» («Шир Га-ширим») царя Соломона, тем же стихом написано наше «Слово о полку Игореве». Почему в начале нашего века первыми к свободному стиху обратились французы? Потому что их язык жестко организован, все ударения в словах падают на последний слог, строки могут отличаться только своей длиной или расположением в строфе. Язык так упорядочен, что слова могут рифмоваться еще до того, как стать стихом, например: Liberte, Egalite, Fraternite, а у нас Свобода, Равенство, Братство, — ничего не рифмуется. Естественно, что французским поэтам захотелось вырваться из языковой клетки к свободе стиха. Эта свобода стала символом, знаком новизны, вслед за французами пошли подражатели. Когда я как-то спросил Назыма Хикмета, почему он, восточный поэт, пишет свободным стихом, услышал ответ: «Мы, турки, тоже европейцы, тоже живем в XX веке». — Огромное впечатление на меня произвела поэма «Соликамск в августе 1962 года», тоже входящая в цикл «Вождь и племя»:ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЭТЕ АРСЕНИИ ТАРКОВСКОМ
Беседа с А. Н. Кривомазовым
Краткое предисловие В марте-апреле 2000 г. я попросил всеми уважаемого патриарха нашего поэтического цеха С. И. Липкина дать мне магнитофонное интервью о его друге, поэте и переводчике Арсении Александровиче Тарковском. Я медленно писал (собирал) третью часть воспоминаний об этом поэте и у меня уже были записаны некоторые рассказы о нем его друзей. После того как я получил это интервью, оно было набрано и сверстано в редакции для публикации — но файл потерялся… Ни на одном из редакционных компьютеров мы не смогли его найти. Прошел почти год. В воскресенье, 22 апреля 2001 г., я вновь навестил в Переделкине С. И. Липкина и И. Л. Лиснянскую — и после доброй теплой памятной встречи вновь предпринял поиск потерянного файла. Безрезультатно. Тогда 23 апреля я попросил присутствовавшую по делам в редакции студентку Университета печати Т. Насыбулину выручить меня и заново расшифровать магнитофонную запись…А. Н. Кривомазов 23 апреля 2001 г. — Сегодня 3 июня 2000 г. Я в гостях у поэта и переводчика Семена Израилевича Липкина. Мы договорились встретиться и поговорить о прошлом, о его друзьях и о поэте Тарковском.
 С. И. Липкин. Москва, 1984 Фото А. Кривомазова
С. И. Липкин. Москва, 1984 Фото А. Кривомазова
 Книги С. Липкина:
Джангар. Калмыцкий народный эпос / Пер. С. Липкина; илл. В. Фаворского; предисл. О. И. Городовикова.
М.: Худож. лит., 1940; Сталинградский корабль. Боевые действия краснознаменной лодки «Усыскин». М.: Военмориздат, 1943
(«Фронтовая библиотека краснофлотца»); Очевидец. Стихотворения разных лет / Худож. Г. Алимов. М.: Сов. писатель, 1967;
Вечный день. Стихотворения. М.: Сов. писатель, 1975; Воля. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1981; Кочевой огонь. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1984
Книги С. Липкина:
Джангар. Калмыцкий народный эпос / Пер. С. Липкина; илл. В. Фаворского; предисл. О. И. Городовикова.
М.: Худож. лит., 1940; Сталинградский корабль. Боевые действия краснознаменной лодки «Усыскин». М.: Военмориздат, 1943
(«Фронтовая библиотека краснофлотца»); Очевидец. Стихотворения разных лет / Худож. Г. Алимов. М.: Сов. писатель, 1967;
Вечный день. Стихотворения. М.: Сов. писатель, 1975; Воля. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1981; Кочевой огонь. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1984

 Москва, 1941
Сталинград, 1943
Москва, 1941
Сталинград, 1943

 Москва, 1946
Москва, 1946
 Слева направо:
1‑й ряд (сидят) — Ж.-Л. Мигно; О. Мирошниченко-Березко (Трифонова)
X. Уитни, жена К. Уитни; К. Уитни; 2‑й ряд (сидят) — Г. Сапгир; М. Кармен; Ю. Трифонов; В. Аксенов;
Вик. Ерофеев; В. Скура; 3‑й ряд (сидят) — Г. Балтер; Р. Бёлль, сын Г. Бёлля;
Г. Бёлль с «Метрополем» в руках; А. Бёлль, жена Г. Бёлля;
В. Славутская; Р. Орлова; 4‑й ряд (сидят, стоят) — В. Войнович; Б. Мессерер; С. Липкин;
И. Лиснянская; Г. Владимов; А. Битов; Л. Баткин; 5‑й ряд (стоят) — С. Бабенышева; Н. Кузнецова; С. Иванова;
Ф. Искандер; О. Окуджава; Л. Копелев; 6‑й ряд (стоят) — Б. Окуджава; В. Тростников; Ф. Горенштейн;
В. Ракитин; Е. Попов
Москва, 1979
Фото В. Плотникова
Слева направо:
1‑й ряд (сидят) — Ж.-Л. Мигно; О. Мирошниченко-Березко (Трифонова)
X. Уитни, жена К. Уитни; К. Уитни; 2‑й ряд (сидят) — Г. Сапгир; М. Кармен; Ю. Трифонов; В. Аксенов;
Вик. Ерофеев; В. Скура; 3‑й ряд (сидят) — Г. Балтер; Р. Бёлль, сын Г. Бёлля;
Г. Бёлль с «Метрополем» в руках; А. Бёлль, жена Г. Бёлля;
В. Славутская; Р. Орлова; 4‑й ряд (сидят, стоят) — В. Войнович; Б. Мессерер; С. Липкин;
И. Лиснянская; Г. Владимов; А. Битов; Л. Баткин; 5‑й ряд (стоят) — С. Бабенышева; Н. Кузнецова; С. Иванова;
Ф. Искандер; О. Окуджава; Л. Копелев; 6‑й ряд (стоят) — Б. Окуджава; В. Тростников; Ф. Горенштейн;
В. Ракитин; Е. Попов
Москва, 1979
Фото В. Плотникова
 С. Липкин с И. Лиснянской Переделкино, 1981
С. Липкин с И. Лиснянской Переделкино, 1981
 Слева направо:
С. Липкин, Е. Рейн, И. Лиснянская, А. Ахундова (стоит), О. Чухонцев Москва, 1984 Фото А. Кривомазова
Слева направо:
С. Липкин, Е. Рейн, И. Лиснянская, А. Ахундова (стоит), О. Чухонцев Москва, 1984 Фото А. Кривомазова
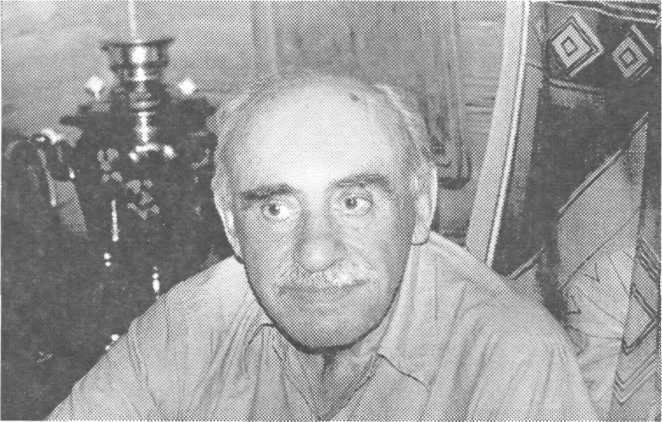 Красновидово, 1987
Красновидово, 1987
 Выступление в Доме медицинских работников Москва, 1989
Выступление в Доме медицинских работников Москва, 1989
 На юбилейном вечере в Доме-музее Булата Окуджавы Переделкино, 22. 09.2001 Фото О. Шамфаровой
На юбилейном вечере в Доме-музее Булата Окуджавы Переделкино, 22. 09.2001 Фото О. Шамфаровой

 Слева направо:
С. Липкин, И. Лиснянская, Н. Поболь, М. Лыхина. Переделкино, 19.09.2000 Фото О. Шамфаровой
С. Липкин с И. Лиснянской Переделкино, 19. 09. 2000 Фото О. Шамфаровой
Слева направо:
С. Липкин, И. Лиснянская, Н. Поболь, М. Лыхина. Переделкино, 19.09.2000 Фото О. Шамфаровой
С. Липкин с И. Лиснянской Переделкино, 19. 09. 2000 Фото О. Шамфаровой

 Переделкино. 2000 Фото О. Шамфаровой
Переделкино. 2000 Фото О. Шамфаровой
 Переделкино, 2003 Фото О. Шамфаровой
Последняя запись в рабочей тетради
Переделкино, 2003 Фото О. Шамфаровой
Последняя запись в рабочей тетради
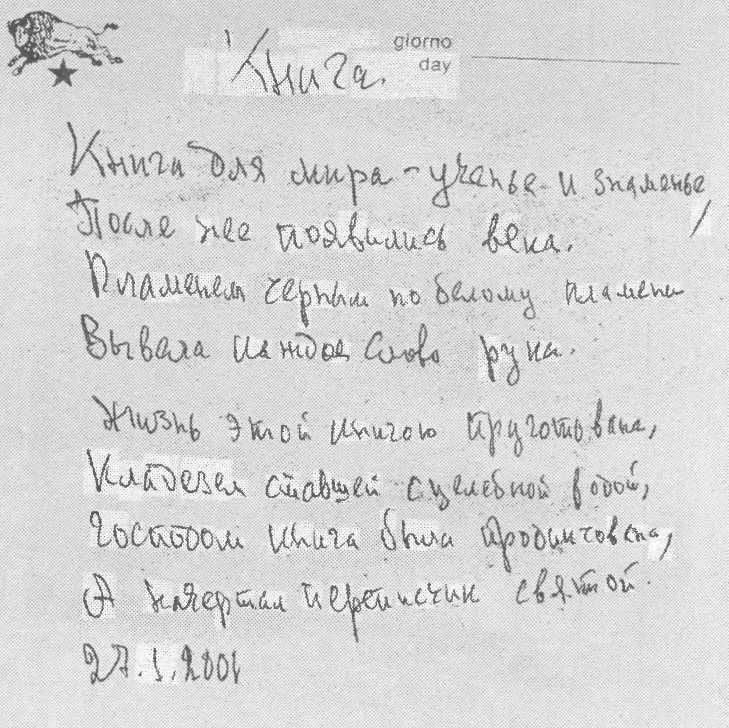 Мой первый вопрос. Как возникла знаменитая четверка? Как вы все познакомились? Кто же был с кем ранее в дружбе?
— Я познакомился с Тарковским осенью 1929 г. в доме Штейнбергов. Тогда же я познакомился и с Марией Петровых. Наше знакомство превратилось в дружбу. Конечно, были и размолвки, как всегда в таких случаях, но, в общем, тогда началась наша дружба. Собирались мы у Штейнберга, его отец был врач, важный человек, начальник санатория на Северном Кавказе, часто отсутствовал, поэтому у Штейнберга была своя комната. Тарковский жил рядом. Штейнберг жил на Старой Басманной, а он в переулке ближе к Разгуляю. У него (Тарковского) была интересная квартира. Она находилась, я не помню, в одноэтажном или двухэтажном здании на территории заводика, поэтому, чтобы к нему пройти, надо было страже показать какой-то пропуск, еще паспортов не было тогда, в 1933 г. Относились они к этому спокойно, зная, что здесь живет такой жилец. Они жили на первом этаже, поэтому и сами, и их гости часто входили через окно. Вот это — начало знакомства…
— Кто из старших поэтов опекал вашу четверку на первых порах?
— По-разному. Ко всем относился хорошо Шенгели.
— А как Вы с ним познакомились? Тоже через Штейнберга?
— Видимо, я уже забыл, как произошло это знакомство. Он был наиболее близок к Тарковскому. Это одна, так сказать, ипостась знаменитого поэта. Вторая, моя со Штейнбергом, это Багрицкий, который недооценил дарование Тарковского. Тарковский у него не бывал. В 1930 г. у нас был вечер в Доме печати. Публика нас очень хорошо встречала, потому что больше половины публики были друзья Штейнберга.
— Вечер именно вашей четверки?
— Да, вел ее поэт Миних. Он был нам близок по возрасту, но уже печатался в «Красной нови» и других местах. В общем, вечер прошел очень для нас хорошо.
— А почему было так тяжело публиковаться? Может быть, вы прилагали недостаточно усилий? Ведь было так много журналов, газет… Учитывая, что качество стихов было высокое, наверняка это можно было сделать. Какие были проблемы?
— Это очень правильный и очень сложный вопрос. Еще до моего знакомства с Тарковским он напечатал в «Прожекторе» (был такой журнал) стихотворение «Хлеб». Штейнберг называл это «труд» Тарковского. Меня и Штейнберга печатали первые два года, конец 1929 и начало 1932. Потом, после великого перелома, печатать нас перестали и мы все оказались переводчиками, потому что Шенгели стал редактором отдела «Народов СССР» в Гослитиздате. Тогда штат был небольшой, Шенгели был, по-моему, один, без помощников. И мы стали работать, так сказать, для пропитания.
— А почему именно восточные переводы?
— Потому что Шенгели ведал «Народами СССР».
— А из народов СССР культура Востока, как более древняя, была для Вас наиболее интересной? Вас тогда интересовала наиболее ранняя поэтическая культура?
— Это был настоящий подарок. А обычно попадались советские стихи, которые никакого художественного значения не имели. Нужно было только аккуратно, чисто это делать.
— Опишите, пожалуйста, ранних Штейнберга, Тарковского, Петровых. Какие это были характеры? Кому каждый из них подражал?
— Это были разные люди. Нашим лидером был Штейнберг. Он был наиболее образован, прекрасно знал немецкий, немецкую поэзию. Русскую поэзию мы все хорошо знали. Он был художник, поэтому хорошо знал живопись. Вообще, он был нашим лидером благодаря темпераменту. Я не знаю, понимали это Тарковский и Петровых, я это так понимал.
— Вы были их намного моложе?
— Я был самый молодой. Штейнберг и Тарковский были с 1907 г., Петровых — с 1908, а я — с 1911.
— Так какими они были?
— У Тарковского характер был очень женский, мягкий.
— Сказалось ли то, что в детстве мать воспитывала его как девочку, одевала в платья?
— Этого я не знаю, впервые слышу от вас. Он очень нравился женщинам. Как правило, дамы, с которыми он имел дело, были старше его, порой, лет на десять. Это была не только дружба, а нечто большее… Вообще мы все подчинялись Штейнбергу. Возможно, потому, что он был наиболее темпераментный и образованный, активный. Во всяком случае, Тарковский следовал за ним. Они читали друг другу стихи, говорили честно, нравится или не нравится.
— А чем отличалась Петровых? Какие качества она привносила в компанию? Если вы приняли ее, значит, ее стихи заставили вас уважать ее?
— Мы ценили ее как поэта, она была очень робкая, не всегда читала, надо было ее сильно уговорить. Из нас она наиболее близка была к Тарковскому по дружбе.
— Даже ближе, чем Штейнберг с Тарковским?
— Да. Тарковский и Петровых учились вместе. В Брюсовском или в наследии Брюсовского института. А Штейнберг учился во ВХУТЕМАСе.
— А где учились Вы?
— Я учился в инженерно-экономическом институте на химика.
— Вопрос, на который я уже частично получил ответ. Где Вы жили в Москве и были ли переезды? 1 де жила Петровых?
— Я жил в разных местах, несколько лет я жил в общежитии на Стромынке. Штейнберг жил в хорошей квартире на Старой Басманной. Тарковский где-то в деревянном доме, я никогда там не был, в Сокольниках.
— Знаете ли Вы, что Тарковский какое-то время жил под столом у Шенгели? И большой ли это был стол, и с чем это было связано? И как долго он там жил?
— Это особая история. У Шенгели была странная квартира в переулке, в районе Поварской. В этой квартире был детский сад. При входе стояли низенькие вешалки с именами детей. Затем была очень большая комната Шенгели, разделенная книжными шкафами. Каким-то образом Тарковский оказался без квартиры еще до нашего знакомства, поэтому я не знаю подробностей. А так как там были Георгий Аркадиевич, Нина Леонтьевна, домработница, места другого не было и он ночевал под столом, потому что там были подставки для белья.
— Расскажите, пожалуйста, где и как Вы познакомились с Ахматовой.
— Я с ней знакомился дважды. В первый раз в 1943 г. в Ташкенте. После Сталинградской битвы меня отпустили на свидание с матерью. Дело в том, что я был мобилизован, а моя мать с сестрой жили в Одессе. Я не знал, живы они или нет. Я приехал в Москву в 1943 г., потому что меня вызвали. Дело в том, что я Сталинградскую битву провел на корабле, на канонерской лодке… и я написал очерковую книжечку «Сталинградский корабль». Ее наше начальство направило в Военмориздат, и меня вызвали, чтобы я внес некоторые поправки. Там, в Москве, я встретил одного человека, который сказал мне, что моя мать в Ташкенте. Я попросил у начальства разрешения туда поехать. Мне дали пять суток без дороги, а дорога туда и обратно длилась 20 дней, все же было разрушено. Оказалось, моя мать и сестра жили на улице Жуковского в том доме, где жила Ахматова. А я был знаком со вдовой Мандельштама еще в Москве. Итак, в Ташкенте мы встретились, и она отвела меня к Ахматовой. Оказалось, Ахматова меня уже видела и попросила Надежду Яковлевну Мандельштам привести меня к ней. Ее отец служил по морской части, и она с детства привыкла к морской форме. Так что она интересовалась мною не как поэтом, а как моряком. Я провел у нее час, рассказывал о Сталинградской битве. Предлагать ей послушать свои стихи я не стал.
Потом, в 1950‑х, нас вновь познакомила Петровых. Петровых с ней познакомилась гораздо раньше, через Мандельштама.
— Как состоялось Ваше знакомство с Мандельштамом?
— В Одессе я посещал кружок при комсомольской газете «Молодая гвардия» и как-то выделился в этом кружке. И руководитель кружка, вернее, его председатель, старый комсомолец по фамилии Абель собрал несколько стихов и отправил в журнал «Молодая гвардия». Стихами там заведовал поэт Кудрейко-Зеленяк. Как-то в редакцию зашел Мандельштам. И там же был Абель. Кудрейко дал Мандельштаму стихи, предназначенные для ближайшего номера. Там были и его стихи, и еще чьи-то, и мои. И Мандельштам отметил мое стихотворение. Тогда Абель сказал, что я хочу приехать в Москву и что я очень люблю его. Мандельштам написал записочку мне, что стихотворение ему понравилось, пригласил в гости. Я эту записку в Одессе спрятал в корзину, а когда мать и сестра оттуда уезжали, они ее не взяли. Когда я приехал, узнал адрес Мандельштама, он меня пригласил к себе. Вот так началось знакомство.
— И насколько я знаю по Вашим воспоминаниям, оно было очень длительным и сердечным.
— Я бы не сказал, что дружеским. Он очень снисходительно ко мне относился. Что-то ругал, что-то хвалил. Больше ругал, чем хвалил. Вообще, я стал часто у него бывать.
— Дружили ли Вы с Пастернаком? Или кто-то из Ваших друзей?
— Нет, я с ним был знаком. Близко с ним познакомилась Петровых, а Штейнберг и Тарковский с ним знакомы не были.
— Тарковские мне говорили о том, что, когда Пастернак написал «Доктора Живаго», он давал им читать и спрашивал их отзывы.
— Этого я не знаю, я только знаю, что Тарковский не любил поэзию Пастернака. Как к нему относился Пастернак, я не знаю.
— Вы, наверное, знаете, что Тарковский не любил поэзию Бродского.
— Нет, так резко сказать нельзя. Он мне говорил, что Ахматова очень увлечена мальчиком по фамилии Бродский. Он живет в Ленинграде. Дети Ардова позже дали мне стихи Бродского: поэму «Шествие» и несколько других стихотворений. Я был потрясен силой этой поэзии, хотя понимал, что «Шествие» — это еще молодые стихи. Тарковский со мной не соглашался. Он мягко говорил, что это способный мальчик, но не более того. Такова его оценка.
— То есть нерезкое неприятие?
— Нет, такого не было. Я восхищенно говорил, а он смягчал.
— Известно теплое отношение Каверина к творчеству Тарковского. Известны ли Вам имена литераторов, которые также поддерживали его, когда его не печатали?
— Был один литератор, не помню его фамилии, он описывал разные путешествия. Так вот, он был страстный его поклонник. А однажды мы встретились с Тарковским в Карловых Варах, где в это время был Лихачев. И Лихачев также восторженно отнесся к Тарковскому.
— Это уже после публикации его книжек?
— Нет, его книжка вышла в 1962 г., а мы были там в 1960 или в 1961 г.
— Но Лихачев уже знал его стихи и высоко их ценил?
— Да. А вот Багрицкий не оценил его стихов.
— Вы, Семен Израилевич, единственный из всей четверки, кто мог бы помочь какие-то акценты правильно расставить или какие-то факты привести, которых мы, новое поколение, не знаем. В частности, я хотел бы Вас расспросить о размолвках. Много всяких толков о Вашей ссоре с Тарковским. Согласились бы Вы сами рассказать об этой размолвке? Кто помирил Вас, Татьяна Алексеевна Тарковская-Озерская или Инна Львовна Лиснянская?
— Помирила нас Инна Львовна. Мне не хочется говорить о причинах. Виноваты мы были оба. Тарковский и одна поэтесса вместе что-то переводили. Поделили гонорар. Потом это опять напечаталось, а поэтесса не получила свою часть. Она сказала Ахматовой, а та очень любила Тарковского и не любила его жену, она вообще не любила жен писателей. Анна Андреевна попросила меня поговорить с Тарковским, чтобы он вернул причитающуюся той часть. Я с ним говорил очень грубо. Я не должен был этого делать, зная его мягкий характер. Я должен был сказать, что Анна Андреевна поручила мне некрасивое дело, которое нужно как-то решить. А я стал ругать его. Он обиделся на меня, и мы на много лет поссорились, потом нас Инна Львовна помирила.
— Должен сказать, что слышал другую версию. Тарковский перевел эпос «Сорок девушек», по-моему, а Вы на каком-то литературном собрании будто бы сказали, что это байский эпос, и его не нужно публиковать. Теперь Вы видите, как будет сложно тем, кто пойдет за Вами следом, можно запросто заблудиться в миражах.
— Нет, в литературе у нас никогда не было разногласий, это просто бытовой момент.
— Почему охладели друг к другу в последние годы жизни Тарковский и Штейнберг?
— Они оба переводили югослава Радуле Стийенского. Когда Штейнберга арестовали, эти переводы выходили только под именем Тарковского. Штейнберг, когда вернулся из лагеря, попросил свои деньги. Тарковский отказался. Как это было, я знаю только со слов Штейнберга. Но Штейнберг был добрый человек, и когда был вечер Тарковского, Штейнберг выступил и очень любовно о нем говорил, как мне говорили те, кто там был. Но когда потом стали проходить в ресторан, Тарковский его не позвал, и Штейнберг был этим пренебрежением очень обижен.
— Спасибо большое. Последний вопрос в ряду этих ссор. Похоже на то, что и Тарковский с Петровых в последние годы стали редко видеться. Говорят, что причина этому — Татьяна Алексеевна.
— Причина вначале была та же, что со мной. Та поэтесса была ее подругой. Они разошлись с Тарковским, и он даже говорил, что она не написала ничего хорошего, кроме одного стихотворения. Но потом они помирились, и Тарковский очень хорошо к ней относился.
— Мы с Вами проводим очень хорошую беседу. Ваши откровенные ответы позволяют закрыть целый ряд сплетен. Спасибо Вам за это большое. Я продолжу задавать вопросы относительно творчества Арсения Александровича. Откуда у него такая тяга к архаике?
— Я считаю его одним из крупнейших поэтов второй половины XX в. Его, Заболоцкого и Бродского. Я не чувствую у него архаики.
— Под архаикой я имею в виду то, что у него есть раннее стихотворение «…О, матерь Ахайя, /Пробудись, я твой лучник последний…» (Из тетради 1921 г.) или:
Мой первый вопрос. Как возникла знаменитая четверка? Как вы все познакомились? Кто же был с кем ранее в дружбе?
— Я познакомился с Тарковским осенью 1929 г. в доме Штейнбергов. Тогда же я познакомился и с Марией Петровых. Наше знакомство превратилось в дружбу. Конечно, были и размолвки, как всегда в таких случаях, но, в общем, тогда началась наша дружба. Собирались мы у Штейнберга, его отец был врач, важный человек, начальник санатория на Северном Кавказе, часто отсутствовал, поэтому у Штейнберга была своя комната. Тарковский жил рядом. Штейнберг жил на Старой Басманной, а он в переулке ближе к Разгуляю. У него (Тарковского) была интересная квартира. Она находилась, я не помню, в одноэтажном или двухэтажном здании на территории заводика, поэтому, чтобы к нему пройти, надо было страже показать какой-то пропуск, еще паспортов не было тогда, в 1933 г. Относились они к этому спокойно, зная, что здесь живет такой жилец. Они жили на первом этаже, поэтому и сами, и их гости часто входили через окно. Вот это — начало знакомства…
— Кто из старших поэтов опекал вашу четверку на первых порах?
— По-разному. Ко всем относился хорошо Шенгели.
— А как Вы с ним познакомились? Тоже через Штейнберга?
— Видимо, я уже забыл, как произошло это знакомство. Он был наиболее близок к Тарковскому. Это одна, так сказать, ипостась знаменитого поэта. Вторая, моя со Штейнбергом, это Багрицкий, который недооценил дарование Тарковского. Тарковский у него не бывал. В 1930 г. у нас был вечер в Доме печати. Публика нас очень хорошо встречала, потому что больше половины публики были друзья Штейнберга.
— Вечер именно вашей четверки?
— Да, вел ее поэт Миних. Он был нам близок по возрасту, но уже печатался в «Красной нови» и других местах. В общем, вечер прошел очень для нас хорошо.
— А почему было так тяжело публиковаться? Может быть, вы прилагали недостаточно усилий? Ведь было так много журналов, газет… Учитывая, что качество стихов было высокое, наверняка это можно было сделать. Какие были проблемы?
— Это очень правильный и очень сложный вопрос. Еще до моего знакомства с Тарковским он напечатал в «Прожекторе» (был такой журнал) стихотворение «Хлеб». Штейнберг называл это «труд» Тарковского. Меня и Штейнберга печатали первые два года, конец 1929 и начало 1932. Потом, после великого перелома, печатать нас перестали и мы все оказались переводчиками, потому что Шенгели стал редактором отдела «Народов СССР» в Гослитиздате. Тогда штат был небольшой, Шенгели был, по-моему, один, без помощников. И мы стали работать, так сказать, для пропитания.
— А почему именно восточные переводы?
— Потому что Шенгели ведал «Народами СССР».
— А из народов СССР культура Востока, как более древняя, была для Вас наиболее интересной? Вас тогда интересовала наиболее ранняя поэтическая культура?
— Это был настоящий подарок. А обычно попадались советские стихи, которые никакого художественного значения не имели. Нужно было только аккуратно, чисто это делать.
— Опишите, пожалуйста, ранних Штейнберга, Тарковского, Петровых. Какие это были характеры? Кому каждый из них подражал?
— Это были разные люди. Нашим лидером был Штейнберг. Он был наиболее образован, прекрасно знал немецкий, немецкую поэзию. Русскую поэзию мы все хорошо знали. Он был художник, поэтому хорошо знал живопись. Вообще, он был нашим лидером благодаря темпераменту. Я не знаю, понимали это Тарковский и Петровых, я это так понимал.
— Вы были их намного моложе?
— Я был самый молодой. Штейнберг и Тарковский были с 1907 г., Петровых — с 1908, а я — с 1911.
— Так какими они были?
— У Тарковского характер был очень женский, мягкий.
— Сказалось ли то, что в детстве мать воспитывала его как девочку, одевала в платья?
— Этого я не знаю, впервые слышу от вас. Он очень нравился женщинам. Как правило, дамы, с которыми он имел дело, были старше его, порой, лет на десять. Это была не только дружба, а нечто большее… Вообще мы все подчинялись Штейнбергу. Возможно, потому, что он был наиболее темпераментный и образованный, активный. Во всяком случае, Тарковский следовал за ним. Они читали друг другу стихи, говорили честно, нравится или не нравится.
— А чем отличалась Петровых? Какие качества она привносила в компанию? Если вы приняли ее, значит, ее стихи заставили вас уважать ее?
— Мы ценили ее как поэта, она была очень робкая, не всегда читала, надо было ее сильно уговорить. Из нас она наиболее близка была к Тарковскому по дружбе.
— Даже ближе, чем Штейнберг с Тарковским?
— Да. Тарковский и Петровых учились вместе. В Брюсовском или в наследии Брюсовского института. А Штейнберг учился во ВХУТЕМАСе.
— А где учились Вы?
— Я учился в инженерно-экономическом институте на химика.
— Вопрос, на который я уже частично получил ответ. Где Вы жили в Москве и были ли переезды? 1 де жила Петровых?
— Я жил в разных местах, несколько лет я жил в общежитии на Стромынке. Штейнберг жил в хорошей квартире на Старой Басманной. Тарковский где-то в деревянном доме, я никогда там не был, в Сокольниках.
— Знаете ли Вы, что Тарковский какое-то время жил под столом у Шенгели? И большой ли это был стол, и с чем это было связано? И как долго он там жил?
— Это особая история. У Шенгели была странная квартира в переулке, в районе Поварской. В этой квартире был детский сад. При входе стояли низенькие вешалки с именами детей. Затем была очень большая комната Шенгели, разделенная книжными шкафами. Каким-то образом Тарковский оказался без квартиры еще до нашего знакомства, поэтому я не знаю подробностей. А так как там были Георгий Аркадиевич, Нина Леонтьевна, домработница, места другого не было и он ночевал под столом, потому что там были подставки для белья.
— Расскажите, пожалуйста, где и как Вы познакомились с Ахматовой.
— Я с ней знакомился дважды. В первый раз в 1943 г. в Ташкенте. После Сталинградской битвы меня отпустили на свидание с матерью. Дело в том, что я был мобилизован, а моя мать с сестрой жили в Одессе. Я не знал, живы они или нет. Я приехал в Москву в 1943 г., потому что меня вызвали. Дело в том, что я Сталинградскую битву провел на корабле, на канонерской лодке… и я написал очерковую книжечку «Сталинградский корабль». Ее наше начальство направило в Военмориздат, и меня вызвали, чтобы я внес некоторые поправки. Там, в Москве, я встретил одного человека, который сказал мне, что моя мать в Ташкенте. Я попросил у начальства разрешения туда поехать. Мне дали пять суток без дороги, а дорога туда и обратно длилась 20 дней, все же было разрушено. Оказалось, моя мать и сестра жили на улице Жуковского в том доме, где жила Ахматова. А я был знаком со вдовой Мандельштама еще в Москве. Итак, в Ташкенте мы встретились, и она отвела меня к Ахматовой. Оказалось, Ахматова меня уже видела и попросила Надежду Яковлевну Мандельштам привести меня к ней. Ее отец служил по морской части, и она с детства привыкла к морской форме. Так что она интересовалась мною не как поэтом, а как моряком. Я провел у нее час, рассказывал о Сталинградской битве. Предлагать ей послушать свои стихи я не стал.
Потом, в 1950‑х, нас вновь познакомила Петровых. Петровых с ней познакомилась гораздо раньше, через Мандельштама.
— Как состоялось Ваше знакомство с Мандельштамом?
— В Одессе я посещал кружок при комсомольской газете «Молодая гвардия» и как-то выделился в этом кружке. И руководитель кружка, вернее, его председатель, старый комсомолец по фамилии Абель собрал несколько стихов и отправил в журнал «Молодая гвардия». Стихами там заведовал поэт Кудрейко-Зеленяк. Как-то в редакцию зашел Мандельштам. И там же был Абель. Кудрейко дал Мандельштаму стихи, предназначенные для ближайшего номера. Там были и его стихи, и еще чьи-то, и мои. И Мандельштам отметил мое стихотворение. Тогда Абель сказал, что я хочу приехать в Москву и что я очень люблю его. Мандельштам написал записочку мне, что стихотворение ему понравилось, пригласил в гости. Я эту записку в Одессе спрятал в корзину, а когда мать и сестра оттуда уезжали, они ее не взяли. Когда я приехал, узнал адрес Мандельштама, он меня пригласил к себе. Вот так началось знакомство.
— И насколько я знаю по Вашим воспоминаниям, оно было очень длительным и сердечным.
— Я бы не сказал, что дружеским. Он очень снисходительно ко мне относился. Что-то ругал, что-то хвалил. Больше ругал, чем хвалил. Вообще, я стал часто у него бывать.
— Дружили ли Вы с Пастернаком? Или кто-то из Ваших друзей?
— Нет, я с ним был знаком. Близко с ним познакомилась Петровых, а Штейнберг и Тарковский с ним знакомы не были.
— Тарковские мне говорили о том, что, когда Пастернак написал «Доктора Живаго», он давал им читать и спрашивал их отзывы.
— Этого я не знаю, я только знаю, что Тарковский не любил поэзию Пастернака. Как к нему относился Пастернак, я не знаю.
— Вы, наверное, знаете, что Тарковский не любил поэзию Бродского.
— Нет, так резко сказать нельзя. Он мне говорил, что Ахматова очень увлечена мальчиком по фамилии Бродский. Он живет в Ленинграде. Дети Ардова позже дали мне стихи Бродского: поэму «Шествие» и несколько других стихотворений. Я был потрясен силой этой поэзии, хотя понимал, что «Шествие» — это еще молодые стихи. Тарковский со мной не соглашался. Он мягко говорил, что это способный мальчик, но не более того. Такова его оценка.
— То есть нерезкое неприятие?
— Нет, такого не было. Я восхищенно говорил, а он смягчал.
— Известно теплое отношение Каверина к творчеству Тарковского. Известны ли Вам имена литераторов, которые также поддерживали его, когда его не печатали?
— Был один литератор, не помню его фамилии, он описывал разные путешествия. Так вот, он был страстный его поклонник. А однажды мы встретились с Тарковским в Карловых Варах, где в это время был Лихачев. И Лихачев также восторженно отнесся к Тарковскому.
— Это уже после публикации его книжек?
— Нет, его книжка вышла в 1962 г., а мы были там в 1960 или в 1961 г.
— Но Лихачев уже знал его стихи и высоко их ценил?
— Да. А вот Багрицкий не оценил его стихов.
— Вы, Семен Израилевич, единственный из всей четверки, кто мог бы помочь какие-то акценты правильно расставить или какие-то факты привести, которых мы, новое поколение, не знаем. В частности, я хотел бы Вас расспросить о размолвках. Много всяких толков о Вашей ссоре с Тарковским. Согласились бы Вы сами рассказать об этой размолвке? Кто помирил Вас, Татьяна Алексеевна Тарковская-Озерская или Инна Львовна Лиснянская?
— Помирила нас Инна Львовна. Мне не хочется говорить о причинах. Виноваты мы были оба. Тарковский и одна поэтесса вместе что-то переводили. Поделили гонорар. Потом это опять напечаталось, а поэтесса не получила свою часть. Она сказала Ахматовой, а та очень любила Тарковского и не любила его жену, она вообще не любила жен писателей. Анна Андреевна попросила меня поговорить с Тарковским, чтобы он вернул причитающуюся той часть. Я с ним говорил очень грубо. Я не должен был этого делать, зная его мягкий характер. Я должен был сказать, что Анна Андреевна поручила мне некрасивое дело, которое нужно как-то решить. А я стал ругать его. Он обиделся на меня, и мы на много лет поссорились, потом нас Инна Львовна помирила.
— Должен сказать, что слышал другую версию. Тарковский перевел эпос «Сорок девушек», по-моему, а Вы на каком-то литературном собрании будто бы сказали, что это байский эпос, и его не нужно публиковать. Теперь Вы видите, как будет сложно тем, кто пойдет за Вами следом, можно запросто заблудиться в миражах.
— Нет, в литературе у нас никогда не было разногласий, это просто бытовой момент.
— Почему охладели друг к другу в последние годы жизни Тарковский и Штейнберг?
— Они оба переводили югослава Радуле Стийенского. Когда Штейнберга арестовали, эти переводы выходили только под именем Тарковского. Штейнберг, когда вернулся из лагеря, попросил свои деньги. Тарковский отказался. Как это было, я знаю только со слов Штейнберга. Но Штейнберг был добрый человек, и когда был вечер Тарковского, Штейнберг выступил и очень любовно о нем говорил, как мне говорили те, кто там был. Но когда потом стали проходить в ресторан, Тарковский его не позвал, и Штейнберг был этим пренебрежением очень обижен.
— Спасибо большое. Последний вопрос в ряду этих ссор. Похоже на то, что и Тарковский с Петровых в последние годы стали редко видеться. Говорят, что причина этому — Татьяна Алексеевна.
— Причина вначале была та же, что со мной. Та поэтесса была ее подругой. Они разошлись с Тарковским, и он даже говорил, что она не написала ничего хорошего, кроме одного стихотворения. Но потом они помирились, и Тарковский очень хорошо к ней относился.
— Мы с Вами проводим очень хорошую беседу. Ваши откровенные ответы позволяют закрыть целый ряд сплетен. Спасибо Вам за это большое. Я продолжу задавать вопросы относительно творчества Арсения Александровича. Откуда у него такая тяга к архаике?
— Я считаю его одним из крупнейших поэтов второй половины XX в. Его, Заболоцкого и Бродского. Я не чувствую у него архаики.
— Под архаикой я имею в виду то, что у него есть раннее стихотворение «…О, матерь Ахайя, /Пробудись, я твой лучник последний…» (Из тетради 1921 г.) или:
«Я РОДИЛСЯ ПРИ ЦАРЕ И ДЕВЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ»
Беседу вела Екатерина Варкан
Девятнадцатого сентября исполняется 90 лет поэту и переводчику Семену Липкину. Вся прошедшая эпоха — выдающиеся люди и грандиозные события, известные многим лишь только по учебникам, книгам и мемуарам, — составила сюжет его жизни. Пакет литературных премий и отношение литературного сообщества к этому человеку только подтверждают уникальность его личности. — Семен Израилевич, Вы прожили долгую жизнь, и много всего происходило на Ваших глазах. Какие события Вы бы отметили? — События раннего детства. Я родился при царе. Большевики к нам в родной город Одессу пришли поздно, в 1920 г., так что девять лет я прожил в нормальных условиях. И первое впечатление детства — это Февральская революция, именно Февральская, а не Октябрьская. Вообще Октябрьской революции у нас как таковой и не было, а было просто вступление большевиков в город в 1920 г. А во время Февральской мне, шестилетнему, запомнилось, что незнакомые люди целовались друг с другом на улицах, радуясь (как потом стало ясно) свержению самодержавия. Сильные впечатления — мои встречи с писателями старшего поколения. Подростком я познакомился с Багрицким. Потом с Бабелем, Волошиным, Мандельштамом, Андреем Белым. И эти события до сих пор помню во многих деталях. И, наконец, война. Я на пятый день был мобилизован и (правда, с некоторыми послаблениями как литератор) принимал участие в Отечественной войне. Так случилось, что в 1942 г. попал в окружение, в котором мы пробыли целый месяц. Для меня из-за некоторых особенностей моей биографии попасть к немцам было бы особенно тяжко. И сейчас мне часто снятся стычки с немцами, те или иные места, куда мы попадали, когда пытались выйти к своим. — А время репрессий как-то отразилось на Вашей жизни и жизни Ваших близких? — На жизни моих близких не отразилось, если не говорить о внутренних переживаниях. Репрессии наступили, в сущности, с самого начала советской власти, а в 1937 г. лишь ужесточились. Репрессиям подвергся мой друг Василий Гроссман за свой роман «Жизнь и судьба». Он раньше ушел из жизни, умер в 59 лет вследствие преследований. И я горжусь тем, что спрятал этот роман и сумел с помощью Войновича передать рукопись за границу, где он был напечатан и стал известен всем. У меня была одна из копий рукописи этого романа, которую я хранил в одном нелитературном доме. В то время уже начинали преследовать Войновича, с которым мы были соседями, за публикации за границей. Я ему рассказал отом, что храню этот роман, и попросил помощи. Он согласился. Рукопись надо было сфотографировать, чтобы потом вывезти фотопленку. Для предосторожности в тот дом, где можно было это сделать, я отправил свою жену Инну Лиснянскую. Она очень испугалась, когда в подъезде за ней последовали двое мужчин в штатском. Все, правда, обошлось, но фотографии тогда вышли плохие. Потом фотографировали еще раз и участвовали в этом уже Андрей Сахаров и Елена Боннэр. Роман долго не печатали, потому что он был очень большой — 40 печатных листов, это тысяча страниц. Но нашелся некий издатель Дмитриевич, серб по происхождению. Он и напечатал роман тиражом в 2 тысячи экземпляров. Еще через несколько лет книгу перевели на французский, и роман стал бестселлером во Франции. У нас были тяжелые годы, когда мы с Инной Лиснянской во время истории с альманахом «Метрополь» были вынуждены выйти из Союза писателей. Мы сделали это в знак протеста против исключения из Союза двух ныне весьма известных писателей Виктора Ерофеева и Евгения Попова. И тогда получили запрет на профессию. Как ни странно, именно в этот период мы почувствовали огромный прилив творческого вдохновения, и очень много было написано в то время. И для нас было счастьем, что хоть и не в России — во Франции, Соединенных Штатах — вышли наши поэтические книги на русском языке. Такому прорыву есть простое объяснение и более сложное. Я всегда много времени уделял переводам, которые, надо сказать, очень любил, и благодаря переводам восточной классики, народных эпосов довольно близко познакомился с мусульманской и буддийской культурами. Хотя многие считали, и в том числе руководитель издательства «Ардис», что я потратил на это слишком много времени. Словом, нас тогда не посадили, слава Богу, но было тяжело. — Семен Израилевич, в литературных кругах Ваше имя овеяно некой легендой — Вы были безупречным человеком с точки зрения гражданской позиции. — Безупречным человеком я бы не мог себя назвать. Все мы грешные. Но я старался быть честным. Я никогда не подписывал никаких подметных писем, но не могу сказать, что я активно боролся с режимом. — Вы сказали, что не участвовали в неких акциях. Можно понимать это так, что в какой-то момент позиция ничегонеделания тоже является активным действием? — Да, наверное. Мой друг Вениамин Александрович Каверин рассказывал, что когда его позвали на собрание, которое должно было исключить из Союза писателей Пастернака, он «смело затаился». Вот и я тоже. Что я сделал? Я рано утром ушел из дому — если будут звонить, то меня нет. Пришел же поздно вечером. Конечно, это мелочь. Кроме того, встречая близких Пастернаку людей, я всегда просил передавать ему привет. Нормально. Я не вел себя храбро. Я вел себя нормально. Это все пустяки по сравнению с тем, что пережили другие люди, но было трудно. — Семен Израилевич, говорят, Вы были у Волошина в Крыму? — Был в Коктебеле в 1930 г., незадолго до его смерти. Я приехал вместе с моим старшим другом Георгием Шенгели, замечательным поэтом, который дружил с Волошиным. Он меня и привез на его дачу в Коктебель, а я был еще студентом. У Волошина гостил тогда Алексей Толстой, они вообще были на «ты» и дружили. Вересаев, живший рядом, часто приходил. Из Феодосии мы приехали на тарантасе — еще не было машин. И приехали очень рано, часов в 6–7 утра. Георгий Аркадиевич предложил мне пойти искупаться в море, пока нас устроят, и указал место, где плавают мужчины. Я пришел и увидел, что спиной ко мне стоит крупная голая женщина. Решив, что не понял и попал не туда, пошел на другую сторону пляжа. Там плескались две молоденькие девушки. Я вернулся обратно. И оказалось, что стоявшая спиной полная женщина — это Алексей Николаевич Толстой. Повернувшись, он бросил: «Холодно в море, но бодрит, мерзавец». Почти каждый вечер в кабинете Волошина собирались люди и беседовали в основном о литературе. Мне было всего 19 лет, и, признаюсь, не каждый раз меня приглашали на эти вечеринки. Но пару раз я все-таки на них бывал. Во время одной из встреч обсуждали рассказ Алексея Толстого, который он читал накануне. И я застал беседу на эту тему. Какой именно рассказ, я до сих пор не знаю, но помню хорошо, как Волошин сказал тогда Толстому: «Алеша, каким бы ты был замечательным писателем, если бы был пообразованней». На этих вечерах гости, собиравшиеся у Волошина, обязательно читали стихи или прозу. Как-то попросили прочесть и меня. Шенгели похвалил мои сочинения, он вообще очень хорошо ко мне относился. А Максимилиан Александрович пригласил с ним прогуляться. Мы пошли к тому месту, где теперь могила Волошина, — нужно было пройти вдоль моря и подняться в гору. Общий смысл сказанного им был такой, что у меня есть удачные выражения, метафоры, но поэта пока нет. Он изложил тогда несколько интересных формул, но я их забыл. Он считал, что поэта делает Бог. А самое важное в поэте — это его внутреннее чувство мира. Техника же приходит позже. Сам же Волошин читал очень странно — то у него был низкий голос, то очень высокий, почти женский. И вообще он производил очень сильное впечатление. — Как Вам понравился его легендарный дом? — Я заметил на дереве в саду почтовый ящик. Мне объяснили, что все, кто имеет деньги, туда вкладывали, кто сколько мог, чтобы помочь Волошину. Я тоже опустил туда деньги, но немного, игдь я был студентом и особых средств не имел. Больше, чем все остальные вместе взятые, давал Алексей Толстой — и в ящик, и в руки хозяину. — Еще в Одессе Вы познакомились и подружились с Багрицким… — Знакомство с ним случилось в 1925 г. Мне было 15 лет, я учился в художественной профшколе и посещал там литкружок. Стихи хвалили мои товарищи, такие же мальчики и девочки, как я, и я решил отправиться в редакцию «Одесских известий» их показать. Пришел и у первого человека, которого встретил, спросил, где редактор. Человек поинтересовался, зачем он мне. И я объяснил, что хочу предложить стихи в газету. На что он заметил, что много лет еще пройдет, когда главный редактор станет принимать меня по этому поводу, и отправил к специальному консультанту по стихам. Я оказался в темной комнате, где увидел на столе как бы спящего человека, и обратился к нему: «Товарищ, я принес стихи и хочу, чтобы их напечатали в газете». «Давид Бродский этим не занимается, а Давида Бродского знает вся Одесса», — ответил мне, как оказалось потом, этот самый Давид Бродский. Но он пообещал, что сейчас придет именно тот, кто и занимается чтением стихов всех авторов, желающих славы. И действительно, вскоре в комнату вошел высокий человек с ранней сединой. Ему было лет 30, но уже сказывалась астма: он тяжело дышал. И одет был очень бедно. Он спросил, кого из поэтов я знаю. А я уже был знаком с русской классической поэзией, читал Ломоносова, Державина, Пушкина, Лермонтова. «Это все старые поэты, — сказал он. — А кого вы знаете из современных?» — «Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого». Он спросил: «А кто лучше?» — «Эдуард Багрицкий. Демьян Бедный пишет, как в газете, но в рифму. А Багрицкий про море пишет хорошо». Он поинтересовался, уверен ли я, что Багрицкий неплохой поэт. Я подтвердил. «Так вот, Эдуард Багрицкий буду я. Ну, дайте, что вы там написали». Я ему передал тетрадочку с переписанными в нее стихами. Помню еще, что на ней был портрет Троцкого и надпись такая, видимо, из его речей: «Грызите молодыми зубами гранит науки». Вот я ему ее и подал. Он посмотрел и вдруг устремил на меня такой острый взгляд и говорит: «А вот это вы украли у Гумилева». Я ответил, что поэта Могилева не знаю. А у меня такие нескладные строчки были: Лишь движеньем мы жизнь постигаем И преображаемся в нем. Тогда он мне прочел Гумилева: Ах, в одном божественном движеньи Косным нам дано преображенье. Я ему сказал, что поэта Гумилева никогда не читал, и он рассердился: «Ну, а Блока вы знаете?» — «Читал „Двенадцать“ — частушки какие-то. Мне понравилось одно место — „У тебя на шее, Катя, та царапина свежа“». Тогда он спросил, сколько мне лет? И, узнав, что 15, заметил: «Да, в это время интересуются, какие у девушек шеи». А потом добавил: «Помни, что в газетах печатают плохие стихи, у тебя их много, так вот одно мы напечатаем». Затем Багрицкий пригласил меня к себе, пообещав показать стихи, которых я не знаю. Он жил на Дальницкой улице, это окраина Одессы, конец знаменитой Молдаванки, и надо было туда добираться на трамвае. Из портьеры мне сшили курточку и повязали на шею бант. Мама дала 20 копеек на трамвай. Тогда трамвай стоил очень дорого, и за 20 копеек можно было пообедать в столовой. Я вспомнил, что Багрицкий говорил: «Фраера ездят на трамвае, я хожу пешком», и, как он, тоже пошел пешком. Добравшись, увидел какую-то мазанку. Открыл дверь, комната была без окон и очень темная. Ночью, видимо, шел дождик, и поставили корыто, в которое я чуть не угодил. Вот в такой бедности он жил. Багрицкий, увидев меня, сказал: «Снимите с себя бант, а то вы похожи на артиста без ангажемента», а потом стал читать Блока, Белого, Брюсова, Бальмонта, того же Гумилева. Он рассказал, что очень любил Гумилева: «Но мне теперь душно его читать, я тебе дарю его книги, потому что хочу с ним расстаться». Я прочел и просто сошел на нем с ума. Все, что я потом сочинял, было под Гумилева. Мы подружились, и как-то Багрицкий зашел ко мне в школу, предложил пойти на море и отпросил у директора. Был май, и в Одессе еще не купались. Я разделся, а он снял только рубашку, и открылось белое и нездоровое его тело. Я залез в воду и, расшалившись, стал бить на него волну и зазывать в море. Оказалось, что певец моря не умеет плавать. Он рассказал, что пишет стихи об украинском крестьянине силлабическим стихом, как Шевченко. Считается, что это очень трудно сделать по-русски, даже Сологуб не справился, когда переводил Шевченко. Багрицкий предложил мне послушать отрывок из знаменитой поэмы «Дума про Опанаса», в котором шла речь о забеременевшей крестьянке. Этот фрагмент потом не вошел в поэму, но Багрицкий вставил его в либретто, которое написал но мотивам поэмы. В Одессе тогда мало кто его знал, и жилось ему материально очень плохо. Потом Багрицкий рассказывал, что как-то к нему пришел Катаев и сказал: «Я купил тебе билет до Москвы». И он поехал. Единственное, что взял из Одессы, это клетку со щеглом. Он уехал и стал знаменит. Прошло два года, и он снова приехал в Одессу, но это был уже настоящий поэт — в кожаной куртке, кожаной фуражке и крагах — за славой приехал на родину. В Доме писателей прошел его вечер, который имел успех, и потом мы гуляли, а я рассказал, что собрался ехать в Москву учиться, потому что местный университет закрыли и вместо него организовали Институт народного хозяйства, где преподавали на украинском языке. Я украинский люблю и теперь могу размовлять украинскою мовою, но учиться по-украински я не хотел. «Правильно, — сказал он, — в Одессе вы пропадете. У вас есть способности: есть слух, не очень точный глаз. Может быть, из вас выйдет поэт. Я не думаю, что большой, но поэт выйдет. Я на этом собаку съел». В Москве Багрицкий снимал пол-избы в Кунцеве (тогда это была деревня), и я по его приглашению приехал. В его доме я увидел аквариумы — он разводил рыбок. А подселил он меня к тому же Давиду Бродскому — вдвоем снимать квартиру было дешевле. И Эдуарда Георгиевича теперь я видел почти каждый день, к нему вообще приходило много гостей. — Кого Вы помните из особо близких ему людей? — Багрицкий высоко ценил Нарбута; тогда они были женаты на сестрах. Нарбут — из украинской дворянской семьи, вступил в компартию, стал сотрудником ЦК. Предполагаю, что и издали Багрицкого с помощью Нарбута. В свое время, как и у многих партийных лидеров, у него начались неприятности — появились публикации, что когда-то он, попав в плен к добровольцам, выдал коммунистов. Его исключили из партии, но не арестовали, а сделали это позже. Он погиб по пути на Колыму: утонул, когда плыл на лодке. Приходили часто к Багрицкому Светлов и Бабель. — В каком году Вы познакомились с Бабелем? — В 30‑м или 31‑м в Москве. Он был знаменитый, при этом общительный, веселый, очень-очень умный и сильно любил Багрицкого, что было видно. Они были близки. Часто говорили о политике (но не в моем присутствии), о том, что происходит в стране. Багрицкий, правда, потом не сдерживался и пересказывал мне. Тогда очень все ополчились на роман Замятина «Мы». И Бабель, и Багрицкий считали Замятина большим писателем и негодовали по поводу вакханалии, которая развернулась в прессе против него, в результате чего Замятин вынужден был уехать за границу. И Троцкого тогда тоже выслали из Москвы. В Москве я несколько раз бывал у Бабеля, но помню, как в Одессе встретил его на привокзальной площади. Развеселившись, он пошутил: «Когда я приезжаю в Одессу, я освобождаюсь от уз грамматики. Я подхожу к любому киоску и говорю: „Дайте мне стакан вода“». Он подарил мне книжечку со своей пьесой «Мария» и драгоценной надписью для меня. Позже Бабель получил дачу в Переделкине и начал обустраиваться, но его арестовали. Вообще некоторые встречи были весьма необычны, например, с четой Ежовых. Жена Ежова была одесситка и участвовала в литературной жизни Одессы еще в те времена, когда там был Багрицкий. И именно он как-то взял меня к Ежову уже в Москве. Оказалось, что Ежов очень небольшого, как я, роста. Багрицкий читал свои стихи с большим подъемом. Ежов заметил, что стих у Багрицкого хороший, но ему надо быть ближе к жизни. Потом арестовали и Ежова, и его жену. Багрицкого же миновала эта судьба. Багрицкий вообще был очень просоветски настроен, более чем лояльно, я бы сказал, страстно. И другой одессит, Катаев — всегда лауреат, орденоносец, во всем почете. Он не всегда хорошо поступал, в частности голосовал за высылку Солженицына. Потом он мне говорил, что это единственный правильный выход был, иначе Солженицына здесь бы задушили. Когда мы жили в Кунцеве, я заметил, что Катаев при мне у Багрицкого не бывал: они были в ссоре, хотя именно Катаев сыграл большую роль в переезде Багрицкого в Москву. Но ни с одним, ни с другим я никогда не обсуждал эту тему, поэтому точно не знаю, как это произошло, но, наверное, понимаю причину ссоры. Катаев написал прелестный рассказ, который назывался «Бездельник Эдуард». И в главном герое действительно прочитывался Багрицкий. Речь шла о том, что герой живет только стихами, птицами, рыбками, но не кормит жену. Багрицкий страшно обиделся, и с тех пор они не общались, и ни разу я не видел Катаева в доме у Багрицкого. С самим же Катаевым я познакомился еще в Одессе. Там на Ланжероне было место, где собирались все пишущие местные люди. Как-то, году в 27–28‑м, привели туда заехавшего на родину Катаева. Он с нами познакомился, и помню только одно — он разделся и сказал: «Сейчас молодой бог войдет в море». И действительно он был красив: высокого роста, хорошо сложен. Уже много позже мы встречались с Катаевым в Переделкине. Когда мы с Инной Львовной вышли из Союза писателей, Катаев прочел наши совместные книги, изданные в Америке, и воспылал добрыми чувствами. Валентин Петрович хвалил наши стихи и делал это так, как будто они напечатаны в СССР, и ни слова не было о том, что с нами случилось. Мы приходили к нему в гости, вместе гуляли. И вот однажды я ему заметил, что как-то делает он много ненужного, слишком хваля во всем советскую власть. А в этот момент мы проходили мимо дачи Леонида Леонова. «Вот, Леонов, — сказал я, — и лицо важное, и дача большая, но он не так, как вы, поддерживает любое дурное постановление». Катаев ответил: «Но ведь Леонов и пишет так, как это нужно власти, а у меня получаются всегда трудности, и ни один роман легко не проходил». Словом, в последние его годы мы очень подружились, хотя в молодости только здоровались. — Еще один знаменитый Ваш земляк — Юрий Олеша… — К Олеше слава пришла после романа «Зависть». Но потом он очень мало писал — пьесу, рассказ. Ничего большого он так и не сделал. И материальное положение его ухудшалось день ото дня, что он очень переживал, но вида никогда не показывал. Он вообще был очень скрытным и ни на что не жаловался. Как-то, будучи студентом, я приехал на каникулы в Одессу, и оказалось, что в лучшей и очень дорогой гостинице «Лондонская», правда, в самом дешевом номере, живет Олеша. Мы отправились с ним на прогулку. И каждый показывал интересные ему в Одессе места. Я предложил пройтись по Полицейской (мы по-старому называли улицы) и показал интересный четырехэтажный дом, который стоял над портом. Два верхних этажа были на улице, а два нижних — в порту, что архитектурно было очень интересно. И Юрий Карлович, смеясь, заметил, что жил в этом доме, когда ему было два года. <…> — А как Вы познакомились с Ахматовой и как выглядели ваши отношения? — Я знакомился с ней дважды. Во время войны я участвовал в обороне Сталинграда в рядах Волжской военной флотилии — был сотрудником газеты «За родную Волгу». Мое место было в канонерской лодке, две пушки стреляли по немцам, а я описывал, как мы бьем врага. В 1943 г. после Сталинградской победы я оказался в Москве по издательским делам — печаталась моя книжка «Сталинградский корабль». Во время войны в Одессе же остались моя мать и сестра, и я узнал, что им удалось оттуда выехать в Ташкент. Я попросил отпуск и получил неделю. Отправился к ним, и, представляете, приезжаю я в военно-морской форме, с кортиком на боку, и во дворе, где жили мои близкие, встречаю Надежду Яковлевну Мандельштам. Мы очень обрадовались друг другу, и она рассказала, что здесь живет Анна Андреевна Ахматова. А на другой день передала мне приглашение Анны Андреевны, которая захотела со мной познакомиться, так как сама была из морской семьи. Стихи мои ее не интересовали, она расспрашивала только о морской службе и потом обо мне благополучно забыла. И спустя годы — в 57–58‑м — моя приятельница Мария Петровых рассказала ей обо мне и познакомила нас. Ахматова хорошо отнеслась к моим стихам, и с тех пор во всех своих суждениях о современной поэзии обязательно упоминала мое имя. Кстати, Анна Андреевна специально приехала на мой первый творческий вечер в ВТО в 1961 г., хотя была уже нездорова. Анна Андреевна очень не любила, чтобы разные люди были у нее в доме в одно время. Если она назначала кому-то свидание, в гостях у нее был всегда только этот человек. И вот однажды я пришел к ней и застал там Пастернака, чему был немало удивлен. Они беседовали, и Пастернак очень ругал английского писателя Голсуорси — плохо пишет, люди неживые. Говорил долго, но в конце концов ушел. Анна Андреевна рассказала, что до меня он ругал Голсуорси еще полчаса. Я полюбопытствовал, почему такой неяркий писатель его так заинтересовал. — «В том-то и дело. Давным-давно, в 1930‑е годы, Пастернака выдвинули на Нобелевскую премию, но получил ее Голсуорси». С Пастернаком на моей памяти произошел еще один забавный случай. Были времена, когда поэтов обязывали бесплатно выступать в рабочей среде. И вот такая группа (в ней был и я) отправилась в какой-то клуб в районе трех вокзалов. В афише все мы были перечислены — и Пастернак, и какой-то сатирик-юморист. Все, естественно, ждали пародиста. И вот объявили Пастернака, и слушатели решили, что это именно он и есть, а овощ-пастернак — это прозвище такое. А Борис Леонидович решил прочесть стихи о том районе, где проходило выступление, и начал: «Многолошадный, буйный, голоштанный…» Такие слова были в новинку для публичного выступления, и зал начал хохотать, действительно увидев в нем юмориста. Он начал смеяться вместе со всеми и объяснил, что, в сущности, все, что пишется, никуда не годится. С Пастернаком мы не были близкими друзьями, но свел нас еще один интересный случай. Я тогда был уже важным переводчиком. И вот мне дали на отзыв переведенного Рабиндраната Тагора, и я отрицательно отнесся к неизвестной мне переводчице Ивинской. А через некоторое время мне позвонил Пастернак с просьбой, чтобы я указал Ивинской ее ошибки для доработки. Когда мы встретились, я в лицо ее сразу узнал — она сотрудничала в «Новом мире», и ходили слухи, что была привязанностью Пастернака. После исправлений перевод опубликовали. Ивинская снимала домик в Переделкине около пруда. Она пригласила меня, был Борис Леонидович, мы устроили праздник с выпивкой. Вскоре Пастернак собрался домой, и мы вышли его проводить. Он ее поцеловал и ушел, а потом вернулся и поцеловал снова. Во всем этом была какая-то трогательность, и было видно, что он очень ее любит. Семен Липкин может вспомнить и не такое. Хотя некоторые из его воспоминаний были опубликованы, в нашем живом разговоре открылись новые подробности эпохи и составивших ее славу людей. Публикуется по изд.: Независимая газета. 2001. 15 сент.МЫ — БЕДНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседу вела Лиза Новикова
Сегодня писателю Семену Израилевичу Липкину исполняется 90 лет. Патриарх отечественной поэзии встречает свой юбилей на даче в Переделкине. Здесь же, по соседству, в музее Булата Окуджавы, 22 сентября состоится встреча с юбиляром. Семена Липкина навестила корреспондент «Ъ» Лиза Новикова. — У Вас странная литературная судьба. Ваш первый сборник вышел, когда Вам было уже 50. — Точнее, 56. Именно тогда я издал свою первую книжку стихов. Это ненормальное явление. Я не мог этого сделать раньше, потому что мои стихи как-то не соединялись с государственным пониманием поэзии. Но это не я так решил — избрать этот путь неизданного поэта. Я бы с удовольствием решил по-другому, чтобы меня печатали, чтобы я издавал книги — но не получалось. По-настоящему я начал издаваться, когда рухнула советская власть, т. е. очень, очень поздно. И я очень рад тому, что смог кое-как все-таки изложить все то, что меня мучило, что увлекло, радовало. И это издается. — Писателям от этого легче? Или, может быть, труднее? — Как вам ответить. Русская литература — великая литература, а мы все — все-таки бедные наследники этой великой литературы. В том, что сейчас происходит, есть положительное начало: пишущие люди не зависят от государства. Выходит много хороших книг, но достойных великой русской литературы я среди них не вижу. Я сам не достоин, и других не вижу. — Каждый год на литературные премии выдвигаются сотни книг. Неужели все они никуда не годятся? — Ну посмотрите сами. В XX в. у нас было восемь великих поэтов: Анненский, Ахматова, Блок, Бунин, Мандельштам, Пастернак, Ходасевич, Цветаева. Теперь вы сами скажите, есть ли кто-нибудь сейчас им равный? Конечно, нет. Но они были, и они живут в нашем сердце, и нам нужно думать о том, чтобы мы хоть немного с ними сравнялись. — Как Вы определите литературное направление, к которому принадлежите: акмеизм, постакмеизм? — Тут вышел трехтомный учебник, где меня называют неоакмеистом. Смешно звучит, но и вправду, из того прошлого, что было, акмеисты мне наиболее близки, особенно Ахматова. <…> — Вообще, что Вы цените в стихах? — Сейчас я не думаю о формальных моментах, я думаю о том, берет меня за душу это стихотворение, хорошо ли оно написано с точки зрения моего понимания, что такое хорошо. То есть чтобы не было пустых строк, чтобы боль и радость человека были отражены в его стихах — вот это главное. Чтобы был ум. «Поэзия должна быть глуповата» — эта фраза смешная, довольно афористичная, но я в это не верю. Поэзия может быть простовата, но ведь что самое простое — возьмите Евангелие. — Что Вы сейчас пишете? — Я сейчас редко пишу. Все-таки возраст сказывается. Мне самому не очень нравится то, что у меня сейчас получается. Недостает двух вещей: глубины и любви. Посмотрим, может быть, Бог даст еще какое-то время для жизни, я напишу то, что хочу выразить. — Располагает ли к этому «Жизнь переделкинская» (так называлась Ваша давняя поэма)? — У Переделкина особая история. Вы ее знаете? Как-то раз у Горького был прием писателей, на котором был Сталин. Видимо, Сталин уже тогда понял, что официальные писатели, прежде всего рапповцы, как-то заражены троцкизмом, относятся к нему не так, как следует. Он обратился к самому знаменитому попутчику Леонову и спросил его, ну, я не знаю, какой вопрос он ему задал, ну что может царь спросить у подданного. Что-нибудь вроде, как ему живется. Тот ответил: «Хорошо, но воздуха не хватает». Сталин так понял, что нужно давать писателям дачи. И дал Переделкино. Впервые я приехал в Переделкино к моему знакомому Пильняку, который показал мне соседские дачи — Пастернака, Леонова. Так началось мое переделкинское существование. Я часто встречался с писателями, которые со мной не здоровались. Но у меня было и много друзей: Каверин, Заболоцкий. Об этом я написал поэму «Жизнь переделкинская». — Можно было бы написать поэму о нынешней жизни в Переделкине? — Не знаю. Сейчас, когда я прохожу, я почти никого не знаю. Не думаю, что те, кого я вижу, — это писатели. Я не знаю, кто это такие. Публикуется по изд.: Коммерсанта. 19.09.2001. № 170.«ТЕМ, КОГО Я ПЕРЕВОДИЛ, Я ЧАСТО СОВЕТОВАЛ, ЧТО УБРАТЬ, ГДЕ РАСШИРИТЬ…»
Беседу вела Елена Калашникова
— В доме Ваших родителей было много книг? — Нет, но я с раннего детства ходил в «Библиотеку приказчиков-христиан» и «Библиотеку приказчиков-иудеев», которые были недалеко друг от друга. Отец мой — портной, участвовал в революции на стороне меньшевиков, много читал, часто вместе со мной. — И какие книги? — Разные: романы, рассказы, книги по истории, религии… — В детстве у Вас были любимые переводные книги? — Диккенс. По-немецки я читал Гейне и Гете… — Немецкий Вы учили самостоятельно? — Отец прилично зарабатывал и каждый год отправлял нас в Люстдорф («веселую деревню»), дачное место в Одессе, где жили немцы. Там я учился языку у мальчиков, а потом сам продолжал. — Кроме Вас, у родителей были еще дочь и сын. — Да, Клара, врач, была младше меня на 10 лет, ее назвали в честь родственницы матери, а брат Михаил, математик, на 12. — Как Вы пришли к переводу? — Я писал стихи чуть ли не с раннего детства, их немного печатали в Одессе, как-то руководитель нашего литературного кружка послал стихи, в том числе и мои, в журнал «Октябрь». Когда в 1929 г. я приехал в Москву, одно мое стихотворение «Октябрь» уже напечатал. В Москве я познакомился с Мандельштамом, бывал у него, меня он ругал, редко похваливал. С его помощью в третьем номере «Нового мира» за 1930 год опубликовали мое стихотворение; дважды мои стихи напечатал солидный «кузнецовский» альманах «Земля и фабрика», «кузнецы» были свободнее рапповцев, печатали хороших писателей — Пастернака, Бабеля, например. 1931 — год перелома, меня перестали печатать, иногда «Огонек» заказывал стихи к осени, зиме… Мои товарищи — поэты Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский, Маруся Петровых — в это время тоже не печатались. За многие годы журнал «Прожектор» опубликовал маленькое стихотворение Тарковского, Штейнберг называл это «труд Тарковского». Нас ценил Георгий Шенгели, и когда он стал редактором «Литературы народов СССР» в Гослитиздате, то привлек нас к переводу. Мы языков не знали и переводили с подстрочника — в этом плане белорусские, украинские произведения легче среднеазиатских. Переводили, что давали, прозой не занимались, зарабатывали немного… к тому же я учился. — А где? — На химическом факультете московского инженерно-экономического института. В это время мое стихотворение опубликовал Горький. Тогда целые страницы «Известий» отводили под «Жизнь Клима Самгина», а внутри, в рамочках, печатали чьи-нибудь небольшие стихи. — Вы были знакомы с Горьким? — Нет. Он выбрал довольно слабое мое стихотворение и посоветовал одному большому издательству привлечь меня к переводу. Мне дали переводить стихи латышского классика Яна Райниса, а в 1933 г. приняли кандидатом в члены Союза писателей. Однажды меня вызвали в Союз и поручили перевести поэму Сулеймана Стальского «Дагестан». Перевод Суркова Горькому не понравился, и он предложил мою кандидатуру. Сурков перевел содержание довольно правильно, но не передал музыку стиха, рифму, редиф. По-русски редиф передать трудновато, поэтому задача для меня была интересна. К тому же мне предложили поехать в Дагестан. — Познакомиться со Сталъским? — Да. Я согласился, но узнав, что в дагестанской писательской организации я, как представитель Москвы, должен разрешить какой-то спор, сказал: «Я не член Союза писателей, только кандидат, я ничего не знаю о Дагестане. Как я могу разрешить спор?» На что мне ответили: «У нас нет денег на двоих, в таком случае мы отказываемся от ваших услуг». Но через неделю снова вызвали: «Будете заниматься только переводом». Я попросил недели три, чтобы в Ленинской библиотеке почитать книги по истории Дагестана, его языков… Мне купили билет в международный вагон, который я впервые увидел изнутри, я доехал до Дербент, а потом на машине наверх, в Ашага-Сталь, дом Сулеймана С тальского. — Как Вас принял автор? — Очень хорошо. Один раз, правда, рассердился — девушка послала мне поцелуй из-за высокой глиняной стены, я — ей в ответ. Он предупредил: «Если не прекратишь, тебя убьют». Подстрочник его поэмы начинался с истории Дагестана вплоть до наших дней, по части истории был очень беден, а так как я уже начитался книг, то решил сделать кое-что по-своему. Я сказал Стальскому, что хочу разбить поэму на главы, в каждой будет свой редиф, на что он ответил: «У меня есть большой мешок, на дне мешка много дорогих вещей, у меня нет сил поднять их, даю тебе этот мешок, поднимай их сам». То есть он дал мне свободу действий. Мой перевод напечатали в «Правде» и во всех книгах, посвященных Сталину и революции. — Это Ваш первый серьезный перевод? — Да, у меня была еще одна важная работа. Мне понравился калмыцкий эпос «Джангар», фрагмент которого пропел мне соученик по институту — и дал подстрочник. — Он был калмык? — Да. Я его перевел и напечатал в альманахе, посвященном поэзии народов СССР. В «Правде» хвалебную статью об этом переводе написал К. И. Чуковский — мало того, узнал мой адрес и пригласил к себе. Так я познакомился с ним, его женой, дочерью Лидией. Помню, меня пригласили к обеду, а Лидию — нет, пока мы сидели за столом, она входила, выходила, видимо, были натянутые отношения… Мое положение укрепилось: по предложению калмыков Гослитиздат заключил договор на перевод «Джангара». Потом, изучив всю поэму, этот кусок я не включил, — я не совсем понял своего товарища, там другая техника стиха, Чуковский тоже не знал, какая техника правильная. Когда я окончил работу, в Союзе писателей устроили вечер, на него приехали калмыки. Фадееву, председателю Союза, перевод понравился, создали даже комитет по «Джангару», в который вошел и я. В 1940 г. в Калмыкию на специальную сессию, посвященную выходу перевода, приехали крупнейшие советские писатели. Вскоре началась война, меня мобилизовали на пятый день. Вначале я служил в газете, на Балтике, причем редактор был ниже меня по званию — я был техник-интендант 1‑го ранга, т. е. старший лейтенант… В Калмыкии в это время создавали 110‑ю конную дивизию, вызвали меня, я поехал туда в начале 1942 г. Кое-как научился скакать на лошади. На Дону была наша первая битва, нас разбили немцы — разъединили дивизию на части, и я оказался в группе 10–12 человек. От нас кто-то удирал, другие присоединялись. Меня выбрали руководителем. Мы решили идти на запад — соединиться с армией. А у меня было особое положение на земле, захваченной немцами: я еврей. Ночью мы скакали, а днем прятались в поле, завшивели, больно было сидеть на лошади. Кое-как доскакали до одной деревни, вошли в первую избу. Оказалось, ее уже заняли немцы, а хозяин избы — их староста. Мы его испугали, он сделал горячую воду, я расставил вооруженных людей, и мы помылись. Потом он нас накормил — хлеб, чай — и спрашивает меня: «3 якои ви нации?» Я говорю: «Армянин». А в Одессе был такой порядок: после 7 классов школы 3 года специализации — химпрофшкола, металлпрофшкола. Я поступил на чертежное отделение художественной профшколы, одним из преподавателей был Оганес Александрович Шахдидарьянц, мне он нравился, я ему тоже. И я сказал, что меня зовут Оганес Александрович Шахдидарьянц. А он: «А минэ сдается, что ви з жидив». В комнату заходила жена хозяина, ставила новые стаканы чая, и когда она снова вошла, он у нее спросил: «3 якои они нации?» Она говорит: «Вырмянин». Ночью мы сели на лошадей и после многих приключений доскакали до Моздока, оттуда нас отправили в Орджоникидзе, тогда столицу Северной Осетии. Тут меня выручила еврейская хитрость — знамя нашей дивизии случайно осталось у меня. Когда нас вызвали, я рассказал, как все было, показал знамя. Нас отпустили, но дивизию распустили, и я поехал в Москву. Вскоре меня отправили в Сталинград, и я оказался одним из участников Сталинградской битвы. Вот мои основные военные дела. — А после войны снова вернулись к переводу? — Да. До 1940 г. мне дали важную работу — перевести с подстрочника поэму «Лейли и Меджнун» Навои. После «Джангариады» это моя первая серьезная работа. — А как же поэма Сулеймана Стальского? — То политическая работа, я не включаю ее в свои книги. Перевод поэмы Навои издали во время войны, я был в это время в Ленинграде. Шли годы. Ко мне обратился таджик Мирзо Турсун-заде, чтобы я переводил его стихи. Эту работу печатали в московских журналах и газетах, она выходила отдельными книгами. Потом предложили перевести поэму Фирдоуси, я изучал персидскую литературу, за полтора года стал прилично говорить по-таджикски. Еще в прошлом году я немного разговаривал с таджиками-рабочими в Переделкине. — Персидский и таджикский языки чем-то отличаются? — Это один язык, разница в том, что таджики окали, как у нас на севере, и в их официальном языке было много русских слов. Например, газета называлась «Тоджикистоне совити» — «Советский Таджикистан». Я переводил Фирдоуси много лет, в «Шахнаме» 30000 строк; потом другого классика — Джами, известных персидских лириков… Основная часть моих переводов — с таджикского, мне часто помогали ученые. Затем меня пригласили в Бурятию, я перевел эпос «Гэсэр». Я всегда изучал основы языка, с которого переводил. — А какой перевод был самым интересным? — С индийского, «Махабхарата». — А что именно было интересно? — «Махабхарата» — одно из самых древних произведений Востока. В «Библиотеке всемирной литературы» напечатали 10000 строк моего перевода. — Были вещи, которые хотелось перевести, но не удалось? — Нет. — Влияло ли то, что Вы переводили, на Ваши собственные стихи? — Думаю, да. Во-первых, у меня были подражания. Во-вторых, вещи, которые я переводил, — религиозные, а я поэт религиозный. — Какой перевод был самый трудный? — «Махабхарата». Я знал таджикский язык, немного говорил по-узбекски, а тут гораздо более древняя эпоха, другая религия и быт. — Несмотря на существующие переводы, Вы сделали стихотворное переложение аккадского эпоса о Гильгамеше. — Меня он потряс, я начал переводить несколько песен в 1980‑х, а в 1989 закончил. Я знал два перевода — Н. С. Гумилева и И. М. Дьяконова. Перевод Гумилева мне не нравился — страниц 30 с французского подстрочника… хотя как поэта я его высоко ценю и люблю. А перевод Дьяконова не поэтический, но очень точный. Я основывался на переводе Дьяконова, но в моей работе другой размер. — Вы считаете, этот размер ближе к аккадскому? — Нет, просто я решил, что эту вещь надо так перевести, хотя это ненаучный подход. Когда я сверял его с дьяконовским переводом — он редко, но похож. — «Поэма о Гильгамеше» — исключение, обычно Вы первый переводчик. — Да. — По-Вашему, стиль переводчиц отличается от стиля переводчиков? — Талантливые переводчицы сильны так же, как переводчики. — Вы переводили и произведения женщин? — Я перевел много стихов таджикской поэтессы Зульфии, дружил с ее мужем Алимджаном, который случайно погиб, не будучи на фронте. Дружили до тех пор, пока мы с Инной Львовной Лиснянской в знак протеста не вышли из Союза писателей: за участие в альманахе «Метрополь» из Союза писателей выкинули двух молодых людей — Евгения Попова и Виктора Ерофеева. Шесть лет нас не печатали, и Зульфия некоторые мои переводы отдала другим переводчикам… Поэтам, которых я переводил, я часто советовал, что убрать, где расширить. Авторы прислушивались к моим замечаниям. — В таких случаях Вы думали о читателе? — Мне хотелось, чтобы русским читателям эти стихи нравились. Я переводил старательно, многие хотели, чтобы я перевел их стихи. — Они напрямую к Вам обращались или в Союз писателей? — В Союз писателей тоже, например, Турсун-заде. Меня огорчало то, что не печатали мои стихи, годы шли, а книги не было. Кое-что печатали в журналах, несколько раз в «Новом мире», но «Известия» грубо выступили против одного моего стихотворения. Я спросил Твардовского: «Что дальше?» — «Отвечать не будем, но печатать вас продолжим». Не так часто, но печатали, некоторые мои вещи не нравились Твардовскому. — Если бы печатали Ваши стихи, Вы бы занимались переводом? — Не знаю. Тарковский прекрасно переводил, но у него есть строки: «Ах, восточные переводы, / Как болит от вас голова…». Я переводил с удовольствием… хотя, если бы нормально печатали, возможно, и не переводил бы. — А кто из Вашего окружения был Вам близок? — Я уже назвал четырех друзей. Правда, одно время мы с Тарковским поссорились: он был виноват в одном поступке, а я — в грубости. Ахматова просила меня исправить ошибку Тарковского. Инна Львовна нас помирила. Самым близким другом был B. C. Гроссман. Я спрятал один экземпляр его романа «Жизнь и судьба» у своего брата Михаила и с помощью Войновича передал в Германию. Книгу напечатали во Франции 60000‑м тиражом, потом в Америке… — Вы знали очень многих интересных людей, литераторов… Кто Вам был больше всего симпатичен? — Кроме тех, кого я назвал, — Платонов. В книге о Гроссмане я довольно много написал и о Платонове. — А Мандельштам как человек какое производил впечатление? — Нервный, жил материально плохо, писал мало, халтурой не занимался, в то время работал в «Московском комсомольце». — Вы были знакомы и с Надеждой Яковлевной? — Да. Она оказалась хорошей писательницей, но никогда не включалась в наш литературный разговор с Осипом Эмильевичем, что-нибудь читала. Через нее я познакомился с Ахматовой, Анна Андреевна об этой встрече забыла. — Вы писали о Багрицком. Он производил приятное впечатление? — Очень. Любил шутить. В Кунцеве он жил в избе, комната была разделена на две половинки, но не до потолка, сзади кухня и комната жены. Я к нему приходил через день, он меня устроил неподалеку. — Какое это было время? — 1929‑й. Однажды я пришел, а между аквариумами на высоком столе сидит пожилой человек, другого хорошего места не было. Багрицкий всегда полулежал на старом диванчике. Это был Михаил Кузмин, он ценил стихи Багрицкого. Приехав из Ленинграда, он решил познакомиться с Багрицким. Из всей нашей группы Багрицкий ставил на первое место Штейнберга, потом меня. Как он относился к Марусе Петровых как поэту, было непонятно… но ласково. Стихи Тарковского, может, самого талантливого из нас, ему не нравились, он считал, что они похожи на мандельштамовские… Публикуется по изд.: Русский журнал. 7.5.2002: www.russ.ru/krug/20020507kalash.htmlС ВЕРШИНЫ ГОРЫ
Беседу вел Лев Алейник
С кем сводила его судьба! Ахматова, Цветаева, Бабель, Мандельштам, Гроссман… Поэт легендарный — первую книгу стихов дозволили издать ему лишь в 56 лет. Но в начале 1980‑х Липкина вновь запретили… — Как вышло, что Вашу первую «тамиздатскую» книгу редактировал и назвал «Воля» Иосиф Бродский? — Мы не были знакомы. В начале 1960‑х Анна Андреевна болела, я пришел навестить в Боткинскую. В палате был какой-то молодой человек, просила подождать, пока тот уйдет. Минут через 15 он вышел, и я увидел — он рыжеват. Анна Андреевна говорила: «Живет в Ленинграде один рыжий». Может, его я и видел тогда… <…> Друзья отдали мои стихи издателям в «Ардис», а те — Бродскому… У нас не было переписки. В 1989 г. на 100-летие Ахматовой меня пригласили в Бостон, потом был в Нью-Йорке, но Бродского не застал: он уехал преподавать. Место его в поэзии высоко! Он близок мне умом, музыкой, живописью — всем. Не вправе раздавать я эпитеты, но, может быть, он поэт великий! — «Поэзия — подножие горы, вершина которой молитва», Семен Израилевич, Ваши слова. На главные вопросы Вы ответит в стихах, прозе и все же…. — Всю жизнь придерживаюсь иудаизма. В Одессе ходил в хедер неполный год, читал на иврите. Но пришли красные, за учебу надо было платить едой, а ее не стало… Всю жизнь — а мне за 90 — перечитываю Книгу, своей веры не скрывал. Идея евреев: Бог незрим, един, мы дети его. К иным религиям отношусь с почтением, многое нравится, кроме одного: Богом быть не может человек, сын женщины! Это мне, иудею, чуждо. — Стихи о народе по имени «и» — знак причастности к «народу иври», как он назван в Книге «Бытие»? — Многие так и считали. Мне передали (сколь верно, не знаю), будто министр иностранных дел Израиля, а в те годы премьер Шимон Перес радовался: в России нашелся храбрец. В действительности не был я таким уж храбрецом. Но подспудно выразил иудейское понимание мира. — «Не на идише, не на иврите / Я писал, но писал и о вас» — признание? — В Израиле в 1990 г. на это было бы полезно ответить: да… Принимали здорово — богатая гостиница в Тель-Авиве, вечера во многих залах, в Иерусалиме. Читал стихи, отвечал на вопросы о друзьях-поэтах. Переводил Маркиша, его сын Давид был моим студентом в Литинституте… Но первым просил перевести поэму Фефер — и ее дал «Новый мир». Так я познакомился и с Аксельродом — он в 41‑м погиб в тюрьме. Лучший поэт на идише мой друг Самуил Галкин не был в партии и потому не занимал поста в Еврейском антифашистском комитете…. — Потому-то и остался в живых? — Расскажу, что никто не знает, со слов вернувшегося с каторги Галкина. Лубянка у него требовала подписать, что ЕАК — слуга Америки. Не подписал! Снова вызов: при вас допросим Квитко — выше ли он в ЕАК вас по должности? Привели избитого Квитко, лицо изранено: на любой вопрос — мычит. Галкинуговорят: видите, подтверждает — да! «Но он же слова сказать не может?!» — возразил Галкин. Вскоре его опять вызвали и ввели Фефера: одет не как арестант и говорит, как им надо. «Ицык, вус рэт ир»? И слышит: «Азой дарфм’н» (Ицык, что вы говорите? Так надо, — идиш). Галкину дали 10 лет, отсидел не все. Как-то попал он в санаторий, где была Ахматова. Он читал ей на идише и тут же переводил, и она его очень высоко оценила: «Поэт умный, его стихи полны мудрости». — Ахматова какие-то Ваши стихи особо отметила? — Поэму «Техник-интендант» — о встрече с евреем с Запада, бежавшим и устроившимся в колхоз, о выселении народов. Анна Андреевна надписала мне книгу: «Липкину, чьи стихи я люблю, а один раз плакала». Антисоветская поэма, читал только близким, ее знали Галкин, Гроссман. — Изданы все Ваши стихи на еврейские темы? — Пришло время, многие вошли в недавнюю книгу «За семь десятилетий». В русской поэзии — мелодике многих поэтов, мотивах, темах — есть «еврейская струя»… Мои стихи десятилетиями не публиковали! На днях получил из Калининграда от читательницы письмо о поэме «Декада» — сверхлестный отзыв: там устроили вечер, читали мои стихи. — «Зябко прячет листы виноградник / И опресноки в юрте пекут. / Точно так их пекли в Галилее, / Под навесом вечерней порой… / И стоит с сантиметром на шее / Элегантный варшавский портной». Откуда сюжет? — Стихи — о тех, кого знал. Варшавского портного видел в Киргизии, он рассказал свою жизнь. И в поэмах немало с натуры… Как-то мы с писателями поехали в горы, поселили в хорошем доме. Зашел чекист: «Ищем чеченца, он в горах прячется». А я в 1930‑х переводил чеченцев, стал первым русским поэтом, издавшим том чеченской поэзии. И вот в поэме «Туман в горах» описал чеченца, зная характер вайнаха, учившегося в Москве, — представил преследуемым. — На Вашем 90-летии о поэме «Нестор и Сария» Фазиль Искандер сказал: там — правда… — Я взялся за эпос Абхазии, и с самым близким другом Василием Гроссманом мы совершили путешествие на Кавказ: ему нужно было из Москвы по семейным делам, мне по переводческим. Поселили в гостинице у моря. Как-то подошел человек — интересовал его Гроссман, и рассказал, как арестовали главу Абхазии Нестора Лакобу с женой — сестрой рассказчика. Потом Гроссман с улыбкой сердито пенял: «Рассказано мне, а написал — ты». — Ваша книга «Жизнь и судьба Василия Гроссмана» — свидетельство самоотверженной дружбы. Как удалось Вам спасти арестованный КГБ главный его роман? — На Беговой у него гебисты взяли машинопись романа «Жизнь и судьба». Спросили: где еще? Он сказал правду — в «Новом мире». Перед тем осенью Гроссман с женой были в Коктебеле, и там Твардовский при встрече сказал: «Знаю, ты закончил вещь, дай просто прочесть». Гроссман дал ее в Москве… Твардовский приехал ночью, восторгался — «вещь великая», плакал, просил еще подержать… Изъяли у него в редакции и у машинистки. Но за полгода до того Гроссману я сказал: все может быть, дай экземпляр — спрячу. Мой брат Миша — математик, отношения к литературе не имел, жил в коммуналке, и я оставил у него. Войновича, моего соседа, я озадачил: как роман отдать за рубеж? Он обещал: «Друзья сфотографируют». Поехал я к Мише за тремя папками. — Роман же огромный, более 45 печатных листов! — По адресу, указанному Войновичем, папки свезла Инна. Но вышли пленки плохо. Попытались в другом месте — у Сахарова и Боннер, и переправили другу в ФРГ, Копелеву. Ему издать не удалось, но отрывки дал журнал «Время и мы», да Максимов в «Континенте» страниц 40. В 1980 г. владелец швейцарского издательства «Возраст человека» Димитрович роман опубликовал тиражом 60000 — успех во Франции! А в 1988 г. редактор «Октября» Анатолий Ананьев попросил у меня машинопись и напечатал. — Ходит легенда — Вы видели Хаима Бялика? — В Одессе были две большие синагоги: для богатых — Бродского, и Главная — на углу Ришельевской и Еврейской. Отец был меньшевик, атеист, дома я был один верующий, но мама пекла к праздникам. В Йом Кипур закрывали ставни, ели — один я не ел. Может быть, потому, что живал у деда: он меламед и мог мне внушить… У синагоги спорили, там я и увидел Бялика, среди окружавших был отец, считавший его гением. Запомнилось, что он — блондин, немного рябой, усы желтоваты. Речь шла о сионизме, оппонент сказал: «Ир рэт, ви а сойхер» (Вы говорите, как торговец, — идиш). Бялик ответил: «Ир з’нт а нар — дихтер муст зайн а сойхер» (Вы глупы — поэт вынужден торговать). Мне было 8 лет, я поступил в гимназию по процентной норме, учился отлично и в хедере… Спустя годы переводил Бялика. У него самое знаменитое «Сказание о погроме», стихи латиницей мне печатали на идише. На идише мне не с кем поговорить, пою иногда: «Аф’н прип’чк / брэнт а файрл, / ун’н штуб из эйс, / ун’де рэбэню / клэйнэ киндэрлэх / лэрнт алэф бэйс…» (В припечке огонек горит, и в дому тепло, а ребе малых деток учит букварю, — идиш). Много песен помню: отец, как все портные, работая, пел. — А Исаака Бабеля Вы знали? Бабель читал на иврите, французском. Мы у него быв&ти с Семеном Гехтом. Бабель сетовал: печатают мало, решил переводить Шолом-Алейхема, но не могу передать первую фразу: «Ди историе фун дер гешихте из а зэ майсэ» (История этой истории такая история, — идиш). Я спросил: а как у предшественников? Он ответил: «Я хочу так, как у других не получалось». Не успел — расстрелян до войны. — Вам перепало даже за переводы эпоса Востока? — Переводил калмыкский «Джангар», а калмыков Сталин выслал. Переводил Кайсына Кулиева, чеченцев, балкарцев — их выслали — эти мои связи не случайны?! Но не подвергся сильным гонениям: не давали работы — переводов, особенно с началом антисемитской кампании. Что бы было с евреями в стране, не сдохни палач-Сталин? — Антисемитизм в России в прошлом? — Я боюсь. Гниль снизу всегда есть, а значит, не ушла и опасность ее распространения. У меня на этот счет свои соображения, ведь всю жизнь судьба евреев тревожила меня. Печалит, что зараза в низах сидит глубоко. Но думаю, со стороны власти это пройденный этап, добрые отношения и с Израилем. Но то, что там теракты, терзает. Боюсь, не избавимся от терроризма мусульман, и как избавиться, не знаю. У меня чувство, что начинается век ислама. Все-таки я их немножко знаю. Их черта — подчинение тому, у кого власть, и полная вражда, если власти нет. — Что помогло остаться собой в непростые времена? — Скажу просто. Надо любить людей. Никогда ни перед кем не стыдиться и не скрывать, кто ты родом. Таких много в моем поколении… Я Солженицыну, опубликовавшему «Двести лет вместе», писал: книга не антисемитская. Он поздравил с 90-летием, вообще обо мне хорошо отзывался. Я писал ему: какой ни есть, я русский поэт, но мое самосознание — иудейское, презираю выталкивающих это из себя. Выжить помогла вера. И понимание близких. — «Корень дома» вашего Инна Львовна Лиснянская — поэт истинный. Сколько лет вы вместе? — Зимний месяц в Ялте мы жили с Гроссманом, и ее муж у нас бывал, а в клубе писателей познакомил и с нею. Другой раз я увидел ее, когда секция устроила впервые чтение моих стихов: вел вечер Арсений Тарковский, мой друг, пришла и она… Встретились в Малеевке спустя годы, прочла стихи — как поэта я ее и не знал: талант! Пронзительна ее поэма «Госпиталь» — в войну ухаживала за ранеными в челюстно-лицевой хирургии… После выхода из СП кто-то нам сказал из КГБ: «Не печатают? Предложите хорошее — напечатают». Мы с нею условились: я даю в «Новый мир», она в «Дружбу народов». Отзывы просили письменные, я прямо писал: нас допрашивают. Ответили: мне — «Стихи интересны, но журналу не подходят», ей еще короче: «Стихи не подходят». Нюанс?! Человек тот и сейчас работает: он хотел печатать — редактор не дал. Вошла Инна Львовна, и я повторил вопрос: сколько лет она вместе с Семеном Израилевичем? — В 1962 г. мне сказали: в СП будет читать стихи Липкин, переводчик… Стихи меня потрясли, ушла под впечатлением: какой поэт! Через год — Малеевка, он уезжал. Так важно вышел на прогулку, с палкой, мы пошли вместе. Рассказал: дружен с Ахматовой, только не просите знакомить, она это не любит. Я ответила: она в славе, и так много вокруг нее народу — зачем мне шлейф нести? В дни ее тяжкие — другое дело. Он на меня так посмотрел… Встретясь в 1967 г., мы уже не расстались. Публикуется по изд.: Алеф. 2002. № 900 (8).ПРЕОДОЛЕНИЕ ВЕКА
Беседу вел Ян Шенкман
Семен Израилевич Липкин был человеком сверхъестественного терпения. Это привлекало едва ли не сильней, чем его стихи. Он терпел советскую власть в худших ее проявлениях, терпел журналистов и начинающих поэтов, бессмысленную цензуру, собственное нездоровье… Терпел и не раздражался. Жизнь, почти равная XX в., не сделала из него страдальца и мизантропа и вообще, что называется, не сломала. Он не принимал героических поз, когда его не печатали, не диссидентствовал, но и на компромиссы не шел. Религиозные убеждения его были странными тогда и остаются странными до сих пор. Они неприемлемы с точки зрения любой ортодоксии, старой и новой. Неприемлемы, но так привлекательны:О Семене Липкине
Портреты и свидетельства
Сергей Аверинцев ОТВЕТСТВЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Спроси у времен прежних, бывших прежде тебя — велит Моисей во Второзаконии (4, 32). А ведь и вправду когда-то люди говорили так: …Спроси у прежних родов, и вникни в наблюдения отцов их; а мы — вчерашние, и ничего не знаем… (Иов 8: 8–9).Сегодня все это многим кажется страшно устаревшим. Такую силу взяла та форма недомыслия, которую Клайв Стэйплз Льюис когда-то называл по аналогии с географическим провинциализмом — провинциализмом хронологическим. Словно болезнь Альцгеймера перестала быть индивидуальным недугом, страшащим пожилых людей, и предстает как повальная зараза. Попробуем поучиться у старого, но не обветшавшего изречения. Спросим у времен прежних, бывших прежде нас, — послушаем нашего современника Семена Израилевича Липкина, который был современником и собеседником Андрея Белого, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама; который родился в 1911 г., пережил опыт фронтовика и в непрестанном усилии духа, преодолевающем усталость, уныние и немоту, дожил до наших дней. Ему есть что нам рассказать на своем ясном, мудро-простом, отчетливом и ответственном языке. В наше время, когда все слова сказаны, когда самое слово как логос, как явление смысла кажется распадающимся, когда к нему, с одной стороны, подступает банализация, а с другой — стихия бреда, нужно незаурядное мужество, чтобы отстаивать благословенную членораздельность слова, его взвешенную точность: то спокойствие, которое не имеет ничего общего с холодностью, тот традиционализм, который нельзя свести к подражательности. Уже в ранних стихотворениях С. И. Липкина, возникших в ограждении себя от шума советского безбожия, ясное осмысленис жи. шс много опыта предстает неотделимым от мысли о Боге; и мысль: ла, источник всякой ясности ума и души, остается и позднее сердцевиной его поэзии. Не один наш фронтовик в годы войны жил живым чувством своего тайного договора с Богом («завета», на языке Библии — berit’a); но не велико количество хороших стихов, которые тогда, в самые фронтовые годы, были об этом написаны. И для того чтобы через десятилетия рассказать о подвиге тайных монахинь Неопалимовского переулка, нужно было суметь увидеть все еще в то время, не post factum. Слово этого поэта дорого не в последнюю очередь и тем, что оно — в самом точном смысле свидетельство современника, никогда не махание кулаками после драки и не фантомы ретроспективного умозрения и воображения. Правда, и с тем прошедшим путем человечества, современником которого С. И. Липкин уж никак не был, он связан не просто умственным воображением, но сыновней памятью сердца, обретающей в переживании интимную конкретность. Он имеет право спрашивать: Разве не при мне кричал Исайя, Что повергнут в гноище Завет? И в его устах это звучит вправду убедительно. Такие стихи — как лекарство от той эпидемической формы болезни Альцгеймера, каковую мы уже поминали выше. Итак, вот сумма причин, по которой редакция решается предложить читателю эти стихи, хотя отнюдь не в качестве так называемой христианской поэзии в вероисповедном смысле слова; их автор, всю жизнь столь серьезно размышляя о Боге и притом будучи очевидным образом ближе к Новому Завету, чем к Ветхому, к церковности не пришел. Причины этого составляют тайну личного пути и могут быть разве что импульсом для наших молитв, но уж никак не предметом обсуждения в этой статье. 1997 Публикуется по изд.: Православная община. 1999. № 53. Предисловие к подборке стихотворений С. Липкина, в которую вошли: «Имена»; «Договор»; «Размышление Авраама у жертвенника»; «Время»; «В нищей хате»; «Новый Иерусалим»; «Неопалимовская быль».
Василий Аксенов «ДЫШАТ В ЕГО СТИХАХ БОГ И ПРАВДА…»
В течение нескольких десятилетий имя и личность Семена Липкина были окружены таинственностью. На поверхности советской литературы он был известен как переводчик восточной поэзии, профессионал высшей марки, человек энциклопедических знаний. Внутри, однако, ходили слухи, что он не только переводчик, но удивительный оригинальный поэт. Лишь немногие близкие друзья знали его стихи по устным чтениям. Почему же мир поэзии Семена Липкина не открылся для читающей России обычным естественным путем? Потому лишь, что дышат в его стихах Бог и Правда, а это дыхание страшит аппаратчиков. 1981 Публикуется по изд.: Липкин С. Воля. An Arbor: Ardis, 1981.Иосиф Бродский «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, ПО-МОЕМУ, ПОЭТ»
Но вот давеча я составлял — в некотором роде повезло мне — избранное Семена Липкина. И там — огромное количество стихотворений на эту самую тему: о войне или так или иначе с войной связанных. Такое впечатление, что он один за всех — за всю нашу изящную словесность — высказался. Спас, так сказать, национальную репутацию. Между прочим, он один из немногих, кто Цветаеву опекал по ее возвращении из эмиграции в Россию. Вообще — замечательный, по-моему, поэт: никакой вторичности. И не на злобу дня, но — про ужас дня. В этом смысле Липкин как раз цветаевский ученик. Публикуется по изд.: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским / Вступ. ст. Я. Гордина. М., 1998.Марк Ватагин «УБЕРИ ЛИПКИНА, Я НЕ ХОЧУ ИЗ-ЗА ТЕБЯ И ИЗ-ЗА НЕГО ТЕРЯТЬ ПАРТБИЛЕТ!»
1
Читатель «Литгазеты» с 17 лет, я сталкивался с именем Липкина не раз. Корней Иванович Чуковский в книге «Высокое искусство» назвал его классиком перевода. В 1960 г., когда я приехал в Калмыкию, имя это слышал постоянно, в Калмыкии был культ Липкина, в каждом доме, куда ни приходил, была книга «Джангар», издания 1958 г., перевод Липкина. (В 1968 г. он получил звание Народного поэта Калмыкии.) Я приехал в Калмыкию из Ленинграда по приглашению двух калмыцких поэтов — Константина Эрендженова и Эренцена Лиджиева — переводить их стихи. Леонид Сангаев, сотрудник Калмыцкого НИИ языка, литературы и истории, через полгода сказал мне: «Зачем вы на все это тратите время, займитесь нашими сказками, их еще никто серьезно не переводил. До войны к нам приезжал Семен Липкин, перевел „Джангар“, теперь ваша очередь, сделайте книгу сказок, я продиктую вам подстрочники». В 1962 г. рукопись была готова, сдана, а летом 1964 г. моя первая книга — «Медноволосая девушка. Калмыцкие народные сказки» — вышла под грифом Калмыцкого НИИЯЛИ в редакции Восточной литературы издательства «Наука». Редактор Ирина Лазаревна Елевич сказала: вам повезло — вашей книгой мы открываем серию «Сказки и мифы народов Востока». Вскоре я принес книгу Липкину. (У него была статья в «Литгазете» — «Шах поэтов Рудаки». Я надписал книгу: «Шаху переводчиков Липкину».) В предисловии известный востоковед, калмыковед профессор Борис Клементьевич Пашков назвал меня его учеником. «Двадцать пять лет назад поэт Семен Липкин сделал блестящий перевод калмыцкого героического эпоса „Джангар“. Сегодня, используя богатый опыт Липкина, поэт Марк Ватагин сделал образцовый перевод калмыцких богатырских сказок. На русском языке сказка обрела форму, соответствующую оригиналу»[2]. В ту пору я увлекался переводом четверостиший Омара Хайяма, показал мастеру мои опыты, он принял их благосклонно, сказал: «Я тоже перевожу Хайяма». При этом заметил, что понимает по-таджикски. По поводу формы рубайи сказал: это у нас они стали четверостишиями, а там они двустишия с внутренней рифмой в первой строке, ну, например: Мы при луне наедине Стояли, прислонясь к стене. Липкину было тогда всего 53 года. Он кивнул на книжный шкаф с полками, полными книг его переводов, сказал иронически: «Вон сколько настрогал — 200 тысяч строк». И спросил меня: «Вы пишете стихи каждый день?» — «Нет, — сказал я, — не каждый». Он сказал: надо писать каждый день, чтобы не терять форму. И покрутил рукой, имитируя движение фехтовальщика. (Давид Кугультинов мне говорил: «У Липкина есть норма: 40 строк в день».) Через год я встретился с Липкиным, он сказал: — «Я прочитал вашу книгу, вы удачно провели ваш корабль и, что хотели, сказали». Потом я встречался с ним неоднократно. Он говорил, что следит за моей работой. О поэтах говорил доброжелательно, цитировал стихи наизусть, хвалил Кугультинова. Однако, при упоминании одного из имен, сказал: «С ним общаться не надо, он не талантлив». Осенью 1974 г. я встретил его в ЦДЛ, когда отмечали 30-летие вхождения Тувы в состав России. Липкин тувинцев не переводил. Я в шутку сказал ему: что же это вы не переводили тувинских поэтов? Он ответил: а вы переводили? Я тогда подумал: «Добрейший человек, ставит меня рядом с собой! Я — да, переводил и много, и что с того? Это не событие. А его перевод — счастливый случай, праздник навсегда в жизни любого переводимого поэта». В Киргизию я приехал также через четверть века после Липкина, после выхода первого издания «Манаса». Для меня оставались великие киргизские акыны во главе с Токтогулом (Токтогул, конечно, переводился и немало, но я перевел заново лучшие его песни). Книгу «Акыны» издал в Бишкеке в 1991 г., работал над ней 20 лет. Конечно, мне было легко: форма акынских песен на русском языке была найдена до меня — в работах В. Винникова, С. Липкина, Т. Стрешневой… В течение многолетней жизни в Киргизии мне довелось составить несколько киргизских поэтических антологий. У Жака Превера есть стихотворение «Как нарисовать птицу». По аналогии с ним я придумал «Как составить переводную поэтическую антологию». Речь идет, разумеется, о поэзии Средней Азии и Кавказа: надо взять все переводы с этого языка Семена Липкина, и у вас получится прочный костяк, остов, на котором можно строить здание. Переводы Липкина — это то, на что можно опереться, что не подведет, задаст тон, покажет уровень, планку. А дальше — добавляйте переводы на свой вкус (более всего — свои переводы!). Так я составил антологию киргизской поэзии «Голоса вершин» (М., 1975; На титуле — имя другого составителя, но достаточно глянуть в «Содержание…»). Так составил и антологию «Поэты Киргизии» для Малой серии «Библиотеки поэта». Она стояла в плане выпуска 1979 г.; рукопись в 1978 г. была готова, отредактирована, одобрена, и тут прогремел скандал с альманахом «Метрополь»[3], участником которого был и Липкин. Репрессии коснулись всех участников альманаха — они были вычернуты из издательских планов, готовые наборы были рассыпаны, а двое молодых писателей — Виктор Ерофеев и Евгений Попов, совсем недавно принятые в Союз писателей, — были из него выброшены. Цитата из постановления секретариата правления Союза писателей РСФСР: «…Секретариат правления СП РСФСР отзывает свое решение о приеме Е. Попова и В. Ерофеева в члены Союза писателей СССР…». Семен Липкин с женой, поэтессой Инной Лиснянской, в знак протеста сами вышли из Союза писателей. Большой писательский начальник на собрании по поводу разгрома «Метрополя» сказал: «Мне непонятна позиция С. Липкина. Представители национальных литератур, эпос которых он перевел и который еще не вышел из печати, задумываются сейчас над тем, а не следует ли им обождать, пока найдется другой Липкин!» Это означало, что Липкин от печати отлучен. Были заказаны новые переводы эпосов! Переводчики кинулись переводить! Начали переводить вслед за Липкиным и стихи поэтов Средней Азии и Кавказа. Мой друг и сосед по дому, литературовед (автор монографии об Андрее Платонове) и редактор «Советского писателя» Лев Шубин сказал: «Переводчикам теперь лафа, Липкина нет, можно все переводить заново!» Татьяна Стрешнева передала мне слова Алима Кешокова, известного кабардинского писателя, крупного московского писательского функционера: «Пока существует советская власть, Липкин печататься не будет». Редактор составленной мною антологии «Поэты Киргизии» Владимир Цыбин сообщил мне во Фрунзе: «В таком виде рукопись не подпишу. Липкина надо убрать, и я его убрал, нужны новые переводы, сделаю сам». Я сказал: вышлю тебе подстрочники. Не надо, сказал он, я и так понимаю (т. е. понимает оригинал). После чего вставил свои переводы. Книга задержалась на год, вышла в 1980 г. Новые переводы шли за липкинскими «след в след». строка в строку[4]. Через несколько лет в Переделкине я, рассказав Липкину эту историю, спросил: «У вас, наверное, этой книги нет, хотите — дам?» Он сказал: «Не надо, не хочу расстраиваться». Далее я сказал: «Вслед за вами, Семен Израилевич, я не перевел ни строки». Липкин от души сказал: «Спасибо!» (Вслед за ним переводили не только посредственности, но и одаренные переводчики, и даже те, что ходили у него в друзьях.) Разговор произошел в Переделкинском доме творчества уже после 1986 г., когда Липкин был восстановлен в Союзе писателей и возвращен в советскую печать. (За рубежом во время опалы он печатался много, известна его фраза: «Только после исключения из Союза писателей я почувствовал себя свободным и начал активно писать прозу, мемуары».) Шел 1988 год, ранняя весна, Переделкино, я приезжал туда — делать с Туменбаем Байзаковым подстрочники акына Барпы. Бывало, прогуливался по дорожкам с Липкиным. Он рассказывал историю с его переводом татарского эпоса «Едигей»: в 1944 г. в постановлении ЦК ВКП(б) по Татарстану была осуждена популяризация ханско-феодального эпоса об Едигее. Переводчика вызывали на Лубянку для объяснений. Липкин говорил: «Я видел, что тот, кому пришлось беседовать со мной, понимал бессмысленность, абсурдность ситуации… Кстати, эпос до сих пор не опубликован». (Эпос был опубликован в 1990 г. в Казани.) (В 2001 г. на чествовании Липкина Ринат Мухаммадиев рассказывал: «Перевод „Едигея“ был конфискован. В Татарстане организовали антилипкинскую кампанию. Был у него перевод знаменитой поэмы Габдуллы Тукая „Шурале“. Требовалось тот перевод зачеркнуть, заменить другим; объявили конкурс на новый перевод, выделили деньги. Отобрали шесть переводов. Все впустую! Куда им было до липкинского перевода! Люди признавали лишь его. Кстати, сегодня Липкин — единственный человек за пределами Татарстана — лауреат Госпремии им. Габдуллы Тукая».) Я сказал Липкину, что мне нравится дунганский поэт Ясыр Шиваза, дружу с ним, перевел книгу. И вдруг Липкин начал читать: «На тоненькой флейте играет Шимэ, / На яшмовой флейте играет…» и т. д. Это были стихи Я. Шивазы в переводе Феликса Ощакевича из книги «Китайский рисунок» (М, 1939). …Но возвращаюсь к 1979 г. В ту пору был у меня инцидент с книгой не только в Ленинграде (в «Библиотеке поэта»), но и во Фрунзе, там я участвовал в составлении маленького двуязычного сборника «Слушай, мир!» (Фрунзе, 1980). Я составил вторую его часть, переводы. И тогда соответственно им поэт (и завредакцией художественной литературы издательства «Кыргызстан») Сулайман Маймулов подобрал первую часть сборника, оригиналы. Он был титульным составителем. Когда он прочитаа слова большого начальника, приведенные выше, он мне сказал: «Убери Липкина, я не хочу из-за тебя и из-за него терять партбилет!» Пришлось убрать. В 2001 г. я присутствовал в киргизском посольстве на церемонии вручения 90-летнему аксакалу ордена Манаса — высокой награды суверенной Киргизии (ордена Манаса 3‑й степени). Есть фотография, где я поздравляю его с орденом. Это была первая киргизская награда патриарху, начавшему в 1935 г. переводить киргизский эпос и издавшему перед войной книгу. Прошло 65 лет. Помню его фразу: «Когда в печати ругают, это не плохо, хуже — когда не замечают». Поэт Вячеслав Шаповалов из Киргизии на этом приеме сказал: «Наши писатели разделились на три союза, но вас, Семен Израилевич, любят во всех трех». И последний штрих. В 2004 г. в издательстве «Эксмо» вышел Омар Хайям с моими переводами, напечатанными впервые, — с теми самыми, что читал Липкин в 1964 г. В книге они идут вслед за переводами Липкина. [5] В заключение вспомню еще одну фразу мастера. Когда кто-то сказал: «Это невозможно перевести!» — он ответил: «По-русски можно все!»Матвей Гейзер ТОТ, КТО РОДИЛСЯ, — НЕ УМРЕТ Размышления о жизни и творчестве С. Липкина
<1> Тропою концентрационной…
Поэта Семена Липкина мне по-настоящему открыл Межиров. Было это где-то в середине 80‑х годов уже прошлого века. На своей переделкинской даче, на втором этаже, в бильярдной, Александр Петрович, вдруг застыв с кием в руках, прочел стихи (как их читал Межиров — говорить излишне!), показавшиеся мне знакомыми, но почему-то забытыми. Очарованный этими стихами, я долго оставался под впечатлением. А ночью, когда не спалось, вдруг застал себя на том, что твержу те чудом запомнившиеся строки.<2> Мои встречи с С. Липкиным
Первая встреча была заочной. Это было в Одессе в 1967 г., в магазине «Поэзия». Одесситы уверяли, что то был единственный «поэтический» магазин в тогдашнем СССР. В этом маленьком магазинчике на Греческой площади любители поэзии читали стихи — свои и чужие. Однажды кто-то принес туда книжечку неизвестного мне доселе поэта С. Липкина «Очевидец». И до сих пор я помню строки одного из стихотворений, кажется, первого в этом сборнике.<3> Рассказы о Михоэлсе
Следующая моя встреча с Семеном Израилевичем состоялась почти через 10 лет, точнее 24 октября 1997 г. И снова нас «свел» Михоэлс. Подписывая мне на память свою «Квадригу», С. И. Липкин пожелал мне «расширить книгу о незабвенном Михоэлсе», которую я ему незадолго до этого передал. Он прочел ее, и вот что я от него услышал. — С Михоэлсом меня познакомил Галкин. Это было, когда он переводил для театра «Короля Лира» Шекспира. А мы очень дружили с Галкиным, я его переводил и считал из современных еврейских поэтов, живущих у нас, самым крупным. И сейчас я так считаю. И вот мы были два или три раза в гостях у Соломона Михайловича. Он жил около ТАССа, недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже, знаете, в русской театральной манере. По-моему, у него была только одна комната, большая. А может быть, я ошибаюсь. Зашла дочь. Тогда это была молоденькая девушка. Она куда-то уходила и попрощалась с ним. И Михоэлс театрально сказал: «Иди, дочь моя!» Интересна была его необычная реакция на мой вопрос. Мы говорим о том, о сем, и вдруг я его спросил: «Вот у вас в театре нет пьесы о евреях, которые не знают еврейского языка, об ассимилированных евреях, но которые себя считают евреями. Не то чтобы они пренебрегали своим еврейским происхождением, отрекались от него, просто они оказались вне еврейской культуры. Они могут прийти в ваш театр, а у вас нет ничего из их жизни». Михоэлс ответил мне на идише, что такие евреи не вызывают у него никакого интереса. В приблизительном переводе с идиша его ответ прозвучал так: «Я их не замечаю, я их не вижу». Это был редкий случай, когда он говорил при мне на идише. Мы говорили всегда по-русски. С Галкиным при мне они тоже говорили по-русски. Но частенько Михоэлс в разговор вставлял еврейские фразы. Он просил меня читать переводы из Галкина. Я прочел довольно большое стихотворение, которое называлось «Сократ». Оно о том, что испытывал Сократ, зная об уготованной ему смертной казни. Выслушав стихотворение, Михоэлс сказал: «Ну, перевод есть перевод, но вроде хорошо». Семен Израилевич задумался и заметил: — Может быть, вам, в связи с тем, что вы решили назвать новую книгу о Михоэлсе «Жизнь и смерть», стихи Галкина о Сократе понадобятся. — И снова задумавшись: — Может быть, не стоило давать книге о Михоэлсе такое название. А может, вы и правы. Огромное государство убило одного артиста, убило обдуманно, жестоко. Пожалуй, смерть Михоэлса — такое же событие, как и егожизнь. Здесь я прерву свою беседу с Семеном Израилевичем отрывком из его перевода стихотворения Галкина «Исповедь Сократа»:Наталья Иванова «БЛАГОСЛОВЛЯЯ ДНЕЙ ОСТАТОК…»
Авторитет сравнительно новой для Переделкина — послевоенной — улицы Довженко среди всех других улиц, гордящихся своими «былыми» классиками, поднялся, когда здесь в невзрачном домике, более похожем на опрятный барак, чем на дачу, домике, где раньше жил писатель-летчик Марк Галлай, а до него — писательский начальник Владимир Карпов, переехавший отсюда в более престижное помещение, поселились Семен Израилевич Липкин с Инной Львовной Лиснянской. Сразу целых две поэтические индивидуальности. Своеобразны были и сами таланты, и темпераменты, и способы высказывания, и манера поведения… Что отнюдь не мешало, а помогало их единству. Поэты на улице были представлены, причем в разнообразии — от Булата Окуджавы до Льва Ошанина. Обитал здесь и Олег Чухонцев. Однако… Семен Израилевич самим своим внушительным опытом, познаниями, но — еще и возрастом притягивал сознание. Уже потерявшие своих «старших» были рады видеть «старшего», да еще столь бодрого, насмешливого, с только что вышедшей новой книгой, с новым журналом в руках. Читатели этой книги, конечно, знают историю с «Метрополем». И знают, что только Липкин и Лиснянская вышли из Союза писателей в знак протеста против исключения Евгения Попова и Виктора Ерофеева, принятых туда буквально накануне скандала. Ьлагородство — вещь не заразительная, а во все времена исключительная. Именно благородство отличало поведение и сам облик Семена Липкина. В разных проявлениях — от общественного до частного. Пример. Патриарх был истинным джентльменом: он вставал с кресла, когда дама входила в комнату (несмотря на все протесты) и целовал даме при встрече и на прощание руку. При нем хотелось встряхнуть перышки, как птица. Прихорошиться — не только внешне, но и внутренне. Липкин врастал в Переделкино постепенно. После «Метрополя» они с Инной были лишены возможности пользоваться путевками в Дом творчества — как исключенные (по их собственному желанию означало для начальства писательского, что ими брезгуют, а не только не подчиняются руководству. Какие уж тут Дома творчества, какие путевки!). И они жили на даче литературоведа Николая Степанова на углу улиц Горького и Гоголя, неподалеку от «сиреневой» дачи Вениамина Александровича Каверина, который был издавна с Липкиным в дружеских отношениях. Ценил и любил Липкина и Анатолий Рыбаков (это уже улица Довженко). И только уже в конце 80‑х они стали опять ездить в переделкинский Дом творчества. С Липкиным был дружен мой свекор, Анатолий Рыбаков. Они были не просто люди одного поколения — одногодки. Но Липкин уже не мог приходить с улицы Серафимовича на улицу Довженко, где находилась дача Рыбакова, — Рыбаков к нему приходил. А ведь ушел из жизни Анатолий Наумович раньше Липкина, хотя постоянно замечал, что тот не так хорошо себя чувствует… Литфонд предоставил Липкину дачные полдомика только к концу 90‑х. Они с Инной сделали ремонт, в домике пахло свежей краской, новыми обоями, хотя и недорогой, но новой крепкой мебелью… Инна любовно налаживала быт, еще одно гнездо, чтобы им вместе (так они назвали свою совместную книгу стихов) было уютно. Необходимые книги расставлены по полкам, на стенах — фотографии, в том числе и портреты С. И. Его кабинетик соединен с его спаленкой, — комнатки совсем небольшие. Устроили новоселье, созвали соседей, угощали по-бакински долмой. Семен Израилевич — во главе стола, моложавый, свежий, в модной клетчатой рубашке, сияющий синими глазами, любезный и внимательный хозяин. И потом — на день рождения к нему 19 сентября всегда подтягивались гости-соседи; на 90-летие, в 2001 г., столы на даче тянулись через три комнаты. А потом — в музее Булата Окуджавы в прекрасный, тихий, солнечный день теплой еще осени собралась публика, чтобы послушать стихи и устные воспоминания. И Липкин, не устав, прочитал вслух целую поэму! В будние дни с утра все работают, сидят по своим норам — С. И. если не работал, то читал у себя. Когда я заходила к Инне, то всегда перекидывалась и с ним новостями и слухами. И — очень хотелось втянуть его в письмо, в работу. Так — в результате разговоров-переговоров — в «Знамени» появился его большой очерк о Валентине Катаеве. Днем патриарх гулял — перед обедом полагался часовой моцион. Я и сейчас вижу, как они с Инной Львовной вдвоем, под руку, неторопливо шагают по направлению к корту — подышать, посмотреть на небо, на деревья. Патриарх был пунктуален в быту, сдержан в словах, неспешен в походке, ироничен в оценке, доброжелателен при новом повороте мысли в разговоре. Я познакомилась с Инной Лиснянской и Семеном Израилевичем в 1987 г., когда вела отдел поэзии в журнале «Дружба народов». Именно тогда, благодаря первым журнальным публикациям, они возвращались к отечественному читателю. В «Дружбе народов» был напечатан венок сонетов Лиснянской «В госпитале лицевого ранения» — текст изощренно-красивый и одновременно очень жесткий, трагический (от сшибки красоты и жесткости и рождается здесь особый, многослойный поэтический смысл), где каждому сонету предпослан свой эпиграф. Среди эпиграфов из Блока и Мандельштама, Пушкина и Ходасевича стоял эпиграф из Липкина: «Думать не надо, плакать нельзя». Такой вот поэтический и поведенческий, горький завет. Какое это было редакционное время? Головокружение открывающихся возможностей. И — еще сердитые окрики в печати: мол, как это вы могли объявить эмигранта Ходасевича классиком (статья была напечатана в «Литературной газете», автор — горьковед В. И. Баранов). Стихи Липкина вышли в 12‑м, декабрьском, номере за 1987 год. Тогда же, в 1987 г., я услышала от него в крошечной комнатке, где ютился тогда отдел поэзии, рассказ о том, как к ним с Инной приезжал СВ. Михалков — возвращать их в лоно Союза писателей. Они восстановили свое членство, — но и сам Союз, и время были уже совсем иными, это они простили, а не их. А потом волной дошли до читателя ранее публиковавшиеся на Западе и новые стихи, знаменитые очерки-воспоминания о Василии Гроссмане, об Андрее Платонове. Проза (повесть «Декада» тоже появилась в «Дружбе народов»), книги, премии. Запомнилось вручение Липкину Пушкинской (тёпферовской) премии в середине 90‑х. Торжественная церемония состоялась в Доме журналиста в конце мая, 26‑го, — по идее Андрея Битова, это реальное число дня рождения Пушкина (он же сам не думал, что родился, как теперь правильно считают 6 июня). Семен Израилевич сидел на сцене, а потом и на банкете рука об руку с Инной Львовной, торжественные, чинные, слушая приветствия, внимая заслуженным дифирамбам, в том числе — речи Олега Чухонцева (после она была опубликована в «Новом мире»). А на банкете Семен Израилевич засиял, когда провозгласили тост за Инну, которую он и любил беззаветно, и ставил как поэта очень высоко. Семен Израилевич Липкин — при том, что прежде всего был поэт — ни на день не упускал из виду политическую и общественную жизнь, следил за происходящим, не отличался снобизмом по отношению к газетам и телевидению. Новостная программа, свежая газета были непременны в его обиходе. И, конечно, крайне внимательно он следил за тем, что происходит в краях, ему не чужих, — тех, где жили поэты, им переводимые, откуда пришел эпос, им перелагавшийся. Фальшь советских декад он описал в своей «Декаде», но эта фальшь не отменяла истинного положения вещей, до него надо было докопаться. И он — докапывался. Не скажу, чтобы Липкин соблюдал в своих оценках происходящего политкорректность. При жизни Липкина здесь, на улице Довженко, мы не раз собирались и у них, и у нас — на праздники, особенно любили собраться на Рождество. Липкин был верен заветам отцов, но Христа и христианские праздники уважал (еще при том и будучи женатым на христианке). И вот на одном из праздничных застолий (были у нас и Олег Чухонцев с женой, Ириной Поволоцкой) зашла речь о Чечне. Не могла не зайти — острая еще была у общества боль (позже, увы, притупилась). И Семен Израилевич прокомментировал ситуацию совсем не в либеральном ключе, крайне жестко. А про ее разрешение сказал (тогда еще никаких терактов не было), что такового не видит, что впереди — тупик, что не надо было начинать, не понимая, возможен ли выход. Его сознание было свободно от клише и штампов, включая и «прогрессивные», и «консервативные». Его поэтическое сознание было бодрствующим, открытым миру. Да, душа велела: «Будь нежным, голос мой, будь неземным» (из стихотворения еще 1932 г.), но даже природа вызывала в стихи политику: «Они стоят на снежном спуске, / Внимая песне речки дерзкой, / То плавно плещущей по-русски, / То бурной, как мятеж венгерский…» (1957). Но самое, пожалуй, важное состоит в том, что его поэтический мир был просвечен его религиозным мироощущением. И именно это придавало особую важность и вес его словам и оценкам. Не просто так все говорилось (и писалось), не бросались слова на ветер. И потому так ценили, особенно молодые, его общение: «Молодые несли мне потертые папки, / С каждым я говорил, как раввин в лисьей шапке…» Прочитал он повесть молодого автора, опубликованную в журнале «Дружба народов». Ну даже — понравилась (или не понравилась). Но что делает Липкин, как подлинный мастер, настоящий литератор? Пишет молодому автору письмо от руки\ От руки, а не на машинке и не на компьютере, который тогда уже освоила Инна. Семен Израилевич, повторю, был остроумен в застолье. Мы вместе встречали Новый год, новое тысячелетье. Бодр он был необыкновенно, на каждый тост пригубливал рюмочку. На дачной кухне-столовой было тепло и уютно во всех смыслах слова — еще и потому, что Семен Израилевич не забыл за столом никого, подняв тост за каждого. Слова были, конечно же, с припеком, с плюсом к реальному. И вот он лукаво так посмотрел и загадал свою любимую загадку: о рядах русской поэзии XX в. Кого он помещал в первый? Анненский. Ахматова. Блок. Бунин. Мандельштам. Пастернак. Ходасевич. Во втором ряду поэты варьировались. Гумилев принадлежал к «полубогам». А себя и Инну он порою допускал в «кандидаты» не знаю какого ряда. Вообще-то он очень грустил — в последний период жизни, но другого Липкина я не застала, — что мало (или совсем не) пишется. Рядом с Инной — у которой, наоборот, нарастала поэтическая энергия, — он чувствовал, как уходит от него его стихия. Это было очень тяжело, и на него, даже в его возрасте, когда, казалось бы, можно просто почивать на лаврах, радоваться любви и вниманию не только близких, но и «далеких» (журналы, радио, телевидение и т. д.), находила настоящая депрессия, из которой его вытаскивала Инна, постоянно и скрупулезнейшим образом следившая за состоянием его здоровья, настроением и т. д. Своими «Гимнами», например. А по вечерам они, как старосветские помещики, играли в дурака. Общение с Липкиным было настолько человечным и естественным, что мысль о том, что он связывает нас «одним рукопожатием» с почти всеми теми, за исключением Блока и Ходасевича, в первом ряду, поражала позже, — как говорится, на лестнице. И вся «квадрига»! Мария Петровых. Арсений Тарковский. Аркадий Штейнберг. Свой ряд, куда не входили ни Слуцкий, ни Самойлов — поэты, отмеченные особой любовью шестидесятников, шестидесятникам покровительствовавшие. Липкин прошел через свой XX век, обойдясь без привязи к любому колышку: «Сказал мудрец, не склонный к похвальбе: / „Где б ни был ты, принадлежи себе“». Вынужденный диссиденствовать уже в самом финале — и в самые благополучные, самые вегетарианские (из советских) годы! «Делают мое стихотворенье / Хлеба кус, / Обонянье, осязанье, зренье, / Слух и вкус» (1928). Казалось бы, на самых простых основах учрежден его мир. На самых простых, но и на самых прочных, — на тех, без которых обойтись невозможно. И вот что замечательно: себе в заслугу поэт ничего не ставит, напротив, он — в завет — винится перед миром. «Не доносил, не клеветал, / Не грабил среди бела дня, / Мечтал, пожалуй, процветал, / Прости меня. // Не предавал, не продавал, / Мне волк лубянский не родня, / Таился, не голосовал, / Прости меня. // Мой друг погиб, задушен брат, / Я жил, колени преклоня, / Я виноват, я виноват, / Прости меня». В одном из ранних своих стихотворений, «В больнице», еще 1929 г., опубликованном в журнале «Знамя» посмертно, в феврале 2005 г., Липкин написал: «Я умираю в утро ясное, / Я умираю. / И смерть, смерть старчески-прекрасная, / Садится с краю. <…> И чудятся мне пташки ранние, / Луга, болота / И райских дворников старания / Открыть ворота». Его уход был действительно «старчески-прекрасным» — старец за девяносто, в библейском на сегодняшний взгляд возрасте; и произошло это действительно весной, и на открытом воздухе, на природе — и мартовско-апрельские «пташки», и «луга», только под нерастаявшим еще снегом. Так — и в одно мгновение — уходят именно туда, где стараются «райские дворники». Присутствие Семена Липкина где-то рядом, на условной улице Довженко, поднимало тонус, обещало возможность долгой и плодотворной жизненной и творческой осени. Голос, казавшийся негромким, был выверен, вкус — отточен, жизнь пройдена достойно. Хотя отчасти и «колени преклоня», но с данным себе и выдержанным до конца словом. Нам ли судить? Это он — о нас — теперь судит.Александр Кривомазов ВСТРЕЧИ С С. И. ЛИПКИНЫМ
Сначала, еще студентом, узнал о Липкине-переводчике. В собранной мной в студенческие годы довольно обширной библиотеке многие книги поэтов Средней Азии были блестяще переведены Семеном Липкиным. Потом уже я узнал, что у Липкина есть собственные поэтические сборники. В этом первом открытии было что-то курьезное. Мне дорого купили билет в лужниковский Дворец спорта на концерт испанского певца Рафаэля, и когда я пришел и сел на свое место, то увидел, что сидящий со мной рядом молодой человек моего возраста с видимым упоением листал и читал небольшую книжечку, в которой были напечатаны стихи. «Чьи это стихи?» — спросил я. — «Семена Липкина!» — прозвучал ответ. «Нравятся?» — «Лучше не бывает!» — «А стихи Тарковского Вы знаете?» — «Первый раз о таком поэте слышу». — «Могли бы Вы показать какое-нибудь стихотворение Липкина, которое Вам нравится больше всего?» Молодой человек полистал книжку и прочел стихотворение. Я по памяти прочел в ответ стихотворение Тарковского. Он — по книжке — новое стихотворение Липкина. Начался концерт, слушая новые песни, освежил в памяти еще несколько стихотворений своего студенческого кумира. В перерыве взаимное чтение продолжилось! Уходя с концерта, твердо знал, что последняя поэтическая книга Липкина действительно чрезвычайно интересна и ее нужно очень внимательно самому прочесть. Несколько раз на литературных вечерах в моей квартире слушатели и авторы спрашивали: «А вечер Семена Липкина провести собираетесь? Непременно сообщите!» Случилось так, что первой у нас с авторским вечером выступила Инна Львовна Лиснянская. Ей все понравилось, поэтому неудивительно, что через пару недель мы провели вечер ее супруга — Семена Израилевича Липкина. Помню, когда ехали с С. И. Липкиным ко мне на его авторский вечер, этот пожилой, крепкий человек с прозрачными зелено-голубыми глазами пытливо расспрашивал, кто уже выступал, кто слушатели, чьи вечера особенно запомнились и почему. Он внимательно слушал ответы и постоянно задавал все новые и новые вопросы… Авторский вечер С. И. Липкина у нас был особенно удачным, и мы отметили его сравнительно редкой наградой — именным орденом этих вечеров. Так мы пытались выразить свою признательность автору быстро, без комиссий и анкет, при жизни, в присутствии тех, кто все слышал от начала до конца и был согласен с этим награждением. Были сделаны фотографии. Прочитанные стихи и поэмы несли на себе печать эпичности, литой цельности и тяжести, стих был совершенен и выразителен, музыкален и точен. Поэт был со слушателями добр, приветлив, охотно, хоть и очень кратко, отвечал на разные вопросы, все время, как бы припоминая, кого-то искал среди нас глазами — и не находил. Вечер записан на магнитофон и когда-нибудь дойдут руки, надеюсь, до расшифровки всех накопленных пленок… Слушал выступления С. И. Липкина на вечерах памяти поэта Арсения Тарковского в Литературном музее и библиотеке русского зарубежья, помню его выступление на поэтическом вечере в Доме дружбы народов, куда меня пригласил Бенедикт Сарнов. Всюду его выступления были занимательны, точны, содержали интересные детали, которые мог подметить и запомнить лишь очевидец. Всегда импонировали его скромность, доброжелательность, уважение к чужой точке зрения, умение выступить дипломатичным и конструктивным оппонентом. Чувствовалась высокая поэтическая и человеческая культура в этом человеке, его энергия, направленность на высокие поэтические и моральные цели, готовность делиться накопленными знаниями со всеми, кто проявляет к ним интерес. Он был великим тружеником поэтического перевода, но не меньшим тружеником он предстает и как оригинальный поэт. Замечательно, что он сохранил для нас последний великий роман Гроссмана.Павел Крючков СВЕТИЛЬНИК
…Оказывается, он был со мной еще с раннего детства. В конце 1960‑х — начале 1970‑х годов мама почти еженедельно привозила меня пожить к бабушке — в Малый Левшинский переулок. В огромной «генеральской» квартире было много книг: бабушкин муж, крупный военный и гражданский строитель, был образованным человеком, книжником, знал несколько языков, в том числе и персидский. В советское время, занимая «ответственные посты» (квартира была наградой за успешное строительство Челябинского тракторного завода), значительную часть зарплаты дед тратил на хорошую литературу. До сих пор удивляюсь — когда он все это прочитывал? Деда я не застал, он погиб в середине 1950‑х на строительстве нефтеперерабатывающего завода. Днем меня укладывали спать, а перед тем, «в утешение», бабушка снимала с верхней полки книжного шкафа (верхние полки были высокие) какой-нибудь большой и богатый том: сказки Бажова, собрание стихов Некрасова, «Витязя в тигровой шкуре». Среди прочих фолиантов были и совершенно загадочные — с названиями, похожими на имена планет: «Манас», «Джангар», «Едигей». Я рассматривал древнее персидское творение «Шахнаме» неведомого мне Абулькасима Фирдуоси, но и думать не мог, что через 25 лет мне доведется познакомиться с тем, кто подарил ему русскую речь. Разве мог я, листая тяжелый «Джангар», разглядывая изумительные гравюры уже знакомого мне по «Слову о полку Игореве» Владимира Фаворского, предполагать, что мы будем встречаться с переводчиком калмыцкого эпоса в переделкинском доме Корнея Чуковского? Придет время, и Семен Израилевич расскажет мне, что именно Чуковский первым приветствовал газетную публикацию фрагмента эпоса и позвал молодого переводчика в гости. И было это еще до войны! И уж совсем непостижимой видится мне дарственная надпись, сделанная им в год своего 90-летия — на позднем переложении аккадского сказания о Гильгамеше: «Прочесть Крючкову Павлу предстоит / То, что семита перевел семит». Между нами лежало 55 лет разницы. Его последний юбилей отмечали любовно и торжественно. Множество людей собралось во дворе мичуринского музея Булата Окуджавы. Высились треноги телевизионных камер, улица Довженко была уставлена автомобилями. Внучка Чуковского — Елена Цезаревна — прочитала приветственное послание от Солженицына, говорили Ахмадулина, Карякин, Кублановский, Искандер и другие известные писатели. Читала стихи-гимны Инна Львовна. В конце выступил и юбиляр. Ровным голосом, неторопливо подбирая слова, он вспомнил и перечислил, сколько раз в течение жизни мог погибнуть: от войны, от болезни. И — выжил. В последние десятилетия выживал благодаря Инне Львовне Лиснянской, которая была рядом. Все были взволнованы. Ровно через год, в сентябре 2002 г., уже не во дворе, но в небольшом помещении того же музея Липкин читал две поэмы: «Вячеславу, жизнь переделкинская» и «Техника-интенданта», — слушая которую однажды заплакала Анна Ахматова. На этот раз улица Довженко была пуста, из поэтов мне запомнился Олег Чухонцев и Олеся Николаева, которая привела на липкинское чтение слушателей своего литинститутского семинара. Интересно, что думали студенты, разглядывая человека, который в течение долгого времени общался с Осипом Мандельштамом, дружил с Анной Ахматовой и Василием Гроссманом, знал Платонова, Пильняка, Белого, Кузмина, Клюева и Цветаеву? В перерыве между чтением журналистка с телеканала «Культура» пыталась взять у Семена Израилевича интервью. Он никуда не торопился, да и память его уже не была так «оперативна», и на помощь призвал Инну Львовну. Она, стоя рядом, помогала. Она всегда помнила и знала о нем все. Думал ли он, выйдя из Союза писателей СССР в начале 1980‑х, — когда его переводы были запрещены, а иные и переводились заново, — что еще при его жизни падет безбожная власть, что о нем будут писать в газетах как об оригинальном поэте, издавать книги, присуждать премии, показывать по телевизору? Навряд ли. Когда в середине 1980‑х я начал приезжать в переделкинский Дом Чуковского, добрейшая Клара Лозовская, многолетний секретарь Корнея Ивановича, рассказала мне о своих друзьях — поэтах Липкине и Лиснянской. Я тогда о них, естественно, ничего не слышал. Кларочка дала мне книги, изданные за границей, и две аудиокассеты: она записала их чтение сразу после самоисключения из СП, зная, что время жестоко, а судьба непредсказуема; власти, как мы знаем, были готовы ко всему. Поэты — тоже. Но вот — случился Горбачев, и в середине 1988 г. я оказался на первом липкинском вечере в Доме литераторов. Зал был полон, ведущий вечер писатель Лев Озеров объявил громогласно, что в зале присутствует Лидия Корнеевна Чуковская, и все, помню, встали. Теперь я думаю, что Л. К. своим редким приходом «в собрание» «продолжила» Анну Ахматову, которая пришла на единственный вечер Семена Израилевича в ВТО — в середине 1960‑х. Липкин рассказывал мне, что он пытался отговорить Анну Андреевну, увидев, что помещение тесное, что лифт не всегда работает и прочее. Но она — пришла. А моя жизнь после того вечера и просветительской работы Клары Лозовской навсегда изменилась. Точнее — разделилась: на время, которое я жил без стихов Лиснянской и Липкина, и — время с ними. Оно длится и посейчас. Кстати, еще до всех вечеров, многочисленных публикаций в журналах и книг — о значении поэзии Инны Лиснянской со мной говорил именно Семен Израилевич. Он объяснял мне, что поэтический предок Инны Львовны — Михаил Лермонтов, с его трагизмом и болью; говорил о ее христианстве («достоевская» мысль: слабый больше нуждается в возвышении, чем сильный), о теме смерти в ее стихах, о самосознании крови и культуры… А она — рассказывала о нем. Конечно, меня подмывает говорить о стихах, но, слава Богу, о поэзии Липкина не так уж и много, а все-таки написано: Ст. Рассадин, Андрей Немзер, Юрий Кублановский, Александр Солженицын… Однажды, когда я уже вовсю трудился на журналистской ниве, Семен Израилевич спросил меня: «Почему Вы никогда не пишете и не говорите о нас с Инной? Вот мы с Вами часто видимся, гуляем вместе, Вы, кажется, читаете наши стихи. Может быть, Вам не нравится?» Я попытался, как мог, объяснить, что не решаюсь. Что это слишком ответственно, что, наконец, боюсь промахнуться, написать глупость или неточность…. Что быть их молодым другом — это одно, а публичным читателем — совсем другое. Что я только начинаю понимать, с кем имею дело, и от этого еще страшнее. Липкин ничего не сказал, но когда, спустя время, я выпустил две радиопередачи — о поэзии Инны Львовны и о его стихах, заметил: «А вот эту тему — речь шла о его своеобразном экуменизме — отметили только Рассадин и вы». Господи, как я ликовал! И тогда, и долгое время впоследствии никакого загородного жилья у них не было. Восстановленные в писательских правах, они часто жили в переделкинском Доме творчества, и я навещал их после экскурсий. Уже тогда занимался аудиозаписью, и записывал обоих: надеюсь вскорости опубликовать чтение Семена Израилевича и некоторые его монологи. Интересно, что мемуарная часть его разговоров (некоторые из которых я записывал на пленку) — по ходу жизни — прочитывалась мной в выходящих постепенно его книгах. Переслушав их перед написанием этих страничек, я ощутил особую свежесть: он каждый раз рассказывал заново. Уж, казалось, почти на каждом 1 апреля, в день рождения Чуковского, Семен Израилевич вспоминал, как он в молодости открыл для себя Чуковского-критика. Вспоминал, как в отличие от Инны Львовны не рос на его стихотворных сказках, говорил, что критический стиль размышлений Корнея Ивановича близок Аполлону Григорьеву, рассказывал об их встречах, о поездке в Одессу к маме Чуковского — это каждый раз было впервые. Друг Лидии Корнеевны, многолетний хранитель и экскурсовод Дома Чуковского, а ныне его заведующий — Сергей Агапов, однажды обратил мое внимание на то, как ведет себя Семен Израилевич во время застольного разговора. Вот он рассказывает что-то, и вдруг кто-то не то чтобы перебивает, но встревает — репликой и, как это часто бывает, не может остановиться. Семен Израилевич смиренно молчит, с особенным интересом вглядываясь в говорящего. Он как будто пытается разглядеть что-то особенное, важное, увидеть какую-то особую печать, отмеченность. Впоследствии я научился замечать в нем этот взгляд, и если отмеченность находилась, лицо Семена Израилевича явственно светлело: детские, мудрые глаза излучали радость и понимание. Нет, без стихов тут нельзя. Ведь он, возможно, не зная того, оказался для многих из нас и учителем-проводником. Он говорил сразу обо всем, и говорил самое главное:Давид Кугультинов О ЛИПКИНЕ’
<1> Из «Автобиографии»2
<…> Крушение моих литературных иллюзий началось после того, как я приехал учиться в Элисту. При образцовой средней школе № 1 (тогда были образцовые школы) был литературный кружок. Разумеется, я сразу записался туда и в смятении начал догадываться, что стихам моим еще очень далеко до истинной поэзии. Руководителем нашего кружка был преподаватель русского языка и литературы, один из самых образованных калмыцких писателей Бата Манджиевич Манджиев. <…> В ту пору мне, 14-летнему парнишке, посчастливилось познакомиться с двумя замечательными людьми, которым я благодарен до сегодняшнего дня. Это был классик калмыцкой литературы Баатр Басангов и известный переводчик «Джангара» прекрасный русский поэт Семен Липкин. Они-то и показали мне труднейшую дорогу, по которой нужно было идти, сбивая в кровь ноги, — дорогу в чудесную страну, называемую Поэзией. Однажды я принес в номер гостиницы, где жили он и Семен Липкин, историческую повесть из времен Чингисхана, написанную мной на русском языке, разумеется, чрезвычайно слабую. За круглым столом вместе с хозяевами сидел красивый старик с очень добрым лицом, похожий на интеллигентного столяра. Это был прославленный художник Владимир Андреевич Фаворский, приехавший в Элисту готовить иллюстрации к «Джангару». Помню, посмотрев несколько страниц мелко исписанной общей тетради в клетку, Семен Израилевич сказал: — Из вас может получиться писатель, вы умеете думать и ясно видеть… А с языком у вас плохо, беден он у вас. Сумеете ли вы описать расстояние от переносицы до кончика носа на двух страницах? — вдруг неожиданно спросил он. — Нет, — подумав, ответил я. — Так нужно учиться этому, — сказал он, — писатель должен виртуозно владеть словом…<2> Из статьи «Давнее и наше»3
<…> Около 30 лет тому назад руководитель литературного кружка сообщил нам, что нашу школу посетят известные писатели Семен Липкин и Баатр Басангов. В то время шла подготовка к 550-летию великого калмыцкого народного эпоса «Джангар». <…> Семен Израилевич Липкин говорил нам о «Джангаре», по-своему тонко и остроумно толковал эпос. Примелькавшиеся и ставшие привычными эпитеты вдруг приобретали новый, первоначальный смысл, сверкая всеми цветами степной радуги, обдавая нас свежестью летнего утра… <…> Прошло много лет. И вот совсем недавно, прочитав сборник повестей «О богатырях, умельцах и волшебниках», я вспомнил свою первую встречу с Липкиным. И вспомнил не случайно. Три повести, написанные по мотивам калмыцкого, киргизского и узбекского фольклора — «Манас Великодушный», «Приключения богатыря Шовшура, прозванного Лотосом» и «Царевна из Города Тьмы» объединены в одну книгу. Но удивительное дело, три совершенно разные повести после прочтения оставляют впечатление, будто это части одного произведения, композиционно связанные между собою нитью невидимого единого сюжета. Почему, откуда такое впечатление, подумал я. И кажется, нашел ответ: дело в том, что писатель сумел выразить сокровенные чаяния и идеалы трех народов, воплощенные в их бессмертных творениях, а их идеалы и чаяния одни и те же. Но для того чтобы так проникнуть в суть народных идеалов и чаяний, недостаточно проштудировать произведения… нет, для этого нужно было своими глазами видеть, как трепетно светят звезды, когда глядишь на них с высот Памира, как радуется или плачет киргиз… Для этого нужно хоть раз быть обласканным ветрами Узбекистана и услышать, как молодой узбек, словно молитву, шепчет вечно юные строфы древних стихов о любви. А Семен Липкин все это видел, слышал и чувствовал, как умеет видеть, слышать и чувствовать только поэт. Его память сохранила всю свежесть впечатлений для будущих книг. Вот почему я вспомнил нашу первую встречу с ним и его кибитку на просторах калмыцких степей. Он вникал в душу народа, постигал его психологию, идеалы. Точно так же он изучал жизнь, быт, психологию киргизов и узбеков. Было бы ошибочно и примитивно думать, что С. Липкин просто пересказал прозой сюжеты из восточных поэм. Хотя и это, на мой взгляд, заслуживало бы похвалы как работа по популяризации величайших творений народов нашей страны. 1 Материалы Д. Кугультинова о С. Липкине подготовил М. Ватагин. 2 Варианты «Автобиографии» Кугультинова опубликованы в: Советские писатели. Автобиографии: В 5 т. М., 1959–1982. Т. 4. С. 327; Кугулътинов Д. Автобиография. Статьи. Выступления. Элиста, 1997. л Рецензия Д. Кугультинова на книгу: Липкин С. О богатырях, умельцах и волшебниках. 1964 // Дружба народов. 1965. № 6. С. 267.ИннаЛиснянская НА КРЫЛЕЧКЕ
(Письмо Дмитрию Полищуку)
11 марта 2006 г. Дорогой Дима! Павел Нерлер и Николай Поболь, задумав издать книгу, посвященную памяти Семена Израилевича, обратились ко мне, — не напишу ли я воспоминания. Это было почти три года тому назад. Но тогда рана была так свежа и так глубока, что из нее могли хлестать, рваться толчками, сочиться только стихи, любящие, скорбящие, помнящие и надеющиеся на посмертную встречу. К тому же у меня еще при жизни С. И. была написана прозаическая вещь «Хвастунья», где Липкин — главный герой, если не считать самой хвастуньи, т. е. меня. И когда Вы, Дима, вновь попросили меня вспомнить еще не вспомненное, я сослалась на уже написанное мной о характере и быте С. И. в моем «моноромане». И думалось мне, что вспомнить дополнительно я ничего не смогу. Но вот, когда для меня три года без любимого человека и поэта превратились не в календарное времяисчисление, а в вечность, я задумалась. Если все-таки вернуться к условности, я имею в виду календарное время, то многое вспоминается иначе. Третью зиму я провожу у своей дочери в Израиле, куда в ноябре 1990 г. мы с Семеном Израилевичем, по приглашению мэра города, приезжали для выступлений в Тель-Авиве и Иерусалиме. Жили мы в иерусалимской гостинице «Мишкенот Шеана-ним», что в переводе на русский — Дом для блаженных. В этой роскошной гостинице С. И. действительно блаженствовал после довольно трудного периода жизни. По вечерам он особенно любил выходить на длинный общий для всех проживающих балкон. Проживающих мы на нем не видели. Не потому, что перед нами открывался под звон вечерних колоколов непередаваемо красивый вид на Старый город с его минаретом и храмами, а потому, что проживающие возвращались в гостиницу слишком поздно. Семен Израилевич почти допоздна не уходил с балкона, на котором собиралось не меньше семи-восьми кошек. По-моему, ему здесь и только однажды в жизни понравились кошки, а так он их не любил, видел в них нечто вкрадчиво-предательское. Он восхищался, что любуется сразу тремя типами огней, разноцветными и многоступенчатыми огнями города, которые в Иерусалиме же и воспел в стихах, крупно-синими звездами и пронзительно зелеными кошачьими глазами. А еще повторял, что жить он хочет в России, а умереть в Израиле. Повторял, так как неоднократно говорил об этом в 1970–1980 годы, когда началась эмиграция евреев. Это предлагалось нам и властями, не желающими терпеть людей, добровольно вышедших из Союза писателей, можно сказать, из дворца переселившихся в подвал. Но властям, конечно, Липкин своей мечты не высказывал. Он этой мечтой отвечал на вопросы как уезжающих евреев, так и русских друзей, мол, почему бы не уехать из страны, где тебя лишили права на профессию и где подвергаешься опасности, почему не уехать в свободный мир, где уже выходят твои книги и где тебя никто не тронет? Хочу жить в России, а умереть в Израиле, — почти неизменно отвечал Липкин. Он вообще был большим мечтателем, иногда почти утопистом. Так вот жить в России, а умереть в Израиле и было одно из его несбыточных мечтаний. Сам же он утопией считал свою мечту быть читаемым поэтом после смерти. И редко мои слова восторга перед его поэзией принимал всерьез, а все же Семену Израилевичу было приятно слышать похвалы. И вот сейчас я вновь, как в своем предисловии к посмертной публикации стихов Липкина в журнале «Знамя» об архиве поэта, повторю поразительную по правдивой простоте мысль Ахматовой: «Когда человек умирает, / Изменяются его портреты». Что, собственно, меняется в портретах? Главным образом наше отношение к умершим. Пока человек жив и с нами, мы замечаем много всяких черт — и крупных и мелких. Когда человек умирает, то память становится гиперболой, если речь идет о значительной личности. Вот ушел Семен Израилевич, и куда вместе с его смертью подевались некоторые мелочи в его характере? Куда подевались мои жалобы на эти мелочи? И это вовсе не пошлость наподобие «нет человека — нет проблемы», — вот и вспоминается радужно. Просто смерть сбрасывает всю шелуху с прожитой жизни, если ее проживает душа высокая и целомудренная, каков и был Семен Израилевич. Для меня он всегда был Сема, а теперь почти неизменно я его и в разговорах, и в письмах называю по имени и отчеству. А все потому, что изменился его портрет, укрупнив крупное. Я это письмо пишу Вам, Дима, поскольку Вы чаще кого бы то ни было из друзей с 2000 г. по 2003 г. приезжали к нам на дачу и подолгу разговаривали с Липкиным. Помните, я, бывало, жаловалась на него, — дотошно точен, все по минутам, меня от себя ни на шаг не отпускает, ревнует ко всем, даже к моему брату. А ведь не приходила в голову простая мысль, ибо я ее страшилась, — С. И. чувствовал и понимал, что не долго ему осталось, и нуждался в постоянном моем присутствии. Нет, не для того чтобы я его поддерживала при ходьбе, а по призыву его старшего приятеля поэта Александра Кочеткова: «С любимыми не расставайтесь!» А бывало, что греха таить, я раздражалась порой на свою подневольность, хоть и виду не показывала. А теперь всегда, даже в данную минуту, сидя на полукруглой каменной скамье напротив фонтана возле «Мишкенот Шеананим», думаю лишь обо одном — вот бы вдруг, как бывало в том ноябре, появился неожиданно Семен Израилевич, как он любил, возвращаясь с прогулки. Боже ж Ты мой милостивый, как была бы я счастлива — пускай бы на мгновенье от себя не отпускал, пускай по 20 раз повторял одни и те же рассказы, ссылаясь на то, что Лев Толстой тоже повторялся. Это все я описывала в «Хвастунье», весело замечала его мелкие недостатки, подтрунивала над ними. А это все шло от счастья. Потому что, только когда теряем счастье, осознаем, что были счастливы. Так счастливы, что позволяем себе посмеиваться над любимыми. Кто знает, может быть, сам Господь, творя человечество и любя свои создания, посмеивался над делом рук своих. Посмеивалась я над Семеном Израилевичем в «Хвастунье» за то, что он все поучал меня держаться с ахматовским достоинством. Теперь я понимаю, что он просто по многим поводам любил говорить не только о стихах Ахматовой, но и имя ее произносить. Да, когда умирает человек, изменяются его портреты. И для Семена Израилевича изменился портрет поэта, написавшего две эти строки. А ведь при жизни Ахматовой он, признавался мне, за глаза называл ее старухой, грубил Марии Петровых по телефону: «Старуха мне надоела, все время вызывает к себе надо не надо»! Но умерла Ахматова, и умерли в сознании Семена Израилевича все мелкие мелочи, раздражавшие его. Портрет изменился — это была уже Ахматова в нимбе ясного света вкруг крупного лица, где ни пылинки. И даже когда Семен Израилевич, бывало, говорил, что Ахматова искусно выстраивала свой образ, он нежно отсылал меня к строке Пастернака: «Ваше право, так надо играть». Но сам он и как человек и как поэт никогда не играл, разве что принижал себя несколько, рассуждая о своих стихах, однако был совершенно уверен в том, что высказал именно то, что хотел выказать. Его всегда мучило не что он сказал, а как, с какой мерой художественности. Семен Израилевич пытался ясно осмыслить любое событие, любую частность жизни и с той же ясностью донести обдуманное до читателя. А почему ему так нужна была четкая досказанность? Говоря его строкой — «Чтоб остаться как псалом». А в наше безумно-перестроечное время, в 1995 г. в стихотворении Василию Гроссману, мечтал:Елена Макарова ПОБЕДИТЕЛЬ
1. Девяностолетие
Играет солнце в желтеющих листьях березы, играем и мы, усевшись вкруг стола. Семен Израилевич тасует карты. Последний из могикан, переводчик «Махабхараты» и «Джангара», «Калидасы» и «Гильгамеша», автор «Воли» и «Декады», — проигрывает в переводного дурака. — Конченый дурак, с кем тягаюсь! С прославленной поэтессой Инной Лиснянской, которая, по странному совпадению, является мне женой, — и ее дочерью, по странному совпадению… — Сема, отбивайся! — Мама кладет перед ним шестерку пик. — Ниже пасть невозможно, беру… — Ты, проигрывая, глядишь, как раненый тигр. И война для мужчин, знать, одна из азартных игр На аренах времен…Слава Богу, ты вышел живым, Хоть попал в Сталинградский, кровокипящий тигль… — бормочет мама под нос стихи из своих «Гимнов». …В 1985‑м мы с мамой везли Семена Израилевича на операцию. Прощаясь, он сказал: «Извини, Леночка, я отказал тебе (я хотела его постричь), но если и на этот раз останусь живым, — подставлю голову, и брей хоть наголо». Липкину выпала радость в 1990‑х и 2000 годах увидеть опубликованными на родине не только полное собрание своих стихов и поэм, прозы и мемуаров, но и книги своих лучших друзей, Василия Гроссмана (последний экземпляр романа «Жизнь и судьба» хранился у Семена Израилевича) и Андрея Платонова. Я счастливец, ибо только тот, чей низок дух, несчастен. На вселенную смотрю я: мир велик, но мне подвластен. Гончая с огромной пастью мчится яростно за дичью, Это — жизнь, и чем я стану, превратясь в ее добычу? Я рожден в юдоли скорби, лжи, греха, коварства, страха, Но и золото порою добывается из праха. Юность — это пламя хмеля, старость — холод и невзгода. Тот, кто жив, заложник смерти, и лишь мысль его — свобода. Мне знакомы ночь, пустыня, пыль во рту, скупая влага, Но перо — моя опора, и подруга мне — бумага.2. Четыре месяца со дня смерти
Семена Израилевича не стало 31 марта 2003 г. Первого апреля я взяла с собой «Сталинград Василия Гроссмана» и поехала в Тель-Авив за визой. Думала, покажу консулу книгу, и он без лишних слов оформит документы. Но к консулу меня не допустили, оставалось одно — читать и ждать. «Любимой Леночке о любимом друге» — это ардисовское издание Семен Израилевич надписал мне в июне 1986 г. На фотографии он стоит на крыльце у окна, а Василий Семенович сидит на приступочке у лестницы. Перечитывая в шумной очереди «Сталинград Василия Гроссмана», я вспоминала, как морозной февральской ночью увозила с маминой московской квартиры тяжеленную сумку. «Возьми такси!» — сказала мама многозначительно. Я не спросила ее, что вдруг такая спешка, в целях конспирации поручения следовало исполнять молча. Такая вот группа террористов-заговорщиков. Сегодня представители органов безопасности досматривают нас на предмет оружия — ищут в сумках бомбы, на теле — пояса со взрывчаткой, в карманах — колющие-режущие инструменты, — в то время оружием было слово, а опасными предметами — книги и рукописи, то бишь мысли. Другая эпоха. Дома я открыла сумку — в ней было много книг и две толстенные папки. «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Но ведь этого романа не существует?! Сейчас мы знаем, что единственный экземпляр романа сохранил Семен Израилевич, но тогда у меня было ощущение, что материализовался фантом. Мы с мужем читали роман ночами, тайком, он хранился у нас, как выяснилось позже, после передачи в 1975 г. микропленок на Запад. Третьего октября 1988 г., стоя в магазине «Ленинград» в очереди за мясом (запомнила дату, поскольку это было в день рождения моего сына), я уткнулась взглядом в журнал «Огонек», его читал впереди стоящий. «Василий Гроссман: „Жизнь и судьба“, главы из арестованного романа», — было написано на развороте.Владимир Мощенко «МЫ, ПРИЯТЕЛЬ, НЕ ТЕ НОМЕРА НАБИРАЕМ…»
Когда вышла из печати книга Семена Липкина «Семь десятилетий», я опубликовал в «Независимой газете» статью о ней «На божественном уровне горя и слез», закончив так: «Мы не хотим называть ее итоговой. Даст Бог, будут у него еще книги, и мы их будем ждать». Он читал эту статью во дворе переделкинской дачи. Он был в неизменной своей бейсболке и ветровке, мудрый Мафусаил и застенчивый ребенок, державший сучковатую палку между коленями и благосклонно взиравший на Александра Кривомазова, который беспрерывно фотографировал его. Дочитав, он задумался, и видно было, что устал. Мы пошли в его комнату; он лег на диван, произнес несколько фраз и признался, что ему надо хотя бы немного поспать. Я заметил в нем непреодолимую слабость, но не сказал ничего его жене и моей давней подруге Инне Лиснянской, которая все понимала лучше всех и примеряла на себя неотвратимое будущее: «…стану дождя подобьем — плакучим твоим надгробьем». …Как-то, уже очень давно, мы гуляли с ним по писательскому городку, и он вдруг прочитал:Павел Нерлер ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ
1
Семен Израилевич Липкин родился 19 сентября 1911 г. в Одессе, в семье портного-меньшевика. Мать политикой не интересовалась, а вот музыкальной судьбой Семочки очень. Знаменитый Столярский, вырастивший из липкинского одноклассника Ойстраха мировую звезду, говорил ей: «У Вашего Семы замечательно музыкальные руки, а вот слуха нет». А вот поэтический слух у него прорезался, хотя и не сразу. Тут роль Столярского выполнял другой одессит — Эдуард Багрицкий. Когда к нему в газетную редакцию пришел 14-летний мальчик из литературного кружка Художественной профшколы, он выслушал его и сказал: «В вашей тетрадке что-то шелестит, есть слух». Со словами «В газете печатаются только плохие стихи», он напечатал стихотворение «Весна» — самое неинтересное и пустое из всего, что принес мальчик. В августе 1929 г. приехал в Москву, поселился в Кунцево (неподалеку от Багрицкого) и поступил на химфак Инженерно-экономического института им. Орджоникидзе. Познакомился с Бабелем, Нарбутом, Кузминым, Мандельштамом, Зенкевичем, начал печататься в «толстых» журналах — «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», вальманахе «Земля и фабрика». Однако коллективизация от идеологии не способствовала процветанию единоличников пера, пускай и не кулаков, и Липкину пришлось записаться в «колхоз» переводчиков[6]. Его «делянками» были народный эпос и классическая поэзия Востока. При этом, в отличие от другого колхозника — Тарковского, страдавшего мигренью от самого этого занятия, Липкин давал себя труд углубляться в историческую ткань и через знание истории — научился любить своих «подопечных». В закрома родины он перевел калмыцкий эпос «Джангар» и киргизский «Манас» (их он особенно любил и ценил), бурятский «Гэсэр», татарский «Едигей», кабардинские (адыгские), абхазские и балкарские «Нарты», большую часть индийской «Махабхараты», поэмы Калидасы, Фирдоуси, Джами, Навои, лирику Рудаки, Хайяма, Хафиза, Кабира, Рабиндраната Тагора, Тукая, Дердмэнда. Работа Липкина-переводчика была высоко оценена — он был удостоен званий народного поэта Калмыкии, героя Калмыкии, заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии и Бурятии, литературных премий Таджикистана, Калмыкии и Татарстана. Но как только он стал «отщепенцем», его не только отлучили от переводческой делянки, но и перезаказали его переводы другим.2
На войне Липкин — с самых первых дней. Кронштадт, Ленинград, Дон[7]. Попали в окружение. Группку в 8-10 человек выводил Липкин: выбирались, проходя по станицам. Плен миновал поэта, но смертный еврейский страх — нет: «Было страшно, мне особенно. Я сделал себе удостоверение с армянской фамилией Шахдинарьянц. Это был мой школьный учитель химии, с такой фамилией. Вошли в станицу, зашли в хату… Хозяин хаты говорит мне: „Сдается мэни, шо вы з жидив“. — „Нет, я армянин“. — „Вот прийде жинка, вона скажэ“. Пришла хозяйка. И пока она смотрела на меня, двумя руками приподнимая свои груди, у меня внутри все дрожало. И она сказала: „Вирменин!“»3
В своей автобиографии он записал: «В 1967 году, когда мне исполнилось 56 лет, была издана первая книга моих стихов „Очевидец“, сочувственно встреченная критикой. Этот год для меня знаменателен и тем, что я встретил поэта Инну Лиснянскую, которая стала моей женой». В 1975 г. — в сильно искореженном виде — была издана вторая книга его стихов «Вечный день». А уже в 1979–1980 гг. разыгралась поучительная история с альманахом «Метрополь». Из протеста против исключения из Союза писателей двух молодых участников альманаха — прозаиков Евгения Попова и Виктора Ерофеева — поэты Липкин и Лиснянская, как, впрочем, и прозаик Аксенов[8], сдержали свое слово и вышли из Союза. Ответ властей был хотя и вегетарианским, но весьма чувствительным: классическая травля, запрет на профессию, в том числе и на профессию переводчика[9], а также исключение из Литфонда (что означало отлучение от ведомственного медицинского обслуживания). Особенно огорчили братья-писатели: многие наложили в штаны и стали делать вид, что не знакомы. Но именно в эти тяжелые шесть лет, свободные от переводческого ярма, особенно легко и хорошо писалось — стихи, проза, воспоминания. Тогда же он впервые по-человечески напечатал свои стихи (книги «Воля» и «Кочевой огонь») и даже прозу («Декада», воспоминания о Гроссмане), правда, не на родине, а за границей. В тамиздате издавалась и Инна Лиснянская. Когда к С. И. приехал Лев Гинзбург — уговаривать его от имени руководства Союза писателей отречься от «Метрополя» (кто там тогда были в секретарях? — Карпов? Суровцев? Феликс Кузнецов?), С. И. его выслушал, покачал головой и ничего не сказал, а только воздел указательный палец кверху, как бы ссылаясь этим на «свое начальство». В истории с «Метрополем» С. И. и И. Л. - ее единственные настоящие герои, ни в чем и ни на сантиметр не прогнувшиеся в поединке с уже дряхлеющим, но по-прежнему алчущим честной писательской крови драконом. И в высшей степени оправданным представляется присуждение Липкину в 1993 г. премии «За гражданское мужество писателя» им. А. Д. Сахарова. В своей речи по этому поводу он сказал: «Признаться, я чувствую себя неловко, принимая от близких мне по духу литераторов награду за мужество. Было бы более правильно, если бы награда была мне присуждена за нормальное поведение русского литератора». Сам он себя к мужественным и храбрым не относил: «…Я не наступал. Я тихо сопротивлялся: полвека писал в стол. Мне было легче, чем другим, потому что с самого начала сознательной жизни я не был очарован режимом. Не будучи очарованным, я и не разочаровы вал ся».4
Впрочем, вторую весну Липкин пережил и как переводчик. В середине 80‑х он впервые прочел «Гильгамеш» и был шумеро-аккадским эпосом совершенно очарован. Он положил на него глаз и вскоре перевел четыре песни (таблицы) из 12. Однако в 1987 г. пришлось отложить: навалилась болезнь, операция, почти 9‑месячное пребывание в больнице. Вернуться к начатому удалось только в 1998 г., и в 2001 г. перевод вышел в свет — с предисловием В. В. Иванова.5
С 1967 г. Липкин и Лиснянская — вместе и неразлучно. На пути к этому «вместе» — потаенные встречи, семейные драмы у обоих. Их совместная книжка — какая чудная идея! — так и называется: «Вместе» (выпущена в 2000 г. в издательствах «Грааль» и «Русский путь»). В ней только избранные стихи каждого, переложенные фотографиями и цитатами из критических работ. Задумаемся на минуточку: два поэта — и не под одной обложкой, а под одной крышей! Что может быть, казалось бы, невозможней! Два дарования, две славы, два эгоцентризма, два темперамента, наконец! И какие разные темпераменты! У Лиснянской — дар искрометный, огненный, весь наружу, какая-то физиологическая легкость письма (чего стоят одни только ее импровизации на заданную из публики тему!). Липкин же совершенно другой: спокойнейший, медлительный, умиротворенный — помалкивающий мудрец, а если уж заговорит, то в речи, как и в стихах, вслушивающийся буквально в каждое слово, взвешивающий и оценивающий его, прежде чем дать ему волю. Он и только он мог произнести, а главное, помыслить такую фразу-упрек (слова я, может, и перевираю, но смысл нет): «Инна, ну почему ты мне не сказала заранее, хотя бы за один день, что у тебя будет инфаркт?» Не припомню в истории русской поэзии вторую такую семью: Ахматова с Гумилевым? — долго не выдержали; Мандельштамы? — но при живом Осипе Эмильевиче «Надинька» держалась глубоко в тени и будущую «Надежду Яковлевну» почти ничем не напоминала!6
Последние годы Семен Израилевич и Инна Львовна почти безвылазно провели на тихой переделкинской даче, что по улице Довженко, в каких-нибудь двух шагах от Музея Булата Окуджавы. В Москву ездили от случая к случаю — на несколько недель зимой, да еще по врачам, а вот на литературные вечера и события ездили все реже и реже — шутки ли: такой возраст! Впрочем, на вручение Президентской премии Семен Израилевич собирался, но самой большой радостью было ожидание выхода новой книги, пусть и под старым названием — «Воля» (так назывался, быть может, его важнейший поэтический сборник, вышедший в 1981 г. в «Ардисе» и блистательно составленный Иосифом Бродским, — в нем впервые были собраны его замечательные поэмы). Во вторую «Волю» вошел едва ли не полный — за 70 лет — свод стихов, да еще две главные поэмы — «Техник-интендант» и «Жизнь переделкинская». Издательство «ОГИ» готовило книгу от всей души — без малого полтысячи страниц, на прекрасной бумаге, с обилием воздуха на страницах и с прекрасным портретом на обложке. С. И. держал в руках ее макет, искал опечатки, волновался из-за мелочей в оформлении, — одним словом: предвкушал. Но выхода книги он, увы, не дождался. …31 марта, примерно в полпятого вечера, он тихо оделся и, вопреки обыкновению, один и даже не предупредив Инну Львовну (она в этот момент говорила по телефону), вышел во двор. Стояла самая нелюбимая им погода — пасмурно, моросящий дождь. Невелико расстояние от крыльца до калитки, он его одолел и отправился в обратный путь, — но до крыльца уже не дошел. Инна Львовна закончила разговор и почти сразу же хватилась его… Пошла искать — в доме нигде нет, вышла на крыльцо — и сразу же увидела лежащее тело, лицом вниз, головой к дому. Лицо уже холодное, но тело еще теплое: смерть, видно, наступила только что и все произошло мгновенно, в секунды: иначе он бы вынул из кармана дубленки нитроглицерин или попытался бы это сделать. С места она его стронуть не могла, позвала на помощь соседа и сторожа из Музея Окуджавы.7
…Можно себе представить, каково пришлось Инне Львовне — отныне вдове, очень больной и очень эмоциональной женщине. Разрешение на захоронение на Переделкинском кладбище, поиск участка под могилу, похороны, поминки — все это дополнительные испытания, каждое из которых могло не выдержать и ее сердце. Выдержало, но сразу после девятидневья ей пришлось лечь в больницу, где она хоть немного, но пришла в себя. А 26 апреля, уже в Переделкино, в осиротевшем доме, к ней вернулись стихи, и она написала триптих:УХОД
1
2
3
Вадим Перельмутер ФРАГМЕНТЫ О ЛИПКИНЕ
…Мы были знакомы лет 30, но общались фрагментарно. Подчас — с перерывами в полгода, а то и больше, иногда — весьма регулярно, особенно во второй половине 1970‑х, когда Липкин и Лиснянская зачастили в гости к Штейнбергу, у которого я тогда бывал чуть ли не еженедельно. Несколькими годами ранее Штейнберг нас и познакомил — еще на Шаболовке, в утесненной книгами и картинами и без того непросторной двухкомнатной «хрущобе» окнами на трамвайные скрежеты и звоны. А первое упоминание Штейнберга о Липкине запало намертво — к слову пришедшийся фрагмент. Разговор шел о переводах стихов по издательскому заказу — и по собственному выбору поэта. Пришлось однажды, рассказывал Штейнберг, помучиться над «заказным» стишком, изощренно сочиненным, технические всякие «штучки» никак не давались. И вдруг — получилось, да так удачно, что сам удивился. И похвастаться кому-нибудь из понимающих охота. И тут как раз заглянул к нему Липкин. Едва открыв дверь, Штейнберг гостеприимно предлагает угощение: «Сема! Дай-ка я тебе почитаю один перевод!» — «Стоп, Аркадий! Сначала ответь мне: если бы тебе за работу ни копейки не платили, ты стал бы это переводить?» — «Ты с ума сошел!» — «Тогда не читай»… И — как отрезало: с тех пор, кроме как на «заказных» же вечерах, Штейнберг читал только своих поэтов. А что издавали их и деньги платили, так тому обстоятельства иногда благоприятствовали. Если память не изменяет, на переводческих «средах» в ЦДЛ видел я Липкина единственный раз — на одном из чтений Штейнбергом очередных книг «Потерянного рая». В 1971 г. — на вечере по случаю своего 60-летия — Липкин переводов не читал вовсе, только стихи. Вечер тот происходил почему-то в… ресторане ЦДЛ, откуда на несколько часов вытащили все, кроме одного — для юбиляра, столы, стульев добавили разнокалиберных — из буфета, из других комнат, расставили плотно, не протолкнуться, все желающие послушать стихи едва уместились. После первого стихотворения грохнули аплодисменты. Липкин дождался тишины и попросил больше этого не делать, потому что не концерт — стихи. Так и читал — среди напряженного молчания, по машинописям, изредка поднимая глаза от очередного листка… Насколько удалось узнать, ни до, ни после подобных «ресторанных» вечеров в ЦДЛ не бывало. И необычайность эта странным образом срослась с услышанным. При первой встрече с Лиснянской и Липкиным я вдруг сообразил, что однажды уже «связал» их между собой — вполне, впрочем, бессознательно. Потому что первая моя рецензия, напечатанная весной 1966 г. в «Московском комсомольце», где тогда работал, была о книге Лиснянской «Из первых уст». А первая курсовая по современной литературе в Литинституте — годом позже — о книге Липкина «Очевидец». Совпадение это ему, видимо, понравилось. И он пригласил — при случае — заглянуть к нему в гости… Через несколько месяцев после выхода «Очевидца» в Москве книга Липкина с таким же заглавием была издана в Элисте, где его, переведшего еще в 1930‑х годах калмыцкий — буддийский! — эпос «Джангар», поистине боготворили. Липкин рассказывал, как в начале войны ему пришлось выводить из окружения подразделение конных калмыков. «Наверно, с ними трудно было?» — «Никаких сложностей. Я ведь был для них бодисатва, „спаситель от несчастий“». К тому же книгу «опекал» влиятельнейший в литературной Калмыкии Давид Кугультинов, с которым Липкин дружил и был его основным — и лучшим — переводчиком. Как-то я подошел к Кугультинову в ЦДЛ с каким-то мелким поручением Липкина, то ли книжку передать, то ли на словах нечто, не помню. Но помню, как при упоминании этого имени бесстрастное, словно из дерева высеченное, лицо Кугультинова мимолетно осветилось изнутри… Так что книга, в отличие от московской, вышла не искусанная цензурой-редактурой. Именно ее, а не принесенную мною с собой «совписовскую», Липкин взял с полки и надписал-подарил. Десять лет спустя история повторилась — на сей раз в Душанбе переиздали — в авторской, так сказать, версии — и под «непроходимым» для Москвы, опять же авторским заглавием «Тетрадь бытия» — изувеченную «Советским писателем» вторую книгу Липкина «Вечный день». Собственно говоря, под одной этой обложкой две книги: первая — без потерь прошедший либеральную местную цензуру «Вечный день» (о причине сего либерализма чуть позже), вторая — «Из таджикской классики» (избранные переводы: Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сина, Хайям, Анвари, Хафиз, Джами). И не исключено, что сознательно — Липкин к подобным вещам был пристально-внимателен, двойственность подчеркнута, опять-таки для внимательного читателя, — тем, что второе заглавие делит «Тетрадь» ровно пополам… Разумеется, решающую роль сыграло не только то, что Липкин с блеском переводил таджикскую классику, но — более — многолетняя дружба с Мирзо Турсун-Заде, ровесником, которого он начат переводить еще в конце 1930‑х. Книге, которую, так сказать, «патронировал» — пусть негласно, на Востоке афишировать сие нет нужды, — всемогущий поэт-депутат-член ЦК-лауреат и прочая, и прочая, благосклонность редакторско-цензорская была обеспечена. Мирзо умер в том же году. Так что издание «Тетради бытия» стало вроде как прощальным — благодарственным — жестом… В этой книге есть стихотворение, которого нет — и не могло быть — в «московской».Рада Полищук БЕСКОНЕЧНОЕ МУЖЕСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия (Ветхий и Новый Завет), «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней… Нет Бога, кроме Бога, и Пушкин — русский пророк Его, и Пушкинская улица — одна на всем моем жизненном пути.Семен ЛИПКИН. Из книги «Вторая дорога»
«По правде сказать, я и сейчас недалеко ушел от поэтических и философских вопросов детства», — признается Семен Израилевич Липкин. А ведь ему уже исполнилось 90! В пять лет он видел царя, приехавшего в Одессу в связи с 300-летием Дома Романовых, он учился в хедере и был во всем околотке единственным еврейским мальчиком — учеником казенной гимназии. В 15 лет он показал свои стихи Эдуарду Багрицкому, и тот нашел, что у юноши «есть слух», что в его стихах «что-то щелкает». В 1929 г. Липкин приехал в Москву, и его стихи стали появляться в московских «толстых» журналах — «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия». Он познакомился с Мандельштамом, подружился с Арсением Тарковским, Аркадием Штейнбергом и Марией Петровых. И разделил с ними долгую и трудную судьбу литературных изгоев. Первая книга стихов Семена Липкина «Очевидец» вышла, когда ему исполнилось 56 лет! Потом его снова не печатали, потом в 1975 г. появилась небольшая, искореженная цензурой книжка «Вечный день», потом — 1979 год, участие в альманахе «Метрополь» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, по признанию самого Семена Израилевича, в эти годы он написал больше, чем за всю предыдущую жизнь. В это же время в американском издательстве «Ардис» вышли в свет большой том его лирических стихотворений и поэм «Воля», сборник стихов и поэм «Кочевой огонь», книга воспоминаний «Сталинград Василия Гроссмана». И вот, наконец, — перестройка, гласность. Семена Израилевича Липкина восстановили в Союзе писателей, стали печатать и печатают по сей день. Это лишь скупые штрихи биографии. А за ними — жизнь и судьба. Трудная жизнь и трудная судьба. И жестокая эпоха, ломавшая жизни и судьбы миллионов. А Липкину удалось выстоять. Или посчастливилось? «Я один из немногих счастливцев» — это он о себе, по-видимому, потому, что в детстве не стал жертвой погромщиков, не умер в голодные 20‑е, не был арестован, живым вернулся с войны. Да, посчастливилось, разумеется. Но откуда это бесконечное мужество преодоления: «выжил» еще ведь не значит «выстоял». А Семен Израилевич и сумел избежать деформации души, непрерывно подвергаясь бешеному давлению в этом веке сокрушительных перемен. Верность себе в каждый текущий момент бытия — вот в чем, наверное, несокрушимая сила этого большого поэта, философа, мыслителя. Потому, наверное, и сейчас недалеко ушел он от поэтических и философских вопросов детства. Так бродил он прежде, опираясь на палку, по заросшим густой травой тропинкам заброшенного переделкинского Дома творчества, где знал и видел многое и многих, а теперь сидит во дворе литфондовской дачи на улице Довженко, которую «выделили» ему на старости лет, и думает о вечном. Я не раз говорила о своей особой примете, вернее «бабы с полными ведрами»: если, приехав в Переделкино, первым встречаю у затянутого ряской прудика Семена Израилевича Липкина в спортивном костюме и кепочке, когда солнце, или под зонтом, когда пасмурно и дождь, — значит, все будет хорошо. Встретились, он поцеловал мне руку, я чмокнула его в щеку. Он сделал мне комплимент, я с горечью подумала, что он постарел за те несколько месяцев, когда я его не видела, — ссутулился еще сильнее и ходит медленнее, труднее. Но глаза по-прежнему живые, с блеском и усмешкой, глаза мудреца, постигшего уже какую-то важную тайну, но не утратившего интерес к жизни. — Как вы себя чувствуете, Семен Израилевич? — Чувствую. И усмехнулся в усы. Я улыбнулась тоже. Умница, лучшего ответа не придумаешь, не жаловаться же, в самом деле, на стариковские проблемы и хвори. Да он и не старик вовсе — он молод душой, он пишет стихи, раздумчивые, философские, он любит Инну Львовну, свою жену, великолепную, колдовскую женщину, загадочную и значительную во всем, даже в неповторимом жесте, каким поправляет челку на лбу, а уж в слове — подавно. Он больше молчит, но зорко примечает все, что происходит вокруг. Помню, как-то встретились во время прогулки, Семен Израилевич с улыбкой декламирует, переиначивая: — «Уж сколько дней вы все одна, окутаны духами и туманом…». Пора, пора! — Я приехала сюда для уединения и наслаждаюсь одиночеством. — Красивой женщине это не к лицу. Приятно слышать такие слова от него, приятно и то, что он говорит о моей прозе, всерьез, как равный равному, — «очень талантливо», и пишет в дарственной на своей книге: «Раде Полищук, ее красоте и таланту», и добавляет, не шутя: «Это не комплимент». И вижу, знаю — не комплимент. И наклоняюсь, чтобы поцеловать его — к чему слова. Вот пишу — «невысокая фигура», «наклоняюсь», а перед глазами — крупный мужчина, лежащий навзничь на постели с датчиками кардиографа на широкой седовласой груди. Я была поражена: неужели этот богатырь — Семен Израилевич Липкин, из-за которого уже несколько часов пребывает в тревоге все народонаселение «нового» корпуса. Долгий, некупируемый сердечный приступ, «скорая» местного значения, врач нервничает, ночь близится, речь идет о госпитализации. Взволнованная Инна Львовна, изо всех сил стараясь сохранять самообладание, пытается дозвониться в Москву его сыну-врачу, а я для подстраховки поднялась к нему. И не сразу узнала, а узнав, даже немного успокоилась — такой могучий мужчина, с ним ничего не случится. И словно желая поддержать мою надежду, в ответ на мой укор, что-де напугал нас всех на ночь глядя, Семен Израилевич говорит: — Да ничего особенного. Стих у меня тонический, а криз — гипертонический. Вполне логично. Он шутит, — что может обнадежить более. И все действительно обошлось — приехал сын-врач со специальной кардиологической бригадой, и выяснилось, что инфаркта нет, и не нужна госпитализация. И мы, несколько человек, в тревоге просидевшие часа два внизу на диване, разошлись по своим квартирам. И я вспомнила, что на его письменном столе лежал мой альманах еврейской культуры «ДИАЛОГ», раскрытый где-то посередине, и мелко исписанные его почерком листочки бумаги. Когда дней через десять Семен Израилевич вышел на первую после болезни прогулку, и мы встретились, он, скрывая грусть, сказал: — А ведь я чуть не подвел вас — думал, что уже не допишу свои впечатления о «ДИАЛОГЕ». Я, как всегда бывает в таких случаях, пересиливая какую-то неловкость и необъяснимую перед ним виноватость, поспешила заверить его, что он напишет еще много прекрасного и значительного, кроме этих заметок о моем альманахе. Хотя запомнила навсегда оставшееся с того вечера щемящее не предчувствие даже, а лишь возможную вероятность того, что последнее его слово могло быть обо мне — о деле, которому отдаю много времени и сил, к которому Семен Израилевич относится с безграничным уважением, сочувствием и желанием помочь, поддержать. «Вы — мой генерал, я — ваш солдат, — говорит он. — Располагайте мною». Да никакой я не генерал, просто: «если не я, то кто же?» — засело где-то в подсознании, в подкорке. Или в крови? И бьюсь из последних сил, чтобы не погибло это издание, о котором Семен Линкин написал: «Книга „ДИАЛОГ“, еврейская книга на русском языке, — важное событие в нашей литературной жизни». И знаю — это не просто слова: он читает альманахи от корки до корки, и мои книги читает. Вообще — читает, на журнальном столике у него всегда лежит пачка книг. Ему присылают, привозят, дарят свои книги многие — его мнением дорожат. Он не польстит и не слукавит. Он мэтр нашей поэзии, он ее патриарх, он мудрый старец, ребе. Он просто старый человек, мужественно переживающий свою старость. Глаза у него чистые, ясные, взгляд пытливый, любопытный, чуть насмешливый. Глядит на собеседника и одновременно куда-то в глубь «земного несовершенства», где, наверное, открылось ему что-то важное или вот-вот откроется. Почему-то кажется, что уже открылось, — он спокоен, несуетен, немногословен. С ним рядом отдыхает душа, окутанная полным доверием и естественностью человеческого общения. Семен Израилевич Линкин ушел от нас навсегда 31 марта 2003 г. Вижу, как будто стою рядом: медленно, ссутулившись, тяжело опираясь на палку, он идет по переделкинской улице-просеке все дальше и дальше от дома, в мглистый туман, в зыбкость последней мартовской ночи. Его последней ночи. Не оглядывается. Словно понял уже, что настал заветный час, о котором он все знал заранее:Станислав Рассадин ПРЕОДОЛЕВАВШИЙ, ПРЕОДОЛЕВШИЙ
Когда-то (очень давно!) мой старший друг Семен Израилевич Липкин признался, что устроил для себя такую игру: разместил всех заметных русских поэтов по десяти разрядам — понятно, по мере убывания значения и достоинств. Помню, я, восхитившись этим проявлением взрослой детскости, тут же решил соревновательно проделать то же самое, но терпения не хватило, и мое участие ограничилось советом вынести Пушкина, который у Липкина был наряду с Баратынским, Тютчевым, Лермонтовым, вне всех разрядов. Над. С чем Семен Израилевич согласился. Заодно рассказав, что о своей игре поведал Борису Слуцкому и тот, весьма небезразличный к иерархии в литературе, поинтересовался: — А я у вас в каком разряде? — Ну что вы, Боря, — ответил Липкин, заставив побагроветь самолюбивого Слуцкого, — таких, как мы с вами, я просто не принимал во внимание… Шутка? Притом лукавая? Наверное. Тем паче самого С. И., особенно к концу его долгой жизни, волновало, останется ли он в истории русской поэзии — такой поэзии! — своими стихами; и если останется, то в каком именно качестве. Что — естественно. Например, и любимый Липкиным Мандельштам, чьим молодым другом ему повезло некогда быть, нервно размышлял в воронежской ссылке: «Что я? — Катенин, Кюхля… Вот Бонч-Бруевич за архив мой предложил 500 р. и, когда я поднял шум, написал мне честное письмо: „Я‑де и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом…“ Я не Хлебников… я Кюхельбекер, — комическая сейчас, а может быть, и всегда фигура»… Что до Липкина, ему было тем более небезразлично, скажем, признание Ахматовой, написавшей на своей дареной книге: она, дескать, всегда слышит его стихи, а однажды плакала. (Слушая чтение поэмы «Техник-интендант».) Или — Солженицына. Или — Бродского, сказавшего в интервью, что ему «в некотором роде повезло» составить «тамиздатское» липкинское избранное. И заодно наиточнейше отметившего: тот пишет «не на злобу дня, но — на ужас дня». Тем не менее нечто неуклонно толкало С. И. к самооценочной строгости, продиктованной… Чем? Да многим. Начиная глубокой, с детства, религиозностью (чем он был так отличен от неофитов религии, агрессивных именно от своего неофитства), кончая биографическими испытаниями. Где и длинная жизнь непубликуемого поэта (слава Богу, он нашел не только профессию, но и счастье в переложении великих поэтов Востока и его же народных эпосов, так что никак бы не мог воскликнуть, подобно Арсению Тарковскому: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!»), и тревоги еврейства, и война, познанная основательно: тонул на Балтике, был в Сталинграде, выходил из окружения с калмыцкой кавалерией, о чем и рассказал в помянутой поэме, над которой пролила слезу Анна Андреевна. Полагаю, вершинном, великом его создании. Наконец, если в перечне этих причин возможна конечность, огромная культура, включающая, так сказать, эстетический экуменизм (та же погруженность в литературу и философию Востока), что само по себе может и даже должно усмирять амбиции. Как бы то ни было, когда я прочитал — в рукописи — воспоминания С. И. о Василии Гроссмане, ближайшем, ни с кем иным не сравнимом друге, я, загоревшись, прибег к демагогии, ловя Липкина на слове и уговаривая его продолжить занятия мемуарами (хотя так и вышло, конечно, не преувеличиваю значение собственных уговоров). Мол, сами же уверяете, что вашим стихам скорее всего не сохраниться для будущего, а воспоминаниям, да еще таким, восстанавливающим не только человека, но и время, попросту суждено остаться надолго… Не взывать подобным образом было и невозможно, постоянно убеждаясь, как щедр Липкин на устные рассказы. О людях самых разных калибров — от того ж Мандельштама до, например, Михаила Голодного. Допустим: — Вот, — говорит последний, — я назвал своего сына Цезарем. Но ты же, Сема, знаешь нашу комсомольскую юность. Мы ж тогда думали, что Цезарь — это Брут! Или — Голодный встречает зимой Иосифа Уткина, в чьих руках — коньки. — Иосиф! Куда ты идешь? — Я иду на стадион «Динамо». — И что же ты будешь делать на стадионе «Динамо»? — Я буду кататься там на коньках. — Да? Ты знаешь, Иосиф, я тоже мог бы пойти на стадион «Динамо» и кататься там на коньках. Но партия мне сказала: сиди и пиши!.. И что же ты думаешь? Я сижу и пишу, как проклятый! И еще — все о нем же. Сталинские годы. Грядет очередная декада (так Липкин потом озаглавит свою повесть на материале «дружбы народов») — презентация, как сказали бы нынче, искусства одного из «братских народов» Средней Азии. Требуется перевод на русский язык благодарственного послания вождю, чему предшествовал вызов местных поэтов в обком: «Отец соскучился. Давно письма не получал». И Липкин, на сей раз поставленный бригадиром ватаги переводчиков, т. е. избежавший непосредственного участия (это не значит — избегавший всегда. Помимо поэзии истинной, им напереведено множество советской и сверхсоветской муры, начиная с Сулеймана Стальского, перелагать которого направил молодого поэта сам Горький. На упреки в подобной деятельности С. И. вначале отшучивался, ссылаясь на своего отца, который говаривал, что можно ходить в бардак, но не нужно путать бардак с синагогой; потом это дело, дававшее деньги, как и способ выжить, было оставлено), — итак, Липкин звонит Голодному: — Миша, вам принесли вашу часть подстрочника? Задача такая: четырехстопный хорей, рифма сплошь женская, перекрестная… Пауза. — Ну, как в бунинском переводе «Гайаваты»… Долгая пауза. — Приведи примэр. — Пожалуйста. «Прибежали в избу дети, второпях зовут папашу: „Тятя, тятя, наши сети притащили простоквашу“». — Так бы сразу и сказал. А то строит из себя интеллигента. Смешно? Да, как бывает смешон только незапланированный абсурд. Не Хармс и не Беккет. Даже если к смеху примешивается ужас (вспомним слова Бродского). Конец 1930‑х. Кремль. Правительственный банкет, посвященный закрытию декады таджикских искусства и литературы. Сталин поднимается произнести тост, а совсем недалеко от него — классик Таджикистана Садриддин Айни в компании с молодым переводчиком Липкиным. (Тот сперва получил место в непреодолимом для взгляда отдалении от президиума, но Айни тосковал в обществе одних только «синих костюмов», охраны, и по его просьбе за стол к нему пересадили Липкина, изучавшего — или уже изучившего — фарси.) — Я поднимаю этот тост, — начинает вождь; начинает неграмотно, как отметит потом переводчик, ставший мемуаристом: поднимают не тост, но бокал. И, сказав несколько обязательно-необязательных слов, произносит фразу, взорвавшую благоговейную атмосферу: — Как известно, Фирдоуси был великим таджикским поэтом… Тут и происходит взрыв святотатства. Вождя прерывает обезумевший от счастья старик Айни. Долгие-долгие годы он положил на то, чтобы вернуть Фирдоуси с его гениальным эпосом «Шахнаме» (одним из переводчиков, кстати, станет как раз Липкин) персоязычным таджикам, а советские востоковеды с их классово-конъюнктурным чутьем спихивали сомнительного поэта эпохи феодализма за кордон, к персам. И вот… Айни, переполошив синекостюмных соседей, вскакивает и кричит: — Бирав, бирав!.. То есть: «Браво, браво!..» — Востоковедения умерла! Да здравствует наша товарища Сталин! Понял ли что-то из этого вопля вождь, неизвестно. Но он вдруг, продолжая держать бокал, направляется к Айни, и Липкин вплотную видит низкий лоб, щербинки на подбородке, сухую висящую руку. — Как ваша фамилия? — спрашивает Сталин таджика. — Айни ми есть! Айни ми есть! — Я знаю, что вы Айни. Весь Восток знает, что вы Айни. Но ведь это ваш псевдоним? Как ваша настоящая фамилия? И когда тот ее называет, следует уж совсем неожиданное, из разряда тех сталинских слов и поступков, которые заставляли со сладким ужасом говорить о его непредсказуемости. Считалось: непременном признаке гениальности. — Джугашвили. Будем знакомы. И вождь удаляется. Балаган! Водевиль провинциального сорта на главных подмостках страны. Старый писатель, которому режиссер предназначил клоунскую роль, — но и сам-то забавляющийся главреж ведет себя, как верховный паяц страны. В повести «Декада» это действительное происшествие, пересказ которого я слыхал от С. И. не единожды, запомнив дословно, будет слегка преображено прикосновением домысла, и автор сделает попытку найти логику в сталинском спектакле. По-моему, не найдет: мысль, пробующая постичь абсурд, обречена на поражение именно потому, что — мысль. Дитя разума, которому Липкин не изменял, кажется, никогда. Что, между прочим, свойство не столь распространенное, как кажется. Скорее — наоборот… Щедрость всегда беззаботна, оттого благородно беззащитна. Но я‑то, не скрою, злобно бесился, встречая у некоего мемуариста забавнейшие подробности жизни Эдуарда Багрицкого, о которых уже был наслышан от Липкина, непосредственного очевидца, — он знал Багрицкого с одесского детства, был им небрежно напутствован как полт и продолжил знакомство в Москве, точней, в подмосковном Кунцеве. (Не удержусь, чтоб не сослаться на липкинскую поэму «Литературное воспоминание» — в сущности, стихотворный мемуар, как старший товарищ завел младшего в дом аж самого Ежова.) То есть мое бешенство пробудилось и возбудилось как раз тогда, когда я узнал: оный мемуарист, человек мне знакомый, симпатичный, но, как оказалось, простодушный в смысле литературной этики, самого Багрицкого в глаза не видал. И вот уж тут точно могу сказать: деликатный абзац в липкинском тексте («Небольшое, но, увы, нужное отступление. Я не предполагал, что начну когда-нибудь писать воспоминания… Некоторые из друзей и знакомых опубликовали мои воспоминания как свои собственные») был именно мною из него выбиваем и мстительно выбит способом настырнейшего настаивания. Либо… Вот случай, пожалуй, поделикатнее. Потому что тут придется назвать имя невинного плагиатора. Два моих друга, Михаил Козаков и сценарист Игорь Шевцов, посетили, незадолго до его смерти, Арсения Александровича Тарковского — с целью выведать у него нечто о встречах с Мандельштамом. Выведали немного: «Мандельштам был замечательный поэт. Он прославился очень рано. Я ему читал свое раннее стихотворение. Стихи ему не понравились, и он очень меня ругал». «Раза три-четыре, — добавляет Козаков в своей книге, — повторил он именно эту фразу». И дальше: «— Вы ведь встречались с ним и в Госиздате? — попытался облегчить ситуацию Игорь. („Эту книгу мне когда-то / В коридоре Госиздата / Подарил один поэт… Гнутым словом забавлялся, / Птичьим клювом улыбался, / Встречных с лету брал в зажим, / Одиночества боялся / И стихи читал чужим“ — узнаваемый образ Мандельштама в известном и очень хорошем стихотворении Тарковского. — Ст. Р.) Пауза. — Встречался. Вот он однажды показывал мне новый пасьянс. Кажется, в Москве он учил меня, как раскладывать новый пасьянс. — Он был контактный человек — Мандельштам? — Нет. — Что, он был скорее замкнутым человеком? — Да». И в конце концов: «— Миша! Я ничего не помню… Ничего, Миша, простите, я ничего не помню…» Рискуя показаться кощунствующим, все же скажу: при всей бедственности распада замечательного поэта, не только Козакову с Шевцовым, но и ему самому — ему-то даже в первую очередь — повезло (сознаю: страшное слово), что визитеры не записали «воспоминаний» Арсения Александровича, которыми тот в иных случаях охотно делился со своими учениками-поклонниками. Потому что «воспоминания» — не его. Что делать, у Тарковского была полупростительная слабость, бескровной жертвой чего пал Липкин: рассказывать о том, что было не с ним и даже не при нем. Может быть, и совсем простительная — для того, кто смолоду рабски подражал Мандельштаму и после трудно изживал подражательность? Во всяком случае, когда Кайсын Кулиев знакомил меня с Арсением Александровичем, устроив застолье, тот был польщен, услыхав от меня прочтенное наизусть то же стихотворение «Поэт», но внезапно и странным образом ожесточился, едва я сказал, что он, дескать, поэт мандельштамовской школы. Сказал и сказал — что в том дурного? Нет: «Мандельштам сам по себе, я — сам по себе!» И ведь что правда, то правда: его единственной — и неудачно закончившейся — встречей с Осипом Эмильевичем была та, о которой он честно сказал Козакову с Шевцовым. Знаю это по рассказу того же Липкина, очевидца. Случилось это в квартире поэта-имажиниста Рюрика Ивнева, куда и явились Тарковский с Аркадием Штейнбергом, молодые, оба картинно красивые и отменно щеголеватые; в последнем, сказал мне С. И., Арсений подражал франту Аркадию. А поскольку Ивнев был известен своей, как теперь выражаются, нетрадиционной сексуальной ориентацией, возможно, и двое красавчиков были причислены Мандельштамом к ней же. Что его уже слегка раздражило. Когда же Тарковский в самом деле прочитал Мандельштаму, который терпеть не мог своих собственных эпигонов, стихи, тот произнес памятнейшую фразу: — Давайте разделим земной шар на две половины. В одной — я, в другой — вы!.. И все! Никаких встреч в Госиздате, никаких книг, якобы подаренных Мандельштамом… Повторю: у поэтов (у Тарковского, у самого Мандельштама, у Межирова, у Поженяна… Мало ли их, таких?) есть неотъемлемое право фантазировать, как заблагорассудится. И если Арсению Александровичу с кем в самом деле не повезло, так это с поклонниками-учениками (Михаил Синельников, Лариса Миллер и т. д., и т. п.), спроста распространяющими его заимствованные «воспоминания» — хотя бы и о том, будто это он, а не Липкин видел Осина Эмильевича кричащим вслед посетителю-стихотворцу, приходившему жаловаться, что его не печатают: — А Будда печатался? А Иисус Христос печатайся? Кстати, о том же есть в набросках Ахматовой о Мандельштаме, но она и узнала об этом от Липкина: «Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой, Анна Андреевна весело рассмеялась: — Узнаю Осю». Как узнала — впрочем, на этот раз не признав его правоты, — в другом случае, также рассказанном Липкиным: «Убедившись в моей прочной любви к нему, он мне позволял, без большой радости, себя критиковать. Как-то я ему сказал, что в прославленном среди его поклонников стихотворении „Золотистого меда струя…“ есть неточность: Пенелопа не вышивала, как у него написано, а ткала, именно в этом суть известного эпизода. К ней в отсутствие Одиссея приставали женихи, она, чтобы они отвязались, обещала, что выберет одного из них, когда кончит ткать, а сама ночью распутывала пряжу. С вышивкой так не поступишь. Мандельштам рассердился, губы у него затряслись. — Он не только глух, он глуп, — крикнул он Надежде Яковлевне. Я эту историю рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: „В ваших словах есть резон. Он не хотел исправить из упрямства“». «Но так ли это, думаю я теперь», — продолжает С. И., объясняя себе самому, что поэтика Мандельштама держится на совершенно особенных, «тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях». Дело, однако, не в этом позднем смирении; дело — в неизбежности возражения, не важно даже, что поддержанного самой Ахматовой. И вот тут я наконец подступаю к тому, что меня поражало в Семене Израилевиче Липкине. Что, может быть, составляло его феномен — как поэта и просто того, кого я так долго и близко знал. «Дорогой Стасик, Ваши сообщения о некоторых чертах латвийской жизни, написанные хоть и бегло, рисуют многое. — Письмо 1991 г. — Что касается меня, то я всегда, вот уже лет 50, знал, что национальные идеи когда-нибудь у нас взорвутся, но от того, что я знал, мне не легче. Прибалтов я знаю плохо, вернее, не знаю, но что касается тех мест, с которыми я связан, то буквально на моих глазах произошло резкое изменение отношения интеллигенции к России. До войны — почти благоговейное преклонение перед русской культурой, особенно перед Пушкиным, Лермонтовым, Толстым (Кавказ!). Война разбудила национальные чувства, перешедшие в националистические. Высылка мусульман-горцев потрясла, буквально потрясла наши большие мусульманские республики. В Таджикистане, например, меня не стеснялись (еврей, значит, не русский, говорю по-таджикски) и вовсю ругали старшего брата, вспоминая захват Бухары, борьбу с так называемым басмачеством, коллективизацию, 37 год, 49–52 годы, и как я ни убеждал, что это не русские делали, а опричники, в том числе из их среды, — мои собеседники качали головой, со мной молча не соглашались. Таджики считали, что не Ленин, а русские забрали у них Бухару и Самарканд, говорившие и говорящие на фарси, и отдали узбекам. И если какой-нибудь стихотворец писал стихотворение под заглавием „Самарканди ширина ман“ — „Мой сладкий (дорогой?) Самарканд“, описывая красоту города — и только, то автора уже считали смелым борцом за истину, в ЦК его журили, но любя. Вот теперь горячие татары требуют, чтобы их республика заняла все земли, на которых их предки жили до покоренья Казани, а это значит — часть Нижегородской области, Татария, Ульяновская (Симбирская) область, Самарская, Саратовская (Сары-тау, желтая гора), Волгоградская (Сары-сы, Царицын — желтая речка), Астраханская, а по другую сторону — Башкирия, Оренбургская и часть Казахстана. Вы скажете: бред? Нет, безумная боль униженных, более 70 лет угнетаемых, а как лечить эту боль — не знаю…» Обратим внимание: «…Я всегда, вот уже лет 50, знал…» Знал, что империя неминуемо распадется, «взорвется»? Выходит, что так, — стало быть, тот, кто годы спустя вспомнил зловеще-курьезную встречу грузина Сталина и таджика Айни, крепок не одним лишь задним умом. Молодой человек, наблюдавший это в упор, уже тогда понимал если не все, то очень многое. Так же, как немногим позже, беседуя с Василием Гроссманом (который, отмечу, в будущем романе «Жизнь и судьба» явит редкую проницательность как раз касательно национального, расового вопроса), поразит собеседника резким суждением о преступности сталинской высылки калмыков, балкарцев, ингушей, крымских татар. Тот — даже тот! — еще способен предположить «военную необходимость», и когда Липкин спросит у друга, что б он сказал, если решили бы выслать евреев, Гроссман, как рассказывал мне С. И., покрутит пальцем возле виска. Дескать, спятил? Разве такое возможно?.. Что это? Рано пришедшая мудрость? Я бы выразился приземленнее: здравый смысл, который не облегчает жизни своему обладателю (вспомним: «…но от того, что я знал, мне не легче»), а поэту, как уверяют, может и повредить как излишество. Особенно если вспомнить знаменитую наивность Пастернака или Мандельштама, — но не Ахматовой, не Заболоцкого, не Ходасевича. Не говоря о Пушкине. Семен Израилевич охотно рассказывал о своем детстве. Мне запомнилось многое: например, как его мать решила отдать сына в скрипачи — куда же еще, если дело было в Одессе и вдобавок маленький Сема дружил с маленьким Додиком, сыном булочника Ойстраха? (Далее следовало непременное описание этой булочной, с каждым разом слегка варьировавшееся, и мне доставляло хищную радость ловить Липкина на отклонениях от гипотетической истины.) Короче, отпрыска отвели к легендарному Столярскому; тот, выслушав и оглядев его, вынес вердикт: кисть прямо-таки создана для скрипки. Слуха — нет. Что привело маму в восторг: подумаешь — слух, если все так хорошо с кистью!.. И т. д. Впрочем, резче — как нечто более значительное — помнится рассказ об отце, портном-ремесленнике, эсдеке-меньшевике, поклонявшемся Плеханову и Каутскому, посидевшем в тюрьмах (и в эмиграции побывавшем) при царе, как после при большевиках. Тот каждое утро начинал с ритуального вопроса жене: — Роза, они еще здесь? (Небезопасная шутка тех времен. После Николай Эрдман в комедии «Мандат» подарит ее одному из безнадежно «бывших»: «— Мой супруг мне сегодня утром сказал: „Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть!“ — „Нет, говорю, кажется, еще держится“. — „Ну что же, говорит, Тамарочка, опусти занавесочку, посмотрим, завтра как“».) Словом, иллюзиям относительно новой власти у юного Семы Липкина неоткуда было взяться, и хоть никак не решусь сказать, будто он и родился взрослым, то все же именно внутренняя взрослость, помянутое здравомыслие — во всяком случае и они тоже — мешали воспринять и уроки цинизма, которые пытался давать ему старший товарищ Багрицкий. То есть в печатных своих мемуарах Липкин старается поминать наставника преимущественно хорошим: «Он научил меня понимать прекрасное и распознавать уродливое», читал Гумилева, Анненского, Мандельштама (С. И. запомнил прекрасную фразу Багрицкого, что он лечит Мандельштамом свою астму). Но как забыть самый первый совет: «Запомните: в газетах печатают только самые плохие стихи»? Или… Тут лучше обращусь к поэме «Литературное воспоминание»:Александр Солженицын ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ»
Явление, которому находилось место в причудливом СССР (а пожалуй, и не в нем одном, в разных обществах разные тому причины): почти незаметно, «неслышно» существовали в поэзии незаурядные поэты — десятилетиями мало кому известные, оттого что не кидались служить режиму, как почти вся остальная поэтическая толпа. Таковы были — и Семен Липкин, и Инна Лиснянская (впоследствии муж и жена). Хотя Липкин был принят в Союз писателей еще молодым человеком и всего по нескольким разрозненным публикациям, не выпустив даже и сборника. Но потом, несомненно спасая себя от советской казенной поэтической службы, ушел в переводы: с калмыцкого, киргизского, кабардинского и других восточных языков. Затем он был военным корреспондентом, после войны продолжил переводческую работу, все больше уходя в восточные темы и философию. По фронтовым впечатлениям 1941 г. написал в 1963 г. весьма правдивую поэму «Техник-интендант», однако нечего было и думать ее печатать. Все же к концу 1960‑х, затем и в 1970‑х сборники его стихов появлялись, а более полные — за границей, когда ему было уже за 70. Липкина — еще бы не тяготило его изневольное общественное молчание. «Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, / Говори, почему ты лукавишь с собой? / Почему же всей правды, скажи, почему / Ты не выскажешь даже себе самому?», тот «Усталый облик правды голой, / Не сознающей наготы». Но ведь «строка моя произошла / От союза боли и любви». — «Дай мне белую боль сострадания, / Дай мне черные слезы любви». — Однако годы замкнутости — они же и защемляют безнадежностью: «Неужели мы пропали, / Я и ты, мой бедный стих, / Неужели мы попали / В комбинат глухонемых?»; «Кто может сказать России, / Что мы, только мы — живые, / Что действует храм?» — Но и после столького молчания «Как сладко лгать себе, что дни твои — / Еще не жизнь, а ожиданье жизни». Однако и над молчащим нависает тот же топор: «…Я, пугающийся тюрьмы… <…> Но грозят мне те самые люди, / Что отвергли закон человечий». — «Тупо жду рокового я срока, / Только дума одна неотвязна: / Страх свой должен я спрятать глубоко, / И улыбка моя безобразна». Тюремно-лагерно-ссыльная тема многократно прорывается в его стихи, протягивается сквозь. То в одном, то в другом стихе — сочувствие к ссыльным, сочувствие к зэкам («Одна моя знакомая», «Похороны», «То да се», «Тайга»). — «Это плачет сердце России, / Пятьдесят восьмая статья». — «На жмеринковском перроне» обезумевшие от голода «куркули»: «Вповалку они лежали, / Ни встать, ни уйти не могли». Или о корейцах, сосланных из Приморья в Среднюю Азию. Пристально всматривается Липкин и в тех, кто творит, всю свою жизнь творил ГУЛаг («Солдат революции», «Палач», «Нестор и Сария»). И в цельную картину и при Хрущеве нетронутого ГУЛага: «Соликамск в августе 1962 года». (Меня поражает достоверность описанного, ибо месяцем раньше таким же наблюдал я и Кизел рядом, в Соликамском же кусте лагерей.) — Однако задумывается поэт: а «Что сделали бы жертвы при удаче? / Могли ли превратиться в палачей?» Сочувствие Липкина к пострадавшим от режима — неоднократно и пронзительно расширяется на боль русской деревни: «Частушка» (как тайком бежали от раскулачивания — и за 5 тысяч верст в Азию), «Лунный свет» — как «Городские парнишки со щупами / Ищут спрятанный хлеб допоздна», а потом «Будет в красных теплушках бессонница, / Будут плакать, что правда крива…». А вот и деревня вымершая: «Деревеньку дьявол, что ль, пометил? / Утро здесь не возвещает петел, / И средь лип — ни всхлипов и ни снов, / Не звенит в коровнике подойник, / И молчит, как в саване покойник, / Длинный ряд пустых домов». Это сердечное сочувствие к русской деревне распахивается у автора на всю Россию: «А если глубже вникнуть, / То в прели и в грязи / Здесь может свет возникнуть / Всея моей Руси». В 1942 г. пришлось Липкину катить в грузовике редакции через казачьи станицы, где со злорадством провожали отступающих красных. «- А скажите, товарищ, / Может, вы из жидов? — / И вот что странно: именно тогда, / Когда ты увидел эту землю без власти, / Именно тогда, / Когда многолетняя покорность людей / Грозно сменилась темной враждебностью, — / Именно тогда ты впервые почувствовал, / Что эта земля — Россия, / И что ты — Россия, / И что ты без России — ничто», и хотелось «целовать неласковую казачью землю…» — Так автор достигает высоты уже выше национальной. Это продолжается еще рядом сердечных стихов с православными сюжетами («Нищие в двадцать втором», «В поле за лесом», «На Истре», «Когда мне в городе родном») — и христианская тема естественно сливается с его религиозными размышлениями, с его «экуменическими мечтаниями». С русского Севера Липкин переносится в Новороссию («Южные церкви») — очень тепло: эти церкви «как мазанки синие», они «не блещут нарядом», а в них — «Лишь святость напева, / Лишь воздух душевности». Липкин за свою жизнь немало поездил по просторам огромной страны — и повсюду с сочувствием вникал в местный колорит: не раз и не раз проявляет большую чуткость к обширному разноликому Востоку; много у него мотивов кавказских и среднеазиатских. С восточных языков переводил он никак не чужим сердцем. При всем этом — не гаснет у Липкина и еврейская тема. Вот, приехал в Одессу — «И ничего я не знаю свежей, / Чем вопросительной речи певучесть, / Чем иронический смысл падежей». Вспомнит: «Иль это живопись Шагала — / Таинственная Каббала»;опишет («Комиссар») некоего Иосифа, в молодости служившего в ЧК, потом отсидевшего в лагерях; в картине валимой тайги, на лесоповале («казнь деревьев»), для автора сливаются и «жесткая синева голодных русских деревень», и евреи, погибшие в Бабьем Яре. Тему еврейской Катастрофы он развивает несколько раз. С достойной скупою сдержанностью в «Вильнюсском подворье». С огромной силой в «Золе»: «Я был остывшею золой / Без мысли, облика и речи», — сожженный младенцем еще во чреве матери, и вот, в потерянном сознании, ищет родное место: «А я шептал: „Меня сожгли. / Как мне добраться до Одессы?“» Очень сильно в «Моисее» — и как мастерски: в стихе всего лишь 12-строчном — 8 строк разгона нестерпимого напряжения, а на 9‑й строке (пропорция «золотого сечения») — царственно-успокоительно вступает Бог. Да, автор жаждет, жаждет веры, но («Одесская синагога») — никак не докоснуться: «Я только лишь прохожий, / Но помоги мне, Боже, / О, помоги!». Есть стихотворение о многозначительном маленьком племени «И» (все поняли — об Израиле, хотя есть версия, что Липкин писал о малом племени в Китае, доподлинно звавшемся «И»). Есть («Кочевой огонь») — с напряженным духовным поиском национального осознания: «Какая нам задана участь? / Где будет покой от погонь? / Иль мы — кочевая горючесть, / Бесплотный и вечный огонь?» — Не раз текут в стихах Липкина библейские мотивы; а порой они трансформируются в евангельские: «Ужас пониманья проникает / В темную вещественность души / <…> Разве только нам карьер копали, / Разве только мы в него легли?» — а когда плакала Богородица о Сыне? Стихи Липкина большей частью (не всегда) стянуты в стройность, как теперь уже редко пишут. Особенно чеканны, даже скульптурны его поэмы («Беседа на вершине счастья», «Литературное воспоминание», «Нестор и Сария»). Добротная традиционность, даже как бы встывание в вечность. Стих плотен по составу слов, дыхание — без какого-либо напряжения. Использован пласт свежих, невымученных и неистрепанных рифм (Тургенев — сиренев, лиловь — любовь). Метафорами нас не балует, а какие есть — все предельно ясные. «Ужели красок нужен табор, / Словесный карнавал затей? / Эпитетов или метафор / Искать ли горстку поновей? / О, если бы строки четыре / Я в завершительные дни / Так написал, чтоб в страшном мире / Молитвой сделались они…» Но уж сожмет так сожмет: «Ломовая латынь молдаван». Вереница его стихов выдержана в эпическом высоком тоне. По сюжету, содержанию они — разного уровня (бывают и притуманены), — а всегда с душевной чистотой и прямотой, всегда благородны. «Но разве может жить на земле человечество, / Если оно не досчитается хотя бы одного, / Даже самого малого племени?» — К животным ли: «Благосклонный не стал благородным, / Если с низким забыл он родство, / Он не вправе считаться свободным, / Если цепи на друге его». — К деревьям ли: «Растения поруганное право. / Враждуем с племенем лесным, / Чтоб делать книжки? Лагерные вышки? / Газовням, что ли, надобны дровишки? / Зачем деревья мы казним?» — «Тополей и засохших орешин, / Видно, тоже судьба не проста». — «Есть у деревьев, лиственных и хвойных, / Бесчисленные способы страдать / И нет ни одного, чтоб передать / Свое отчаянье…» («Молчащие»). К деревьям он особенно чуток («Чуть слышны растений голоса»), не только к породам их, то северным, то южным (сосна, акация, кипарис), но к характеру отдельных стволов! Да — вообще ко всему растущему, растительному. Он расслышивает «речь травы, / Которая сложней стихов и шахмат». Величественно: «Громовержащая вода»! А в пустыне — «Как будто эту гнилостную воду / Пьешь из предвечного ведра». Различает характер отдельных морских волн; птиц ли, кузнечиков, былинок («Воскресное утро в лесу»). Поэт ведет «бессловесный разговор» с монадами, читает «клинопись в обличий растений», беседует «с живым иероглифом вещества». Так мирочувствие автора все пропитано пантеизмом. И — как будто не доходит ни до одной религии, при глубоком интересе и сочувствии ко всем к ним. «Но жизнь моя была таинственна, / И жил я, странно понимая, / Что в мире существует истина / Зиждительная, неземная». — «Что даже человеческое горе / Есть праздник жизни, признак бытия»; «зерно прекрасного страданья». Большинство стихов Липкина значительно по мысли, в поисках глуби вещей, иные — из надмирной философии («Дао», «Время», «Обезьянник»: «Когда забыв начальных дней понятья…»). Характерно для него и чувство единства всего протяженного человечества — единство с теми, кто жил и задолго прежде нас. «Но живущие и те, кто жили, — / Все мы рядом». — «Можно забыть и живущих, но мертвых, но мертвых / Можно ль забыть?» — «И тому не раз я удивлялся, / Как Ничто мы делим на года; / Ангел в Апокалипсисе клялся, / Что исчезнет время навсегда». — Диалог Бога и дьявола на Эльбрусе — философская поэма, дуалистичная, очень странная; тут — никакого религиозного чувства не находим. А в других стихах («Беседа», «Две ночи») философское размышление поднимается в религиозное: «Но гул последнего Суда / Мы не забудем, не забудем». Афористичны и запоминаются немало строк. «Распад сердец / Страшней, чем расщепленный атом». — «Различать / Прямую мощь избитых истин / И кривды круглую печать». — «Только жизнь и есть возмездье, / А смерть есть ужас перед ним». — «Чтоб не погаснуть, вовремя умри». — «Добро — в тревожно-жгучей мысли, / Что мало сделал ты добра». 1995 Публикуется по изд.: Новый мир. 1998. № 4.Марк Харитонов ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
27.02.79. Зашел к Копелеву, там был Искандер, лежала газетенка «Московский литератор» с откликами на «Метрополь». Полторы полосы дерьма, подписанного разными именами. Особенно меня огорчил Залыгин (почему-то я от него этого не ждал): он единственный обрушился на Попова, назвав его рассказы «стоящими вне литературы»; другие Женю не трогали. Откуда у этих людей уверенность в своем праве определять, кому жить в литературе, кому нет? Рассказы самого Залыгина в последней «Дружбе народов» не выдерживают никакого сравнения с рассказами Попова, это очень слабая литература — но мне в голову не придет запретить Залыгину печататься. Розов: «Мы, конечно, не можем этого напечатать». Мы! Михалков: «Писатели союзных республик, которых переводил Липкин, задумываются, не поискать ли им другого Липкина». Какая уверенность, что всегда найдется другой Липкин! И антисемитизмом, конечно, попахивает… 30.10.80. В «Иностранной литературе» читал корректуру своей рецензии, потом к Копелеву. Там были Липкин с Лиснянской… Разговор о визите Кани в Москву. В Белоруссии якобы мобилизовали пять возрастов, ГДР закрыла границу с Польшей. Введут войска или нет? Если введут, будет мировая война. Хочет ли руководство войны? Я сказал, что нет. «Мне кажется, вы относитесь к этим людям (руководству), как Толстой к своему Холстомеру, — возразил Липкин. — Вы приписываете им человеческие чувства. А у них логика другая, не человеческая». — «Инстинкт самосохранения — это не человеческое чувство», — заметил я. Рая пригласила меня поехать с ними — к Светлане, на их проводы. Было много знаменитостей: Битов, Ахмадулина, которую я видел впервые (с Борисом Мессерером, ее нынешним мужем, очень симпатичным человеком), Окуджава, Войнович, Даниэль. Читали стихи на пленку. <…> Ну что ж, для вечности, из разговоров. Липкин спросил у Комы, почему Христос молился «авва отче», т. е. два раза на двух языках произнес одно и то же слово? Кома отвечал, что это сложный вопрос: на каком языке говорил Христос? Вероятно, на арамейском; возможно, где-то существует подлинник Евангелия на древнееврейском языке. И перед смертью, обращаясь к отцу, он вспомнил язык своего детства, а в Евангелии эти слова растолковали для читателя, который этого языка уже не знал, т. е. дали сразу и слово, и перевод… 24.06.81. …Из рассказов Липкина. «Когда Анна Андреевна хлопотала за Бродского, она обратилась за помощью к Наровчатову. Тот, конечно, не помог. Меня это очень удивило. Он тогда не был даже влиятельной фигурой, так сказать, подполковник, но не генерал. Я спросил ее, почему она все-таки обратилась к Наровчатову? И знаете, что она мне ответила? „Он красивый“». 27.01.87. Утром пришел журнал с поэмой Твардовского «По праву памяти» — о ссыльном отце, о Сталине. Увы, это не стихи свободного человека; отсюда все остальное. Вчера на ночь я перечитывал «Декаду» Липкина, в сопоставлении это особенно отчетливо… 25.04.88. Утром поработал над гл.8, очень отвлекался. Позвонила Инна Лиснянская, я поехал к ней и Липкину. Инна встретила меня очень нежно, расцеловались… Книг у них не предвидится: им не предлагают, они сами не ходят и не хотят. Все, что до сих пор было напечатано в журналах, — это по инициативе журналов. «Противно ходить, — сказал Липкин. — У меня тяжелый опыт. Моя первая книга вышла, когда мне было 56 лет». Сейчас оба переводят Кайсына Кулиева: нужны деньги… — Когда я пишу стихи, — сказал Липкин, — у меня хорошее настроение, а сейчас я перевожу, у меня тоска. Я перестал флотировать — знаете этот химический термин? Когда обогащают руду, доводят в ней содержание нужного металла с 30 до 60–70 %, этот процесс называется флотацией. Раньше он мне давался легко, а сейчас я перевожу, лишь бы имело вид. Но это не съедобно… По его сведениям, на июнь общество «Память» обещает еврейский погром. «Значит, они чувствуют покровительство. Погромы всегда происходят под покровительством властей. Потому что погромщики трусы». И он рассказал историю погрома, который устроил в Одессе атаман Григорьев. Их предупредил о нем старый знакомый, городовой. Он уже предупреждал его отца, социал-демократа-интернационалиста, закройщика, когда к нему должны были прийти арестовать. Значит, городовой знал, и власти знали. Они прятались в подвале у мадам Шестопал, владелицы магазина церковной утвари. «Но это был уже не 1905 год. Евреи организовали отряды самообороны, на Молдаванке шла стрельба, и до нашего квартала просто не дошло». Рассказывал, как встречался с Клюевым в доме Клычкова. Его приводил Мандельштам. (Наверно, об этом он сейчас пишет в воспоминаниях.) Клычков объявлял, что еврей не может быть русским поэтом. Немецким, французским, каким угодно, но русской страны он по природе не может понять. «Он не был антисемитом, но таково было его убеждение. И любопытно, что Клюев ему возразил. Нет, сказал он, а чей был сын тот, кто „в рабском виде исходил, благословляя“ нашу землю? Жидовочки». «Мандельштам, — говорил Клюев (коверкая эту фамилию), — поэт, а Пастернак (тоже коверкая) — спичечный коробок, но без спичек». Рассуждал о национальных проблемах. — Я считаю, что империя обречена на распад. Когда-то в Средней Азии к русским относились хорошо, по крайней мере интеллигенция. Но все время росла ненависть к русским. Особенно после коллективизации. В Средней Азии многие бедняки имели большие участки земли. Главное — вода, орошение. И много было скота, особенно в Казахстане. Там бедняк-бедняк имел 200 овец. Их всех сослали. И знаете, большую роль, как ни странно, сыграл пример Израиля. Хотя, казалось бы, это враг мусульман. Но они видели: маленькая страна на полупустынной земле сумела устоять против более многочисленного и сильного врага, и живет неплохо. Там через бухарских евреев многие имеют родственников. А бухарские евреи породнены с узбеками, таджиками. К евреям в Средней Азии лучше относятся, чем к русским. Я объясняю это чисто марксистски. Русские и евреи пишут для них диссертации. Сами они ничего не могут написать, даже по гуманитарным наукам, не говоря о математике или физике. Но русский, написав кандидатскую диссертацию, требует для себя докторскую или высокую должность — там для них предусмотрен определенный процент. А евреи знают, что ни на что не могут претендовать. Разве что напишут свою кандидатскую — если еще не кандидат. Или проще всего деньгами. Или попросит устроить дочку в медицинский институт. С ними проще. Введение русского алфавита оказалось катастрофой, особенно для поэтов. Дело в том, что там стихосложение связано с тонкостями долготы и краткости, которые можно передать только арабским алфавитом. Там существует 90 основных размеров, их когда-то учили в медресе. Сейчас самый образованный поэт знает 3–4, ну 5 размеров. Я знаю один. Иранцы смеются. Об идише. Многие древнееврейские слова вошли в воровской жаргон. Например, хаза, шмон, мусор. Хохма — тоже древнееврейское слово, оно родственно имени Хикмет, что означает: мудрая мысль. А что такое душман? Враг. А басмач — следующий за зеленым знаменем мусульман. 31.10.88. Утром позвонила Милуша, встретились с ней в гостинице, зашли вместе в «Сов. писатель», я сдал верстку. Милуша передала мне рецензии на мои работы. Насколько я мог понять, пока речь идет лишь об издании «Иванов»… Потом — к Лиснянской и Липкину. Липкин утром был в «Дружбе народов», там планируют издать его «Декаду». Спросил, чем он занимается. «Во-первых, пишу стишки. А во-вторых, делаю странную работу: делаю по научному переводу Дьяконова поэтический перевод „Гильгамеша“. Без всякого заказа. Эта работа вряд ли будет напечатана, тем более Кома мне сказал, что Дьяконов считает свой перевод поэтическим. Но я давно это хотел сделать, уже несколько лет этим занимаюсь. Перевел из 11 песен (или таблиц, как правильно их называет Дьяконов) восемь. Пусть после моей смерти останется. Я ведь готовлюсь уходить. Это великое произведение, и оно много говорит моей семитской душе. Там много грубости, эротической грубости. Я придумал одно строфическое решение…» — «А мемуары?» — «Отложил. Я вдруг почувствовал, что многого не помню. Я хотел написать про встречу с Клюевым и вдруг почувствовал, что помню общее содержание его речей, но не помню конкретных слов. А у него очень своеобразная речь. Я сделал глупость, что в свое время не записал. Еще недавно, до операции, мне казалось, что я все точно помню. А после операции вдруг оказалось, что забыл…» 29.03.99. Разговор с С. И. Липкиным. Обсуждали недавние бомбардировки Югославии, резню, которую устроили сербы в Косове, говорили о национальных страстях и безумствах, о мусульманском самоощущении. Липкин: — Они все помнят, ничего не забывают. Был когда-то такой турецкий город Бердыш, там изготовлялось оружие, которое так стало и называться. Теперь это Бердичев… — Как, Бердичев был турецким Бердышем? Я не знал. — Но вы же знаете, что и Одесса была турецкой. Конечно, у них все это отвоевали, и сами турки завоевали полмира, переименовали Константинополь в Стамбул. Но они помнят, что и этот город принадлежал им… Я жил когда-то во дворе, превращенном в коммунальную квартиру, там обитали 60 семей, а когда-то дом принадлежал одному известному промышленнику… вот, с возрастом стал забывать фамилии… (Время спустя вспомнил и вставил: Гоншин. И он жалуется на память!) От этого семейства осталась в живых одна старуха, ее сын женился на женщине по фамилии Калинина и взял ее фамилию. Он совершенно не помнил о своем происхождении, и никто не знал, кому принадлежал этот дом. Но старуха помнила все подробности: вот здесь была столовая, в этой комнате детская, там комната для гостей, наверху жила прислуга. Помнила, что было во всех пристройках и надстройках. Она никогда этого не забывала. Так же и с национальной памятью… Я много бывал в разных наших мусульманских республиках, со мной и при мне говорили откровенно, я для них был не русский, а еврей. Я перевел татарский эпос «Едигей», его не разрешили печатать, я для татар был такой же пострадавший, как они сами. О русских все говорили с ненавистью. Никто не сделал для национальной вражды больше, чем большевики. До революции мусульманские и другие меньшинства готовы были жить с русскими, они были для них носителями высокой европейской культуры, через Россию был выход в мир. Революция все это уничтожила. Ленин ничего не понимал в национальных делах, и они его не интересовали, но Сталин очень хорошо в этом разбирался, умел натравить один народ на другой; взаимная вражда помогала держать в руках власть. Это для нас церкви уничтожали большевики, для мусульман мечети и медресе уничтожали русские, они запретили священные книги на арабском языке, ввели кириллицу, которая совершенно не была приспособлена к фонетике их языков. Вслух они могли говорить что угодно, но память о религиозных святынях молча хранили… Я знаю, как хоронили Рашидова, узбекского партийного секретаря, члена Политбюро. Его хоронили как положено; приехала из Москвы делегация, тоже какой-то член Политбюро, похоронили по-язычески, возле здания республиканского ЦК. А ночью могилу раскопали, надели на труп чалму, халат, прочли, как полагается, молитву и закопали снова… — Я никогда об этом не знал. (И странно, что никто не написал сейчас.) — А вы и не могли этого знать. Этого никто не знал. Мне рассказывала вдова Рашидова. Я был знаком с его семьей… Или возьмите Дагестан. Там живут 30 наций. И было твердо установлено: первым секретарем ЦК должен был непременно быть аварец. Аварцы — самый многочисленный народ Дагестана. Но если дочь первого секретаря хочет поступить в университет, то и ректором университета должен быть аварец. Значит, если лезгин или кумык хочет устроить ребенка в университет, он должен идти к аварцу. Так устанавливается национальная неприязнь. Лезгины живут на границе с Азербайджаном, говорят на тюркском языке. Они ведут речь о создании особой республики, лезгинской. И есть маленькая народность, таты, их тысяч 10. Это горские евреи, иудейского вероисповедания, и внешность характерная, иудейская. Они были знаменитые виноделы. Дагестанские коньяки — это их изделия, мусульманам пить вино запрещено. Лезгины призывают татов присоединиться к своему Лезгинистану, преследуют, избивают. Многие уже уехали в Израиль, но кто-то остался. Или кумыки. Когда в Дагестан переселились чеченцы-агинцы, они выселили кумыков, жителей равнины, им теперь негде жить, они живут у родственников, кто где может. И так везде. Эти межнациональные разногласия при общей вражде к русским в конце концов непременно взорвут Россию, я не вижу другой перспективы… — Но вот Фазиль Искандер мне рассказывал, как у них в одном дворе жили мингрелы, греки, абхазцы, жили друг с другом мирно, знали на бытовом уровне какие-то слова из языков друг друга — Фазиль тоже немного знал. — Фазиль прав в отношении одного маленького двора, но он упускает из виду одно обстоятельство: он принадлежал к титульной нации. Это очень важно. Во дворе надо жить мирно друг с другом, не воевать же. Но с какой-то мелочи могут начаться конфликты. Вы знаете, как начались события в Абхазии? Один грузинский профессор написал научную статью — совершенно правильную, — где рассказывал, что абхазцы, входившие в более обширное семейство адыгов, переселились на свою нынешнюю территорию в XVII в. Абхазцы утверждали иное, они ссылались на Геродота, который будто упомянул их в качестве древних жителей этой местности. И вот в селе Лыхны — это своего рода священное место для абхазцев — началось стихийное возмущение, демонстрации, в грузин стали кидать камнями… А потом и пошло. (И сербы, и албанцы жили вроде бы мирно, подумал я, а теперь режут друг друга.) — А вы ждали такого развития событий лет 30–40 назад? — спросил я. — Мне казалось, человечество в конце тысячелетия становится более единым, современная цивилизация уменьшит национальную рознь. Живут же в других странах люди разных наций? — Я ждал, потому что я много имел дела с разными народами. Я их переводил, я знал, какая в них кипит ненависть. В 1946 г. я попал в Киргизию, я переводил «Манаса», и там встретил своего старого знакомого Кайсына Кулиева. (Назвал еще одно, менее известное мне имя, я забыл.) Их народы были сюда высланы. Они привели меня к себе домой. Я говорил с людьми, которые были со мной откровенны, — я для них был не русский, а еврей. Удивительно: вернувшись в Москву, я рассказал об этом Василию Гроссману. Вы знаете, что это за человек. Мы тогда были еще на «вы». И когда я ему рассказал о том, что увидел, он в сомнении проговорил: «Но, может, это было вызвано военной необходимостью?» — Гроссман?! — воскликнул я. — Да. Я ему ответил: я посмотрю, что вы скажете, когда так же будут высылать евреев. «Высылать евреев в нашей советской стране?» — «Да, в нашей фашистской стране». — Вы уже в 46‑м году могли сказать о нашей стране «фашистская»? — Да, я уже многое понимал. Может, на меня влияли воспоминания. Мой отец был меньшевиком. Я многое видел. В 43‑м году, уже после Сталинградской битвы и Курской дуги, в августе или начале сентября, сейчас точно не помню, нас, военных журналистов, собрали в ЦК. Выступал Щербаков. Он стал говорить, что в войне произошел перелом, мы движемся на запад, и надо немного изменить характер наших газет, помещать в них иногда веселые, развлекательные материалы, шутки, чтобы солдаты могли посмеяться. «Но только без одесщины», — погрозил он пальцем. И когда началась кампания против космополитов, появилась статья «об одной антипатриотической группе литературных критиков», Гроссман позвонил мне и сказал: «Сволочь, ты оказался прав…» Память важна для всех народов. Вы знаете, что у Ленина один дедушка по матери был еврей, а одна бабушка по отцу была калмычка? Она была дочерью купца третьей гильдии по фамилии Карпов — ну, он, как отец Чехова, содержал в Астрахани небольшую лавочку. У Ленина была некоторая слабость к калмыкам, он ведь помнил бабушку. У него есть известное обращение к калмыкам. Калмыки тоже были разные. Есть калмыки-буддисты, и были еще астраханские калмыки, они входили в Астраханское казачье войско. Когда калмыков выслали, часть их территории передали Астраханской области — это как раз те прибрежные области Каспийского моря, где получают богатую осетровую икру, вы знаете эти астраханские баночки. Ну, отняли землю так отняли, уже ничего не поделаешь. Но когда калмыки вернулись из ссылки, они решили обратиться в Астраханский обком партии, чтобы те установили мемориальную доску на лавке бывшего купца Карпова: «Здесь родилась бабушка Владимира Ильича». Лавка сохранилась, мне ее показывали. Маленькая лавка, похожа на одесскую Молдаванку. Вроде бы верноподданническая коммунистическая идея: речь все-таки о Владимире Ильиче. Астраханский обком подумал-подумал и в просьбе отказал. Калмыки возмутились, написали письмо в Центральный комитет. Те тоже подумали — и тоже отказали. Калмыкам пришлось проглотить — но они и этого не забыли. Это же для них гордость: большевик не большевик, им все равно. Но бабушка Ленина была наша, пусть и православная, это неважно. Интересное замечание. Я упомянул, что эпизод на близкую тему есть в моем эссе «Три еврея»: про то, как Карабчиевский оказался свидетелем неприязненного суждения о русских и на вопрос: а вы кто? — после раздумья ответил: «А вот не скажу». — Он так ответил? — удивился Семен Израилевич. — Не знаю, как это звучало для армян, но для мусульман это было бы оскорблением. Так нельзя отвечать… Разговор с С. И. навел меня на грустные мысли об угрозе распада России. Слишком много натворили глупостей и преступлений, нет ни способностей, ни воли что-то исправить, и развитие в мире (особенно в такой его части, как наша страна) не слишком подчиняется сознательным, целеустремленным усилиям, тем более представлениям таких миролюбивых идеалистов, как я. <…> Беда не беда, но скольким конкретным людям это будет стоить жизни, сколько принесет страданий, крови, утрат, переселений! Такое повторялось множество раз в 1000-летней истории человечества. Но как странно думать об этом на пороге третьего тысячелетия после Рождества Христова! Я опять чувствую себя идеалистом, витающим в сферах духовных. С. И. Липкин превосходно чувствует житейские измерения жизни — той, что происходит во дворах, в семьях, в образованиях «племенных». Я, впрочем, тоже это чувствую — все-таки писатель, прозаик, но иногда забываю, что разумно мыслящие люди — везде в меньшинстве. Я не любил воплей о «русофобии» — она приписывалась почему-то евреям. Нет. Если не говорить о сионистах, которые могут просто уехать, евреи вроде меня принадлежат русской культуре более реально, чем я отдавал себе в этом отчет. Но русофобия существует. 30.03.99. С. И. Липкин заметил, что не считает себя образованным человеком. А если хоть немного и образован, то обязан этим прежней гимназии, в которой проучился полтора года. Это он-то, переводивший с персидского, тюркских и других языков, знающий народы, культуры, религии, он, великий знаток русской поэзии (и стихосложения), цитирующий наизусть поэмы! Конечно, этим он обязан самообразованию, он мог учиться у великих поэтов-современников, близко знал Ахматову и Мандельштама. Галя по этому поводу напомнила: ты же писал о нашем образовании: если мы что-то знаем, то вопреки ему. Нам пришлось еще многое отхаркивать. Да, подумал я, но вот наши дети — знают языки, бывали в других странах, сидят у компьютеров, они бесспорно образованней нас. А скажем, поэзия, знание которой Липкин считает одним из признаков культуры (допустим, хотя бы для своего цеха), для них не существует. Видимо, надо опять разделить понятие образованности и культурности. Массовая образованность нашего времени отличается от гимназической, но вряд ли верно считать ее более низкой. А вот культура?.. Липкин считает Есенина более культурным, чем Маяковский: у него не было образованности, но была связь с народной крестьянской традицией, а тот — просто городской дикарь. <…> 1.4.99. …Читаю Липкина. Он четко сформулировал главный интерес своей жизни: «И ныне меня по-настоящему, сильнее и прочнее всего интересуют, волнуют, мучают, восхищают только два нераздельных явления — Бог и нация». И это с раннего детства. А я о некоторых вещах начал думать сравнительно недавно. Грустно, что я в таком возрасте кое-что лишь начинаю понимать. Впрочем, эта грусть сопровождает всю жизнь, и если я лет через десять буду ощущать ту же грусть, значит, я еще живой… 10.4.99. …Я теперь почти не делаю записей о политических событиях — 10 лет назад записывал подробно, только вводить в компьютер теперь не хочется. Все это скоро исчезнет: скандалы, имена… Вечером позвонила Инна Лиснянская: договорить о Самойлове… Удивило, что она совершенно точно расшифровала упомянутые инициалы: это Межиров, это Винокуров, о Владимове не говорю. Потом передала трубку Семену Израилевичу. Его разговор я записал подробно на отдельном листе. Урок для меня: читая, делать пометки; это определяет культуру разговора о книге. И потом я полистал упомянутые им места моей книги — как бы его глазами. Не думаю, что из тщеславия — но это как бы делает более объемным ощущение литературы. «Ну вот, наговорили друг другу комплиментов», — закончил разговор Липкин. «Дело не в комплиментах, — искренне сказал я, — а в том, что такие разговоры — тоже душевное событие…» Немного работал. Читал «Записки жильца» Липкина: значительная книга… Между прочим, по-другому понимаешь собственное время: все нынешнее воровство, даже бандитизм все-таки больше человечны, понятны, чем абсурдная идеологизированная жестокость режима, которая превращала людей просто в подлое быдло. Об этом и многом другом я сказал Семену Израилевичу, позвонив ему по телефону. Спросил, насколько его мысль выражает один из героев, называя гениями лишь тех, кто понятны всем, как Гёте или Шекспир, в то время как великие, но не гениальные могут быть понятны немногим избранным? Он в ответ рассказал, как смотрел в еврейском театре Одессы переделку гётевского «Фауста» (и Шекспира тоже), как зрители плакали и смеялись. «Но ведь так же смеются и плачут над нынешними телевизионными сериалами, „мыльными операми“. И воспринимали они упрощенные переделки Гёте, самого Гёте они вряд ли могли понять. И разве Мандельштам — не гений, понятный немногим?» — «Нет, — сказал он, — Мандельштам не гений. У нас было три гениальных поэта: Пушкин, Лермонтов и Тютчев. Они понятны всем». Тут я возразил, что для понимания Пушкина понадобились годы, при жизни его не все понимали. «Надо подумать», — сказал он. Он читает сейчас биографию Тютчева, написанную младшим Аксаковым, там цитируется французское письмо, где Тютчев утверждает, что русский народ, как народ христианский, не может быть жестоким. А в 1918 г. крестьяне жестоко и бессмысленно разграбили его имение. Он ошибся. Хорошо, что я прочел его роман после мемуаров — стала заметна автобиографическая основа… Публикуется по изд.: Харитонов М. Стенография конца века. Из дневниковых записей. М., 2002.Олег Чухонцев ПОХВАЛА СОМКНУ ЛИПКИНУ
Мы собрались здесь по случаю вручения Пушкинской премии Семену Израилевичу Липкину. Я рад прежде всего за поэта, который по справедливости заслуживает высокой награды, рад видеть его друзей и почитателей и благодарю за предоставленную мне возможность сказать несколько слов о лауреате. Постараюсь по необходимости быть кратким и отсюда, из точки сегодняшнего торжества, окинуть хотя бы мельком труд поэта, обильный, как бы сказали древние, плодами и счастливо подтверждающий правоту слов, брошенных якобы Корнеем Ивановичем Чуковским и ставших крылатыми: в России надо жить долго. Но как вместить 65 лет непрерывного творческого труда в отведенные десять-пятнадцать минут, чтобы не упустить существенного, пометить вехи и хотя бы пунктиром — путь? Как втиснуть сложную духовную жизнь в жесткие рамки регламента? Придется ограничиться главной, стихотворческой ипостасью, а иного коснуться мимоходом — для полноты картины. Итак, обозначим начало, всегда важное для художника: в мартовском выпуске «Нового мира» за 1930 год, за номер, кстати сказать, до появления там вклеенного портрета Маяковского в траурной рамке, было напечатано стихотворение неизвестного 18-летнего поэта, подписанное «Сем. Липкин»: три восьмистрочных строфы, без названия: «С прогорклым, стремительным дымом…» — так оно начиналось. Это были, в сущности, поиски героя, вполне в духе тех лет, и хотя автор находил его (в данном случае ее) где-то «на дальнем глухом полустанке», где «милым домашним животным / Ложится у ног паровоз» и где «веселое стадо вагонов… / Пропитано салом добротным / И запахом девичьих слез», сама фактурность картины отдавала чем-то знакомым (романтическая школа Багрицкого, его земляка), как, впрочем, заявлен был и самобытный характер поэта с его вниманием к изначальным основам бытия. Стихи были замечены. Алексей Толстой, как со смущением поведал мне однажды автор, прислал редактору письмо, где среди всего им прочитанного отметил именно это произведение юного стихотворца. И, между прочим, поинтересовался, на свой, правда, лад: уж не жидок ли? Алексей Николаевич был человеком начитанным и мог бы вспомнить известные строки Цветаевой о поэтах «в сем христианнейшем из миров», чтобы не уничижать уменьшительно-ласкательным суффиксом это высокое звание. В дальнейшем следы оригинальных публикаций Семена Липкина случайны или прерываются вовсе и надолго: надвинулась самая темная полоса в русской жизни с террором и энтузиазмом. Лучшие поэты замолчали (для читателей) или ушли в перевод (для выживания). История любит шутить: 100-летие со дня гибели Пушкина на Черной речке оказалось воистину черным годом… Меня не удивило, а скорее поразило, что поэт, всерьез взявшийся переводить многострочный эпос народов Востока и классическую персидскую поэзию, для чего выучил фарси, в этом году заканчивает Московский инженерно-экономический институт. Очень характерная деталь. Как мастер стихотворного перевода, а занимался он этим годы и годы, вплоть до 1980, когда волею судьбы после скандала с альманахом «Метрополь» был отставлен от своего ремесла, Семен Липкин получил первоначальную известность и громкое последующее признание. Сто восемьдесят тысяч полновесных стихотворных строк только восточной классики (для сравнения: в «Илиаде» — 15 700, в «Одиссее» — 12 100 строк), страшно представить, полвека кропотливого труда, в котором нет мелочей, где сама форма восточного стихосложения с прихотливой строфикой и редифной рифмой чрезвычайно сложна, и все это передано полноценным стихом, а не ленивым прозаическим пересказом, как это принято по большей части у французов и англичан, — да за это одно Семена Липкина будут с благодарностью вспоминать поколения русских читателей, знакомясь с поэмами А. Фирдоуси и А. Навои, с калмыцким эпосом «Джангар», киргизским «Манасом» или кабардинскими «Нартами». А еще вольные переложения. А еще многочисленные переводы современных поэтов бывшего Союза, среди которых немало образцовых, например балкарского поэта Кайсына Кулиева. «Пропагандистом многонациональной советской литературы» — так, на своем языке, обзовет нашего лауреата КЛЭ. И обзовет справедливо. Это ли не творческий подвиг, скажем со своей стороны мы, как бы высокопарно это ни звучало. А теперь, потоптавшись на переводческом пятачке, сделаем шаг в сторону собственной поэтики Семена Липкина, в певучую сень ее железных лесов и мыслящего хлорофилла, в щелок и щекот речи. В чем своеобразие и сила его дара? — спросим себя. И тут мы замечаем, что при ясности картины нет вразумительного ответа, при внятности высказывания мы незаметно попадаем, едва последуем за поэтом, в заговоренный круг скрытых парадоксов, отчетливо чувствуя при этом некий непрямой, сокровенный смысл, явленный чаще всего в форме непосредственного впечатления, рефлектирующей мысли, а то и просто обмолвок или стихов на случай, которые так ценил еще Гете. В самом деле, поэт, по общему мнению, традиционного склада, причем традиции высокой, одической и элегической, хранитель ее храмового огня, Семен Липкин неочевидным каким-то образом примиряет в своем творчестве элементы и полюса разнородных и часто противоположных начал: почти научного историзма и вольного любомудрия, трезвости и патетики, едва ли не языческого жизнелюбия и религиозной кротости и покоя, очарованности жизнью и ужасом перед ней. Это поэт гармонических контрастов и динамической статики, поэт изначально и по преимуществу онтологический. В этом смысле он не только не оценен по достоинству, но и не прочитан.Отклики на 90-летие ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПРАЗДНОВАНИИ 90-летия СЕМЕНА ЛИПКИНА В МУЗЕЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
С. С. Аверинцев
Дорогой и глубокочтимый Семен Израилевич! К моему живейшему сожалению, мое бренное тело должно в это время находиться в другом пространстве, но я хотел бы, чтобы мой голос был там, где в этот день находится мое сердце, при этом празднестве. Я хотел бы выразить мою живейшую читательскую благодарность. Я всю свою жизнь Ваш читатель. Я полюбил Ваши стихи с первого взгляда, с самых первых, скудных, разрозненных публикаций. Я запоминал Ваши стихи наизусть и вспоминал их в вагоне метро и в других жизненных обстоятельствах, перебирая их снова и снова, строка за строкой. В позднее время к этому добавилось переживание личного общения с Вами. Это большая радость в моей жизни. Видеть Вас, видеть Инну Львовну, Ваш дом — это для меня радость. Ваши стихи — это стихи человека много пережившего, видевшего много бед, но это стихи, наполненные глубокой благодарностью. Ваши глаза прямо и бестрепетно смотрят на ужас мира, но Ваш взгляд претворяет все это в предмет для благодарности, в отражение Божьих слов о сотворенном мире: «Тов меод» («очень хорошо»). Бог увидел созданное и увидел, что оно было очень хорошо — тов меод. Это благодарное и просветляющее видение, которое не имеет ничего общего с подслащиванием и приукрашиванием жизни, как она есть. Это великое и редкое благо. Должен сказать, что от души удивился, прочитав в благожелательном отзыве поэта Юрия Кублановского замечание о том, что Вашей поэзии будто бы недостает юмора. Я редко встречал в поэзии наших дней такой глубокий юмор, соединяемый, — как и приличествует настоящему юмору, например, в Евангельских притчах, — с самой глубокой серьезностью, как в Вашем давнем уже стихотворении «Странники» с этой заключительной строкой: «Горе нам, не будет больше странствий». Вот эти люди, которые так скорбно жили в египетском рабстве, которые прошли через блуждания по пустыне 40 лет. И вот, наконец, они подходят к Земле обетованной, но их сердца не радуются, их сердца смущаются: «Горе нам, не будет больше странствий». Это очень глубокое слово о странностях человеческих чувств, и это слово очень серьезное, очень глубокое, но оно полно юмора. Юмора, призывающего нас, конечно, не к смеху, а к совсем другому, другой, более тонкой реакции. Спасибо за все. Спасибо за Вашу человеческую доброту, спасибо за верное и совестливое служение Вашему поэтическому делу, а за Ваше дарование благодарность отходит к Богу, к небесам. И от всего сердца желаю Вам жизни до библейского срока, 120 лет. Желаю Вам и прежде всего самому себе эгоистически желаю Ваших новых стихов. Желаю Вам сил. И, разумеется, невозможно желать, искренне желать Вам всякого блага, не распространяя этих пожеланий на Инну Львовну. Конечно, это может быть только так. Спасибо за все.Тода раба («Благодарю») Елена Чуковская и послание от Александра Солженицына
Дорогой Семен Израилевич! Думая о том, что Вам сказать сегодня, я, конечно, вспоминала все, что связано с Вами. И мне показалось, что просто Вы были всегда. Я вспоминала Ваши рассказы о войне, Ваши рассказы о Гроссмане, о Цветаевой, о Булгакове, Ваши приходы к нам в переделкинский Дом, ваши стихи об этом Доме, и просто ну вот многими годами жизни и памяти… как бы в память всех этих годов мне хочется Вас сегодня поздравить и сказать, какой радостью для нас всегда была дружба с Вами, для моей матери, и, наверное, для Корнея Ивановича. Здесь сегодня очень много сотрудников из музея Чуковского, которые, конечно, сами Вас поздравят, но все, весь наш Дом радуется Вашему празднику. Мне также сегодня поручено Александром Исаевичем Солженицыным прочитать его приветствие Вам, которое он написал, но, к сожалению, сам не смог приехать, поскольку он последнее время не очень хорошо себя чувствует. Вот я сейчас это приветствие прочитаю. Дорогой Семен Израилевич! Мы с Натальей Дмитриевной сердечно поздравляем Вас с Юбилеем выдающегося веса и отстоенной длительности. Восхищает Ваша способность всю жизнь держаться на духовной высоте, выше и вне потока интеллектуальной моды. Глубоко сострадая бедам людским и всего живого мира, Вы свою глубокую проницательность воплотили во многих Ваших стихах, ища и обнаруживая сокровенные законы бытия и иероглифы вещества, Вашими словами. Радует мудрое устояние достигнутого Вами познания. Светлого духа Вам и впредь. Ваш Солженицын.Юрий Кублановский
«Новый мир» поздравил в своем последнем номере Семена Изра-илевича. Всегда он наш желанный автор, безусловно. Но, действительно, поразительно, и, наверное, ведь впервые, это вообще в истории русской культуры, что мы празднуем 90-летие поэта. Такого не бывало никогда. Русские поэты мало живучи, ну за небольшими исключениями: Фет, Тютчев. Но до 90 лет не дожил никто, и в этом есть тоже величие Липкина как поэта. Он сумел выработать такой жизненный и творческий ритм, который помог ему просуществовать в течение всего этого страшного прошлого века. Быть может, отчасти код такого долгожительства в его превосходном стихотворении, одном из лучших стихотворений в русской лирике второй половины XX в. Я просто не могу его сейчас не прочитать.Евгений Попов
У меня получилось так, что я недавно впервые оказался в Сталинграде. Так вот, и я ходил по этому городу, и все время думал о двух людях, о Липкине и о Гроссмане. Потому что этот город их — они его воспели так, что имена их связаны неразрывно с этим страшным городом. До сих пор страшным. И я вспомнил другое, я вспомнил, когда мы познакомились с Семеном Израилевичем Липкиным, — здесь некая тема «Метрополя» возникает, — значит, мы взаимно ошибались. Потому что Семен Израилевич почему-то принял меня за нанятого рабочего, который клеит листы и выпивает портвейн между делом. А я почему-то принял его за переводчика с языков народов СССР и только. Ну, с помощью родной советской власти мы быстро разобрались, значит, что это все означает. И для меня беседы с Семеном Израилевичем в те годы — это вот были одновременно и как у Максима Горького, наверно, «мои университеты», и литинститут тоже. Учиться никогда не поздно, потому что… Тут уже я приступаю к теме уроков, которые он дал, Липкин, мне, а, наверное, через меня и всем нам. Потому что я часами слушал его, он знал всех писателей. Всех означает всех… я, допустим, называл имя малоизвестное абсолютно, мне Семен Израилевич тут же про него все рассказывал. Первый урок, маленький — то, что незначительных писателей нет. Есть или писатели, или не писатели. Это маленький урок профессиональный. А глобальные уроки, и о чем вот я думал тоже в Сталинграде, то я опять же для краткости скажу, что их три было. Первый, что есть Бог. Я окончательно укрепился в этом, общаясь с Семеном Израилевичем. Второй урок, что счастье возможно и на земле, а не только на небесах, очевидно. И третий урок, что нужно жить так, чтобы кто-то перед тобой был в неоплатном долгу. Вот я в неоплатном долгу перед Семеном Израилевичем, и он знает, и другие знают, о чем я говорю. Так что долг отплатить никак невозможно, можно только восхищаться. Я поздравляю Вас. Я так рад, что Вы здесь, и мы здесь, и то, что мы можем делать то, что мы делаем.Олег Чухонцев
Я не буду долго говорить, Семен Израилевич дорогой. Хотя бы потому, что большинство как бы находится в личных отношениях с Вами. Поскольку большинство присутствующих Ваших друзей находятся (повторяю) в личных отношениях каких-то, каждый сам по себе читатель, прежде всего, Ваших стихов, и поэтому у него свои отношения. Свое личное отношение к стихам и Вашей жизни я выразил когда-то в «Слове» о Вас. Но на то и… [Пролетает самолет.] С Туполевым не поспоришь, или с Ильюшиным, извините… Я скажу только две вещи, которые хотел Вам как-то сказать. Мы несколько лет назад, лет 20, в русском городе Ялте с Валей Берестовым как-то стали рассуждать, спорить о том, что было бы с русской поэзией, вообще с мировой поэзией, если бы человек жил долго. Ну, скажем, малый библейский срок, 120 лет, положим. Я подумал тогда, что, видимо, эпос победил бы лирику, но у нас не было ни одного эксперимента. Потому что великий цикл Вяземского — это чисто лирический выброс позднего Вяземского. Гете был в разных жанрах. И вот я рад, что Вы доказали, что лирика тоже имеет права в таком возрасте. Что с мудростью не потеряна наивность. Что со знаниями не уходит первичное отношение к жизни. Это одно, и вот это тот урок, который, как бы сказать, мне еще для размышления. А второе, я просто хотел сказать Вам лично корыстное спасибо за то, что Вы меня с Инной Львовной подкармливаете как соседа иногда, нас с женой, и за то, самое главное, что не так страшно жить в этом мире, пока Вы живы.Фазиль Искандер
Я очень рад вместе с собравшимися приветствовать Семена Израилевича за его прекрасную, мудрую поэзию. Он так широко раскинул свои поэтические сети, что туда, к счастью, попала и Абхазия. Я когда-то с невероятным восхищением прочел его поэму «Нестор и Сария». Нестор Лакоба был председателем Совнаркома Абхазии. В 1936 г. он был вызван — видимо, уже шли какие-то трения с Берией, — вызван в Тбилиси, и после какого-то очень горячего разговора в ЦК они окончательно рассорились, Лакоба ушел к себе в гостиницу, но потом, — так передают, — пришла жена Берии, позвала его: «Примиритесь вы», — говорит. Он отказался. Но потом пришла мать. И его патриархальное сознание тут не выдержало просьбы матери, и он пошел в дом к Берия, как будто, говорят, стоя выпил стакан вина, который оказался роковым — он был отравлен. Они пошли после этого в театр. В театре ему стало плохо. И как говорят, — шофер говорил, — он уже понял, в чем дело, в гостинице он по-абхазски говорил Црши, Црши — Меня убили, меня убили. Он был отравлен. Я смутно помню похороны Лакобы. Огромная толпа. Похоронили его с почестями. Объявили, что умер от внезапной грудной жабы. В ботаническом саду. А буквально через несколько месяцев начались ужасающие процессы в Абхазии, где все ведущие работники были арестованы и все они, конечно, под пытками, признались в том, что Лакоба был якобы турецким шпионом, и только жена его, она до конца осталась верной памяти мужу, и несмотря на самые мучительные пытки. Это уже было в Тбилиси, и там вместе в камере с ней были грузинские женщины. Но и потом оставшиеся жить рассказывали, как ее без сознания вбрасывали в камеру. Дальше уже некоторым образом, может быть, и легенда, а может, и нет. Она сказала, что я все вынесу, кроме вида змей. Ее поместили в какую-то особую камеру, где были змеи, и она сошла с ума. То, что сошла с ума, — это объективно. И умерла в тюремной больнице. И вот этой удивительной женщине… Тут тоже не нашлось ни единого человека. Конечно, наверное, процессы имели свою хитрость. Те, кто оказались упорными и крепкими, их и вообще не допускали до процессов. Так что мы вообще не знаем, были ли люди с большой твердостью, которые не дошли до процессов. Но вот эта женщина героическая, она все вынесла. И Семен Израилевич прекрасно об этом написал. И я вспоминаю, там есть одно совершенно изумительное место, я бы сказал, даже какое-то поэтическое новаторство, потому что я никогда в жизни не помню, чтобы простое перечисление людей, которых брали, то есть в этом перечислении полный хаос, ни по каким признакам, а просто. И этот поток хаоса, который, как будто бы поэт просто перечисляет, превращается в грандиозный какой-то плач по тому, что случилось. Это читать страшно и в то же время вдохновляет, что можно видеть правду даже в самых ужасающих ее выражениях и встать над этой правдой, и как-то закрепить в себе человека. Все это я ощутил при чтении этой поэмы, и других поэм, и бесчисленного количества прекрасных стихов. Действительно, тут было сказано, что мы не помним ни одного большого русского поэта, который дожил бы до этого возраста. <…> Я полагаю, то, что Семен Израилевич достаточно рано религиозно созрел, помогало ему все видеть, но быть сильнее увиденного. Дай Бог, чтобы все его читатели этот урок осознали и плодотворно для себя и для своих близких переварили его. А Семену Израилевичу и нам я желаю, — дай Бог! — еще много юбилеев и встреч. Публикуется впервые. Расшифровал Д. Полищук.Лев Лосев <СЕМЕН ЛИПКИН> Человек дня
Ведущий итогового информационного часа Андрей Шарый: 19 сентября — поэт и переводчик Семен Липкин, 19 сентября ему исполняется 90 лет. Семен Липкин родился в 1911 г. в Одессе, закончил Московский инженерно-экономический институт, публиковался в газетах и журналах. С 1934 г. занимается литературными переводами с восточных языков. Липкин перевел несколько народных эпосов, поэмы Фирдоуси и других авторов. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденами и медалями. В 1981 г. вышел из Союза писателей СССР, в 1986 г. восстановлен. Семен Липкин — автор книг «Сталинградский корабль», «Декада», сборников стихов «Лира», «Письмена», «Очевидец», «Перед заходом солнца» и др. Женат. Человека дня «Радио Свободы» представляет поэт и профессор литературы Дартмундского колледжа Лев Лосев. Лев Лосев: Липкин — поэт высокого класса. Да и проза у него отличная. Я узнал его стихи поздно, в конце 70‑х годов, когда работал в издательстве «Ардис», где Иосиф Бродский подготовил и выпустил большой сборник стихов Липкина «Воля». Помню, я спросил у Бродского: «Он же, кажется, переводчик с восточных языков?» «Замечательный поэт», — ответил Бродский и оказался прав. Кстати сказать, Бродского познакомила с поэзией Липкина Ахматова, так что эстафета, по которой до меня дошли эти стихи, внушает почтение. Замечательно, конечно, и то, что Липкин — абсолютный рекордсмен человеческого и творческого долголетия в русской, да и мировой поэзии. Из поэтов его уровня в России Петр Вяземский дожил до 86 лет, а в Америке — Роберт Фрост до 89. Что и побудило меня сочинить к юбилею вот такой стишок:Андрей Немзер ПРАЗДНИК НА ПУШКИНСКОЙ УЛИЦЕ
Сегодня поэту Семену Липкину исполняется 90 лет. «Меня с детства таинственно притягивали к себе, страстно волновали Бог и история, то есть Бог и его подобия, и не только Бог Ветхого Завета, но и трехипостасный Бог Евангелия, и смутное, темное приближение к Создателю чувствовалось мне в пантеонах языческих богов Греции, Ассиро-Вавилонии, Египта <…> По правде говоря, я и теперь недалеко ушел от поэтических, философских вопросов моего детства, и ныне меня по-настоящему, сильнее и прочнее всего интересуют, волнуют, влекут, мучают, восхищают, обвораживают только два нераздельных явления — Бог и нация. О них я начал сочинять стихи в семь лет, о них я пишу и в семьдесят…» Мемуарный очерк Семена Израилевича Липкина называется «Пушкинская улица». Пушкинская — это улица в многоязычной Одессе, на которой в 1911 г. родился мальчик Сема. А еще это улица Пушкина, дорога, угаданная отроком, путь, с которого не свернул старейший русский поэт. «Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия (Ветхий и Новый Заветы), „Илиада“ и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина?» Так просто и естественно верить в единство Красоты и Истины может лишь тот, кто сердцем уразумел библейский стих: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Потому и мысль о Боге неотделима от мысли о человеке, грешном, порой преступном, но созданном по образу и подобию Божьему. И от мысли о нациях, разделивших Адамов род, но — всякая по-своему — хранящих отблеск небесного огня. Счастье дольнего мира в его многообразии, предвещающем будущее единство. Счастье поэта — открывать это многообразие, сохранять его словом от дьявольской силы, что стремится превратить живой многоцветный мир в серую пыль. И еще — угадывать недоступное и вожделенное единство, делать его ощутимым для смертных. Не случайно в воспоминаниях и размышлениях Липкина много раз проникновенно цитируется строка Жуковского «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Сосредоточенное восхищение самыми разными национальными культурами, влюбленность в те поэтические традиции, что постигал Липкин-переводчик, естественно отражаются в его доверии к человеку, завороженности неповторимой личностью, будь то «простые» герои липкинских стихов или великие поэты, с которыми сводила его судьба. Не понаслышке зная, сколь сильно, безжалостно и коварно зло, многократно обращаясь к сюжетам геноцида, террора, растления человека, поэт сохранил «наивную» веру — ту самую, что входила в состав его души при чтении Библии, Гомера, Пушкина. Он ушел от страшного и «убедительного» соблазна XX в. — соблазна разочарования в Красоте и отказа от творчества, якобы бессмысленного перед лицом тотального зла. Его стихи писаны именно что «после Освенцима» и при твердом знании: мы не застрахованы от повторения ужасов большевизма и нацизма. «Тропою концентрационной, / Где ночь бессонна, как тюрьма, / Трубою канализационной / Среди помоев и дерьма, // По всем немецким и советским, / И польским, и иным путям, / По всем печам, по всем мертвецким, / По всем страстям, по всем смертям, — // Я шел. И грозен и духовен / Впервые Бог открылся мне, / Пылая пламенем газовен / В неопалимой купине». Или, как сказано в финале повести «Записки жильца», «страдание не устало, страдание шествует вперед». Явив своей долгой жизнью пример редкого личного благородства, Липкин, кажется, никогда не чувствовал себя героем и жизнетворцем. «Век сумасшедший мне сопутствовал, / Подняв свирепое дреколье, /Ив детстве я уже предчувствовал / Свое мятежное безволье. // Но жизнь моя была таинственна, / И жил я, странно понимая, / Что в мире существует истина / Зиждительная, неземная, // И если приходил в отчаянье / От всепобедного развала, / Я радость находил в раскаянье, / И силу слабость мне давала». Смирение вело к оправданию бытия. На житейском уровне это позволяло претворять «заказную работу» — переводы народных эпосов и восточных стихотворцев — в высокое, счастливое и свободное служение. Сознание собственной правоты, осмысленности дела, радость творческого труда страховали от «комплекса обиженного». В литературных мемуарах Липкина представлено изрядное количество мерзавцев (жизнь материалом обеспечила), но почти во всяком автор находит симпатичные черты. Исключения, конечно, есть, но все-таки: М был талантлив, N образован, X разбойничал лишь по указке свыше, Y свято верил в мудрость властей, a Z мучился из-за собственной пакостности. Признать окончательную победу зла, поставить крест на истории или отдельном человеке, отказаться от «объемного», понимающего и милосердного взгляда на мир, значит подыграть тому, кто неутомимо клевещет, провоцирует, толкает к отчаянию и стремится утвердить свою мертвую ложь, отнять у нас Библию, Гомера, Пушкина, веру в Красоту, равную Истине. Капитуляция для Липкина невозможна. Ни прежде, ни теперь. Порукой тому тихий диалог стихов, соседствующих в одной из его недавних подборок. «Ветерок колышет ветки / Молодой оливы, / Я сижу в полубеседке, / Старый и счастливый. // Важных вижу я прохожих / В шляпах и ермолках, / Почему-то чем-то схожих / С книгами на полках. // Звук услышан и оборван, — / Это здесь не внове: / За углом автобус взорван / Братьями по крови». Если взрывы гремят на Святой Земле, если вновь повторяется Каинов грех (братство евреев и арабов не абстракция, но факт священной истории), если книги, хранилища мудрости, обречены небытию, как похожие на них люди, то чего стоит счастливая, блаженно легкая старость? Все так, но… «Проснусь, улыбнусь наяву: / Оказывается, живу! / В окне ветерок так прилежно / Качает листву. // Неспешно в осеннем саду / Неровным асфальтом иду, / Упавшие с дерева звезды / Желтеют в пруду. // Настойчива дней череда, / Придут в этот сад холода, / А звезды взметнутся на небо, / Блестя, как всегда». И ветерок тот же, что играл ветвями оливы, и осень расправляется с жизнью-листвой, и не за горами смерть в маске зимы, а звезды остаются звездами, поэзия — поэзией, свет — светом. Для киргизов и эллинов, калмыков и иудеев, поляков и монголов, армян и узбеков. Для всех, кому дорога та улица, что по-русски называется Пушкинской. На этой улице сегодня праздник. Публикуется по изд.: Время новостей. 2001.19 сент.№ 171.Михаил Синельников ТАИНСТВЕННЫЙ ХОРИСТ
К 90-летию С. И. Липкина
Личное знакомство с Семеном Израилевичем Липкиным у меня состоялось ровно 30 лет назад в долгий и незабвенный вечер. К известнейшему переводчику и малоизвестному в то время поэту я, довольно молодой стихотворец, пришел по совету Межирова, увлеченно прочитавшего мне лучшие стихи Липкина наизусть — впечатление было ошеломляющее. Кроме того, я понял, что все это мне близко и по некоторым биографическим обстоятельствам… Липкин, очень проницательный и вместе с тем несколько настороженный, затаенный, видимо, не часто принимавший юных авторов, говорил со мною приветливо, слушал внимательно и смотрел изучающе. С годами наши отношения с Семеном Израилевичем стали теснее, а с какого-то времени осмеливаюсь себя назвать одним из друзей нашего замечательного современника… Иногда С. И. иронизирует, что я пришел к нему, не зная его произведений. Конечно, многого я знать не мог и с обширным корпусом стихов и поэм смог познакомиться только после известной истории с «Метрополем», когда все карты были открыты и за границей вышло избранное Липкина с почтительным предисловием Иосифа Бродского. Все же утверждение, что раньше я не знал ничего, не совсем верно. Переводы липкинские из классиков Востока я читал в детстве. Стихи, какие попадались в периодике, запоминал. Правда, очень сильного впечатления они не производили. Но вот то, что было прочитано Александром Петровичем Межировым, не только открыло мне крупного поэта и дало представление о его судьбе, но одновременно ослепило, как сноп огня, высветило мою собственную жизнь. Кажется, я не преувеличиваю. Ведь стихотворение «На Тянь-Шане», написанное Липкиным в 1948 г., - это повесть не только об участи встреченного в киргизском городке пожилого единоверца, но вместе с тем (странным образом) — рассказ о моем младенчестве, о детстве, проведенном в Ферганской долине. Вот в таком туземном городке. Детскими глазами я видел таких же персонажей и подобные обстоятельства…
Отклики на смерть
ПАМЯТИ СЕМЕНА ЛИПКИНА Отечественная поэзия понесла невосполнимую, большую потерю. На 92‑м году жизни скончался Семен Липкин, выдающийся наш поэт, переводчик, знакомец Мандельштама, Багрицкого, Заболоцкого, друг Ахматовой и Тарковского. В своей простой и мощной поэзии Липкин совмещал, кажется, несовместимое: лиризм и эпику, гражданский пафос и взгляд на мир «со звезды». Участник войны, в начале 1960‑х годов он пишет яркую и проникновенную поэму о войне «Техник-интендант», которую Анна Ахматова считала в числе лучших на военную тему в русской поэзии… В советские времена Липкин жил за счет переводов, но относился к переводческой деятельности не как к кормушке, но как к полноправной культурной деятельности. Уже на исходе шестого десятка поэт выходит из Союза писателей, том его стихотворений с эмблематичным названием «Воля» выпускает Иосиф Бродский в Америке. В последнее десятилетие Липкин широко печатается на родине, публикует не только лирику, но и прозу, и воспоминания, и переложения древнего эпоса «Гильгамеш». В одном из своих лучших стихотворений середины 1970‑х годов Липкин писал:Андрей Немзер «ИСПОЛНЕН ДОЛГ, ЗАВЕЩАННЫЙ ОТ БОГА»
Умер Семен Израилевич Липкин. Он прожил 91 год, шесть месяцев и 12 дней. «Тропою концентрационной, / Где ночь бессонна, как тюрьма, / Трубою канализационной, / Среди помоев и дерьма, // По всем немецким и советским, / И польским, и иным путям, / По всем печам, по всем мертвецким, / По всем страстям, по всем смертям, — // Я шел. И грозен и духовен / Впервые Бог открылся мне, / Пылая пламенем газовен / В неопалимой купине». Здесь можно остановиться, ибо, хотя написанное в 1967 г. стихотворение и называется «Моисей», поэт — с полным правом — говорил здесь о себе. Итоговая книга Липкина называется «Семь десятилетий» — страшно подумать, что уложилось в этот временной интервал. Поэт воочию видел море зла, горя и человеческой скверны — он не по слухам знал, что такое страх и отчаяние, что такое ад на земле. «Смятений в мире было много. / Ужасней всех, страшней всего — / Две ночи между смертью Бога / И воскресением Его. // И ужас в том, что в эти ночи / Никто, никто не замечал, / Как становился мир жесточе / И как, ожесточась, мельчал. // Верблюжий колокольчик звякал, / Костры дымились вдалеке, / А мертвый Бог уже не плакал / На местном древнем языке. // Но мир по-прежнему плодился / И умножал число вещей… / Я тоже, как и вы, родился / В одну из тех ночей». Брошенный в ночь, он не подчинился тьме, ибо не поверил в ее беспроглядность, сердцем оспорил ее наглую, безжалостную и самоуверенную «неодолимость». Он был верен завету. «Если в воздухе пахло землею / Или рвался снаряд в вышине, / Договор между Богом и мною / Открывался мне в дымном огне. // И я шел нескончаемым адом, / Телом раб, но душой господин, / И хотя были тысячи рядом, / Я всегда оставался один». Понятно, что не только о войне идет речь в восьмистишии 1946 г. Открыв в себе свободного человека, ощутив неразрывность своей связи с Богом, Липкин сумел быть поэтом «после Освенцима». Его чувство единства человеческого рода и человеческой истории было неотделимо от верности своей стезе — стезе слышащего божественный глагол, что таинственно претворяется в слово поэта. «Слышишь медных глаголов дрожанье? / Это римские речи звучат. / Сотворили-то их каторжане, / А не гордый и грозный сенат. // Отгремел, отблистал Капитолий, / И не стало победных святынь, / Только ветер днестровских раздолий / Ломовую гоняет латынь. // Точно так же блатная музыка, / Со словесной порвав чистотой, / Сочиняется вольно и дико / В стане варваров за Воркутой // …Он поет, этот новый Овидий, / Гениальный болтун-чародей, / О бессмысленном апартеиде / В резервацьи воров и блядей. // Что мы знаем, поющие в бездне, / О грядущем своем далеке? / Будут изданы речи и песни / На когда-то блатном языке». Поэзия — вопреки вавилонскому разделению языков и канонизированной XX веком идее принципиальной замкнутости культур — служит человеческому единению. С. И. был Переводчиком (здесь это слово уместно писать с заглавной буквы) не потому, что советская нежить не пропускала к читателю его стихи. (Зарабатывать на жизнь, сочиняя в стол, можно было и иными способами.) Он был Переводчиком, потому что с детских лет равно пленился Библией, Гомером в великих переложениях Гнедича и Жуковского и Пушкиным, потому что ощущал необходимость по-русски выговорить то, что жило в народных эпических поэмах и созданиях великих классиков Востока, потому что в собственных стихах и прозе вдохновенно и по-колдовски убедительно воссоздавал неповторимый лад «чужих» миров. Он был Переводчиком, потому что был Поэтом. Он помнил, что слова о единстве «своего» и «чужого» принадлежат тому же великому наставнику русской поэзии, что замкнул гениальный перевод средней немецкой драмы своей бессмертной формулой «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Поэзия оставалась с С. И. до последних дней — как до последних дней с ним оставалась его воистину счастливая любовь. Любовь эта принесла счастье и нам — счастье читательской сопричастности торжественному, полному нежности и страсти, просветленному и просветляющему собеседованию поэтов — Инны Лиснянской и Семена Липкина. Помянув в стихотворении «Квадрига» (1995) ушедших друзей, Липкин как выдохнул: «А мне, четвертому, — ломать / Девятый суждено десяток, / Осталось близких вспоминать, / Благословляя дней остаток. / Мой путь, извилист и тяжел, / То сонно двигался, то грозно. / Я счастлив, что тебя нашел, /Мне горько, что нашел так поздно. / Случается, что снится мне / Двор детских лет, грехопаденье, / Иль окруженье на войне, / Иль матери нравоученье, / А ты явилась — так во сне / Является стихотворенье». Здесь, опять как у Жуковского, горнее сливается с дольним, жизнь — с поэзией. Иначе для Липкина быть не могло: поэтому прозревал он в расстрелянной еврейке и изнасилованной русской девчушке черты Богородицы, поэтому за земными болями и печалями видел красоту и величие человеческого духа, поэтому не отделял неизбывного для нас страдания от нашей же благословенное ™. «Пусть три тысячи двести над уровнем моря, / Пусть меня грузовик мимо бездны провез, / Все равно нахожусь я на уровне горя, / На божественном уровне горя и слез. // Потому-то могу я с улыбкой утешной / На мгновенье в душе отразиться больной, / Потому-то, и жалкий, и слабый, и грешный, / Я сильнее Кавказа, Кавказ подо мной». Так он чувствовал, так жил, так писал. С уходом С. И. осиротели не только его родные, друзья, знакомцы, читатели… Мир стал беднее и немощней. И нужно то великое мужество свободы и надежды, которым обладал Липкин, чтобы сейчас всерьез проникнуться духом его поздних — пасхальных — стихов. «Прошедшее в тумане / Давно затаено, / А я воспоминаний / Пью горькое вино. // Как в день пасхальный, — свято, / Оно и есть любовь / К тем, кто ушел когда-то / И не вернется вновь. // Когда чутье утрою, / Чуть-чуть, едва-едва, / Я слышу их порою, / Но только не слова: // Они звучат над нами / Дыханьем жарких крыл, / Взлетая пред глазами / Того, Кто их творил». Публикуется по изд.: Время новостей. 2003. 2 апр. № 58.ТАТЬЯНА БЕК О СЕМЕНЕ ЛИПКИНЕ
Беседу вел Семен Резник Интервью радиостанции «Голос Америки»
Из Москвы пришло печальное известие о кончине замечательного писателя и человека Семена Липкина. Я обратился к известной московской поэтессе и литературному критику Татьяне Бек, которая хорошо знала Семена Израилевича и была дружна с ним и с его женой, известной поэтессой Инной Лиснянской. — В связи с кончиной Семена Липкина мне на память пришла часто цитируемая строка Евгения Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт». Мне кажется, что почти ни к кому из поэтов советской и постсоветской России такая характеристика не относится так прямо и точно, как к нему… — Я согласна, хотя мне кажется, что эта формула давно стала штампом, клише, а к Семену Израилевичу вообще никакие клише не подходят. Он просто был Поэт с большой буквы. И он, безусловно, останется в литературе как выдающийся поэт XX в., перешагнувший, как мы видим, в век XXI. Очень хорошо о нем сказал на недавней панихиде поэт — его, кстати, любимый поэт из последующих — Евгений Рейн. Он в своей надгробной речи подчеркнул, что Липкин был выдающимся связующим звеном, скорее даже мостом, между Серебряным веком и нашим, т. е. он соединил вот это начало — Анненского и Блока — с тем, что происходит сейчас в поэзии, и вообще, шире — в русской словесности. Он родился в 1911 г. Был учеником Багрицкого, при этом очень близко знал и Мандельштама, более того, он даже ему дерзко указывал на какую-то неточность в его рифмах, спорил с ним. Дружил с Ахматовой, с Марией Петровых, с Заболоцким, с Пастернаком. У него было много учеников, которые сейчас еще молоды. В какой-то из газет написали, что он был не только выдающимся поэтом Советской России — он был ее оправданием. — В каком смысле? — В том смысле, что столько было там и графомании, и лжи, и какой-то подделки. А Семен Липкин как-то вот смог, оставшись в России, все-таки не посрамить звание русского поэта и, повторяю, продолжить вот эту традицию начала XX в., не уронить ее в грязь лицом и добавить к ней новые очень важные обертоны и оттенки. — И, насколько я знаю, он всегда принадлежал той среде творческой интеллигенции, которая старалась в условиях советской системы оставаться честной, порядочной, сохранять свое «я». Более того, даже среди тех людей он был как бы эталоном, на него равнялись. — Семен Липкин — он не просто сохранял себя. Он, например, спас рукопись Василия Гроссмана — его выдающийся роман «Жизнь и судьба», который был, как вы знаете, изъят КГБ и долго считался утраченным для читателя. Семен Липкин, сильно рискуя и проявляя колоссальное мужество, сохранил эту рукопись. И, когда пришло время, в конце 1980‑х, донес ее до широчайшего читателя. — Об этом, между прочим, написали два американских исследователя — супруги Геррарды из Аризонского университета, авторы превосходной биографии Василия Гроссмана. Они интервьюировали Семена Липкина, и в их книге много говорится о нем и его дружбе с Гроссманом. — Я хочу к этому добавить, что Липкин был не только замечательным поэтом, он в более поздние годы себя проявил как уникальный прозаик. И одним из его главных прозаических произведений была книга «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», где соединились и мемуары, и литературоведческий анализ. То есть он еще был и вернейшим другом своих друзей. Он сохранил не только себя, он сохранил и их. — Скажите мне вот о чем, Таня. Какое влияние — вы с ним общались довольно тесно — какое влияние на вас он оказал? — Об этом я подробнее скажу. Еще девочкой, переехав с родителями в писательский дом возле метро «Аэропорт» в Москве, я сразу же стала соседкой Семена Израилевича, и более 20 лет мы просто жили в соседних подъездах. Я помню этого большеголового человека со странной, но необычайно привлекательной внешностью, его такое ветхозаветное лицо, которое всегда было озарено иронией, но иронией очень мудрой и доброй. Чуть в более поздние годы, подростком, я присутствовала при том, как он в Малеевке, в подмосковном Доме творчества, читал свою поэму «Техник-интендант». Это, может быть, лучшее, что написано в поэзии о Второй мировой войне. Поэма тогда ходила в самиздате. Он читал ее, запершись в номере, моему отцу и еще двум-трем писателям. Так что я — счастливый человек: наблюдала его много лет. В последние годы бывала у них в гостях. Он был мужем прекрасной поэтессы Инны Лиснянской. Их невероятная любовь и творческое содружество нас всех вдохновляли. Я была даже на их поздней свадьбе. И так случилось, что в конце января я приходила к ним в гости, я с ним как-то попрощалась, мы даже немного выпили за 100-летие моего отца, которого он всегда помнил. Он вообще помнил ушедших людей. Человек он был замечательный, у него было много учеников, он давал переводческие уроки ученикам, просто слушал чужие стихи, необыкновенно был к ним внимателен. Но, кроме того, на нас влияли его тексты. Его изумительная, какая-то вдохновенная точность и, я не люблю этого слова в применении к поэзии, но у него была совершенно самобытная техника. Этому нельзя научиться, но вслед за этим можно идти. — Не могли бы вы привести наиболее запомнившиеся вам, тронувшие вас стихи Семена Липкина… — Больше всего у меня в памяти живут и меня тревожат такие вот строчки:Избранная библиография
Книги
Стихи, проза, драматургия
Родина. М.; Л.: Военмориздат, 1941. 24 с. Сталинградский корабль. Боевые действия краснознаменной лодки «Усыскин». М.: Военмориздат, 1943. 64 с. («Фронтовая б‑ка краснофлотца».) Очевидец. Стихотворения разных лет / Худож. Г. Алимов. М.: Сов. писатель, 1967. 184 с. Очевидец. Стихотворения разных лет. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1974. 128 с. Вечный день. Стихотворения. М.: Сов. писатель, 1975.96 с. Тетрадь бытия. Стихи и переводы. Душанбе: Ирфон, 1977. 223 с. Воля. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1981. 300 с. Кочевой огонь. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1984.168 с. Декада. N. Y.: Chalidze publ., 1983. 184 с. Сталинград Василия Гроссмана. Ann Arbor: Ardis, 1986.145 с. Картины и голоса / Предисл. Вл. Максимова. L.: Overseas Publications Interchange Ltd, 1986. 104 с. Лира. Стихи разных лет. М.: Правда, 1989. 32 с. (Б‑ка журнала «Огонек».) Декада. Сб. / Послесл. Ст. Рассадина. М.: Книжная палата, 1990. 288 с. (Популярная б‑ка.) Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М.: Книга, 1990. 272 с. Лунный свет: Стихотворения и поэмы. М.: Современник, 1991.252 с. Угль, пылающий огнем. М.: Правда, 1991. 48 с. (Б‑ка журнала «Огонек».) Письмена: Стихотворения. Поэмы / Предисл. Ст. Рассадина М.: Худож. лит., 1991. 351 с. Перед заходом солнца. Париж; Москва; Нью-Йорк: Третья волна, 1995.144 с. Вторая дорога. Зарисовки и соображения. М.: Олимп, 1995.270 с. Квадрига. Повесть. Мемуары. М.: Аграф, 1997. 640 с. Посох. Стихотворения. М.: ЧеРо, 1997. 144 с. Семь десятилетий. Стихи и поэмы. М.: Возвращение, 2000. 592 с. Липкин С, Лиснянская И. Вместе. М.: Грааль; Рус. путь, 2000. 320 с. Воля: Стихи, поэмы. М.: ОГИ, 2003. 496 с.Переложения для детей
Манас Великодушный. Повесть. М.: Сов. писатель, 1947. 232 с. Царевна из города тьмы. Повесть по мотивам узбекских народных поэм. М.: Детгиз, 1961. 160 с. О богатырях, умельцах и волшебниках. Три повести. М.: Детгиз, 1963.494 с. Держава ранних жаворонков. Повесть по мотивам бурятского эпоса. М: Дет. лит., 1968. 176 с. Рожденный из камня. Повесть по мотивам кавказских сказаний. М.: Дет. лит., 1974. 160 с. Приключения богатыря Шовшура, прозванного Лотосом / Рис. Л. Фейнберга. М.: Детгиз, 1958. 96 с. Золотая цепь. Восточные поэмы / Пер. и вступ. ст. С. Липкина; рис. Л. Фейнберга. М.: Дет. лит., 1970. 222 с.Переводы
Эули С. Стихи / Пер. с груз. В. Бугаевского, С. Липкина, С. Олендера, А. Тарковского, А. Чачикова; оформление худ. А. Толоконникова. М: ГИХЛ, 1934.80 с. Джангар. Калмыцкий народный эпос / Илл. В. Фаворского; предисл. О. И. Городовикова. М.: Худож. лит., 1940. 355 с. Навои А. Лейли и Меджнун. Поэма. Ташкент: Гос. изд-во УзССР, 1943. 232 с. Манас. Киргизский эпос. Великий поход / Пер. С. Липкина, Л. Пеньковского, М. Тарловского. М.: ОГИЗ ГИХЛ, 1946. 372 с. Навои А. Семь планет. Ташкент: Госиздат УзССР, 1947. 284 с. Нарты. Кабардинский эпос / Пер. В. Звягинцевой, С. Липкина, С. Обрадовича, М. Петровых, В. Потаповой. М.: ГИХЛ, 1951. 504 с. Фирдоуси А. Сказание о Бахраме Чубина. Из «Шахнаме». Сталинабад: Таджикгосизат, 1952. 344 с. Джами А. [Избранное] / Пер. с тадж. (фарси) В. Державина, С. Липкина. М.: ГИХЛ, 1955. 212 с. Липкин С. Кабардинская эпическая поэзия. Избранные переводы. Нальчик: Кабардинское книжное изд-во, 1956. 304 с. Рудаки А. — А. Избранное / Пер. с тадж. В. Левика, С. Липкина. Сталинабад: Таджикгосизат, 1958. 200 с. Махмуд из Кахаб-Росо. Песни любви / Пер., предисл. и примеч. С. Липкина. М: ГИХЛ, 1959. 80 с. Фирдоуси. Поэмы из «Шахнаме» в переводах С. Липкина. Сталинабад: Таджикгосизат, 1959. 524 с. Липкин С. Голоса шести столетий. Избр. переводы с узб. Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1960. 392 с. Абхазские сказания / Пер. и предисл. С. Липкина; сост. Б. В. Шинкуба. Сухуми: Абгосиздат, 1961. 134 с. Страницы таджикской поэзии / Сост. и пер. С. Липкин; предисл. М. Турсун-Заде. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1961. 259 с. Липкин С. Строки мудрых. Переводы / Предисл. А. Лейтеса; худож. — оформ. Е. Коган. М.: Сов. писатель, 1961. 228 с. Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев. Абхазский народный эпос / Пер. Г. Гулиа (проза), С. Липкина (стихи). М.: ГИХЛ, 1962. 288 с. Гургани Ф. Вис и Рамин. Поэма / Пер. с перс. С. Липкина; вступ. ст. и общ. ред. И. Брагинского; худож. В. Эльконин. М: ГИХЛ, 1963. 495 с. Лжами. Весенний сад. Бахаристан / Пер. с тадж. М. Занда; стихи в пер. А. Адалис, С. Липкина. Душанбе: Ирфон, 1964.252 с. Джами. Юсуф и Зулейха / Пер. с тадж. С. Липкина. Душанбе: Таджикгосизат, 1964. 288 с. Бабич Ш. Избранная лирика / Пер. с башк. С. Липкина. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1966. 60 с. Семьдесят две небылицы / Пер. с калмыц. С. Липкина; гравюры B. Мезенцева. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1969.64 с. Гэсэр. Бурятский героический эпос / Пер. с бурят. С. Липкина. М.: Худож. лит., 1973. 396 с. Дебет Златоликий и его друзья. Балкаро-карачаевский нартский эпос / Пер. С. Липкина. Нальчик: Эльбрус, 1973. 156 с. Калидаса. Избранное. Драмы и поэмы / Пер. с санскрита С. Липкина; сост., подстроч. пер., вступ. ст. и примеч. В. Захарьина; худож. А. Скородумова. М.: Худож. лит., 1973. 408 с. (Драмы: Малявика и Агнимитра; Мужеством завоеванная Урваши; Шакунтала, или Перстень-примета. Поэмы: Облак-вестник; Рождение бога войны; Род Рарху.) Махабхарата / Пер. С. Липкина // Махабхарата. Рамаяна / Пер. C. Липкина. В. Потаповой. М.: Худож. лит., 1974. 606 с. (Б‑ка всемирной литературы. Т. 2.) Махабхарата. Четыре сказания / Пер. с санскрита, вступ. ст. С. Липкина; подстроч. пер. О. Волковой; худож. Г. Клодт. М.: Худож. лит., 1969. 192 с. (Народная б‑ка.) Липкин С. Слово и камень. Избр. переводы из узб. поэзии. Ташкент: Изд-во лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1977. 472 с. Письмена. Стихи поэтов Востока в переводах С. Липкина. Вступ. ст. Л. Эйдлина, примеч. С. Липкина // Далекие и близкие. Стихи зарубежных поэтов в пер. В. Марковой, С. Липкина, A. Гитовича. М.: Прогресс, 1978. 312 с. (Мастера поэтического перевода.) Джами. Поэмы: Золотая цепь; Дар благородным; Четки праведников; Юсуф и Зулейха; Лейли и Меджун; лирика / Пер. С. Липкина // Джами. Избр. произведения. Л.: Л. О. изд-ва Сов. писатель, 1978. 656 с. (Б‑ка поэта, большая серия, 2‑е изд.) Андалусская поэзия / Пер. с араб. В. Потаповой, М. Петровых, Б. Шидфара, С. Липкина, М. Кудинова, Е. Витковского, М. Зенкевича, В. Микушевича, Ю. Хазанова, Г. Кружкова, B. Игельницкой, М. Курганцева, Н. Стефановича, Н. Горской, Е. Николаевской, Л. Кельмана, А. Межирова. М.: Худож. лит., 1988. 319 с. Едигей. Татарский народный эпос / Пер. С. Липкина. Казань: Тат. книжное изд-во, 1990. 256 с. Земная музыка. Образцы народой и классической поэзии Дагестана / Пер. С. Липкина. Махачкала: Дагестанское книжное изд-во, 1995.216 с. Гургани Ф. Вис и Рамин / Пер. С. Липкина; худож. М. Ромадин. Петрозаводск: АО Карпован сизарексет, 1996. 352 с. Гильгамеш / Стихотворное переложение С. Липкина; послесл. Вяч. Вс. Иванова; словарь сост. И. М. Дьяконовым; илл. C. Острова. СПб.: Пушкинск. фонд, 2001.120 с.Интервью
Я хотел передать музыку киргизской поэзии. Беседа с Валерием Ровинским // Слово Кыргызстана. 1995. 21 янв. Нынешняя власть не заинтересована в литературе. Это хорошо. Беседу вела Ирина Тосунян // Литературная газета. 1996. 30 окт. Ms 44 (5626). Покурим, Семен Израилевич? Беседу вела Юнна Чупринина // Общая газета. 1997.18–24 сент. № 37 (216). Искусство не знает старости. Беседу вела Ольга Постникова // Вопросы литературы. 1998. № 3. Воспоминания о поэте Арсении ТАРКОВСКОМ (беседа с А. Н. Кривомазовым) // Антология мировой поэзии. 2001. № 5. «Я родился при царе и девять лет жизни прожил в нормальных условиях». Беседу вела Екатерина Варкан // Независимая газета. 2001.15 сент. Мы — бедные наследники великой литературы. Беседу вела Лиза Новикова // Коммерсант!.. 2001. 19 сент. № 170. «Тем, кого я переводил, я часто советовал, что убрать, где расширить…» Беседу вела Елена Калашникова // Русский журнал. 2002. 7 мая. www.russ.ru/krug/20020507_kalash.html. С вершины горы. Беседу вел Лев Алейник // Алеф. 2002. № 900 (8). Преодоление века. Беседу вел Ян Шенкман // www.peoples.ru/ art/literature/poetry /conteinporary/lipkin/index. html Статьи, воспоминания о С. И. Липкине Турсун-Заде М. Друг нашей поэзии // Страницы таджикской поэзии / Сост. и пер. С. Липкин; предисл. М. Турсун-Заде. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1961. Эйдлин Л. Восточные переводы в поэзии С. Липкина // Далекие и близкие. Стихи зарубежных поэтов в переводе В. Марковой, С. Липкина, А. Гитовича. М.: Прогресс, 1978. Аксенов В. // Липкин С. Воля. Анн Арбор: Ардис, 1981. Максимов В. Путь вверх // Картины и голоса. L.: Overseas Publications Interchenge Ltd, 1986. Рассадин С. Очевидец // Липкин С. Декада: Сб. М.: Книжная палата, 1990. Рассадин С. Человек, называющий все по имени // Липкин С. И. Письмена. М.: Худож. лит., 1991. Степанян Е. «Не стал ничтожным ни единый…». Заметки о лирике Семена Липкина // Континент. 1991. № 4. Чухонцев О. Похвала Семену Липкину // Новый мир. 1995. № 10. Солженицын А. Из «Литературной коллекции» // Там же. 1998. № 4. Бродский И. // Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским / Вступ. ст. Я. Гордина. М.: Независимая газета, 1998. С. 54. Ипполитова Н. Калмыкиана Семена Липкина. ПЛАЧ ПО ИЗГНАННИКАМ. Тема геноцида в творчестве С. Липкина // Теегин герл [Свет в степи]. 1999. № 8. Аверинцев С. Ответственное свидетельство // Православная община. 1999. № 53. Рассадин С. Липкин Семен Израилевич // Русские писатели 20 века. Биограф, слов. / Гл. ред. и сост. П. А. Николаев. М.: Большая рос. энциклопедия, Рандеву-AM, 2000. Иванов ВячВс. Еще одно рождение Гильгамеша // Гильгамеш. СПб.: Пушкинск. фонд, 2001. Синельников М. Таинственный хорист // Вестник Еврейского агентства. 2001. Сент. № 54 (1). Рассадин С. Человек преодолевающий // Новая газета. 2001. 17 сент. № 67. Немзер А. Праздник на Пушкинской улице // Время новостей. 2001. 19 сент. № 171. Гейзер М. Тот, кто родился, — не умрет. Размышления о жизни и творчестве С. Липкина // Лехаим. 2002. Май. ИЯР 5762-5 (121). Харитонов М. Стенография конца века. Из дневниковых записей. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 78, 107, 108, 130,238,253,264,416–421. Эпос «Манас» как фактор культурной интеграции XX века: Материалы юбилейных чтений, посвященных 90-летию поэта и переводчика С. И. Липкина и 55-летию выхода книги «Манас. Великий поход» / Отв. ред-сост.: А. Какеев, И. Исамидинов, В. Шаповалов. Бишкек: КГНУ, 2002.112 с. Немзер А. «Исполнен долг, завещанный от Бога» // Время новостей. 2003. 2 апр. № 58. Рассадин С. Человек преодолевший // Новая газета. 2003. 7 апр. № 24. Солженицын А., Солженицына Н., Искандер Ф., Чухонцев О., Куб-лановский Ю, Аннинский Л., Иванова Н. Памяти Семена Липкина // Литературная газета. 2003. 9-15 апр. № 14 (5919). Бек Т. Татьяна Бек о Семене Липкине. Беседу вел Семен Резник // Вестник. 2003. 30 апр. № 9 (320). Полищук Р. Бесконечное мужество преодоления // Вестник. 2003. 10 дек. № 25(336). Рассадин С. Преодолевающий, преодолевший // Рассадин С. Книга прощаний: Воспоминания о друзьях и не только о них. М.: Текст, 2004. Лиснянская И. На крылечке // Иерусалимский журнал. 2006. № 22. Рецензии на книги С. Липкина Строки мудрых, 1961. Лейтес А. Искусство поэтического перевода // Литературная газета. 1961. 21 сент. Очевидец, 1961 Кулиев К. Чем продолжительней молчанье // Новый мир. 1967. № 12. Рожденный из камня, 1974. Рассадин С. С. Липкин. Рожденный из камня // Новый мир. 1974. № 10. Tempadt) бытия, 1977. Нерлер П. Страницы жизни / Памир. 1977. № 12. Воли, 1981 Горбачевская Н. «Это плакало сердце России…» // Русская мысль. 1981. 22 окт.№ 3383. Декада, 1990. Егоров А. Время и декада // Литературная газета. 1989. 6 сент. Нерлер П. История и лира // Знамя. 1990. № 7. Рассадин С. «Кровь» рифмуется с «любовь» // Вопросы литературы. 1990. № 2. Письмена, 1991. Немзер А. Лес. Степь. Свет // Новый мир. 1992. № 7. Перед заходом солнца, 1995. ПолищукД. «Их внутренним обогащенный зреньем» // Книжное обозрение. 1995. 14 нояб. № 46. Вторая дорога, 1995. Беляев А. (Щуплов А.) «Поверх барьеров нижнего чутья» // Там же. Квадрига, 1997. Кублановский Ю. Квадрига // Новый мир. 1997. № 9. Посох, 1997. Урицкий А. Порог — это только начало // Exlibris-НГ. 1997.16 окт. № 17. Семь десятилетий, 2000. Кублановский Ю. Поэтическая Евразия Семена Липкина // Новый мир. 2000. № 7. Ермолин Е. Страдающее эхо // Знамя. 2000. № 11. Гилыамеш, 2001. Крючков П. Книжная полка Павла Крючкова // Новый мир. 2002. № 3. Петров М. О давней истории из разряда «популярных» // Знамя. 2002. № 3. Воля, 2003. Давыдов Д. Диалоги со смертью. Два поэта, которые «просто есть» // Время новостей. 2003. 2 апр. № 58. Репина Н. Семен Липкин. Воля // Знамя. 2004. № 3. Крючков П. Книжная полка Павла Крючкова // Новый мир. 2004. № 12. Составил Д. Полищук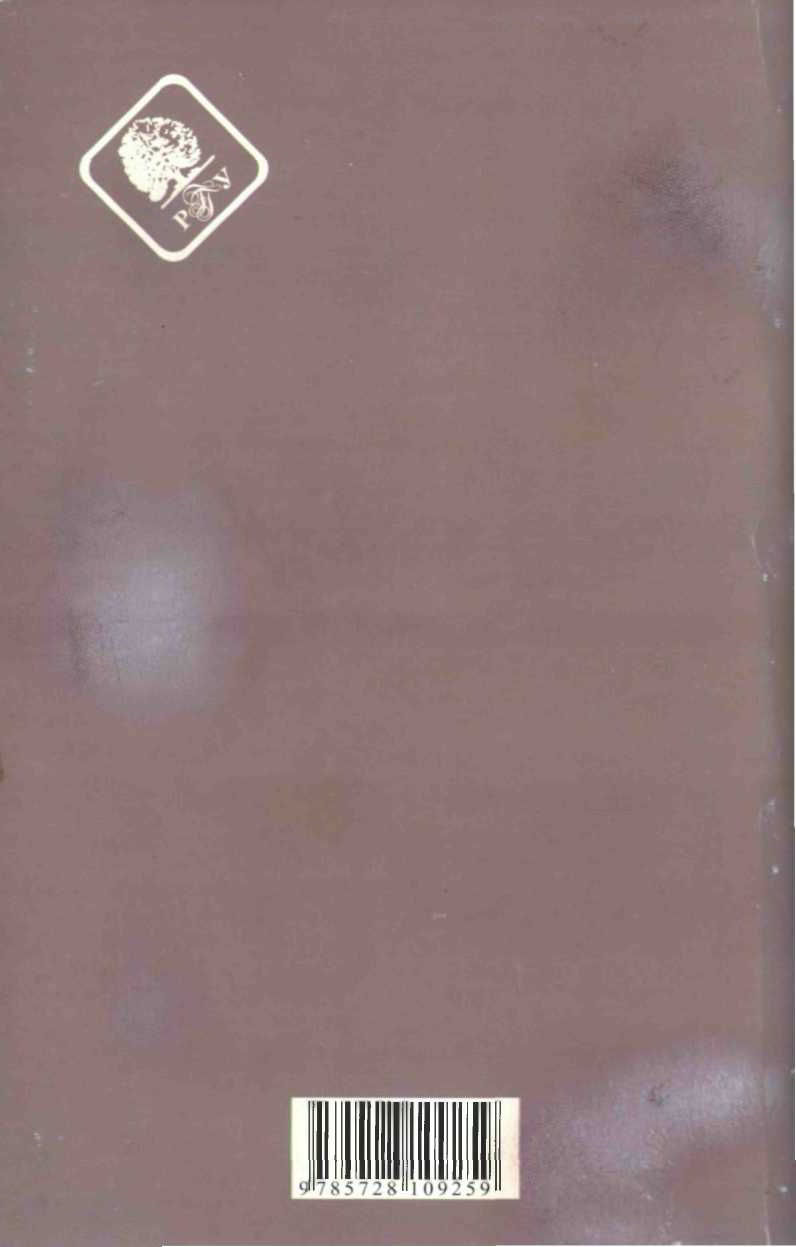
Последние комментарии
4 часов 51 минут назад
5 часов 43 минут назад
17 часов 8 минут назад
1 день 10 часов назад
2 дней 26 минут назад
2 дней 3 часов назад