[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Весь
Владимир Арсеньев
(в одном томе)

Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930)
По Уссурийскому краю
Глава 1 Стеклянная падь

Бухта Майтун. — Село Шкотово. — Река Бейца. — Встреча с пантерой. — Да-дянь-шань. — Изюбры
В 1902 году во время одной из командировок с охотничьей командой я пробирался вверх по реке Цимухе[1], впадающей в Уссурийский залив около села Шкотова. Мой отряд состоял из шести человек сибирских стрелков и четырёх лошадей с вьюками. Цель моей командировки заключалась в обследовании Шкотовского района в военном отношении и в изучении перевалов в горном узле Да-дянь-шань[2], откуда берут начало четыре реки: Циму, Майхе, Даубихе[3] и Лефу. Затем я должен был осмотреть все тропы около озера Ханка и вблизи Уссурийской железной дороги. Горный хребет, о котором здесь идёт речь, начинается около Имана и идёт к югу параллельно реке Уссури в направлении от северо-северо-востока к юго-юго-западу так, что на запад от него будет река Сунгача и озеро Ханка, а на восток — река Даубихе. Далее он разделяется на две ветви. Одна идёт к юго-западу и образует хребет Богатую Гриву, протянувшийся вдоль всего полуострова Муравьёва-Амурского, а другая ветвь направляется к югу и сливается с высокой грядой, служащей водоразделом между реками Даубихе и Сучаном[4]. Верхняя часть Уссурийского залива называется бухтой Майтун. Бухта эта раньше значительно глубже вдавалась в материк. Это бросается в глаза с первого взгляда. Береговые обрывы ныне отодвинуты в глубь страны километров на пять. Устье реки Тангоузы[5] раньше было на месте нынешних озёр Сан[6] и Эль-Поуза[7], а устье реки Майхе[8] находилось немного выше того места, где теперь пересекает её железная дорога. Вся эта площадь в 22 квадратных километра представляет собой болотистую низину, заполненную наносами рек Майхе и Тангоузы[9]. Среди болот сохранились ещё кое-где озерки с водой; они указывают, где были места наиболее глубокие. Этот медленный процесс отступления моря и нарастания суши происходит ещё и теперь. Эта же участь постигнет и бухту Майтун. Она и теперь уже достаточно мелководна. Западные берега её слагаются из порфиров, а восточные из третичных отложений: в долине Майхе развиты граниты и сиениты, а к востоку от неё — базальты. Село Шкотово находится около устья реки Цимухе, на правом берегу. Основание его относится к 1864 году. В 1868 году его сожгли хунхузы, но на другой год оно возродилось снова. Пржевальский в 1870 году в нём насчитал шесть дворов и тридцать четыре души обоего пола[10]. Я застал Шкотово довольно большим селом[11]. Здесь мы провели двое суток, осматривали окрестности и снаряжались в далёкий путь. Река Цимухе, длиной в 30 километров, течёт в широтном направлении и имеет с правой стороны один только приток — Бейцу. Долину, по которой протекает река, здешние переселенцы называют Стеклянной падью. Такое название она получила от китайской зверовой фанзы, в окне которой был вставлен небольшой кусочек стекла. Надо заметить, что тогда в Уссурийском крае не было ни одного стекольного завода, и потому в глухих местах стекло ценилось особенно высоко. В глубине гор и лесов оно было своего рода меновой единицей. Пустую бутылку можно было выменять на муку, соль, чумизу и даже на пушнину. Старожилы рассказывают, что во время ссор враги старались проникнуть друг к другу в дом и перебить стеклянную посуду. Немудрёно поэтому, что кусочек стекла в окне китайской фанзы[12] был роскошью. Это обратило внимание первых переселенцев, и они назвали Стеклянной не только фанзу и речку, но и всю прилегающую местность. От Шкотова вверх по долине Цимухе сначала идёт просёлочная дорога, которая после села Новороссийского сразу переходит в тропу. По этой тропе можно выйти и на Сучан, и на реку Кангоузу[13] к селу Новонежину. Дорога несколько раз переходит с одного берега реки на другой, и это является причиной, почему во время половодья сообщение по ней прекращается. Из Шкотова мы выступили рано, в тот же день дошли до Стеклянной пади и свернули в неё. Река Бейца течёт на запад-юго-запад почти по прямому направлению и только около устья поворачивает на запад. Ширина Стеклянной пади не везде одинакова: то она суживается метров до ста, то расширяется более чем на километр. Как и большинство долин в Уссурийском крае, она отличается удивительной равнинностью. Окаймляющие её горы, поросшие корявым дубняком, имеют очень крутые склоны. Границы, где равнина соприкасается с горами, обозначены чрезвычайно резко. Это свидетельствует о том, что здесь были большие денудационные процессы. Долина раньше была гораздо глубже и только впоследствии выполнилась наносами реки. По мере того как мы углублялись в горы, растительность становилась лучше. Дубовое редколесье сменилось густыми смешанными лесами, среди которых было много кедра. Путеводной нитью нам служила маленькая тропинка, проложенная китайскими охотниками и искателями женьшеня. Дня через два мы достигли того места, где была Стеклянная фанза, но нашли здесь только её развалины. С каждым днём тропинка становилась всё хуже и хуже. Видно было, что по ней давно уже не ходили люди. Она заросла травой и во многих местах была завалена буреломом. Вскоре мы её совсем потеряли. Встречались нам и зверовые тропы; мы пользовались ими, пока они тянулись в желательном для нас направлении, но больше шли целиной. На третий день к вечеру мы подошли к хребту Да-дянь-шань, который идёт здесь в меридиональном направлении и имеет высоту в среднем около 700 метров. Оставив людей внизу, я поднялся на одну из соседних вершин, чтобы оттуда посмотреть, далеко ли ещё осталось до перевала. Сверху хорошо были видны все горы. Оказалось, что водораздел был в двух или трёх километрах от нас. Стало ясно, что к вечеру нам не дойти до него, а если бы мы и дошли, то рисковали заночевать без воды, потому что в это время года горные ключи в истоках почти совсем иссякают. Я решил встать на бивак там, где остались лошади, а завтра идти к перевалу. Обыкновенно свой маршрут я никогда не затягивал до сумерек и останавливался на бивак так, чтобы засветло можно было поставить палатки и заготовить дрова на ночь. Пока стрелки возились на биваке, я пользовался свободным временем и отправлялся осматривать ближайшие окрестности. Постоянным моим спутником в такого рода экскурсиях был Поликарп Олентьев — отличный человек и прекрасный охотник. Ему было тогда лет двадцать шесть. Он был среднего роста и хорошо сложён. Русые волосы, крупные черты лица и небольшие усы дадут читателю некоторое представление о его лице. Олентьев был оптимист. Даже в тех случаях, когда мы попадали в неприятные положения, он не терял хорошего настроения и старался убедить меня, что «всё к лучшему в этом лучшем из миров». Сделав нужные распоряжения, мы взяли с ним ружья и пошли на разведку. Солнце только что успело скрыться за горизонтом, и в то время, когда лучи его золотили верхушки гор, в долинах появились сумеречные тени. На фоне бледного неба резко выделялись вершины деревьев с пожелтевшими листьями. Среди птиц, насекомых, в сухой траве — словом, всюду, даже в воздухе, чувствовалось приближение осени. Перейдя через невысокий хребет, мы попали в соседнюю долину, поросшую густым лесом. Широкое и сухое ложе горного ручья пересекало её поперёк. Тут мы разошлись. Я пошёл по галечниковой отмели налево, а Олентьев — направо. Не прошло и двух минут, как вдруг в его стороне грянул выстрел. Я обернулся и в это мгновение увидел, как что-то гибкое и пёстрое мелькнуло в воздухе. Я бросился к Олентьеву. Он поспешно заряжал винтовку, но, как на грех, один патрон застрял в магазинной коробке, и затвор не закрывался. — Кого ты стрелял? — спросил я его. — Кажется, тигра, — отвечал он. — Зверь сидел на дереве. Я хорошо прицелился и, наверное, попал. Наконец застрявший патрон был вынут. Олентьев вновь зарядил ружьё, и мы осторожно двинулись к тому месту, где скрылось животное. Кровь на сухой траве указывала, что зверь действительно был ранен. Вдруг Олентьев остановился и стал прислушиваться. Впереди, немного вправо от нас, слышался храп. Сквозь заросли папоротников ничего нельзя было видеть. Большое дерево, поваленное на землю, преграждало нам путь. Олентьев хотел было уже перелезть валежник, но раненое животное предупредило его и стремительно бросилось навстречу. Олентьев второпях выстрелил в упор, даже не приставляя приклада ружья к плечу, — и очень удачно. Пуля попала прямо в голову зверя. Он упал на дерево и повис на нём так, что голова и передние лапы свесились по одну сторону, а задняя часть тела — по другую. Убитое животное сделало ещё несколько конвульсивных движений и начало грызть землю. В это время центр тяжести переместился, оно медленно подалось вперёд и грузно свалилось к ногам охотника. С первого же взгляда я узнал маньчжурскую пантеру[14], называемую местными жителями барсом. Этот великолепный представитель кошачьих был из числа крупных. Длина его тела от носа до корня хвоста равнялась 1,4 метра. Шкура пантеры, ржаво-жёлтая по бокам и на спине и белая на брюхе, была покрыта чёрными пятнами, причём пятна эти располагались рядами, как полосы у тигра. С боков, на лапах и на голове они были сплошные и мелкие, а на шее, спине и хвосте — крупные, кольцевые. В Уссурийском крае пантера держится только в южной части страны, и главным образом в Суйфунском, Посьетском и Барабашевском районах. Главной пищей ей служат пятнистые олени, дикие козули и фазаны. Животное это крайне хитрое и осторожное. Спасаясь от человека, пантера влезает на дерево и выбирает такой сук, который приходится против её следов на земле и, следовательно, как раз против луча зрения охотника. Растянувшись вдоль него, она кладёт голову на передние лапы и в этом положении замирает. Пантера отлично понимает, что со стороны головы её тело, прижатое к суку, менее заметно, чем сбоку. Снимание шкуры с убитого животного отняло у нас более часа. Когда мы тронулись в обратный путь, были уже глубокие сумерки. Мы шли долго и наконец увидели огни бивака. Скоро между деревьями можно было различить силуэты людей. Они двигались и часто заслоняли собой огонь. На биваке собаки встретили нас дружным лаем. Стрелки окружили пантеру, рассматривали её и вслух высказывали свои суждения. Разговоры затянулись до самой ночи. На другой день мы продолжали наш путь. Долина суживалась, и идти становилось труднее. Мы шли целиной и только заботились о том, чтобы поменьше кружить. В полдень мы подошли к самому гребню. Подъём был крутой и трудный. Лошади карабкались на кручу изо всех сил; от напряжения у них дрожали ноги, они падали и, широко раскрыв ноздри, тяжело и порывисто дышали. Чтобы облегчить путь, пришлось идти зигзагами, часто останавливаться и поправлять вьюки. Наконец мы взобрались на хребет. Здесь дан был получасовой отдых. По хребту, поросшему лесом, надо идти всегда осторожно, надо часто останавливаться, осматриваться, иначе легко сбиться с пути, в особенности во время тумана. Помню, раньше я несколько раз таким образом блуждал. Чтобы не повторить ошибки, я приказал людям остановиться и, выбрав высокий кедр, не без труда взобрался на самую его вершину. Сверху я увидел весь горный хребет Да-дянь-шань как на ладони. Он шёл на север с лёгким изгибом к востоку. Здесь он имел характер расплывчатый, неясный, а далее на восток, вероятно в верховьях Даубихе и Улахе[15], был высок и величествен. Западные его склоны казались крутыми и обрывистыми, восточные — более пологими. Слева вдали виднелись Майхе и Цимухе, справа — сложный бассейн Сучана. С этой стороны местность была так пересечена, что я долго не мог сообразить, куда текут речки и к какому они принадлежат бассейну. Впереди, километрах в пяти, высилась какая-то куполообразная гора. Её-то я и наметил пунктом, где следовало второй раз ориентироваться. На вершине хребта Да-дянь-шань растёт лес крупный, чистый, вследствие чего наше передвижение с вьюками происходило довольно быстро. В одном месте мы спугнули двух изюбров — самца и самку. Олени отбежали немного и остановились как вкопанные, повернув головы в нашу сторону. Один из казаков хотел было стрелять, но я остановил его. Продовольствия мы имели достаточно, а лошади были перегружены настолько, что захватить с собой убитых оленей мы всё равно не могли бы. Я несколько минут любовался изюбрами. Наконец самец не выдержал. Он издал короткий крик и, положив рога на спину, сильными прыжками пошёл наискось под гору. Благородный олень, обитающий в Приамурском крае, называется изюбром (Cervus canadensis Luchodrfi Bolau). Это стройное и красивое животное имеет в длину 1,9, а в высоту — 1,4 метра. Вес тела достигает 197 килограммов. Шерсть изюбра летом светло-коричневая, зимой — серовато-бурая с бело-жёлтым зеркалом сзади. На длинной и сильной шее, украшенной у самцов гривой, помещается красивая голова с большими трубчатыми и подвижными ушами. Вилообразно расходящиеся рога имеют впереди два прямых бивня и несколько верхних отростков. Рога эти зимой спадают и весной вырастают вновь, и притом каждый раз одним отростком больше. Поэтому по числу отростков можно судить о возрасте оленя, считая один лишний год, когда он ходит безрогим (саек). Однако количеству отростков есть предел. Обыкновенно взрослый самец имеет их не более семи. В дальнейшем идёт только увеличение веса рогов, их размеров и толщины. Молодые весенние рога, наполненные кровью и ещё не затвердевшие, называются пантами. В Уссурийском крае благородный олень обитает в южной части страны, по всей долине реки Уссури и её притокам, не заходя за границу хвойных насаждений Сихотэ-Алиня. На побережье моря он встречается до мыса Олимпиады. Летом изюбр держится по теневым склонам лесистых гор, а зимой — по солнцепекам и в долинах, среди равнинной тайги, где полянки чередуются с перелесками. Любимый летний корм изюбра составляет леспедеца, а зимой — молодые побеги осины, тополя и низкорослой берёзы. В полдень мы сделали большой привал. По моим соображениям, теперь мы должны были находиться недалеко от куполообразной горы. В походе надо сообразоваться не столько с силами людей, сколько с силами вьючных животных. И в самом деле, они несут большие тяжести, поэтому при всякой более или менее продолжительной остановке надо облегчить их спины от груза. Как только лошади были рассёдланы, их тотчас пустили на свободу. Внизу, под листьями, трава была ещё зелёная, и это давало возможность пользоваться кое-каким подножным кормом.
Глава 2 Встреча с Дерсу

Бивак в лесу. — Ночной гость — Бессонная ночь — Рассвет
После отдыха отряд наш снова тронулся в путь На этот раз мы попали в бурелом и потому подвигались очень медленно. Часам к четырём мы подошли к какой-то вершине. Оставив людей и лошадей на месте, я сам пошёл наверх, чтобы ещё раз осмотреться. Влезать на дерево непременно надо самому. Поручать это стрелкам нельзя. Тут нужны личные наблюдения Как бы толково и хорошо стрелок ни рассказывал о том, что он заметил, на основании его слов трудно ориентироваться. То, что я увидел сверху, сразу рассеяло мои сомнения. Куполообразная гора, где мы находились в эту минуту, — был тот самый горный узел, который мы искали. От него к западу тянулась высокая гряда, падавшая на север крутыми обрывами. По ту сторону водораздела общее направление долин шло к северо-западу Вероятно, это были истоки реки Лефу. Спустившись с дерева, я присоединился к отряду. Солнце уже стояло низко над горизонтом, и надо было торопиться разыскать воду, в которой и люди и лошади очень нуждались. Спуск с куполообразной горы был сначала пологий, но потом сделался крутым. Лошади спускались, присев на задние ноги. Вьюки лезли вперёд, и, если бы при сёдлах не было шлей, они съехали бы им на голову. Пришлось делать длинные зигзаги, что при буреломе, который валялся здесь во множестве, было делом далеко не лёгким. За перевалом мы сразу попали в овраги. Местность была чрезвычайно пересечённая. Глубокие распадки, заваленные корчами, водотоки и скалы, обросшие мхом, — всё это создавало обстановку, которая живо напоминала мне картину Вальпургиевой ночи. Трудно представить себе местность более дикую и неприветливую, чем это ущелье. Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и весёлый вид. Так, кажется, и остался бы среди них навсегда. Иногда, наоборот, горы кажутся угрюмыми, дикими. И странное дело! Чувство это не бывает личным, субъективным, оно всегда является общим для всех людей в отряде. Я много раз проверял себя и всегда убеждался, что это так. То же было и теперь. В окружающей нас обстановке чувствовалась какая-то тоска, было что-то жуткое и неприятное, и это жуткое и тоскливое понималось всеми одинаково. — Ничего, — говорили стрелки, — как-нибудь переночуем. Нам не год тут стоять. Завтра найдём место повеселее. Не хотелось мне здесь останавливаться, но делать было нечего. Сумерки приближались, и надо было торопиться. На дне ущелья шумел поток, я направился к нему и, выбрав место поровнее, приказал ставить палатки. Величавая тишина леса сразу огласилась звуками топоров и голосами людей. Стрелки стали таскать дрова, рассёдлывать коней и готовить ужин. Бедные лошади. Среди камней и бурелома они должны были остаться голодными. Зато завтра, если нам удастся дойти до земледельческих фанз, мы их накормим как следует. Сумерки в лесу всегда наступают рано. На западе сквозь густую хвою ещё виднелись кое-где клочки бледного неба, а внизу, на земле, уже ложились ночные тени. По мере того как разгорался костёр, ярче освещались выступавшие из темноты кусты и стволы деревьев. Разбуженная в осыпях пищуха подняла было пронзительный крик, но вдруг испугалась чего-то, проворно спряталась в норку и больше не показывалась. Наконец на нашем биваке стало все понемногу успокаиваться. После чая люди занялись каждый своим делом: кто чистил винтовку, кто поправлял седло или починял разорванную одежду. Такой работы всегда бывает много Покончив со своими делами, стрелки стали ложиться спать. Они плотно прижались друг к другу и, прикрывшись шинелями, заснули как убитые. Не найдя корма в лесу, лошади подошли к биваку и, опустив головы, погрузились в дремоту. Не спали только я и Олентьев. Я записывал в дневник пройденный маршрут, а он починял свою обувь. Часов в десять вечера я закрыл тетрадь и, завернувшись в бурку, лёг к огню. От жара, подымавшегося вместе с дымом кверху, качались ветки старой ели, у подножия которой мы расположились, и то закрывали, то открывали тёмное небо, усеянное звёздами. Стволы деревьев казались длинной колоннадой, уходившей в глубь леса и незаметно сливавшейся там с ночным мраком. Вдруг лошади подняли головы и насторожили уши, потом они успокоились и опять стали дремать. Сначала мы не обратили на это особого внимания и продолжали разговаривать. Прошло несколько минут. Я что-то спросил Олентьева и, не получив ответа, повернулся в его сторону. Он стоял на ногах в выжидательной позе и, заслонив рукой свет костра, смотрел куда-то в сторону. — Что случилось? — спросил я его. — Кто-то спускается с горы, — отвечал он шёпотом. Мы оба стали прислушиваться, но кругом было тихо, так тихо, как только бывает в лесу в холодную осеннюю ночь. Вдруг сверху посыпались мелкие камни. — Это, вероятно, медведь, — сказал Олентьев и стал заряжать винтовку. — Стреляй не надо! Моя люди!… — послышался из темноты голос, и через несколько минут к нашему огню подошёл человек. Одет он был в куртку из выделанной оленьей кожи и такие же штаны. На голове у него была какая-то повязка, на ногах унты[16], за спиной большая котомка, а в руках сошки и старая длинная берданка. — Здравствуй, капитан, — сказал пришедший, обратясь ко мне. Затем он поставил к дереву свою винтовку, снял со спины котомку и, обтерев потное лицо рукавом рубашки, подсел к огню. Теперь я мог хорошо его рассмотреть. На вид ему было лет сорок пять. Это был человек невысокого роста, коренастый и, видимо, обладавший достаточной физической силой. Грудь у него была выпуклая, руки — крепкие, мускулистые, ноги немного кривые. Загорелое лицо его было типично для туземцев: выдающиеся скулы, маленький нос, глаза с монгольской складкой век и широкий рот с крепкими зубами. Небольшие русые усы окаймляли его верхнюю губу, и рыжеватая бородка украшала подбородок. Но всего замечательнее были его глаза. Тёмно-серые, а не карие, они смотрели спокойно и немного наивно. В них сквозили решительность, прямота характера и добродушие. Незнакомец не рассматривал нас так, как рассматривали мы его. Он достал из-за пазухи кисет с табаком, набил им свою трубку и молча стал курить. Не расспрашивая его, кто он и откуда, я предложил ему поесть. Так принято делать в тайге. — Спасибо, капитан, — сказал он. — Моя шибко хочу кушай, моя сегодня кушай нету. Пока он ел, я продолжал его рассматривать. У его пояса висел охотничий нож. Очевидно, это был охотник. Руки его были загрубелые, исцарапанные. Такие же, но ещё более глубокие царапины лежали на лице: одна на лбу, а другая на щеке около уха. Незнакомец снял повязку, и я увидел, что голова его покрыта густыми русыми волосами; они росли в беспорядке и свешивались по сторонам длинными прядями. Наш гость был из молчаливых. Наконец Олентьев не выдержал и спросил пришельца прямо: — Ты кто будешь? — Моя гольд, — ответил он коротко. — Ты, должно быть, охотник? — спросили его опять. — Да, — отвечал он. — Моя постоянно охота ходи, другой работы нету, рыба лови понимай тоже нету, только один охота понимай. — А где ты живёшь? — продолжал допрашивать его Олентьев. — Моя дома нету. Моя постоянно сопка живи. Огонь клади, палатка делай — спи. Постоянно охота ходи, как дома живи? Потом он рассказал, что сегодня охотился за изюбрами, ранил одну матку, но слабо. Идя по подранку, он наткнулся на наши следы. Они завели его в овраг. Когда стемнело, он увидел огонь и пошёл прямо на него. — Моя тихонько ходи, — говорил он. — Думай, какой люди далеко сопках ходи? Посмотри — капитан есть, казак есть. Моя тогда прямо ходи. — Тебя как зовут? — спросил я незнакомца. — Дерсу Узала, — отвечал он. Меня заинтересовал этот человек. Что-то в нём было особенное, оригинальное. Говорил он просто, тихо, держал себя скромно, не заискивающе. Мы разговорились. Он долго рассказывал мне про свою жизнь, и чем больше он говорил, тем становился симпатичнее. Я видел перед собой первобытного охотника, который всю свою жизнь прожил в тайге и чужд был тех пороков, которые вместе с собой несёт городская цивилизация. Из его слов я узнал, что средства к жизни он добывал ружьём и потом выменивал предметы своей охоты на табак, свинец и порох и что винтовка ему досталась в наследие от отца. Потом он рассказал мне, что ему теперь пятьдесят три года, что у него никогда не было дома, он вечно жил под открытым небом и только зимой устраивал себе временную юрту из корья или бересты. Первые проблески его детских воспоминаний были: река, шалаш, огонь, отец, мать и сестрёнка. — Все давно помирай, — закончил он свой рассказ и задумался. Он помолчал немного и продолжал снова: — У меня раньше тоже жена была, сын и девчонка. Оспа все люди кончай. Теперь моя один остался… Лицо его стало грустным от переживаемых воспоминаний. Я пробовал было его утешить, но что были мои утешения для этого одинокого человека, у которого смерть отняла семью, это единственное утешение в старости? Он ничего мне не отвечал и только ещё более поник головой. Хотелось мне как-нибудь выразить ему своё сочувствие, что-нибудь для него сделать, и я не знал, что именно. Наконец я надумал: я предложил ему обменять его старое ружьё на новое, но он отказался, сказав, что берданка ему дорога как память об отце, что он к ней привык и что она бьёт очень хорошо. Он потянулся к дереву, взял своё ружьё и стал гладить рукой по ложу. Звезды на небе переместились и показывали далеко за полночь. Часы летели за часами, а мы все сидели у костра и разговаривали. Говорил больше Дерсу, а я его слушал, и слушал с удовольствием. Он рассказывал мне про свою охоту, про то, как раз он попал в плен к хунхузам, но убежал от них. Рассказывал про свои встречи с тиграми, говорил о том, что стрелять их нельзя, потому что это боги, охраняющие женьшень от человека, говорил о злых духах, о наводнениях и т. д. Один раз на него напал тигр и сильно изранил. Жена искала его несколько дней подряд и по следам нашла, обессиленного от потери крови. Пока он болел, она ходила на охоту. Потом я стал его расспрашивать о том месте, где мы находимся. Он сказал, что это истоки реки Лефу и что завтра мы дойдём до первого жилища звероловов. Один из спящих стрелков проснулся, удивлённо посмотрел на нас обоих, пробормотал что-то про себя и заснул снова. На земле и на небе было ещё темно, только в той стороне, откуда подымались все новые звёзды, чувствовалось приближение рассвета. На землю пала обильная роса — верный признак, что завтра будет хорошая погода. Кругом царила торжественная тишина. Казалось, природа отдыхала тоже. Через час восток начал алеть. Я посмотрел на часы, было шесть часов утра. Пора было будить очередного артельщика. Я стал трясти его за плечо. Стрелок сел и начал потягиваться. Яркий свет костра резал ему глаза — он морщился. Затем, увидев Дерсу, проговорил, усмехнувшись: — Вот диво, человек какой-то!… — и начал обуваться. Небо из чёрного сделалось синим, а потом серым, мутным. Ночные тени стали жаться в кусты и овраги. Вскоре бивак наш опять ожил; заговорили люди, очнулись от оцепенения лошади, заверещала в стороне пищуха, ниже по оврагу ей стала вторить другая; послышался крик дятла и трещоточная музыка желны. Тайга просыпалась. С каждой минутой становилось всё светлее, и вдруг яркие солнечные лучи снопом вырвались из-за гор и озарили весь лес. Наш бивак принял теперь другой вид. На месте яркого костра лежала груда золы; огня почти не было видно; на земле валялись порожние банки из-под консервов; там, где стояла палатка, торчали одни жерди и лежала примятая трава.
Глава 3 Охота на кабанов

Изучение следов. — Забота о путнике. — Зверовая фанза. — Гора Тудинза и верховья реки Лефу. — Кабаны. — Анимизм Дерсу. — Сон
После чая стрелки начали вьючить коней. Дерсу тоже стал собираться. Он надел свою котомку, взял в руки сошки и берданку. Через несколько минут отряд наш тронулся в путь. Дерсу пошёл с нами. Ущелье, по которому мы шли, было длинное и извилистое. Справа и слева к нему подходили другие такие же ущелья. Из них с шумом бежала вода. Распадок[17] становился шире и постепенно превращался в долину. Здесь на деревьях были старые затёски, они привели нас на тропинку. Гольд шёл впереди и всё время внимательно смотрел под ноги. Порой он нагибался к земле и разбирал листву руками. — Что такое? — спросил я его. Дерсу остановился и сказал, что тропа эта не конная, а пешеходная, что идёт она по соболиным ловушкам, что несколько дней тому назад по ней прошёл один человек и что, по всей вероятности, это был китаец. Слова гольда нас всех поразили. Заметив, что мы отнеслись к нему с недоверием, он воскликнул: — Как ваша понимай нету? Посмотри сам! После этого он привёл такие доказательства, что все мои сомнения отпали разом. Всё было так ясно и так просто, что я удивился, как этого раньше я не заметил. Во-первых, на тропе нигде не было видно конских следов, во-вторых, по сторонам она не была очищена от ветвей; наши лошади пробирались с трудом и всё время задевали вьюками за деревья. Повороты были так круты, что кони не могли повернуться и должны были делать обходы; через ручьи следы шли по бревну, и нигде тропа не спускалась в воду; бурелом, преграждавший путь, не был прорублен; люди шли свободно, а лошадей обводили стороной. Все это доказывало, что тропа не была приспособлена для путешествий с вьюками. — Давно один люди ходи, — говорил Дерсу как бы про себя. — Люди ходи кончай, дождь ходи. — И он стал высчитывать, когда был последний дождь. Часа два шли мы по этой тропе. Мало-помалу хвойный лес начал заменяться смешанным. Всё чаще и чаще стали попадаться тополь, клён, осина, берёза и липа. Я хотел было сделать второй привал, но Дерсу посоветовал пройти ещё немного. — Наша скоро балаган найти есть, — сказал он и указал на деревья, с которых была снята кора. Я сразу понял его. Значит, поблизости должно быть то, для чего это корьё предназначалось. Мы прибавили шагу и через десять минут на берегу ручья увидели небольшой односкатный балаган, поставленный охотниками или искателями женьшеня. Осмотрев его кругом, наш новый знакомый опять подтвердил, что несколько дней тому назад по тропе прошёл китаец и что он ночевал в этом балагане. Прибитая дождём зола, одинокое ложе из травы и брошенные старые наколенники из дабы[18] свидетельствовали об этом. Теперь я понял, что Дерсу не простой человек. Передо мной был следопыт, и невольно мне вспомнились герои Купера и Майн-Рида. Надо было покормить лошадей. Я решил воспользоваться этим, лёг в тени кедра и тотчас же уснул. Часа через два меня разбудил Олентьев. Проснувшись, я увидел, что Дерсу наколол дров, собрал бересты и всё это сложил в балаган. Я думал, что он хочет его спалить, и начал отговаривать от этой затеи. Но вместо ответа он попросил у меня щепотку соли и горсть рису. Меня заинтересовало, что он хочет с ними делать, и я приказал дать просимое. Гольд тщательно обернул берестой спички, отдельно в бересту завернул соль и рис и повесил все это в балагане. Затем он поправил снаружи корьё и стал собираться. — Вероятно, ты думаешь вернуться сюда? — спросил я гольда. Он отрицательно покачал головой. Тогда я спросил его, для кого он оставил рис, соль и спички. — Какой-нибудь другой люди ходи, — отвечал Дерсу, — балаган найди, сухие дрова найди, спички найди, кушай найди — пропади нету! Помню, меня глубоко поразило это. Я задумался… Гольд заботился о неизвестном ему человеке, которого он никогда не увидит и который тоже не узнает, кто приготовил ему дрова и продовольствие. Я вспомнил, что мои люди, уходя с биваков, всегда жгли корьё на кострах. Делали они это не из озорства, а так просто, ради забавы, и я никогда их не останавливал. Этот дикарь был гораздо человеколюбивее, чем я. Забота о путнике!… Отчего же у людей, живущих в городах, это хорошее чувство, это внимание к чужим интересам заглохло, а оно, несомненно, было ранее. — Лошади готовы! Надо бы идти, — сказал подошедший ко мне Олентьев. Я очнулся. — Да, надо идти… Трогай! — сказал я стрелкам и пошёл вперёд по тропинке. К вечеру мы дошли до того места, где две речки сливаются вместе, откуда, собственно, и начинается Лефу[19]. Здесь она шириной 6 — 8 метров и имеет быстроту течения 120 — 140 метров в минуту. Глубина реки неравномерная и колеблется от 30 до 60 сантиметров. После ужина я рано лёг спать и тотчас уснул. На другой день, когда я проснулся, все люди были уже на ногах. Я отдал приказание седлать лошадей и, пока стрелки возились с вьюками, успел приготовить планшет и пошёл вперёд вместе с гольдом. От места нашего ночлега долина стала понемногу поворачивать на запад. Левые склоны её были крутые, правые — пологие. С каждым километром тропа становилась шире и лучше. В одном месте лежало срубленное топором дерево. Дерсу подошёл, осмотрел его и сказал: — Весной рубили; два люди работали: один люди высокий — его топор тупой, другой люди маленький — его топор острый. Для этого удивительного человека не существовало тайн. Как ясновидящий, он знал всё, что здесь происходило. Тогда я решил быть внимательнее и попытаться самому разобраться в следах. Вскоре я увидел ещё один порубленный пень. Кругом валялось множество щепок, пропитанных смолой. Я понял, что кто-то добывал растопку. Ну, а дальше? А дальше я ничего не мог придумать. — Фанза близко, — сказал гольд как бы в ответ на мои размышления. Действительно, скоро опять стали попадаться деревья, оголённые от коры (я уже знал, что это значит), а метрах в двухстах от них на самом берету реки среди небольшой полянки стояла зверовая фанза. Это была небольшая постройка с глинобитными стенами, крытая корьём. Она оказалась пустой. Это можно было заключить из того, что вход в неё был припёрт колом снаружи. Около фанзы находился маленький огородик, изрытый дикими свиньями, и слева — небольшая деревянная кумирня, обращённая как всегда лицом к югу. Внутренняя обстановка фанзы была грубая. Железный котёл, вмазанный в низенькую печь, от которой шли дымовые ходы, согревающие каны (нары), два-три долблёных корытца, деревянный ковш для воды, железный кухонный резак, металлическая ложка, метёлочка для промывки котла, две запылённые бутылки, кое-какие брошенные тряпки, одна или две скамеечки, масляная лампа и обрывки звериных шкур, разбросанные по полу, составляли все её убранство. Отсюда вверх по Лефу шли три тропы. Одна была та, по которой мы пришли, другая вела в горы на восток, и третья направлялась на запад. Эта последняя была многохоженая, конная. По ней мы пошли дальше. Люди закинули лошадям поводья на шею и предоставили им самим выбирать дорогу. Умные животные шли хорошо и всячески старались не зацеплять вьюками за деревья. В местах болотистых и на каменистых россыпях они не прыгали, а ступали осторожно, каждый раз пробуя почву ногой, прежде чем поставить её как следует. Этой сноровкой отличаются именно местные лошади, привыкшие к путешествиям в тайге с вьюками. От зверовой фанзы река Лефу начала понемногу загибать к северо-востоку. Пройдя ещё километров шесть, мы подошли к земледельческим фанзам, расположенным на правом берегу реки, у подножия высокой горы, которую китайцы называют Тудинза[20]. Неожиданное появление военного отряда смутило китайцев. Я велел Дерсу сказать им, чтобы они не боялись нас и продолжали свои работы. Мне хотелось посмотреть, как живут в тайге китайцы и чем они занимаются. Звериные шкуры, растянутые для просушки, изюбровые рога, сложенные грудой в амбаре, панты, подвешенные для просушки, мешочки с медвежьей желчью[21], оленьи выпоротки[22], рысьи, куньи, собольи и беличьи меха и инструменты для ловушек — всё это указывало на то, что местные китайцы занимаются не столько земледелием, сколько охотой и звероловством. Около фанз были небольшие участки обработанной земли. Китайцы сеяли пшеницу, чумизу и кукурузу. Они жаловались на кабанов и говорили, что недавно целые стада их спускались с гор в долины и начали травить поля. Поэтому пришлось собирать овощи, не успевшие дозреть, но теперь на землю осыпались жёлуди, и дикие свиньи удалились в дубняки. Солнце стояло ещё высоко, и я решил подняться на гору Тудинзу, чтобы оттуда осмотреть окрестности. Вместе со мной пошёл и Дерсу. Мы отправились налегке и захватили с собой только винтовки. Гора Тудинза представляет собой массив, круто падающий в долину реки Лефу и изрезанный глубокими падями с северной стороны. Пожелтевшая листва деревьев стала уже осыпаться на землю. Лес повсюду начинал сквозить, и только дубняки стояли ещё одетые в свой наряд, поблекший и полузасохший. Гора была крутая. Раза два мы садились и отдыхали, потом опять лезли вверх. Кругом вся земля была изрыта. Дерсу часто останавливался и разбирал следы. По ним он угадывал возраст животных, пол их, видел следы хромого кабана, нашёл место, где два кабана дрались и один гонял другого. С его слов всё это я представил себе ясно. Мне казалось странным, как это раньше я не замечал следов, а если видел их, то, кроме направления, в котором уходили животные, они мне ничего не говорили. Через час мы достигли вершины горы, покрытой осыпями. Здесь мы сели на камни и стали осматриваться. На востоке высился высокий водораздел между бассейном Лефу и водами, текущими в Даубихе. Другой горный хребет тянулся с востока на запад и служил границей между Лефу и рекой Майхе. На юго-востоке, там, где оба эти хребта сходились вместе, высилась куполообразная гора Да-дянь-шань. Отсюда, с вершины Тудинзы, нам хорошо был виден весь бассейн верхнего течения Лефу, слагающийся из трёх речек одинаковой величины. Две из них сливаются раньше и текут от востока-северо-востока, третья, та, по которой мы шли, имела направление меридиональное. Истоки каждой из них состоят из нескольких горных ручьёв, сливающихся в одно место. В топографическом отношении горы верхнего Лефу представляют собой плоские возвышенности с чрезвычайно крутыми склонами, покрытые густым смешанным лесом с большим преобладанием хвои. Близ земледельческих фанз река Лефу делает небольшую излучину, чему причиной является отрог, выдвинувшийся из южного массива, Затем она склоняется к югу, и, обогнув гору Тудинзу, опять поворачивает к северо-востоку, какое направление и сохраняет уже до самого своего впадения в озеро Ханка. Как раз против Тудинзы река Лефу принимает в себя ещё один приток — реку Отрадную. По этой последней идёт вьючная тропа на Майхе. — Посмотри, капитан, — сказал мне Дерсу, указывая на противоположный склон пади. — Что это такое? Я взглянул в указанном направлении и увидел какое-то тёмное пятно. Я думал, что это тень от облака, и высказал Дерсу своё предположение. Он засмеялся и указал на небо. Я посмотрел вверх. Небо было совершенно безоблачным: на беспредельной его синеве не было ни одного облачка. Через несколько минут пятно изменило свою форму и немного передвинулось в сторону. — Что это такое? — спросил я гольда, в свою очередь. — Тебе понимай нету, — отвечал он. — Надо ходи посмотри. Мы стали спускаться вниз. Скоро я заметил, что пятно тоже двигалось нам навстречу. Минут через десять гольд остановился, сел на камень и указал мне знаком, чтобы я сделал то же. — Наша тут надо дожидай, — сказал он. — Надо тихо сиди, чего-чего ломай не надо, говори тоже не надо. Мы стали ждать. Вскоре я опять увидел пятно. Оно возросло до больших размеров. Теперь я мог рассмотреть его составные части. Это были какие-то живые существа, постоянно передвигающиеся с места на место. — Кабаны! — воскликнул я. Действительно, это были дикие свиньи. Их было тут более сотни. Некоторые животные отходили в сторону, но тотчас опять возвращались назад. Скоро можно было рассмотреть каждое животное отдельно. — Один люди шибко большой, — тихонько проговорил Дерсу. Я не понял, про какого «человека» он говорил, и посмотрел на него недоумевающе. Посредине стада, как большой бугор, выделялась спина огромного кабана. Он превосходил всех своими размерами и, вероятно, имел около 250 килограммов веса. Стадо приближалось с каждой минутой. Теперь ясно были слышны шум сухой листвы, взбиваемой сотнями ног, треск сучьев, резкие звуки, издаваемые самцами, хрюканье свиней и визг поросят. — Большой люди близко ходи нету, — сказал Дерсу. И я опять его не понял. Самый крупный кабан был в центре стада, множество животных бродило по сторонам и некоторые отходили довольно далеко от табуна, так что, когда эти одиночные свиньи подошли к нам почти вплотную, большой кабан был ещё вне выстрела. Мы сидели и не шевелились. Вдруг один из ближайших к нам кабанов поднял кверху своё рыло. Он что-то жевал. Я как сейчас помню большую голову, насторожённые уши, свирепые глаза, подвижную морду с двумя носовыми отверстиями и белые клыки. Животное замерло в неподвижной позе, перестало есть и уставилось на нас злобными вопрошающими глазами. Наконец оно поняло опасность и издало резкий крик. Вмиг все стадо с шумом и фырканьем бросилось в сторону. В это мгновение грянул выстрел. Одно из животных грохнулось на землю. В руках Дерсу дымилась винтовка. Ещё несколько секунд в лесу был слышен треск ломаемых сучьев, затем всё стихло. Кабан, обитающий в Уссурийском крае (Sus scrofa continentalis Nehr.) — вид, близкий к японской дикой свинье, — достигает 295 килограммов веса и имеет наибольшие размеры: 2 метра в длину и 1 метр в высоту. Общая окраска животного бурая; спина и ноги чёрные, поросята всегда продольно-полосатые. Тело его овальное, несколько сжатое с боков и поддерживается четырьмя крепкими ногами. Шея короткая и очень сильная; голова клиновидная; морда оканчивается довольно твёрдым и подвижным «пятачком», при помощи которого дикая свинья копает землю. Кабан относится к бугорчато-зубным, но кроме корневых зубов самцы вооружены ещё острыми клыками, которые с возрастом увеличиваются, загибаются назад и достигают длины 20 сантиметров. Так как кабан любит тереться о стволы елей, кедров и пихт, жёсткая щетина его бывает часто запачкана смолой. Осенью во время холодов он валяется в грязи. От этого к щетине его примерзает вода, сосульки все увеличиваются и образуют иногда такой толстый слой льда, что он служит помехой его движениям. Область распространения диких свиней в Уссурийском крае тесно связана с распространением кедра, ореха, лещины и дуба. Северная граница этой области проходит от низов Хунгари, через среднее течение Анюя, верхнее — Хора и истоки Бикина, а оттуда идёт через Сихотэ-Алинь на север к мысу Успения. Одиночные кабаны попадаются и на реках Копи, Хади и Тумнину. Животное это чрезвычайно подвижное и сильное. Оно прекрасно видит, отлично слышит и имеет хорошее обоняние. Будучи ранен, кабан становится весьма опасен. Беда неразумному охотнику, который без мер предосторожности вздумает пойти по подранку. В этих случаях кабан ложится на свой след, головой навстречу преследователю. Завидев человека, он с такой стремительностью бросается на него, что последний нередко не успевает даже приставить приклад ружья к плечу и выстрелить. Кабан, убитый гольдом, оказался двухгодовалой свиньёй. Я спросилстарика, почему он не стрелял секача. — Его старый люди, — сказал он про кабана с клыками. — Его худо кушай, мясо мало-мало пахнет. Меня поразило, что Дерсу кабанов называет «людьми». Я спросил его об этом. — Его всё равно люди, — подтвердил он, — только рубашка другой. Обмани понимай, сердись понимай, кругом понимай! Всё равно люди… Для меня стало ясно. Воззрение на природу этого первобытного человека было анимистическое, и потому все окружающее он очеловечивал. На горе мы пробыли довольно долго. Незаметно кончился день. У облаков, столпившихся на западе, края светились так, точно они были из расплавленного металла. Сквозь них прорывались солнечные лучи и веерообразно расходились по небу. Дерсу наскоро освежевал убитого кабана, взвалил его к себе на плечи, и мы пошли к дому. Через час мы были уже на биваке. В китайских фанзах было тесно и дымно, поэтому я решил лечь спать на открытом воздухе вместе с Дерсу. — Моя думай, — сказал он, поглядывая на небо, — ночью тепло будет, завтра вечером — дождь… Я долго не мог уснуть. Всю ночь мне мерещилась кабанья морда с раздутыми ноздрями. Ничего другого, кроме этих ноздрей, я не видел Они казались мне маленькими точками. Потом вдруг увеличивались в размерах. Это была уже не голова кабана, а гора и ноздри — пещеры, и будто в пещерах опять кабаны с такими же дыроватыми мордами. Странно устроен человеческий мозг. Из впечатлений целого дня, из множества разнородных явлений и тысячи предметов, которые всюду попадаются на глаза, что-нибудь одно, часто даже не главное, а случайное, второстепенное, запоминается сильнее, чем всё остальное! Некоторые места, где у меня не было никаких приключений, я помню гораздо лучше, чем те, где что-нибудь случилось. Почему-то запомнились одно дерево, которое ничем не отличалось от других деревьев, муравейник, пожелтевший лист, один вид мха и т. д. Я думаю, что я мог бы вещи эти нарисовать подробно со всеми деталями.
Глава 4 Происшествие в корейской деревне

Приметы Дерсу о погоде. — Перестрелка. — Равнодушие корейцев — Деревня Казакевичево — Экскурсия на речные террасы. — Дерсу устраивается на ночь — Тропа до деревни Ляличи.
Утром я проснулся позже других. Первое, что мне бросилось в глаза, — отсутствие солнца. Все небо было в тучах. Заметив, что стрелки укладывают вещи так, чтобы их не промочил дождь, Дерсу сказал: — Торопиться не надо. Наша днём хорошо ходи, вечером будет дождь. Я спросил его, почему он так думает. — Тебе сам посмотри, — ответил гольд. — Видишь, маленькие птицы туда-сюда ходи, играй, кушай. Дождь скоро — его тогда тихонько сиди, все равно спи. Действительно, я вспомнил, что перед дождём всегда бывает тихо и сумрачно, а теперь — наоборот: лес жил полной жизнью; всюду перекликались дятлы, сойки и кедровки и весело посвистывали суетливые поползни. Расспросив китайца о дороге, мы тронулись в путь. После горы Тудинзы долина реки Лефу сразу расширяется (от 1 до 3 километров). Отсюда начинались жилые места. Часам к двум мы дошли до деревни Николаевки, в которой насчитывалось тогда тридцать шесть дворов. Отдохнув немного, я велел Олентьеву купить овса и накормить хорошенько лошадей, а сам вместе с Дерсу пошёл вперёд. Мне хотелось поскорей дойти до ближайшей деревни Казакевичево и устроить своих спутников на ночь под крышу. Осенью в пасмурный день всегда смеркается рано. Часов в пять начал накрапывать дождь. Мы прибавили шагу. Скоро дорога разделилась надвое. Одна шла за реку, другая как будто бы направлялась в горы. Мы выбрали последнюю. Потом стали попадаться другие дороги, пересекающие нашу в разных направлениях. Когда мы подходили к деревне, было уже совсем темно. В это время стрелки дошли до перекрёстка дорог и, не зная, куда идти, дали два выстрела. Опасаясь, что они могут заблудиться, я ответил им тем же. Вдруг в ближайшей фанзе раздался крик, и вслед за тем из окна её грянул выстрел, потом другой, третий, и через несколько минут стрельба поднялась по всей деревне. Я ничего не мог понять: дождь, крики, ружейная пальба… Что случилось, почему поднялся такой переполох? Вдруг из-за одной фанзы показался свет. Какой-то кореец нёс в одной руке керосиновый факел, а в другой берданку. Он бежал и кричал что-то по-своему. Мы бросились к нему навстречу. Неровный красноватый свет факела прыгал по лужам и освещал его искажённое страхом лицо. Увидев нас, кореец бросил факел на землю, выстрелил в упор в Дерсу и убежал. Разлившийся по земле керосин вспыхнул и загорелся дымным пламенем. — Ты не ранен? — спросил я Дерсу. — Нет, — сказал он и стал подымать факел. Я видел, что в него стреляют, а он стоял во весь свой рост, махал рукой и что-то кричал корейцам. Услышав стрельбу, Олентьев решил, что мы подверглись нападению хунхузов. Оставив при лошадях двух коноводов, он с остальными людьми бросился к нам на выручку. Наконец стрельба из ближайшей к нам фанзы прекратилась. Тогда Дерсу вступил с корейцами в переговоры. Они ни за что не хотели открывать дверей. Никакие увещевания не помогли. Корейцы ругались и грозили возобновить пальбу из ружей. Нечего делать, надо было становиться биваком. Мы разложили костры на берегу реки и начали ставить палатки. В стороне стояла старая развалившаяся фанза, а рядом с ней были сложены груды дров, заготовленных корейцами на зиму. В деревне стрельба долго ещё не прекращалась. Те фанзы, что были в стороне, отстреливались всю ночь. От кого? Корейцы и сами не знали этого. Стрелки и ругались и смеялись. На другой день была назначена днёвка. Я велел людям осмотреть седла, просушить то, что промокло, и почистить винтовки. Дождь перестал; свежий северо-западный ветер разогнал тучи; выглянуло солнце. Я оделся и пошёл осматривать деревню. Казалось бы, что после вчерашней перепалки корейцы должны были прийти на наш бивак и посмотреть людей, в которых они стреляли. Ничего подобного. Из соседней фанзы вышло двое мужчин. Они были одеты в белые куртки с широкими рукавами, в белые ватные шаровары и имели плетёную верёвочную обувь на ногах. Они даже не взглянули на нас и прошли мимо. Около другой фанзы сидел старик и крутил нитки. Когда я подошёл к нему, он поднял голову и посмотрел на меня такими глазами, в которых нельзя было прочесть ни любопытства, ни удивления. По дороге навстречу нам шла женщина, одетая в белую юбку и белую кофту; грудь её была открыта. Она несла на голове глиняный кувшин с водой и шла прямо, ровной походкой, глядя вниз на землю. Поравнявшись с нами, кореянка не посторонилась и, не поднимая глаз, прошла мимо. И всюду, куда я ни приходил, я видел то удивительное равнодушие, которым так отличаются корейцы. «Страна утреннего спокойствия», — вспомнилось мне название, данное Корее. Это спокойствие очень похоже на тупость. Казалось, здесь не было жизни, а были только одни механические движения. Корейцы живут хуторами. Фанзы их разбросаны на значительном расстоянии друг от друга, и каждая находится в середине своих полей и огородов. Вот почему небольшая корейская деревня сплошь и рядом занимает пространство в несколько квадратных километров. Возвращаясь назад к биваку, я вошёл в одну из фанз. Тонкие стены её были обмазаны глиной изнутри и снаружи. В фанзе имелось трое дверей с решётчатыми окнами, оклеенными бумагой. Соломенная четырёхскатная крыша была покрыта сетью, сплетённой из сухой травы. Корейские фанзы все одинаковы. Внутри их имеется глиняный кан. Он занимает больше половины помещения. Под каном проходят печные трубы, согревающие полы в комнатах и распространяющие тепло по всему дому. Дымовые ходы выведены наружу в большое дуплистое дерево, заменяющее трубу. В одной половине фанзы, где находятся каны, помещаются люди, в другой, с земляным полом, — куры, лошади и рогатый скот. Жилая половина дощатыми перегородками разделяется ещё на отдельные комнаты, устланные чистыми циновками. В одной комнате помещаются женщины с детьми, в других — мужчины и гости. В фанзе я увидел ту самую женщину, которая переходила нам дорогу с кувшином на голове. Она сидела на корточках и деревянным ковшом наливала в котёл воду. Делала она это медленно, высоко поднимала ковш кверху и лила воду как-то странно — через руку в правую сторону. Она равнодушно взглянула на меня и молча продолжала своё дело. На кане сидел мужчина лет пятидесяти и курил трубку. Он не шевельнулся и ничего не ответил на моё приветствие. Я посидел с минуту, затем вышел на улицу и направился к своим спутникам. После обеда я отправился экскурсировать по окрестностям. Переправившись на другую сторону реки, я поднялся на возвышенность. Это была древняя речная терраса, высотой в 20 метров. Нижние слои её состоят из песчаников, верхний — из пористой лавы. Большие пустоты в лаве свидетельствовали о том, что в момент извержения она была сильно насыщена газами. Многие пустоты выполнены каким-то минералом чёрного и серо-синего цвета. С высоты террасы мне открывался чудный вид на долину реки Лефу. Правый берег, где расположилась деревня Казакевичево, был низменный. В этих местах Лефу принимает в себя четыре притока: Малую Лефу и Пичинзу — с левой стороны и Ивановку и Лубянку — с правой. Между устьями двух последних, на такой же древней речной террасе, расположилось большое село Ивановское, насчитывающее около двухсот дворов[23]. Дальше долина Лефу становится расплывчатой. Пологие холмы, мало возвышающиеся над общим уровнем, покрыты дубовым и чёрно-берёзовым редколесьем. Часа два я бродил по окрестностям и наконец опять подошёл к обрыву. День склонялся к вечеру. По небу медленно ползли лёгкие розовые облачка. Дальние горы, освещённые последними лучами заходящего солнца, казались фиолетовыми. Оголённые от листвы деревья приняли однотонную серую окраску. В нашей деревне по-прежнему царило полное спокойствие. Из длинных труб фанз вились белые дымки. Они быстро таяли в прохладном вечернем воздухе. По дорожкам кое-где мелькали белью фигуры корейцев. Внизу, у самой реки, горел огонь. Это был наш бивак. Когда я возвращался назад, уже смеркалось. Вода в реке казалась чёрной, и на спокойной поверхности её отражались пламя костра и мигающие на небе звезды. Около огня сидели стрелки: один что-то рассказывал, другие смеялись. — Ужинать! — крикнул артельщик. Смех и шутки сразу прекратились. После чая я сел у огня и стал записывать в дневнике свои наблюдения. Дерсу разбирал свою котомку и поправлял костёр. — Мало-мало холодно, — сказал он, пожимая плечами. — Иди спать в фанзу, — посоветовал я ему. — Не хочу, — ответил он, — моя всегда так спи. Затем он натыкал позади себя несколько ивовых прутьев и обтянул их полотнищами палатки, потом постелил на землю козью шкуру, сел на неё и, накинув себе на плечи кожаную куртку, закурил трубку. Через несколько минут я услышал лёгкий храп. Он спал. Голова его свесилась на грудь, руки опустились, погасшая трубка выпала изо рта и лежала на коленях… «И так всю жизнь, — подумал я. — Каким тяжёлым трудом, ценой каких лишений добывал себе этот человек средства к жизни!» Но тотчас я поймал себя на другой мысли: едва ли бы этот зверолов согласился променять свою свободу. Дерсу по-своему был счастлив. В стороне глухо шумела река; где-то за деревней лаяла собака; в одной из фанз плакал ребёнок. Я завернулся в бурку, лёг спиной к костру и сладко уснул. На другой день чуть свет мы все были уже на ногах. Ночью наши лошади, не найдя корма на корейских пашнях, ушли к горам на отаву. Пока их разыскивали, артельщик приготовил чай и сварил кашу. Когда стрелки вернулись с конями, я успел закончить свои работы. В восемь часов утра мы выступили в путь. От описанного села Казакевичево[24] по долине реки Лефу есть две дороги. Одна из них, кружная, идёт на село Ивановское, другая, малохоженая и местами болотистая, идёт по левому берегу реки. Мы выбрали последнюю. Чем дальше, тем долина всё более и более принимала характер луговой. По всем признакам видно было, что горы кончаются. Они отодвинулись куда-то в сторону, и на место их выступили широкие и пологие увалы, покрытые кустарниковой порослью. Дуб и липа дровяного характера с отмёрзшими вершинами растут здесь кое-где группами и в одиночку. Около самой реки — частые насаждения ивы, ольхи и черёмухи. Наша тропа стала принимать влево, в горы и увела нас от реки километра на четыре. В этот день мы немного не дошли до деревни Ляличи[25] и заночевали в шести километрах от неё. Вечером я сидел с Дерсу у костра и беседовал с ним о дальнейшем маршруте по реке Лефу. Гольд говорил, что далее пойдут обширные болота и бездорожье, и советовал плыть на лодке, а лошадей и часть команды оставить в Ляличах. Совет его был вполне благоразумный. Я последовал ему и только изменил местопребывание команды.
Глава 5 Нижнее течение Лефу

Ночёвка около деревни Ляличи. — Море травы. — Осенний перелёт птиц. — Стрельба Дерсу. — Село Халкидон. — Живая вода и живой огонь. — Пернатое население болот. — Теневой сегмент земли. — Тяжёлое состояние после сна. — Перемена погоды
На другое утро я взял с собой Олентьева и стрелка Марченко, а остальных отправил в село Черниговку с приказанием дожидаться там моего возвращения. При содействии старосты нам очень скоро удалось заполучить довольно сносную плоскодонку. За неё мы отдали двенадцать рублей деньгами и две бутылки водки. Весь день был употреблён на оборудование лодки. Дерсу сам приспособлял весла, устраивал из колышков уключины, налаживал сиденья и готовил шесты. Я любовался, как работа у него в руках спорилась и кипела. Он никогда не суетился, все действия его были обдуманы, последовательны, и ни в чём не было проволочек. Видно было, что он в жизни прошёл такую школу, которая приучила его быть энергичным, деятельным и не тратить времени понапрасну. Случайно в одной избе нашлись готовые сухари. А больше нам ничего не надо было. Всё остальное — чай, сахар, соль, крупу и консервы — мы имели в достаточном количестве. В тот же вечер по совету гольда все имущество было перенесено в лодку, а сами мы остались ночевать на берету. Ночь выпала ветреная и холодная. За недостатком дров огня большого развести было нельзя, и потому все зябли и почти не спали. Как я ни старался завернуться в бурку, но холодный ветер находил где-нибудь лазейку и знобил то плечо, то бок, то спину. Дрова были плохие, они трещали и бросали во все стороны искры. У Дерсу прогорело одеяло. Сквозь дремоту я слышал, как он ругал полено, называя его по-своему — «худой люди». — Его постоянно так гори — все равно кричи, — говорил он кому-то и при этом изобразил своим голосом, как трещат дрова. — Его надо гоняй. После этого я слышал всплеск по реке и шипение головешки. Очевидно, старик бросил её в воду. Потом мне удалось как-то согреться, и я уснул. Ночью я проснулся и увидел Дерсу, сидящего у костра. Он поправлял огонь. Ветер раздувал пламя во все стороны. Поверх бурки на мне лежало одеяло гольда. Значит, это он прикрыл меня, вот почему я и согрелся. Стрелки тоже были прикрыты его палаткой. Я предлагал Дерсу лечь на моё место, но он отказался. — Не надо, капитан, — сказал он. — Тебе спи, моя буду караулить огонь. Его шибко вредный, — он указал на дрова. Чем ближе я присматривался к этому человеку, тем больше он мне нравился. С каждым днём я открывал в нём новые достоинства. Раньше я думал, что эгоизм особенно свойствен дикому человеку, а чувство гуманности, человеколюбия и внимания к чужому интересу присуще только европейцам. Не ошибся ли я? Под эти мысли я опять задремал и проспал до утра. Когда совсем рассвело, Дерсу разбудил нас. Он согрел чай и изжарил мясо. После завтрака я отправил команду с лошадьми в Черниговку, затем мы спустили лодку в воду и тронулись в путь. Подгоняемая шестами, лодка наша хорошо шла по течению. Километров через пять мы достигли железнодорожного моста и остановились на отдых. Дерсу рассказал, что в этих местах он бывал ещё мальчиком с отцом, они приходили сюда на охоту за козами. Про железную дорогу он слышал от китайцев, но никогда её раньше не видел. После краткого отдыха мы поплыли дальше. Около железнодорожного моста горы кончились. Я вышел из лодки и поднялся на ближайшую сопку, чтобы в последний раз осмотреться во все стороны. Красивая панорама развернулась перед моими глазами. Сзади, на востоке, толпились горы: на юге были пологие холмы, поросшие лиственным редколесьем; на севере, насколько хватал глаз, расстилалось бесконечное низменное пространство, покрытое травой. Сколько я ни напрягал зрение, я не мог увидеть конца этой низины. Она уходила вдаль и скрывалась где-то за горизонтом. Порой по ней пробегал ветер. Трава колыхалась и волновалась, как море. Кое-где группами и в одиночку росли чахлые берёзки и другие какие-то деревья. С горы, на которой я стоял, реку Лефу далеко можно было проследить по ольшаникам и ивнякам, растущим по её берегам в изобилии. Вначале она сохраняет своё северо-восточное направление, но, не доходя сопок, видневшихся на западе километрах в восьми, поворачивает на север и немного склоняется к востоку. Бесчисленное множество протоков, слепых рукавов, заводей и озерков окаймляет её с обеих сторон. Низина эта казалась безжизненной и пустынной. Ярко блестевшие на солнце в разных местах лужи свидетельствовали о том, что долина Лефу в дождливый период года легко затопляется водой. На всём этом пространстве Лефу принимает в себя с левой стороны два притока: Сандуган[26] и Хунухезу[27]. Последняя протекает по такой же низменной и болотистой долине, как и сама Лефу. К полудню мы доехали ещё до одной возвышенности, расположенной на самом берегу реки, с левой стороны. Сопка эта высотою 120 — 140 метров покрыта редколесьем из дуба, берёзы, липы, клёна, ореха и акаций. Отсюда шла тропинка, вероятно, к селу Вознесенскому, находящемуся западнее, километрах в двенадцати. Во вторую половину дня мы проехали ещё столько же и стали биваком довольно рано. Долгое сидение в лодке наскучило, и потому всем хотелось выйти и размять онемевшие члены. Меня тянуло в поле. Олентьев и Марченко принялись устраивать бивак, а мы с Дерсу пошли на охоту. С первого же шага буйные травы охватили нас со всех сторон. Они были так высоки и так густы, что человек в них казался утонувшим. Внизу, под ногами, — трава, спереди и сзади — трава, с боков — тоже трава и только вверху — голубое небо. Казалось, что мы шли по дну травяного моря. Это впечатление становилось ещё сильнее, когда, взобравшись на какую-нибудь кочку, я видел, как степь волновалась. С робостью и опаской я опять погружался в траву и шёл дальше. В этих местах так же легко заблудиться, как и в лесу. Мы несколько раз сбивались с дороги, но тотчас же спешили исправить свои ошибки. Найдя какую-нибудь кочку, я взбирался на неё и старался рассмотреть что-нибудь впереди. Дерсу хватал вейник и полынь руками и пригибал их к земле. Я смотрел вперёд, в стороны, и всюду передо мной расстилалось бесконечное волнующееся травяное море. Главными представителями этих трав будут: тростники (Phragmites communis Trin.) высотой до 3 метров, вейник (Calamagrostis willosa Mutel) — 1,5 метра, полынь (Artemisia wulgaris L.) — 2 метра и др. Из древесных пород, растущих по берегам проток, можно отметить кустарниковую лозу (Salix wiminalis L.), осину (Populus tremula L.), белую берёзу (Betula latifolia Tausch), ольху (Ainus hirsuta Turcz.) и др. Население этих болотистых степей главным образом пернатое. Кто не бывал в низовьях Лефу во время перелёта, тот не может себе представить, что там происходит. Тысячи тысяч птиц большими и малыми стаями тянулись к югу. Некоторые шли в обратном направлении, другие — наискось в сторону. Вереницы их то подымались кверху, то опускались вниз, и все разом, ближние и дальние, проектировались на фоне неба, в особенности внизу, около горизонта, который вследствие этого казался как бы затянутым паутиной. Я смотрел, как очарованный. Выше всех были орлы. Распластав свои могучие крылья, они парили, описывая большие круги. Что для них расстояния? Некоторые из них кружились так высоко, что едва были заметны. Ниже их, но всё же высоко над землёй, летели гуси. Эти осторожные птицы шли правильными косяками и, тяжело вразброд махая крыльями, оглашали воздух своими сильными криками. Рядом с ними летели казарки и лебеди. Внизу, близко к земле, с шумом неслись торопливые утки. Тут были стаи грузной кряквы, которую легко можно было узнать по свистящему шуму, издаваемому её крыльями, и совсем над водой тысячами летели чирки и другие мелкие утки. Там и сям в воздухе виднелись канюки и пустельга. Эти представители соколов описывали красивые круги, подолгу останавливались на одном месте и, трепеща крыльями, зорко высматривали на земле добычу. Порой они отлетали в сторону, опять описывали круги и вдруг, сложив крылья, стремглав бросались книзу, но, едва коснувшись травы, снова быстро взмывали вверх. Грациозные и подвижные чайки и изящные проворные крачки своей снежной белизной мелькали в синеве лазурного неба. Кроншнепы летели легко, плавно и при полёте своём делали удивительно красивые повороты. Остроклювые крохали на лету посматривали по сторонам, точно выискивая место, где бы им можно было остановиться. Сивки-моряки держались болотистых низин. Лужи стоячей воды, видимо, служили для них вехами, по которым они и держали направление. И вся масса птиц неслась к югу. Величественная картина! Вдруг совершенно неожиданно откуда-то взялись две козули. Они были от нас шагах в шестидесяти. В густой траве их почти не было видно — мелькали только головы с растопыренными ушами и белые пятна около задних ног. Отбежав шагов полтораста, козули остановились. Я выпалил из ружья и промахнулся. Раскатистое эхо подхватило звук выстрела и далеко разнесло его по реке. Тысячи птиц поднялись от воды и с криком полетели во все стороны. Испуганные козули сорвались с места и снова пошли большими прыжками. Тогда прицелился Дерсу. И в тот момент, когда голова одной из них показалась над травой, он спустил курок. Когда дым рассеялся, животных уже не было видно. Гольд снова зарядил свою винтовку и не торопясь пошёл вперёд. Я молча последовал за ним. Дерсу огляделся, потом повернул назад, пошёл в сторону и опять вернулся обратно. Видно было, что он что-то искал. — Кого ты ищешь? — спросил я его. — Козулю, — отвечал он. — Да ведь она ушла. — Нет, — сказал он уверенно. — Моя в голову его попади. Я принялся тоже искать убитое животное, хотя и не совсем верил гольду. Мне казалось, что он ошибся. Минут через десять мы нашли козулю. Голова её оказалась, действительно, простреленной. Дерсу взвалил её себе на плечи и тихонько пошёл обратно. На бивак мы возвратились уже в сумерки. Вечерняя заря ещё пыталась было бороться с надвигающейся тьмой, но не могла её осилить, уступила и ушла за горизонт. Тотчас на небе замигали звезды, словно и они обрадовались тому, что наконец-то солнце дало им свободу. Около протоки темнела какая-то роща. Деревьев теперь разобрать было нельзя: они все стали похожи друг на друга. Сквозь них виднелся свет нашего костра. Вечер был тихий и прохладный. Слышно было, как где-то неподалёку от нас с шумом опустилась в воду стая уток. По полёту можно было узнать, что это были чирки. После ужина Дерсу и Олентьев принялись свежевать козулю, а я занялся своей работой. Покончив с дневником, я лёг, но долго не мог уснуть. Едва я закрывал глаза, как передо мной тотчас появлялась качающаяся паутина: это было волнующееся травяное море и бесчисленные стаи гусей и уток. Наконец под утро я уснул. На следующий день мы встали довольно рано, наскоро напились чаю, уложили свои пожитки в лодку и поплыли по Лефу. Чем дальше, тем извилистее становилась река. Кривуны её (так местные жители называют извилины) описывают почти полные окружности и вдруг поворачивают назад, опять загибаются, и нет места, где река хоть бы немного текла прямо. В нижнем течении Лефу принимает в себя с правой стороны два небольших притока: Монастырку и Черниговку. Множество проток и длинных слепых рукавов идёт перпендикулярно к реке, наискось и параллельно ей и образует весьма сложную водную систему. Километров на восемь ниже Монастырки горы подходят к Лефу и оканчиваются здесь безымянной сопкой в 290 метров высоты. У подножия её расположилась деревня Халкидон. Это было последнее в здешних местах селение. Дальше к северу до самого озера Ханка жилых мест не было. Взятые с собой запасы продовольствия подходили к концу. Надо было их пополнить. Мы вытащили лодку на берег и пошли в деревню. Посредине её проходила широкая улица, дома стояли далеко друг от друга. Почти все крестьяне были старожилами и имели надел в сто десятин. Я вошёл в первую попавшуюся избу. Нельзя сказать, чтобы на дворе было чисто, нельзя сказать, чтобы чисто было и в доме. Мусор, разбросанные вещи, покачнувшийся забор, сорванная с петель дверь, почерневший от времени и грязи рукомойник свидетельствовали о том, что обитатели этого дома не особенно любили порядок. Когда мы зашли во двор, навстречу нам вышла женщина с ребёнком на руках. Она испуганно посторонилась и робко ответила на моё приветствие. Я невольно обратил внимание на окна. Они были с двойными рамами в четыре стекла. Пространство же между ними почти до половины нижних стёкол было заполнено чем-то серовато-желтоватым. Сначала я думал, что это опилки, и спросил хозяйку, зачем их туда насыпали. — Какие это опилки, — сказала женщина, — это комары. Я подошёл поближе. Действительно, это были сухие комары. Их тут было по крайней мере с полкилограмма. — Мы только и спасаемся от них двумя рамами в окнах, — продолжала она. — Они залезают между стёкол и там пропадают. А в избе мы раскладываем дымокуры и спим в комарниках. — А вы бы выжигали траву в болотах, — сказал ей стрелок Марченко. — Мы выжигали, да ничего не помогает. Комары-то из воды выходят. Что им огонь! Летом трава сырая, не горит. В это время подошёл Олентьев и сообщил, что хлеб куплен. Обойдя всю деревню, мы вернулись к лодке. Тем временем Дерсу изжарил на огне козлятину и согрел чай. На берег за нами прибежали деревенские ребятишки. Они стояли в стороне и поглядывали на нас с любопытством. Через полчаса мы тронулись дальше. Я оглянулся назад. Ребята по-прежнему толпились на берегу и провожали нас глазами. Река сделала поворот, и деревня скрылась из виду. Трудно проследить русло Лефу в лабиринте его проток. Ширина реки здесь колеблется от 15 до 80 метров. При этом она отделяет от себя в сторону большие слепые рукава, от которых идут длинные, узкие и глубокие каналы, сообщающиеся с озёрами и болотами или с такими речками, которые также впадают в Лефу значительно ниже. По мере того как мы подвигались к озеру Ханка, течение становилось медленнее. Шесты, которыми стрелки проталкивали лодку вперёд, упираясь в дно реки, часто завязали, и настолько крепко, что вырывались из рук. Глубина Лефу в этих местах весьма неровная. То лодка наша натыкалась на мели, то проходила по глубоким местам, так что без малого весь шест погружался в воду. Почва около берегов более или менее твёрдая, но стоит только отойти немного в сторону, как сразу попадёшь в болото. Среди зарослей скрываются длинные озерки. Эти озерки и кусты ивняков и ольшаников, растущие рядами, свидетельствуют о том, что река Лефу раньше текла иначе и несколько раз меняла своё русло. К вечеру мы немного не дошли до реки Черниговки и стали биваком на узком перешейке между ней и небольшой протокой. Сегодня был особенно сильный перелёт. Олентьев убил несколько уток, которые и составили нам превосходный ужин. Когда стемнело, все птицы прекратили свой лет. Кругом сразу воцарилась тишина. Можно было подумать, что степи эти совершенно безжизненны, а между тем не было ни одного озерка, ни одной заводи, ни одной протоки, где не ночевали бы стада лебедей, гусей, крохалей, уток и другой водяной птицы. Вечером Марченко и Олентьев улеглись спать раньше нас, а мы с Дерсу, по обыкновению, сидели и разговаривали. Забытый на огне чайник настойчиво напоминал о себе шипением. Дерсу отставил его немного, но чайник продолжал гудеть. Дерсу отставил его ещё дальше. Тогда чайник запел тоненьким голоском. — Как его кричи! — сказал Дерсу. — Худой люди! — Он вскочил и вылил горячую воду на землю. — Как «люди»? — спросил я его в недоумении. — Вода, — отвечал он просто. — Ему могу кричи, могу плакать, могу тоже играй. Долго мне говорил этот первобытный человек о своём мировоззрении. Он видел живую силу в воде, видел её тихое течение и слышал её рёв во время наводнений. — Посмотри, — сказал Дерсу, указывая на огонь, — его тоже всё равно люди. Я взглянул на костёр. Дрова искрились и трещали. Огонь вспыхивал то длинными, то короткими языками, то становился ярким, то тусклым; из угольев слагались замки, гроты, потом все это разрушалось и созидалось вновь. Дерсу умолк, а я долго ещё сидел и смотрел на «живой огонь». В реке шумно всплеснула рыба. Я вздрогнул и посмотрел на Дерсу. Он сидел и дремал. В степи по-прежнему было тихо. Звезды на небе показывали полночь. Подбросив дров в костёр, я разбудил гольда, и мы оба стали укладываться на ночь. На следующий день мы все проснулись очень рано. Вышло это как-то случайно, само собой. Как только начала заниматься заря, пернатое царство поднялось на воздух и с шумом и гамом снова понеслось к югу. Первыми снялись гуси, за ними пошли лебеди, потом утки, и уже последними тронулись остальные перелётные птицы. Сначала они низко летели над землёй, но по мере того как становилось светлее, поднимались всё выше и выше. До восхода солнца мы успели отплыть от бивака километров восемь и дошли до горы Чайдинзы[28], покрытой ильмом и осиной. У подножия её протекает небольшая речка Сяохеза[29]. Здесь долина реки Лефу становится шириной более 40 километров. С левой стороны её на огромном протяжении тянутся сплошные болота. Лефу разбивается на множество рукавов, которые имеют десятки километров длины. Рукава разбиваются на протоки и, в свою очередь, дают ответвления. Эти протоки тянутся широкой полосой по обе стороны реки и образуют такой лабиринт, в котором очень легко заблудиться, если не держаться главного русла и польститься на какой-нибудь рукав в надежде сократить расстояние. Кроме упомянутой Сяохезы, в Лефу впадают ещё две речки: Люганка — с правой стороны и Сеузгу[30] — с левой. Дальше до самого озера Ханка никаких притоков нет. Мы плыли по главному руслу и только в случае крайней нужды сворачивали в сторону, с тем чтобы при первой же возможности выйти на реку снова. Протоки эти, заросшие лозой и камышами, совершенно скрывали нашу лодку. Мы плыли тихо и нередко подходили к птицам ближе, чем на ружейный выстрел. Иногда мы задерживались нарочно и подолгу рассматривали их. Прежде всего я заметил белую цаплю с чёрными ногами и жёлто-зелёным клювом. Она чинно расхаживала около берега, покачивала в такт головой и внимательно рассматривала дно реки. Заметив лодку, птица подпрыгнула два раза, грузно поднялась на воздух и, отлетев немного, снова спустилась на соседней протоке. Потом мы увидели выпь. Серовато-жёлтая окраска перьев, грязно-жёлтый клюв, жёлтые глаза и такие же жёлтые ноги делают её удивительно непривлекательной. Эта угрюмая птица ходила сгорбившись по песку и всё время преследовала подвижного и хлопотливого кулика-сороку. Кулик отлетал немного, и, как только садился на землю, выпь тотчас же направлялась туда шагом и, когда подходила близко, бросалась бегом и старалась ударить его своим острым клювом. Заметив лодку, выпь забилась в траву, вытянула шею и, подняв голову кверху, замерла на месте. Когда лодка проходила мимо, Марченко выстрелил в неё, но не попал, хотя пуля прошла так близко, что задела рядом с ней камышины. Выпь не шелохнулась. Дерсу рассмеялся… — Его шибко хитрый люди. Постоянно так обмани, — сказал он. Действительно, теперь выпь нельзя уже было заметить, окраска её оперения и поднятый кверху клюв совершенно затерялись в траве. Дальше мы увидели новую картину. Низко над водой около берега на ветке лозняка уединённо сидел зимородок. Эта маленькая птичка с большой головой и с большим клювом, казалось, дремала. Вдруг она ринулась в воду, нырнула и снова показалась на поверхности, держа в клюве маленькую рыбку. Проглотив добычу, зимородок сел на ветку и опять погрузился в дремоту, но, услышав шум приближающейся лодки, с криком понёсся вдоль реки. Яркой синевой мелькнуло его оперенье. Отлетев немного, он уселся на куст, потом отлетел ещё дальше и наконец совсем скрылся за поворотом. Раза два мы встречали болотных курочек-лысух — чёрных ныряющих птичек с большими ногами, легко и свободно ходивших по листьям водяных растений. Но в воздухе они казались беспомощными. Видно было, что это не их родная стихия. При полёте они как-то странно болтали ногами. Создавалось впечатление, будто они недавно вышли из гнезда и ещё не научились летать как следует. Кое-где в стоячих водах держались поганки с торчащими в сторону ушами и с воротничками из цветных перьев. Они не улетали, а спешили спрятаться в траве или нырнуть в воду. Погода нам благоприятствовала. Был один из тех тёплых осенних дней, которые так часто бывают в Южно-Уссурийском крае в октябре. Небо было совершенно безоблачное, ясное; лёгкий ветерок тянул с запада. Такая погода часто обманчива, и нередко после неё начинают дуть холодные северо-западные ветры, и чем дольше стоит такая тишь, тем резче будет перемена. Часов в одиннадцать утра мы сделали большой привал около реки Люганки. После обеда люди легли отдыхать, а я пошёл побродить по берегу. Куда я ни обращал свой взор, я всюду видел только траву и болото. Далеко на западе чуть-чуть виднелись туманные горы. По безлесным равнинам кое-где, как оазисы, темнели пятна мелкой кустарниковой поросли. Пробираясь к ним, я спугнул большую болотную сову — «ночную птицу открытых пространств», которая днём всегда прячется в траве. Она испуганно шарахнулась в сторону от меня и, отлетев немного, опять опустилась в болото. Около кустов я сел отдохнуть и вдруг услышал слабый шорох. Я вздрогнул и оглянулся. Но страх мой оказался напрасным. Это были камышовки. Они порхали по тростникам, поминутно подёргивая хвостиком. Затем я увидел двух крапивников. Миловидные рыжевато-пёстрые птички эти всё время прятались в зарослях, потом выскакивали вдруг где-нибудь с другой стороны и скрывались снова под сухой травой. Вместе с ними была одна камышовка-овсянка. Она всё время лазала по тростникам, нагибала голову в сторону и вопрошающе на меня посматривала. Я видел здесь ещё много других мелких птиц, названия которых мне были неизвестны. Через час я вернулся к своим. Марченко уже согрел чай и ожидал моего возвращения. Утолив жажду, мы сели в лодку и поплыли дальше. Желая пополнить свой дневник, я спросил Дерсу, следы каких животных он видел в долине Лефу с тех пор, как мы вышли из гор и начались болота. Он отвечал, что в этих местах держатся козули, енотовидные собаки, барсуки, волки, лисицы, зайцы, хорьки, выдры, водяные крысы, мыши и землеройки. Во вторую половину дня мы прошли ещё километров двенадцать и стали биваком на одном из многочисленных островов. Сегодня мы имели случай наблюдать на востоке теневой сегмент земли. Вечерняя заря переливалась особенно яркими красками. Сначала она была бледная, потом стала изумрудно-зелёной, и по этому зелёному фону, как расходящиеся столбы, поднялись из-за горизонта два светло-жёлтых луча. Через несколько минут лучи пропали. Зелёный свет зари сделался оранжевым, а потом красным. Самое последнее явление заключалось в том, что багрово-красный горизонт стал тёмным, словно от дыма. Одновременно с закатом солнца на востоке появился теневой сегмент земли. Одним концом он касался северного горизонта, другим — южного. Внешний край этой тени был пурпуровый, и чем ниже спускалось солнце, тем выше поднимался теневой сегмент. Скоро пурпуровая полоса слилась с красной зарёй на западе, и тогда наступила тёмная ночь. Я смотрел и восторгался, но в это время услышал, что Дерсу ворчит: — Понимай нету! Я догадался, что это замечание относилось ко мне, и спросил его, в чём дело. — Это худо, — сказал он, указывая на небо. — Моя думай, будет большой ветер. Вечером мы долго сидели у огня. Утром встали рано, за день утомились и поэтому, как только поужинали, тотчас же легли спать. Предрассветный наш сон был какой-то тяжёлый. Во всём теле чувствовались истома и слабость, движения были вялые. Так как это состояние ощущалось всеми одинаково, то я испугался, думая, что мы заболели лихорадкой или чем-нибудь отравились, но Дерсу успокоил меня, что это всегда бывает при перемене погоды. Нехотя мы поехали и нехотя поплыли дальше. Погода была тёплая; ветра не было совершенно; камыши стояли неподвижно и как будто дремали. Дальние горы, виденные дотоле ясно, теперь совсем утонули во мгле. По бледному небу протянулись тонкие растянутые облачка, и около солнца появились венцы. Я заметил, что кругом уже не было такой жизни, как накануне. Куда-то исчезли и гуси, и утки, и все мелкие птицы. Только на небе парили орланы. Вероятно, они находились вне тех атмосферных изменений, которые вызвали среди всех животных на земле общую апатию и сонливость. — Ничего, — говорил Дерсу. — Моя думай, половина солнца кончай, другой ветер найди есть. Я спросил его, отчего птицы перестали летать, и он прочёл мне длинную лекцию о перелёте. По его словам, птицы любят двигаться против ветра. При полном штиле и во время тёплой погоды они сидят на болотах. Если ветер дует им вслед, они зябнут, потому что холодный воздух проникает под перья. Тогда птицы прячутся в траве. Только неожиданный снегопад может принудить пернатых лететь дальше, невзирая на ветер и стужу. Чем ближе мы подвигались к озеру Ханка, тем болотистее становилась равнина. Деревья по берегам проток исчезли, и их место заняли редкие, тощие кустарники. Замедление течения в реке тотчас сказалось на растительности. Появились лилии, кувшинки, курослеп, водяной орех и т. д. Иногда заросли травы были так густы, что лодка не могла пройти сквозь них, и мы вынуждены были делать большие обходы. В одном месте мы заблудились и попали в какой-то тупик. Олентьев хотел было выйти из лодки, но едва вступил на берег, как провалился и увяз по колено. Тогда мы повернули назад, вошли в какое-то озеро и там случайно нашли свою протоку. Лабиринт, заросший травой, остался теперь позади, и мы могли радоваться, что отделались так дёшево. С каждым днём ориентировка становится все труднее и труднее. Раньше по деревьям можно было далеко проследить реку, теперь же нигде не было даже кустов, вследствие этого на несколько метров вперёд нельзя было сказать, куда свернёт протока, влево или вправо. Предсказание Дерсу сбылось. В полдень начал дуть ветер с юга. Он постепенно усиливался и в то же время менял направление к западу. Гуси и утки снова поднялись в воздух и полетели низко над землёй. В одном месте было много плавникового леса, принесённого сюда во время наводнений. На Лефу этим пренебрегать нельзя, иначе рискуешь заночевать без дров. Через несколько минут стрелки разгружали лодку, а Дерсу раскладывал огонь и ставил палатку. До озера Ханка оставалось немного. Я знал, что река здесь отклоняется к северо-востоку и впадает в восточный угол залива Лебяжьего, названного так потому, что во время перелётов здесь всегда держится много лебедей. Этот залив длиной от 6 до 8 и шириной около одного километра. Он очень мелководен и соединяется с озером узкой протокой. Таким образом, для того чтобы достигнуть озера на лодке, нужно было пройти ещё километров пятнадцать, а напрямик целиной — не более двух с половиной или трёх. Выло решено, что завтра мы вместе с Дерсу пойдём пешком и к сумеркам вернёмся назад. Олентьев и Марченко должны были остаться на биваке и ждать нашего возвращения. Вечером у всех было много свободного времени. Мы сидели у костра, пили чай и разговаривали между собой. Сухие дрова горели ярким пламенем. Камыши качались и шумели, и от этого шума ветер казался сильнее, чем он был на самом деле. На небе лежала мгла, и сквозь неё чуть-чуть виднелись только крупные звёзды. С озера до нас доносился шум прибоя. К утру небо покрылось слоистыми облаками. Теперь ветер дул с северо-запада. Погода немного ухудшилась, но не настолько, чтобы помешать нашей экскурсии.
Глава 6 Пурга на озере Ханка

Исторические и географические сведения об озере Ханка. — Торопливый перелёт птиц. — Заблудились. — Пурга. — Шалаш из травы. — Возвращение на бивак. — Путь до Дмитровки. — Дерсу заботится о лодке. — Бивак гольда за деревней. — Планы Дерсу. — Прощание. — Возвращение во Владивосток
Озеро Ханка (по-гольдски Кенка) имеет несколько яйцевидную форму. Оно расположено (между 440 36' и 450 2' северной широты) таким образом, что закруглённый овал его находится на севере, а острый конец — на юге. С боков этот овал немного сжат. Наибольшая ширина озера равна 60 километрам, наименьшая — 30. В окружности оно около 260 километров и в длину — 85. Это даёт площадь в 2400 квадратных километров. На севере Ханка имеет ещё один придаток — озеро Малое Ханка (по-китайски Сяо-Ху и по-гольдски — Дабуку). Оно длиной в 15, шириной 25 километров и отделено от большого озера только песчаной косой, по которой в прежнее время пролегал путь из Маньчжурии в Уссурийский край. Верхняя часть озера Ханка (приблизительно четвёртая) принадлежит Китаю. Граница между обоими государствами проходит здесь по прямой линии от устья реки Тур (по-китайски Бай-мин-хе[31]) к реке Сунгаче (по-китайски Сун-ачан[32]), берущей начало из озера Ханка в точке, имеющей следующие географические координаты: 450 27' северной широты к 1500 10' восточной долготы от Ферро на высоте 86 метров над уровнем моря. При Ляосской династии озеро Ханка называлось Бэйцинхай, а в настоящее время — Ханка, Хинкай и Синкайху, что значит Озеро процветания и благоденствия. Надо полагать, что название озера Ханка произошло от другого слова, именно от слова «ханхай», что значит «впадина». Этим именем китайцыназывают всякое пониженное место, будет ли это сухая или заполненная водой котловина. Так они называют, например, западную часть пустыни Такла-Макан. Озеро Ханка с окрестными болотами действительно представляет собой впадину, и потому название Ханхай вполне ему соответствует. Сплошные топи и болота на севере, западе и к югу от озера свидетельствуют о том, что раньше оно было значительно больше. Устье Лефу было где-нибудь около Халкидона, а может быть, и ещё южнее. Река Сунгача[33], вероятно, тоже не существовала, и озеро соединялось непосредственно с Уссури протокой. В настоящее время озеро Ханка выше уровня моря не более как на 50 метров. Средняя высота хребта, отделяющего Суйфунский[34] бассейн от озера, равняется 180 метрам. Этим объясняется обилие болот и топей по долинам рек внутреннего бассейна. Самый древний берег озера Ханка — западный. Здесь в обнажениях видна глина третичной формации. Самыми старыми посёлками на озере будут: Турий Рог и Камень-Рыболов. Ханка, как и все озера, через которые проходит река, находится в периоде обмеления. Наибольшая глубина его равна 10 метрам. Этот медленный процесс заполнения озера песком и илом продолжается и теперь. Вследствие мелководья оно очень бурное. Небольшое волнение уже достигает дна, поэтому прибой создаётся не только у берегов, но и посредине. Сделав нужные распоряжения, мы с Дерсу отправились в путь. Мы полагали, что к вечеру возвратимся назад, и потому пошли налегке, оставив все лишнее на биваке. На всякий случай под тужурку я надел фуфайку, Дерсу захватил с собой полотнище палатки и две пары меховых чулок. По дороге он часто посматривал на небо, что-то говорил с собой и затем обратился ко мне с вопросом: — Как, капитан, наша скоро назад ходи или нет? Моя думай, ночью будет худо. Я ответил ему, что до Ханки недалеко и что задерживаться мы там не будем. Дерсу был сговорчив. Его всегда можно было легко уговорить. Он считал своим долгом предупредить об угрожающей опасности и, если видел, что его не слушают, покорялся, шёл молча и никогда не спорил. — Хорошо, капитан, — сказал он мне в ответ. — Тебе сам посмотри, а моя как ладно, так и ладно. Последняя фраза была обычной формой выражения им своего согласия. Идти можно было только по берегам проток и озерков, где почва была немного суше. Мы направились левым берегом той протоки, около которой был расположен наш бивак. Она долгое время шла в желательном для нас направлении, но потом вдруг круто повернула назад. Мы оставили её и, перейдя через болотце, вышли к другой узкой, но очень глубокой протоке. Перепрыгнув через неё, мы снова пошли камышами. Затем я помню, что ещё другая протока появилась у нас слева. Мы направились по правому её берегу. Заметив, что она загибается к югу, мы бросили её и некоторое время шли целиной, обходя лужи стоячей воды и прыгая на кочки. Так, вероятно, прошли мы километра три. Наконец я остановился, чтобы ориентироваться. Теперь ветер дул с севера, как раз со стороны озера. Тростник сильно качался и шумел. Порой ветер пригибал его к земле, и тогда являлась возможность разглядеть то, что было впереди. Северный горизонт был затянут какой-то мглой, похожей на дым. Сквозь тучи на небе неясно просвечивало солнце, и это казалось мне хорошим предзнаменованием. Наконец мы увидели озеро Ханка. Оно пенилось и бурлило. Дерсу обратил моё внимание на птиц. Он заметил у них что-то такое, что стало его беспокоить. Это не был спокойный перелёт, это было торопливое бегство. Птица, как говорят охотники, шла валом и в беспорядке. Гуси летели низко, почти над самой землёй. Странный вид имели они, когда двигались нам навстречу и находились на линии зрения. В это время они были похожи на древних летучих ящеров. Ни ног, ни хвоста не было видно — виднелось что-то кургузое, махающее длинными крыльями и приближающееся с невероятной быстротой. Увидев нас, гуси сразу взмывали кверху, но, обойдя опасное место, опять выстраивались в прежний порядок и снова спускались к земле. Около полудня мы с Дерсу дошли до озера. Грозный вид имело теперь пресное море. Вода в нём кипела, как в котле. После долгого пути по травяным болотам вид свободной водяной стихии доставлял большое удовольствие. Я сел на песок и стал глядеть в воду. Что-то особенно привлекательное есть в прибое. Можно целыми часами смотреть, как бьётся вода о берег. Озеро было пустынным. Нигде ни одного паруса, ни одной лодки. Около часу мы бродили по берегу и стреляли птиц. — Утка кончай ходи, — сказал Дерсу вслух. Действительно, перелёт птиц сразу прекратился. Чёрная мгла, которая дотоле была у горизонта, вдруг стала подыматься кверху. Солнца теперь уже совсем не было видно. По тёмному небу, покрытому тучами, точно вперегонки бежали отдельные белесоватые облака. Края их были разорваны и висели клочьями, словно грязная вата. — Капитан, надо наша скоро ходи назад, — сказал Дерсу. — Моя мало-мало боится. В самом деле, пора было подумать о возвращении на бивак. Мы переобулись и пошли обратно. Дойдя до зарослей, я остановился, чтобы в последний раз взглянуть на озеро. Точно разъярённый зверь на привязи, оно металось в своих берегах и вздымало кверху желтоватую пену. — Вода прибавляй есть, — сказал Дерсу, осматривая протоку. Он был прав. Сильный ветер гнал воду к устью Лефу, вследствие чего река вышла из берегов и понемногу стала затоплять равнину. Вскоре мы подошли к какой-то большой протоке, преграждавшей нам путь. Место это мне показалось незнакомым. Дерсу тоже не узнал его. Он остановился, подумал немного и пошёл влево. Протока стала заворачиваться и ушла куда-то в сторону. Мы оставили её и пошли напрямик к юту. Через несколько минут мы попали в топь и должны были возвратиться назад к протоке. Тогда мы повернули направо, наткнулись на новую протоку и перешли её вброд. Отсюда мы пошли на восток, но попали в трясину. В одном месте мы нашли сухую полоску земли. Как мост, тянулась она через болото. Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперёд и, пройдя с полкилометра, очутились на сухом месте, густо заросшем травой. Топь теперь осталась позади. Я взглянул на часы. Было около четырёх часов пополудни, а казалось, как будто наступили уже сумерки. Тяжёлые тучи опустились ниже и быстро неслись к югу. По моим соображениям, до реки оставалось не более двух с половиной километров. Одинокая сопка вдали, против которой был наш бивак, служила нам ориентировочным пунктом. Заблудиться мы не могли, могли только запоздать. Вдруг совершенно неожиданно перед нами очутилось довольно большое озеро. Мы решили обойти. Но оно оказалось длинным. Тогда мы пошли влево. Шагов через полтораста перед нами появилась новая протока, идущая к озеру под прямым углом. Мы бросились в другую сторону и вскоре опять подошли к тому же зыбучему болоту. Тогда я решил ещё раз попытать счастья в правой стороне. Скоро под ногами стала хлюпать вода; дальше виднелись большие лужи. Стало ясно, что мы заблудились. Дело принимало серьёзный оборот. Я предложил гольду вернуться назад и разыскать тот перешеек, который привёл нас на этот остров. Дерсу согласился. Мы пошли обратно, но вторично его найти уже не могли. Вдруг ветер сразу упал. Издали донёсся до нас шум озера Ханка. Начало смеркаться, и одновременно с тем в воздухе закружилось несколько снежинок. Штиль продолжался несколько минут, и вслед за тем налетел вихрь. Снег пошёл сильнее. «Придётся ночевать», — подумал я и вдруг вспомнил, что на этом острове нет дров: ни единого деревца, ни единого кустика, ничего, кроме воды и травы. Я испугался. — Что будем делать? — спросил я Дерсу. — Моя шибко боится, — отвечал он. Тут я только понял весь ужас нашего положения. Ночью во время пурги нам приходилось оставаться среди болот без огня и тёплой одежды. Единственная моя надежда была на Дерсу. В нём одном я видел своё спасение.

— Слушай, капитан! — сказал он. — Хорошо слушай! Надо наша скоро работай. Хорошо работай нету — наша пропал. Надо скоро резать траву. Я не спрашивал его, зачем это было нужно. Для меня было только одно понятно — «надо скорее резать траву». Мы быстро сняли с себя все снаряжение и с лихорадочной поспешностью принялись за работу. Пока я собирал такую охапку травы, что её можно было взять в одну руку, Дерсу успевал нарезать столько, что еле обхватывал двумя руками. Ветер дул порывами и с такой силой, что стоять на ногах было почти невозможно. Моя одежда стала смерзаться. Едва успевали мы положить на землю срезанную траву, как сверху её тотчас заносило снегом. В некоторых местах Дерсу не велел резать траву. Он очень сердился, когда я его не слушал. — Тебе понимай нету! — кричал он. — Тебе надо слушай и работай. Моя понимай. Дерсу взял ремни от ружей, взял свой пояс, у меня в кармане нашлась верёвочка. Всё это он свернул и сунул к себе за пазуху. Становилось всё темнее и холоднее. Благодаря выпавшему снегу можно было кое-что рассмотреть на земле. Дерсу двигался с поразительной энергией. Как только я прекращал работу, он кричал мне, что надо торопиться. В голосе его слышались нотки страха и негодования. Тогда я снова брался за нож и работал до изнеможения. На рубашку мне навалилось много снега. Он стал таять, и я почувствовал, как холодные струйки воды потекли по спине. Я думаю, мы собирали траву более часа. Пронзительный ветер и колючий снег нестерпимо резали лицо. У меня озябли руки. Я стал согревать их дыханием и в это время обронил нож. Заметив, что я перестал работать, Дерсу вновь крикнул мне: — Капитан, работай! Моя шибко боится! Скоро совсем пропади! Я сказал, что потерял нож. — Рви траву руками, — крикнул он, стараясь пересилить шум ветра. Автоматически, почти бессознательно я ломал камыши, порезал руки, но боялся оставить работу и продолжал рвать траву до тех пор, пока окончательно не обессилел. В глазах у меня стали ходить круги, зубы стучали, как в лихорадке. Намокшая одежда коробилась и трещала. На меня напала дремота. «Так вот замерзают», — мелькнуло у меня в голове, и вслед за тем я впал в какое-то забытьё. Сколько времени продолжалось это обморочное состояние — я не знаю. Вдруг я почувствовал, что меня кто-то трясёт за плечо. Я очнулся. Надо мной, наклонившись, стоял Дерсу. — Становись на колени, — сказал он мне. Я повиновался и упёрся руками в землю. Дерсу накрыл меня своей палаткой, а затем сверху стал заваливать травой. Сразу стало теплее. Закапала вода. Дерсу долго ходил вокруг, подгребал снег и утаптывал его ногами. Я стал согреваться и затем впал в тяжёлое дремотное состояние. Вдруг я услышал голос Дерсу: — Капитан, подвинься! Я сделал над собой усилие и прижался в сторону. Гольд вполз под палатку, лёг рядом со мной и стал покрывать нас обоих своей кожаной курткой. Я протянул руку и нащупал на ногах у себя знакомую мне меховую обувь. — Спасибо, Дерсу, — говорил я ему. — Покрывайся сам. — Ничего, ничего, капитан, — отвечал он. — Теперь бояться не надо. Моя крепко трава вязки. Ветер ломай не могу. Чем больше засыпало нас снегом, тем теплее становилось в нашем импровизированном шалаше. Капанье сверху прекратилось. Снаружи доносилось завывание ветра. Точно где-то гудели гудки, звонили в колокола и отпевали покойников. Потом мне стали грезиться какие-то пляски, куда-то я медленно падал, всё ниже и ниже, и наконец погрузился в долгий и глубокий сон… Так, вероятно, мы проспали часов двенадцать. Когда я проснулся, было темно и тихо. Вдруг я заметил, что лежу один. — Дерсу! — крикнул я испуганно. — Медведи! — услышал я голос его снаружи. — Медведи! Вылезай. Надо своя берлога ходи, как чужой берлога долго спи. Я поспешно вылез наружу и невольно закрыл глаза рукой. Кругом все белело от снега. Воздух был свежий, прозрачный. Морозило. По небу плыли разорванные облака; кое-где виднелось синее небо. Хотя кругом было ещё хмуро и сумрачно, но уже чувствовалось, что скоро выглянет солнце. Прибитая снегом трава лежала полосами. Дерсу собрал немного сухой ветоши, развёл небольшой огонёк и сушил на нём мои обутки. Теперь я понял, почему Дерсу в некоторых местах не велел резать траву. Он скрутил её и при помощи ремней и верёвок перетянул поверх шалаша, чтобы его не разметало ветром. Первое, что я сделал, — поблагодарил Дерсу за спасение. — Наша вместе ходи, вместе работай. Спасибо не надо. И, как бы желая перевести разговор на другую тему, он сказал: — Сегодня ночью много люди пропади. Я понял, что «люди», о которых говорил Дерсу, были пернатые. После этого мы разобрали травяной шатёр, взяли свои ружья и пошли искать перешеек. Оказалось, что наш бивак был очень близко от него. Перейдя через болото, мы прошли немного по направлению к озеру Ханка, а потом свернули на восток к реке Лефу. После пурги степь казалась безжизненной и пустынной. Гуси, утки, чайки, крохали — все куда-то исчезли. По буро-жёлтому фону большими пятнами белели болота, покрытые снегом. Идти было славно, мокрая земля подмёрзла и выдерживала тяжесть ноги человека. Скоро мы вышли на реку и через час были на биваке. Олентьев и Марченко не беспокоились о нас. Они думали, что около озера Ханка мы нашли жильё и остались там ночевать. Я переобулся напился чаю, лёг у костра и крепко заснул. Мне грезилось, что я опять попал в болото и кругом бушует снежная буря. Я вскрикнул и сбросил с себя одеяло. Был вечер. На небе горели яркие звёзды; длинной полосой протянулся Млечный Путь. Поднявшийся ночью ветер раздувал пламя костра и разносил искры по полю. По другую сторону огня спал Дерсу. На другой день утром ударил крепкий мороз. Вода всюду замёрзла, по реке шла шуга. Переправа через протоки Лефу отняла у нас целый день. Мы часто попадали в слепые рукава и должны были возвращаться назад. Пройдя километра два нашей протокой, мы свернули в соседнюю — узкую и извилистую. Там, где она соединялась с главным руслом, высилась отдельная коническая сопка, покрытая порослью дубняка. Здесь мы и заночевали. Это был последний наш бивак. Отсюда следовало идти походным порядком в Черниговку, где нас ожидали остальные стрелки с конями. Уходя с бивака, Дерсу просил Олентьева помочь ему вытащить лодку на берег. Он старательно очистил её от песка и обтёр травой, затем перевернул вверх дном и поставил на катки. Я уже знал, что это делается для того, чтобы какой-нибудь «люди» мог в случае нужды ею воспользоваться. Утром мы распрощались с Лефу и в тот же день после полудня пришли в деревню Дмитровку, расположенную по ту сторону Уссурийской железной дороги. Переходя через полотно дороги, Дерсу остановился, потрогал рельсы рукой, посмотрел в обе стороны и сказал: — Гм! Моя это слыхал. Кругом люди говорили. Теперь понимай есть. В деревне мы встали по квартирам, но гольд не хотел идти в избу и, по обыкновению, остался ночевать под открытым небом. Вечером я соскучился по нём и пошёл его искать. Ночь была хотя и тёмная, но благодаря выпавшему снегу можно было кое-что рассмотреть. Во всех избах топились печи. Беловатый дым струйками выходил из труб и спокойно подымался кверху. Вся деревня курилась. Из окон домов свет выходил на улицу и освещал сугробы. В другой стороне, «на задах», около ручья, виднелся огонь. Я догадался, что это бивак Дерсу, и направился прямо туда. Гольд сидел у костра и о чём-то думал. — Пойдём в избу чай пить, — сказал я ему. Он не ответил мне и в свою очередь задал вопрос: — Куда завтра ходи? Я ответил, что пойдём в Черниговку, а оттуда — во Владивосток, и стал приглашать его с собой. Я обещал в скором времени опять пойти в тайгу, предлагал жалованье… Мы оба задумались. Не знаю, что думал он, но я почувствовал, что в сердце моё закралась тоска. Я стал снова рассказывать ему про удобства и преимущества жизни в городе. Дерсу слушал молча. Наконец он вздохнул и проговорил: — Нет, спасибо, капитан. Моя Владивосток не могу ходи. Чего моя там работай? Охота ходи нету, соболя гоняй тоже не могу, город живи — моя скоро пропади. «В самом деле, — подумал я, — житель лесов не выживет в городе, и не делаю ли я худо, что сбиваю его с того пути, на который он встал с детства?» Дерсу замолчал. Он, видимо, обдумывал, что делать ему дальше. Потом, как бы отвечая на свои мысли, сказал: — Завтра моя прямо ходи. — Он указал рукой на восток. — Четыре солнца ходи, Даубихе найди есть, потом Улахе ходи, потом — Фудзин, Дзуб-Гын[35] и море. Моя слыхал, там на морской стороне чего-чего много: соболь есть, олень тоже есть. Долго мы ещё с ним сидели у огня и разговаривали. Ночь была тихая и морозная. Изредка набегающий ветерок чуть-чуть шелестел дубовой листвой, ещё не опавшей на землю. В деревне давно уже все спали, только в том доме, где поместился я со своими спутниками, светился огонёк. Созвездие Ориона показывало полночь. Наконец я встал, попрощался с гольдом, пошёл к себе в избу и лёг спать. Какая-то неприятная тоска овладела мной. За это короткое время я успел привязаться к Дерсу. Теперь мне жаль было с ним расставаться. С этими мыслями я и задремал. На следующее утро первое, что я вспомнил, — это то, что Дерсу должен уйти от нас. Напившись чаю, я поблагодарил хозяев и вышел на улицу. Стрелки были уже готовы к выступлению. Дерсу был тоже с нами. С первого же взгляда я увидел, что он снарядился в далёкий путь. Котомка его была плотно уложена, пояс затянут, унты хорошо надеты. Отойдя от Дмитровки с километр, Дерсу остановился. Настал тяжёлый момент расставания. — Прощай, Дерсу, — сказал я ему, пожимая руку. — Дай бог тебе всего хорошего. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Прощай! Быть может, когда-нибудь увидимся. Дерсу попрощался со стрелками, затем кивнул мне головой и пошёл в кусты налево. Мы остались на месте и смотрели ему вслед. В двухстах метрах от нас высилась небольшая горка, поросшая мелким кустарником. Минут через пять он дошёл до неё. На светлом фоне неба отчётливо вырисовывалась его фигура с котомкой за плечами, с сошками и с ружьём в руках. В этот момент яркое солнце взошло из-за гор и осветило гольда. Поднявшись на гривку, он остановился, повернулся к нам лицом, помахал рукой и скрылся за гребнем. Словно что оторвалось у меня в груди. Я почувствовал, что потерял близкого мне человека. — Хороший он человек, — сказал Марченко. — Да, таких людей мало, — ответил ему Олентьев. «Прощай, Дерсу, — подумал я. — Ты спас мне жизнь. Я никогда не забуду этого». В сумерки мы дошли до Черниговки и присоединились к отряду. Вечером в тот же день я выехал во Владивосток, к месту своей постоянной службы.
Глава 7 Сборы в дорогу и снаряжение экспедиции (1906 год)

Новая экспедиция. — Состав отряда. — Вьючный обоз. — Научное снаряжение. — Одежда и обувь. — Продовольствие. — Работа путешественника. — Отъезд. — Река Уссури. — Растительность около станции Шмаковка. — Пресмыкающиеся. — Грызуны. — Птицы. — Порядок дня в походе. — Село Успенка. — Даубихе и Улахе. — Болото. — Охота за пчёлами. Борьба пчёл с муравьями
Прошло четыре года. За это время произошли некоторые перемены в моём служебном положении. Я переехал в Хабаровск, где Приамурский отдел Русского географического общества предложил мне организовать экспедицию для обследования хребта Сихотэ-Алинь и береговой полосы в Уссурийском крае: от залива Ольги на север, насколько позволит время, а также верховьев рек Уссури и Имана. Моими помощниками были назначены Гранатман, Анофриев и Мерзляков. Кроме того, в состав экспедиционного отряда вошли шесть сибирских стрелков (Дьяков, Егоров, Загурский, Мелян, Туртыгин, Бочкарёв) и четыре уссурийских казака (Белоножкин, Эпов, Мурзин, Кожевников). Кроме лиц, перечисленных в приказе, в экспедиции приняли ещё участие: бывший в это время начальником штаба округа генерал-лейтенант П. К. Рутковский и в качестве флориста — лесничий Н. А. Пальчевский. Цель экспедиции — естественно-историческая. Маршруты были намечены по рекам Уссури, Улахе и Фудзину по десятиверстной и в прибрежном районе — по сорокавёрстной картам издания 1889 года. В то время все сведения о центральной части Сихотэ-Алиня были крайне скудны и не заходили за пределы случайных рекогносцировок. Что же касается побережья моря к северу от залива Ольги, то о нём имелись лишь отрывочные сведения от морских офицеров, посещавших эти места для промеров бухт и заливов. Наши сборы в экспедицию начались в половине марта и длились около двух месяцев. Мне предоставлено было право выбора стрелков из всех частей округа, кроме войск инженерных и крепостной артиллерии. Благодаря этому в экспедиционный отряд попали лучшие люди, преимущественно сибиряки Тобольской и Енисейской губерний. Правда, это был народ немного угрюмый и малообщительный, но зато с детства привыкший переносить всякие невзгоды. В путешествие просилось много людей. Я записывал всех, а затем наводил справки у ротных командиров и исключал жителей городов и занимавшихся торговлей. В конце концов в отряде остались только охотники и рыболовы. При выборе обращалось внимание на то, чтобы все умели плавать и знали какое-нибудь ремесло. Кроме стрелков, в экспедицию всегда просится много посторонних лиц. Все эти «господа» представляют себе путешествие как лёгкую и весёлую прогулку. Они никак не могут понять, что это тяжёлый труд. В их представлении рисуются: караваны, палатки, костры, хороший обед и отличная погода. Но они забывают про дожди, гнус[36], голодовки и множество других лишений, которым постоянно подвергается всякий путешественник, как только он минует селения и углубится в лесную пустыню. Собираются ехать всегда многие, а выезжают на сборный пункт два или три человека. Уже накануне отъезда начинаешь получать письма примерно такого содержания: «Вследствие изменившихся обстоятельств ехать не могу. Желаю счастливого пути…» и т. д. На сборном пункте получаешь такие же телеграммы. Наконец прибывают двое. Один из них имеет вид воскресшего охотника, другой — скромный, серьёзный, ко всему присматривающийся. Первый много говорит, все зло критикует и с видом бывалого человека гордо едет впереди отряда, едет до тех пор, пока не надоест ему безделье и пока погода благоприятствует. Но лишь только спрыснет дождь или появятся комары, он тотчас поворачивает назад, проклиная тот день и час, когда задумал идти в путешествие. Второй участник экспедиции, которого я назвал «скромный», идёт молча и работает. К нему вскоре все привыкают. Такие люди всегда оставляют по себе хорошие воспоминания. Так было и в данном случае: собирались ехать многие, а поехали только те, кто был перечислен выше. Теперь необходимо сказать несколько слов о том, как был организован вьючный обоз экспедиции. В отряде было двенадцать лошадей. Очень важно, чтобы люди изучили коней и чтобы лошади, в свою очередь, привыкли к людям. Заблаговременно надо познакомить стрелков с уходом за лошадью, познакомить с седловкой и с конским снаряжением, надо приучить лошадей к носке вьюков и т. д. Для этого команда собрана была дней за тридцать до похода. Вьючные седла с нагрудниками и шлеями были хорошо пригнаны к лошадям и приспособлены как для перевозки тяжестей, так и для верховой езды. Впрочем, все участники экспедиции шли пешком, и лошадьми никто не пользовался. Особое внимание было обращено на седельные ленчики. Дужки их были сделаны высокими, полочки правильно разогнутыми и потники из лучшего войлока — толстые и мягкие. В таких случаях никогда не надо скупиться на расходы. Надо помнить, что раз упущено на месте сборов, того уже нельзя будет исправить в дороге. Крепкие недоуздки с железными кольцами, торбы и путы, ковочный инструмент и гвозди, запас подков (по три пары на каждого коня) и колокольчик для передовой лошади, которая на пастбище водит весь табун за собой, дополняли конское снаряжение. Кроме того, для каждой лошади были сшиты головные покрывала с наушниками. Без этих приспособлений кони сильно страдают от мошки. Она набивается в уши и разъедает их до крови. Вьюками были брезентовые мешки и походные ящики, обитые кожей и окрашенные масляной краской. Такие ящики удобно переносимы на конских вьюках, помещаются хорошо в лодках и на нартах. Они служили нам и для сидений и столами. Если не мешать имущество в ящиках и не перекладывать его с одного места на другое, то очень скоро запоминаешь, где что лежит, и в случае нужды рассёдлываешь ту лошадь, которая несёт искомый груз. Из животных, кроме лошадей, в отряде ещё были две собаки: одна моя — Альпа, другая командная — Леший, крупная зверовая, по складу и по окраске напоминающая волка. Научное снаряжение экспедиции состояло из следующих инструментов[37]: буссоли Шмалькальдера, шагомера, секундомера, двух барометров-анероидов, гипсотермометров, термометров для измерения температуры воздуха и воды, анемометра, геологического молотка, горного компаса, рулетки, фотографического аппарата, тетрадей, карандашей и бумаги. Затем были ящики для собирания насекомых, препарировочные инструменты, пресс, бумага для сушки растений, банки с формалином и т. д. Кроме упомянутых инструментов, в отряде набралось ещё много походного инвентаря, как-то: котлы, чайники, топоры, поперечная пила, сапёрная лопата, паяльник, струг, напильники и пр. Все стрелки были вооружены трёхлинейными винтовками (без штыков) кавалерийского образца, приспособленными для носки на ремне. На каждого было взято по 300 патронов, из которых по 50 патронов находилось при себе, остальные были отправлены на питательные базы, устроенные на берегу моря. Кроме этого оружия, в экспедиции были две винтовки системы Маузера и Винчестера, малокалиберное ружьё Франкота и двухствольный дробовик Зауэра. Снаряжение стрелков состояло из следующих предметов: финские ножи, патронташи, носившиеся вместо поясов, кручёные верёвки длиной в 2 метра с кольцами и небольшие кожаные сумки для разной мелочи (иголки, нитки, крючки, гвозди и т. д.). Холщовые мешки с бельём стрелки приспособили для носки на спине, сообразно чему перешили лямки. Вес вьюка каждого участника экспедиции равнялся 12 — 15 килограммам. Летняя одежда стрелков состояла из рубах и шаровар защитного цвета и лёгких фуражек. Нарукавники, стягивающие рукава около кистей рук, летом служили для защиты от комаров и мошек, а зимой для того, чтобы холодный ветер не задувал под одежду. Вместо сапог были сшиты унты по туземному образцу. Эта обувь оказалась наиболее пригодной. Правда, она скоро промокала, но зато скоро и высыхала. Ноги от колена до ступни обматывались суконными лентами, Сначала это не ладилось, ленты спадали с ног, закатанные туго — давили икры, но потом сукно вытянулось, люди приспособились и уже всю дорогу шли не оправляясь. На зиму были запасены шинели, тёплые куртки, фуфайки, шаровары, шитые из верблюжьего сукна, шерстяные чулки, башлыки, рукавицы и папахи. Зимняя обувь — те же унты, только большего размера, для того чтобы можно было набивать их сухой травой и надевать на тёплую портянку. Из опыта прежних лет выяснилось, что только тогда можно хорошо работать, когда ночью выспишься как следует. Днём от комаров ещё можно найти защиту, но вечером от мелких мошек уже нет спасения. Эти отвратительные насекомые всю ночь не дают сомкнуть глаз. Люди нервничают и с нетерпением ждут рассвета. Единственной защитой является комарник; он сшивается из белой дрели, через которую воздух легко проникает. Он устроен таким образом, что когда в нём вставляли поперечные распорки и за кольца привязывали к деревьям, то получалось нечто вроде футляра, в котором можно было лежать, сидеть и работать. На случай дождя над комарником растягивался тент в виде двускатной крыши. Вместо постели у каждого имелись тонкие войлоки, обшитые с одной стороны непромокаемым брезентом, под которые подвёртывались края пологов. Таким образом, комарники спасали людей от дождя, от холодного ветра и от докучливых насекомых. Участники экспедиции, ведшие научные работы, имели каждый по особому комарнику, а стрелки по одному на два человека, для чего их пологи шились больше размерами. Осенью, с исчезновением насекомых, когда ночи делаются холоднее, из комарников ставятся односкатные палатки. Перед ними раскладываются длинные костры, дающие много тепла и света. Теперь относительно продовольствия. Общий запас его был рассчитан на шесть месяцев и состоял из муки, галет, риса, чумизы, экспортного масла, сухой прессованной зелени, соли, перца, горохового порошка, клюквенного экстракта, сахара и чая. Ящики с продовольствием были отправлены на питательные базы заблаговременно и выгружены при устьях рек Тадушу, Тютихе, в заливе Джигит и в бухте Терней. Там, где поблизости жили люди, ящики оставили близ их жилья, там же, где берег был пустынный, их просто сложили в кучу и прикрыли брезентом, обозначив место вехой. Хлебные сухари брались только в сухое время года, осенью и зимой. Летом они жадно впитывают в себя влагу из воздуха, и чем больше их прикрывать брезентами, тем скорее они портятся. То же самое и мясной порошок. Через двадцать четыре часа после вскрытия банки он уже слипается в комки, а ещё через сутки начинает цвести и издавать запах. Мы сушили мясо тонкими ломтями. Правда, оно занимало много места и это не спасало его от плесени, но всё же его можно было употреблять в пищу. Перед тем как класть мясо в котёл, его надо опалить на огне; тогда плесень сгорает и мясо становится мягким и съедобным. Сухой яичный белок и шоколад, предназначенные на случай голодовок, везлись как неприкосновенный запас в особых цинковых коробках. Гораздо легче сохранять белую муку. Для этого следует кулёк с мукой снаружи смочить. Вода, проникшая сквозь холст, смешивается с мукой и образует слой теста в палец толщиной. Таким образом получается корка, совершенно непроницаемая для сырости; вместе с тем мешок становится твёрдым и не рвётся в дороге. В отряде имелась хорошо подобранная походная аптечка, набор хирургических инструментов (бритва, ножницы, пинцеты, ланцеты, иглы, шёлк, иглодержатель, ушной баллон, глазная ванночка, шприц Праватца) и значительное количество перевязочного материала 14 мая всё было готово, 15-го числа была отправлена по железной дороге команда с лошадьми, а 16-го выехали из Хабаровска и все остальные участники экспедиции. Сборным пунктом была назначена станция Шмаковка, находящаяся несколько южнее того места, где железная дорога пересекает реку Уссури. К путешественнику предъявляются следующие требования: он должен уметь организовать экспедицию и исполнить все подготовительные работы на месте ещё задолго до выступления; должен уметь собрать коллекции; уметь вести дневник; знать, на что обратить внимание: отличить ценное от рухляди; уметь доставить коллекции и обработать собранные материалы. Что значит путешествие, в чём заключается работа исследователя? К сожалению, для этого какого-нибудь катехизиса дать нельзя. Многое зависит от личности самого путешественника и от того, насколько он подготовлен к такого рода деятельности. Первый период, период подготовительный, для нас прошёл. Теперь на очереди было само путешествие. Накануне отъезда всегда много забот и хлопот. Надо всё обдумать, вспомнить, не забыли ли что-нибудь, надо послать телеграммы, уложить свои вещи, известить то или иное лицо по телефону и т. д. Целый день бегаешь по городу, являешься к начальнику и делаешь последние распоряжения. Вечер уходит на писание писем. Ночью почти не спишь. Всё время беспокоит одна и та же мысль: все ли сделано и все ли взято. На другой день чуть свет вы уже на ногах. Последние ваши хлопоты на вокзале около кассы. Наконец ударил станционный колокол, раздался свисток, и поезд тронулся. В эту минуту чувствуешь, как какая-то неимоверная тяжесть свалилась с плеч. Все беспокойства остались позади. Сознание, что ровно год будешь вне сферы канцелярских влияний и ровно год тебя не будут беспокоить предписаниями и телефонами, создаёт душевное равновесие. Чувствуешь себя свободным; за работу принимаешься с удовольствием и сам себе удивляешься, откуда берётся энергия. Мы имели отдельный вагон, прицепленный к концу поезда. Нас никто не стеснял, и мы расположились как дома. День мы провели в дружеской беседе, рассматривали карты и строили планы на будущее. Погода была пасмурная. Дождь шёл не переставая. По обе стороны полотна железной дороги тянулись большие кочковатые болота, залитые водой и окаймлённые чахлой растительностью. В окнах мелькали отдельные деревья, телеграфные столбы, выемки. Всё это было однообразно. День тянулся долго, тоскливо. Наконец стало смеркаться. В вагоне зажгли свечи. Утомлённые хлопотами последних дней, убаюкиваемые покачиванием вагона и ритмическим стуком колёс, все очень скоро уснули. На другой день мы доехали до станции Шмаковка. Отсюда должно было начаться путешествие. Ночью дождь перестал, и погода немного разгулялась. Солнце ярко светило. Смоченная водой листва блестела, как лакированная. От земли подымался пар… Стрелки встретили нас и указали нам квартиру. Остаток дня прошёл в разборке имущества и в укладке вьюков. Следующий день, 18 мая, был дан стрелкам в их распоряжение. Они переделывали себе унты, шили наколенники, приготовляли патронташи — вообще последний раз снаряжали себя в дорогу. Вначале сразу всего не доглядишь. Личный опыт в таких случаях — прежде всего. Важно, чтобы в главном не было упущений, а мелочи сами сгладятся. Пользуясь свободным временем, мы вместе с П. К. Рутковским пошли осматривать окрестности. В этом месте течение реки Уссури чрезвычайно извилистое. Если её вытянуть на карте, она, вероятно, заняла бы вдвое более места. Нельзя сказать, чтобы река имела много притоков: кружевной вид ей придают излучины. Почти все реки Уссурийского края имеют течение довольно прямое до тех пор, пока текут по продольным межскладочным долинам. Но как только они выходят из гор на низины, начинают делать меандры[38]. Тем более это удивительно, что состав берегов всюду один и тот же: под дёрном лежит небольшой слой чернозёма, ниже — супесок, а ещё ниже — толщи ила вперемежку с галькой. Я думаю, это можно объяснить так: пока река течёт в горах, она может уклоняться в сторону только до известных пределов. Благодаря крутому падению тальвега[39] вода в реке движется быстро, смывает всё, что попадается ей на пути, и выпрямляет течение. Река действует в одно и то же время и как пила и как напильник. Совсем иное дело на равнине. Здесь быстрота течения значительно уменьшается, глубина становится ровнее, берега однообразнее. При этих условиях немного нужно, чтобы заставить реку изменить направление, например случайное скопление в одном месте глины или гальки, тогда как рядом находятся рыхлые пески. Вот почему такие «кривуны» непостоянны: после каждого наводнения они изменяются, река образует новые колена и заносит песком место своего прежнего течения. Очень часто входы в старые русла закупориваются, образуются длинные слепые рукава, как в данном случае мы видим это на Уссури. Среди наносов реки много глины. Этим объясняется заболоченность долины. Лето 1906 года было дождливое. Всюду по низинам стояла вода, и если бы не деревья, торчащие из луж, их можно было бы принять за озера. От посёлка Нижне-Михайловского до речки Кабарги болота тянутся с правой стороны Уссури, а выше к селу Нижне-Романовскому (Успенка) — с той и другой стороны, но больше с левой. Здесь посреди равнины подымаются две сопки со старыми тригонометрическими знаками: северная (высотой в 370 метров), называемая Медвежьей горой, и южная (в 250 метров), имеющая китайское название Хандо-Динза-Сычо[40]. Между этими сопками находятся минеральные Шмаковские ключи. На северо-востоке гора Медвежья раньше, видимо, соединялась с хребтом Тырыдинза[41], но впоследствии их разобщила Уссури. Среди уссурийских болот есть много релок[42] с хорошей, плодородной землёй, которыми и воспользовались крестьяне для распашек. В пяти километрах от реки на восток начинаются горы. Лет десять тому назад они были покрыты лесами, от которых ныне не осталось и следов. Ту древесную растительность, которую мы видим теперь в долине Уссури, лесом назвать нельзя. Эта жалкая поросль состоит главным образом из липы (Tilia manshurica Rupr. et Maxim.), чёрной и белой берёзы (Betula dahurica Pall. et Betula japonica H. Winke) и растущих полукустарниками ольхи (Ainus hirsuta Turcz.), ивняка (Salix triandra L.) и, наконец, раскидистого кустарника (Securinega ramiflora Mull. Argov.), похожего на леспедецу. Почерневшие стволы деревьев, обуглившиеся пни и отсутствие молодняка указывают на частые палы. Около железной дороги и быть иначе не может. Цветковые растения растут такой однообразной массой, что кажется, будто здесь вовсе нет онкологических сообществ. То встречаются целые площади, покрытые только одной полынью (Artemista vulgaris L.), то белым ползучим клевером (Trifolium repens L.), то тростниками (Phragmites communis Trin.), то ирисом (Iris uniflora Pall.), ландышами (Convallaria majalis L.) и т. д. Благодаря тому, что кругом было очень сыро, редки сделались местом пристанища для различного рода мелких животных. На одной из них я видел двух ужей (Coluber rudoforsafus Cantor) и одну копьеголовую ядовитую змею (Ancistrodon blomhoffii boic.). На другой релке, точно сговорившись, собрались грызуны и насекомоядные: красные полёвки (Evotomus rutilus Pall.), мышки-экономки (Microtus oeconomus Pall.) и уссурийские землеройки (Sorex tscherskii Ogn.). В стороне от дороги находился большой водоём. Около него сидело несколько серых скворцов. Эти крикливые птицы были теперь молчаливы; они садились в лужу и купались, стараясь крылышками обдать себя водой. Вблизи возделанных полей встречались ошейниковые овсянки. Они прыгали по тропе и близко допускали к себе человека, но, когда подбегали к ним собаки, с шумом поднимались с земли и садились на ближайшие кусты и деревья. На опушке леса я увидел ещё какую-то маленькую серенькую птицу. П. К. Рутковский убил её из ружья. Это оказалась восточноазиатская совка, та самая, которую китайцы называют «ли-у» и которая якобы уводит искателей женьшеня от того места, где скрывается дорогой корень. Несколько голубовато-серых амурских кобчиков гонялись за насекомыми, делая в воздухе резкие повороты. Некоторые птицы сидели на кочках и равнодушно посматривали на людей, проходивших мимо них. Когда мы возвратились на станцию, был уже вечер. В тёплом весеннем воздухе стоял неумолкаемый гомон. Со стороны болот неслись лягушечьи концерты, в деревне лаяли собаки, где-то в поле звенел колокольчик. Завтра в поход. Что-то ожидает нас впереди? Работа между участниками экспедиции распределялась следующим образом. На Г. И. Гранатмана было возложено заведование хозяйством и фуражное довольствие лошадей. А. И. Мерзлякову давались отдельные поручения в сторону от главного пути. Этнографические исследования и маршрутные съёмки я взял на себя, а Н. А. Пальчевский направился прямо в залив Ольги, где в ожидании отряда решил заняться сбором растений, а затем уже присоединиться к экспедиции и следовать с ней дальше по побережью моря. Самый порядок дня в походе распределялся следующим образом. Очередной артельщик, выбранный сроком на две недели, вставал раньше других. Он варил какую-нибудь кашу, грел чай и, когда завтрак был готов, будил остальных людей. На утренние сборы уходило около часа. Приблизительно между семью и восемью часами мы выступали в поход. Около полудня делался большой привал. Лошадей развьючивали и пускали на подножный корм. Горячая пища варилась два раза в сутки, утром и вечером, а днём на привалах пили чай с сухарями или ели мучные лепёшки, испечённые накануне. В час дня выступали дальше и шли примерно часов до четырёх. За день мы успевали пройти от 15 до 25 километров, смотря по местности, погоде и той работе, которая производилась в пути. Место для бивака всегда выбирали где-нибудь около речки. Пока варился обед и ставили палатки, я успевал вычертить свой маршрут. В это время товарищи сушили растения, препарировали птиц, укладывали насекомых в ящики и нумеровали геологический материал. Часов в пять обедали и ужинали в одно и то же время. После этого с ружьём в руках я уходил экскурсировать по окрестностям и заходил иногда так далеко, что не всегда успевал возвратиться назад к сумеркам. Темнота застигала меня в дороге, и эти переходы в лунную ночь по лесу оставили по себе неизгладимые воспоминания. Часов в девять вечера последний раз мы пили чай, затем стрелки занимались своими делами: чистили ружья, починяли одежду и обувь, исправляли седла… В это время я заносил в дневник свои наблюдения. Во время путешествия скучать не приходится. За день так уходишься, что еле-еле дотащишься до бивака. Палатка, костёр и тёплое одеяло кажутся тогда лучшими благами, какие только даны людям на земле; никакая городская гостиница не может сравниться с ними. Выпьешь поскорее горячего чаю, залезешь в свой спальный мешок и уснёшь таким сном, каким спят только усталые. В походе мы были ежедневно. Днёвки были только случайные: например, заболела лошадь, сломалось седло и т. д. Если окрестности были интересны, мы останавливались в этом месте на двое суток, а то и более. Из опыта выяснилось, что во время сильных дождей быть в дороге невыгодно, потому что пройти удаётся немного, люди и лошади скоро устают, седла портятся, планшет мокнет и т. д. В результате выходит так, что в ненастье идёшь, а в солнечный день сидишь в палатке, приводишь в порядок съёмки, доканчиваешь дневник, делаешь вычисления — одним словом, исполняешь ту работу, которую не успел сделать раньше. В день выступления, 19 мая, мы все встали рано, но выступили поздно. Это вполне естественно. Первые сборы всегда затягиваются. Дальше в пути все привыкают к известному порядку, каждый знает своего коня, свой вьюк, какие у него должны быть вещи, что сперва надо укладывать, что после, какие предметы бывают нужны в дороге и какие на биваке. В первый день все участники экспедиции выступили бодрыми и весёлыми. День был жаркий, солнечный. На небе не было ни одного облачка, но в воздухе чувствовался избыток влаги. Грязная просёлочная дорога между селениями Шмаковкой и Успенкой пролегает по увалам горы Хандо-Динза-Сы. Все мосты на ней уничтожены весенними палами, и потому переправа через встречающиеся на пути речки, превратившиеся теперь в стремительные потоки, была делом далеконе лёгким. На возвышенных местах характер растительности был тот же самый, что и около железной дороги. Это было редколесье из липы, дубняка и берёзы. При окружающих пустырях редколесье это казалось уже густым лесом. Часам к трём дня отряд наш стал подходить к реке Уссури. Опытный глаз сразу заметил бы, что это первый поход. Лошади сильно растянулись, с них то и дело съезжали седла, расстёгивались подпруги, люди часто останавливались и переобувались. Кому много приходилось путешествовать, тот знает, что это в порядке вещей. С каждым днём эти остановки делаются реже, постепенно всё налаживается, и дальнейшие передвижения происходят уже ровно и без заминок. Тут тоже нужен опыт каждого человека в отдельности. Когда идёшь в далёкое путешествие, то никогда не надо в первые дни совершать больших переходов. Наоборот, надо идти понемногу и чаще давать отдых. Когда все приспособятся, то люди и лошади сами пойдут скорее и без понукания. Вступление экспедиции в село Успенку для деревенской жизни было целым событием. Ребятишки побросали свои игры и высыпали за ворота: из окон выглядывали испуганные женские лица; крестьяне оставляли свои работы и подолгу смотрели на проходивший мимо них отряд. Село Успенка расположено на высоких террасах с левой стороны реки Уссури. Основано оно в 1891 году и теперь имело около ста восьмидесяти дворов. Было каникулярное время, и потому нас поместили в школе, лошадей оставили на дворе, а все имущество и седла сложили под навесом. Вечером приходили крестьяне-старожилы. Они рассказывали о своей жизни в этих местах, говорили о дороге и давали советы. На другой день мы продолжали свой путь. За деревней дорога привела нас к реке Уссури. Вся долина была затоплена водой. Возвышенные места казались островками. Среди этой массы воды русло реки отмечалось быстрым течением и деревьями, росшими по берегам её. При обыкновенном уровне река Уссури имеет около 200 метров ширины, около 4 метров глубины и быстроту течения В 1/2 километра в час. Сопровождавшие нас крестьяне говорили, что во время наводнений сообщение с соседними деревнями по дороге совсем прекращается и тогда они пробираются к ним только на лодках. Посоветовавшись, мы решили идти вверх по реке до такого места, где она идёт одним руслом, и там попробовать переправиться вплавь с конями. С рассветом казалось, что день будет пасмурный и дождливый, но к десяти часам утра погода разгулялась. Тогда мы увидели то, что искали. Километрах в пяти от нас река собирала в себя все протоки. Множество сухих редок давало возможность подойти к ней вплотную. Но для этого надо было обойти болота и спуститься в долину около горы Кабарги. Лошади уже отабунились, они не лягались и не кусали друг друга. В поводу надо было вести только первого коня, а прочие шли следом сами. Каждый из стрелков по очереди шёл сзади и подгонял тех лошадей, которые сворачивали в сторону или отставали. Поравнявшись с горой Кабаргой, мы повернули на восток к фанзе Хаудиен[43], расположенной на другой стороне Уссури, около устья реки Ситухе. Перебираясь с одной редки на другую и обходя болотины, мы вскоре достигли леса, растущего на берегу реки. На наше счастье, в фанзе у китайцев оказалась лодка Она цедила, как решето, но всё же это была посудина, которая в значительной степени облегчала нашу переправу. Около часа было потрачено на её починку. Щели лодки мы кое-как законопатили, доски сбили гвоздями, а вместо уключин вбили деревянные колышки, к которым привязали верёвочные петли. Когда всё было готово, приступили к переправе. Сначала перевезли седла, потом переправили людей. Осталась очередь за конями. Сами лошади в воду идти не хотели, и надо было, чтобы кто-нибудь плыл вместе с ними. На это опасное дело вызвался казак Кожевников. Он разделся донага, сел верхом на наиболее ходового белого коня и смело вошёл в реку. Стрелки тотчас же всех остальных лошадей погнали за ним в воду. Как только лошадь Кожевникова потеряла дно под ногами, он тотчас же соскочил с неё и, ухватившись рукой за гриву, поплыл рядом. Вслед за ним поплыли и другие лошади. С берега видно было, как Кожевников ободрял коня и гладил рукой по шее Лошади плыли фыркая, раздув ноздри и оскалив зубы. Несмотря на то, что течение сносило их, они всё же подвигались вперёд довольно быстро. Удастся ли Кожевникову выплыть с конями к намеченному месту? Ниже росли кусты и деревья, берег становился обрывистым и был завален буреломом. Через десять минут его лошадь достала до дна ногами. Из воды появились её плечи, затем спина, круп и ноги. С гривы и хвоста вода текла ручьями. Казак тотчас же влез на коня и верхом выехал на берег. Так как одни лошади были сильнее, другие слабее и плыли медленнее, то естественно, что весь табун растянулся по реке. Когда конь Кожевникова достиг противоположного берега, последняя лошадь была ещё на середине реки. Стало ясно, что её снесёт водой. Она напрягала все свои силы и держалась против воды, стараясь преодолеть течение, а течение увлекало её всё дальше и дальше. Кожевников видел это. Дождавшись остальных коней, он в карьер бросился вдоль берега вниз по течению. Выбрав место, где не было бурелома, казак сквозь кусты пробрался к реке, остановился в виду у плывущей лошади и начал её окликать; но шум реки заглушал его голос. Белый конь, на котором сидел Кожевников, насторожился и, высоко подняв голову, смотрел на воду. Вдруг громкое ржание пронеслось по реке. Плывущая лошадь услышала этот крик и начала менять направление. Через несколько минут она выходила на берег. Дав ей отдышаться, казак надел на неё недоуздок и повёл в табун. Тем временем лодка перевезла остальных людей и их грузы. После переправы у фанзы Хаудиен экспедиция направилась вверх по реке Ситухе[44], стараясь обойти болота и поскорее выйти к горам. Река Ситухе течёт в широтном направлении. Она длиной около 50 километров. Большинство притоков её находится с левой стороны. Сама по себе Ситухе маленькая речка, но, не доходя 3 километров до Уссури, она превращается в широкий и глубокий канал. Здесь происходит слияние реки Даубихе с рекой Улахе (44Ь58' северной широты, 133Ь34' восточной долготы от Гринвича — по Гамову). Отсюда начинается собственно река Уссури, которая на участке до реки Сунгачи принимает в себя справа две небольшие речки — Гирма-Биру и Курма-Биру. Река Улахе течёт некоторое время в направлении от юга к северу. Истоки её находятся в горах Да-дянь-шань с перевалами на реки Сучан и Лефу. В верховьях она слагается из трёх рек: Тудагоу[45], Эрлдагоу[46] и Сандагоу[47], затем принимает в себя притоки: справа — Сыдагоу[48], Ханихезу[49], Яньцзиньгоу[50], Чаутангоузу[51], а слева — Хамахезу[52], Даубихезу[53], Шитухе и Угыдынзу[54]. Длиной Даубихе более 250 километров, глубиной 1,5 — 1,8 метра, при быстроте течения около 5 километров в час. Река Улахе течёт некоторое время в направлении от юга к северу, но потом вдруг на высоте фанзы Линда-Пау круто поворачивает на запад. Здесь улахинская вода с такой силой вливается в даубихинскую, что прижимает её к левому берегу. Вследствие этого как раз против устья реки Улахе образовалась длинная заводь. Эта заводь и обе реки (Даубихе и Улахе) вместе с Уссури расположились таким образом, что получилась крестообразная фигура. Во время наводнения здесь скопляется много воды. Отсюда, собственно, и начинает затопляться долина Уссури. От того места, где Улахе поворачивает на запад, параллельно Уссури, среди болот, цепью друг за другом, тянется длинный ряд озерков, кончающихся около канала Ситухе, о котором говорилось выше. Озера эти и канал Ситухе указывают место прежнего течения Улахе. Слияние её с рекой Даубихе раньше происходило значительно ниже, чем теперь. Почувствовав твёрдую почву под ногами, люди и лошади пошли бодрее. К полудню мы миновали старообрядческую деревню Подгорную, состоящую из двадцати пяти дворов. Время было раннее, и потому решено было не задерживаться здесь. Дорога шла вверх по реке Ситухе. Слева был лес, справа — луговая низина, залитая водой. По пути нам снова пришлось переходить ещё одну небольшую речушку, протекающую по узенькой, но чрезвычайно заболоченной долине. Люди перебирались с кочки на кочку, но лошадям пришлось трудно. На них жалко было смотреть: они проваливались по брюхо и часто падали. Некоторые кони так увязали, что не могли уже подняться без посторонней помощи. Пришлось их рассёдлывать и переносить грузы на руках. Когда последняя лошадь перешла через болото, день уже был на исходе. Мы прошли ещё немного и стали биваком около ручья с чистой проточной водой. Вечером стрелки и казаки сидели у костра и пели песни. Откуда-то взялась у них гармоника. Глядя на их беззаботные лица, никто бы не поверил, что только два часа тому назад они бились в болоте, измученные и усталые. Видно было, что они совершенно не думали о завтрашнем дне и жили только настоящим. А в стороне, у другого костра, другая группа людей рассматривала карты и обсуждала дальнейшие маршруты. На следующий день решено было сделать днёвку. Надо было посушить имущество, почистить седла и дать лошадям отдых. Стрелки с утра взялись за работу. Каждый из них знал, у кого что неладно и что надо исправить. Сегодня мы имели случай наблюдать, как казаки охотятся за пчёлами. Когда мы пили чай, кто-то из них взял чашку, в которой были остатки мёда. Немедленно на биваке появились пчелы — одна, другая, третья, и так несколько штук. Одни пчелы прилетали, а другие с ношей торопились вернуться и вновь набрать меду. Разыскать мёд взялся казак Мурзин. Заметив направление, в котором летели пчелы, он встал в ту сторону лицом, имея в руках чашку с мёдом. Через минуту появилась пчела. Когда она полетела назад, Мурзин стал следить за ней до тех пор, пока не потерял из виду. Тогда он перешёл на новое место, дождался второй пчелы, перешёл опять, выследил третью и т. д. Таким образом он медленно, но верно шёл к улью. Пчелы сами указали ему дорогу. Для такой охоты нужно запастись терпением. Часа через полтора Мурзин возвратился назад и доложил, что нашёл пчёл и около их улья увидел такую картину, что поспешил вернуться обратно за товарищами. У пчёл шла война с муравьями. Через несколько минут мы были уже в пути, захватив с собой пилу, топор котелки и спички. Мурзин шёл впереди и указывал дорогу. Скоро мы увидели большую липу, растущую под углом в 45Ь. Вокруг неё вились пчелы. Почти весь рой находился снаружи. Вход в улей (леток) был внизу, около корней. С солнечной стороны они переплелись между собой и образовали пологий скат. Около входного отверстия в улей густо столпились пчелы. Как раз против них, тоже густой массой, стояло полчище чёрных муравьёв. Интересно было видеть, как эти два враждебных отряда стояли друг против друга, не решаясь на нападение. Разведчики-муравьи бегали по сторонам. Пчелы нападали на них сверху. Тогда муравьи садились на брюшко и, широко раскрыв челюсти, яростно оборонялись. Иногда муравьи принимали обходное движение и старались напасть на пчёл сзади, но воздушные разведчики открывали их, часть пчёл перелетала туда и вновь преграждала муравьям дорогу. С интересом мы наблюдали эту борьбу. Кто кого одолеет? Удастся ли муравьям проникнуть в улей? Кто первый уступит? Быть может, с заходом солнца враги разойдутся по своим местам для того, чтобы утром начать борьбу снова; быть может, эта осада пчелиного улья длится уже не первый день. Неизвестно, чем кончилась бы эта борьба, если бы на помощь пчёлам не пришли казаки. Они успели согреть воду и стали кипятком обливать муравьёв. Муравьи корчились, суетились и гибли на месте тысячами. Пчелы были возбуждены до крайности. В это время по ошибке кто-то плеснул на пчёл горячей водой. Мигом весь рой поднялся на воздух. Надо было видеть, в какое бегство обратились казаки! Пчелы догоняли их и жалили в затылок и шею. Через минуту около дерева никого не было. Люди стояли в отдалении, ругались, смеялись и острили над товарищами, но вдруг лица их делались испуганными, они принимались отмахиваться руками и убегали ещё дальше. Решено было дать пчёлам успокоиться. Перед вечером два казака вновь пошли к улью, но уже ни мёда, ни пчёл не нашли. Улей был разграблен медведями. Так неудачно кончился наш поход за диким мёдом. В ночь с 25 на 26 июня шёл сильный дождь, который прекратился только к рассвету. Утром небо было хмурое; тяжёлые дождевые тучи низко ползли над землёй и, как саваном, окутывали вершины гор. Надо было ждать дождя снова. Когда идёшь в дальнюю дорогу, то уже не разбираешь погоды. Сегодня вымокнешь, завтра высохнешь, потом опять вымокнешь и т. д. В самом деле, если все дождливые дни сидеть на месте, то, пожалуй, недалеко уйдёшь за лето. Мы решили попытать счастья, и хорошо сделали. Часам к десяти утра стало видно, что погода разгуливается. Действительно, в течение дня она сменялась несколько раз: то светило солнце, то шёл дождь. Подсохшая было дорога размокла, и опять появились лужи. Перейдя реку Ситухе, мы подошли к деревне Крыловке, состоящей из шестидесяти шести дворов. Следующая деревня Межгорная (семнадцать дворов), была так бедна, что мы не могли купить в ней даже 4 килограммов хлеба. Крестьяне вздыхали и жаловались на свою судьбу. Последнее наводнение их сильно напугало.
Глава 8 Вверх по Уссури

Маньчжурский заяц. — Гольды рода Юкомика. — Сухая мгла. — Перемена погоды. — Полоз Шренка. — Гроза. — Река Вангоу. — Деревня Загорная. — Старовер Паначев
Дальнейший путь экспедиции лежал через горы. На этом пути нам предстояло ещё одно испытание. Нужно было перейти пять сильно заболоченных распадков[55]. Первый распадок находился сейчас же за деревней, а последний, самый большой, — недалеко от реки Улахе. Дорога, проложенная самими крестьянами, не имела ни канав, ни мостов, ни гатей. Грязь на ней была непролазная. Казаки пробовали было вести лошадей целиной, но оказалось ещё хуже. Чтобы закрепить зыбуны, стрелки рубили ивняк и бросали его коням под ноги. Правда, это немного облегчало переправу людей, но мало помогало лошадям. Такая непрочная гать только обманывала их, они оступались и падали. Приходилось опять их рассёдлывать и переносить на себе вьюки. Наконец эти болота были пройдены.

По сведениям, полученным от крестьян, дальше дорога шла лесом. Выйдя на твёрдую почву, отряд остановился на отдых. В это время вдруг совершенно неожиданно откуда-то из кустов выскочил заяц. В одно мгновение люди бросились за ним в погоню. Надо было видеть, какой поднялся переполох в отряде. Кто свистел, кто гикал, кто бросал в убегающего зайца палкой, камнем и всем, что попадало под руку. Несчастный зверёк бежал зигзагами и хотел укрыться в кустарниках. Это, вероятно, ему удалось бы сделать, если бы Захурский не выстрелил из ружья. Пуля ударила в землю как раз около головы зайца и оглушила его. В это время другой стрелок подбежал и схватил его руками. Заяц метнулся, заверещал и, прижав к спине уши, притаился. Бедный зверёк был страшно напуган. Его раздвоенная верхняя губа быстро двигалась, сердце усиленно билось. Он сидел на руках у Туртыгина, прислушивался и озирался. Пойманный заяц (Lepus manshuricus Pall.) был маленький, серо-бурого цвета. Такую окраску он сохраняет всё время — и летом и зимой. Областью распространения этого зайца в Приамурье является долина реки Уссури с притоками и побережье моря до мыса Белкина. Кроме этого зайца, в Уссурийском крае водится ещё заяц-беляк (Lepus timidus Subsp.) и чёрный заяц (Caprolagus sp.) — вид, до сих пор ещё не описанный. Он совершенно чёрного цвета и встречается редко. Быть может, это просто отклонение зайца-беляка. Ведь есть же чёрно-бурые лисицы, чёрные волки, даже чёрные зайцы-русаки. Любит русский человек погонять зайца, любит травить его только потому, что он труслив и беззащитен. Это не злоба, это жестокая забава. Заяц внёс в отряд большое оживление. Дожди, болота, усталость — всё это было забыто. Стрелки кричали и наперерыв старались рассказать друг другу, кто и как увидел зайца, как он бежал и каким образом его поймали. Никакое другое животное не дало бы столько тем для разговоров. Вокруг Туртыгина столпились люди. Каждому хотелось как-нибудь выказать зверьку своё внимание: кто гладил его по спине, кто тянул за хвостик, кто тыкал ему папиросой в нос и дёргал за ухо. Уж как только стрелки не крестили зайца, как только не острили над ним и в десятый раз рассказывали друг другу о его поимке! Не только у русских, но и у китайцев и амурских туземцев слово «заяц» означает насмешку над человеком трусливым, делающим от страха всякие глупости. Приказ седлать коней заставил стрелков заняться делом. После короткого совещания решено было дать зайцу свободу. Едва только спустили его на землю, как он тотчас же бросился бежать. Свист и крики понеслись ему вдогонку. Шум и смех сопровождали его до тех пор, пока он не скрылся из виду. Когда лошади были засёдланы, отряд двинулся дальше. Теперь тропа пошла косогорами, обходя горные ключи и медленно взбираясь на перевал. Дубовое редколесье сменилось лесонасаждениями из клёна, липы и даурской берёзы; кое-где мелькали одиночные кедры и остроконечные вершины елей и пихт. Часа через полтора мы достигли перевала. Здесь у подножия большого дуба стояла маленькая кумирня, сложенная из плитнякового камня. Кумирня эта была поставлена, вероятно, охотниками и искателями женьшеня. Лицевая её сторона была украшена красной тряпицей с иероглифической надписью: «Сан-лин-чжи-чжу», то есть «Владыке гор и лесов» (тигру). С вершины перевала нам открылся великолепный вид на реку Улахе. Солнце только что скрылось за горизонтом. Кучевые облака на небе и дальние горы приняли неясно-пурпуровую окраску. Справа от дороги светлой полосой змеилась река. Вдали виднелись какие-то фанзы. Дым от них не подымался кверху, а стлался по земле и казался неподвижным. В стороне виднелось небольшое озерко. Около него мы стали биваком. Как и всегда, сначала около огней было оживление, разговоры, смех и шутки. Потом всё стало успокаиваться. После ужина стрелки легли спать, а мы долго сидели у огня, делились впечатлениями последних дней и строили планы на будущее. Вечер был удивительно тихий. Слышно было, как паслись кони; где-то в горах ухал филин, и несмолкаемым гомоном с болот доносилось кваканье лягушек. На другой день мы встали рано и рано выступили в дорогу. Фанзы, которые вчера мы видели с перевала, оказались гольдскими. Местность эта называется Чжумтайза[56], что по-китайски означает — Горный ручей. Живущие здесь гольды принадлежали к роду Юкомика, ныне почти совершенно уничтоженному оспенными эпидемиями. Стойбища их были на Амуре, на том месте, где теперь стоит Хабаровск. Потесненные русскими, они ушли на Уссури, а оттуда, под давлением казаков, перекочевали на реку Улахе. Теперь их осталось только двенадцать человек: трое мужчин, пять женщин и четверо детей. Мужчины были одеты по-китайски. Они носили куртку, сшитую из синей дабы, и такие же штаны. Костюм женщин более сохранил свой национальный характер. Одежда их пестрела вышивками по борту и по краям подола была обвешана побрякушками. Выбежавшие из фанз грязные ребятишки испуганно смотрели на нас. Трудно сказать, какого цвета была у них кожа: на ней были и загар, и грязь, и копоть. Гольды эти ещё знали свой язык, но предпочитали объясняться по-китайски. Дети же ни одного слова не понимали по-гольдски. Покончив с осмотром фанз, отряд наш пошёл дальше. Тропа стала прижиматься к горам. Это будет как раз в том месте, где Улахе начинает менять своё широтное направление на северо-западное. Здесь она шириной около 170 метров и в среднем имеет скорость течения около 5 километров в час. Из притоков её замечательны: с правой стороны — известная уже нам Ситухе, затем Чжумтайза, Тяпигоу[57], Ното[58], Вамбахеза[59] и Фудзин[60], а с левой стороны — Хуанихеза[61] и Вангоу. От гольдских фанз шли два пути. Один был кружной, по левому берегу Улахе, и вёл на Ното, другой шёл в юго-восточном направлении, мимо гор Хуанихеза и Игыдинза. Мы выбрали последний. Решено было всё грузы отправить на лодках с гольдами вверх по Улахе, а самим переправиться через реку и по долине Хуанихезы выйти к посёлку Заторному, а оттуда с лёгкими вьюками пройти напрямик в деревню Кокшаровку. Уже с половины дня можно было предсказать, что завтрашний день будет дождливый. В Уссурийском крае так называемая «сухая мгла» часто является предвестником непогоды. Первые признаки её замечались ещё накануне вечером. На другой день к утру она значительно сгустилась, а в полдень стала заметной даже вблизи. Контуры дальних гор тогда можно было рассмотреть, если наблюдатель наперёд знал их очертание. Казалось, будто весь воздух наполнился дымом. Небо сделалось белесоватым; вокруг жёлтого солнца появились венцы; тонкая паутина слоистых облаков приняла грязно-серый оттенок. Потом вдруг воздух сделался чистым и прозрачным. Дальние горы приняли цвет тёмно-синий и стали хмурыми. О том, что зашло солнце. Из притоков её замечательны: с правой стороны — известная уже мы узнали только по надвинувшимся сумеркам. В природе всё замерло притаилось. Одни только лягушки как будто радовались непогоде и наперерыв старались перекричать друг друга. Мы думали, что к утру дождь прекратится, но ошиблись. С рассветом он пошёл ещё сильнее. Чтобы вода не залила огонь, пришлось подкладывать в костры побольше дров. Дрова горели плохо и сильно дымили. Люди забились в комарники и не показывались наружу. Время тянулось томительно долго. В Уссурийском крае дожди выпадают сразу на очень большой площади и идут с удивительным постоянством. Они захватывают сразу несколько бассейнов, иногда даже всю область. Этим и объясняются большие наводнения. У Дерсу была следующая примета: если во время дождя в горах появится туман и он будет лежать неподвижно — это значит, что дождь скоро прекратится. Но если туман быстро двигается — это признак затяжного дождя и, может быть, тайфуна[62]. Утром перед восходом солнца дождь перестал, но вода в реке начала прибывать, и потому надо было торопиться с переправой. В этом случае значительную помощь оказали нам гольды. Быстро, без проволочек, они перебросили на другую сторону все наши грузы. Слабенькую лошадь переправили в поводу рядом с лодкой, а остальные переплыли сами. Часов в восемь утра солнечные лучи прорвались сквозь тучи и стали играть в облаках тумана, освещая их своим золотистым светом. Глядя на эту картину, я мысленно перенёсся в глубокое прошлое, когда над горячей поверхностью земли носились ещё тяжёлые испарения. Наконец туман начал рассеиваться; природа, оцепеневшая от ненастья, стала оживать; послышалось пение жаворонков, в воздухе опять появились насекомые. Когда лодка отчалила от берега, мы тоже тронулись в путь. Теперь горы были справа, а река — слева. Болота кончились, но это нас не избавило от сырости. От последних дождей земля была сильно пропитана водой; ручьи вышли из берегов и разлились по долинам. Вследствие какой-то задержки в пути лошади отстали, а мы ушли вперёд. На опушке леса стояла старая развалившаяся фанза. Тут мы сели на камни и стали ждать коней. Вдруг длинная тёмная полоса мелькнула в стороне. Стрелки бросились туда. Это было какое-то большое пресмыкающееся. Оно быстро скользило по траве, направляясь к кустарникам. Стрелки бежали по сторонам, не решаясь подойти к нему близко. Их пугали размеры змеи. Через минуту она доползла до дерева, лежащего на земле, и скрылась в нём. Это был древесный обломок с гнилой сердцевиной около 4 метров длиной и 15 сантиметров в диаметре. Мерзляков схватил палку и стал тыкать ею в отверстие. В ответ на это в дупле послышалось жужжание, а затем оттуда стали вылезать шмели. Значит, внутри дерева было их гнездо. Но тогда куда же девалась змея? Неужели она залезла к шмелям? Почему в таком случае шмели не подняли тревоги, какую они подняли тогда, когда мы просунули в дупло палку? Это заинтересовало всех. Стрелки стали разрубать дерево. Оно было гнилое и легко развалилось на части. Как только дерево было расколото, мы увидели змею. Она медленно извивалась, стараясь скрыться в рухляке. Однако это её не спасло. Казак Белоножкин ударил змею топором и отсёк ей голову. Вслед за тем змея была вытащена наружу. Это оказался полоз Шренка[63] (Coluber Schrenckustr.). Он был длиной 1,9 метра при толщине 6 сантиметров. Внутри дерева дупло вначале узкое, а затем к комлю несколько расширялось. Птичий пух, клочки шерсти, мелкая сухая трава и кожа, сброшенная ужом при линянии, свидетельствовали о том, что здесь находилось его гнездо, а ближе к выходу и несколько сбоку было гнездо шмелей. Когда змея вылезала из дерева или входила в него, она каждый раз проползала мимо шмелей. Очевидно, и шмели и уж уживались вместе и не тяготились друг другом. Стрелки рассматривали ужа с интересом. — У него что-то есть внутри, — сказал Белоножкин. Действительно, живот ужа был сильно вздут. Интересно было посмотреть, чем питаются эти крупные пресмыкающиеся. Велико было наше удивление, когда в желудке ужа оказался довольно крупный кулик с длинным клювом. Как только он мог проглотить такую птицу и не подавиться ею?! Гольды рассказывают, что уссурийский уж вообще большой охотник до пернатых. По их словам, он высоко взбирается на деревья и нападает на птиц в то время, когда они сидят в гнёздах. В особенности это ему удаётся в том случае, если гнездо находится в дупле. Это понятно. Но как он ухитрился поймать такую птицу, которая бегает и летает, и как он мог проглотить кулика, длинный клюв которого, казалось бы, должен служить ему большой помехой? — Надо торопиться, гроза будет, — сказал Мерзляков и посмотрел на небо. Как бы в подтверждение его слов издали донёсся глухой удар грома. Пока ловили ужа, мы и не заметили, как нашла туча. Туча двигалась очень скоро. Передний край её был белесовато-серый и точно клубился; отдельные облака бежали по сторонам и, казалось, спорили с тучей в быстроте движения. Уйти от грозы нам не удалось. Едва только мы тронулись в путь, как пошёл дождь. Сначала с неба упало несколько крупных капель, а затем хлынул настоящий ливень. Пока молния сверкала вдали, было ясно видно, где именно происходят контакты небесного электричества с землёй, но когда она стала вспыхивать в непосредственной близости, то утратила свой искровый характер. Вспышки молнии происходили где-то в пространстве, кругом, всюду… Удары грома были настолько сильные, что можно было ощущать, как вздрагивает атмосфера, и от этого сотрясения каждый раз дождь шёл ещё сильнее. Обыкновенно такие ливни непродолжительны, но в Уссурийском крае бывает иначе. Часто именно затяжные дожди начинаются грозой. Так было и теперь. Гроза прошла, но солнце не появлялось. Кругом, вплоть до самого горизонта, небо покрылось слоистыми тучами, сыпавшими на землю мелкий и частый дождь. Торопиться теперь к фанзам не имело смысла. Это поняли и люди и лошади. Фанзы находились в стороне за протокой. Чтобы попасть туда, надо было делать большой обход. Поэтому решено было идти прямо к старообрядцам. Невысокие горы, окаймляющие долину Вангоу, имели большею частью коническую форму. Между горами образовались глубокие распадки. Вероятно, при солнечном освещении местность эта очень живописна, но теперь она имела неприветливый вид. Рассчитывать на перемену погоды к лучшему было нельзя. К дождю присоединился ветер, появился туман. Он то заволакивал вершины гор, то опускался в долину, то вдруг опять подымался кверху, и тогда дождь шёл ещё сильнее. Река Вангоу невелика. Она шириной 4 — 6 метров и глубиной 40 — 60 сантиметров, но теперь она разлилась и имела грозный вид. Вода шла через лес. Люди переходили через затопленные места без особых затруднений, лошадям же опять досталось. Они ступали наугад и проваливались в глубокие ямы. Но вот лес кончился. Перед нами открылась большая поляна. На противоположном конце её, около гор, приютилась деревушка Заторная. Но попасть в неё было нелегко. Мост, выстроенный староверами через реку, был размыт. Более двух часов мы провозились над его починкой. На дождь уже никто не обращал внимания. Тут всем пришлось искупаться как следует. Наконец это препятствие было преодолено, и мы вошли в деревню. Она состояла из восьми дворов и имела чистенький, опрятный вид. Избы были срублены прочно. Видно было, что староверы строили их не торопясь и работали, как говорится, не за страх, а за совесть. В одном из окон показалось женское лицо, и вслед за тем на пороге появился мужчина. Это был староста. Узнав, кто мы такие и куда идём, он пригласил нас к себе и предложил остановиться у него в доме. Люди сильно промокли и потому старались поскорее расседлать коней и уйти под крышу. Наш хозяин был мужчина среднего роста, лет сорока пяти. Карие глаза его глядели умно. Он носил большую бороду и на голове длинные волосы, обрезанные в кружок. Одежда его состояла из широкой ситцевой рубахи, слабо подпоясанной тесёмчатым пояском, плисовых штанов и сапог с низкими каблуками. Внутри избы были две комнаты. В одной из них находились большая русская печь и около неё разные полки с посудой, закрытые занавесками, и начищенный медный рукомойник. Вдоль стен стояли две длинные скамьи; в углу деревянный стол, покрытый белой скатертью, а над столом божница со старинными образами, изображающими святых с большими головами, тёмными лицами и тонкими длинными руками. Семья старовера состояла из его жены и двух маленьких ребятишек. Женщина была одета в белую кофточку и пёстрый сарафан, стянутый выше талии и поддерживаемый на плечах узкими проймами, располагавшимися на спине крестообразно. На голове у неё был надет платок, завязанный как кокошник. Когда мы вошли, она поклонилась в пояс низко, по-старинному. Другая комната была просторнее. Тут у стены стояла большая кровать, завешенная ситцевым пологом. Под окнами опять тянулись скамьи. В углу, так же как и в первой комнате, стоял стол, покрытый самодельной скатертью. В простенке между окнами висели часы, а рядом с ними полка с большими старинными книгами в кожаных переплётах. В другом углу стояла ручная машина Зингера, около дверей на гвозде висела малокалиберная винтовка Маузера и бинокль Цейса. Во всём доме полы были чисто вымыты, потолки хорошо выструганы, стены как следует проконопачены. Мы стали раздеваться и нагрязнили. Это нас смутило. — Ничего, ничего, — говорил хозяин. — Бабы подотрут. Вишь, погода какая. Из тайги чистым не придёшь. Через несколько минут на столе появились горячий хлеб, мёд, яйца и молоко. Мы с аппетитом, чтобы не сказать с жадностью, набросились на еду. Оставшаяся часть дня ушла на расспросы о пути к Кокшаровке. Оказалось, что дальше никакой дороги нет и что из всех здешних староверов только один, Паначев, мог провести нас туда целиной через горы. Староста послал за ним. Паначев тотчас явился. На вид ему было более сорока лет. Он тоже носил бороду, но так как никогда её не подстригал, то она росла у него неправильно, клочьями. Получалось впечатление, будто он только что встал со сна и не успел ещё причесаться. Видно было, что человек этот добрый, безобидный. Войдя в избу, Паначев трижды размашисто перекрестился на образа и трижды поклонился так, чтобы достать до земли рукой. Длинные волосы лезли ему на глаза. Он поминутно встряхивал головой и откидывал их назад. — Здравствуйте, — сказал он тихо, отошёл к двери и стал мять свою шапку. На сделанное ему предложение проводить нас до Кокшаровки он охотно согласился. — Хорошо, пойду, — сказал он просто, и в этом «пойду» слышалась готовность служить, покорность и сознание, что только он один знает туда дорогу. Решено было идти завтра, если дождь перестанет. На дворе бушевала непогода. Дождь с ветром хлестал по окнам. Из темноты неслись жалобные звуки: точно выла собака или кто-то стонал на чердаке под крышей. Под этот шум мы сладко заснули.
Глава 9 Через горы к деревне Кокшаровке

Уссурийская тайга — Производство съёмки в лесу — Заблудились — Подлесье. — Средства от комаров и мошек. — Деревня Кокшаровка. — Китайское селение Нотохоуза — Река Улахе. — Жара и духота
На другой день, 31 мая, чуть только стало светать, я бросился к окну Дождь перестал, но погода была хмурая, сырая. Туман, как саван, окутал горы. Сквозь него слабо виднелись долина, лес и какие-то постройки на берегу реки. Раз доходя нет, значит, можно идти дальше. Но одно обстоятельство заставило нас задержаться — не был готов хлеб. Часов в восемь утра вдруг все петухи разом запели. — Погода разгуляется, будет ведро. Ишь петухи как кричат. Это верная примета, — говорили казаки между собой. Известно, что домашние куры очень чувствительны к перемене погоды. Впрочем, они часто и ошибаются. Достаточно иногда небу немного проясниться, чтобы петухи тотчас начали перекликаться. Но на этот раз они не ошиблись. Вскоре туман действительно поднялся кверху, кое-где проглянуло синее небо, а вслед за тем появилось и солнышко. В десять часов утра отряд наш, во главе с Паначевым, выступил из деревни и направился кверху по реке Вангоу. Нам предстояло перевалить через хребет, отделяющий Даубихе от Улахе, и по реке, не имеющей названия, выйти к устью Фудзина. Тотчас за деревней дорога превратилась в тропу. Она привела нас к пасеке Паначева. — Пройдёмте кто-нибудь со мной, ребята, — обратился старовер к казакам. Затем он полез через забор, открыл кадушку и стал передавать им сотовый мёд. Пчелы вились кругом него, садились ему на плечи и забивались в бороду. Паначев разговаривал с ними, называл их ласкательными именами, вынимал из бороды и пускал на свободу. Через несколько минут он возвратился, и мы пошли дальше. Понемногу погода разгулялась: туман исчез, по земле струйками бежала вода, намокшие цветы подняли свои головки, в воздухе опять замелькали чешуекрылые. Паначев повёл нас целиной «по затескам». Как только мы углубились в лес, тотчас же пришлось пустить в дело топоры. Читатель ошибается, если представляет себе тайгу в виде рощи. Уссурийская тайга — это девственный и первобытный лес, состоящий из кедра (Pinus koraiensis S. et Z.), чёрной берёзы (Betula dahurika Pall.), амурской пихты (Abies nephrolepis Max.), ильма (Ulmus campestris L.), тополя (Populus suaveolens Fisch.), сибирской ели (Picea obovata Ldb.), липы маньчжурской (Tilia manshurica Rupr, et Maxim.), даурской лиственницы (Larix dahurica Turcz.), ясеня (Fraxinus manshurica Rupr.), дуба монгольского (Quereus mongolica Fisch.), пальмового диморфанта (Aralia manshurica Rupr. et Maxim.), пробкового дерева (Phellodendron amurense Rupr.) с листвой, напоминающей ясень, с красивой пробковой корой, бархатистой на ощупь, маньчжурского ореха (Juglans manshurica Max.) с крупной листвой, расположенной на концах сучьев пальмообразно, и многих других пород. Подлесье состоит из густых кустарниковых зарослей. Среди них бросаются в глаза колючий элеутерококк (Eleutherococcus senticosus Maxim.), красноягодник (Ribes petraeum Wilf.) с острыми листьями, лесная калина (Viburnum burejanum Herber) с белыми цветами, жёлтая жимолость (Lonicera chrysantha Turcz.) с узловатыми ветвями и с морщинистой корой, лесная таволожка (Spiraea chamadrifolia Lin.) с коротко заострёнными зубчатыми листьями и вьющийся по дереву персидский паслён (Solanum Dulcamara L.). И все это перепуталось виноградником (Vitis amurensis Rupr.), лианами (Schizandra chinensis Biall.) и кишмишом (Acttnidia kolomikta Maxim.). Стебли последнего достигают иногда толщины человеческой руки. Паначев рассказывал, что расстояние от Загорной до Кокшаровки он налегке проходил в один день. Правда, один день он считал от рассвета до сумерек. А так как мы шли с вьюками довольно медленно, то рассчитывали этот путь сделать в двое суток, с одной только ночёвкой в лесу. Около полудня мы сделали большой привал. Люди тотчас же стали раздеваться и вынимать друг у друга клещей из тела. Плохо пришлось Паначеву. Он всё время почёсывался. Клещи набились ему в бороду и в шею. Обобрав клещей с себя, казаки принялись вынимать их у собак. Умные животные отлично понимали, в чём дело, и терпеливо переносили операцию. Совсем не то лошади: они мотали головами и сильно бились. Пришлось употребить много усилий, чтобы освободить их от паразитов, впившихся в губы и в веки глаз. После чая опять Паначев пошёл вперёд, за ним стрелки с топорами, а через четверть часа после их ухода тронулись и вьюки. — А ведь опять будет дождь, — сказал Мурзин. — Не надолго! — ответил ему старовер. — К вечеру, бог даст, перестанет. По его словам, если после большого ненастья нет ветра и сразу появится солнце, то в этот день к вечеру надо снова ждать небольшого дождя. От сырой земли, пригретой солнечными лучами, начинают подыматься обильные испарения. Достигая верхних слоёв атмосферы, пар конденсируется и падает обратно на землю мелким дождём. Паначев оказался прав. Часов в пять вечера начало моросить, незадолго до сумерек дождь перестал, и тучи рассеялись. Какой-то особенно неясный свет разлился по всему лесу. Это была последняя улыбка солнца. Начавшаяся было засыпать жизнь в лесу встрепенулась: забегали бурундуки, послышались крики иволги и удода. Но вот свет на небе начал гаснуть; из-под старых елей и кустов поднялись ночные тени. Пламя от костра стало светлее. Около него толпились люди… Паначев сидел в стороне и молча ел хлеб, подбирая крошки. Казаки разбирали вьюки, ставили комарники и готовили ужин. Некоторые из них разделись донага, собирали с белья клещей и нещадно ругались. — А что, дядя, сколько будет вёрст до Кокшаровки? — спросил старовера Белоножкин. — А кто его знает! Разве кто тайгу мерил? Тайга, так тайга и есть! Завтра надо бы дойти, — отвечал старовер. В этом «надо бы дойти» слышалась неуверенность. — Ты хорошо эти места знаешь? — продолжал допрашивать его казак. — Да не шибко хорошо. Два раза ходил и не блудил. Ничего, господь даст, пройдём помаленьку. Покончив ужин, Паначев, не смущаясь присутствием посторонних, помолился, потом взял свой топор и стал подтачивать его на камне. Следующий день был первое июня. Утром, когда взошло солнце, от ночного тумана не осталось и следа. Первым с бивака тронулся Паначев. Он снял шапку, перекрестился и пошёл вперёд, высматривая затёски. Два стрелка помогали ему расчищать дорогу. Путешествие по тайге всегда довольно однообразно. Сегодня — лес, завтра — лес, послезавтра — опять лес. Ручьи, которые приходится переходить вброд, заросшие кустами, заваленные камнями, с чистой прозрачной водой, сухостой, валежник, покрытый мхом, папоротники удивительно похожи друг на друга. Вследствие того что деревья постоянно приходится видеть близко перед собой, глаз утомляется и ищет простора. Чувствуется какая-то неловкость в зрении, является непреодолимое желание смотреть вдаль. Иногда среди тёмного леса вдруг появляется просвет. Неопытный путник стремится туда и попадает в бурелом. Просвет в лесу в большинстве случаев означает болото или место пожарища, ветролома. Не всегда бурелом можно обойти стороной. Если поваленные деревья невелики, их перерубают топорами, если же дорогу преграждает большое дерево, его стёсывают с боков и сверху, чтобы дать возможность перешагнуть лошадям. Всё это задерживает вьюки, и потому движение с конями по тайге всегда очень медленно. Если идти по лесу без работы, то путешествие скоро надоедает. Странствовать по тайге можно только при условии, если целый день занят работой. Тогда не замечаешь, как летит время, забываешь невзгоды и миришься с лишениями. Путевые записки необходимо делать безотлагательно на месте наблюдения. Если этого не сделать, то новые картины, новые впечатления заслоняют старые образы, и виденное забывается. Эти путевые заметки можно делать на краях планшета или в особой записной книжке, которая всегда должна быть под рукой. Вечером сокращённые записки подробно заносятся в дневники. Этого тоже никогда не следует откладывать на завтра. Завтра будет своя работа. Так как тропа в лесу часто кружит и делает мелкие извилины, которые по масштабу не могут быть нанесены на планшет, то съёмщику рекомендуется идти сзади на таком расстоянии, чтобы хвост отряда можно было видеть между деревьями. Направление берётся по последней лошади. Если же отряд идёт быстрее, чем это нужно съёмщику, то, чтобы не задерживать коней с вьюками, приходится отпускать их вперёд, а с собой брать одного стрелка, которому поручается идти по следам лошадей на таком расстоянии от съёмщика, чтобы последний мог постоянно его видеть. В чаще, где ничего не видно, направление приходится брать по звуку, например по звону колокольчика, ударам палки о дерево, окрикам, свисткам и т. д. В пути наш отряд разделился на три части. Рабочий авангард под начальством Гранатмана, с Паначевым во главе, шёл впереди, затем следовали вьюки. Остальные участники экспедиции шли сзади. Вперёд мы подвигались очень медленно. Приходилось часто останавливаться и ожидать, когда прорубят дорогу. Около полудня кони вдруг совсем встали. — Трогай! — кричали нетерпеливые. — Обожди! Старовер затёски потерял, — отвечали передние. — А где сам-то он? — Да пошёл вперёд искать дорогу. Прошло минут двадцать. Наконец Паначев вернулся. Достаточно было взглянуть на него, чтобы догадаться, в чём дело. Лицо его было потное, усталое, взгляд растерянный, волосы растрёпанные. — Ну что, есть затёски? — спросил его Гранатман. — Нету! — отвечал старовер. — Они, должно, левее остались. Нам надо так идти, — сказал он, указывая рукой на северо-восток. Пошли дальше. Теперь Паначев шёл уже не так уверенно, как раньше: то он принимал влево, то бросался в другую сторону, то заворачивал круто назад, так что солнце, бывшее дотоле у нас перед лицом, оказывалось назади. Видно было, что он шёл наугад. Я пробовал его останавливать и расспрашивать, но от этих расспросов он ещё более терялся. Собран был маленький совет, на котором Паначев говорил, что он пройдёт и без дороги, икак подымется на перевал и осмотрится, возьмёт верное направление. Надо было дать вздохнуть лошадям. Их расседлали и пустили на подножный корм. Казаки принялись варить чай, а Паначев и Гранатман полезли на соседнюю сопку. Через полчаса они возвратились. Гранатман сообщил, что, кроме гор, покрытых лесом, он ничего не видел. Паначев имел смущённый вид, и хотя уверял нас, что место это ему знакомо, но в голосе его звучало сомнение. Едва мы тронулись с привала, как попали в такой буерак, из которого не могли выбраться до самого вечера. Паначев вёл нас как-то странно. То мы карабкались на гору, то шли косогором, то уже опять спускались в долину. Обыкновенно, когда заблудишься, то уже идёшь без расчёта. Целый день мы были в пути и стали там, где застигла ночь. Невесело было на биваке. Сознание, что мы заблудились, действовало на всех угнетающим образом. Особенно грустным казался Паначев. Он вздыхал, посматривал на небо, ерошил волосы на голове и хлопал руками по полам своего армяка. — Ты клещей-то из бороды вытащи, — говорили ему стрелки. — Вот беда-то! — говорил он сам с собой. — Как на грех потерял затёски!… Надо было выяснить, каковы наши продовольственные запасы. Уходя из Загорной, мы взяли с собой хлеба по расчёту на три дня. Значит, на завтра продовольствия ещё хватит, но что будет, если завтра мы не выйдем к Кокшаровке? На вечернем совещании решено было строго держаться восточного направления и не слушать более Паначева. На другой день чуть свет мы были уже на ногах. В том положении, в котором мы находились, поспешность была необходима. Пройдя километра два с половиной от бивака, мы вдруг совершенно неожиданно наткнулись на затёски. Они были старые, заплывшие. — Чьи это затёски? — спросил Мерзляков. — Китайские, — отвечал Паначев. — Значит, и у вас в тайге есть китайцы? — спросили его казаки. — Где их нет? — ответил старовер. — В тайге насквозь китайцы. Куда только ни пойдёшь, везде их найдёшь. Затёски были наделаны часто и шли в желательном для нас направлении, поэтому мы решили идти по ним, пока возможно. Паначев потому и заблудился, что свои знаки он ставил редко. Он упустил из виду, что со временем они потускнеют и на большом расстоянии будут видны плохо. Идя по линии затесок, мы скоро нашли соболиные ловушки. Некоторые из них были старые, другие новые, видимо, только что выстроенные. Одна ловушка преграждала дорогу. Кожевников поднял бревно и сбросил его в сторону. Под ним что-то лежало. Это оказались кости соболя. Очевидно, вскоре после того как зверёк попал в ловушку, его завалило снегом. Странно, почему зверолов не осмотрел свои ловушки перед тем, как уйти из тайги. Быть может, он обходил их, но разыгравшаяся буря помешала ему дойти до крайних затесок, или он заболел и не мог уже более заниматься охотой. Долго ждал пойманный соболь своего хозяина, а весной, когда стаял снег, вороны расклевали дорогого хищника, и теперь от него остались только клочки шерсти и мелкие кости. Я вспомнил Дерсу. Если бы он теперь был с нами, мы узнали бы, почему соболь остался в ловушке. Гольд, наверно, нашёл бы дорогу и вывел бы нас из затруднительного положения. К полудню мы поднялись на лесистый горный хребет, который тянется здесь в направлении от северо-северо-востока на юго-юго-запад и в среднем имеет высоту около полукилометра. Сквозь деревья можно было видеть другой такой же перевал, а за ним ещё какие-то горы. Сверху гребень хребта казался краем громадной чаши, а долина — глубокой ямой, дно которой терялось в тумане. Обсудив наше положение, мы решили спуститься в долину и идти по течению воды. Восточный склон хребта был крутой, заваленный буреломом и покрытый осыпями. Пришлось спускаться зигзагами, что отняло много времени. Ручей, которого мы придерживались, скоро стал забирать на юг; тогда мы пошли целиной и пересекли несколько горных отрогов. Паначев работал молча: он по-прежнему шёл впереди, а мы плелись за ним сзади. Теперь уже было всё равно. Исправить ошибку нельзя, и оставалось только одно: идти по течению воды до тех пор, пока она не приведёт нас к реке Улахе. На большом привале я ещё раз проверил запасы продовольствия. Выяснилось, что сухарей хватит только на сегодняшний ужин, поэтому я посоветовал сократить дневную выдачу. Густой смешанно-хвойный лес, по которому мы теперь шли, имел красивый декоративный вид. Некоторые деревья поражали своими размерами. Это были настоящие лесные великаны от 20 до 30 метров высоты и от 2 до 3 метров в обхвате. На земле среди зарослей таволги (Spiraea chamaedrifolia L.), лещины (Corylus heterophylia Fisch.) и леспедецы (Lespedeza bicolor Turcz.) валялось много колодника, покрытого цветистыми лишаями и мхами. По сырым местам тысячами разрослись пышные папоротники (Struthiopteris germanica Willd.), ваи (Ваи — листообразные ветви папоротника (Прим. ред.)) которых достигают 0,9 метра длины. По внешнему виду растения эти походят на гигантские зелёные лилии. В уссурийской тайге растёт много цветковых растений. Прежде всего в глаза бросается ядовитая чемерица (Veratrum album L.) с грубыми остроконечными плойчатыми листьями и белыми цветами, затем — бадьян (Dictamnus albus L.) с овально-ланцетовидными листьями и ярко-розовыми цветами, выделяющими обильные эфирные масла. Синими цветами из травянистых зарослей выделялся борец (Aconitum kusnezoffii Rchb.) с зубчатыми листьями, рядом с ним — башмачки (CypHpedium venricosum Sw.) с большими ланцетовидными листьями, нежные василистники (Thalictrum filamentosum Maxim.) с характерными яркими цветами, большие огненно-красные зорки (Lychnis fulgens Fisch.) с сидячими овально-ланцетовидными листьями и группы оранжевых троллиусов (Trollius ledebourii Rchb.). Несмотря на постигшую нас неудачу, мы не могли быть равнодушными к красотам природы. Художники, ботаники или просто любители природы нашли бы здесь неистощимые материалы для своих наблюдений. Перед вечером первый раз появилась мошка. Местные старожилы называют её гнусом. Уссурийская мошка — истинный бич тайги. После её укуса сразу открывается кровоточивая ранка. Она ужасно зудит, и, чем больше расчёсывать её, тем зуд становится сильнее. Когда мошки много, ни на минуту нельзя снять сетку с лица. Мошка слепит глаза, забивается в волосы, уши, забивается в рукава и нестерпимо кусает шею. Лицо опухает, как при рожистом воспалении. Дня через два или три организм вырабатывает иммунитет, и опухоль спадает. Люди могли защищаться от гнуса сетками, но лошадям пришлось плохо. Мошкара разъедала им губы и веки глаз. Бедные животные трясли головами, но ничего не могли поделать со своими маленькими мучителями. Самой рациональной защитой от мошкары является сетка. Металлической сетки никогда надевать не следует: она сильно нагревается. Лучше мучиться от мошкары, чем задыхаться в горячем воздухе, насыщенном ещё вдобавок собственными испарениями. Кисейная сетка непрочна, она всё время цепляется за сучки и рвётся. В образовавшееся отверстие набиваются насекомые, и тогда от них можно освободиться только сниманием головного убора. Лучшая сетка — волосяная, она достаточно прочна и не так нагревается от солнца, как металлическая. Некоторые рекомендуют мазаться вазелином. Я пробовал и могу сказать, что это средство никуда не годится. Во-первых, к вазелину прилипают насекомые. Они шевелятся и щекочут лицо. Другое неудобство заключается в том, что вазелин тает и смывается потом. Разные пахучие масла, вроде гвоздичного, ещё хуже. Они проникают в раскрытые поры и жгут, как крапивой. Самое лучшее средство — терпение. Нетерпеливого человека гнус может довести до слёз. Запасшись этим средством, мы шли вперёд до тех пор, пока солнце совсем не скрылось за горизонтом. Паначев тотчас же пошёл на разведку. Было уже совсем темно, когда он возвратился на бивак и сообщил, что с горы видел долину Улахе и что завтра к полудню мы выйдем из леса. Люди ободрились, стали шутить и смеяться. Незатейлив был наш ужин. Оставшиеся от сухарей крошки в виде муки были розданы всем поровну. Часов в восемь вечера на западе начала сверкать молния, и послышался отдалённый гром. Небо при этом освещении казалось иллюминованным. Ясно и отчётливо было видно каждое отдельное облачко. Иногда молнии вспыхивали в одном месте, и мгновенно получались электрические разряды где-нибудь в другой стороне. Потом все опять погружалось в глубокий мрак. Стрелки начали было ставить палатки и прикрывать брезентами седла, но тревога оказалась напрасной. Гроза прошла стороной. Вечером зарницы долго ещё играли на горизонте. Утром, как только мы отошли от бивака, тотчас же наткнулись на тропку. Она оказалась зверовой и шла куда-то в горы. Паначев повёл по ней. Мы начали было беспокоиться, но оказалось, что на этот раз он был прав. Тропа привела нас к зверовой фанзе. Теперь смешанный лес сменился лиственным редколесьем. Почуяв конец пути, лошади прибавили шаг. Наконец показался просвет, и вслед за тем мы вышли на опушку леса. Перед нами была долина реки Улахе. Множество признаков указывало на то, что деревня недалеко. Через несколько минут мы подошли к реке и на другом её берегу увидели Кокшаровку. Старообрядцы подали нам лодки и перевезли на них седла и вьюки. Понукать лошадей не приходилось. Умные животные отлично понимали, что на той стороне их ждёт обильный корм. Они сами вошли в воду и переплыли на другую сторону реки. После этого перехода люди очень устали, лошади тоже нуждались в отдыхе. Мы решили простоять в Кокшаровке трое суток. Воспользовавшись этим временем, я отправился к деревне Нотохоуза, расположенной недалеко от устья реки. Последняя получила своё название от китайского слова «науту» (ното), что значит «енот» (44039' северной широты и 134056' восточной долготы от Гринвича — по Гамову). Такое название китайцы дали реке по той причине, что раньше здесь водилось много этих животных. Деревня Нотохоуза — одно из самых старых китайских поселений в Уссурийском крае. Во времена Венюкова (1857 год) сюда со всех сторон стекались золотопромышленники, искатели женьшеня, охотники и звероловы. Старинный путь, которым уссурийские манзы сообщались с постом Ольги, лежал именно здесь. Вьючные караваны их шли мимо Ното по реке Фудзину через Сихотэ-Алинь к морю. Этой дорогой предстояло теперь пройти и нам. Выражение «река Улахе» состоит из трёх слов: русского, маньчжурского и китайского, причём каждое из них означает одно и то же — «река». В переводе получается что-то странное — «Река-река-река». Улахе течёт в направлении к северо-северо-востоку по продольной межскладчатой долине. Она шириной около 120 метров и глубиной в среднем 1,8 метра. Продолжением её тектонической долины будут долины нижнего Ното и его притока Себучара[64], текущих ей навстречу. Из притоков Улахе самыми большими будут: слева — Табахеза[65] и Синанца. Название последней показывает направление её течения (си — запад, нан — юг и на — разветвление, то есть юго-западный приток). С правой стороны в неё впадает много речек: Янмутьхоуза[66], Тудагоу, Эрлдагоу, Сандагоу, Сыдагоу. Затем дальше идут Фудзин и Нотохе, о которой говорилось выше. Все эти реки берут начало с Сихотэ-Алиня[67] Самым большим притоком Улахе, бесспорно, будет Янмутьхоуза. Её, собственно, и следует считать за начало Уссури. По ней можно выйти на берег моря к бухтам Ванчин и Валентина. Горные хребты, окаймляющие долину справа и слева, дают в стороны длинные отроги, поросшие густыми смешанными лесами и оканчивающиеся около реки небольшими сопками в 400 — 500 метров высоты. Долина Улахе является одной из самых плодородных местностей в крае. По ней растут в одиночку большие старые вязы, липы и дубы. Чтобы они не заслоняли солнца на огородах, с них снимают кору около корней. Деревья подсыхают и затем идут на топливо. День был чрезвычайно жаркий. Небесный свод казался голубой хрустальной чашей, которой как будто нарочно прикрыли землю, точно так, как прикрывают молодые всходы, чтобы они скорее росли, — и от этого именно было так душно и жарко. Ни дуновения ветерка внизу, ни одного облачка на небе. Знойный воздух реял над дорогой. Деревья и кусты оцепенели от жары и поникли листвой. Река текла тихо, бесшумно. Солнце отражалось в воде, и казалось, будто светят два солнца: одно сверху, а другое откуда-то снизу. Все мелкие животные попрятались в свои норы. Одни только птицы проявляли признаки жизни. У маньчжурского жаворонка хватало ещё сил описывать круги по воздуху и звонким пением приветствовать жаркое лето. В редколесье около дороги я заметил двух голубых сорок. Осторожные, хитрые птицы эти прыгали по веткам, ловко проскальзывали в листве и пугливо озирались по сторонам. В другом месте, в старой болотистой протоке, я вспугнул северную плиску — маленькую серо-зелёную птичку с жёлтым брюшком и жёлтой шеей. Она поднялась на воздух, чтобы улететь, но увидела стрекозу и, нимало не смущаясь моим присутствием, принялась за охоту. После полудня опять появилось много гнуса. Я прекратил работу и пошёл в деревню. По дороге меня догнал табун крестьянских лошадей. Кони брыкались, мотали головами и били себя хвостами. Слепни и оводы гнались за ними тучей. Увидев в стороне кусты, весь табун бросился туда. Ветви хлестали животных по ногам, по брюху. Это было единственное средство согнать крылатых кровопийц. В деревне уже ждали лошадей; около дворов курились дымокуры. Добежав до костров, лошади уткнулись мордами чуть ли не в самый огонь. На них жалко было смотреть. Широко раздув ноздри, они тяжело и порывисто дышали. Все тело их было покрыто каплями крови — в особенности круп, губы, шея и холка, то есть такие места, которые лошадь не может достать ни хвостом, ни зубами. Следующий день был ещё более томительный и жаркий. Мы никуда не уходили, сидели в избах и расспрашивали староверов о деревне и её окрестностях. Они рассказывали, что Кокшаровка основана в 1903 году и что в ней двадцать два двора.
Глава 10 Долина Фудзина
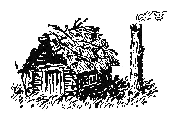
Китайская земледельческая фанза. — Варка пантов. — Анофриев в роли начальника отряда. — Крушение лодки. — Подлесье в тайге. — Лесные птицы. — Встреча с промышленником
Шестого июня мы распрощались с Кокшаровкой. Наши лошади отдохнули и теперь шли гораздо бодрее, несмотря на то что слепней и мошек было так же много, как и вчера. Особенно трудно было идти задним. Главная масса мошкары держится в хвосте отряда. В таких случаях рекомендуется по очереди менять местами людей и лошадей. От деревни Кокшаровки дорога идёт правым берегом Улахе, и только в одном месте, где река подмывает утёсы, она удаляется в горы, но вскоре опять выходит в долину. Река Фудзин имеет направление течения широтное, но в низовьях постепенно заворачивает к северу и сливается с Улахе километра на два ниже левого края своей долины. Рододендроны (Rhododendron dahuricum L.) были теперь в полном цвету, и от этого скалы, на которых они росли, казались пурпурно-фиолетовыми. Долину Фудзина можно назвать луговой. Старый дуб, ветвистая липа и узловатый осокорь растут по ней одиночными деревьями. Невысокие горы по сторонам покрыты смешанным лесом с преобладанием пихты и ели. Дикая красота долины смягчалась присутствием людей. Точно перепёлки, попрятавшиеся от охотника, там и сям между деревьями виднелись серенькие китайские фанзы. Они имели уютный вид. Все вокруг носило характер мира, тишины и трудолюбия. Около фанз широко раскинулись хлебные поля и огороды. Чего только здесь не было: пшеница, кукуруза, чумиза, овёс, мак снотворный, бобы, табак и множество других растений, которых я не знаю. Ближе к фанзам росли: фасоль, картофель, редька, тыква, дыня, капуста, салат, брюква, огурцы, помидоры, лук разных сортов и горошек. В полях всюду виднелись синие фигуры китайцев. Они прекратили работы и долго провожали нас глазами. Появление военного отряда, видимо, их сильно смущало, а наличие вьючных коней указывало, что отряд этот идёт издалека и далеко. Я направился к одной фанзе. Тут на огороде работал глубокий старик. Он полол грядки и каждый раз, нагибаясь, стонал. Видно было, что ему трудно работать, но он не хотел жить праздно и быть другим в тягость. Рядом с ним работал другой старик — помоложе. Он старался придать овощам красивый вид, оправлял их листья и подрезал те, которые слишком разрослись. Когда мы подошли, оба старика приветствовали нас по-своему и затем, вытерев лицо грязной тряпицей, поплелись сзади. Китайская фанза, к которой мы подошли, состояла из трёх построек, расположенных «покоем»: из жилой фанзы — посредине и двух сараев — по сторонам. Двор между ними, чисто выметенный и прибранный, был обнесён высоким частоколом в уровень с сараями. Почуяв посторонних людей, собаки подняли неистовый лай и бросились к нам навстречу. На шум из фанзы вышел сам хозяин. Он тотчас распорядился, чтобы рабочие помогли нам расседлать коней. Китайская фанза — оригинальная постройка. Стены её сложены из глины; крыша двускатная, тростниковая. Решётчатые окна, оклеенные бумагой, занимают почти весь её передний фасад, зато сзади и с боков окон не бывает вовсе. Рамы устроены так, что они подымаются кверху и свободно могут выниматься из своих гнёзд. Замков ни у кого нет. Дверь припирается не от людей, а для того, чтобы туда случайно не зашли собаки. Внутри фанзы, по обе стороны двери, находятся низенькие печки, сложенные из камня с вмазанными в них железными котлами. Дымовые ходы от этих печей идут вдоль стен под канами и согревают их. Каны сложены из плитнякового камня и служат для спанья. Они шириной около 2 метров и покрыты соломенными циновками. Ходы выведены наружу в длинную трубу, тоже сложенную из камня, которая стоит немного в стороне от фанзы и не превышает конька крыши. Спят китайцы всегда голыми, головой внутрь фанзы и ногами к стене. Деревянной перегородкой фанза делится на две половины. В меньшей помещается сам хозяин и его компаньон, в большей — рабочие. Посредине фанзы на треножнике стоит старый надтреснутый котёл, наполненный песком и золой. Это жаровня, куда складываются горящие уголья из печей, когда пища сварена и каны достаточно нагреты. Если нужно согреть пищу, манзы разводят огонь прямо в жаровне. Вследствие этого в жилом помещении всегда дымно и пыльно. Потолка в фанзе нет, крыша поставлена непосредственно на стены. Деревянные балки, кедровое корьё и даже солома до того прокоптились, что стали чёрными и блестящими. Все предметы, находящиеся выше роста человека, тоже закопчены и покрыты толстым слоем пыли. Хозяин фанзы пригласил нас в своё помещение. Здесь было несколько чище, чем у рабочих. Около стен стояли большие сундуки с наклеенными на них красными бумажками с новогодними иероглифическими письменами. Прямо против входа было устроено нечто вроде кумирни, а около неё на столе стояли подсвечники с красными свечами, какие-то жёлтые коробочки и запылённые бутылки. Рядом на стенах висели размалёванные картины, характерные для китайского художества по отсутствию в них перспективы и изображающие исторические театральные сцены, что легко узнать по костюмам, заученным позам актёров и по их раскрашенным физиономиям. Хозяин разостлал на кане новое ватное одеяло, поставил маленький столик и налил нам по кружке чаю. Китайский чай даёт навар бледно-жёлтый, слабый, но удивительно ароматный; его надо пить без сахара — сладкий он неприятен. Первые вопросы, с которыми обратились ко мне китайцы, были такие: — Сколько у вас людей? — Сзади ещё идут люди или нет? Сначала я возмущался такими вопросами, усматривая в них злое намерение, но впоследствии убедился, что эта справка нужна им только для того, чтобы знать, на сколько людей надо готовить ужин. Мы расположились в фанзе, как дома. Китайцы старались предупредить все наши желания и просили только, чтобы не пускать лошадей на волю, дабы они не потравили полей. Они дали коням овса и наносили травы столько, что её хватило бы до утра на отряд вдвое больший, чем наш. Все исполнялось быстро, дружно и без всяких проволочек. После сытного обеда из варёной курицы, яиц, жареного картофеля и лепёшек, испечённых на бобовом масле, я пошёл осматривать сараи. Половина одной постройки предназначалась для выгонки спирта. Тут были две заторных ямы, перегонный куб и посуда. На стеллажах под крышей рядами лежали "сулевые[68]" кирпичи. По мере надобности их опять укладывают в яму и смачивают водой. От этого они набухают и разваливаются. Затору дают побродить немного и затем лопатами насыпают в котёл, над которым ставят деревянный бездонный чан, а поверх его ещё другой котёл с холодной водой. Винные пары оседают на холодном днище верхнего котла и по особому приёмнику выходят наружу. В другой половине помещалась мельница, состоявшая из двух жерновов, из которых нижний был неподвижный. Мельница приводится в движение силой лошади. С завязанными глазами она ходит вокруг и вращает верхний камень. Мука отделяется от отрубей при помощи сита. Оно помещается в особом шкафу и приводится в движение ногами человека. Он же следит за лошадью и подсыпает зерно к жерновам. Рядом с мельницей была кладовая, где хранились зерновые продукты и вообще разное имущество. Здесь были шкуры зверей, оленьи панты, медвежья желчь, собольи и беличьи меха, бумажные свечи, свёртки с чаем, новые топоры, плотничьи и огородные инструменты, луки, настораживаемые на зверей, охотничье копьё, фитильное ружьё, приспособления для носки на спине грузов, одежда, посуда, ещё не бывшая в употреблении, китайская синяя даба, белая и чёрная материя, одеяла, новые улы, сухая трава для обуви, верёвки и тулузы[69] с маслом. В таких же, но только маленьких тулузах китайцы в походе носят бобовое масло. Пробкой обыкновенно служит кочерыжка кукурузы, обмотанная тряпицей. Изготовление маленьких тулузов явилось следствием недостатка стеклянной и глиняной посуды. Постройка с правой стороны двора служила конюшней для лошадей и хлевом для рогатого скота. Изъеденная колода и обгрызенные столбы свидетельствуют о том, что лошадям зимой дают мало сена. Китайцы кормят их резаной соломой вперемешку с бобами. Несмотря на это, лошади у них всегда в хорошем теле. От фанзы шла маленькая тропинка. Я пошёл по ней. Тропинка привела меня к кумирне, сколоченной из досок и украшенной резьбой. В ней была повешена картина, изображающая бога стихий «Лун Ван-е», окружённого другими богами. Все они имели цветные гневные лица. Перед богами стояли маленькие фарфоровые чашечки, в которые, вероятно, наливался спирт во время жертвоприношения. Впереди кумирни стояли два фигурных столба с украшениями. Позади фанзы и несколько в стороне была большая груда дров, аккуратно наколотых, но ещё аккуратнее сложенных в круглый штабель, по внешнему виду похожий на стог сена. В соседней фанзе варили панты. Я пошёл туда посмотреть, как производится эта операция. Варка происходила на открытом воздухе. Над огнём на трёх камнях стоял котёл, наполненный водой. Китаец-пантовар внимательно следил за тем, чтобы вода была горячей, но не кипела. В руках у него была деревянная разливалка, к которой бечёвками привязаны молодые оленьи рога. Обмакнув панты в воду, он давал им немного остынуть, сдувая ртом пар, затем опять погружал их в котёл и опять остужал дуновением. Варка пантов производится ежедневно до тех пор, пока они не потемнеют и не сделаются твёрдыми. В этом виде они могут храниться много лет. Если передержать их в горячей воде дольше двух-трёх секунд зараз, они лопнут и потеряют ценность. Когда я возвращался назад, день уже кончился. Едва солнце коснулось горизонта, как все китайцы, словно по команде, прекратили свои работы и медленно, не торопясь, пошли домой. В поле никого не осталось. Возвратясь в фанзу, я принялся за дневник. Тотчас ко мне подсели два китайца. Они следили за моей рукой и удивлялись скорописи. В это время мне случилось написать что-то машинально, не глядя на бумагу. Крик восторга вырвался из их уст. Тотчас с кана соскочило несколько человек. Через пять минут вокруг меня стояли все обитатели фанзы, и каждый просил меня проделать то же самое ещё и ещё, бесконечное число раз. Жидкая кукурузная кашица, немного солёных овощей и два хлебца из тёмной пшеничной муки — вот всё, что составляет вечернюю трапезу рабочих-манз. Сидя на корточках за маленьким столиком, они ели молча. После ужина китайцы разделись и легли на каны. Некоторые курили табак, другие пили чай. Теперь все разговаривали. В фанзе было два посторонних человека, пришедших с реки Ното. Они что-то горячо рассказывали, а слушатели время от времени выражали своё удивление возгласами «айя-хап». Такая беседа длилась около часа. Наконец разговор мало-помалу стал затихать и незаметно перешёл в храп. Только в одном углу ещё долго горела масляная лампочка. Это старик китаец курил опий. Видя меня сидящим за работой в то время, когда другие спят, китайцы объяснили это по-своему. Они решили, что я не более как писарь и что главный начальник — Анофриев. Заключили они это по тому, что последний постоянно кричал на них, ругался и гнал из чистой половины в помещение для рабочих. Я вспомнил, что и в других фанзах было то же самое. Китайцы боялись его как огня. Когда кому-нибудь в отряде не удавалось чего-либо добиться от них, стоило только обратиться к Анофриеву, и тотчас же китайцы становились покорными и без всяких пререканий исполняли приказания. Очевидно, весть о том, кто начальник в отряде, передавалась из фанзы в фанзу. И с этим ничего нельзя было поделать. Когда на другое утро я проснулся и попросил у китайцев чаю, они указали на спящего Анофриева и шёпотом сказали мне, что надо подождать, пока не встанет «сам капитан». Я разбудил Анофриева и попросил его сделать распоряжение. Он прикрикнул на китайцев, те сразу засуетились и тотчас подали мне чай и булочки, испечённые на пару. Расплатившись с хозяином фанзы, мы отправились дальше вверх по реке Фудзину. Горы с левой стороны долины состоят из базальтовой лавы, которая в обнажениях, под влиянием атмосферных явлений, принимает красно-бурую окраску. По вершинам их кое-где по склонам виднеются осыпи. Издали они кажутся серыми плешинами. Эти сопки изрезаны распадками и покрыты дубовым редколесьем. С правой стороны Фудзина тянется массивный горный кряж, поросший густым хвойно-смешанным лесом. К полудню отряд наш дошёл до того места, где долина делает крутой поворот на север. Пройдя в этом направлении километра три, она снова поворачивает к востоку. На другой стороне реки виднелась фанза. Здесь жили два китайца. Один из них был хромой, другой слепой. Вода в реке стояла на прибыли, и потому вброд её перейти было нельзя. У китайцев нашлась небольшая лодка. Мы перевезли в ней седла и грузы, а коней переправили вплавь. За последние дни лошади наши сильно похудели. Днём они были в работе, а ночью страдали от гнуса. Они не хотели пастись на траве и всё время жались к дымокурам. Чтобы облегчить их работу, я решил часть грузов отправить в лодке с двумя стрелками. Китайцы охотно уступили её нам за недорогую цену. Но не суждено было ей совершить это плавание. Как только она вышла на середину реки, один из пассажиров потерял равновесие и упал. Лодка тотчас перевернулась. Стрелки умели плавать и без труда добрались до берега, но ружья, топоры, запасные подковы, пила и ковочный инструмент утонули. Лодку скоро задержали, но впопыхах потеряли место, где произошло крушение. В команде нашлись два человека (Мурзин и Мелян), которые умели нырять. До самых сумерек они бродили по воде, щупали шестами, закидывали верёвки с крючьями, но всё было напрасно. Следующий день, 8 июня, ушёл на поиски в воде ружей. Мы рассчитывали, что при солнце будет видно дно реки, но погода, как на грех, снова испортилась. Небо покрылось тучами, и стало моросить. Тем не менее после полудня Меляну удалось найти два ружья, ковочный инструмент, подковы и гвозди. Удовольствовавшись этим, я приказал собираться в дорогу. Нет худа без добра. Случилось так, что последние две ночи мошки было мало; лошади отдохнули и выкормились. Злополучную лодку мы вернули хозяевам и в два часа дня тронулись в путь. Погода нам благоприятствовала. Было прохладно и морочно[70]. По небу бежали кучевые облака и заслоняли собой солнце. Дальше Фудзин делает излучину в виде буквы "П". Отсюда тропа поворачивает направо в горы, что значительно сокращает дорогу. По пути она пересекает два невысоких кряжика и обильный водой источник. В полдень у ручья я приказал остановиться. После чаю я не стал дожидаться, пока завьючат коней, и, сделав нужные распоряжения, пошёл вперёд по тропинке. Во вторую половину дня погода не изменилась: по-прежнему было сумрачно, но чувствовалось, что дождя не будет. Такой погодой всегда надо пользоваться. В это время можно много сделать и много пройти. Откуда-то берётся энергия, и, главное, совершенно не чувствуешь усталости. Гнус исчез. При ветре мошка не может держаться в воздухе. Зато, если день солнечный и безветренный, мошек появляется чрезвычайно много. Для них не так нужно солнце, как тёплый и насыщенный парами воздух. Вот почему гнус всегда появляется перед дождём и в сумерки. На втором перевале через горный отрог тропка разделилась. Одна пошла влево, другая — прямо в лес. Первая мне показалась малохоженой, а вторая — более торной. Я выбрал последнюю. В течение дня из пернатых в здешних местах я видел уссурийского пёстрого дятла. Эта бойкая и подвижная птица с белым, черным и красным оперением всё время перелетала с одного дерева на другое, часто постукивала носом по коре, и, казалось, прислушивалась, стараясь по звуку угадать, дуплистое оно или нет. Увидев меня, дятел спрятался за дерево и тотчас показался с другой стороны. Он осторожно выглядывал оттуда одним глазом. Заметив, что я приближаюсь, он с криком перелетел ещё дальше и вскоре совсем скрылся в лесу. В стороне звонко куковала кукушка. Осторожная и пугливая, она не сидела на месте, то и дело шныряла с ветки на ветку и в такт кивала головой, подымая хвост кверху. Не замечая опасности, кукушка бесшумно пролетела совсем близко от меня, села на дерево и начала было опять куковать, но вдруг испугалась, оборвала на половине своё кукование и торопливо полетела обратно. Из соседних кустов я выгнал вальдшнепа. Он подпустил меня очень близко, но потом вдруг сорвался с места и полетел низко над землёй, ловко лавируя между деревьями. В тех местах, где заросли были гуще, держались серые сорокопуты. Заметив подходившего человека, они подняли сильное стрекотание. Небольшие птицы с сердитым взглядом и с клювом, как у хищника, они поминутно то взлетали на ветки деревьев, то опускались на землю, как будто что-то клевали в траве, затем опять взлетали наверх и ловко прятались в листве. Около воды по опушке держались китайские иволги и сибирские соловьи. Они выдавали себя своим пением. Иволги, красивые оранжево-жёлтые птицы, величиной с голубя, сидели на высоких деревьях. Несмотря на величину и яркое оперение, увидеть их всегда трудно. Вторые — серые птички с красным горлом — также предпочитали держаться в зарослях около воды. Голос сибирского соловья не такой богатый, как у соловья, обитающего в Европе. После короткого пения сразу наступает щёлканье и стрекотанье. По голосу я сначала даже и не принял его за соловья, но потом разглядел и признал в нём пернатого музыканта. Моя тропа заворачивала все больше к югу. Я перешёл ещё через один ручей и опять стал подыматься в гору. В одном месте я нашёл чей-то бивак. Осмотрев его внимательно, я убедился, что люди здесь ночевали давно и что это, по всей вероятности, были охотники. Лес становился гуще и крупнее, кое-где мелькали тупые вершины кедров (Punus koraiensis S. et Z.) и остроконечные ели (Picea ajanensis Fisch.), всегда придающие лесу угрюмый вид. Незаметно для себя я перевалил ещё через один хребетник и спустился в соседнюю долину. По дну её бежал шумный ручей. Усталый, я сел отдохнуть под большим кедром и стал рассматривать подлесье. Тут росли: даурская крушина (Rhamnus dahurica Pall.) с овально-заострёнными листьями и мелкими белыми цветами, многоиглистый шиповник (Rosa pimpinellifolia L.), небольшой кустарник с сильно колючими ветвями и жёлтая акация (Caragana arborescens Lam.) с ярко-золотистыми венчиками. Там и сям среди кустарников высились: зонтичная ангелика (Angelika dahurica Maxim.), вороний глаз (Paris quadrifolia L.) с расходящимися во все стороны узкими ланцетовидными листьями и особый вид папоротника (Pteridium aquilinum Kuhn) с листьями, напоминающими развёрнутое орлиное крыло, и вследствие этого называемый в просторечии «орляком». Вдруг издали донеслись до меня какие-то однообразные и заунывные звуки. Они приближались, и вслед за тем я услышал совсем близко над своей головой шум птичьего полёта и глухое воркование. Тихонько я поднял голову и увидел восточносибирскую лесную горлицу. По неосторожности я что-то выронил из рук, горлица испугалась и стремительно скрылась в чаще. Потом я увидел восточного седоголового дятла. Эта лазящая птица с зеленовато-серым оперением и с красным пятном на голове, подвижная и суетливая, выражала особенное беспокойство, видимо, потому, что я сидел неподвижно. Она перелетала с одного места на другое и так же, как и первый дятел, пряталась за деревья. По другому, резкому крику я узнал кедровку. Вскоре я увидел её самое — большеголовую, пёструю и неуклюжую. Она проворно лазила по деревьям, лущила еловые шишки и так пронзительно кричала, как будто хотела лесу оповестить, что здесь есть человек. Наконец мне наскучило сидеть на одном месте: я решил повернуть назад и идти навстречу своему отряду. В это время до слуха моего донёсся какой-то шорох. Слышно было, как кто-то осторожно шёл по чаще. «Должно быть, зверь», — подумал я и приготовил винтовку. Шорох приближался. Притаив дыхание, я старался сквозь чащу леса рассмотреть приближающееся животное. Вдруг сердце моё упало — я увидел промышленника. По опыту прежних лет я знал, как опасны встречи с этими людьми. В тайге Уссурийского края надо всегда рассчитывать на возможность встречи с дикими зверями. Но самое неприятное — это встреча с человеком. Зверь спасается от человека бегством, если же он и бросается, то только тогда, когда его преследуют. В таких случаях и охотник и зверь — каждый знает, что надо делать. Другое дело человек. В тайге один бог свидетель, и потому обычай выработал особую сноровку. Человек, завидевший другого человека, прежде всего должен спрятаться и приготовить винтовку. В тайге все бродят с оружием в руках: туземцы, китайцы, корейцы и зверопромышленники. Зверопромышленник — это человек, живущий почти исключительно охотой. В большинстве случаев хозяйством его ведает отец, брат или кто-либо из близких родственников. Весьма интересно ходить с ним на охоту. У него много интересных приёмов, выработанных долголетним опытом: он знает, где держится зверь, как его обойти, где искать подранка. Способность ориентироваться, устроиться на ночь во всякую погоду, умение быстро, без шума открывать зверя, подражать крику животных — вот отличительные черты охотника-зверопромышленника. Но надо отличать зверопромышленника от промышленника. Насколько первый в большинстве случаев отличается порядочностью, настолько надо опасаться встречи со вторым. Промышленник идёт в тайгу не для охоты, а вообще «на промысел». Кроме ружья, он имеет при себе сапёрную лопату и сумочку с кислотами. Он ищет золото, но при случае не прочь поохотиться за «косачами» (китайцами) и за «лебедями» (корейцами), не прочь угнать чужую лодку, убить корову и продать мясо её за оленину. Встреча с таким «промышленником» гораздо опаснее, чем встреча со зверем. Надо всегда быть готовым к обороне. Малейшая оплошность — и неопытный охотник погиб. Старые охотники с первого взгляда разбирают, с кем имеют дело — с порядочным человеком или с разбойником. Передо мной был именно промышленник. Одет он был в какой-то странный костюм, наполовину китайский, наполовину русский. Он шёл наискось мимо меня, сгорбившись, и всё время оглядывался по сторонам. Вдруг он остановился, проворно сдёрнул с плеча свою винтовку и тоже спрятался за дерево. Я понял, что он меня увидел. В таком положении мы пробыли несколько минут. Наконец, я решил отступать. Тихонько я пополз по кустам назад и через минуту добрался до другого большого дерева. Промышленник тоже отходил и прятался в кустах. Тогда я понял, что он меня боится. Он никак не мог допустить, что я мог быть один, и думал, что поблизости много людей. Я знал, что если я выстрелю из винтовки, то пуля пройдёт сквозь дерево, за которым спрятался бродяга, и убьёт его. Но я тотчас же поймал себя на другой мысли: он уходил, он боится, и если я выстрелю, то совершу убийство. Я отошёл ещё немного и оглянулся. Чуть-чуть между деревьями мелькала его синяя одежда. У меня отлегло от сердца. Осторожно, от дерева к дереву, от камня к камню, я стал удаляться от опасного места и, когда почувствовал себя вне выстрелов, вышел на тропинку и спешно пошёл назад к своему отряду. Через полчаса я был на том месте, где расходились дороги. Я вспомнил уроки Дерсу и стал рассматривать обе тропы. Свежие конские следы шли влево. Я пошёл скорее и через полчаса подходил к Фудзину. За рекой я увидел китайскую фанзу, окружённую частоколом, а около неё на отдыхе наш отряд. Местность эта называется Иолайза. Это была последняя земледельческая фанза. Дальше шла тайга — дикая и пустынная, оживающая только зимой на время соболевания. Отряд ожидал моего возвращения. Я приказал рассёдлывать коней и ставить палатки. Здесь надо было в последний раз пополнить запасы продовольствия.
Глава 11 Сквозь тайгу

Тазы. — Ловцы жемчуга. — Скрытность китайцев. — Лесная тропа. — Таз-охотник. — Сумерки в лесу. — Пищуха. — Бурундук. — Встреча с медведем. — Гнус
После короткого отдыха я пошёл осматривать тазовские фанзы, расположенные по соседству с китайскими. Аборигены Уссурийского края, обитающие в центральной части горной области Сихотэ-Алиня и на побережье моря к северу до мыса Успения, называют себя "удэ-хе[71]". Те, которые жили в южной части страны, со временем окитаились, и теперь уже их совершенно нельзя отличить от манз. Китайцы называют их да-цзы, что значит инородец (не русский, не кореец и не китаец). Отсюда получилось искажённое русскими слово «тазы». Характерны для этих ассимилированных туземцев бедность и неряшливость: бедность в фанзе, бедность в одежде и бедность в еде. Когда я подходил к их жилищу, навстречу мне вышел таз. Одетый в лохмотья, с больными глазами и с паршой на голове, он приветствовал меня, и в голосе его чувствовались и страх и робость. Неподалёку от фанзы с собаками играли ребятишки; у них на теле не было никакой одежды. Фанза была старенькая, покосившаяся; кое-где со стен её обвалилась глиняная штукатурка; старая, заплатанная и пожелтевшая от времени бумага в окнах во многих местах была прорвана; на пыльных канах лежали обрывки циновок, а на стене висели какие-то выцветшие и закоптелые тряпки. Всюду запустение, грязь и нищета. Раньше я думал, что это от лени, но потом убедился, что такое обеднение тазов происходит от других причин — именно от того положения, в котором они очутились среди китайского населения. Из расспросов выяснилось, что китаец, владелец фанзы Иолайза, является цайдуном[72] (хозяин реки). Все туземцы, живущие на Фудзине, получают от него в кредит опиум, спирт, продовольствие и материал для одежды. За это они обязаны отдавать ему всё, что добудут на охоте: соболей, панты, женьшень и т. д. Вследствие этого тазы впали в неоплатные долги. Случалось не раз, что за долги от них отбирали жён и дочерей и нередко самих продавали в другие руки, потом в третьи, и т. д. Инородцы эти, столкнувшись с китайской культурой, не смогли с ней справиться и подпали под влияние китайцев. Жить как земледельцы они не умели, а от жизни охотника и зверолова отстали. Китайцы воспользовались их беспомощностью и сумели сделаться для них необходимыми. С этого момента тазы утратили всякую самостоятельность и превратились в рабов. Возвращаясь от них, я сбился с дороги и попал к Фудзину. Здесь, на реке, я увидел двух китайцев, занимающихся добыванием жемчуга. Один из них стоял на берегу и изо всей силы упирал шест в дно реки, а другой опускался по нему в воду. Правой рукой он собирал раковины, а левой держался за палку. Необходимость работать с шестом вызывается быстрым течением реки. Водолаз бывает под водой не более полминуты. Задержанное дыхание позволило бы ему пробыть там и дольше, но низкая температура воды заставляет его скоро всплывать наверх. Вследствие этого китайцы ныряют в одежде. Я сел на берегу и стал наблюдать за их работой. После короткого пребывания в воде водолаз минут пять грелся на солнце. Так как они чередовались, то выходило, что в час каждый из них спускался не более десяти раз. За это время они успели достать всего только восемь раковин (Margaritana margaritifera L.), из которых ни одной не было с жемчугом. На задаваемые вопросы китайцы объяснили, что примерно из пятидесяти раковин одна бывает с жемчугом. За лето они добывают около двухсот жемчужин на сумму 500 — 600 рублей. Китайцы эти не ограничиваются одним Фудзином, ходят по всему краю и выискивают старые тенистые протоки. Самым лучшим местом жемчужного лова считается река Ваку. Вскоре китайцы приостановили свою работу, надели сухую одежду и выпили немного подогретой водки. Затем они уселись на берегу, стали молотками разбивать раковины и искать в них жемчуг. Я вспомнил, что раньше по берегам рек мне случалось встречать такие кучи битых раковин. Тогда я не мог найти этому объяснения. Теперь мне всё стало понятным. Конечно, искание жемчуга ведётся хищнически. Раковины разбиваются и тут же бросаются на месте. Из восьмидесяти раковин китайцы отложили две драгоценные. Сколько я ни рассматривал их, не мог найти жемчуга до тех пор, пока мне его не указали. Это были небольшие наросты блестящего грязновато-серого цвета. Перламутровый слой был гораздо ярче и красивее, чем сам жемчуг. После того как раковины просохли, китайцы осторожно ножами отделили жемчужины от створок и убрали их в маленькие кожаные мешочки. Пока я был у тазов и смотрел, как китайцы ловят жемчуг, незаметно подошёл вечер. В нашей фанзе зажгли огонь. После ужина я расспрашивал китайцев одороге к морю. Или они не хотели указать места, где находятся зверовые фанзы, или у них были какие-либо другие причины скрывать истину, только я заметил, что они давали уклончивые ответы. Они говорили, что к морю по реке Ли-Фудзину[73] давно уже никто не ходит, что тропа заросла и завалена буреломом. Китайцы рассчитывали, что мы повернём назад, но, видя наше настойчивое желание продолжать путь, стали рассказывать всевозможные небылицы: пугали медведями, тиграми, говорили о хунхузах и т. д. Вечером Гранатман ходил к тазам и хотел нанять у них проводника, но китайцы предупредили его и воспретили тазам указывать дорогу. Приходилось нам рассчитывать на собственные силы и руководствоваться только расспросными данными, которым тоже нельзя было особенно доверять. На следующий день мы выступили из Иолайзы довольно рано. Путеводной нитью нам служила небольшая тропка. Сначала она шла по горам с левой стороны Фудзина, а затем, миновав небольшой болотистый лесок, снова спустилась в долину. Размытая почва, галечниковые отмели и ямы — всё это указывало на то, что река часто выходит из берегов и затопляет долину. День выпал томительный, жаркий. Истома чувствовалась во всём. Ни малейшего дуновения ветра. Знойный воздух словно окаменел. Все живое замерло и притаилось. В стороне от дороги сидела какая-то хищная птица, раскрыв рот. Видимо, и ей было жарко. По мере того как мы удалялись от фанзы, тропа становилась всё хуже и хуже. Около леса она разделилась надвое. Одна, более торная, шла прямо, а другая, слабая, направлялась в тайгу. Мы стали в недоумении. Куда идти? Вдруг из чащи леса вышел китаец. На вид ему было лет сорок. Его загорелое лицо, изорванная одежда и изношенная обувь свидетельствовали о том, что он шёл издалека. За спиной у него была тяжёлая котомка. На одном плече он нёс винтовку, а в руках имел палку, приспособленную для того, чтобы стрелять с неё, как с упора. Увидев нас, китаец испугался и хотел было убежать, но казаки закричали ему, чтобы он остановился. Китаец с опаской подошёл к ним. Скоро он успокоился и стал отвечать на задаваемые вопросы. Из его слов удалось узнать, что по торной тропе можно выйти на реку Тадушу, которая впадает в море значительно севернее залива Ольги, а та тропа, на которой мы стояли, идёт сперва по речке Чау-сун[74], а затем переваливает через высокий горный хребет и выходит на реку Синанцу, впадающую в Фудзин в верхнем его течении. На Синанце тропа опять разделяется надвое. Конная идёт на Янмутьхоузу (приток Улахе), а другая тропа после шестого брода подымается налево в горы. Это и есть наш путь. Здесь надо хорошо смотреть, чтобы не пройти её мимо. Поблагодарив китайца за сведения, мы смело пошли вперёд. Жилые фанзы, луга, пашни и открытые долины — всё осталось теперь позади. Всякий раз, когда вступаешь в лес, который тянется на несколько сот километров, невольно испытываешь чувство, похожее на робость. Такой первобытный лес — своего рода стихия, и немудрёно, что даже туземцы, эти привычные лесные бродяги, прежде чем переступить границу, отделяющую их от людей и света, молятся богу и просят у него защиты от злых духов, населяющих лесные пустыни. Чем дальше, тем больше лес был завален колодником. В горах растительный слой почвы очень незначителен, поэтому корни деревьев не углубляются в землю, а распространяются по поверхности. Вследствие этого деревья стоят непрочно и легко опрокидываются ветрами. Вот почему тайга Уссурийского края так завалена буреломом. Упавшее дерево поднимает кверху свои корни вместе с землёй и с застрявшими между ними камнями. Сплошь и рядом такие баррикады достигают высоты до 4 — 6 метров. Вот почему лесные тропы очень извилисты. Приходится всё время обходить то одно поваленное дерево, то другое. Всегда надо принимать во внимание эти извилины и считать все расстояния в полтора раза больше, чем они показаны на картах. Деревья, растущие внизу, в долине, более прочно укрепляются в толще наносной земли. Здесь можно видеть таких лесных великанов, которые достигают 25 — 35 метров высоты и 3,7 — 4,5 метра в окружности. Нередко старые тополя служат берлогами медведям. Иногда охотники в одном дупле находят две-три медвежьи лёжки. Долинный лес иногда бывает так густ, что сквозь ветки его совершенно не видно неба. Внизу всегда царит полумрак, всегда прохладно и сыро. Утренний рассвет и вечерние сумерки в лесу и в местах открытых не совпадают по времени. Чуть только тучка закроет солнце, лес сразу становится угрюмым, и погода кажется пасмурной. Зато в ясный день освещённые солнцем стволы деревьев, ярко-зелёная листва, блестящая хвоя, цветы, мох и пёстрые лишайники принимают декоративный вид. К сожалению, всё, что может дать хорошая погода, отравляется гнусом. Трудно передать мучения, которые испытывает человек в тайге летом. Описать их нельзя — это надо перечувствовать. Часа три мы шли без отдыха, пока в стороне не послышался шум воды. Вероятно, это была та самая река Чаусун, о которой говорил китаец-охотник. Солнце достигло своей кульминационной точки на небе и палило вовсю. Лошади шли, тяжело дыша и понурив головы. В воздухе стояла такая жара, что даже в тени могучих кедровников нельзя было найти прохлады. Не слышно было ни зверей, ни птиц; только одни насекомые носились в воздухе, и чем сильнее припекало солнце, тем больше они проявляли жизни. Я полагал было остановиться на привал, но лошади отказывались от корма и жались к дымокурам. Сидение на месте в таких случаях тяжелее похода. Я велел опять заседлать коней и идти дальше. Часа в два дня тропа привела нас к горам, покрытым осыпями. Отсюда начинался подъём на хребет. Всё было так, как говорил охотник-китаец. На самом перевале стояла маленькая кумирня. Читатель, может быть, подумает, что это большая каменная постройка. Если бы не красные тряпицы, повешенные на соседние деревья, то можно было бы пройти мимо неё и не заметить. Представьте себе два плоских камня, поставленных на ребро, и третий такой же камень, покрывающий их сверху. Вот вам и кумирня! В глубине её помещаются лубочные картинки, изображающие богов, иногда деревянные дощечки с надписями религиозного содержания. При внимательном осмотре около камней можно заметить огарки бумажных свечей, пепел, щепотку риса, кусочек сахару и т. д. Это жертвы «духу гор и лесов», охраняющему прирост богатства. По другую сторону хребта тропа привела нас к зверовой фанзе, расположенной на левом берегу Синанцы. Хозяин её находился в отлучке. Я решил дождаться его возвращения и приказал людям устраивать бивак. Часов в пять вечера владелец фанзы явился. Увидев стрелков, он испугался и тоже хотел было убежать, но казаки задержали его и привели ко мне. Скоро он убедился в том, что мы не хотим причинить ему зла, и стал охотно отвечать на вопросы. Это был таз лет тридцати, с лицом, сильно изрытым оспой. Из его слов я понял, что он работает на хозяина фанзы Иолайза, у которого состоит в долгах. Сумму своего долга он, конечно, не знал, но чувствовал, что его обижают. На предложение проводить нас до Сихотэ-Алиня он отказался на том основании, что если китайцы узнают об этом, то убьют его. Я не стал настаивать, но зато узнал, что мы идём правильно. Чтобы расположить таза в свою пользу, я дал ему двадцать пять берданочных патронов. Он так обрадовался этому подарку, что стал петь и плясать и затем заявил, что укажет нам дорогу до следующей фанзы, где живут два зверобойщика-китайца. До сумерек было ещё далеко. Я взял свою винтовку и пошёл осматривать окрестности. Отойдя от бивака с километр, я сел на пень и стал слушать. В часы сумерек пернатое население тайги всегда выказывает больше жизни, чем днём. Мелкие птицы взбирались на верхушки деревьев, чтобы взглянуть оттуда на угасающее светило и послать ему последнее прости. Я весь ушёл в созерцание природы и совершенно забыл, что нахожусь один, вдали от бивака. Вдруг в стороне от себя я услышал шорох. Среди глубокой тишины он показался мне очень сильным. Я думал, что идёт какое-нибудь крупное животное, и приготовился к обороне, но это оказался барсук. Он двигался мелкой рысцой, иногда останавливался и что-то искал в траве; он прошёл так близко от меня, что я мог достать его концом ружья. Барсук направился к ручью, полакал воду и заковылял дальше. Опять стало тихо. Вдруг резкий, пронзительный и отрывистый писк, похожий на звонкое щёлканье ножницами, раздался сзади. Я обернулся и увидел пищуху (Lagomus hyperboreus Pab.). Зверёк этот (Ochofona alpinus — по Бихнеру) имеет весьма большое распространение по всему востоку и северо-востоку Сибири. Он похож на маленького кролика, только без длинных ушей; общая окраска его буро-серая. Любимым местопребыванием пищух являются каменистые осыпи по склонам гор и россыпи в долинах, слегка прикрытые мхами. Животное это дневное, но крайне осторожное и пугливое. Его очень трудно убить так, чтобы не испортить шкуру; она разрывается на части от одной дробинки. Моё движение испугало зверька и заставило быстро скрыться в норку. По тому, как он прятался, видно было, что опасность приучила его быть всегда настороже и не доверяться предательской тишине леса. Затем я увидел бурундука (Eritamias asiaficus orientalis Bonhot.). Эта пёстренькая земляная белка, бойкая и игривая, проворно бегала по колоднику, влезала на деревья, спускалась вниз и снова пряталась в траве. Окраска бурундука пёстрая, жёлтая; по спине и по бокам туловища тянется пять чёрных полос. Животное это равномерно распространено по всему Уссурийскому краю. Его одинаково можно встретить как в густом смешанном лесу, так и на полях около редколесья. Убегая, оно подымает пронзительный писк и тем выдаёт себя. Китайцы иногда употребляют его шкурки на оторочки своих головных уборов. Я заметил, что бурундук постоянно возвращается к одному и тому же месту и каждый раз что-то уносит с собой. Когда он уходил, его защёчные мешки были туго набиты, когда же он появлялся снова на поверхности земли, рот его был пустой. Меня эта картина очень заинтересовала. Я подошёл ближе и стал наблюдать. На колоднике лежали сухие грибки, корешки и орехи. Так как ни грибов, ни кедровых орехов в лесу ещё не было, то, очевидно, бурундук вытащил их из своей норки. Но зачем? Тогда я вспомнил рассказы Дерсу о том, что бурундук делает большие запасы продовольствия, которых ему хватает иногда на два года. Чтобы продукты не испортились, он время от времени выносит их наружу и сушит, а к вечеру уносит обратно в свою норку. Посидев ещё немного, я пошёл дальше. Всё время мне попадался в пути свежеперевернутый колодник. Я узнал работу медведя. Это его любимейшее занятие. Слоняясь по тайге, он подымает бурелом и что-то собирает под ним на земле. Китайцы в шутку говорят, что медведь сушит валежник, поворачивая его к солнцу то одной, то другой стороной. На обратном пути как-то само собой вышло так, что я попал на старый след. Я узнал огромный кедр, у которого останавливался, перешёл через ручей по знакомому мне поваленному дереву, миновал каменную осыпь и незаметно подошёл к тому колоднику, на котором бурундук сушил свои запасы. На месте норки теперь была глубокая яма. Орехи и грибы разбросаны по сторонам, а на свежевырытой земле виднелись следы медведя. Всё стало ясно. Косолапый разорил гнездо бурундука, поел его запасы и, может быть, съел и самого хозяина. Между тем подошёл и вечер. Заря угасла, потемнел воздух, и ближние и дальние деревья приняли одну общую однотонную окраску, которую нельзя назвать ни зелёной, ни серой, ни чёрной. Кругом было так тихо, что казалось, будто в ушах звенит. В темноте мимо меня с гудением пронёсся какой-то жук. Я шёл осторожно, стараясь не оступиться. Вдруг в стороне раздался сильный шум. Какое-то большое животное стояло впереди и сопело. Я хотел было стрелять, но раздумал. Испуганный зверь мог убежать, но мог и броситься. Минута мне показалась вечностью. Я узнал медведя. Он усиленно нюхал воздух. Я долго стоял на месте, не решаясь пошевельнуться, наконец не выдержал и осторожно двинулся влево. Не успел я сделать двух шагов, как услышал уханье зверя и треск ломаемых сучьев. Сердце моё сжалось от страха. Инстинктивно я поднял ружьё и выстрелил в его сторону. Удаляющийся шум показывал, что животное убегало. Через минуту с бивака послышался ответный выстрел. Тогда я вернулся назад и пошёл в прежнем направлении. Через полчаса я увидел огни бивака. Яркое пламя освещало землю, кусты и стволы деревьев. Вокруг костров суетились люди. Вьючные лошади паслись на траве; около них разложены были дымокуры. При моём приближении собаки подняли лай и бросились навстречу, но, узнав меня, сконфузились и в смущении вернулись обратно. С заходом солнца крупная мошка исчезла и на её месте появился мокрец[75] — мельчайшие, почти невидимые для глаза насекомые. Когда начинают гореть уши — это первый признак появления мелкой мошки. Потом кажется, что на лицо ложится колючая паутина. Особенно сильное ощущение зуда бывает на лбу. Мокрец набивается в волосы, лезет в уши, нос и рот. Люди ругаются, плюются и то и дело обтирают лицо руками. Стрелки поддели под фуражки носовые платки, чтобы хоть немного защитить шею и затылок. Меня мучила жажда, и я попросил чаю. — Пить нельзя, — сказал казак Эпов, подавая кружку. Я поднёс её к губам и увидел, что вся поверхность чая была покрыта какой-то пылью. — Что это такое? — спросил я казака. — Гнус, — ответил он. — Его обварило паром, он нападал в горячую воду. Сначала я пробовал сдуть мошек ртом, потом принялся снимать их ложкой, но каждый раз, как я прекращал работу, они снова наполняли кружку. Казак оказался прав. Так напиться чаю мне и не удалось. Я выплеснул чай на землю и залез в свой комарник. После ужина люди начали устраиваться на ночь. Некоторые из них поленились ставить комарники и легли спать на открытом воздухе, покрывшись одеялами. Они долго ворочались, охали, ахали, кутались с головой, но это не спасало их от гнуса. Мелкие насекомые пробирались в каждую маленькую складку. Наконец один из них не выдержал. — Нате, ешьте, чёрт вас возьми! — крикнул он, раскрываясь и раскинул в сторону руки. Раздался общий смех. Оказалось, что не он один, все не спали, но никому первому не хотелось вставать и раскладывать дымокуры. Минуты через две разгорелся костёр. Стрелки смеялись друг над другом, опять охали и ругались. Мало-помалу на биваке стала водворяться тишина. Миллионы комаров и мошек облепили мой комарник. Под жужжание их я начал дремать и вскоре уснул крепким сном.
Глава 12 Великий лес

Совет таза. — Птицы в тайге. — Геология Синанцы. — Ночь в лесу. — Манзы. — Таёжники. — Плантация женьшеня. — Возвращение отряда. — Проводник. — Старый китаец. — Старинный путь к посту Ольги. — Лес в предгорьях Сихотэ-Алиня. — Утомление и недостаток продовольствия
Утром я проснулся от говора людей. Было пять часов. По фырканью коней, по тому шуму, который они издавали, обмахиваясь хвостами, и по ругани казаков я догадался, что гнуса много Я поспешно оделся и вылез из комарника. Интересная картина представилась моим глазам. Над всем нашим биваком кружились несметные тучи мошки. Несчастные лошади, уткнув морды в самые дымокуры, обмахивались хвостами, трясли головами. На месте костра поверх золы лежал слой мошкары. В несметном количестве она падала на огонь до тех пор, пока он не погас. От гнуса может быть только два спасения: большие дымокуры и быстрое движение. Сидеть на месте не рекомендуется. Отдав приказ вьючить коней, я подошёл к дереву, чтобы взять ружьё, и не узнал его. Оно было покрыто густым серо-пепельным налётом — всё это были мошки, прилипшие к маслу. Наскоро собрав свои инструменты и не дожидаясь, когда завьючат коней, я пошёл по тропинке. В километре от фанзы тропа разделилась надвое. Правая пошла на реку Улахе, а левая — к Сихотэ-Алиню. Здесь таз остановился: он указал ту тропу, которой нам следовало держаться, и, обращаясь ко мне, сказал: — Капитан! Дорога хорошо смотри. Кони ходи есть, тебе ходи есть, кони ходи нету, тебе ходи нету. Для непривычного уха такие фразы показались бы бессмысленным набором слов, но я понял его сразу. Он говорил, что надо придерживаться конной тропы и избегать пешеходной. Когда подошли лошади, таз вернулся обратно, и мы отправились по новой дороге вверх по Синанце. В этих местах растёт густой смешанный лес с преобладанием кедра. Сильно размытые берега, бурелом, нанесённый водой, рытвины, ямы, поваленные деревья и клочья сухой травы, застрявшие в кустах, — всё это свидетельствовало о недавних больших наводнениях. Реки Уссурийского края обладают свойством после каждого наводнения перемещать броды с одного места на другое. Найти замытую тропу не так-то легко. На розыски её были посланы люди в разные стороны. Наконец тропа была найдена, и мы весело пошли дальше. На пути нам встречались звериные следы, между которыми было много тигровых. Два раза мы спугивали оленей и кабанов, стреляли по ним, но убить не удалось — люди торопились и мешали друг другу. Уссурийские леса кажутся пустынными. Такое впечатление является благодаря отсутствию певчих птиц. Кое-где по пути я видел уссурийских соек. Эти дерзкие беспокойные птицы всё время шмыгали с одной ветки на другую и провожали нас резкими криками. Желая рассмотреть их, я попробовал подойти к ним поближе. Сойки сперва старались скрыться в листве и улетели только тогда, когда заметили, что я настойчиво их преследую. При полёте благодаря синему оперению крыльев с белым зеркалом они кажутся красивее, чем на самом деле. Время от времени в лесу слышались странные звуки, похожие на барабанный бой. Скоро мы увидели и виновника этих звуков — то была желна. Недоверчивая и пугливая, чёрная с красной головкой, издали она похожа на ворону. С резкими криками желна перелетала с одного места на другое и, как все дятлы, пряталась за деревья. В сырой чаще около речки ютились рябчики. Испуганные приближением собак, они отлетели в глубь леса и стали пересвистываться. Дьяков и Мелян хотели было поохотиться за ними, но рябчики не подпускали их близко. Я уговорил стрелков не тратить времени попусту и идти дальше. С одного дерева снялась большая хищная птица. Это был царь ночи — уссурийский филин. Он сел на сухостойную ель и стал испуганно озираться по сторонам. Как только мы стали приближаться к нему, он полетел куда-то в сторону. Больше мы его не видели. Геология долины Синанцы очень проста. Это тектоническая долина, идущая сначала с юго-запада, а потом поворачивающая на север вдоль Сихотэ-Алиня. По среднему течению реки (с левой стороны) в местности Идагоуза[76] встречаются осыпи из мелкозернистого гранита, а ниже фельзитовый порфирит, разложившийся апплит и миндалевидный диабаз с кальцитом и халцедоном. Чем более мы углублялись в горы, тем порожистее становилась река. Тропа стала часто переходить с одного берега на другой. Деревья, упавшие на землю, служили природными мостами. Это доказывало, что тропа была пешеходная. Помня слова таза, что надо придерживаться конной тропы, я удвоил внимание к югу. Не было сомнения, что мы ошиблись и пошли не по той дороге. Наша тропа, вероятно, свернула в сторону, а эта, более торная, несомненно, вела к истокам Улахе. К вечеру мы дошли до зверовой фанзы. Хозяева её отсутствовали, и расспросить было некого. На общем совете решено было, оставив лошадей на биваке, разойтись в разные стороны на разведку. Г. И. Гранатман пошёл прямо, А. И. Мерзляков — на восток, а я должен был вернуться назад и постараться разыскать потерянную тропинку. К вечеру, как только ветер стал затихать, опять появился мокрец. Маленькие кровопийцы с ожесточением набросились на людей и лошадей. День кончился. Последние отблески вечерней зари угасли на небе, но прохлады не было. Нагретая земля и вечером ещё продолжала излучать теплоту. Лесные травы благоухали. От реки подымались густые испарения. Казаки вокруг бивака кольцом разложили дымокуры. Люди и лошади жались к дыму и сторонились чистого воздуха. Когда все необходимые бивачные работы были закончены, я приказал поставить свой камарник и забился под спасительный полог. Через час стемнело совсем. Взошла луна и своим мягким фосфорическим светом озарила лес. Вскоре после ужина весь бивак погрузился в сон: не спали только собаки, лошади да очередные караульные. На другой день было ещё темно, когда я вместе с казаком Белоножкиным вышел с бивака. Скоро начало светать; лунный свет поблек; ночные тени исчезли; появились более мягкие тона. По вершинам деревьев пробежал утренний ветерок и разбудил пернатых обитателей леса. Солнышко медленно взбиралось по небу всё выше и выше, и вдруг живительные лучи его брызнули из-за гор и разом осветили весь лес, кусты и траву, обильно смоченные росой. Около первой зверовой фанзы мы действительно нашли небольшую тропинку, отходящую в сторону. Она привела нас к другой такой же фанзочке. В ней мы застали двух китайцев. Один был молодой, а другой — старик. Первый занимался охотой, второй был искателем женьшеня. Молодой китаец был лет двадцати пяти, крепкого телосложения. По лицу его видно было, что он наслаждался жизнью, был счастлив и доволен своей судьбой. Он часто смеялся и постоянно забавлял себя детскими выходками. Старик был высокого роста, худощавый и более походил на мумию, чем на живого человека. Сильно морщинистое и загорелое лицо и седые волосы на голове указывали на то, что годы его перевалили за седьмой десяток. Оба китайца были одеты в синие куртки, синие штаны, наколенники и улы, но одежда молодого китайца была новая, щеголеватая, а платье старика — старое и заплатанное. На головах у того и другого были шляпы: у первого — соломенная покупная, у второго — берестяная самодельная. Манзы сначала испугались, но потом, узнав, в чём дело, успокоились. Они накормили нас чумизной кашей и дали чаю. Из расспросов выяснилось, что мы находимся у подножия Сихотэ-Алиня, что далее к морю дороги нет вовсе и что тропа, по которой прошёл наш отряд, идёт на реку Чжюдямогоу[77], входящую в бассейн верхней Улахе. Тогда я влез на большое дерево, и то, что увидел сверху, вполне совпадало с планом, который старик начертил мне палочкой на земле. На востоке виднелся зубчатый гребень Сихотэ-Алиня. По моим расчётам, до него было ещё два дня ходу. К северу, насколько хватал глаз, тянулась слабо всхолмлённая низина, покрытая громадными девственными лесами. В больших лесах всегда есть что-то таинственное, жуткое. Человек кажется маленьким, затерявшимся. На юг и дальше на запад характер страны вновь становится гористый. Другой горный хребет шёл параллельно Сихотэ-Алиню, за ним текла, вероятно, Улахе, но её не было видно. Такая топография местности меня немало удивила. Казалось, что чем ближе подходить к водоразделу, тем характер горной страны должен быть выражен интенсивнее. Я ожидал увидеть высокие горы и остроконечные причудливые вершины. Оказалось наоборот, около Сихотэ-Алиня были пологие холмы, изрезанные мелкими ручьями. Это результат эрозии. Сориентировавшись, я спустился вниз и тотчас отправил Белоножкина назад к П. К. Рутковскому с извещением, что дорога найдена, а сам остался с китайцами. Узнав, что отряд наш придёт только к вечеру, манзы собрались идти на работу. Мне не хотелось оставаться одному в фанзе, и я пошёл вместе с ними. Старик держал себя с большим достоинством и говорил мало, зато молодой китаец оказался очень словоохотливым. Он рассказал мне, что у них в тайге есть женьшеневая плантация и что именно туда они и направляются. Я так увлёкся его рассказами, что потерял направление пути и без помощи китайцев, вероятно, не нашёл бы дороги обратно. Около часа мы шли косогорами, перелезали через какую-то скалу, потом спустились в долину. На пути нам встречались каскадные горные ручьи и глубокие овраги, на дне которых лежал ещё снег. Наконец мы дошли до цели своего странствования. Это был северный нагорный склон, поросший густым лесом. Читатель ошибётся, если вообразит себе женьшеневую плантацию в виде поляны, на которой посеяны растения. Место, где найдено было в разное время несколько корней женьшеня, считается удобным. Сюда переносятся и все другие корни. Первое, что я увидел, — это навесы из кедрового корья для защиты женьшеня от палящих лучей солнца. Для того чтобы не прогревалась земля, с боков были посажены папоротники и из соседнего ручья проведена узенькая канавка, по которой сочилась вода. Дойдя до места, старик опустился на колени, сложил руки ладонями вместе, приложил их ко лбу и дважды сделал земной поклон. Он что-то говорил про себя, вероятно, молился. Затем он встал, опять приложил руки к голове и после этого принялся за работу. Молодой китаец в это время развешивал на дереве красные тряпицы с иероглифическими письменами. Женьшень! Так вот он каков! Нигде на земле нет другого растения, вокруг которого сгруппировалось бы столько легенд и сказаний. Под влиянием литературы или под влиянием рассказов китайцев, не знаю почему, но я тоже почувствовал благоговение к этому невзрачному представителю аралиевых. Я встал на колени, чтобы ближе рассмотреть его. Старик объяснил это по-своему: он думал, что я молюсь. С этой минуты я совсем расположил его в свою пользу. Оба китайца занялись работой. Они убирали сухие ветки, упавшие с деревьев, пересадили два каких-то куста и полили их водой. Заметив, что воды идёт в питомник мало, они пустили её побольше. Потом они стали полоть сорные травы, но удаляли не все, а только некоторые из них, и особенно были недовольны, когда поблизости находили элеутерококк. Предоставив им заниматься своим делом, я пошёл побродить по тайге. Опасаясь заблудиться, я направился по течению воды, с тем чтобы назад вернуться, по тому же ручью. Когда я возвратился на женьшеневую плантацию, китайцы уже окончили свою работу и ждали меня. К фанзе мы подошли с другой стороны, из чего я заключил, что назад мы шли другой дорогой. Незадолго перед сумерками к фанзочке подошёл отряд. Китайцы уступили нам немного буды, хотя у них самих её было мало. Вечером мне удалось уговорить их провести нас за Сихотэ-Алинь, к истокам Вай-Фудзина. Провожатым согласился быть сам старик, но по своей слабости он мог пройти только до водораздела. Дальше проводником обещал быть молодой китаец. Ему непременно нужно было добраться до земледельческих фанз и купить там муки и чумизы. Старик поставил условием, чтобы на него не кричали и не вступали с ним в пререкания. О первом пункте не могло быть и речи, а со вторым мы все охотно согласились. Чуть только смерклось, снова появился гнус. Китайцы разложили дымокур внутри фанзы, а мы спрятались в свои комарники. Успокоенные мыслью, что с помощью провожатых перейдём через Сихотэ-Алинь, мы скоро уснули. Теперь была только одна забота: хватит ли продовольствия? На следующий день в восемь часов утра мы были уже готовы к выступлению. Старик пошёл впереди, за ним последовал молодой китаец и два стрелка с топорами, затем остальные люди и вьючные лошади. Старик держал в руках длинный посох. Он ничего не говорил и только молча указывал направление, которого следовало держаться, и тот валежник, который следовало убрать с дороги. Несмотря на постоянные задержки в пути, отряд наш подвигался вперёд всё же довольно быстро. Китайцы долго держались юго-западного направления и только после полудня повернули на юг. Ближайшие предгорья Сихотэ-Алиня состоят из порфироида и порфирового туфа. Горные породы на дневной поверхности распались на обломки и образовали осыпи, покрытые мхами и заросшие кустарниками. В Уссурийском крае едва ли можно встретить сухие хвойные леса, то есть такие, где под деревьями земля усеяна осыпавшейся хвоей и не растёт трава. Здесь всюду сыро, всюду мох, папоротники и мелкие осоки. Сегодня первый раз приказано было сократить выдачу буды наполовину. Но и при этом расчёте продовольствия могло хватить только на двое суток. Если по ту сторону Сихотэ-Алиня мы не сразу найдём жилые места, придётся голодать. По словам китайцев, раньше в истоках Вай-Фудзина была зверовая фанза, но теперь они не знают, существует она или нет. Я хотел было остановиться и заняться охотой, но старик настаивал на том, чтобы не задерживаться и идти дальше. Помня данное ему обещание, я подчинился его требованиям. Нужно отдать справедливость старику, что он вёл нас очень хорошо. В одном месте он остановился и указал на старую тропу, заросшую травой и кустарником. Это был тот старинный путь, по которому уссурийские манзы раньше сообщались с заливом Ольги. Этой дорогой в шестидесятых годах XIX столетия прошли Будищев и Максимович. Передо мной сразу встали их образы и сделанные ими описания. Судя по тому, насколько этот путь был протоптан, видно было, что здесь ранее происходило большое движение. Когда же военный порт был перенесён из Николаевска во Владивосток, китайские охотники перестали ходить этой дорогой, тропа заросла и совершенно утратила своё значение. За последние дни люди сильно обносились: на одежде появились заплаты; изорванные головные сетки уже не приносили пользы; лица были изъедены в кровь; на лбу и около ушей появилась экзема. Ограниченные запасы продовольствия заставили нас торопиться. Мы сократили большой привал до тридцати минут и во вторую половину дня шли до самых сумерек. Такой большой переход трудно достался старику. Как только мы остановились на бивак, он со стоном опустился на землю и без посторонней помощи не мог уже подняться на ноги. У меня во фляге нашлось несколько капель рома, который я берег на тот случай, если кто-нибудь в пути заболеет. Теперь такой случай представился. Старик шёл для нас, завтра ему придётся идти опять, а потом возвращаться обратно. Я вылил в кружку весь ром и подал ему. В глазах китайца я прочёл выражение благодарности. Он не хотел пить один и указывал на моих спутников. Тогда мы все сообща стали его уговаривать. После этого старик выпил ром, забрался в свой комарник и лёг спать. Я последовал его примеру. Прислушиваясь к жужжанию мошек и комаров, я вспомнил библейское сказание о казнях египетских: «Появилось множество мух, которые нестерпимо уязвляли египтян». В стране, где сухо, где нет москитов, случайное появление их казалось ужасной казнью, здесь же, в Приамурском крае, гнус был обычным явлением. Чуть брезжило, когда меня разбудил старик китаец. — Надо ходи! — сказал он лаконически. Закусив немного холодной кашицей, оставленной от вчерашнего ужина, мы тронулись в путь. Теперь проводник-китаец повернул круто на восток. Сразу с бивака мы попали в область размытых гор, предшествовавших Сихотэ-Алиню. Это были невысокие холмы с пологими склонами. Множество ручьёв текло в разные стороны, так что сразу трудно ориентироваться и указать то направление, куда стремилась выйти вода. Чем ближе мы подходили к хребту, тем лес становился все гуще, тем больше он был завален колодником. Здесь мы впервые встретили тис (Taxus cuspidata sieb. et Zucc.), реликтовый представитель субтропической флоры, имевшей когда-то распространение по всему Приамурскому краю. Он имеет красную кору, красноватую древесину, красные ягоды и похож на ель, но ветви его расположены, как у лиственного дерева. Здешний подлесок состоит главным образом из актинидии (Actinidia kolomikta Maxim.), которую русские переселенцы называют почему-то кишмишом, жимолости Маака (Lenicera maakii Rupr.), барбариса (Berberis amurensis Rupr.), маньчжурского орешника (Corylus inanshurica Maxim.) с неровно-зубчатыми листьями и мохового мирта (Chamaedaphne culyculata Moench.) с белыми чешуйками на листьях и с белыми цветами. Из цветковых растений чаще всего попадались на глаза бело-розовые пионы (Paeonia albiflora Pall.), собираемые китайскими знахарями на лекарства, затем — охотский лесной хмель (Artagene ochotensis Pall.) с лапчато-зубчатыми листьями и фиолетовыми цветами и клинтонил (Clintonia udensis Trautv. et Mey.), крупные сочные листья которой расположены розеткой. К сумеркам мы дошли до водораздела. Люди сильно проголодались, лошади тоже нуждались в отдыхе. Целый день они шли без корма и без привалов. Поблизости бивака нигде травы не было. Кони так устали, что, когда с них сняли вьюки, они легли на землю. Никто не узнал бы в них тех откормленных и крепких лошадей, с которыми мы вышли со станции Шмаковка. Теперь это были исхудалые животные, измученные бескормицей и гнусом. Китайцы поделились со стрелками жидкой похлёбкой, которую они сварили из листьев папоротника и остатков чумизы. После такого лёгкого ужина, чтобы не мучиться голодом, все люди легли спать. И хорошо сделали, потому что завтра выступление было назначено ещё раньше, чем сегодня.
Глава 13 Через Сихотэ-Алинь к морю

Перевал Максимовича. — Насекомые и птицы. — Долина реки Вай-Фудзина и её притоки. — Горал. — Светящиеся насекомые. — Птицы в прибрежном районе. — Гостеприимство китайцев. — Деревня Фудзин и село Пермское. — Бедствия первых переселенцев из России. — Охотники. — Ценность пантов. — Кашлев. — Тигриная Смерть. — Маньчжурская полевая мышь. — Конец пути
На следующий день, 16 июня, мы снялись с бивака в пять часов утра и сразу стали подыматься на Сихотэ-Алинь. Подъём был медленный и постепенный. Наш проводник по возможности держал прямое направление, но там, где было круто, он шёл зигзагами. Чем выше мы поднимались, тем больше иссякали ручьи и наконец пропали совсем. Однако глухой шум под камнями указывал, что источники эти ещё богаты водой. Мало-помалу шум этот тоже начинал стихать. Слышно было, как под землёй бежала вода маленькими струйками, точно её лили из чайника, потом струйки эти превратились в капли, и затем всё стихло. Через час мы достигли гребня. Здесь подъем сразу сделался крутым, но не надолго. На самом перевале, у подножия большого кедра, стояла маленькая кумирня, сложенная из корья. Старик китаец остановился перед ней и сделал земной поклон. Затем он поднялся и, указывая рукой на восток, сказал только два слова: — Река Вай-Фудзин[78]. Это значило, что мы были на водоразделе. После этого старик сел на землю и знаком дал понять, что следует отдохнуть. Воспользовавшись этим, я прошёл немного по хребту на юг, поднялся на одну из каменных глыб, торчащих здесь из земли во множестве, и стал смотреть. Прилегающая часть Сихотэ-Алиня слагается из кварцевого порфира. Водораздельный хребет идёт здесь от юго-запада на северо-восток. Наивысшие точки его будут около 1100 метров над уровнем моря. К северу Сихотэ-Алинь немного понижается. Западный склон его пологий, восточный значительно круче. Весь хребет покрыт густым хвойно-смешанным лесом. Гольцы находятся только на отдельных его вершинах и местах осыпей. На старинных китайских картах этот водораздел называется Сихотэ-Алинь. Местные китайцы называют его Сихота-Лин, а чаще всего Лао-Лин, то есть старый перевал (в смысле «большой, древний»). По гипсометрическим измерениям высота перевала, на котором мы находились, равнялась 980 метрам. Я окрестил его именем К. И. Максимовича, одного из первых исследователей Уссурийского края. К востоку от водораздела, насколько хватал глаз, всё было покрыто туманом. Вершины соседних гор казались разобщёнными островами. Волны тумана надвигались на горный хребет и, как только переходили через седловины, становились опять невидимыми. К западу от водораздела воздух был чист и прозрачен. По словам китайцев, явление это обычное. Впоследствии я имел много случаев убедиться в том, что Сихотэ-Алинь является серьёзной климатической границей между прибрежным районом и бассейном правых притоков Уссури. Должно быть, я долго пробыл в отлучке, потому что в отряде подняли крик. Казаки согрели чай и додали моего возвращения. Не обошлось без курьёза. Когда чай был разлит по кружкам, П. К. Рутковский сказал: — Эх! Если бы сахар был! — Есть, — отвечал казак Белоножкин и, пошарив у себя в кармане, вытащил из него почерневший от грязи кусок сахару. — Где это ты, друг мой, его валял? — спросил Рутковский. — Он Сихотэ-Алинь переваливал, — отвечал находчивый казак. Все рассмеялись. Прополоскав немного желудок горячей водицей, мы пошли дальше. Спуск с хребта в сторону Вай-Фудзина, как я уже сказал, был крутой. Перед нами было глубокое ущелье, заваленное камнями и буреломом. Вода, стекающая каскадами, во многих местах выбила множество ям, замаскированных папоротниками и представляющих собой настоящие ловушки. Гранатман толкнул одну глыбу. При падении своём она увлекла другие камни и произвела целый обвал. Спускаться по таким оврагам очень тяжело. В особенности трудно пришлось лошадям. Если графически изобразить наш спуск с Сихотэ-Алиня, то он представился бы в виде мелкой извилистой линии по направлению к востоку. Этот спуск продолжался часа два. По дну лощины протекал ручей. Среди зарослей его почти не было видно. С весёлым шумом бежала вода вниз по долине, словно радуясь тому, что наконец-то она вырвалась из-под земли на свободу. Ниже течение ручья становилось спокойнее. Но вот ещё такой же глубокий овраг подошёл справа. Теперь ущелье превратилось в узкую долину, которую местное китайское население называет Синь-Квандагоу[79]. За перевалом хвойно-смешанный лес начал быстро сменяться лиственным. Дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch.) рос преимущественно по склонам гор с солнечной стороны. В долине леса были разнообразнее и богаче. Здесь можно отметить мелколистную липу (Tilia amurensis Кою.) — любительницу опушек и прогалин, жёлтый клён (Acer ukurunduense Tr. et Mey.) с глубоко разрезанными бледными листьями, иву пепельную (Salix cinerca L.) — полукуст-полудерево, крылатый бересклет (Euonymus alata Thund.), имеющий вид кустарника с пробковыми крыльями по стволу и по веткам. Из настоящих кустарников можно указать на таволожник иволистный (Spireae salicifolia L.) с ярко-золотистыми цветами, особый вид боярышника (Crataegus sanguinea Pall.) с редкими и короткими иглами и с белесоватыми листьями с нижней стороны, жимолость Маака (Lonicera maakii Rupr.) более 4 метров высоты с многочисленными розоватыми цветами и богородскую траву (Thymus serpullum L.) с лежащими по земле стеблями, ланцетовидными мелкими листьями и ярко-пурпурово-фиолетовыми цветами. В стороне от тропы были ещё какие-то кустарники, хотелось мне их посмотреть, но голод принуждал торопиться. На полях наблюдателя поражало обилие цветов. Тут были ирисы (Iris uniflora Pall.) самых разнообразных оттенков от бледно-голубого до тёмно-фиолетового, целый ряд орхидей (Cypripedium ventricosum Sw.) разных окрасок, жёлтый курослеп (Caltha palustris L.), тёмно-фиолетовые колокольчики (Campanula niomerata L.), душистый ландыш (Convallaria majalis L.), лесная фиалка (Viola uniflora L.), скромный цветочек земляники (Fragaria elatior Ehrh.), розовый василёк (Centaurea monanthos Georgi), яркая гвоздика (Dianthus barbatus L.) и красные, оранжевые и жёлтые лилии (Lilium dahuricum GawL). Этот переход от густого хвойного леса к дубовому редколесью и к полянам с цветами был настолько резок, что невольно вызывал возгласы удивления. То, что мы видели на западе, в трёх-четырёх переходах от Сихотэ-Алиня, тут было у самого его подножия. Кроме того, я заметил ещё одну особенность: те растения, которые на западе были уже отцветшими, здесь ещё вовсе не начинали цвести. В бассейне Ли-Фудзина было много гнуса, мало чешуекрылых. Здесь, наоборот, всюду мелькали кирпично-красные с радужными переливами крапивницы (Venessa charonides), бело-жёлтые с чёрными и красными пятнами аполлоны (Apollo Eversmani) и большие тёмно-синие махаоны (Papilio Maakii). Последние часто садились на воду и, распластав крылья, предоставляли себя течению реки. Можно было подумать, что бабочки эти случайно попали в воду и не могли подняться на воздух. Я несколько раз хотел было взять их, но едва только протягивал руку, они совершенно свободно подымались на воздух и, отлетев немного, снова опускались на воду. Всюду на цветах реяли пчелы и осы, с шумом по воздуху носились мохнатые шмели с черным, оранжевым и белым брюшком. Внизу, в траве, бегали проворные жужелицы (Carabus Canaliculatus). Этих жуков за их хищный характер можно было бы назвать тиграми среди насекомых. По тропе ползали чёрные могильщики (Necrophorus concolor) и трёхцветные скакуны (Cicindela Gemmata Fald.). Последние передвигались как-то порывисто, и не разберёшь — прыгали они или летали. На зонтичных растениях держались преимущественно слоники (Sipalus hypocrita) и зелёные клопы (Pentatoma metalliferum), а около воды и по дорогам, где было посырее, с прозрачными крыльями и с большими голубыми глазами летали стрекозы (Libellula Sp.). Полюбовавшись насекомыми, я стал рассматривать птиц. Прежде всего я увидел завирушек. Они прыгали под деревьями и копошились в старой листве. Когда я стал подходить к ним, они отлетели немного в сторону и вновь опустились на траву. По берегам горных ручьёв, качая хвостиками, перебегали с камня на камень горные трясогузки. Птички эти доверчиво подпускали к себе человека и только в том случае, когда я уж очень близко к ним подходил, улетали, не торопясь. Около шиповников держались свиристели. Они искусно лазали по ветвям кустарников и избегали открытых пространств. В другом месте я заметил долгохвостых синиц, шныряющих в листве деревьев и мало обращающих внимание на своих соседок. Рядом с ними суетились подвижные гаички, совсем маленькие птички с крохотным клювом и коротким хвостиком. Из млекопитающих, судя по многочисленным следам, здесь обитали дикие козули, олени, кабаны, медведи и тигры. Несмотря на утомление и на недостаток продовольствия, все шли довольно бодро. Удачный маршрут через Сихотэ-Алинь, столь резкий переход от безжизненной тайги к живому лесу и наконец тропка, на которую мы наткнулись, действовали на всех подбадривающим образом. В сумерки мы дошли до пустой зверовой фанзы. Около неё был небольшой огород, на котором росли брюква, салат и лук. По сравнению с овощами, которые мы видели на Фудзине, эти огородные растения были тоже отсталыми в росте. Одним словом, во всём, что попадалось нам на глаза, видна была резкая разница между западным и восточным склонами Сихотэ-Алиня. Очевидно, в Уссурийском крае вегетационный период наступает гораздо позже, чем в бассейне Уссури. Дальше мы не пошли и здесь около фанзочки стали биваком. Продовольствие в тайгу манзы завозят вьюками, начиная с августа. В самые отдалённые фанзы соль, мука и чумиза переносятся в котомках. Запасы продовольствия складываются в липовые долблёные кадушки, прикрытые сверху корьём. Запоров нигде не делается, и кадушкиприкрываются только для того, чтобы в них не залезли мыши и бурундуки. Чужое продовольствие в тайге трогать нельзя. Только в случае крайнего голода можно им воспользоваться, но при непременном условии, чтобы из первых же земледельческих фанз взятое было доставлено обратно на место. Тот, кто не исполнит этого обычая, считается грабителем и подвергается жестокому наказанию. Действительно, кража продовольствия в зверовой фанзе принуждает соболёвщика раньше времени уйти из тайги, а иногда может поставить его прямо-таки в безвыходное положение. Вечером старик китаец заявил нам, что далее он идти не может и останется здесь ожидать возвращения своего товарища. На следующий день, 17 июня, мы расстались со стариком. Я подарил ему свой охотничий нож, а А. И. Мерзляков — кожаную сумочку. Теперь топоры нам были уже не нужны. От зверовой фанзы вниз по реке шла тропинка. Чем дальше, тем она становилась лучше. Наконец мы дошли до того места, где река Синь-Квандагоу сливается с Тудагоу. Эта последняя течёт в широтном направлении, под острым углом к Сихотэ-Алиню. Она значительно больше Синь-Квандагоу и по справедливости могла бы присвоить себе название Вай-Фудзина. По этой реке в 1860 году спустился Будищев. По слухам, в истоках её есть несколько китайских фанз, обитатели которых занимаются звероловством. От места слияния упомянутых двух речек начинается Вай-Фудзин, названная русскими переселенцами Аввакумовкой. Лес кончился, и перед нами вдруг неожиданно развернулась величественная горная панорама. Возвышенности с левой стороны долины покрыты дубовым редколесьем с примесью липы и чёрной берёзы. По склонам их в вертикальном направлении идут осыпи, заросшие травой и мелкой кустарниковой порослью. Долина Вай-Фудзина богата террасами. Террасы эти идут уступами, точно гигантские ступени. Это так называемые «пенеплены». В древние геологические периоды здесь были сильные денудационные процессы (От слова «денудация» — процесс разрушения и сноса горных пород под влиянием воздуха, воды, ледников. (Прим. ред.)), потом произошло поднятие всей горной системы и затем опять размывание. Вода в реках. в одно и то же время действовала и как пила, и как напильник. Против Тудагоу, справа, в Вай-Фудзин впадает порожистая речка Танюгоуза[80], а ниже её, приблизительно на равном расстоянии друг от друга, ещё четыре небольшие речки одинаковой величины: Харчинкина, Хэмутагоу[81], Куандинза[82] и Воротная. По первой лежит путь на Ли-Фудзин, к местности Сяень-Лаза[83]. На Хэмутагоу русские переселенцы нашли христианскую могилу и потому назвали реку Крестовой. По словам туземцев, Куандинза течёт по весьма извилистому ложу; она очень бурлива и порожиста. Долина Воротной реки обставлена высокими скалистыми горами и считается хорошим охотничьим местом. Между Харчинкиной падью и Синь-Квандагоу, среди скал и осыпей, держатся горалы (Nemorrhaedus caudaius M-Edw.), имеющие по внешнему виду сходство с козлами. Животные эти относятся к антилопам, имеют размеры: в длину около 2 метров и в высоту до 0,8 метра. Шерсть их грязно-серо-жёлтого цвета, морда, спина и хвост — тёмно-бурые, горло и брюхо — белесоватые. На шее волосы несколько длиннее и образуют небольшую гриву; голова украшена небольшими, загнутыми назад рожками. В Уссурийском крае область распространения горала доходит до реки Имана включительно и в прибрежном районе — до бухты Терней (река Кудяхе). Живут они небольшими табунами в таких местах, где с одной стороны есть хвойно-смешанный лес, а с другой — неприступные скалы. День горал проводит в лесу, а ночью спускается в долину для утоления жажды. При малейшем признаке опасности он сейчас же перебегает на скалистую сторону сопки. Зная это, охотники делятся на две группы. Одни из них заходят в лес, а другие караулят животных в камнях. Вследствие того что горалы привязаны к определённым местам, которые хорошо известны зверопромышленникам, надо считать, что им грозит опасность уничтожения. Часов в десять утра мы увидели на тропе следы колёс. Я думал, что скоро мы выйдем на дорогу, но провожавший нас китаец объяснил, что люди сюда заезжают только осенью и зимой на охоту и что настоящая колёсная дорога начнётся только от устья реки Эрлдагоу. Лошади сильно истомились: они еле передвигали ноги и шатались. Пришлось сделать привал. Воспользовавшись этим, я поднялся на небольшую сопку, чтобы ориентироваться. Общее направление реки Вай-Фудзина юго-восточное. В одном месте она делает излом к югу, но затем выпрямляется вновь и уже сохраняет это направление до самого моря. На западе ясно виднелся Сихотэ-Алинь. Я ожидал увидеть громаду гор и причудливые острые вершины, но передо мной был ровный хребет с плоским гребнем и постепенным переходом от куполообразных вершин к широким седловинам. Время и вода сделали своё дело. Долина Вай-Фудзина будет продольная, хотя из направлений её притоков, текущих параллельно берегу моря и хребту Сихотэ-Алиня, как будто немного намечается денудационный характер. Восточные предгорья Сихотэ-Алиня слагаются из гранитов, сиенитов и кварцевого порфира. Этот последний, встреченный нами ещё по ту сторону водораздела, тянулся и теперь. Высокие древне-чёрные террасы с левой стороны Вай-Фудзина, с массивным основанием (тоже из кварцевого порфира), особенно резко выступают близ устья Харчинкиной пади. Часа через полтора я вернулся и стал будить своих спутников. Стрелки и казаки проснулись усталые; сон их не подкрепил. Они обулись и пошли за конями. Лошади не убегали от людей, послушно позволили надеть на себя недоуздки и с равнодушным видом пошли за казаками. Китаец говорил, что если мы будем идти целый день, то к вечеру дойдём до земледельческих фанз. Действительно, в сумерки мы дошли до устья Эрлдагоу (вторая большая падь). Это чрезвычайно порожистая и быстрая река. Она течёт с юго-запада к северо-востоку и на пути своём прорезает мощные порфировые пласты. Некоторые из порогов её имеют вид настоящих водопадов. Окрестные горы слагаются из роговика и кварцита. Отсюда до моря около 78 километров. На другой стороне реки, под сенью огромных вязов, стояла китайская фанза. Мы обрадовались ей так, как будто это была первоклассная гостиница. Узнав, что мы последние два дня ничего не ели, гостеприимные китайцы стали торопливо готовить ужин. Лепёшки на бобовом масле и чумизная каша с солёными овощами показались нам вкуснее самых изысканных городских блюд. По молчаливому соглашению мы решили остаться здесь ночевать. Китайцы убрали свои постели и предоставили нам большую часть канов. Последние были сильно нагреты, но мы предпочли лучше мучиться от жары, чем страдать от гнуса. От множества сбившихся людей в фанзе стояла духота, которая увеличивалась ещё оттого, что все окна в ней были завешены одеялами. Я оделся и вышел на улицу. Ночь была тихая, тёплая, как раз такая, какую любят ночные насекомые. То, что я увидел, так поразило меня, что я совершенно забыл про мошек и глядел, как очарованный. Весь воздух был наполнен мигающими синеватыми искрами. Это были светляки (Lusiol mongolica). Свет, испускаемый ими, был прерывистый и длился каждый раз не более одной секунды. Следя за одной такой искрой, можно было проследить полет каждого отдельного насекомого. Светляки эти появляются не сразу, а постепенно, поодиночке. Рассказывают, что переселенцы из России, увидев впервые такой мигающий свет, стреляли в него из ружей и в страхе убегали. Теперь это не были одиночные насекомые, их были тысячи тысяч, миллионы. Они летали в траве, низко над землёй, реяли в кустах и носились вверху над деревьями. Мигали насекомые, мерцали и звезды. Это была какая-то пляска света. Вдруг вспыхнула яркая молния и разом озарила всю землю. Огромный метеор с длинным хвостом пронёсся по небу. Через мгновение болид рассыпался на тысячу искр и упал где-то за горами. Свет погас. Как по мановению волшебного жезла, исчезли фосфоресцирующие насекомые. Прошло минуты две-три, и вдруг в кустах вспыхнул один огонёк, за ним другой, десятый, и ещё через полминуты в воздухе опять закружились тысячами светящиеся эльфы. Как ни прекрасна была эта ночь, как ни величественны были явления светящихся насекомых и падающего метеора, но долго оставаться на улице было нельзя. Мошкара облепила мне шею, руки, лицо и набилась в волосы. Я вернулся в фанзу и лёг на кан. Усталость взяла своё, и я заснул. На другой день назначена была днёвка. Надо было дать отдохнуть и людям и лошадям. За последние дни все так утомились, что нуждались в более продолжительном отдыхе, чем ночной сон. Молодой китаец, провожавший нас через Сихотэ-Алинь, сделал необходимые закупки и рано утром выступил в обратный путь. Вчера мы до того были утомлены, что даже не осмотрелись как следует, было не до наблюдений. Только сегодня, после сытного завтрака, я решил сделать прогулку по окрестностям. В средней части долина реки Аввакумовки шириной около полукилометра. С правой стороны её тянутся двойные террасы, с левой — скалистые сопки, состоящие из трахитов, конгломератов и брекчий. Около террас можно видеть длинное болото. Это место, где раньше проходила река. Во время какого-то большого наводнения она проложила себе новое русло. Из пернатых я здесь видел восточносибирских жаворонков. На побережье моря была ещё весна, и потому их звонкое пение неслось отовсюду. Они то опускались к земле, то опять подымались высоко на воздух. Около ивняков кружился уссурийский малый дятел — действительно маленький, но так же пёстро окрашенный, как и другие его сородичи. Между листвой кое-где мелькали японские пеночки-непоседы. Они всё время были в движении, одновременно и веселились и охотились за насекомыми. По сторонам дороги, в кустах, мелькали зеленью овсянки. В сообществе с полевыми воробьями они клевали конский навоз и купались в пыли. Кроме того, в прибрежном районе водятся уссурийский перепел и уссурийский фазан. Первая птица весьма похожа на куропатку и держится по долинам рек в местах равнинных. Моя собака выгнала двух перепёлок. Они с криком поднялись у ней из-под самого носа. Отлетев шагов двести, перепёлки опять спустились в траву. На возвратном пути я видел двух фазанов. Когда петух поднимается из кустарников, он сперва взлетает кверху метра на три и при этом неистово кричит. Крик его немного похож на крик обыкновенного петуха, когда последний чего-нибудь испугается. В другом месте собака выгнала курицу с цыплятами. По фазану собака редко делает твёрдую стойку. Она ложится и начинает ползти на брюхе, иногда замедляя, иногда прибавляя шаг. Испуганная птица прежде всего старается спастись бегством; она хитрит, путает следы и часто возвращается назад. Потеряв след, собака начинает бросаться в стороны. Этим моментом фазан пользуется и взлетает на воздух. Курица всегда подымается молча и летит дальше, чем петух. Но в данном случае она вела себя иначе: летела лениво, медленно и низко над землёй, летела не по прямой линии, а по окружности, так что собака едва не хватала её за хвост зубами. Я сразу понял, в чём дело. У фазанухи были цыплята, и она старалась отвести от них собаку. Я взял свою Альпу за поводок и пошёл назад. Китайцы уже приготовили обед и ждали моего возвращения. Когда мы пили чай, в фанзу пришёл ещё какой-то китаец. За спиной у него была тяжёлая котомка; загорелое лицо, изношенная обувь, изорванная одежда и закопчённый котелок свидетельствовали о том, что он совершил длинный путь. Пришедший снял котомку и сел на кан. Хозяин тотчас же стал за ним ухаживать. Прежде всего он подал ему свой кисет с табаком. — Кто это? — спросил я хозяина. — Прохожий, — отвечал он. — Знакомый тебе? — Нет, — отвечал он и затем обратился к повару с приказанием приготовить для путника обед. Пока пришедший курил табак, китайцы расспрашивали его о новостях. Он охотно рассказывал им то, что случилось в тех местах, откуда он прибыл, и что он видел по дороге. Оказалось, что китаец идёт с Ното и держит путь на реку Псухун. Вечером, во время ужина, манзы, прежде чем самим сесть за стол, пригласили гостя. Все китайцы наперерыв старались ему услужить. Едва его чашка опорожнялась, как тотчас её наполняли снова. Потом гостю отвели лучшее место на кане и дали два одеяла: одно — для подстилки, другое — под голову, вместо подушки. Прохожий остался в этой фанзе на весь следующий день для отдыха. У местного манзовского населения сильно развито внимание к путнику. Всякий прохожий может бесплатно прожить в чужой фанзе трое суток, но если он останется дольше, то должен работать или уплачивать деньги за харчи по общей раскладке. На следующий день, 19 июня, мы распрощались с гостеприимными китайцами и пошли дальше. Отсюда начиналась колёсная дорога. Чтобы облегчить спины лошадей, я нанял две подводы. В нижнем течении долина Вай-Фудзина очень живописна. Утёсы с правой стороны имеют причудливые очертания и похожи на людей, замки, минареты и т. д. С левой стороны опять потянулись высокие двойные террасы из глинистых сланцев, постепенно переходящие на севере в горы. Здесь есть один только небольшой приток — Касафунова падь, которую местные китайцы называют Чамигоузой[84]. Она длиной около 15 километров и имеет направление течения сперва на юго-восток, а потом на юг. Правый край Касафуновой долины нагорный, левый — пологий, слегка холмистый. Долина эта узкая и расширяется только в среднем течении, там, где в неё впадает речка Грушевая. Если идти вверх по реке, то с правой стороны видны какие-то карнизы, которые дальше переходят в широкие террасы. Окрестные горы покрыты лиственным редколесьем дровяного характера. Километрах в восемнадцати от моря видны обнажения известняков. Немного ниже Касафуновой пади в Вай-Фудзин с правой стороны впадают две реки — Сандагоу и Лисягоу[85]. Последняя берёт начало с Тазовской горы, о которой речь будет ниже. Верховья реки Сандагоу слагаются из множества горных ручьёв, стекающих по узким распадинам. Раньше здесь были большие леса, изобилующие зверем, но лесные пожары в значительной степени обесценили это охотничье эльдорадо. Колёсная дорога, проложенная китайцами по долине Вай-Фудзина, дважды проходит по реке вброд, что является большим препятствием для сообщений во время наводнения. Чтобы избежать этих бродов, надо идти по тропе. Она начинается около террас, с левой стороны долина подымается в гору и идёт по карнизу. Здесь тропа на протяжении 300 метров буквально висит над пропастью. Лет сорок тому назад на террасах около устья реки Касафуновой жили тазы-удэгейцы. Большей частью они вымерли от оспенной эпидемии в 1881 году. Удэгейцы эти на охоту ходили всегда на Тазовскую гору, командующую над всеми окрестными высотами, отчего она и получила своё настоящее название. По всей долине Вай-Фудзина, от устья Эрлдагоу до Тазовской горы, разбросаны многочисленные фанзы. Обитатели их занимаются летом земледелием и морскими промыслами, а зимой соболеванием и охотой. Самым большим притоком Вай-Фудзина будет река Арзамасовка. Она впадает в него с левой стороны. Немного выше устья Арзамасовки, на возвышенном месте, расположился маленький русский посёлок Веткино. В 1906 году в деревне этой жило всего только 4 семьи. Жители её были первыми переселенцами из России. Какой-то особенный отпечаток носила на себе эта деревушка. Старенькие, но чистенькие домики глядели уютно; крестьяне были весёлые, добродушные. Они нас приветливо встретили. Вечером собрались старики. Они рассказывали о том, сколько бедствий им пришлось претерпеть на чужой земле в первые годы переселения. Привезли их сюда в 1859 году и высадили в заливе Ольги, предоставив самим устраиваться кто как может и кто как умеет. Сначала они поселились в одном километре от бухты и образовали небольшой посёлок Новинку. Скоро крестьяне заметили, что, чем дальше от моря, тем туманов бывает меньше. Тогда они перекочевали в долину Вай-Фудзина. В 1906 году в Новинке жил только один человек. Места, где раньше были крестьянские дома, видны и по сие время. Но и на новых местах их ожидали невзгоды. По неопытности они посеяли хлеб внизу, в долине; первым же наводнением его смыло, вторым — унесло все сено; тигры поели весь скот и стали нападать на людей. Ружьё у крестьян было только одно, да и то пистонное. Чтобы не умереть с голода, они нанялись в работники к китайцам с подённой платой 400 граммов чумизы в день. Расчёт производили раз в месяц, и чумизу ту за 68 километров должны были доставлять на себе в котомках. Старики долго не могли привыкнуть к новым местам. У них были ещё живы воспоминания о родине; зато молодёжь скоро приспособилась: из них выработались великолепные стрелки и отличные охотники. Быстрое течение в реках их уже не пугало; скоро они начали плавать по морю. Для европейской России охота на медведя в одиночку считается геройским подвигом. Здесь же каждый юноша бьёт медведя один на один. Некрасов воспел крестьянина, который убил сорок медведей, а здесь были братья Пятышкины и Мякишевы, из которых каждый в одиночку убил более семидесяти медведей. Затем следуют Силины и Боровы, которые убили по нескольку тигров и потеряли счёт убитым медведям. Один раз они задумали связать медведя так, ради забавы, и чуть за это не поплатились жизнью. Каждый из этих охотников носил на себе следы тигровых зубов и кабаньих клыков; каждый не раз видел смерть лицом к лицу. Фудзинские крестьяне серьёзно относятся к охоте. Они не только бьют зверя, но и заботятся о его сохранности. Факт этот знаменателен. Крестьяне собрались и на сходе порешили не трогать самок, телят и не бить самцов во время гона. Кроме того, они сами отвели заказник, сами установили границы его и дали друг другу зарок там не охотиться. Вновь прибывший элемент из России не пожелал с этим считаться и начал хищничать. Так как заказник возник по частной инициативе и находился на казённой земле, то привлекать виновников к ответственности они не могли. Этим воспользовались браконьеры, и благое начинание фудзинских крестьян окончилось ничем. Ценность пантов в Ольгинском районе доходит до 1200 рублей пара. В деревне Пермской у крестьянина Пятышкина я видел панты высотой в 52 сантиметра и толщиной в 22 сантиметра (расстояние между рогами у основания равнялось 8 сантиметрам); на концах они только что начали разветвляться; вес их был 4,4 килограмма. Панты эти были проданы по очень низкой цене — за 870 рублей. По словам братьев Пятышкиных, в 1905 году от продажи четырёх пар пантов они выручили 2200 рублей. Во время этих рассказов в избу вошёл какой-то человек. На вид ему было. лет сорок пять. Он был среднего роста, сухощавый, с небольшой бородой и с длинными волосами. Вошедший поклонился, виновато улыбнулся и сел в углу. — Кто это? — спросил Гранатман. — Кашлев — Тигриная Смерть, — отвечало несколько голосов. Мы стали его расспрашивать, но он оказался не из разговорчивых. Посидев немного, Кашлев встал. — Убить зверя нетрудно, ничего хитрого тут нет, хитро его только увидеть, — сказал он, затем надел свою шапку и вышел на улицу. О Кашлеве мы кое-что узнали от других крестьян. Прозвище Тигриная Смерть он получил оттого, что в своей жизни больше всех перебил тигров. Никто лучше его не мог выследить зверя. По тайге Кашлев бродил всегда один, ночевал под открытым небом и часто без огня. Никто не знал, куда он уходил и когда возвращался обратно. Это настоящий лесной скиталец. На реке Сандагоу он нашёл утёс, около которого всегда проходят тигры. Тут он их и караулил. Среди крестьян были и такие, которые ловили тигров живыми. При этом никаких клеток и западнёй не ставилось. Тигров они ловили руками и связывали верёвками. Найдя свежий след тигрицы с годовалыми тигрятами, они пускали много собак и с криками начинали стрелять в воздух. От такого шума тигры разбегались в разные стороны. Для такой охоты нужны смелость, ловкость и отвага. Беседы наши затянулись. Это было так интересно, что мы готовы были слушать до утра. В полночь крестьяне стали расходиться по своим домам. На другой день мы отправились в село Пермское, расположенное на четыре километра ниже Фудзина. Экономическое благосостояние пермских крестьян не заставляет желать ничего лучшего. Село это можно было назвать образцовым во всех отношениях. На добровольные пожертвования они построили у себя в деревне школу. У ребятишек было много книг по природоведению и географии России. Все крестьяне достаточно начитанны и развиты; некоторые из них интересовались техникой, применяя её у себя в хозяйстве. Кабака в селе Пермском не было. При нас один новосёл позволил себе выругаться площадной бранью. Надо было видеть, какую проборку задали ему старожилы. Все пермские крестьяне такие же разумные охотники, как и фудзинцы. Жили пермские крестьяне безбедно, долгов не имели и были вполне довольны своею судьбой. Земля в долине Вай-Фудзина весьма плодородна. Крестьяне не помнят ни одного неурожайного года, несмотря на то, что в течение сорока лет пашут без удобрения на одних и тех же местах. В период летних дождей вода, стекающая с окрестных гор, переполняет реку и разливается по долине. Самые большие наводнения происходят в нижнем течении Вай-Фудзина, там, где река принимает в себя сразу два притока: Сыдагоу — справа и Арзамасовку — слева. По словам пермцев, умеренные наводнения не только не приносят вреда, но, наоборот, далее полезны, так как после них на земле остаётся плодородный ил. Большие же наводнения совершенно смывают пашни и приносят непоправимый вред. От устья реки Сыдагоу долина Вай-Фудзина сразу расширяется. Отсюда видно уже море. От села Пермского дорога идёт сначала около левого края долины у подножия террасы, а затем отклоняется вправо и постепенно подходит к реке. Здесь растёт редкий лес дровяного характера, состоящий из низкорослой чёрной берёзы (Vetula dahurica Pall.), дуба (Guercus mongolica Fisch.), японской ольхи (Ainus japonica Sieb. et Zucc.) со спирально скрученным стволом и ольгинской лиственницы (Larix Uigae). Песчаная почва сверху покрыта тонким слоем наносного ила, поросшего травою. Где только дерновый слой подвергся уничтожению, оголились пески. Вследствие этого дорога между селом Пермским и берегом моря считается тяжёлой. Выйдя на почтовый тракт, я кончил съёмку, отдал планшет сопровождавшему меня стрелку и взял ружьё. Несмотря на пройденный длинный путь, моя собака всё время бегала по кустам, выискивая птиц. Один раз она сделала стойку по слуху. Я подошёл к ней. Она прыгнула в заросли, что-то схватила зубами, потрясла головой и бросила в сторону. Это оказалась маньчжурская полевая мышь (Apodemus agrari-us manshuricus Idomas.), весьма распространённая по всему краю. Величиной она с обыкновенную домашнюю мышь, но с буро-жёлтой окраской и с белыми лапками. Эта мышь не так подвижна, как домашняя, и поэтому легко становится добычей хищных птиц. Кормом ей служат различные семена растений, дубовые жёлуди и корни трав. Забрав мёртвую мышь как охотничий трофей, я пошёл дальше по дороге. На половине пути между селом Пермским и постом Ольги с левой стороны высится скала, называемая местными жителями Чёртовым утёсом. Ещё пятнадцать минут ходу, и вы подходите к морю. Читатель поймёт то радостное настроение, которое нас охватило. Мы сели на камни и с наслаждением стали смотреть, как бьются волны о берег. Наш путь был окончен. Из морского песку здесь образовались дюны, заросшие шиповником (Rosa rugosa Thunb), травою и низкорослыми дубками, похожими скорее на кустарники, чем на деревья. Там, где наружный покров дюн был нарушен, пески пришли в движение и погребли под собой всё, что встретилось на пути. В пост Ольги мы прибыли 21 июня и разместились по квартирам. Все наши грузы шли на пароходе морем. В ожидании их я решил заняться обследованием окрестностей.
Глава 14 Залив Ольги

История залива. — Тихая пристань. — Пост Ольги. — Крестовая гора. — Манза-золотоискатель. — Птицы. — Тигр на вершине хребта. — Лишай и мхи. — Гольцы. — Поиски. — Лёд подземный. — Истоки реки Сандагоу. — Пятнистые олени
Залив Ольги (430 северной широты и 152057 восточной долготы от о. Ферро) открыт французским мореплавателем Лаперузом в 1787 году и тогда был назван портом Сеймура. Во время крымской кампании несколько английских судов преследовали русский военный корабль. Пользуясь туманом, судно укрылось в какую-то бухту. Англичане потеряли его из виду и ушли ни с чем. Так как это случилось 11 июля, в день Ольги, то решили залив своего спасения назвать её именем. В память избавления своего от врага они поставили крест на высокой горе, которая с той поры стала называться Крестовою. При входе в залив Ольги справа высится одинокая скала, названная моряками островом Чихачева. На этой скале поставлена сигнальная башня, указывающая судам место входа. Но так как летом в этой части побережья почти всё время стоят туманы, то она является совершенно бесполезной, ибо с моря её всё равно не видно. Залив Ольги закрыт с трёх сторон; он имеет километра три в длину, столько же в ширину и в глубину около 25 метров. Зимой он замерзает на три месяца только с северной стороны. Северо-восточная часть залива образует ещё особую бухту, называемую местными жителями Тихою пристанью. Эта бухта соединяется с большим заливом узким проходом и замерзает на более продолжительное время. Тихая пристань (глубиною посредине 10 — 12 метров, длиною с километр и шириною 500 метров) постепенно заполняется наносами речки Ольги. На восточном берегу залива находится китайский посёлок Ши-Мынь[86], называемый русскими Кошкой. Раньше посёлок этот был главным китайским торговым пунктом в Уссурийском крае. Ежегодно сюда приходило до сотни шаланд с товарами из Хунчуна. Охотники с реки Уссури доставляли в Ши-Мынь соболиные меха, ценные панты и дорогой женьшень. Дары тайги выменивались на продукты морского промысла. С 1901 года, после китайских беспорядков в Маньчжурии, жизнь в посёлке стала замирать. По длинному ряду бараков, расположенных на берегу моря для склада товаров и разного сырья, можно судить о размерах торговых оборотов китайцев в заливе Ольги. В самом углу залива находится русское селение, называвшееся ранее постом Ольги. Первой постройкой, которая появилась здесь в 1854 году, была матросская казарма. В 1878 году сюда приехали лесничий и фельдшер, а до того времени местный пристав исполнял их обязанности: он был и учителем, и врачом, чинил суд и расправу. В 1906 году в посту Ольги была небольшая деревянная церковь, переселенческая больница, почтово-телеграфная станция и несколько мелочных лавок. В настоящее время пост Ольги не деревня и не село. Ольгинцы в большинстве случаев были разночинцы и запасные солдаты, арендовавшие землю в казне. Никто не занимался ни огородничеством, ни хлебопашеством, никто не сеял, не жал и не собирал в житницы, но все строили дома, хотя бы и в долг; все надеялись на то, что пост Ольги в конце концов будет городом и захваченная земля перейдёт в собственность, после чего её можно будет выгодно продать. Русско-японская война тяжело отразилась на этом маленьком русском посёлке, отрезанном бездорожьем от других жилых мест Уссурийского края. Предметов первой необходимости, как керосин, свечи, мыло, чай и сахар, нельзя было достать ни за какие деньги. Да и теперь ещё население его, в ожидании лучших дней, перебивается с хлеба на квас. Некоторые жители не живут в посту Ольги, а уехали во Владивосток. Много домов брошено и заколочено досками. Домовладельцы рады-радешеньки сдать кому-нибудь свои постройки не только в аренду, но даже в бесплатное пользование, лишь бы кто-нибудь охранял их от расхищения. Около поста есть старинное кладбище, совершенно запущенное. Через несколько лет оно будет совсем утеряно. На нём похоронили в 1860 году матросов, умерших от цинги. Другой достопримечательностью поста была маленькая чугунная пушка на неподвижном деревянном лафете. Я видел её в полном пренебрежении на площади около дома лесничего. По рассказам старожилов, она привезена была в пост Ольги для того, чтобы во время тумана подавать сигналы кораблям, находящимся в открытом море. В заключение ещё остаётся сказать несколько слов об одном местном обывателе, весьма способствовавшем процветанию этого уголка далёкой русской окраины. Я говорю о крестьянине И. А. Пятышине. Обременённый большой семьёй, этот удивительный труженик вечно находился в работе, вечно о чем-нибудь хлопотал. Сперва Пятышин открыл в посту Ольги торговлю, но, будучи по характеру добрым и доверчивым человеком, роздал в кредит весь свой товар и разорился. Потом он занялся рыболовством, но вода унесла у него невода. Тогда он стал добывать морскую капусту, но рабочие-китайцы, забрав вперёд задатки, разбежались. После этого он взялся за лесное дело — наводнение унесло у него весь лес. Пятышин собрал все свои остатки и начал строить кирпичный завод, но кирпич не нашёл сбыта; ломку мрамора постигла та же участь; не пошло в ход также и выжигание извести. Последнее дело, которым неудачно занимался Пятышин, — это подрядная постройка домов и разбивка улиц в посту Ольги. Другой на его месте давно опустил бы руки и впал в отчаяние, но он не упал духом и вновь занялся рыбной ловлей. Ни на кого он не жаловался, винил только судьбу и продолжал с нею бороться. Много неимущих переселенцев находило заработок у Пятышина, много личного труда и денежных средств он вложил в устроение поста Ольги. К сожалению, в своё время он ниоткуда не получал поддержки, бросил все, перекочевал на реку Нельму, где и умер. Первые два дня мы отдыхали и ничего не делали. В это время за П. К. Рутковским пришёл из Владивостока миноносец «Бесшумный». Вечером П. К. Рутковский распрощался с нами и перешёл на судно. На другой день на рассвете миноносец ушёл в море. П. К. Рутковский оставил по себе в отряде самые лучшие воспоминания, и мы долго не могли привыкнуть к тому, что его нет более с нами. Первая моя экскурсия в окрестностях залива Ольги была на гору Крестовую. Крест, о котором говорилось выше, ещё стоял на месте, но уже покачнулся. В него была врезана металлическая доска с надписью. Теперь её нет. Осталось только гнездо и следы гвоздей. С Крестовой горы можно было хорошо рассмотреть все окрестности. В одну сторону шла широкая долина Вай-Фудзина. Вследствие того что около реки Сандагоу она делает излом, конца её не видно. Сихотэ-Алинь заслоняли теперь другие горы. К северо-западу протянулась река Арзамасовка. Она загибала на север и терялась где-то в горах. Продолжением бухты Тихой пристани является живописная долина реки Ольги, текущей параллельно берегу моря. Горы в окрестностях залива невысоки, но выражены весьма резко и большею частью состоят из серого гранита, кварцевого порфира, песчаника, роговика, аркоза и зелёной яшмы, в которой в разных направлениях проходят тонкие кварцевые прожилки. В окрестностях найдено много железных, медных и серебросвинцовых руд. Большинство сопок покрыто осыпями, являющимися результатом разрушения горных пород деятельностью атмосферных агентов. Образование этих осыпей можно проследить с момента появления трещины в скалах до рассыпания их на мелкие обломки. Если молотом ударить по такой глыбе или с силою бросить её о землю, она разобьётся по трещинам, по которым внутрь проникала вода. И сколько бы ни разбивать эти камни на ещё более мелкие обломки, они нигде не дадут свежих изломов. В посту Ольги я познакомился с Б. Н. Буниным, знатоком Южноуссурийского края, исходившим его вдоль и поперёк. В 1901 году он был тяжело ранен хунхузами из фальконета и после этого стал прихрамывать на одну ногу. Однажды он отправился в горы по своим делам и пригласил меня с собою. 24 июня рано утром мы выехали с ним на лодке, миновав Мраморный мыс, высадились на берегу против острова Чихачева. Эта экскурсия дала мне возможность хорошо ознакомиться с заливом Ольги и устьем Вай-Фудзина. Вдоль берега моря и параллельно ему тянутся рядами болота и длинные озерки, отделённые друг от друга песчаными валами. Чем ближе к берегу моря, тем валы эти свежее и выражены резче. По ним грядами растут кустарниковая ольха (Ainus japonica S. et Z.) с коротковолосистыми ветвями и слегка опущенными листьями и березолистный таволожник (Spirea betulifolia Pall.) — маленький кустарник с бледно-розовыми цветами Во многих местах от валов уже не осталось следа, и только растительность указывает бывшее их направление. Произведённые в некоторых местах раскопки дали обломки морских раковин. Здесь над приростом суши трудились одновременно и река и море. Первая приносила готовый материал, второе складывало его в валы. Ныне в низовьях реки образовалось много островов. Они только что вышли из воды, состоят из чистого песка и ещё не успели зарасти травой. Геологу рисуется картина далёкого прошлого. Залив Ольги имел совсем не такой вид, какой он имеет теперь. Он был в три раза больше и далеко вдавался в сушу в западном направлении. Со стороны моря ясно видны границы древнего залива, в который самостоятельно впадали Вай-Фудзин, Сыдагоу и Арзамасовка. Заболоченность нижней части долины Аввакумовки, протоки, озерки, слепые рукава, соединяющиеся с морем, тоже указывают на это. Около устья течение реки почти незаметно. Даже наоборот, при свежем восточном ветре и во время приливов замечается обратное движение воды. На Чёртовом утёсе можно видеть следы морского прибоя. Этот безмолвный свидетель говорит нам о том, что когда-то и он был омываем волнами Великого океана. Сколько понадобилось веков для того, чтобы разрушить твёрдую горную породу и превратить её в песок! Сколько понадобилось времени, чтобы песчинка за песчинкой заполнить залив и вытеснить морскую воду! Немалое участие в заполнении долины принимал и плавниковый лес Тысячами кряжин и пней завалено русло реки и острова. Стволы деревьев сейчас же заносятся песком; на поверхности остаются торчать только сучья и корни. Мало-помалу погребаются и они. Каждое новое наводнение приносит новый бурелом и накладывает его сверху, потом опять заносит песком и т. д. Так отступает океан, нарастает суша, и настанет время, когда Вай-Фудзин будет впадать не в залив Ольги, а непосредственно в море. Мы высадились на южном берегу залива часов в десять утра, лодку отправили назад, а сами пошли в горы. По дороге к нам присоединился китаец — искатель золота. У него в котомке была железная лопата без черенка, деревянный лоток для промывания песка и облегчённый заступ с короткой рукояткой. Китаец этот был средних лет, худой, с рябоватым лицом, в соломенной шляпе. Он охотно отвечал на задаваемые ему вопросы. Это дало мне возможность познакомиться с китайскими приёмами золотоискательства. Прежде всего он старался найти такую речку, против которой в море есть остров. Это верный признак, что в долине будет золото. Подымаясь вверх по реке, он искал такой приток, чтобы против устья его была отвесная скала, причём направление новой долины должно быть строго перпендикулярно к плоскости скалы и не меньше как в два километра длиною. Если это расстояние было короче или если долина шла не совсем под прямым углом к скале, она не годилась Манза всё время шёл впереди и выискивал всё новые и новые притоки, причём протяжение их сокращалось от двух километров до одного, потом до полукилометра и т. д. Последний ключик имел метров двести длины. Китаец остановился и сказал, что тут надо искать золото. Он стал рассматривать в ручье гальку и песок. То и другое, видимо, его удовлетворило, и он решил остаться здесь для разведок. Многие объяснения его для меня были непонятны. Так, например, он говорил, что есть люди, которые умеют чувствовать присутствие золота в земле, к числу их он присоединял и себя. В топографическом отношении местность, по которой мы теперь шли, представляла собою сильно размытые горы с пологими скатами. Кое-где торчали скалы, находящиеся в последней стадии разрушения; большинство их превратилось уже в осыпи. Характер растительности был тот же самый, что и около поста Ольги. Дуб, берёза, липа, бархат, тополь, ясень и ива росли то группами, то в одиночку. Различные кустарники, главным образом, леспедеца, калина и таволга, опутанные виноградом и полевым горошком, делали некоторые места положительно непроходимыми, в особенности если к ним ещё примешивалось чёртово дерево (Ebutorcoccus). Идти по таким кустарникам в жаркий день очень трудно. Единственная отрада — ручьи с холодною водою. В полдень мы дошли до водораздела. Солнце стояло на небе и заливало землю своими палящими лучами. Жара стояла невыносимая. Даже в тени нельзя было найти прохлады. Отдохнув немного на горе, мы стали спускаться к ручью на запад. Расстилавшаяся перед нами картина была довольно однообразна. Куда ни взглянешь, всюду холмы, и всюду одна и та же растительность. Над землёю висел раскалённый воздух, насыщенный влагою. Деревья и кусты поникли листвой и казались безжизненными. За весь день мы не видели ни одного животного, хотя козьих и оленьих следов попадалось много. В пути я не упускал случая делать заметки по орнитологии. Прежде всего упомяну о зелёном дятле с красною головою. Говорят, что он ходит по земле довольно хорошо. Проворный, пугливый и крикливый, он по ухваткам походит на своих пёстрых собратьев. Затем тут были маньчжурские жаворонки, голоса их слышны были повсюду. Некоторые птицы выпархивали у нас из-под ног и, отлетев немного, садились опять на землю. Казалось, на них жара не действовала совсем; они высоко подымались к небу и звонким пением оглашали окрестности. В низине из кочковой болотники собаки выгнали несколько куличков. Я убил одного из них. Это оказался восточносибирский бекас. В другом месте из чащи вылетел красивый длинноносый дупель. На поваленных деревьях и на пнях кое-где встречались японские коньки. Они проворно бегали по земле и грелись на солнышке. При приближении людей они не улетали, а ловко скрывались в кустах и появлялись только тогда, когда убеждались, что опасность миновала. Судя по тому, что здесь было много мелких птиц, можно было допустить присутствие малого перепелятника. И действительно, одного такого ястреба я вспугнул из травы, что было очень странно, так как ноги его совсем не приспособлены к хождению по земле. Быть может, эти хищники из опыта знали, что вид их, сидящих на сухостойных деревьях, пугает мелких птиц, тогда как, спрятавшись в траве, они скорее могут рассчитывать на добычу. День близился к концу. Солнце клонилось на запад, от деревьев по земле протянулись длинные тени. Надо было становиться на ночь. Выбрав место, где есть вода, мы стали устраивать бивак. Вечером я долго сидел с Б. Н. Буниным у огня. Он рассказывал мне о своих путешествиях, о хунхузах, об охоте и т. д. Наконец я почувствовал, что сон начинает овладевать мною. Я лёг к огню, завернулся в бурку и скоро уснул. На следующий день мы расстались с золотоискателем. Он пошёл назад к перевалу, а мы направились к реке Сыдагоу и оттуда обратно в пост Ольги. Двадцать шестого числа небо начало хмуриться. Порывистый ветер гнал тучи в густой туман. Это был плохой признак. Ночью пошёл дождь с ветром, который не прекращался подряд трое суток. 28 числа разразилась сильная буря с проливным дождём. Вода стекала с гор стремительными потоками; реки переполнились и вышли из берегов; сообщение поста Ольги с соседними селениями прекратилось. В ожидании парохода, который должен был привезти наши грузы, я решил отправиться в обследование реки Сандагоу и наметил такой маршрут: перевалить через водораздел около Тазовской горы, спуститься по реке Сандагоу и опять выйти на реку Вай-Фудзин. На выполнение этого маршрута потребовалось шесть суток. Первое июля прошло в сборах. Лошадей я оставил дома на отдыхе, из людей взял с собою только Загурского и Туртыгина. Вещи свои мы должны были нести на себе в котомках. Утром после бури ещё моросил мелкий дождь. В полдень ветер разорвал туманную завесу, выглянуло солнце, и вдруг всё ожило: земной мир сделался прекрасен. Камни, деревья, трава, дорога приняли праздничный вид; в кустах запели птицы; в воздухе появились насекомые, и даже шум воды, сбегающей пенистыми каскадами с гор, стал ликующим и весёлым. Через Вай-Фудзин мы переправились верхом на лошадях и затем пошли по почтовому тракту, соединяющему пост Ольги с селом Владимиро-Александровским на реке Сучане. Река Сыдагоу длиною 60 километров. В верхней половине она течёт параллельно Вай-Фудзину, затем поворачивает к востоку и впадает i него против села Пермского. Мы вышли как раз к тому месту, где Сыдагоу делает поворот. Река эта очень каменистая и порожистая Пермцы пробовали было по ней сплавлять лес, но он так сильно обивался о камни, что пришлось бросить это дело. Нижняя часть долины, где проходит почтовый тракт, открытая и удобная для земледелия, средняя — лесистая, а верхняя — голая и каменистая. Лес на реке Сыдагоу растёт девственный и величественный. Натуралист-ботаник отметил бы здесь, кроме кедра, ели, даурской берёзы и маньчжурского ореха, ещё сибирскую лиственницу (Larix sibirica Zba.), растущую вместе с дубом и мелколистным клёном (Acer mono Maxim.), «моно» — собственно, орочское название этого дерева; академик Максимович удержал его как видовое. Среди таволги, леспедецы, орешника и калины здесь произрастали бородавчатая боярка (Crataegus pinnatifida Bge.) с серою корою, редкими шипами и листьями, глубоко рассечёнными, и пригнутый к земле черёмушник (Prunus maximoviczii Rupr.), перепутанный с колючим элеутерококком. Обыкновенно древесные стволы служат опорой для ползучих растений, которые стремятся вверх к солнцу; они так сильно вдавливают свои стебли в кору деревьев, что образуют в ней глубокие рубцы. Из таких вьющихся растений можно указать на уже знакомую коломикту и лимонник (Schizandra chinensis Baill.) с запахом и вкусом, действительно напоминающими лимон. В сырых местах росли папоротник, чистоуст (Osmunda cirmamomea L.) с красным пушком на стеблях, что придаёт растению весьма эффектный вид, и целые заросли гигантского белокопытника (Petasites palmatus A. Gray). Листья его большие, раздельнозубчатые, сверху бледно-зелёные, внизу матово-бледные. Весной это самое лакомое блюдо медведей. Как только мы вошли в лес, сразу попали на тропинку. После недавних дождей в лесу было довольно сыро. На грязи и на песке около реки всюду попадались многочисленные следы кабанов, оленей, изюбров, козуль, кабарожки, росомах, рысей и тигров. Мы несколько раз подымали с лёжки зверей, но в чаще их нельзя было стрелять. Одинраз совсем близко от меня пробежал кабан. Это вышло так неожиданно, что, пока я снимал ружьё с плеча и взводил курок, от него и след простыл. В полдень тропа привела нас к китайской зверовой фанзе. Множество шкур, сложенных в амбаре, свидетельствовало о том, что обитатели её занимаются охотой очень успешно. Фанза была новая, видимо недавно выстроенная. На крыше для просушки были растянуты две оленьи шкуры, а над дымокуром на верёвочке висела медвежья желчь. Китайцы употребляют её как лекарство от трахомы. Для этого они разбавляют сухую желчь водою и тряпицей смачивают веки глаз. Медвежья желчь ценится от двух до пяти рублей, в зависимости от её размеров. За день нам удалось пройти двадцать два километра. Лес на левом берегу кончился, и началась гарь[87]. Горы, окаймляющие долину, состоят из диорита, сиенита, кварца, полевошпатового порфита, совершенно обезлесены и сплошь покрыты осыпями. Верховья Сыдагоу представляются в виде небольшой горной речки, в которую справа и слева впадает множество мелких ручьёв. Во время последнего наводнения вода размыла ложе реки шириной до ста сажен. Все это пространство занесено песком и галькой. С правой стороны, там, где кончалась каменистая отмель, сразу начинался обрывистый берег. В обрезе его видно, что почва долины состоит из такой же гальки вперемешку с илом. В одном месте река делала изгиб, русло её проходило у противоположного берега, а с нашей стороны вытянулась длинная коса. На ней мы и расположились биваком; палатку поставили у края берегового обрыва лицом к реке и спиною к лесу, а впереди развели большой огонь. В этот день мне нездоровилось немного, и потому я не стал дожидаться ужина и лёг спать. Во сне мне грезилось, будто бы я попал в капкан, и от этого сильно болели ноги. Когда я проснулся, было уже темно. Осмотревшись, я понял причину своих снов. Обе собаки лежали у меня на ногах и смотрели на людей с таким видом, точно боялись, что их побьют. Я прогнал их. Они перебежали в другой угол палатки. — Вот диво! — сказал Загурский. — Не хотят собаки идти наружу. Поведение собак действительно было странное. В особенности удивил меня Леший. Он всегда уходил в кусты и ложился где-нибудь за палаткой, а теперь жался к людям. Наконец мы собак выгнали, но не надолго. Через несколько минут они вновь пробрались в палатку и расположились около изголовьев. В это время в лесу раздался какой-то шорох. Собаки подняли головы и насторожили уши. Я встал на ноги. Край палатки приходился мне как раз до подбородка. В лесу было тихо, и ничего подозрительного я не заметил. Мы сели ужинать. Вскоре опять повторился тот же шум, но сильнее и дальше в стороне. Тогда мы стали смотреть втроём, но в лесу, как нарочно, снова воцарилась тишина. Это повторилось несколько раз кряду. — Вероятно, мышь, — сказал Туртыгин. — Или, может быть, заяц, — ответил Загурский. Наконец все успокоились. После чаю стрелки стали уговариваться, по скольку часов они будут караулить ночью. Я отдохнул хорошо, спать мне не хотелось и потому предложил им ложиться, а сам решил заняться дневником. — Пошли вон! — прогоняли стрелки собак из палатки. Собаки вышли, немного посидели у огня, а затем снова полезли к людям. Леший примостился в ногах у Туртыгина, а Альпа легла на моё место. Ночь была такая тихая, что даже осины замерли и не трепетали листьями. В сонном воздухе слышались какие-то неясные звуки, точно кто-то вздыхал, шептался, где-то капала вода, чуть слышно трещали кузнечики По тёмному небу, усеянному тысячами звёзд, вспыхивали едва уловимые зарницы. Красные блики от костра неровно ложились по земле, и за границей их ночная тьма казалась ещё чернее. Я подложил дров в огонь и стал делать записи в дневнике. В это время обе собаки подняли головы и стали глухо ворчать. Я встал со своего места, осмотрелся и хотя ничего не увидел, но зато услышал удаляющийся шорох. «Вероятно, барсук или енот», — подумал я и сел снова за работу. Прошло с полчаса. Вдруг я услышал, как в стороне, слева от бивака, посыпалась галька. Кто-то спускался с обрыва к реке. По моим расчётам, это было от нашего костра метрах в пятидесяти, не более. Прикрыв рукою глаза от света, я стал усиленно смотреть на реку. Собаки выражали крайний испуг. Альпа забилась в самую глубь палатки. Вслед за тем я услышал, как кто-то осторожно шёл по отмели. Под давлением чьей-то ноги галька раздавалась в стороны. Это не было копытное животное. Изюбр или олень стучат сильнее ногами; это не могло быть и маленькое животное, потому что вес его тела был бы недостаточен для того, чтобы производить такой шум. Это было крупное животное, у которого большая и мягкая лапа. Бренчанье гальки удалялось по направлению к реке, и вдруг я увидел на краю отмели около воды какую-то длинную тень. «Тигр!» — мелькнуло у меня в голове. Не спуская глаз с зверя, я потянулся за ружьём, но, как на грех, оно не попадалось мне под руку. Дальше случилось что-то похожее на суматоху. Толкнув Загурского, я схватил винтовку. Стрелок спросонья толкнул собаку. Альпа испугалась и бросилась в другую сторону и села на голову Туртыгину. В это мгновенье я выстрелил. Животное, стоявшее на отмели, издало короткий отрывистый звук, похожий на храп, и бросилось в воду, затем быстро взобралось на противоположный берег и исчезло в кустах. Сна как не бывало. На биваке поднялся шум. Голоса людей смешивались с лаем собак. Каждый старался рассказать, что он видел. Загурский говорил, что видел кабана, а Туртыгин спорил и доказывал, что это был медведь. Собаки отбегали от костра, лаяли, но тотчас же возвращались обратно. Только перед рассветом они немного успокоились. Часа через два тёмное небо начало синеть. Можно было уже рассмотреть противоположный берег и бурелом на реке, нанесённый водою. Мы пошли на то место, где видели зверя. На песке около воды были ясно видны отпечатки большой кошачьей лапы. Очевидно, тигр долго бродил около бивака с намерением чем-нибудь поживиться, но собаки почуяли его и забились в палатку. Тигр (Felis tigris longipilis zitz), обитающий в Уссурийском крае, крупнее своего индийского собрата. Длина его тела равна 2,7 — 3 метрам, высота 1,2 — 1,5 метра при весе в 250 — 300 килограммов. Окраска шерсти такая же пёстрая, как и у южного тигра, но встречаются иногда экземпляры бледно окрашенные, с редкими и тусклыми полосами. Тигр — животное чрезвычайно красивое. Основной цвет его шерсти ржаво-жёлтый, испещрённый чёрными полосами. На груди, шее и передних лапах они расположены реже, а на спине и на задних ногах выражены особенно ярко. Голова пёстрая, бакенбардов нет, брюхо белое. Такая окраска является для тигра вполне защитной. Когда он бежит по тайге, среди кустарников, лишённых листвы, чёрный, жёлтый и белый цвета сливаются, и зверь принимает однотонную буро-серую окраску. Осенью среди оранжево-красных виноградников и сухих жёлтых папоротников, в которых есть немало почерневших старых листьев, тигра трудно увидеть даже на близком расстоянии. Возможно, что при более тщательных исследованиях длинношёрстный тигр окажется родственником пещерного тигра, обитавшего когда-то в Европе. Тогда Уссурийский край можно считать его родиной. Животное это чрезвычайно любит залезать в пещеры. Летом мне часто приходилось видеть в них тигровые следы и перегрызенные кости. Тигр мало обращает внимания на климатические условия страны. Ему не страшны ни снег, ни холод. Он держится там, где гуще заросли и где достаточно есть корма, главным образом коз, кабанов и оленей. В Уссурийском крае он обитает в южной части страны; на побережье моря граница его распространения доходит до мыса Гиляк. Затем он встречается по всей долине реки Уссури и её притокам и по рекам Мухеню, Пихце, Анюю и Хунгари, впадающим в Амур с правой стороны. Одиночные экземпляры заходят ещё дальше на восток и на север. Если корма достаточно, тигр не трогает домашний скот; только крайняя нужда заставляет его приближаться к селениям и нападать на человека. Особенно старательно тигры охотятся за собаками. Я вспомнил Дерсу. Он говорил мне, что тигр не боится огня и смело подходит к биваку, если на нём тихо. Сегодня мы имели случай в этом убедиться. За утренним чаем мы ещё раз говорили о ночной тревоге и затем стали собирать свои котомки. Сразу с бивака мы повернули вправо и пошли по ключику в горы. Подъём был продолжительный и трудный. Чем выше мы подымались, тем растительность становилась скуднее. Лесные великаны теперь остались позади. Вместо них появились корявый дубок, маньчжурская рябина (Sorbus ancuparia L.) с голыми ветками и слабо опущенными листьями, жёлтая берёза (Betula ermanii Cham.) с мохнатой корой, висящей по стволу лохмотьями, рододендроны (Rhododendron dahuri-cum L.) с кожистыми, иногда зимующими листьями и белая ясеница (Dictamnus albys L.). Туртыгин сел около одного куста и стал закуривать трубку. Едва он чиркнул спичку, как окружающие куст эфирные масла вспыхнули с шумом бесцветным пламенем. Это понравилось стрелкам, и они стали устраивать такие фейерверки около каждого куста. Наконец я остановил их, прося поберечь спички. Если непривычный человек в безветренный жаркий день попадёт в заросли этого растения, с ним может сделаться дурно: так много выделяется эфирного масла. Отсюда начинался подъём на хребет. Я взял направление по отрогу, покрытому осыпями. Интересно наблюдать, как приспособляются деревья, растущие на камнях. Кажется, будто они сознательно ищут землю и посылают к ней корни по кратчайшему направлению. Через час мы вступили в область произрастания мхов и лишайников. Откуда эти тайнобрачные добывают влагу? Вода в камнях не задерживается, а между тем мхи растут пышно. На ощупь они чрезвычайно влажны. Если мох выжать рукой, из него капает вода. Ответ на заданный вопрос нам даст туман. Он-то и есть постоянный источник влаги. Мхи получают воду не из земли, а из воздуха. Так как в Уссурийском крае летом и весною туманных дней несравненно больше, чем солнечных, то пышное развитие мхов среди осыпей становится вполне понятным. Но вот и мхи остались сзади. Теперь начались гольцы. Это не значит, что камни, составляющие осыпи на вершинах гор, голые. Они покрыты лишаями, которые тоже питаются влагой из воздуха. Смотря по времени года, они становятся или сухими, так что легко растираются пальцами руки в порошок, или делаются мягкими и влажными. Из отмерших лишайников образуется тонкий слой почвы, на нём вырастают мхи, а затем уже травы и кустарники. Когда мы поднялись на вершину хребта, утренняя мгла рассеялась, и открылся великолепный вид во все стороны. Внизу протекала река Сыдагоу. Сверху хорошо было видно, как она извивалась по лесу и блестела на солнце. На севере высилась Тазовская гора, которую мы должны были обогнуть. На юго-западе виднелся лесистый бассейн Пхусуна[88], на юго-востоке — море, а на западе — ещё какие-то горы. Разобраться в них не всякий сумеет. Для этого нужен большой опыт. Знакомые вершины меняют свои очертания до неузнаваемости. Например, Столовая гора, если смотреть на неё по направлению продольной оси, кажется острым пиком. Тазовская гора служила нам прекрасным ориентировочным пунктом. Это дало мне возможность взять верное направление. В полдень я подал знак к остановке. Хотелось пить, но нигде не было воды. Спускаться в долину было далеко. Поэтому мы решили перетерпеть жажду, отдохнуть немного и идти дальше. Стрелки растянулись в тени скал и скоро уснули. Вероятно, мы проспали довольно долго, потому что солнце переместилось на небе и заглянуло за камни. Я проснулся и посмотрел на часы. Было три часа пополудни, следовало торопиться. Все знали, что до воды мы дойдём только к сумеркам. Делать нечего, оставалось запастись терпением. Хребет, по которому мы теперь шли, состоял из ряда голых вершин, подымающихся одна над другою в восходящем порядке. Впереди, километрах в двенадцати, перпендикулярно к нему шёл другой такой же хребет. В состав последнего с правой стороны входила уже известная нам Тазовская гора. Надо было достигнуть узла, где соединялись оба хребта, и оттуда начать спуск в долину Сандагоу. День, как на грех, выпал тихий, безветренный; жара стояла невыносимая. Один раз мы попробовали было спуститься с хребта за водою. Воды не нашли, но зато на обратном подъёме так измучились, что более уже не проделывали этого опыта. Взбираясь на вершины, мы каждый раз надеялись по ту сторону их увидеть что-нибудь такое, что предвещало бы близость воды, но каждый раз надежда эта сменялась разочарованием. Впереди, кроме голых, безжизненных осыпей, ничего не было видно. Будь это не осыпи, будь скалы, всё-таки можно было рассчитывать найти какую-нибудь щель, наполненную дождевой водой. Но что найдёшь среди камней, в беспорядке наваленных друг на друга? Люди шли молча; опустив головы и высунув изо рта длинные языки, тихонько за ними плелись собаки. В горах расстояния очень обманчивы. Мы шли целый день, а горный хребет, служащий водоразделом между реками Сандагоу и Сыдагоу, как будто тоже удалялся от нас. Мне очень хотелось дойти до него, но вскоре я увидел, что сегодня нам это сделать не удастся. День приближался к концу; солнце стояло почти у самого горизонта. Нагретые за день камни сильно излучали теплоту. Только свежий ветер мог принести прохладу. Перед нами высилась ещё одна высокая гора. Надо было её «взять» во что бы то ни стало. На все окрестные горы легла вечерняя тень, только одна эта сопка ещё была озарена солнечными лучами. Последний подъём был очень труден. Раза три мы садились и отдыхали, потом опять поднимались и через силу карабкались вверх. Когда мы достигли вершины горы, солнце уже успело сесть. Отблески вечерней зари ещё некоторое время играли в облаках, но они скоро стали затягиваться дымкой вечернего тумана. Опасение, что к сумеркам мы не найдём воды, придало всем энергию. За горой была глубокая седловина и около неё выемка, покрытая низкорослой древесной растительностью. Мы стали спускаться в эту ложбину. Чем скорее мы найдём воду, тем меньше завтра будем тратить усилий на обратное восхождение на хребет. Поэтому, спускаясь вниз, все внимательно прислушивались. Вскоре наша ложбина приняла вид оврага. На дне его густо росли, трава и кустарники, любящие влагу. От седловины мы уже спустились метров на двести, а воды всё ещё не было видно. Вдруг ухо моё уловило глухой шум под землёй. Стрелки сбросили котомки и стали разбирать камни, но вода оказалась далеко. Тогда мы перешли ниже и принялись опять копаться в земле. На этот раз труды наши увенчались успехом: вода была найдена. Первым делом все бросились утолять жажду, но вода была так холодна, что её пить можно было только маленькими глотками с перерывами. Когда Туртыгин развёл огонь, я принялся осматривать ручей. Температура была +0,90С. Я просунул руку в образовавшееся отверстие и вынул оттуда несколько камней, покрытых концентрическими слоями льда. Льда было так много, что камни казались в него вмёрзшими. Местами лёд достигал мощности десяти сантиметров. Несколько раз стрелки принимались варить чай. Пили его перед тем как ставить палатку, потом пили после того как она была поставлена, и ещё раз пили перед сном. После ужина все тотчас уснули. Бивак охраняли одни собаки. Следующий день был такой же душный и жаркий, как и предыдущий. В Уссурийском крае летние жары всегда бывают очень влажными. Причиной этого является муссон, приносящий сырость с моря. Дерновый покров и громадное количество отмершего листа на земле задерживают значительную часть влаги, не давая ей скатываться в долины. Днём, когда пригреет солнце, эта влага начинает испаряться до полного насыщения воздуха. Этим объясняются вечерние и утренние росы, которые бывают так обильны, что смачивают растительность точно дождём. При сравнительно высокой летней температуре и обилии поливки климат Уссурийского края мог бы быть весьма благоприятен для садоводства, но страшная сухость и сильные ветры зимою губительно влияют на фруктовые деревья и не позволяют им развиваться как следует. Влажные жары сильно истомляют людей и животных. Влага оседает на лицо, руки и одежду, бумага становится вокхою[89] и перестаёт шуршать, сахар рассыпается, соль и мука слипаются в комки, табак не курится; на теле часто появляется тропическая сыпь. Часа два прошло, пока мы опять достигли водораздела. Теперь начинался спуск. Горы, окаймляющие истоки Сандагоу, также обезлесены пожарами. Обыкновенно после первого пала остаются сухостои, второй пожар подтачивает их у корня, они падают на землю и горят, пока их не зальёт дождём. Третий пожар уничтожает эти последние остатки, и только одна поросль около пней указывает на то, что здесь был когда-то большой лес. С исчезновением лесов получается свободный доступ солнечным лучам к земле, а это, в свою очередь, сказывается на развитии травяной растительности. На горелых местах всегда растут буйные травы, превышающие рост человека. Идти по таким зарослям, заваленным колодником, всегда очень трудно. Спуск с хребта был не легче подъёма. Люди часто падали и больно ушибались о камни и сучья валежника. Мы спускались по высохшему ложу какого-то ручья и опять долго не могли найти воды. Рытвины, ямы, груды камней, заросли чёртова дерева, мошка и жара делали эту часть пути очень тяжёлой. После полудня мы вышли наконец к реке Сандагоу. В русле её не было ни капли воды. Отдохнув немного в тени кустов, мы пошли дальше и только к вечеру могли утолить мучившую нас жажду. Здесь в глубокой яме было много мальмы[90] (Salrulinus alpinus malama wae). Загурский и Туртыгин без труда наловили её столько, сколько хотели. Это было как раз кстати, потому что взятое с собой продовольствие приходило к концу. В верхней части река Сандагоу слагается из двух рек — Малой Сандагоу, имеющей истоки у Тазовской горы, и Большой Сандагоу, берущей начало там же, где и Эрлдагоу (приток Вай-Фудзина). Мы вышли на вторую речку почти в самых её истоках. Пройдя по ней два-три километра, мы остановились на ночлег около ямы с водою на краю размытой террасы. Ночью снова была тревога. Опять какое-то животное приближалось к биваку. Собаки страшно беспокоились. Загурский два раза стрелял в воздух и отогнал зверя. Следующий день был воскресный. Пользуясь тем, что вода в реке была только кое-где в углублениях, мы шли прямо по её руслу. В средней части реки Сандагоу растут такие же хорошие леса, как и на реке Сыдагоу. Всюду виднелось множество звериных следов. В одном месте река делает большую петлю. Стрелки шли впереди, а я немного отстал от них. За поворотом они увидали на протоке пятнистых оленей — телка и самку. Загурский стрелял и убил матку. Телок не убежал; остановился и недоумевающе смотрел, что люди делают с его матерью и почему она не встаёт с земли. Я велел его прогнать. Трижды Туртыгин прогонял телка, и трижды он возвращался назад. Пришлось пугнуть его собаками. Биваком мы встали на месте охоты. Часть мяса мы решили взять с собой, а остальное передать местным жителям. За ночь погода испортилась. Утро грозило дождём. Мы спешно собрали свои манатки и к полудню дошли до утёса, около которого Кашлев караулил тигров. Место это представляет собою теснину между скалой и глубокой протокой, не замерзающей даже зимою. Здесь постоянно ходят полосатые хищники, выслеживающие кабанов, а за ними в свою очередь охотится Кашлев. Пройдя от скалы ещё километров пять, мы дошли наконец до первой земледельческой фанзы и указали её обитателям, где можно найти оленье мясо. К вечеру мы дошли до Вай-Фудзина, а ещё через двое суток возвратились в пост Ольги.
Глава 15 Приключение на реке Арзамасовке

Китаец Че Фан. — Притоки реки Арзамасовки. — Пещеры. — Птицы. — Древесные и кустарниковые породы в лесу. — Охота на кабанов. — Заблудился. — Дождь. — Опасное положение. — Услуга, оказанная Лешим. — Тропа. — Огонь. — Чужой бивак. — Мурзин. — Возвращение
Начиная с 7 июля погода снова стала портиться. Всё время шли дожди с ветром. Воспользовавшись непогодой, я занялся вычерчиванием маршрутов и обработкой путевых дневников. На эту работу ушло трое суток. Покончив с ней, я стал собираться в новую экспедицию на реку Арзамасовку. А. И. Мерзлякову было поручено произвести съёмку Касафуновой долины и Кабаньей пади, а Г. И. Гранатман взялся произвести рекогносцировку в направлении Арзамасовка — Тадушу. Пятнадцатого июля, рано утром, я выступил в дорогу, взяв с собою Мурзина, Эпова и Кожевникова. Ночевали мы в селе Пермском, а на другой день пошли дальше. Река Арзамасовка по-китайски называется Да-дун-гоу[91]. Она длиною километров сорок пять, шириною около устья сто метров и глубиною по руслу около сажени. Долина её вначале узкая, но выше, после впадения реки Кабаньей, значительно расширяется. В настоящее время все китайские и туземные названия уже утрачены. Пермские крестьяне переделали их по-своему. Со стороны пади Широкой в долину Арзамасовки выдвигаются мощные речные террасы, местами сильно размытые. Здесь в горах много осыпей. Своим серым цветом они резко выделяются из окружающей их растительности. Интересною особенностью Арзамасовских гор, находящихся против пади Широкой, будет однообразие их форм. Пусть читатель представит себе несколько трёхгранных пирамид, положенных набок друг около друга, основанием в долину, а вершинами к водоразделу. Трёхгранные углы их будут возвышенностями, а углубления между ними — распадками. Треугольные основания их по отношению к долине находятся под углом градусов в шестьдесят. Частые и сильные наводнения в долине Вай-Фудзина принудили пермских крестьян искать места, более удобные для земледелия, где-нибудь в стороне. Естественно, что они прежде всего обратили внимание на Да-дун-гоу. От залива Ольги в долину Арзамасовки есть два пути. Один идёт через село Пермское, а другой — по реке Поддеваловке, названной так потому, что после дождей на размытой дороге образуется много ям — ловушек. Дорога эта выходит как раз против пади Широкой. Последняя представляет собой действительно широкую долину, по которой протекает маленькая речка. Выше её в долину Арзамасовки входят три пади: Колывайская, Угловая и Лиственничная. По ним можно выйти на реку Хулуай, впадающую в залив Владимира. Перевалы через невысокие горные хребты состоят из целого ряда конических сопок, слагающихся из известняков. В первый день мы дошли до фанзы китайца Че Фана. По единогласному свидетельству всех пермских и фудзинских крестьян, китаец этот отличался удивительной добротой. Когда впервые у них наводнениями размыло пашни, он пришёл к ним на помощь и дал семян для новых посевов. Всякий, у кого была какая-нибудь нужда, шёл к Че Фану, и он никому ни в чём не отказывал. Если бы не Че Фан, переселенцы ни за что не поднялись бы на ноги. Многие эксплуатировали его доброту, и, несмотря на это, он никогда не являлся к обидчикам в качестве кредитора. Утром на следующий день я пошёл осматривать пещеры в известковых горах с правой стороны Арзамасовки против устья реки Угловой. Их две: одна вверху на горе, прямая, похожая на шахту, длина её около 100 метров, высота от 2,4 до 3,6 метра, другая пещера находится внизу на склоне горы. Она спускается вниз колодцем метров на двенадцать, затем идёт наклонно под углом 10 градусов. Раньше это было русло подземной реки. Длина второй пещеры около 120 метров, ширина и высота неравномерны: то она становится узкой с боков и высокой, то, наоборот, низкой и широкой. Дно пещеры завалено камнями, свалившимися сверху, вследствие этого в ней нет сталактитов. Так как эти обвалы происходят всюду и равномерно, то пещера как бы перемещается в вертикальном направлении. Как и во всех таких пещерах, в ней было много летучих мышей с большими ушами (Myotis Ikoimikovi Ogn) и белых комаров-долгоножек (Tipula sp.). Когда мы окончили осмотр пещер, наступил уже вечер. В фанзе Че Фана зажгли огонь. Я хотел было ночевать на улице, но побоялся дождя. Че Фан отвёл мне место у себя на кане. Мы долго с ним разговаривали. На мои вопросы он отвечал охотно, зря не болтал, говорил искренно. Из этого разговора я вынес впечатление, что он действительно хороший, добрый человек, и решил по возвращении в Хабаровск хлопотать о награждении его чем-нибудь за ту широкую помощь, какую он в своё время оказывал русским переселенцам. Перед рассветом с моря потянул туман. Он медленно взбирался по седловинам в горы. Можно было ждать дождя. Но вот взошло солнце, и туман стал рассеиваться. Такое превращение пара из состояния конденсации в состояние нагретое, невидимое в Уссурийском крае, всегда происходит очень быстро. Не успели мы согреть чай, как от морского тумана не осталось и следа; только мокрые кустарники и трава ещё свидетельствовали о недавнем его нашествии. Пятнадцатое и шестнадцатое июля я посвятил осмотру рек Угловой и Лиственничной. Река Угловая (Нан-дун-гоу) в верховьях слагается из трёх горных ручьёв. По ней можно выйти на реку Мокрушу (нижний правый приток Хулуая). Наносная иловая почва в этой долине чрезвычайно плодородна. Сопки, защищающие её от губительных морских ветров, покрыты лесом. Среди лиственных пород кое-где мелькают одиночные кедры. Зато с подветренной стороны они почти совершенно оголены от растительности. В самой долине растут низкорослый корявый дуб, похожий скорее на куст, чем на дерево, дуплистая липа, чёрная берёза; около реки — тальник, вяз и ольха, а по солнцепекам — леспедеца, таволга, калина, орешник, полынь, тростник, виноград и полевой горошек. Достигнув водораздела, мы повернули на север и пошли вдоль хребта к истокам реки Лиственничной. Печальную картину представляет собою этот хребет с чахлою растительностью по склонам и с гольцами по гребню. Сейчас же за перевалом высится высокая куполообразная гора, которую местные жители называют Борисовой плешиной. Относительная высота этой горы над истоками реки Лиственничной равняется 680 метрам. Спуск с водораздела, медленный и пологий к Арзамасовке, становится крутым в сторону Хулуая. В верховьях Лиственничная (Сяо-дун-гоу) состоит из двух речек одинаковой величины. Левая сторона её покрыта лиственничным лесом, от которого она и получила своё название, правая — редколесьем из дуба и берёзы. Последняя является господствующей и составляет более 70 процентов всей древесной растительности. Из крупных четвероногих, судя по тем следам, которые я видел на земле, тут водились кабаны, изюбры, пятнистые олени и дикие козы. Два раза мы стреляли по ним, но неудачно. Птиц тут было также очень много. По воздуху без шума носились два азиатских канюка, всё время гонявшихся друг за другом. Один старался другого ударить сверху, с налёта, но последний ловко увёртывался от него. Верхняя птица по инерции проносилась мимо, а нижняя подымалась вверх, так что потом нельзя уже было разобраться, которая из них была нападающей и которая обороняющейся. Потом канюки спустились в траву и, распустив крылья, продолжали бой на земле. Леший спугнул их. Птицы поднялись на воздух и на этот раз разлетелись в разные стороны. Около каменистых осыпей в одиночку держались необщительные каменные дрозды. Они шаркали по камням, прятались в щелях и неожиданно появлялись где-нибудь с другой стороны. При малейшем намёке на опасность они поспешно старались скрыться в кустарниках и среди россыпей. В другом месте я заметил мухоловок, которые легко ловили на лету насекомых и так были заняты своим делом, что совершенно не замечали людей и собак и даже не обращали внимания на ружейные выстрелы. В высокой густой траве то и дело встречались длиннохвостые камышовки. Им тут место. Они лазили по тростникам, садились на кусты, бегали по земле. У них была какая-то боязнь открытых мест, лишённых растительности. Одна из этих птичек вылетела было на дорогу, но вдруг, как бы чего-то испугавшись, метнулась назад и тогда только успокоилась, когда села на камышинку. Около горного ручья между сухими кочками собака моя выгнала ещё. какую-то птицу. Я выстрелил и убил её. Это оказался восточный горный дупель. Потом я заметил камчатскую чёрную трясогузку — грациозную и наивную птичку. Она не выражала страха перед человеком, бегала около воды и что-то клевала на берегу. Семнадцатое июля ушло на осмотр реки Арзамасовки. Истоки её находятся как раз против верховьев реки Сибегоу, входящей в бассейн Тадушу. В верхней части своего течения Арзамасовка течёт в меридиональном направлении и по пути принимает в себя речку Менную, потом Лиственничную, а немного ниже — ещё две речки с правой стороны, которые местные крестьяне называют Фальи пади (от китайского слова «фалу», что значит — олень). Отсюда Арзамасовка поворачивает к юту и сохраняет это направление до конца. По пути она забирает воду с правой стороны из реки Вымоиной, которая, в свою очередь, принимает в себя реки Сальную, Клышную и Судновую. Эта последняя имеет притоками справа Форточкину, Сухую, Комфоркину и слева — Прострельную. В долине реки Сальной можно наблюдать весьма интересные образования. Вода, стекающая с горы, по узким ложбинам выносит массы песка и щебня. По выходе в долину материал этот складывается в большие конусы, которые тем больше, чем длиннее и глубже ущелье. Вероятно, конусы эти нарастают периодически, во время сильных ливней, потому что только масса быстро двигающейся воды способна переносить столь крупные обломки горной породы. Дойдя до истоков реки Арзамасовки, мы поднялись на водораздел и шли некоторое время горами в юго-западном направлении. В этом районе преобладающими горными породами будут известняки. В контактах их с массивно-кристаллическими породами встречаются богатые цинковые и серебросвинцовые руды. В сумерки с моря снова потянул туман. Я опасался, как бы опять не испортилась погода, но, на наше счастье, следующий день был хотя и пасмурный, но сухой. Из новых древесных пород в этих местах я заметил пеклен (Acer pseudosieboldianum Pax.) — небольшое стройное дерево с красно-коричневой корой и звездообразно рассечёнными листьями, затем — сибирскую яблоню (Pirus baccata L.), дающую очень мелкие плоды, похожие скорее на ягоды, чем на яблоки. Медведи особенно любят ими лакомиться. Около речки росли: душистый тополь (Populus suaveolens Fisch.) с приземистым стволом и с узловатыми ветвями, рядом с ним — вечно трепещущая осина (Populus tremula L.), а на галечниковых отмелях, как бамбуковый лес, — тонкоствольные тальники (Salix acutifo-lia Willd.). На скалах около ручья приютилась японская черёмуха (Prunus glandulifolia Maxim, et Rupr.) — полукуст-полудерево, и камчатская дафния (Daphne kamtschatica Maxim.) с светло-серой корой и с красными ягодами. Дальше виднелись амурская сирень (Syripga amurensis Rupr.) — основной элемент маньчжурской флоры, крупный кустарник с серой корой, а по опушкам — вьющаяся диоскорея (Dioscorea quinqueloba L.) — растение раздельнополое, причём мужские экземпляры отличаются от женских не только цветами, но и листвой. Землистая, сильно избитая, лишённая растительности тропа привела нас к Сихотэ-Алиню. Скоро она разделилась. Одна пошла в горы, другая направилась куда-то по правому берегу Лиственничной. Здесь мы отаборились. Решено было, что двое из нас пойдут на охоту, а остальные останутся на биваке. Летом охота на зверя возможна только утром, на рассвете, и в сумерки, до темноты. Днём зверь лежит где-нибудь в чаще, и найти его трудно. Поэтому, воспользовавшись свободным временем, мы растянулись на траве и заснули. Когда я проснулся, мне в глаза бросилось отсутствие солнца. На небе появились слоистые облака, и на землю как будто спустились сумерки. Было четыре часа пополудни. Молено было собираться на охоту. Я разбудил казаков, они обулись и принялись греть воду. После чая мы с Мурзиным взяли свои ружья и разошлись в разные стороны. На всякий случай, я захватил с собою на поводке Лешего. Вскоре я нашёл кабанов и начал их следить. Дикие свиньи шли не останавливаясь и на ходу всё время рыли землю. Судя по числу следов, их было, вероятно, больше двадцати. В одном месте видно было, что кабаны перестали копаться в земле и бросились врассыпную. Потом опять сошлись вместе. Я уже хотел было прибавить шагу, как вдруг то, что я увидел, заставило меня оглянуться. Около лужи на грязи был свежий отпечаток тигровой лапы. Ясно представил себе, как шли кабаны и как следом за ними крался тигр. «Не вернуться ли назад?» — подумал я, но тотчас же взял себя в руки и осторожно двинулся вперёд. Теперь дикие свиньи пошли в гору, потом спустились в соседнюю падь, оттуда по ребру опять стали подниматься вверх, но, не дойдя до вершины, круто повернули в сторону и снова спустились в долину. Я так увлёкся преследованием их, что совершенно забыл о том, что надо осматриваться и запомнить местность. Все внимание моё было поглощено кабанами и следами тигра. Так прошёл я ещё около часа. Несколько мелких капель, упавших сверху, заставили меня остановиться; начал накрапывать дождь. Сперва он немного только поморосил и перестал. Минут через десять он опять попрыскал и снова перестал. Перерывы эти делались короче, а дождь сильнее, и наконец он полил как следует. «Пора возвращаться на бивак», — подумал я и стал осматриваться, но за лесом ничего не было видно. Тогда я поднялся на одну из ближайших, сопок, чтобы ориентироваться. Кругом, насколько хватал глаз, все небо было покрыто тучами; только на крайнем западном горизонте виднелась узенькая полоска вечерней зари. Облака двигались к западу. Значит, рассчитывать на то, что погода разгуляется, не приходилось. Горы, которые я теперь увидел, показались мне незнакомыми. Куда идти? Я понял свою ошибку. Я слишком увлёкся кабанами и слишком мало уделил внимания окружающей обстановке. Идти назад по следам было немыслимо. Ночь застигла бы меня раньше, чем я успел бы пройти и половину дороги. Тут я вспомнил, что я, как некурящий, не имею спичек. Рассчитывая к сумеркам вернуться на бивак, я не захватил их с собой. Это была вторая крупная ошибка. Я два раза выстрелил в воздух, но не получил ответных сигналов. Тогда я решил спуститься в долину и, пока возможно, идти по течению воды. Была маленькая надежда, что до темноты я успею выбраться на тропу. Не теряя времени, я стал спускаться вниз; Леший покорно поплёлся сзади. Как бы ни был мал дождь в лесу, он всегда вымочит до последней нитки. Каждый куст и каждое дерево собирают дождевую воду на листьях и крупными каплями осыпают путника с головы до ног. Скоро я почувствовал, что одежда моя стала намокать. Через полчаса в лесу начало темнеть. Уже нельзя было отличить яму от камня, колодник от земли. Я стал спотыкаться. Дождь усилился и пошёл ровный и частый. Пройдя ещё с километр, я остановился, чтобы перевести дух. Собака тоже вымокла. Она сильно встряхнулась и стала тихонько визжать. Я снял с неё поводок. Леший только и ждал этого. Встряхнувшись ещё раз, он побежал вперёд и тотчас скрылся с глаз. Чувство полного одиночества охватило меня. Я стал окликать его, но напрасно. Простояв ещё минуты две, я пошёл в ту сторону, куда побежала собака. Когда идёшь по тайге днём, то обходишь колодник, кусты и заросли. В темноте же всегда, как нарочно, залезешь в самую чащу. Откуда-то берутся сучья, которые то и дело цепляются за одежду, ползучие растения срывают головной убор, протягиваются к лицу и опутывают ноги. Быть в лесу, наполненном дикими зверями, без огня, во время ненастья — жутко. Сознанье своей беспомощности заставило меня идти осторожно и прислушиваться к каждому звуку. Нервы были напряжены до крайности. Шелест упавшей ветки, шорох пробегающей мыши казались преувеличенными, заставляли круто поворачивать в их сторону. Наконец стало так темно, что в глазах уже не было нужды. Я промок до костей, с фуражки за шею текла вода ручьями. Пробираясь ощупью в темноте, я залез в такой бурелом, из которого и днём-то едва ли модою скоро выбраться. Нащупывая руками опрокинутые деревья, вывороченные пни, камни и сучья, я ухитрился как-то выйти из этого лабиринта. Я устал и сел отдохнуть, но тотчас почувствовал, что начинаю зябнуть. Зубы выстукивали дробь; я весь дрожал, как в лихорадке. Усталые ноги требовали отдыха, а холод заставлял двигаться дальше. Залезть на дерево! Эта глупая мысль всегда первой приходит в голову заблудившемуся путнику. Я сейчас же отогнал её прочь. Действительно, на дереве было бы ещё холоднее, и от неудобного положения стали бы затекать ноги. Зарыться в листья! Это не спасло бы меня от дождя, но, кроме того, легко простудиться. Как я ругал себя за то, что не взял с собой спичек. Я мысленно дал себе слово на будущее время не отлучаться без них от бивака даже на несколько метров. Я стал карабкаться через бурелом и пошёл куда-то под откос. Вдруг с правой стороны послышался треск ломаемых сучьев и чьё-то порывистое дыхание. Я хотел было стрелять, но винтовка, как на грех, дульной частью зацепилась за лианы. Я вскрикнул не своим голосом и в этот момент почувствовал, что животное лизнуло меня по лицу… Это был Леший. В душе моей смешались два чувства: злоба к собаке, что она меня так напутала, и радость, что она возвратилась. Леший с минуту повертелся около меня, тихонько повизжал и снова скрылся в темноте. С неимоверным трудом я подвигался вперёд. Каждый шаг мне стоил больших усилий. Минут через двадцать я подошёл к обрыву. Где-то глубоко внизу шумела вода. Разыскав ощупью большой камень, я столкнул его под кручу. Камень полетел по воздуху; я слышал, как он глубоко внизу упал в воду. Тогда я круто свернул в сторону и пошёл вправо, в обход опасного места. В это время опять ко мне прибежал Леший. Я уже не испугался его и поймал за хвост. Он осторожно взял зубами мою руку и стал тихонько визжать, как бы прося его не задерживать. Я отпустил его. Отбежав немного, собака снова вернулась назад и тогда только успокоилась, когда убедилась, что я иду за ней следом. Так прошли мы ещё с полчаса. Вдруг в одном месте я поскользнулся и упал, больно ушибив колено о камень. Я со стоном опустился на землю и стал потирать больную ногу. Через минуту прибежал Леший и сел рядом со мной. В темноте я его не видел — только ощущал его тёплое дыхание. Когда боль в ноге утихла, я поднялся и пошёл в ту сторону, где было не так темно. Не успел я сделать и десяти шагов, как опять поскользнулся, потом ещё раз и ещё. Тогда я стал ощупывать землю руками. Крик радости вырвался из моей груди. Это была тропа! Несмотря на усталость и боль в ноге, я пошёл вперёд. «Теперь не пропаду, — думал я, — тропинка куда-нибудь приведёт». Я решил идти по ней всю ночь до рассвета, но сделать это было не так-то легко. В полной темноте я не видел дороги и ощупывал её только ногой. Поэтому движения мои были до крайности медленными. Там, где тропа терялась, я садился на землю и шарил руками. Особенно трудно было разыскивать её на поворотах. Иногда я останавливался и ждал возвращения Лешего, и собака вновь указывала мне потерянное направление. Часа через полтора я дошёл до какой-то речки. Вода с шумом катилась по камням. Я опустил в неё руку, чтобы узнать направление течения. Речка бежала направо. Перейдя вброд горный поток, я сразу попал на тропу. Я ни за что не нашёл бы её, если бы не Леший. Собака сидела на самой дороге и ждала меня. Заметив, что я подхожу к ней, она повертелась немного на месте и снова побежала вперёд. В темноте ничего не было видно, слышно было только, как шумела вода в реке, шумел дождь и шумел ветер в лесу. Тропа вывела меня на другую дорогу. Теперь явился вопрос, куда идти: вправо или влево. Обдумав немного, я стал ждать собаку, но она долго не возвращалась. Тогда я пошёл вправо. Минут через пять появился Леший. Собака бежала мне навстречу. Я нагнулся к ней. В это время она встряхнулась и всего меня обдала водой. Я уже не ругался, погладил её и пошёл следом за ней. Идти стало немного легче: тропа меньше кружила и не так была завалена буреломом. В одном месте пришлось ещё раз переходить вброд речку. Пробираясь через неё, я поскользнулся и упал в воду, но от этого одежда моя не стала мокрее. Наконец я совершенно выбился из сил и сел на пень. Руки и ноги болели от заноз и ушибов, голова отяжелела, веки закрывались сами собой. Я стал дремать. Мне грезилось, что где-то далеко между деревьями мелькает огонь. Я сделал над собой усилие и открыл глаза Было темно, холод и сырость пронизывали до костей. Опасаясь, чтобы не простудиться, я вскочил и начал топтаться на месте, но в это время опять увидел свет между деревьями. Я решил, что это галлюцинация. Но вот огонь появился снова. Сонливость моя разом пропала. Я бросил тропу и пошёл прямо по направлению огня Когда ночью перед глазами находится свет, то нельзя определить, близко он или далеко, низко или высоко над землёй. Через четверть часа я подошёл настолько близко к огню, что мог рассмотреть все около него. Прежде всего я увидел, что это не наш бивак. Меня поразило, что около костра не было людей. Уйти с бивака ночью во время дождя они не могли. Очевидно, они спрятались за деревьями. Мне стало жутко. Идти к огню или нет? Хорошо, если это охотники, а если я наткнулся на табор хунхузов? Вдруг из чащи сзади меня выскочил Леший. Он смело подбежал к огню и остановился, озираясь по сторонам. Казалось, собака тоже была удивлена отсутствием людей. Она обошла вокруг костра, обнюхивая землю, затем направилась к ближайшему дереву, остановилась около него и завиляла хвостом. Значит, там был кто-нибудь из своих, иначе собака выражала бы гнев и беспокойство. Тогда я решил подойти к огню, но спрятавшийся опередил меня Это оказался Мурзин. Он тоже заблудился и, разведя костёр, решил ждать утра. Услышав, что по тайге кто-то идёт и не зная, кто именно, он спрятался за дерево. Его больше всего смутила та осторожность, с которой я приближался, и в особенности то, что я не подошёл прямо к огню, а остановился в отдалении. Тотчас мы стали сушиться. От намокшей одежды клубами повалил пар. Дым костра относило то в одну, то в другую сторону. Это был верный признак, что дождь скоро перестанет. Действительно, через полчаса он превратился в изморось. С деревьев продолжали падать ещё крупные капли. Под большой елью, около которой горел огонь, было немного суше Мы разделись и стали сушить бельё. Потом мы нарубили пихтача и, прислонившись к дереву, погрузились в глубокий сон. К утру я немного прозяб. Проснувшись, я увидел, что костёр прогорел. Небо ещё было серое, кое-где в горах лежал туман. Я разбудил казака. Мы пошли разыскивать свой бивак. Тропа, на которой мы ночевали, пошла куда-то в сторону, и потому пришлось её бросить. За речкой мы нашли другую тропу. Она привела нас к табору. Подкрепив силы чаем с хлебом, часов водиннадцать утра мы пошли вверх по реке Сальной. По этой речке можно дойти до хребта Сихотэ-Алинь. Здесь он ближе всего подходит к морю Со стороны Арзамасовки подъём на него крутой, а с западной стороны — пологий Весь хребет покрыт густым смешанным лесом. Перевал будет на реке Ли-Фудзин, по которой мы вышли с реки Улахе к заливу Ольги. После полудня вновь погода стала портиться. Опасаясь, как бы опять не пошли затяжные дожди, я отложил осмотр Ли-Фудзина до другого, более благоприятного случая. Действительно, ночью полил дождь, который продолжался и весь следующий день. 21 июля я повернул назад и через двое суток возвратился в пост Ольги.
Глава 16 Залив Владимира

Река Ольга. — Ночёвка около китайской фанзы — Залив Владимира. — Геология залива. — Китайские морские промыслы. — Осьминог. — Река Хулуай
Пока я был на реке Арзамасовке, из Владивостока прибыли давно жданные грузы. Это было как раз кстати. Окрестности залива Ольги уже были осмотрены, и надо было двигаться дальше. 24 и 25 июля прошли в сборах. За это время лошади отдохнули и оправились. Конское снаряжение и одежда людей были в порядке, запасы продовольствия пополнены. Дальнейший план работ был намечен следующим образом: Г. И. Гранатману было поручено пройти горами между Арзамасовкой и Сибегоу (приток Тадушу), а А. И. Мерзляков должен был обойти Арзамасовку с другой стороны. В верховьях Тадушу мы должны были встретиться. Я с остальными людьми наметил себе путь по побережью моря к заливу Владимира. Мои товарищи выступили в поход 26 июля утром, а я 28-го числа после полудня. День выпал хороший и тёплый. По небу громоздились массы кучевых облаков. Сквозь них прорывались солнечные лучи и светлыми полосами ходили по воздуху. Они отражались в лужах воды, играли на камнях, в листве ольшаников и освещали то один склон горы, то другой. Издали доносились удары грома. Залив Владимира и залив Ольги расположены рядом, на расстоянии 50 километров друг от друга. Посредине между ними проходит небольшой горный кряж высотой в среднем около 250 метров с наивысшими точками в 450 метров, служащий водоразделом между речкой Ольгой (13 километров) и речкой Владимировкой (9 километров), впадающей в залив того же имени. Обе речки текут по широким продольным долинам, отделённым от моря невысоким горным хребтом, который начинается у мыса Шкота (залив Ольги) и тянется до мыса Ватовского (залив Владимира). Направление этой складки можно проследить и дальше на север. Река Ольга состоит из двух речек одинаковой величины со множеством мелких притоков, отчего долина её кажется широкой размытой котловиной. Раньше жители поста Ольги сообщались с заливом Владимира по тропе, проложенной китайскими охотниками. Во время русско-японской войны в 1905 году в заливе Владимира разбился крейсер «Изумруд». Для того чтобы имущество с корабля можно было перевезти в пост Ольги, построили колёсную дорогу. С того времени между обоими заливами установилось правильное сообщение. Гроза прошла стороной, и после полудня небо очистилось. Солнце так ярко светило, что казалось, будто все предметы на земле сами издают свет и тепло. День был жаркий и душный. Сумерки спустились на землю раньше, чем мы успели дойти до перевала. День только что кончился. С востока откуда-то издалека, из-за моря, точно синий туман, надвигалась ночь. Яркие зарницы поминутно вспыхивали на небе и освещали кучевые облака, столпившиеся на горизонте. В стороне шумел горный ручей, в траве неумолкаемым гомоном трещали кузнечики. Я уже хотел подать сигнал к остановке, как вдруг один из казаков сказал, что видит огонь. Действительно, маленький огонёк виднелся в стороне около леса, шагах в трёхстах от дороги. Мы пошли туда. Это была китайская фанза. Собака своим лаем известила хозяев о нашем приближении. Два китайца вышли нам навстречу. В улыбках и поклонах их были страх и покорность, заискивание и гостеприимство. Китайцы предлагали мне лечь у них в фанзе, но ночь была так хороша, что я отказался от их приглашения и с удовольствием расположился у огня вместе со стрелками. Обыкновенно после долгой стоянки первый бивак всегда бывает особенно оживлённым. Все полны сил и энергии, всего вдоволь, все чувствуют, что наступает новая жизнь, всякому хочется что-то сделать. Опять у стрелков появилась гармоника. Весёлые голоса, шутки, смех разносились далеко по долине. Стояла китайская фанзочка много лет в тиши, слушая только шум воды в ручье, и вдруг все кругом наполнилось песнями и весёлым смехом. Китайцы вышли из фанзы, тоже развели небольшой огонёк в стороне, сели на корточки и молча стали смотреть на людей, так неожиданно пришедших и нарушивших их покой. Мало-помалу песни стрелков начали затихать. Казаки и стрелки последний раз напились чаю и стали устраиваться на ночь. Я спал плохо, раза два просыпался и видел китайцев, сидящих у огня. Время от времени с поля доносилось ржание какой-то неспокойной лошади и собачий лай. Но потом всё стихло. Я завернулся в бурку и заснул крепким сном. Перед солнечным восходом пала на землю обильная роса. Кое-где в горах ещё тянулся туман. Он словно боялся солнца и старался спрятаться в глубине лощины. Я проснулся раньше других и стал будить команду. Распростившись с китайцами, мы тронулись в путь. Я заплатил им за дрова и овощи. Манзы пошли было нас провожать, но я настоял на том, чтобы они возвратились обратно. Часов в девять утра мы перевалили через водораздел и спустились в долину Владимировки. На этом маршруте следует отметить весьма интересные эоловые образования в виде гладко обточенных столбов, шарообразных глыб, покоящихся на небольших пьедесталах, в виде выпуклостей с перетяжками, овальных углублений и т. д. Некоторые из них поражают своей оригинальностью. Одни глыбы похожи на зверей, другие на колонны, третьи на людей и т. д. Образования эти заслуживают особого внимания потому ещё, что вблизи нигде нет песков, которые играли бы роль шлифовального материала. Высокий горный хребет, служащий водоразделом между реками Ольгой и Владимировкой, спускается к морю мысами и состоит из песчаников, конгломератов и серых вакк. Речка Владимировка имеет вид обыкновенного горного ручья, протекающего по болотистой долине, окаймлённой сравнительно высокими горами. К вечеру отряд наш дошёл до её устья и расположился биваком на берегу моря. В сумерки на западе слышны были раскаты грома. Мы стали ставить палатки, но опасения наши оказались напрасными. Гроза опять прошла стороной. Однако нас смутило другое явление. Как только погасла вечерняя заря, звезды начали меркнуть, и небо стало заволакиваться не то тучами, не то туманом. Прохладный ветерок тянул с суши на море, а мгла вверху шла в обратном направлении. Это бризы. В августе и сентябре на берегу моря их можно наблюдать почти ежедневно. На рассвете небо кажется серым. Туман неподвижно лежит над землёй в полгоры. Когда же солнце подымается над горизонтом градусов на пятнадцать, он приходит в движение, начинает клубиться и снова ползёт к морю, сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее. Сперва это нас беспокоило. Всё казалось, что будет дождь. Потом мы привыкли к этому явлению и уже более не обращали на него внимания. Весь следующий день был посвящён осмотру залива Владимира. Китайцы называют его Хулуай (от слов «хулу», что означает — круглая тыква, горлянка, и «вай» — залив или бухта). Некоторые русские вместо Хулуай говорят Фулуай и производят его от китайского слова «фалу», что значит пятнистый олень. Это совершенно неправильно. Залив Владимира (45053' северной широты и 135037' восточной долготы от о. Ферро — астрономический пункт находится на мысе Орехова) представляет собой огромный водоём глубиной до 12 метров, обставленный со всех сторон гранитными горами высотой в среднем около 230 метров. Он значительно больше залива Ольги и состоит из трёх частей: северо-западной — большой, юго-восточной — меньшей и средней — самой маленькой. Со стороны открытого моря залив этот окаймлён двумя гористыми полуостровами: Валюзека и Ватовского. Третий полуостров, Рудановского, находится в середине залива. Из упомянутых полуостровов наибольшим будет южный — Ватовского. Видно, что они ещё недавно были под водой. Вокруг залива Владимира, около устьев впадающих в него речек, находится целый ряд небольших озерков с опреснённой водой. Эти озера и окружающие их болота свидетельствуют о том, что залив раньше глубже вдавался в материк. Потом вода была оттеснена, и суша сделала кое-где захваты. Самое большое озеро — южное. Оно величиной около 1-го квадратного километра и глубиной от 3 до 6 метров. Вследствие того что через него проходит река, оно быстро мелеет. Два озера с солёной водой на перешейках около полуостровов — тоже живые свидетели того недавнего прошлого, когда полуострова эти были ещё островами. Морской прибой постарался соединить их с материком. Теперь уже можно предсказать и будущее залива Владимира. Море медленно отступает. Со временем оно закроет вход в залив и превратит его в лагуну, лагуна станет наполняться наносами рек, обмелеет и превратится в болото. По низине пройдёт река, и все речки, впадающие теперь в залив самостоятельно, сделаются её притоками. Растительность в окрестностях залива Владимира ещё более скудная, чем около поста Ольги. Склоны гор, обращённые к морю, совершенно голые. В долинах берега рек, как бордюром, окаймлены ольхой (Alnus hirsuta Turcz.) и тальниками (Salix philicifolia L.). В тех местах, где деревья подвержены влиянию морских ветров, они низкорослы и имеют жалкий вид. Во всякой лощинке, которая защищена от ветра, развивается растительность более пышная, чем на склонах, обращённых к морю. Таким образом, по растительности можно судить о преобладающих ветрах в данной местности и указать, где находится море. При входе в залив Владимира с левой стороны ниже мыса Орехова можно видеть какую-то торчащую из воды бесформенную массу. Это крейсер «Изумруд», выскочивший на мель и взорвавший себя в 1905 году. Грустно смотреть на эту развалину. Что можно было, то с «Изумруда» сняли, перевезли в пост Ольги и отправили во Владивосток, остальное разграбили хунхузы. На берегах залива мы нашли несколько промысловых фанз. По кучам около них можно было сказать, чем занимались их обитатели. В одном месте было навалено много створок большого гребешка (Pecten maximus). Некоторые кучи уже покрылись слоем земли и обросли травой. Это были своего рода маленькие «киекенмединги». Китайцы берут у моллюсков только одни мускулы, соединяющие створки раковин, и в сухом виде отправляют их в город. В Китае этот продукт ценится очень дорого, как лакомство. Около другой фанзочки были нагромождены груды панцирей крабов (Puralithodes kamtschatica Tilesins), высохших и покрасневших на солнце. Тут же на циновках сушилось мясо, взятое из ног и клешнёй животных. Следующая фанзочка принадлежала капустоловам, а рядом с ней тянулись навесы из травы, под которыми сушилась морская капуста (Lamtnaria sacchartna). Здесь было много народа. Одни китайцы особыми крючьями доставали её со дна моря, другие сушили капусту на солнце, наблюдая за тем, чтобы она высохла ровно настолько, чтобы не стать ломкой и не утратить своего зеленовато-бурого цвета. Наконец третья группа китайцев была занята увязыванием капусты в пучки и укладкой её под навесы. Идя вдоль берега моря, я издали видел, как у противоположного берега в полосе мелководья, по колено в воде, с шестами в руках бродили китайцы. Они были так заняты своим делом, что заметили нас только тогда, когда мы подошли к ним вплотную. Раздетые до пояса и в штанах, засученных по колено, китайцы осторожно двигались в воде и что-то высматривали на дне моря. Иногда они останавливались, тихонько опускали в воду свои палки и что-то высматривали на берегу. Это оказался съедобный ракушник (Hytilis edulis Lin.). Палки, которыми работали китайцы, имели с одной стороны небольшую сеточку в виде ковшика, а с другой — железный крючок. Увидев двухстворчатку, манза отрывал её багром от камней, а затем вынимал сеточкой. Китайцы на берегу сейчас же опускали их в котёл с горячей водой. Умирая, моллюски раскрывали раковины. При помощи ножей вынималось их содержимое и заготовлялось впрок продолжительным кипячением. Китайцы далеко разбрелись по берегу по одному и по два человека. Я сел на камни и стал смотреть в море. Вдруг слева от меня раздались какие-то крики. Я повернулся в ту сторону и увидел, что в воде происходила борьба. Китайцы старались палками выбросить какое-то животное на берег, наступали на него, в то же время боялись его и не хотели упустить. Я побежал туда. Животное, с которым боролись китайцы, оказалось большим осьминогом (Octopus Sp.). Своими сильными щупальцами он цеплялся за камни, иногда махал ими по воздуху, затем вдруг стремительно бросался в одну какую-нибудь сторону с намерением прорваться к открытому морю. В это время на помощь прибежало ещё три китайца. Огромный осьминог был настолько близок к берегу, что я мог его хорошо рассмотреть. Я затрудняюсь сказать, какого он был цвета. Окраска его постоянно менялась: то она была синеватая, то ярко-зелёная и даже желтоватая. Чем ближе китайцы подвигали моллюска на мель, тем беспомощнее он становился. Наконец манзы вытащили его на берег. Это был огромный мешок с головой, от которой отходили длинные щупальца, унизанные множеством присосков. Когда он подымал кверху сразу два-три из них, можно было видеть его большой, чёрный клюв. Иногда этот клюв сильно выдвигался вперёд, иногда совсем втягивался внутрь, и на месте его оставалось только небольшое отверстие. Особенно интересны были его глаза. Трудно найти другое животное, у которого глаза так напоминали бы человеческие. Мало-помалу движения осьминога становились медленнее; по телу его начали пробегать судороги, окраска стала блекнуть, и наружу всё больше и больше стал выступать один общий буро-красный цвет. Наконец животное успокоилось настолько, что явилась возможность подойти к нему без опаски. Я смерил его. Этот представитель головоногих был чрезвычайно больших размеров. Мешок с внутренностями был длиной 0,8 метра. Турбинный аппарат, при помощи которого движется животное, находился впереди, около головы, немного сбоку. Голова моллюска имела большие размеры в ширину, чем в длину, и равнялась 28 сантиметрам. Роговой клюв, донельзя напоминающий клюв попугая, был 9 сантиметров по наружной кривизне и 5 сантиметров, если мерить его сбоку. Щупальца осьминога были 1,4 метра длины и толщиной около головы 12 сантиметров в окружности. Пневматические присоски, которыми была усеяна вся внутренняя сторона щупалец, около головы имели размеры трёхкопеечной монеты, а на конце — величиной с серебряный пятачок. Этот интересный экземпляр осьминога был достоин помещения в любой музей, но у меня не было подходящей посуды и достаточного количества формалина, поэтому пришлось ограничиться только куском ноги. Этот обрезок я положил в одну банку с раковинами раков-отшельников. Вечером, когда я стал разбирать содержимое банки, то, к своему удивлению, не нашёл двух раковин. Оказалось, что они были глубоко засосаны обрезком ноги спрута. Значит, присоски её действовали некоторое время и после того, как она была отрезана и положена в банку с формалином. Осмотр морских промыслов китайцев и охота за осьминогом заняли почти целый день. Незаметно подошли сумерки, и пора было подумать о биваке. Я хотел было идти назад и разыскивать бивак, но узнал, что люди мои расположились около устья реки Хулуая. Вечером китайцы угощали меня мясом осьминога. Они варили его в котле с морской водой. На вид оно было белое, на ощупь упругое и вкусом несколько напоминало белые грибы. Следующий день был посвящён осмотру Хулуая. Река эта длиной километров в двадцать. Она течёт в меридиональном направлении и впадает в залив Владимира с северной стороны. Около устья долина Хулуая сужена, но выше она расширяется. Высоты с правой стороны имеют резко выраженный горный характер. Большинство их покрыто осыпями. С левой тянутся широкие террасы, которые дальше от реки переходят в увалы, покрытые редколесьем из липы, дуба и даурской берёзы. С этой стороны в Хулуай впадает несколько ключей, которые во время дождей выносят в долину много мусора и засоряют участки плодородной земли. Из притоков Хулуая наибольшего внимания заслуживает Тихий ключ, впадающий с правой стороны. По этому ключу идёт тропа на Арзамасовку. Ключ этот вполне оправдывает своё название. В нём всегда царит тишина, свойственная местам болотистым. Растительность по долине мелкорослая, редкая и состоит главным образом из белой берёзы и кустарниковой ольхи. Первые разбросаны по всей долине в одиночку и небольшими группами, вторые образуют частые насаждения по берегам реки. Ориентировочным пунктом может служить здесь высокая скалистая сопка, называемая старожилами-крестьянами Петуший гребень. Гора эта входит в состав водораздела между реками Тапоузой и Хулуаем. Подъём на перевал в истоках Хулуая длинный и пологий, но спуск к Тапоузе крутой. Кроме этой сопки, есть ещё другая гора — Зарод; в ней находится Макрушинская пещера — самая большая, самая интересная и до сих пор ещё не прослеженная до конца. Вход в пещеру имеет треугольную форму и расположен довольно высоко над землёй (40 — 50 метров). Сначала исследователь попадает в первый зал, длиной 35 — 40 метров и высотой до 30 метров. В конце его находится глубокий колодец. Надо повернуть влево, в нишу; в ней есть длинный проход, имеющий подъем и спуск. На вершине подъёма проход суживается между двумя сталагмитовыми столбами. Далее приходится продвигаться ползком. Этот проход длиной до 50 метров, после чего исследователь вступает в широкий коридор, который приводит его во второй зал снежной белизны. Он небольшой, но очень красивый. Отсюда опять через узкий коридор можно попасть в третий зал, самый величественный. Он гораздо больше первых двух, взятых вместе. Здесь сталактиты и сталагмиты образовали роскошные колоннады. Всюду по стенам слои натёчной извести, производящие впечатление застывших водопадов. Кое-где местами, в котловинах, собралась вода, столь чистая и прозрачная, что исследователь замечает её только тогда, когда попадает в неё ногой. Тут опять есть очень глубокий колодец и боковые ходы. В этом большом зале наблюдателя невольно поражают удивительные акустические эффекты — на каждое громкое слово отвечает стоголосое эхо, а при падении камня в колодец поднимается грохот, словно пушечная пальба: кажется, будто происходят обвалы и рушатся своды. В пяти километрах от устья долина расширяется и становится удобной для заселения. Здесь расположились китайские земледельческие фанзы. Их немного — всего только пять. Ближайшая к морю называется Сяочинза. Целый день я бродил по горам и к вечеру вышел к этой фанзе. В сумерки один из казаков убил кабана. Мяса у нас было много, и потому мы поделились с китайцами. В ответ на это хозяин фанзы принёс нам овощей и свежего картофеля. Он предлагал мне свою постель, но, опасаясь блох, которых всегда очень много в китайских жилищах, я предпочёл остаться на открытом воздухе.
Глава 17 Дерсу Узала

Река Тадушу — Тапоуза. — Происхождение названия Тадушу — Низовье реки — Притоки — Фанза Сиян — Рассказы старика маньчжура. — Население. — Сумерки и ненастье. — Бивак незнакомца — Встреча — Ночная беседа. — Речные террасы. — Лудевая фанза. — Истоки Тадушу — Сихотэ-Алинь. — Перевал Венюкова — Река Ли-Фудзин и река Дун-бей-ца
Солнечный восход застал нас в дороге. От залива Владимира на реку Тадушу есть два пути. Один идёт вверх по реке Хулуаю, потом по реке Тапоузе и по Силягоу (приток Тадушу); другой (ближайший к морю) ведёт на Тапоузу, а затем горами к устью Тадушу. Я выбрал последний, как малоизвестный. Возвышенности между заливом Владимира и рекой Тапоузой состоят из кварцепорфирового туфа с включением обломков бескварцевого и фельзитового порфира и смоляного камня. Название Тапоуза есть искажённое китайское слово «Да-пао-цзы» (то есть Большая лагуна). Действительно, Тапоуза впадает не непосредственно в море, а в большое прибрежное озеро, имеющее в окружности около 10 километров. Озеро это отделено от моря песчаной косой и соединяется с ним небольшим рукавом. И здесь мы видим тот же процесс выравнивания берега и отвоевания сушей части территории, ранее захваченной морем. По словам туземцев, в прежние годы в этих местах водилось очень много пятнистых оленей. Тазы при помощи собак загоняли животных в озера, где специально отряженные охотники караулили их в лодках. Загнанных животных били из самострелов и кололи копьями. Река Тапоуза (по-тазовски — Кайя), длиной 25 километров, течёт параллельно Хулуаю. Собственно говоря, Тапоуза состоит из слияния двух рек: самой Тапоузы и Чензагоу[92]. Горный хребет, выходящий мысом между двумя этими речками, состоит из кварцевого и полевошпатового порфира. Залив Владимира соединяется с долиной Тадушу пешеходной тропой. Ею можно пользоваться и для движения с вьючными обозами. Тропа начинается у Хулуая и идёт по первому ближайшему к морю ключику до перевала. Перейдя горы, она спускается в долину Тапоузы. Подъём на хребет и спуск с него — длинные и пологие, поросшие редким дубовым лесом. Среди деревьев есть много дуплистых. На коре одного из них казаки заметили следы зубов и когтей. Это медведь добывал мёд. Какие-то проходившие мимо охотники прогнали медведя и затем сами доставали мёд таким же хищническим способом, как и зверь. За перевалом дорога некоторое время идёт вверх по Тапоузе, среди роскошного дубового леса. Здесь также развиты высокие речные террасы. Через 10 километров тропа переходит к левому краю долины и потом по маленькому ключику, не имеющему названия, опять подымается в горы. Этот перевал немного выше предыдущего Подъем со стороны Тапоузы — крутой, зато спуск к реке Тадушу — пологий. Дальше путь пролегает по речке Сяо-Поу-за[93], почти совершенно обезлесенный, впадающий в Тадушу километрах в двух от её устья. В общем, пройденный нами в этот день путь равнялся 28 километрам и имел направление, параллельное берегу моря. В лесу попадалось много следов пятнистых оленей. Вскоре мы увидели и самих животных. Их было три: самец, самка и телёнок. Казаки стреляли, но промахнулись, чему я был несказанно рад, так как продовольствия у нас было вдоволь, а время пантовки[94] давно уже миновало. Тадушу! — так вот та самая река, по которой первым прошёл М. Венюков. Здесь китайцы преградили ему путь и потребовали, чтобы он возвратился обратно. При устье Тадушу Венюков поставил большой деревянный крест с надписью, что он здесь был в 1857 году. Креста этого я нигде не нашёл. Вероятно, китайцы уничтожили его после ухода русских. Следом за Венюковым Тадушу посетили Максимович, Будищев и Пржевальский. В Уссурийском крае реки, горы и мысы на берету моря имеют различные названия. Это произошло оттого, что туземцы называют их по-своему, китайцы — по-своему, а русские, в свою очередь, окрестили их своими именами. Поэтому, чтобы избежать путаницы, следует там, где живут китайцы, придерживаться названий китайских, там, где обитают тазы, не следует руководствоваться названиями, данными русскими Последние имеют место только на картах и местным жителям совершенно не известны. Расспросив китайцев о дорогах, я наметил себе маршрут вверх по реке Тадушу, через хребет Сихотэ-Алинь, в бассейн реки Ли-Фудзина и оттуда на реку Ното. Затем я полагал по этой последней опять подняться до Сихотэ-Алиня и попытаться выйти на реку Тютихе. Если бы это мне не удалось, то я мог бы вернуться на Тадушу, где и дождаться прихода Г. И. Гранатмана. Река Тадушу почему-то называется на одних картах Ли-Фуле, на других — Лей-Фынхе, что значит «удар грома». Тазы (удэгейцы) называют её Узи. Некоторые ориенталисты пытаются слово «Тадушу» произвести от слова «дацзы» (тазы). Это совершенно неверно. Китайцы называют её Да-цзо-шу (Большой дуб). Старожилы-манзы говорят, что дуб этот рос в верховьях реки около Сихотэ-Алиня. Дерево было дуплистое и такое большое, что внутри него могли свободно поместиться восемь человек Искатели женьшеня устроили в нём кумирню, и все проходившие мимо люди молились богу. Но вот однажды искатели золота остались в нём ночевать. Они вынесли кумирню наружу, сели в дупле и стали играть в карты. Тогда бог послал жестокую грозу. Молния ударила в дерево, разбила его в щепы и убила игроков на месте Отсюда и получилось два названия: Лей-фынхе и Да-цзо-шу, впоследствии искажённое. Низовья Тадушу представляют собой большую болотистую низину, это был большой залив Устье реки находилось немного выше того места, где ныне расположилась деревня Новотадушинская. Высокие террасы на берегу моря и карнизы по склонам гор указывают на отрицательное движение береговой линии и отступание моря. Немалую роль в этом сыграла и сама река, в течение многих веков наносившая осадочный материал и откладывавшая его в виде мощных напластований. Затем образовалась большая лагуна, отделённая от моря одним только валом. Озера, оставшиеся ныне среди болот, — это наиболее глубокие места лагуны; здесь в непосредственной близости к воде я увидел большие заросли какой-то снежно-белой растительности, при ближайшем осмотре оказавшейся эдельвейсом (Gnaphalium uligmosum L.). Как-то странно было видеть этот красивый альпийский цветок на самом берегу моря. Склоны соседних гор почти совершенно голые. Только с подветренной стороны группами кое-где растёт низкорослый дуб и корявая берёза. В заводях Тадушу осенью держится много краснопёрки, тайменя, кунжи, горбуши и кеты. В озёрах есть караси и щуки. Длина всей реки 68 километров. Протекает она по типичной денудационной долине, которая как бы слагается из ряда обширных котловин. Особенно это заметно около её притоков. В долине Тадушу сильно развиты речные террасы. Они тянутся всё время то с одной, то с другой стороны почти до самых истоков. Если идти вверх по реке, то в последовательном порядке будут попадаться следующие притоки: с левой стороны (по течению) — Дунгоу[95], Канехеза[96] и Цимухе. По последней идёт тропа на реку Тютихе. Затем ещё две небольшие речки: Либагоуза[97] и Дитагоуза[98] с перевалами на реку Динзахе. Справа маленькие речки: Квандагоу[99] и Сяень-Лаза, потом следует Сяо-лися-гоу[100] и Далисягоу[101] с перевалами на Тапоузу. Ещё дальше — Юшангоу[102] со скрытым устьем (перевал на Хулуай) и Сибегоу[103] (перевал на Арзамасовку). Последняя длиной 30 километров и состоит из двух речек: Хаисязагоу[104] и Цименсангоуза[105]. У места слияния их поселились все тадушенские туземцы. Наш путь лежал по левому берету реки. Там, где ранее было древнее устье, тропа взбирается на гору и идёт по карнизу. Отсюда открывается великолепный вид на восток — к морю, и на запад — вверх по долине. Слева характер горной страны выражен очень резко. Особенно величественной кажется голая сопка, которую местные китайцы называют Дита-шань[106], а удэгейцы — Дита-кямони, покрытая трахитовыми осыпями. По рассказам тазов, на ней раньше водилось много пятнистых оленей, но теперь они почти все выбиты. Внизу, у подножия горы, почти на самой тропе, видны обнажения бурого угля. Из правых притоков Тадушу интересна река Лисягоу. Она длиной 12 километров, по ней проходит тропа на реку Арзамасовку. Подъём на перевал с южной стороны пологий, зато спуск в долину Тадушу крутой и очень живописный. Тропа здесь проложена по карнизу. Это след старинной дороги, которая в древние времена проходила вдоль всего побережья моря и кончалась где-то у мыса Гиляк. Само название Лисягоу показывает, что здесь много растёт грушевых деревьев (Pyrus chinensis Lindl.). Около устья Лисягоу в долину Тадушу вдаётся горный отрог, соединяющийся с соседними горами глубокой седловиной, отчего он кажется как бы отдельно стоящей сопкой. У подножия её расположилась богатая фанза Си-Ян, окружённая старинными осокорями. День кончился. На землю спустилась ночная тень. Скоро всё должно было погрузиться в мрак. Когда мы подходили к фанзе, в дверях её показался хозяин дома. Это был высокий старик, немного сутуловатый, с длинной седой бородой и с благообразными чертами лица. Достаточно было взглянуть на его одежду, дом и людские, чтобы сказать, что живёт он здесь давно и с большим достатком. Китаец приветствовал нас по-своему. В каждом движении его, в каждом жесте сквозило гостеприимство. Мы вошли в фанзу. Внутри её было так же всё в порядке, как и снаружи. Я не раскаивался, что принял приглашение старика. Вечером после ужина я стал его расспрашивать о Тадушу и о дороге на Ли-Фудзин. Сначала он говорил неохотно, но потом оживился и, вспоминая старину, рассказал много интересного. Оказалось, что он был маньчжур, по имени Кинь Чжу, родом из Нингуты. На реке Тадушу он жил более шестидесяти лет и уже собирался уехать на родину, чтобы там схоронить свои кости. После этого он рассказал мне о первых годах своей жизни в дикой стране среди инородцев. От этого маньчжура я впервые услышал интересное сказание о давно минувшем Уссурийского края. То была междоусобная борьба между каким-то царём Куань Юном, жившим на реке Сучане, и князем Чин Ятай-цзы из Нингуты. Далее он говорил о битве на реке Даубихе и на горе Коуче-дынцза (около поста Ольги). Старик говорил пространно и очень красиво. Слушая его, я совершенно перенёсся в то далёкое прошлое и забыл, что нахожусь на Тадушу. Не один я увлёкся его рассказами: я заметил, что в фанзе все китайцы притихли и слушали повествования старика. Далее он говорил о какой-то страшной болезни, которая уничтожила почти все оставшееся после войны население. Тогда край впал в запустение. Первыми китайцами, появившимися в уссурийской тайге, были искатели женьшеня. Вместе с ними пришёл сюда и он, Кинь Чжу. На Тадушу он заболел и остался у удэгейцев (тазов), потом женился на женщине их племени и прожил с тазами до глубокой старости. Наконец старик кончил. Я очнулся и вновь увидел себя в современной обстановке. В фанзе было душно; я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Небо было чёрное; звёзды горели ярко и переливались всеми цветами радуги; на земле было тоже темно. Рядом в конюшне пофыркивали кони. В соседнем болоте стонала выпь; в траве стрекотали кузнечики… Долго я сидел на берегу реки. Величавая тишина ночи и спокойствие, царившее во всей природе, так гармонировали друг с другом. Я вспомнил Дерсу, и мне стало грустно. Я поднялся, пошёл в фанзу, лёг на приготовленную постель, но долго не мог уснуть. На другой день, распростившись со стариком, мы пошли вверх по реке. Погода нам благоприятствовала. Несмотря на то, что небо было покрыто кучевыми облаками, солнце светило ярко. Верхняя половина долины Тадушу несколько разнится от нижней. Внизу, как выше было сказано, она слагается из целого ряда больших котловин, а вверху становится похожей на продольную долину. Здесь она принимает в себя с правой стороны маленькую речку Чингоузу[107] с тропой, ведущей к тазовским фанзам на реке Сибегоу, а с левой стороны будет большой приток Динзахе. Этот последний длиннее и многоводнее, чем сама Тадушу, и потому его надо бы считать главной рекой, а Тадушу — притоком. О реке Динзахе я буду говорить низке подробнее. На реке Тадушу много китайцев. Я насчитал девяносто семь фанз. Они живут здесь гораздо зажиточнее, чем в других местах Уссурийского края. Каждая фанза представляет собой маленький ханшинный[108] завод. Кроме того, я заметил, что тадушенские китайцы одеты чище и опрятнее и имеют вид здоровый и упитанный. Вокруг фанз видны всюду огороды, хлебные поля и обширные плантации мака, засеваемого для сбора опия. В верхней части долины живут тазы. Они, как всегда, ютятся в маленьких фанзочках манзовского типа. Китайцы их немилосердно эксплуатируют. Грязь в жилище, грязь в одежде и грязь на теле являются источником всяческих болезней и причиной их вымирания. Китайцы приходят в Уссурийский край одинокими и отбирают от инородцев женщин силой. От этого брака получаются дети, которых нельзя причислить ни к китайцам, ни к инородцам. Большая часть инородческого населения Южноуссурийского края, в том числе и на Тадушу, именно такие нечистокровные тазы. Очень многие из них, и в особенности женщины, курят опий. Это тоже является одной из главных причин их обеднения. Табак курят все, даже малые ребятишки. Мне неоднократно приходилось видеть детей, едва умеющих ходить, сосущих грудь матери и курящих трубку. Долина реки Тадушу весьма плодородна. Больших наводнений в ней не бывает. Даже в том месте, где на коротком протяжении впадают в неё сразу три сравнительно большие реки (Динзахе, Сибегоу и Юшангоу), вода немного выходит из берегов, и то ненадолго. Тадушу во всём Ольгинском районе является лучшим местом для колонизации. Горы в средней части долины, выше тазовской фанзы Ся-Инза[109], слагаются из песчаников и глинистых сланцев с многочисленными кварцевыми прослойками. Горный отрог, входящий острым клином между Сибегоу и Тадушу, состоит из мелафира, порфирита и витрофира. С южной стороны его, внизу, выступает обсидиан с призматической отдельностью. После полудня погода стала заметно портиться. На небе появились тучи. Они низко бежали над землёй и задевали за вершины гор. Картина сразу переменилась: долина приняла хмурый вид. Скалы, которые были так красивы при солнечном освещении, теперь казались угрюмыми; вода в реке потемнела. Я знал, что это значит, велел ставить палатки и готовить побольше дров на ночь. Когда все бивачные работы были закончены, стрелки стали проситься на охоту. Я посоветовал им не ходить далеко и пораньше возвращаться на бивак. Загурский пошёл по долине Динзахе, Туртыгин — вверх по Тадушу, а я с остальными людьми остался на биваке. Должно быть, солнце скрылось за горизонтом, потому что вдруг стало темно. Дневной свет некоторое время ещё спорил с сумерками, но видно было, что ночь скоро возьмёт верх и завладеет сперва землёй, а потом и небесами. Через час Туртыгин возвратился и доложил мне, что километрах в двух от нашего табора у подножия скалистой сопки он нашёл бивак какого-то охотника. Этот человек расспрашивал его, кто мы такие, куда идём, давно ли мы в дороге, и когда узнал мою фамилию, то стал спешно собирать свою котомку. Это известие меня взволновало. Кто бы это мог быть? Стрелок говорил, что ходить не стоит, так как незнакомец сам обещал к нам прийти. Странное чувство овладело мной. Что-то неудержимо влекло меня туда, навстречу этому незнакомцу. Я взял своё ружьё, крикнул собаку и быстро пошёл по тропинке. Сразу от огня вечерний мрак мне показался темнее, чем он был на самом деле, но через минуту глаза мои привыкли, и я стал различать тропинку. Луна только что нарождалась. Тяжёлые тучи быстро неслись по небу и поминутно закрывали её собой. Казалось, луна бежала им навстречу и точно проходила сквозь них. Все живое кругом притихло; в траве чуть слышно стрекотали кузнечики. Обернувшись назад, я уже не видел огней на биваке. Постояв с минуту, я пошёл дальше. Вдруг собака моя бросилась вперёд и яростно залаяла. Я поднял голову и невдалеке от себя увидел какую-то фигуру. — Кто здесь? — окликнул я. И в ответ на мой оклик я услышал голос, который заставил меня вздрогнуть: — Какой люди ходи? — Дерсу! Дерсу! — закричал я радостно и бросился к нему навстречу. Если бы в это время был посторонний наблюдатель, то он увидел бы, как два человека схватили друг друга в объятия, словно хотели бороться. Не понимая, в чём дело, моя Альпа яростно бросилась на Дерсу, но тотчас узнала его, и злобный лай её сменился ласковым визжанием. — Здравствуй, капитан! — сказал гольд, оправляясь. — Откуда ты? Как ты сюда попал? Где был? Куда идёшь? — засыпал я его своими вопросами. Он не успевал мне отвечать. Наконец мы оба успокоились и стали говорить как следует. — Моя недавно. Тадушу пришёл, — говорил он. — Моя слыхал, четыре капитана и двенадцать солдат в Шимыне (пост Ольги) есть. Моя думай, надо туда ходи. Сегодня один люди посмотри, тогда все понимай. Поговорив ещё немного, мы повернули назад к нашему биваку. Я шёл радостный и весёлый. И как было не радоваться: Дерсу был особенно мне близок. Через несколько минут мы подошли к биваку. Стрелки расступились и с любопытством стали рассматривать гольда. Дерсу нисколько не изменился и не постарел. Одет он был по-прежнему в кожаную куртку и штаны из выделанной оленьей кожи. На голове его была повязка и в руках та же самая берданка, только сошки как будто новее. С первого же раза стрелки поняли, что мы с Дерсу старые знакомые. Он повесил своё ружьё на дерево и тоже принялся меня рассматривать. По выражению его глаз, по улыбке, которая играла на его тубах, я видел, что и он доволен нашей встречей. Я велел подбросить дров в костёр и согреть чай, а сам принялся его расспрашивать, где он был и что делал за эти три года. Дерсу мне рассказал, что, расставшись со мной около озера Ханка, он пробрался на реку Ното, где ловил соболей всю зиму, весной перешёл в верховья Улахе, где охотился за пантами, а летом отправился на Фудзин, к горам Сяень-Лаза. Пришедшие сюда из поста Ольги китайцы сообщили ему, что наш отряд направляется к северу по побережью моря. Тогда он пошёл на Тадушу. Стрелки недолго сидели у огня. Они рано легли спать, а мы остались вдвоём с Дерсу и просидели всю ночь. Я живо вспомнил реку Лефу, когда он впервые пришёл к нам на бивак, и теперь опять, как и в тот раз, я смотрел на него и слушал его рассказы. Сумрачная ночь близилась к концу. Воздух начал синеть. Уже можно было разглядеть серое небо, туман в горах, сонные деревья и потемневшую от росы тропинку. Свет костра потускнел; красные уголья стали блекнуть. В природе чувствовалось какое-то напряжение; туман подымался всё выше и выше, и наконец пошёл чистый и мелкий дождь. Тогда мы легли спать. Теперь я ничего не боялся. Мне не страшны были ни хунхузы, ни дикие звери, ни глубокий снег, ни наводнения. Со мной был Дерсу. С этими мыслями я крепко уснул. Проснулся я в девять часов утра. Дождь перестал, но небо по-прежнему было сумрачное. В такую погоду скверно идти, но ещё хуже сидеть на одном месте. Поэтому приказание вьючить лошадей было встречено всеми с удовольствием. Через полчаса мы были уже в дороге. У нас с Дерсу произошло молчаливое соглашение. Я знал, что он пойдёт со мной. Это было вполне естественно. Другого решения у него и не могло явиться. По пути мы зашли к скалистой сопке и там захватили имущество Дерсу, которое по-прежнему все помещалось в одной котомке. Теперь с левой стороны у нас была река, а с правой — речные террасы в 38 метров высотой. Они особенно выдвигаются в долину Тадушу после Динзахе. Террасы эти состоят из весьма плотных известняков с плитняковой отдельностью. Последним притоком Тадушу будет Вангоу[110]. По ней можно выйти через хребет Сихотэ-Алинь на реку Ното. Немного не доходя до её устья в долину выдвигаются две скалы. Одна с левой стороны, у подножия террасы, — низкая и очень живописная, с углублением вроде ниши, в котором китайцы устроили кумирню, а другая — с правой, как раз против устья Вангоу, носящая название Ян-тун-лаза[111]. Около неё есть маленький ключик Чингоуза[112]. Скала Ян-тун-лаза высотой 110 метров. В ней много углублений, в которых гнездятся дикие голуби. На самой вершине из плитняковых камней китайцы сложили подобие кумирни. Манзы питают особую любовь к высоким местам; они думают, что, подымаясь на гору, становятся ближе к богу. Тропа привела нас к фанзе Лудевой, расположенной как раз на перекрёстке путей, идущих на Ното и на Ли-Фудзин. Раньше обитатели этой фанзы занимались ловлей оленей ямами, отчего фанза и получила такое название. Тогда она функционировала как постоялый двор. Здесь всегда можно встретить прохожих китайцев, идущих от моря на Уссури или обратно. Хозяин фанзы снабжал их продовольствием за плату и таким образом зарабатывал значительную сумму денег. Фанза была расположена у подножия большой террасы, которая сильно выдвигается в долину и прижимает Тадушу к горам с правой стороны. Поверхность террасы заболочена и покрыта группами тощей берёзы (Betula latifolia Tausch.). Лудевую фанзу мы прошли мимо и направились к Сихотэ-Алиню. Хмурившаяся с утра погода стала понемногу разъясняться. Туман, окутавший горы, начал клубиться и подыматься кверху; тяжёлая завеса туч разорвалась, выглянуло солнышко, и улыбнулась природа. Сразу все оживилось; со стороны фанзы донеслось пение петухов, засуетились птицы в лесу, на цветах снова появились насекомые. В верхней части Тадушу течёт с северо-запада на юго-восток. Истоки её состоят из мелких горных ключей, которые располагаются так: с левой стороны — Царлкоуза[113] Люденза-Янгоу[114] и Сатенгоу[115], а с правой — Безымённый и Салингоу[116]. Здесь находится самый низкий перевал через Сихотэ-Алинь. Небольшие холмы со сглаженными контурами и сильно размытые лодка ручьёв свидетельствуют о больших денудационных процессах. С реки Тадушу через Сихотэ-Алинь идут три пути: два на Ното и один на Ли-Фудзин. Первый начинается от известной уже нам Лудевой фанзы и идёт по реке Вангоу. Этой дорогой пользуются только те китайцы, которые имеют целью верховья Дананцы (приток Ното). Второй путь начинается около устья Людензы. Тропа долгое время идёт по хребту Сихотэ-Алинь, затем спускается в долину Дун-бей-цы (северовосточный приток Ли-Фудзина) и направляется по ней до истоков. По пути она пересекает ещё три перевала и только тогда выходит на Дананцу. Этой дорогой идут те пешеходы, которым надо выйти в нижнюю часть Ното. Третий путь, который мы избрали, идёт прямо по ручью Салингоу на Ли-Фудзин. Маньчжурское слово «Сихотэ-Алинь» местные китайцы переделали по-своему:«Си-хо-та Линь», то есть Перевал западных больших рек. И действительно, к западу от водораздела текут большие реки: Ваку, Иман, Бикин, Хор и т. д. Гольды называют его Дзуб-Гын, а удэгейцы — Ада-Сололи, причём западный его склон они называют Ада-Цазани, а восточный — Ада-Намузани, от слова «наму», что значит — море. У подножия хребта мы сделали привал. Сухая рыба с солью, пара сухарей и кружка горячего кофе составили обед, который в тайге называется очень хорошим. Подъём на Сихотэ-Алинь крутой около гребня. Самый перевал представляет собой широкую седловину, заболоченную и покрытую выгоревшим лесом. Абсолютная высота его равняется 480 метрам. Его следовало бы назвать именем М. Венюкова. Он прошёл здесь в 1857 году, а следом за ним, как по проторённой дорожке, пошли и другие. Вечная слава первому исследователю Уссурийского края! На самом перевале около тропы с правой стороны стоит небольшая кумирня, сложенная из накатника. Внутри её помещена лубочная картина, изображающая китайских богов, а перед ней поставлены два деревянных ящика с огарками от бумажных свечей. С другой стороны лежало несколько листочков табаку и два куска сахару. Это жертва боту лесов. На соседнем дереве была повешена красная тряпица с надписью: «Шань мэн чжен вэй Си-жи-Ци-го вэй да суай Цзин цзан да-цин чжэнь шань-линь», то есть: «Господину истинному духу гор (тигру). В древности в государстве Ни он был главнокомандующим Да-циньской династии, а ныне охраняет леса и горы». От перевала Венюкова Сихотэ-Алинь имеет вид гряды, медленно повышающейся на север. Этот подъем так незаметен для глаза, что во время пути совершенно забываешь, что идёшь по хребту, и только склоны по сторонам напоминают о том, что находишься на водоразделе. Места эти покрыты березняком, которому можно дать не более сорока лет. Он, вероятно, появился здесь после пожаров. Спуск с хребта длинный и пологий. Идя по траве, то и дело натыкаешься на обгорелые, поваленные деревья. Сейчас же за перевалом начинается болото, покрытое замшистым хвойным лесом. Часам к трём пополудни мы дошли до того места, где Ли-Фудзин сливается с Дун-бей-цой, и стали биваком на галечниковой отмели. Река Дун-бей-ца[117] длиной километров сорок. Она всё время течёт вдоль Сихотэ-Алиня и в верховьях слагается из трёх горных ручьёв. Следы эрозии видны на каждом шагу. Местами горы так сильно размыты, что за лесом их совсем не видно: является впечатление, что идёшь по слабо всхолмлённой низине, покрытой хвойным лесом, состоящим из пихты, ели, кедра, берёзы, тиса, клёна, лиственницы и ольхи. Недавно этот лес выгорел. Теперь вся долина представляет собой сплошную гарь. Здесь проходит та самая тропа, которой местное манзовское население пользуется для сообщения с рекой Ното. По пути на расстоянии перехода друг от друга были расположены четыре зверовые фанзы, обитатели которых занимались охотой и соболеванием. Первое, что мы сделали, — развели дымокуры, а затем уже принялись таскать дрова из леса. Стрелки хотели было ночевать в комарниках, но Дерсу посоветовал ставить односкатную палатку. К вечеру погода начала хмуриться; туман поднялся вверх и превратился в тучи. Дерсу помогал солдатам во всех работах, и они сразу его оценили. Он хотел было ставить свою палатку отдельно, но я уговорил его ночевать вместе. Тогда Дерсу схватил топор и побежал в тайгу за кедровым корьём. Сперва он надрубил у дерева кору сверху и снизу зубцами, затем прорубил её вдоль и стал снимать заострённой палкой. Таких пластов было снято шесть. Два пласта он положил на землю, два пошли на крышу, а остальные поставил с боков для защиты от ветра. В сумерки пошёл крупный дождь. Комары и мошки сразу куда-то исчезли. После ужина стрелки легли спать, а мы с Дерсу долго ещё сидели у огня и разговаривали. Он рассказывал мне о жизни китайцев на Ното, рассказывал о том, как они его обидели — отобрали меха и ничего не заплатили.
Глава 18 Амба

Анимизм Дерсу. — Тигр-преследователь. — Дерсу говорит со зверем. — Квандагоу. — Охота на солонцах. — Дерсу просит тигра не сердиться. — Возвращение. — Волнение гольда. — Ночь
На другой день густой, тяжёлый туман окутывал все окрестности. День казался серым, пасмурным; было холодно, сыро. Пока люди собирали имущество и вьючили лошадей, мы с Дерсу, наскоро напившись чаю и захватив в карман по сухарю, пошли вперёд. Обыкновенно по утрам я всегда уходил с бивака раньше других. Производя маршрутные съёмки, я подвигался настолько медленно, что часа через два отряд меня обгонял и на большой привал я приходил уже тогда, когда люди успевали поесть и снова собирались в дорогу. То же самое было и после полудня: уходил я раньше, а на бивак приходил лишь к обеду. Ещё накануне Дерсу говорил мне, что в этих местах бродит много тигров, и потому не советовал отставать от отряда. Путь наш лежал правым берегом Ли-Фудзина. Иногда тропинка отходила в сторону, углубляясь в лес настолько, что трудно было ориентироваться и указать, где течёт Ли-Фудзин, но совершенно неожиданно мы снова выходили на реку и шли около береговых обрывов.

Кто не бывал в тайге Уссурийского края, тот не может себе представить, какая это чаща, какие это заросли. Буквально в нескольких шагах ничего нельзя увидеть. В четырёх или шести метрах не раз случалось подымать с лёжки зверя, и только шум и треск сучьев указывали направление, в котором уходило животное. Вот именно по такой-то тайге мы и шли уже подряд в течение двух суток. Погода нам не благоприятствовала. Всё время моросило, на дорожке стояли лужи, трава была мокрая, с деревьев падали редкие крупные капли. В лесу стояла удивительная тишина. Точно все вымерло. Даже дятлы и те куда-то исчезли. — Чёрт знает что за погода, — говорил я своему спутнику. — Не то туман, не то дождь, не разберёшь, право. Ты как думаешь, Дерсу, разгуляется погода или станет ещё хуже? Гольд посмотрел на небо, оглянулся кругом и молча пошёл дальше. Через минуту он остановился и сказал: — Наша так думай: это земля, сопка, лес — всё равно люди. Его теперь потеет. Слушай! — Он насторожился. — Его дышит, всё равно люди… Он пошёл снова вперёд и долго ещё говорил мне о своих воззрениях на природу, где всё было живым, как люди. Было уже около одиннадцати часов утра. Судя по времени, вьючный обоз должен был давно уже обогнать нас, а между тем сзади, в тайге, ничего не было слышно. — Надо подождать! — сказал я своему спутнику. Он молча остановился, снял с плеча свою берданку, приставил её к дереву, сошки воткнул в землю и стал искать свою трубку. — Тьфу! Моя трубку потерял, — сказал он с досадой. Он хотел идти назад и искать свою трубку, но я советовал ему подождать, в надежде, что люди, идущие сзади, найдут его трубку и принесут с собой. Мы простояли минут двадцать. Старику, видимо, очень хотелось курить. Наконец он не выдержал, взял ружьё и сказал: — Моя думай, трубка тут близко есть. Надо назад ходи. Обеспокоенный тем, что вьюков нет долго, и опасаясь, что с лошадьми могло что-нибудь случиться, я вместе с Дерсу пошёл назад. Гольд шёл впереди и, как всегда, качал головой и рассуждал вслух сам с собой: — Как это моя трубка потерял? Али старый стал, али моя голова худой, али как?… Он не докончил фразы, остановился на полуслове, затем попятился назад и, нагнувшись к земле, стал рассматривать что-то у себя под ногами. Я подошёл к нему. Дерсу озирался, имел несколько смущённый вид и говорил шёпотом: — Посмотри, капитан, это амба. Его сзади наши ходи. Это шибко худо. След совсем свежий. Его сейчас тут был… Действительно, совершенно свежие отпечатки большой кошачьей лапы отчётливо виднелись на грязной тропинке. Когда мы шли сюда, следов на дороге не было. Я это отлично помнил, да и Дерсу не мог бы пройти их мимо. Теперь же, когда мы повернули назад и пошли навстречу отряду, появились следы: они направлялись в нашу сторону. Очевидно, зверь всё время шёл за нами «по пятам». — Его близко тут прятался, — сказал Дерсу, указав рукой в правую сторону. — Его долго тут стоял, когда наша там остановился, моя трубка искал. Наша назад ходи, его тогда скоро прыгал. Посмотри, капитан, в следах воды ещё нету… Действительно, несмотря на то что кругом всюду были лужи, вода ещё не успела наполнить следы, выдавленные лапой тигра. Не было сомнения, что страшный хищник только что стоял здесь и затем, когда услышал наши шаги, бросился в чащу и спрятался где-нибудь за буреломом. — Его далеко ходи нету. Моя хорошо понимай. Погоди, капитан!… Несколько минут мы простояли на одном месте в надежде, что какой-нибудь шорох выдаст присутствие тигра, но тишина была гробовая. Эта тишина была какой-то особенно таинственной, страшной. — Капитан, — обратился ко мне Дерсу, — теперь надо хорошо смотри. Твоя винтовка патроны есть? Тихонько надо ходи. Какая ямка, какое дерево на земле лежи, надо хорошо посмотри. Торопиться не надо. Это — амба. Твоя понимай — амба!… Говоря это, он сам осматривал каждый куст и каждое дерево. Так прошли мы около получаса. Дерсу всё время шёл впереди и не спускал глаз с тропинки. Наконец мы услышали голоса: кто-то из казаков ругал лошадь. Через несколько минут подошли люди с конями. Две лошади были в грязи. Седла тоже были замазаны глиной. Оказалось, что при переправе через одну проточку обе лошади оступились и завязли в болоте. Это и было причиной их запоздания. Как я и думал, стрелки нашли трубку Дерсу на тропе и принесли её с собой. Чтобы идти дальше, нужно было поправить вьюки, переложить грузы и хоть немного обмыть лошадей от грязи. Я хотел было сделать привал и варить чай, но Дерсу посоветовал поправить одну седловку и идти дальше. Он говорил, что где-то недалеко в этих местах есть охотничий балаган. Там он полагал остановиться биваком. Подумав немного, я согласился. Люди начали снимать с измученных лошадей вьюки, а я с Дерсу снова пошёл по дорожке. Не успели мы сделать и двухсот шагов, как снова наткнулись на следы тигра. Страшный зверь опять шёл за нами и опять, как и в первый раз, почуяв наше приближение, уклонился от встречи. Дерсу остановился и, оборотившись лицом в ту сторону, куда скрылся тигр, закричал громким голосом, в котором я заметил нотки негодования: — Что ходишь сзади?… Что нужно тебе, амба? Что ты хочешь? Наша дорога ходи, тебе мешай нету. Как твоя сзади ходи? Неужели в тайге места мало? Он потрясал в воздухе своей винтовкой. В таком возбуждённом состоянии я никогда его не видывал. В глазах Дерсу была видна глубокая вера в то, что тигр, амба, слышит и понимает его слова. Он был уверен, что тигр или примет вызов, или оставит нас в покое и уйдёт в другое место. Прождав минут пять, старик облегчённо вздохнул, затем закурил свою трубку и, взбросив винтовку на плечо, уверенно пошёл дальше по тропинке. Лицо его снова стало равнодушно-сосредоточенным. Он «устыдил» тигра и заставил его удалиться. Приблизительно ещё с час мы шли лесом. Вдруг чаща начала редеть. Перед нами открылась большая поляна. Тропа перерезала её наискось по диагонали. Продолжительное путешествие по тайге сильно нас утомило. Глаз искал отдыха и простора. Поэтому можно себе представить, с какой радостью мы вышли из леса и стали осматривать поляну. — Это Квандагоу, — сказал Дерсу. — Скоро наша балаган найди есть. Елань, по которой мы теперь шли, была покрыта зарослями низкорослого папоротника-орляка. За лесом с северной стороны, слабо, сквозь туман, виднелись высокие горы, покрытые лесом. По низине кое-где стояли одиночные деревья, преимущественно клён, дуб и даурская берёза. С правой стороны поляны было узкое болото с солонцами, куда, по словам Дерсу, постоянно по ночам выходили изюбры и дикие козы, чтобы полакомиться водяным лютиком и погрызть солёную чёрную землю. — Надо наша сегодня на охоту ходи, — говорил Дерсу, показывая сошками на болото. Часам к трём пополудни мы действительно нашли двускатный балаганчик. Сделан он был из кедрового корья какими-то охотниками так, что дым от костра, разложенного внутри, выходил по обе стороны и не позволял комарам проникнуть внутрь помещения. Около балагана протекал небольшой ручей. Пришлось опять долго возиться с переправой лошадей на другой берег, но наконец и это препятствие было преодолено. Между тем погода по-прежнему, как выражался Дерсу, «потела». С утра хмурившееся небо начало как бы немного проясняться. Туман поднялся выше, кое-где появились просветы, дождь перестал, но на земле было ещё по-прежнему сыро. Я решил остаться здесь на ночь. Мне очень хотелось поохотиться на солонцах, тем более что у нас давно не было мяса и мы уже четвертью сутки питались одними сухарями. Через несколько минут на биваке закипела та весёлая и слепшая работа, которая знакома всякому, кому приходилось подолгу бывать в тайге и вести страннический образ жизни. Развьюченные лошади были пущены на волю. Как только с них сняли седла, они сперва повалялись на земле, потом, отряхнувшись, пошли на поляну кормиться. На случай дождя все вьюки сложили в одно место и прикрыли их брезентами. Пока возились с лошадьми и разбирали седла, кто-то успел уже разложить костёр и повесить над огнём чайник. На биваке Дерсу проявлял всегда удивительную энергию. Он бегал от одного дерева к другому, снимал бересту, рубил жерди и сошки, ставил палатку, сушил свою и чужую одежду и старался разложить огонь так, чтобы внутри балагана можно было сидеть и не страдать от дыма глазами. Я всегда удивлялся, как успевал этот уже старый человек делать сразу несколько дел. Мы давно уже разулись и отдыхали, а Дерсу все ещё хлопотал около балагана. Через час наблюдатель со стороны увидел бы такую картину: на поляне около ручья пасутся лошади; спины их мокры от дождя. Дым от костров не подымается кверху, а стелется низко над землёй и кажется неподвижным. Спасаясь от комаров и мошек, все люди спрятались в балаган. Один только человек все ещё торопливо бегает по лесу — это Дерсу: он хлопочет о заготовке дров на ночь. В августе, да ещё в пасмурный день, смеркается очень рано. Так было и теперь. Туман держался только по вершинам гор. Клочья его бродили по кустам и казались привидениями. Наскоро поужинав, мы пошли с Дерсу на охоту. Путь наш лежал по тропинке к биваку, а оттуда наискось к солонцам около леса. Множество следов изюбров и диких коз было заметно по всему лугу. Черноватая земля солонцов была почти совершенно лишена растительности. Малые низкорослые деревья, окружавшие их, имели чахлый и болезненный вид. Здесь местами земля была сильно истоптана. Видно было, что изюбры постоянно приходили сюда и в одиночку и целыми стадами. Выбрав удобное местечко, мы сели и стали поджидать зверя. Я прислонился к пню и стал осматриваться. Темнота быстро сгущалась около кустов и внизу под деревьями. Дерсу долго не мог успокоиться. Он ломал сучки, чтобы открыть себе обстрел, и зачем-то пригибал растущую позади него берёзку. Кругом в лесу и на поляне стояла мертвящая тишина, нарушаемая только однообразным жужжанием комаров. Такая тишина как-то особенно гнетуще действует на душу. Невольно сам уходишь в неё, подчиняешься ей, и, кажется, сил не хватило бы нарушить её словом или каким-нибудь неосторожным движением. В воздухе и на земле становилось всё темнее и темнее. Кусты и деревья начали принимать неопределённые очертания: они казались живыми существами и как будто передвигались с одного места на другое. Порой мне грезилось, что это олени; фантазия дополняла остальное. Я сжимал ружьё в руках и готов был уже выстрелить, но каждый раз, взглянув на спокойное лицо Дерсу, я приходил в себя. Иллюзия сразу пропадала, и тёмный силуэт оленя снова принимал фигуру куста или дерева. Как мраморное изваяние сидел Дерсу. Он пытливо смотрел на кусты около солонцов и спокойно выжидал свою добычу. Один раз он вдруг насторожился, тихонько поднял своё ружьё и стал напрягать зрение. Сердце моё усиленно забилось. Я тоже стал смотреть в ту сторону, куда смотрел старик, но ничего не видел. Скоро я заметил, что Дерсу успокоился; успокоился и я также. Стало совсем темно, так темно, что в нескольких шагах нельзя уже было рассмотреть ни чёрной земли на солонцах, ни тёмных силуэтов деревьев. Комары нестерпимо кусали шею и руки. Я прикрыл лицо сеткой. Дерсу сидел без сетки и, казалось, совершенно не замечал их укусов. Вдруг до слуха моего донёсся шорох. Я не ошибся. Шорох исходил из кустов, находящихся по другую сторону солонцов, как раз против того места, где мы сидели. Я посмотрел на Дерсу. Он пригибал голову и, казалось, силой своего зрения хотел проникнуть сквозь темноту и узнать причину этого шума. Иногда шорох усиливался и становился очень явственным, иногда затихал и прекращался совершенно. Сомнений не было: кто-то осторожно приближался к нам через заросли. Это изюбр шёл грызть и лизать солёную землю. Моё воображение рисовало уже стройного оленя с красивыми ветвистыми рогами. Я отбросил сетку, стал слушать и смотреть, совершенно позабыв про комаров. Я искал глазами изюбра, который, по моим расчётам, был от нас в семидесяти иди восьмидесяти шагах, не более. Вдруг грозное ворчание, похожее на отдалённый гром, пронеслось в воздухе: — Рррррр!… Дерсу схватил меня за руку. — Амба, капитан! — сказал он испуганным голосом. Жуткое чувство сразу всколыхнуло моё сердце. Я хотел бы передать, что я почувствовал, но едва ли я сумею это сделать. Я почувствовал, как какая-то истома, какая-то тяжесть стала опускаться мне в ноги. Колени заныли, точно в них налили свинец. Ощущение это знакомо всякому, кому случалось неожиданно чего-нибудь сильно испугаться. Но в то же время другое чувство, чувство, смешанное с любопытством, с благоговением к царственному грозному зверю и с охотничьей страстью, наполнило мою душу. — Худо! Наша напрасно сюда ходи. Амба сердится! Это его место, — говорил Дерсу, и я не знаю, говорил ли он сам с собою или обращался ко мне. Мне показалось, что он испугался. — Рррррр!… — снова раздалось в ночной тишине. Вдруг Дерсу быстро поднялся с места. Я думал, он хочет стрелять. Но велико было изумление, когда я увидел, что в руках у него не было винтовки, и когда я услышал речь, с которой он обратился к тигру: — Хорошо, хорошо, амба! Не надо сердиться, не надо!… Это твоё место. Наша это не знал. Наша сейчас другое место ходи. В тайге места много. Сердиться не надо!… Гольд стоял, протянув руки к зверю. Вдруг он опустился на колени, дважды поклонился в землю и вполголоса что-то стал говорить на своём наречии. Мне почему-то стало жаль старика. Наконец Дерсу медленно поднялся, подошёл к пню и взял свою берданку. — Пойдём, капитан! — сказал он решительно и, не дожидаясь моего ответа, быстро через заросли пошёл на тропинку. Я безотчётно последовал за ним. Спокойный вид Дерсу, уверенность, с какой он шёл без опаски и не озираясь, успокоили меня: я почувствовал, что тигр не пойдёт за нами и не решится сделать нападение. Пройдя шагов двести, я остановился и стал уговаривать старика подождать ещё немного. — Нет, — сказал Дерсу, — моя не могу. Моя тебе вперёд говори, в компании стрелять амба никогда не буду! Твоя хорошо это слушай. Амба стреляй — моя товарищ нету… Он снова молча зашагал по тропинке. Я хотел было остаться один, но жуткое чувство овладело мною, я побежал и догнал гольда. Начинала всходить луна. И на небе и на земле сразу стало светлее. Далеко, на другом конце поляны, мелькал огонёк нашего бивака. Он то замирал, то как будто угасал на время, то вдруг снова разгорался яркой звёздочкой. Всю дорогу мы шли молча. У каждого из нас были свои думы, свои воспоминания. Жаль мне было, что я не увидел тигра. Эту мысль я вслух высказал своему спутнику. — О, нет! — ответил Дерсу. — Его худо посмотри. Наша так говори. Такой люди, который никогда амба посмотри нету, — счастливый. Его всегда хорошо живи. Дерсу глубоко вздохнул, помолчал немного и продолжал: — Моя много амба посмотри. Один раз напрасно его стреляй. Теперь моя шибко боится. Однако моя когда-нибудь худо будет! В словах старика было столько душевного волнения, что я опять стал жалеть его, начал успокаивать и старался перевести разговор на другую тему. Через час мы подошли к биваку. Лошади, испуганные нашим приближением, шарахнулись в сторону и начали храпеть. Около огня засуетились люди. Два казака вышли нам навстречу. — Сегодня кони всё время чего-то боятся, — сказал один из них. — Не едят, все куда-то смотрят. Нет ли какого зверя поблизости? Я приказал казакам взять коней на поводки, развести костры и выставить вооружённого часового. Весь вечер молчал Дерсу. Встреча с тигром произвела на него сильное впечатление. После ужина он тотчас же лёг спать, и я заметил, что он долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок и как будто разговаривал сам с собой. Я рассказал людям, что случилось с нами. Казаки оживились, начали вспоминать свою жизнь на Уссури, свои приключения на охоте, кто что видел и с кем что случилось. Наши разговоры затянулись далеко за полночь. Наконец усталость начала брать своё: кто-то зевнул, кто-то начал стлать постель и укладываться на ночь. Через несколько минут в балагане все уже спали. Кругом воцарилась тишина. Слышно было только мерное дыхание спящих да треск горящих сучьев в костре. С поля доносилось пофыркиванье лошадей, в лесу ухал филин, и где-то далеко-далеко кричал сыч-воробей.
Глава 19 Ли-Фудзин

Леса. — Содержимое котомки Дерсу. — Приспособленность к жизни в тайге. — Поляны Сяень-Лаза. — Родные могилы — Заживо погребённые. — Река Поугоу. — Барсук. — Нападение шершней. — Лекарственное растение
Чуть только начало светать, наш бивак опять атаковали комары. О сне нечего было и думать. Точно по команде все встали. Казаки быстро завьючили коней; не пивши чаю, тронулись в путь. С восходом солнца туман начал рассеиваться; кое-где проглянуло синее небо. От устья реки Квандагоу Ли-Фудзин начинает понемногу склоняться к северо-западу. Дальше русло его становится извилистым. Обрывистые берега и отмели располагаются, чередуясь, то с той, то с другой стороны. В долине Ли-Фудзина растут великолепные смешанные леса. Тут можно найти всех представителей маньчжурской флоры. Кроме кедра, лиственницы, пихты, ели, вяза, дуба, ясеня, ореха и пробкового дерева, здесь произрастают: жёлтая берёза (Betula costata Trautv.) с желтовато-зелёной листвой и с жёлтой пушистой корой, не дающей бересты; особый вид клёна (Acer barbinerve Maxim.) — развесистое дерево с гладкой тёмно-серой корой, с желтоватыми молодыми ветвями и с глубоко рассечёнными листьями; затем ильм (Ulmus montana Wither) — высокое стройное дерево, имеющее широкую развесистую крону и острые шершавые листья; граб (Carpinus cordata Blume), отличающийся от других деревьев тёмной корой и цветами, висящими, как кисти; черёмуха Максимовича (Prunus Maximoviczii К.) с пригнутыми к земле ветвями, образующими непроходимую чащу, и наконец бересклет (Euonymus macroptera Rupr.) — небольшое тонкоствольное деревцо с корой, покрытой беловатыми чечевицами, располагающимися продольными рядками, и с листьями удлинённо-обратноовальными. Около реки и вообще по сырым местам, где больше света, росли: козья ива (Salix caprea L.) — полукуст-полудерево; маньчжурская смородина (Ribes mandschuricum Kom.) с трёхлопастными острозубчатыми листьями; таволожка шелковистая (Spiroae media Schmidt) — очень ветвистый кустарник, который легко узнать по узким листьям, любящий каменистую почву; жасмин (Philadelphus tenuifohus Rupr. et Maxim.) — теневое растение с красивыми сердцевидными, заострёнными листьями и белыми цветами и ползучий лимонник (Schisndra chinensis Baill.) с тёмной крупной листвой и красными ягодами, цепляющийся по кустам и деревьям. Лес, растущий около воды, скорее способствует обрушиванию берегов, чем их закреплению. Большое дерево, подмытое водой, при падении своём увлекает огромную глыбу земли, а вместе с ней и деревья, растущие поблизости. Бурелом этот плывёт по реке до тех пор, пока не застрянет где-нибудь в протоке. Тотчас вода начинает заносить его песком и галькой. Нередко можно видеть водопады, основанием которых служат гигантские стволы тополей или кедров. Если такому плавнику посчастливится пройти через перекаты, то до устья дойдёт только ствол, измочаленный и лишённый коры и веток. В среднем течении Ли-Фудзин проходит у подножия так называемых Чёрных скал. Здесь река разбивается на несколько проток, которые имеют вязкое дно и илистые берега. Вследствие засорённости главного русла вода не успевает пройти через протоки и затопляет весь лес. Тогда сообщение по тропе прекращается. Путники, которых случайно застанет здесь непогода, карабкаются через скалы и в течение целого дня успевают пройти не более трёх или четырёх километров. В полдень мы остановились на большой привал и стали варить чай. При выходе из поста Ольги С. 3. Балк дал мне бутылку с ромом. Ром этот я берег как лекарство и давал его стрелкам пить с чаем в ненастные дни. Теперь в бутылке осталось только несколько капель. Чтобы не нести напрасно посуды, я вылил остатки рома в чай и кинул её в траву. Дерсу стремглав бросился за ней. — Как можно её бросай? Где в тайге другую бутылку найди? — воскликнул он, развязывая свою котомку. Действительно, для меня, горожанина, пустая бутылка никакой цены не имела. Но для дикаря, живущего в лесу, она составляла большую ценность. По мере того как он вынимал свои вещи из котомки, я всё больше и больше изумлялся. Чего тут только не было: порожний мешок из-под муки, две старенькие рубашки, свиток тонких ремней, пучок верёвок, старые унты, гильзы от ружья, пороховница, свинец, коробочка с капсулями, полотнище палатки, козья шкура, кусок кирпичного чая вместе с листовым табаком, банка из-под консервов, шило, маленький топор, жестяная коробочка, спички, кремень, огниво, трут, смольё для растопок, береста, ещё какая-то баночка, кружка, маленький котелок, туземный кривой ножик, жильные нитки, две иголки, пустая катушка, какая-то сухая трава, кабанья желчь, зубы и когти медведя, копытца кабарги и рысьи кости, нанизанные на верёвочку две медные пуговицы и множество разного хлама. Среди этих вещей я узнал такие, которые я раньше бросал по дороге. Очевидно, всё это он подбирал и нёс с собой. Осматривая его вещи, я рассортировал их на две части и добрую половину посоветовал выбросить. Дерсу взмолился. Он просил ничего не трогать и доказывал, что потом всё может пригодиться. Я не стал настаивать и решил впредь ничего не бросать, прежде чем не спрошу на это его согласия. Точно боясь, чтобы у него не отняли чего-нибудь, Дерсу спешно собрал свою котомку и особенно старательно спрятал бутылку. Около Чёрных скал тропа разделилась. Одна (правая) пошла в горы в обход опасного места, а другая направилась куда-то через реку. Дерсу, хорошо знающий эти места, указал на правую тропу. Левая, по его словам, идёт только до зверовой фанзы Цу-жунь-гоу[118] и там кончается. Сразу с привала начинается подъем, но до самой вершины тропа не доходит. С километр она идёт косогором, а затем опять спускается в долину. К вечеру небо снова заволокло тучами. Я опасался дождя, но Дерсу сказал, что это не туча, а туман и что завтра будет день солнечный, даже жаркий. Я знал, что его предсказания всегда сбываются, и потому спросил его о приметах. — Моя так посмотри, думай — воздух лёгкий, тяжело нету, — гольд вздохнул и показал себе на грудь. Он так сжился с природой, что органически всем своим существом мог предчувствовать перемену погоды. Как будто для этого у него было ещё шестое чувство. Дерсу удивительно приспособился к жизни в тайге. Место для своего ночлега он выбирал где-нибудь под деревом между двумя корнями, так что дупло защищало его от ветра; под себя он подстилал кору пробкового дерева, на сучок где-нибудь вешал унты так, чтобы их не спалило огнём. Винтовка тоже была — рядом с ним, но она лежала не на земле, а покоилась на двух коротеньких сошках. Дрова у него всегда горели лучше, чем у нас. Они не бросали искр, и дым от костра относило в сторону. Если ветер начинал меняться, он с подветренной стороны ставил заслон. Все у него было к месту и под рукой. По отношению к человеку природа безжалостна. После короткой ласки она вдруг нападает и как будто нарочно старается подчеркнуть его беспомощность. Путешественнику постоянно приходится иметь дело со стихиями: дождь, ветер, наводнение, гнус, болота, холод, снег и т. д. Далее самый лес представляет собой стихию. Дерсу больше нас был в соответствии с окружающей его обстановкой. Следующий день — 7 августа. Как только взошло солнце, туман начал рассеиваться, и через какие-нибудь полчаса на небе не было ни одного облачка. Роса перед рассветом обильно смочила траву, кусты и деревья. Дерсу не было на биваке. Он ходил на охоту, но неудачно, и возвратился обратно как раз ко времени выступления. Мы сейчас же тронулись в путь. По дороге Дерсу рассказал мне, что исстари к западу от Сихотэ-Алиня жили гольды, а с восточной стороны — удэгейцы, но потом там появились охотники-китайцы. Действительно, манзовские охотничьи шалаши встречались во множестве. Можно было так соразмерить свой путь, чтобы каждый раз ночевать в балагане. Километров через десять нам пришлось ещё раз переправляться через реку, которая разбилась на множество проток, образуя низкие острова, заросшие лесом. Слои ила, бурелом, рытвины и пригнутый к земле кустарник — всё это указывало на недавнее большое наводнение. Вдруг лес сразу кончился, и мы вышли к полянам, которые китайцы называют Сяень-Лаза. Их три: первая — длиной в 2 километра, вторая — метров в 500 и третья — самая большая, занимающая площадь в 6 квадратных километров. Поляны эти отделены друг от друга небольшими перелесками. Здесь происходит слияние Ли-Фудзина с рекой Синанцей, по которой мы прошли первый раз через Сихотэ-Алинь к посту Ольги. Выйдя из леса, река отклоняется сначала влево, а затем около большой поляны снова пересекает долину и подходит к горам с правой стороны. Дальше мы не пошли и стали биваком на берегу реки, среди дубового редколесья. Возвратившиеся с разведок казаки сообщили, что видели много звериных следов, и стали проситься на охоту. Днём четвероногие обитатели тайги забиваются в чащу, но перед сумерками начинают подыматься со своих лежек. Сначала они бродят по опушкам леса, а когда ночная мгла окутает землю, выходят пастись на поляны. Казаки не стали дожидаться сумерек и пошли тотчас, как только развьючили лошадей и убрали седла. На биваке остались мы вдвоём с Дерсу. Сегодня я заметил, что он весь день был как-то особенно рассеян. Иногда он садился в стороне и о чём-то напряжённо думал. Он опускал руки и смотрел куда-то вдаль. На вопрос, не болен ли он, старик отрицательно качал головой, хватался за топор и, видимо, всячески старался отогнать от себя какие-то тяжёлые мысли. Прошло два с половиной часа. Удлинившиеся до невероятных размеров тени на земле указывали, что солнце уже дошло до горизонта. Пора было идти на охоту. Я окликнул Дерсу. Он точно чего-то испугался. — Капитан, — сказал он мне, и в голосе его зазвучали просительные ноты, — моя не могу сегодня охота ходи. Там, — он указал рукой в лес, — помирай есть моя жена и мои дети. Потом он стал говорить, что по их обычаю на могилы покойников нельзя ходить, нельзя вблизи стрелять, рубить лес, собирать ягоды и мять траву — нельзя нарушать покой усопших. Я понял причину его тоски, и мне жаль стало старика. Я сказал ему, что совсем не пойду на охоту и останусь с ним на биваке. В сумерки я услышал три выстрела — и обрадовался. Охотники стреляли далеко в стороне от того места, где находились могилы. Когда совсем смерклось, возвратились казаки и принесли с собой козулю. После ужина мы рано легли спать. Два раза я просыпался ночью и видел Дерсу, сидящего у огня в одиночестве. Утром мне доложили, что Дерсу куда-то исчез. Вещи его и ружьё остались на месте. Это означало, что он вернётся. В ожидании его я пошёл побродить по поляне и незаметно подошёл к реке. На берегу её около большого камня я застал гольда. Он неподвижно сидел на земле и смотрел в воду. Я окликнул его. Он повернул ко мне своё лицо. Видно было, что он провёл бессонную ночь. — Пойдём, Дерсу! — обратился я к нему. — Тут раньше моя живи, раньше здесь юрта была и амбар. Давно сгорели. Отец, мать тоже здесь раньше жили… Он не докончил фразы, встал и, махнув рукой, молча пошёл на бивак. Там всё уже было готово к выступлению; казаки ждали только нашего возвращения. От места слияния Ли-Фудзина с Синанцей начинается Фудзин. Горы с левой стороны состоят из выветрелого туфа и кварцевого порфира. Прилегающая часть долины покрыта лесом, заболоченным и заваленным колодником. Поэтому тропа здесь идёт косогорами в полгоры, а километра через два опять спускается в долину. Вскоре после полудня мы дошли до знакомой нам фанзы Иолайзы. Когда мы проходили мимо тазовских фанз, Дерсу зашёл к туземцам. К вечеру он прибежал испуганный и сообщил страшную новость: два дня тому назад по приговору китайского суда заживо были похоронены в земле китаец и молодой таз. Такое жестокое наказание они понесли за то, что из мести убили своего кредитора. Погребение состоялось в лесу, в расстоянии одного километра от последних фанз. Мы бегали с Дерсу на одно место и увидели там два невысоких холмика земли. Над каждой могилой была поставлена доска, на которой тушью были написаны фамилии погребённых. Усопшие уже не нуждались в нашей помощи, да и что могли сделать мы вчетвером среди хорошо вооружённых китайских охотников? Я полагал провести в фанзе Иолайза два дня, но теперь это место мне стало противным. Мы решили уйти подальше и где-нибудь в лесу остановиться на днёвку. Вместе с Дерсу мы выработали такой план: с реки Фудзина пойти на Ното, подняться до её истоков, перевалить через Сихотэ-Алинь и по реке Вангоу снова выйти на Тадушу. Дерсу знал эти места очень хорошо, и потому расспрашивать китайцев о дороге не было надобности. Утром 8 августа мы оставили Фудзин — это ужасное место. От фанзы Иолайза мы вернулись сначала к горам Сяень-Лаза, а оттуда пошли прямо на север по небольшой речке Поутоу, что в переводе на русский язык значит «козья долина». Проводить нас немного вызвался один пожилой таз. Он всё время шёл с Дерсу и что-то рассказывал ему вполголоса. Впоследствии я узнал, что они были старые знакомые и таз собирался тайно переселиться с Фудзина куда-нибудь на побережье моря. Расставаясь с ним, Дерсу в знак дружбы подарил ему ту самую бутылку, которую я бросил на Ли-Фудзине. Надо было видеть, с какой довольной улыбкой таз принял от него этот подарок. Долина реки Поугоу представляет собой довольно широкий распадок. Множество горных ключей впадает в него с той и с другой стороны. Пологие холмы и высокие реки, вдающиеся в долину с боков, покрыты редким лиственным лесом и кустарниковой порослью. Это и есть самые любимые места диких козуль. После полудня Дерсу нашёл маленькую тропку, которая вела нас к перевалу, покрытому густым лесом. Здесь было много барсучьих нор. Одни из них были старые, другие — совсем свежие. В некоторых норах поселились лисицы, что можно было узнать по следам на песке. Отряд наш несколько отстал, а мы с Дерсу шли впереди и говорили между собой. Вдруг шагах в тридцати от себя я увидел, что в зарослях кто-то шевелится. Это оказался барсук (Meles amurensis Schrenski; по Бихнеру — М. anacuma amurensis), близкородственный японскому барсуку и распространённый по всему краю. Окраска его буро-серая с черным, морда белесоватая с продольными тёмными полосами около глаз. Барсук — животное всеядное, ведущее одиночную жизнь. Китайцы и инородцы специально за ним не охотятся, но бьют, если попадается под выстрелы. Шкура его, покрытая жёсткими волосами, употребляется ими на чехлы к ружьям и оторочку сумок. Замеченный мною барсук часто подымался на задние ноги и старался что-то достать, но что именно — я рассмотреть никак не мог. Он так был занят своим делом, что совершенно не замечал нас. Долго мы следили за ним, наконец мне наскучило это занятие, и я пошёл вперёд. Испуганный шумом, барсук бросился в сторону и быстро исчез из виду. Придя на то место, где было животное, я остановился и стал осматриваться. Вдруг я услышал крики Дерсу. Он махал руками и давал мне понять, чтобы я скорее отходил назад. В это время я почувствовал сильную боль в плече. Схватив рукой больное место, я поймал какое-то крупное насекомое. Оно тотчас ужалило меня в руку. Тут только я заметил на кусте бузины совсем рядом с собой большое гнездо шершней. Я бросился бежать и стал ругаться. Несколько насекомых погнались за мной следом. — Погоди, капитан, — сказал Дерсу, вынимая топор из котомки. Выбрав тонкое дерево, он срубил его и очистил от веток. Потом набрал бересты и привязал её к концу жерди. Когда шершни успокоились, он зажёг бересту и поднёс её под самое гнездо. Оно вспыхнуло, как бумага. Подпаливая шершней, Дерсу приговаривал: — Что, будешь нашего капитана кусать? Покончив с шершнями, он побежал опять в лес, нарвал какой-то травы, и, растерев её на лезвии топора, приложил мне на больные места, а сверху прикрыл кусочками мягкой бересты и обвязал тряпицами. Минут через десять боль стала утихать. Я просил его показать мне эту траву. Он опять сходил в лес и принёс растение, которое оказалось маньчжурским ломоносом (Clematis manshurica Rupr.). Дерсу сообщил мне, что трава эта также помогает и от укусов змей, что эту-то именно траву и едят собаки. Она вызывает обильное выделение слюны; слюна, смешанная с соком травы, при зализывании укушенного места является спасительной и парализует действие яда. Покончив с перевязкой, мы пошли дальше. Разговор наш теперь вертелся около шершней и ос. Дерсу считал их самыми «вредными людьми» и говорил: — Его постоянно сам кусай. Теперь моя всегда его берестой пали. Дня через два мы достигли водораздела. И подъём на хребет и спуск с него были одинаково крутыми. По ту сторону перевала мы сразу попали на тропинку, которая привела нас к фанзе соболёвщика-китайца. Осмотрев её, Дерсу сказал, что хозяин её жил здесь несколько дней подряд и ушёл только вчера. Я высказал сомнение. В фанзе мог быть и не хозяин, а работник или случайный прохожий. Вместо ответа Дерсу указал мне на старые вещи, выброшенные из фанзы и заменённые новыми. Это мог сделать только сам хозяин. С этими доводами нельзя было не согласиться.
Глава 20 Проклятое место

Енотовидная собака. — Охота на кабанов. — Лес в истоках реки Дананцы. — Привидения. — Перевал Забытый. — Гора Тудинза. — Птицы. — Река Вангоу. — Страшный выстрел. — Дерсу ранен. — Солонцы. — Брошенная лудева. — Встреча с Гранатманом и Мерзляковым. — Река Динзахе. — Птицы. — Искатель женьшеня
К вечеру в этот день нам удалось дойти до реки Ното. Истоки её находятся приблизительно там, где пересекаются 45-я параллель и 135-й меридиан (от Гринвича). Отсюда берут начало река Ваку и все верхние левые притоки Имана. Река Ното (по-удэгейски Нынту) длиной около 120 километров. В верхней половине она состоит из двух рек одинаковой величины: Дабэицы[119] и Дананцы[120]. Названия эти китайские и указывают направление их течений. Первая течёт с севера, вторая — с юга. Место слияния их определяет границу, где кончаются леса и начинаются открытые места и земледельческие фанзы. Если идти вверх по реке Дабэйце, то можно выйти в верховья Ваку и далее к охотничьему посёлку Сидатун на Имане. Верховья Ното по справедливости считаются самыми глухими местами Уссурийского края. Китайские фанзы, разбросанные по тайге, нельзя назвать ни охотничьими, ни земледельческими. Сюда стекается весь беспокойный манзовский элемент, падкий до лёгкой наживы, способный на грабежи и убийства. Долина нижнего Ното является как бы продолжением долины Дананцы. Она принимает в себя справа реку Себучар и, согласуясь с её направлением, поворачивает к юту. Недалеко от впадения своего в Улахе она снова склоняется на юго-запад. Таким образом, бассейн реки Ното со своими притоками составляет систему тектонических долин, сходящихся почти под прямыми углами с денудационными долинами прорыва. Первые представляют собой прямые долины, узкие в вершинах и постепенно расширяющиеся книзу, вторые — изломанные и состоящие из целого ряда котловин, замыкаемых горами, так что вперёд сказать, куда повернёт река, — невозможно. Котловины между собой соединены узкими проходами. Обыкновенно в этих местах река делает поворот. Вследствие этого очень часто притоки легко принять за главную долину; ошибка разъясняется только тогда, когда подходишь к ним вплотную. Река Ното порожистая, и плавание по ней считается опасным. В нижнем течении она около 60 метров ширины, 1 метра глубины и имеет быстроту течения до 8 километров в час в малую воду. В дождливый период года вода, сбегающая с гор, переполняет реку и производит внизу большие опустошения. Тут мы нашли брошенные инородческие юрты и старые развалившиеся летники. Дерсу мне сообщил, что раньше на реке Ното жили удэгейцы (четверо мужчин и две женщины с тремя детьми), но китайцы вытеснили их на реку Ваку. В настоящее время по всей долине Ното охотничают и соболюют одни манзы. На другой день мы пошли вверх по реке Дананце. Она длиной около 50 километров. Здесь в лесах растёт много тиса (Taxus cuspidata S. et Z.). Некоторые деревья достигают 10 метров высоты и метра в обхвате на грудной высоте. Не доходя километров десяти до перевала, тропа делится на две. Одна идёт на восток, другая поворачивает к югу. Если идти по первой, то можно выйти на реку Динзахе, вторая приведёт на Вангоу (притоки Тадушу). Мы выбрали последнюю. Тропа эта пешеходная, много кружит и часто переходит с одного берега на другой. В походе Дерсу всегда внимательно смотрел себе под ноги; он ничего не искал, но делал это просто так, по привычке. Один раз он нагнулся и поднял с земли палочку. На ней были следы удэгейского ножа. Место среза давно уже почернело. Разрушенные юрты, порубки на деревьях, пни, на которых раньше стояли амбары, и эта строганая палочка свидетельствовали о том, что удэгейцы были здесь год тому назад. В сумерки мы встали биваком на гальке в надежде, что около воды нас не так будут допекать комары. Козулятина приходила кконцу, надо было достать ещё мяса. Мы сговорились с Дерсу и пошли на охоту. Было решено, что от рассошины[121] я пойду вверх по реке, а он по ручейку в горы. Уссурийская тайга оживает два раза в сутки: утром, перед восходом солнца, и вечером, во время заката. Когда мы вышли с бивака, солнце стояло уже низко над горизонтом. Золотистые лучи его пробивались между стволами деревьев в самые затаённые уголки тайги. Лес был удивительно красив в эту минуту. Величественные кедры своей тёмной хвоей как будто хотели прикрыть молодняк. Огромные тополи, насчитывающие около трехсот лет, казалось, спорили в силе и мощности с вековыми дубами. Рядом с ними в сообществе росли гигантские липы и высокоствольные ильмы. Позади них виднелся коренастый ствол осокоря, потом чёрная берёза, за ней — ель и пихта, граб, пробковое дерево, жёлтый клён и т. д. Дальше за ними уже ничего не было видно. Там все скрывалось в зарослях крушины, бузины и черёмушника. Время шло. Трудовой день кончился; в лесу сделалось сумрачно. Солнечные лучи освещали теперь только вершины гор и облака на небе. Свет, отражённый от них, ещё некоторое время освещал землю, но мало-помалу и он стал блекнуть. Жизнь пернатых начала замирать, зато стала просыпаться другая жизнь — жизнь крупных четвероногих. До слуха моего донёсся шорох. Скоро я увидел и виновника шума — это была енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Grau) — животное, занимающее среднее место между собаками, куницами и енотами. Тело её, длиною около 80 сантиметров, поддерживается короткими ногами, голова заострённая, хвост длинный, общая окраска серая с тёмными и белесоватыми просветами, шерсть длинная, отчего животное кажется больше, чем есть на самом деле. Енотовидная собака обитает почти по всему Уссурийскому краю, преимущественно же в западной и южной его частях, и держится главным образом по долинам около рек Животное это трусливое, ведущее большей частью ночной образ жизни, и весьма прожорливое Его можно назвать всеядным, оно не отказывается от растительной пищи, но любимое лакомство его составляют рыбы и мыши. Если летом корма было достаточно, то зимой енотовидная собака погружается в спячку. Проводив её глазами, я постоял с минуту и пошёл дальше. Через полчаса свет на небе ещё более отодвинулся на запад Из белого он стал зелёным, потом жёлтым, оранжевым и наконец тёмно-красным. Медленно земля совершала свой поворот и, казалось, уходила от солнца навстречу ночи. В это время я услышал треск сучьев и вслед за тем какое-то сопение Я замер на месте Из чащи, окутанной мраком, показались две тёмные массы. Я узнал кабанов Они направлялись к реке. Судя по неторопливому шагу животных, я понял, что они меня не видали Один кабан был большой, а другой поменьше. Я выбрал меньшего и стал в него целиться. Вдруг большой кабан издал резкий крик, и одновременно я спустил курок Эхо подхватило звук выстрела и далеко разнесло его по лесу Большой кабан шарахнулся в сторону. Я думал, что промахнулся, и хотел уже было двинуться вперёд, но в это время увидел раненого зверя, подымающегося с земли. Я выстрелил второй раз, животное ткнулось мордой в траву и опять стало подыматься Тогда я выстрелил в третий раз Кабан упал и остался недвижим. Я подошёл к нему. Это была свинья средней величины, вероятно, не более 130 килограммов весом. Чтобы мясо не испортилось, я выпотрошил кабана и хотел было уже идти на бивак за людьми, но опять услышал шорох в лесу. Это оказался Дерсу Он пришёл на мои выстрелы. Я очень удивился, когда он спросил меня, кого я убил Я мог и промахнуться. — Нет, — засмеялся он, — моя хорошо понимай, тебе убей есть. Я просил объяснить мне, на чём он основывает свои предположения Гольд сказал мне, что обо всём происшедшем он узнал не по выстрелам, а по промежуткам между ними. Одним выстрелом редко удаётся убить зверя Обыкновенно приходится делать два-три выстрела. Если бы он слышал только один выстрел, то это значило бы, что я промахнулся Три выстрела, часто следующих один за другим, говорят за то, что животное убегает и выстрелы пускаются вдогонку Но выстрелы с неравными промежутками между ними показывают, что зверь ранен и охотник его добивает. Решено было, что до рассвета кабан останется на месте, а с собой мы возьмём только печень, сердце и почки животного. Затем мы разложили около него огонь и пошли назад. Было уже совсем темно, когда мы подходили к биваку. Свет от костров отражался по реке яркой полосой. Полоса эта как будто двигалась, прерывалась и появлялась вновь у противоположного берега. С бивака доносились удары топора, говор людей и смех. Расставленные на земле комарники, освещённые изнутри огнём, казались громадными фонарями. Казаки слышали мои выстрелы и ждали добычи. Принесённая кабанина тотчас же была обращена в ужин, после которого мы налились чаю и улеглись спать. Остался только один караульный для охраны коней, пущенных на волю. Одиннадцатого числа мы продолжали свой путь по реке Дананце. Здесь в изобилии растёт кедр. По мере приближения к Сихотэ-Алиню строевой лес исчезает всё больше и больше и на смену ему выступают леса поделочного характера, и наконец в самых истоках растёт исключительно замшистая и жидкая ель (Picea ajanensis Fisch.), лиственница (Larix sibtrica Lbd.) и пихта (Abies nephrolepis Maxim.). Корни деревьев не углубляются в землю, а стелются на поверхности. Сверху они чуть-чуть только прикрыты мхами. От этого деревья недолговечны и стоят непрочно. Молодняк двадцатилетнего возраста свободно опрокидывается на землю усилиями одного человека. Отмирание деревьев происходит от вершин. Иногда умершее дерево продолжает ещё долго стоять на корню, но стоит до него слегка дотронуться, как оно тотчас же обваливается и рассыпается в прах. При подъёме на крутые горы, в особенности с ношей за плечами, следует быть всегда осторожным. Надо внимательно осматривать деревья, за которые приходится хвататься. Уже не говоря о том, что при падении такого рухляка сразу теряешь равновесие, но, кроме того, обломки сухостоя могут ещё разбить голову. У берёз древесина разрушается всегда скорее, чем кора. Труха из них высыпается, и на земле остаются лежать одни берестяные футляры. Такие леса всегда пустынны. Не видно нигде звериных следов, нет птиц, не слышно жужжания насекомых. Стволы деревьев в массе имеют однотонную буро-серую окраску. Тут нет подлеска, нет даже папоротников и осок. Куда ни глянешь, всюду кругом мох: и внизу под ногами, и на камнях, и на ветвях деревьев. Тоскливое чувство навевает такая тайга. В ней всегда стоит мёртвая тишина, нарушаемая только однообразным свистом ветра по вершинам сухостоев. В этом шуме есть что-то злобное, предостерегающее. Такие места удэгейцы считают обиталищами злых духов. К вечеру мы немного не дошли до перевала и остановились у предгорий Сихотэ-Алиня. На этот день на разведки я послал казаков, а сам с Дерсу остался на биваке. Мы скоро поставили односкатную палатку, повесили над огнём чайник и стали ждать возвращения людей. Дерсу молча курил трубку, а я делал записи в свой дневник. В переходе от дня к ночи всегда есть что-то таинственное. В лесу в это время становится сумрачно и тоскливо. Кругом воцаряется жуткое безмолвие. Затем появляются какие-то едва уловимые ухом звуки. Как будто слышатся глубокие вздохи. Откуда они исходят? Кажется, что вздыхает сама тайга. Я оставил работу и весь отдался влиянию окружающей меня обстановки. Голос Дерсу вывел меня из задумчивости. — Худо здесь наша спи, — сказал он как бы про себя. — Почему? — спросил я его. Он указал рукой на клочья тумана, которые появились в горах и, точно привидения, бродили по лесу. — Тебе, капитан, понимай нету, — продолжал он. — Его тоже всё равно люди. Дальше из его слов я понял, что раньше это были люди, но они заблудились в горах, погибли от голода, и вот теперь души их бродят по тайге в таких местах, куда редко заходят живые. Вдруг Дерсу насторожился. — Слушай, капитан, — сказал он тихо. Я прислушался. Со стороны, противоположной той, куда ушли казаки, издали доносились странные звуки. Точно кто-нибудь рубил там дерево. Потом всё стихло. Прошло минут десять, и опять новый звук пронёсся в воздухе. Точно кто-то лязгал железом, но только очень далеко. Вдруг сильный шум прокатился по всему лесу. Должно быть, упало дерево. — Это его, его, — забормотал испуганно Дерсу, и я понял, что он говорит про души заблудившихся и умерших. Затем он вскочил на ноги и что-то по-своему стал сердито кричать в тайгу. Я спросил его, что это значит. — Моя мало-мало ругается, — отвечал он. — Моя ему сказал, что наша одну только ночь здесь спи и завтра ходи дальше. В это время с разведок вернулись казаки и принесли с собой оживление. Ночных звуков больше не было слышно, и ночь прошла спокойно. На следующий день я проснулся раньше солнца и тотчас же принялся будить разоспавшихся казаков. Солнечный восход застал нас уже в дороге. Подъем со стороны реки Дананцы был длинный, пологий, спуск в сторону моря крутой. Самый перевал представляет собой довольно глубокую седловину, покрытую хвойным лесом, высотой в 870 метров. Я назвал его Забытым. В горах Сихотэ-Алиня почти всегда около глубоких седловин располагаются высокие горы. Так было и здесь. Слева от нас высилась большая гора с плоской вершиной, которую называют Тудинза. Оставив казаков ожидать нас в седловине, мы вместе с Дерсу поднялись на гору. По гипсометрическим измерениям высота её равна 1160 метрам. Подъем, сначала пологий, по мере приближения к вершине становился всё круче и круче. Бесспорно, что гора Тудинза является самой высокой в этой местности. Вершина её представляет собой небольшую площадку, покрытую травой и обставленную по краям низкорослой ольхой и берёзой. Сверху, с горы, открывался великолепный вид во все стороны. Перед нами развернулась красивая панорама. Земля внизу казалась морем, а горы — громадными окаменевшими волнами. Ближайшие вершины имели причудливые очертания, за ними толпились другие, но контуры их были задёрнуты дымкой синеватого тумана, а дальше уже нельзя было разобрать, горы это или кучевые облака на горизонте. В этом месте хребет Сихотэ-Алинь делает небольшой излом к морю, а затем опять поворачивает на северо-восток. Гора Тудинза находилась как раз в углу излома. Сверху я легко мог разобраться в расположении горных складок и в направлениях течений рек. К западу текли Ли-Фудзин и Ното, к северо-востоку — Тютихе, к востоку — Динзахе и на юго-восток — Вангоу. Покончив с кипячением воды, мы стали спускаться обратно к седловине. Я не знаю, что труднее — подъем или спуск. Правда, при подъёме в работе участвует дыхание, зато положение тела устойчивее. При спуске приходится всё время бороться с тяжестью собственного тела. Каждый знает, как легко подыматься по осыпям вверх и как трудно по ним спускаться книзу. Надо всё время упираться ногой в камни, в бурелом, в основание куста, в кочку, обросшую травой, и т. д. При подъёме на гору это не опасно, но при спуске всегда надо быть осторожным. В таких случаях легко сорваться с кручи и полететь вниз головой. Восхождение на гору Тудинзу отняло у нас целый день. Когда мы спустились в седловину, было уже поздно. На самом перевале находилась кумирня. Казаки нашли в ней леденцы. Они сидели за чаем и благодушествовали. И здесь, как и на реке Вай-Фудзине, при переходе через Сихотэ-Алинь, наблюдателя поражает разница в растительности. За водоразделом мы сразу попали в лиственный лес; хвоя и мох остались позади. В истоках Вангоу стояла китайская зверовая фанза Цоцогоуза[122]; в ней мы заночевали. Перед сумерками я взял ружьё и отправился на разведки. Я шёл медленно, часто останавливался и прислушивался. Вдруг до слуха моего донеслись какие-то странные звуки, похожие на певучее карканье. Я притаился и вскоре увидел ворона. Птица эта гораздо крупнее обыкновенной вороны. Крики, издаваемые вороном, довольно разнообразны и даже приятны для слуха. Он сидел на дереве и как будто разговаривал сам с собой. В голосе его я насчитал девять колен. Заметив меня, птица испугалась. Она легко снялась с места и полетела назад. В одном месте в расщелине между корой и древесиной я заметил гнездо пищухи, а затем и её самое. Эта серенькая живая и весёлая птичка лазала по дереву и своим длинным и тонким клювом ощупывала кору. Иногда она двигалась так, что приходилась спиной книзу и лапками держалась за ветки. Рядом с ней суетились два амурских поползня. Они тихонько пищали и проворно осматривали каждую складку на дереве и действовали своими коническими клювами, как долотом, нанося удары не прямо, а сбоку, то с одной, то с другой стороны. На возвратном пути я убил трёх рябчиков, которые и доставили нам хороший ужин. На рассвете (это было 12 августа) меня разбудил Дерсу. Казаки ещё спали. Захватив с собой гипсометры, мы снова поднялись на Сихотэ-Алинь. Мне хотелось смерить высоту с другой стороны седловины. Насколько я мог уяснить, Сихотэ-Алинь тянется здесь в направлении к юго-западу и имеет пологие склоны, обращённые к Дананце, и крутые к Тадушу. С одной стороны были только мох и хвоя, с другой — смешанные лиственные леса, полные жизни. Когда мы вернулись в фанзу, отряд наш был уже готов к выступлению. Стрелки и казаки позавтракали, согрели чай и ожидали нашего возвращения. Закусив немного, я велел им седлать коней, а сам вместе с Дерсу пошёл вперёд по тропинке. Река Вангоу имеет вид горной таёжной речки, длиной около 20 километров, протекающей по продольной межскладчатой долине, покрытой отличным строевым лесом. На этом протяжении она принимает в себя пять небольших притоков: три с левой стороны — Тунца[123], Сяоца[124] и Сиявангул[125], и два с правой — Та-Сица[126] и Сяо-Сица[127]. К несчастью, река Вангоу сплавной быть не может, потому что русло её засорено галькой и завалено буреломом. Около устья первой речки мы остановились, чтобы подождать вьючный обоз. Дерсу сел на берегу речки и стал переобуваться, а я пошёл дальше. Тропинка описывает здесь дугу градусов в сто двадцать. Отойдя немного, я оглянулся назад и увидел его, сидящего на берегу речки. Он махнул мне рукой, чтобы я его не дожидался. Едва я вступил на опушку леса, как сразу наткнулся на кабанов, но выстрелить не успел. Заметив, куда побежали животные, я бросился им наперерез. Действительно, через несколько минут я опять догнал их. Сквозь чащу я видел, как что-то мелькнуло. Выбрав момент, когда тёмное пятно остановилось, я приложился и выстрелил. В то же мгновение я услышал человеческий крик и затем болезненный стон. Безумный страх овладел мной. Я понял, что стрелял в человека, и кинулся через заросли к роковому месту. То, что я увидел, поразило меня как обухом по голове. На земле лежал Дерсу.

— Дерсу! Дерсу! — закричал я не своим голосом и бросился к нему. Он упёрся левой рукой в землю и, приподнявшись немного на локте, правой рукой закрыл глаза. Я тормошил его и торопливо, испуганно спрашивал, куда попала пуля. — Спина больно, — отвечал он. Я спешно стал снимать с него верхнюю одежду. Его куртка и нижняя рубашка были разорваны. Наконец я его раздел. Вздох облегчения вырвался из моей груди. Пулевой раны нигде не было. Вокруг контуженного места был кровоподтёк немногим более пятикопеечной монеты. Тут только я заметил, что я дрожу, как в лихорадке. Я сообщил Дерсу характер его ранения. Он тоже успокоился. Заметив волнение, он стал меня успокаивать: — Ничего, капитан! Тебе виноват нету. Моя назади был. Как тебе понимай, что моя впереди ходи. Я поднял его, посадил и стал расспрашивать, как могло случиться, что он оказался между мной и кабанами. Оказалось, что кабанов он заметил со мной одновременно. Прирождённая охотничья страсть тотчас в нём заговорила. Он вскочил и бросился за животными. А так как я двигался по круговой тропе, а дикие свиньи шли прямо, то, следуя за ними, Дерсу скоро обогнал меня. Куртка его по цвету удивительно подходила к цвету шерсти кабана. Дерсу в это время пробирался по чаще согнувшись. Я принял его за зверя и выстрелил. Пуля разорвала куртку и контузила спину, вследствие чего у него отнялись ноги. Минут через десять подошли вьюки. Первое, что я сделал, — это смазал ушиб раствором йода, затем освободил одну лошадь, а груз разложил по другим коням. На освободившееся седло мы посадили Дерсу и пошли дальше от этого проклятого места. После полудня там, где река Вангоу принимает в себя сразу три притока, мы нашли ещё одну зверовую фанзу. Дальше идти было нельзя: у Дерсу болела голова и ломило спину. Я решил остановиться на ночлег. Раненого мы перенесли на руках в фанзу и положили на кан. Я старался окружить его самым заботливым уходом. Первым долгом я положил ему согревающий компресс на спину, для чего разорвал на полосы один комарник. К вечеру Дерсу немного успокоился. Зато я не мог найти себе места. Мысль, что я стрелял в человека, которому обязан жизнью, не давала мне покоя. Я проклинал сегодняшний день, проклинал кабанов и охоту. Ведь если бы на сантиметр я взял левее, если бы моя рука немного дрогнула, Дерсу был бы убит! Всю ночь я не мог уснуть. Мне все мерещился лес, кабаны, мой выстрел, крик Дерсу и куст, под которым он лежал. В испуге я вскакивал с кана и несколько раз выходил на воздух; я старался успокоить себя тем, что Дерсу жив и находится со мной, но ничто не помогало. Тогда я развёл огонь и попробовал было читать. Скоро я заметил, что представляю себе не то, что написано в книге, а другую картину… Наконец стало светать. На моё счастье, проснулся очередной артельщик. Он принялся готовить утренний завтрак, а я стал ему помогать. Утром Дерсу почувствовал себя легче. Боль в спине утихла совсем. Он начал ходить, но все ещё жаловался на головную боль и слабость. Я опять приказал одного коня предоставить больному. В девять часов утра мы выступили с бивака. В нижнем течении Вангоу немного болотистая. Здесь есть кое-где небольшие полянки с землёй плодородной, заросшей орешником, леспедецей, тростником и полынью. Километрах в пяти от устья, слева, в Вангоу впадает маленький ключик, называемый китайцами Талазагоу[128] — Долина большой скалы. Действительно, такая скала здесь есть. Порода, из которой она состоит, разрушаясь под действием солнца, дождя и ветра, даёт беловатую рыхлую массу, похожую на глину. По словам тазов, летом во время пантовки здесь всегда держится много изюбров. Они с какой-то особенной жадностью грызут эту землю. При ближайшем обследовании скалы на ней действительно были найдены многочисленные следы, оставленные зубами оленей. С одной стороны ими было съедено так много породы, что образовалась выемка около аршина глубиной. Неподалёку от скалы находилась лудева, то есть забор, преграждавший животным доступ к водопою. Он был сделан частью из буреломного леса, частью из живых деревьев. При помощи кольев валежник закрепляется так, чтобы животные не могли разбросать его ногами. Кое-где оставляются проходы, в которых копаются глубокие ямы, сверху искусно замаскированные травой и сухой листвой. Ночью олени идут к воде, натыкаются на забор и, пытаясь обойти его, попадают в ямы. Такие лудевы тянутся иногда на 50 километров с лишним и имеют около двухсот действующих ям. Лудева на реке Вангоу была заброшена. Видно было, что китайцы не навещали её уже давно. В одной из ям мы нашли матку изюбра. Бедное животное попало туда, видно, суток трое тому назад. Мы остановились и стали рассуждать о том, как его спасти. Один из стрелков хотел было спуститься в яму, но Дерсу посоветовал не делать этого. Олень мог убиться сам и переломать охотнику ноги. Тогда мы решили вынуть его арканами. Так и сделали. В две петли, брошенные на землю, изюбр попал ногами, третью набросили ему на голову и быстро вытащили наверх. Казалось, что он задохся. Но едва петли были сняты, он тотчас начал ворочать глазами. Отдышавшись немного, олень поднялся на ноги и, шатаясь, пошёл в сторону, но, не доходя до леса, увидел ручей и, не обращая на нас более внимания, стал жадно пить воду. Дерсу ужасно ругал китайцев за то, что они, бросив лудеву, не позаботились завалить ямы землёй. Через час мы подошли к знакомой нам Лудевой фанзе. Дерсу совсем оправился и хотел было сам идти разрушить лудеву, но я посоветовал ему остаться и отдохнуть до завтра. После обеда я предложил всем китайцам стать на работу и приказал казакам следить за тем, чтобы все ямы были уничтожены. После пяти часов полудня погода стала портиться: с моря потянул туман; откуда-то на небе появились тучи. В сумерках возвратились казаки и доложили, что в трёх ямах они ещё нашли двух мёртвых оленей и одну живую козулю. Весь следующий день мы простояли на месте. Погода была переменная, но больше дождливая и пасмурная. Люди стирали бельё, починяли одежду и занимались чисткой оружия. Дерсу оправился окончательно, чему я несказанно радовался. После полудня мы услышали выстрелы. Это Г. И. Гранатман и А. И. Мерзляков давали знать о своём возвращении. Встреча наша была радостной. Начались расспросы и рассказы друг другу о том, кто где был и кто что видел. Разговоры эти затянулись до самой ночи. Четырнадцатого августа мы были готовы к продолжению путешествия. Теперь я полагал подняться по реке Динзахе и спуститься в бассейн Тютихе, а Г. И. Гранатман с А. И. Мерзляковым взялись обследовать другой путь по реке Вандагоу, впадающей в Тютихе с правой стороны, недалеко от устья. Пятнадцатого августа, в девять часов утра, оба наши отряда разделились и пошли каждый своей дорогой. Густой туман, лежавший до сих пор в долинах, вдруг начал подыматься. Сначала оголились подошвы гор, потом стали видны склоны их и седловины. Дойдя до вершин, он растянулся в виде скатерти и остался неподвижен. Казалось, вот-вот хлынет дождь, но благоприятные для нас стихии взяли верх: день был облачный, но не дождливый. Река Динзахе[129] длиной около 50 километров. Общее направление её течения с севера на юг. Немного не доходя до Тадушу, она круто поворачивает на запад и течёт некоторое время параллельно ей. Высокий отрог горного хребта, вклинившийся между этими двумя реками, состоит из трахитового туфа, фельзитов с плитняковой отдельностью и зелёного оруденелого кварцита. Лесонасаждение в горах редкое. Здесь растут белая и чёрная берёза, клён, дуб и липа. Китайцы, которым нужно попасть на Динзахе, идут прямо через этот отрог, чем значительно сокращают расстояние и выигрывают во времени. Последние три километра река снова склоняется на юг и под прямым углом впадает в Тадушу. Сначала на протяжении 10 километров по долине реки Динзахе тянутся поляны, отделённые друг от друга небольшими перелесками, а затем начинаются сплошные леса, такие асе роскошные, как и на Ли-Фудзине. Тут я впервые заметил японскую берёзу (Betula japonica Н. Wiake) с треугольными листьями, — говорят, она часто встречается к югу от Тадушу, затем — бересклет малоцветковый (Euonymus pauciflora Maxim.), украшенный бахромчатыми ветвями и с бледными листьями, абрикосовое дерево (Prunus manshurica Koehne) с мелкими плодами и черешню Максимовича (Prunus Maximoviczii Rupr.), растущую всегда одиноко и дающую чёрные безвкусные плоды. В другом месте я заметил приземистый тальник (Salix vagans Anders.) со слабоопушенными листьями и пепельную иву (Salix cenerea L.), растущую то кустом, то деревом. Кое-где одиночно встречались кусты смородины Максимовича (Ribes Maximoviczianum Kom.), которую всегда можно узнать по красивой листве и мелким ягодам, и изредка княжик охотский (Atragene ochotensis Pall.) с тонкими заострёнными долями листьев. Некоторые деревья поражали своей величиной. Измеренные стволы их в обхвате на грудной высоте дали следующие цифры: кедр — 2,9, пихта — 1,4, ель — 2,8, берёза белая — 2,3, тополь — 3,5 и пробковое дерево — 1,4 метра. Река Динзахе сильно извивается по долине. Местами она очень мелка, течёт по гальке и имеет много перекатов, но местами образует глубокие ямы. Вода в массе вследствие посторонних примесей имеет красивый опаловый оттенок. С каждым днём гнуса становилось всё меньше и меньше. Это очень облегчило работу. Комары стали какие-то жёлтые, холодные и злые. Первым большим притоком Динзахе с правой стороны будет Канхеза. По ней можно выйти на реку Вангоу. В этот день мы прошли сравнительно немного и на ночь остановились в густом лесу около брошенной зверовой фанзы. Когда стемнело, с моря ветром опять нанесло туман. Конденсация пара была так велика, что влага непосредственно из воздуха оседала на землю мелкой изморосью. Туман был так густ, что в нескольких шагах нельзя было рассмотреть человека. В такой сырости не хочется долго сидеть у огня. После ужина все, словно сговорившись, залезли в комарники и легли спать. С восходом солнца туман рассеялся. По обыкновению, мы с Дерсу не стали дожидаться, когда казаки заседлают лошадей, и пошли вперёд. Чем дальше, тем лес становился глуше. В этой девственной тайге было что-то такое, что манило в глубину её и в то же время пугало своей неизвестностью. В спокойном проявлении сил природы здесь произрастали представители всех лиственных и хвойных пород маньчжурской флоры. Эти молчаливые великаны могли бы многое рассказать из того, чему они были свидетелями за двести и триста с лишним лет своей жизни на земле. Проникнуть в самую глубь тайги удаётся немногим. Она слишком велика. Путнику всё время приходится иметь дело с растительной стихией. Много тайн хранит в себе тайга и ревниво оберегает их от человека. Она кажется угрюмой и молчаливой… Таково первое впечатление. Но кому случалось поближе с ней познакомиться, тот скоро привыкает к ней и тоскует, если долго не видит леса. Мёртвой тайга кажется только снаружи, на самом деле она полна жизни. Мы с Дерсу шли не торопясь и наблюдали птиц. В чаще подлесья в одиночку кое-где мелькали бойкие ремезы-овсянки (Emperiza rustica Pal.). Там и сям на деревьях можно было видеть уссурийских малых дятлов. Из них особенно интересен зелёный дятел с золотистой головкой. Он усердно долбил деревья и нимало не боялся приближения людей. В другом месте порхало несколько тёмных дроздов. Рядом по веткам шоркали две уссурийские сойки-пересмешницы. Один раз мы вспугнули сокола-дербнюка. Он низко полетел над землёй и скрылся вскоре за деревьями. Над водой резвились стрекозы. За одной из них гналась азиатская трясогузка; она старалась поймать стрекозу да лету, но последняя ловко от неё увёртывалась. Вдруг где-то в стороне тревожно закричала кедровка. Дерсу сделал мне знак остановиться. — Погоди, капитан, — сказал он. — Его сюда ходи. Действительно, крики приближались. Не было сомнения, что это тревожная птица кого-то провожала по лесу. Минут через пять из зарослей вышел человек. Увидев нас, он остановился как вкопанный. На лице его изобразилась тревога. Я сразу узнал в нём искателя женьшеня. Одет он был в рубашку и штаны из синей дабы, кожаные унты, а на голове красовалась берестяная шляпа. Спереди на нём был надет промасленный передник для защиты одежды от росы, а сзади к поясу привязана шкура барсука, позволявшая садиться на мокрый валежник без опасения замочить одежду. У его пояса висел нож, костяная палочка для выкалывания женьшеня и мешочек, в котором хранились кремень и огниво. В руках китаец держал длинную палку для разгребания травы и листвы под ногами. Дерсу сказал ему, чтобы он не боялся и подошёл поближе. Это был человек лет пятидесяти пяти, уже поседевший. Лицо и руки у него так загорели, что приняли цвет оливково-красный. Никакого оружия у него не было. Когда китаец убедился, что мы не хотим ему сделать зла, он сел на колодник, достал из-за пазухи тряпицу и стал вытирать ею потное лицо. Вся фигура старика выражала крайнее утомление. Так вот он, искатель женьшеня! Это был своего рода пустынник, ушедший в горы и отдавший себя под покровительство лесных духов. Из расспросов выяснилось, что в верховьях Динзахе у него есть фанза. В поисках чудодейственного корня он иногда уходил так далеко, что целыми неделями не возвращался к своему дому. Он рассказал нам, как найти его жилище, и предложил остановиться у него в доме. Отдохнув немного, старик попрощался с нами, взял свою палку и пошёл дальше. Я долго следил за ним глазами. Один раз он нагнулся к земле, взял мох и положил его на дерево. В другом месте он бантом закрутил ветку черёмухи. Это условные знаки. Они означали, что данное место осмотрено и другому женьшеньщику делать здесь нечего. Великий смысл заключается в этом. Искатели не будут ходить по одному и тому же месту и понапрасну тратить время. Через несколько минут старик исчез из вида, и мы тоже пошли своей дорогой. В полдень мы были на половине пути от Тадушу до перевала, а к вечеру дошли до реки Удагоу[130], самого верхнего притока Динзахе. Тут мы действительно нашли маленькую фанзочку, похожую на инородческую юрту, с двускатной крышей, опирающейся непосредственно на землю. Два окна, расположенные по сторонам двери, были заклеены бумагой, разорванной и вновь заклеенной лоскутами. Здесь уже не было орудий звероловства, зато были заступы, скребки, лопаточки, берестяные коробочки разной величины и палочки для выкапывания женьшеня. Шагах в пятидесяти от фанзы стояла маленькая кумирня со следующей надписью: «Чжемь шань лин ван си жи Хань чао чжи го сян Цзинь цзо жень цзян фу лу мэнь», то есть «Находящемуся в лесах и горах князю (тигру). В древнее время при Ханьской династии — спасавший государство. В настоящие дни — дух, дающий счастье людям». В верхнем течении Динзахе состоит из двух рек одинаковой величины: Ситцы[131] и Тунцы (Дунцы). Первая приведёт на Ното, вторая — на Тютихе, куда именно я и направлял свой путь. От фанзы искателя женьшеня шла маленькая тропинка, но скоро она исчезла, и нам опять целый день пришлось идти целиной. Долина Динзахе, как и все тектонические долины, суживается постепенно. В верхней части дно её занесено щебнем, из чего можно заключить, что в дождливое время года она заливается водой. Горный хребет, служащий водоразделом между нею и Тютихе, представляет собой один из отрогов Сихотэ-Алиня, высотой в среднем 1100 метров. Гребень водораздела однообразно ровный, без выдающихся вершин и глубоких седловин и состоит из каолинизированного кварцевого порфира, в котором включены кристаллы полевого шпата.
Глава 21 Возвращение к морю

Енотовидные собаки. — Долина Инза-Лазагоу. — Устье реки Тютихе. — Стрельба по уткам. — Философия Дерсу. — Баня. — Бухта Тютихе. — Птицы на берегу моря. — Гроза. — Реки Цумихе и Вандагоу. — Выступление. — Тазы. — Кета. — Потрава пашен кабанами. — Рудник. — Летяга
За перевалом, следуя течению воды к востоку, мы часа в три с половиной дня вышли на реку Инза-Лазагоу — Долина серебряной скалы. Река эта будет самым большим и ближайшим к морю притоком Тютихе. В верховьях Инза-Лазагоу состоит тоже из двух речек, именуемых также Сицой и Тунцой. Каждая из них, в свою очередь, слагается из нескольких мелких ручьёв. В этот день мы дошли до слияния их и стали биваком в густом лесу. Здесь в реке было много мальмы (Salvelinus alpinus malma Walb.). Мы её ловили просто руками. Она подавалась нам ежедневно утром на завтрак и вечером на ужин. Интересно отметить, что рыбка эта особенно распространена в Уссурийском крае. Туземцы говорят, что к западу от Сихотэ-Алиня преобладает ленок (Brachymystax lenok Pall.), которого вовсе нет в прибрежном районе. Стрелки занялись ловлей рыбы на удочку, а я взял ружьё и отправился на разведки в горы. Проходив до самых сумерек и ничего не найдя, я пошёл по берегу реки. Вдруг в одной яме я услышал шум, похожий на полосканье. Подойдя осторожно к обрыву, я заглянул вниз и увидел двух енотовидных собак. Они так были заняты ловлей рыбы, что совершенно не замечали моего присутствия. Передними ногами еноты стояли в воде и зубами старались схватить шмыгающих мимо них рыбёшек. Я долго наблюдал за животными. Иногда они вдруг круто оборачивались назад, бросались за землеройками и принимались торопливо рыть землю. Но вот один из зверьков поднял голову, внимательно посмотрел в мою сторону и издал какой-то звук, похожий на тявканье. Вслед за тем оба енота быстро исчезли в траве и больше уже не показывались около речки. На биваке я застал всех в сборе. После ужина мы ещё с час занимались каждый своей работой, а затем напились чаю и легли спать кто где нашёл для себя удобней. Следующий день мы продолжали свой маршрут по реке Инза-Лазагоу. Долина её в средней части суживается, но затем опять начинает расширяться. Горы с правой стороны крутые и скалистые. В их обрывах когда-то нашли прожилки серебросвинцовой руды, отчего и долина получила своё настоящее название. Долина Инза-Лазагоу большей частью свободна от леса, но так как почва в ней каменистая, она совершенно неудобна для земледелия. Вот почему люди игнорировали её и поселились около устья. На всём протяжении река принимает в себя с правой стороны только два небольших горных ручья: Тамчасегоу[132] и Панчасегоу[133]. От места слияния их идёт тропа, проложенная тазовскими охотниками и китайцами-соболёвщиками. По пути я замечал, что в некоторых местах земля была истоптана и взрыта. Я думал, что это кабаны, но Дерсу указал мне на исковерканное деревцо, лишённое коры и листьев, и сказал: — Его скоро начинай кричи! Из объяснения его я понял, что, как только у изюбра окрепнут молодые рога (панты), он старается содрать с них кожу, для чего треплет какое-нибудь деревцо. Другой самец, придя на это место, понимает, что это значит. Он начинает злиться, рыть землю ногами и бить молодняк рогами. Река Инза-Лазагоу впадает в реку Тютихе в 5 километрах от моря. Нижняя часть долины последней представляет собой три широкие котловины. Километрах в двух от устья реки начинаются болота. Песчаные валы и лужи стоячей воды между ними указывают место, до которого раньше доходило море. В приросте суши принимали участие три фактора: отрицательное движение береговой линии, наносы реки и морской прибой. Около самого залива река вдруг поворачивает налево и течёт вдоль берега моря, отделяясь от него только песчаной косой. Раньше устье Тютихе было около Северного мыса. Во время наводнения в 1904 году река прорвала эту плотину и вышла прямо к бухте. Как только в прежнем русле ослабевало течение, море заметало его устье песком. Так образовался слепой рукав, впоследствии обмелевший. В скором времени он превратился в болото. Длинное озеро, которое сохранилось между валами в одном километре от моря, вероятно, было самое глубокое место залива. Нынче озеро это почти всё заросло травой. На нём плавало множество уток. Я остался с Дерсу ради охоты, а отряд ушёл вперёд. Стрелять уток, плававших на озере, не имело смысла. Без лодки мы всё равно не могли бы их достать. Тогда мы стали караулить перелётных. Я стрелял из дробовика, а Дерсу из винтовки, и редкий раз он давал промахи. Глядя на его стрельбу, я невольно вслух высказал ему похвалу. — Моя раньше хорошо стреляй, — отвечал он. — Никогда пуля мимо ходи нету. Теперь мало-мало плохо. В это мгновенье над нами высоко пролетала утка. Дерсу быстро поднял ружьё и выстрелил. Птица, простреленная пулей, перевернулась в воздухе, камнем полетела вниз и грузно ударилась о землю. Я остановился и в изумлении посматривал то на него, то на утку. Дерсу развеселился. Он предложил мне бросать кверху камни величиной с куриное яйцо. Я бросил десять камней, и восемь из них он в воздухе разбил пулями. Дерсу был доволен. Но не тщеславие говорило в нём, он просто радовался тому, что средства к жизни может ещё добывать охотой. Долго мы бродили около озера и стреляли птиц. Время летело незаметно. Когда вся долина залилась золотистыми лучами заходящего солнца, я понял, что день кончился. Вслед за трудовым днём приближался покой; вся природа готовилась к отдыху. Едва солнце успело скрыться за горизонтом, как с другой стороны, из-за моря, стала подыматься ночь. Широкой полосой перед нами расстилались пески; они тянулись километра на три. Далеко впереди, точно караван в пустыне, двигался наш отряд. Собрав поскорее птиц, мы пошли за ним следом. Около моря караван наш остановился. Через несколько минут кверху взвилась струйка белого дыма, — это разложили огонь на биваке. Через полчаса мы были около своих. Стрелки стали на ночь рядом с маленькой фанзой, построенной из плавникового леса около береговых обрывов. Здесь жили два китайца, занимавшиеся сбором съедобных ракушек в полосе мелководья. Большего радушия и большего гостеприимства я нигде не встречал. За этот переход все сильно устали. На несчастье, я сильно натёр пятку. Надо было. всем отдохнуть, поэтому я решил сделать днёвку и дождаться возвращения Г. И. Гранатмана и А. И. Мерзлякова. Ночью больная нога не позволяла мне сомкнуть глаз, и я несказанно был рад, когда стало светать. Сидя у огня, я наблюдал, как пробуждалась к жизни природа. Раньше всех проснулись бакланы. Они медленно, не торопясь, летели над морем куда-то в одну сторону, вероятно, на корм. Над озером, заросшим травой, носились табуны уток. В море, на земле и в воздухе стояла глубокая тишина. Дерсу поднялся раньше других и начал греть чай. В это время стало всходить солнце. Словно живое, оно выглянуло из воды одним краешком, затем отделилось от горизонта и стало взбираться вверх по небу. — Как это красиво! — воскликнул я. — Его самый главный люди, — ответил мне Дерсу, указывая на солнце. — Его пропади — кругом все пропади. Он подождал с минуту и затем опять стал говорить: — Земля тоже люди. Голова его — там, — он указал на северо-восток, — а ноги — туда, — он указал на юго-запад. — Огонь и вода тоже два сильные люди. Огонь и вода пропади — тогда все сразу кончай. В этих простых словах было много анимистического, но было много и мысли. Услышав наш разговор, стали просыпаться стрелки и казаки. Весь день я просидел на месте. Стрелки тоже отдыхали и только по временам ходили посмотреть лошадей, чтобы они не ушли далеко от бивака. Сегодня мы устроили походную баню. Для этого была поставлена глухая двускатная палатка. Потом в стороне на кострах накалили камни, а у китайцев в большом котле и двух керосиновых банках согрели воды. Когда всё было готово, палатку снаружи смочили водой, внесли в неё раскалённые камни и стали поддавать пар. Получилась довольно хорошая паровая баня. Правда, в палатке было тесно и приходилось мыться по очереди. Пока одни мылись, другие калили камни. Много было шуток, много смеха, но всё же все вымылись и даже постирали бельё. Следующие три дня провели за починкой обуви. Прежде всего я позаботился доставить продовольствие Н. А. Пальчевскому, который собирал растения в окрестностях бухты Терней. На наше счастье, в устье Тютихе мы застали большую парусную лодку, которая шла на север. Дерсу уговорил хозяина её, маньчжура Хэй Батсу[134], зайти в бухту Терней и передать Н. А. Пальчевскому письма и два ящика с грузом. Погода эти дни стояла переменная: дули резкие западные ветры; ночи стали прохладные; приближалась осень. Нога моя скоро прошла, и явилась возможность продолжать путешествие. Там, где река Тютихе впадает в море, нет ни залива, ни бухты. Незначительное углубление береговой линии внутрь материка не даёт укрытия судам во время непогоды. Поэтому, если ветер начинает свежеть, они спешат сняться с якоря и уйти подальше от берега. Бухта Тютихе (будем так называть её) окаймлена с севера и с юга невысокими горами, лишёнными древесной растительности; только по распадинам и вообще в местах, защищённых от морских ветров, кое-где растут группами дуб и липа исключительно дровяного характера. Южная возвышенность представляет собой великолепный образчик горы, отмытой по вертикали от вершины до основания и оканчивающейся мысом Бринера. Это одинокая скала, соединяющаяся с материком намывной косой из песка и гальки. Посредине косы есть небольшая, но довольно глубокая лагуна с солёной водой. К югу от мыса Бринера, метрах в двухстах от берега, из воды торчат ещё две скалы, именуемые, как и всегда. Братом и сестрой. Раньше это были береговые ворота. Свод их обрушился, и остались только одни столбы. Если смотреть на мыс Бринера с северного берега бухты Тютихе, то кажется, что столбы эти стоят на песчаном перешейке. Несколько южнее в береговых обрывах можно наблюдать выходы вулканического туфа с прослойками горючей серы. Горы с северной стороны бухты оканчиваются обрывами высотой 75 — 98 метров с узкой намывной полосой прибоя, на которую море выбросило множество морской травы. Такие травяные завалы всегда служат местопребыванием разного рода куликов. Прежде всего я заметил быстро бегающих на песчаной отмели восточносибирских грязовиков. Они заходили в воду и, казалось, совершенно не обращали внимания на прибой. Рядом с ними были кулики-травники. Эти красноногие смирные птички держались маленькими стайками, ходили по траве и выискивали в ней корм. При приближении человека они испуганно, с криком снимались с места и летели сначала в море, потом вдруг круто поворачивали в сторону и разом, точно по команде, садились снова на берег. Там, где морская трава чередовалась с полосками песка, можно было видеть уссурийских зуйков. Симпатичные птички эти постоянно заглядывали под щепки, камни и ракушки и то и дело заходили в воду, и, только когда сильная прибойная волна дальше обыкновенного забегала на берег, они вспархивали и держались на воздухе до тех пор, пока вода не отходила назад. Невдалеке от них по берегу чинно расхаживали два кулика-сороки и что-то клевали. Около мысов плавали нырковые морские утки-белобоки с серой спиной и пёстрые каменушки. Они то и дело ныряли за кормом. Поднявшись на поверхность воды, утки осматривались по сторонам, встряхивали своими коротенькими хвостиками и опять принимались за ныряние. Дальше в море держались тихоокеанские бакланы. Они ныряли очень глубоко и всплывали на поверхность на значительном расстоянии от того места, где погружались в воду. Над морем носилось множество чаек. Из них особенно выделялись восточносибирские хохотуньи. Порой они спускались в воду и тогда поднимали неистовый крик, действительно напоминающий человеческийсмех. Чайки по очереди снимались с воды, перелетали друг через друга и опять садились рядом, при этом старались одна другую ударить клювом или отнять пойманную добычу. В другой стороне, над самым устьем Тютихе, кружились два белохвостых орлана, зорко высматривавшие добычу. Вдруг, точно сговорившись, они разом опустились на берег; вороны, чайки и кулички без спора уступили им свои места. Последние два дня были грозовые. Особенно сильная гроза была 23-го вечером. Уже с утра было видно, что в природе что-то готовится: весь день сильно парило; в воздухе стояла мгла. Она постепенно увеличивалась и после полудня светилась настолько, что даже ближние горы приняли неясные и расплывчатые очертания. Небо сделалось белесоватым. На солнце можно было смотреть невооружённым глазом: вокруг него появилась жёлтая корона. — Будет агды (гром), — сказал Дерсу. — Постоянно так начинай. Часа в два дня с запада донеслись глухие раскаты грома. Все птицы разом куда-то исчезли. Стало сумрачно, точно сверху на землю опустился тёмный саван, и вслед за тем пошёл редкий и крупный дождь. Вдруг могучий удар грома потряс воздух. Сильные молнии сверкали то тут, то там, и не успевали в небе заглохнуть одни раскаты, как появлялись новые. Горное эхо вторило грозе и разносило громовые удары «во все стороны света белого» К дождю присоединился вихрь. Он ломал мелкие сучья, срывал листву с деревьев и высоко подымал их на воздух Вслед за тем хлынул сильный ливень. Буря эта продолжалась до восьми часов вечера. На другой день сразу было три грозы. Я заметил, что по мере приближения к морю грозы затихали. Над водой вспышки молнии происходили только в верхних слоях атмосферы, между облаками. Как и надо было ожидать, последний ливень перешёл в мелкий дождь, который продолжался всю ночь и следующие двое суток без перерыва. Двадцать шестого августа дождь перестал, и небо немного очистилось. Утром солнце взошло во всей своей лучезарной красоте, но земля ещё хранила на себе следы непогоды. Отовсюду сбегала вода; все мелкие ручейки превратились в бурные и пенящиеся потоки. В этот день на Тютихе пришли Г. И. Гранатман и А. И. Мерзляков. Их путь до фанзы Тадянза[135] лежал сначала по Тадушу, а затем по левому её притоку, Цимухе. Последняя состоит из двух речек, разделённых между собой небольшой возвышенностью, поросшей мелким лесом и кустарником. Одна речка течёт с севера, другая — с востока. Береговая тропа проложена китайцами очень искусно. Она всё время придерживается таких долин, которые идут вдоль берега моря; перевалы избраны самые низкие, подъёмы и спуски возможно пологие. Высота перевала между обеими упомянутыми речками равняется 200 метрам. Все окрестные горы состоят главным образом из кварцитов. Далее тропа идёт по реке Вандагоу[136], впадающей в Тютихе недалеко от устья. Она длиной около 12 километров, в верхней части — лесистая, в нижней — заболоченная. Лес — редкий и носит на себе следы частых пожарищ. У последней земледельческой фанзы тропа разделяется. Одна идёт низом, по болотам, прямо к морю, другая — к броду на Тютихе, километрах в пяти от устья. Двадцать шестого августа мы отдыхали, 27-е посвятили сборам, а 28-го вновь выступили в поход. Я с Дерсу и с четырьмя казаками пошёл вверх по реке Тютихе, Гранатман отправился на реку Иодзыхе, а Мерзлякову было поручено произвести обследование побережья моря до залива Джигит. По длине своей Тютихе (по-удэгейски — Ногуле) будет, пожалуй, больше всех рек южной части прибрежного района (около 80 километров). Название её — искажённое китайское слово «Чжю-чжи-хе», то есть «Река диких свиней». Такое название она получила оттого, что дикие кабаны на ней как-то раз разорвали двух охотников. Русские в искажении пошли ещё дальше, и слово "Тютихе[137]" исказили в «Тетиха», что уже не имеет никакого смысла. Если смотреть на долину со стороны моря, то кажется, будто Тютихе течёт с запада. Ошибка эта скоро разъясняется: видимая долина есть знакомая нам река Инза-Лазагоу. Долина Тютихе — денудационная; она слагается из целого ряда котловин, замыкаемых горами. Проходы из одной котловины в другую до того узки, что трудно усмотреть, откуда именно течёт река. Очень часто какой-нибудь приток мы принимали за самое Тютихе, долго шли по нему и только по направлению течения воды узнавали о своей ошибке. У места слияния рек Тютихе и Инза-Лазагоу живут китайцы и туземцы. Я насчитал сорок четыре фанзы, из числа которых было шесть тазовских. Последние несколько отличаются от тех тазов, которых мы видели около залива Ольги. У них и физический облик был уже несколько иной. Вследствие притеснения китайцев и злоупотребления спиртом они находились в ужасной нищете. Позаимствовав кое-что от китайской культуры, они увеличили свои потребности, но не изменили в корне уклада жизни, вследствие чего началось быстрое падение их экономического благосостояния. У стариков ещё живы воспоминания о тех временах, когда они жили одни и были многочисленным народом. Тогда не было китайцев, и только с приходом их появляются те страшные болезни, от которых они гибли во множестве. Среди тазов я не нашёл ни одной семьи, в которой не было бы прибора для курения опиума. Особенно этой пагубной страсти преданы женщины. Тут я нашёл одну старуху, которая ещё помнила свой родной язык. Я уговорил её поделиться со мной своими знаниями. С трудом она могла вспомнить только одиннадцать слов. Я записал их, они оказались принадлежащими удэгейцам. Пятьдесят лет тому назад старуха (ей тогда было двадцать лет) ни одного слова не знала по-китайски, а теперь она совершенно утратила все национальное, самобытное, даже язык. В этот день мы дошли до фанзы таза Лай Серла. Здесь Тютихе принимает в себя с левой стороны две маленькие речки: Сысенкурл[138] и Сибегоу[139]. Мы попали на Тютихе в то время, когда кета (Onkorhynchus Keta Walb.) шла из моря в реки метать икру. Представьте себе тысячи тысяч рыб от 3,3 до 5 килограммов весом, наводняющих реку и стремящихся вверх, к порогам. Какая-то неудержимая, сила заставляет их идти против воды и преодолевать препятствия. В это время кета ничего не ест и питается только тем запасом жизненных сил, которые она приобрела в море. Сверху, с высоты речных террас, видно всё, что делалось в воде. Рыбы было так много, что местами за ней совершенно не было видно дна реки. Интересно наблюдать, как кета проходит пороги. Она двигается зигзагами, перевёртывается с боку на бок, кувыркается и всё-таки идёт вперёд. Там, где ей мешает водопад, она подпрыгивает из воды и старается зацепиться за камни. Избитая, израненная, она достигает верховьев реки, оставляет потомство и погибает. Сперва мы с жадностью набросились на рыбу, но вскоре она нам приелась. После продолжительного отдыха у моря люди и лошади шли охотно. Дальние горы задёрнулись синей дымкой вечернего тумана. Приближался вечер. Скоро кругом должна была воцариться люпина. Однако я заметил, что по мере того как становилось темнее, какими-то неясными звуками наполнялась долина. Слышались человеческие крики и лязганье по железу. Некоторые звуки были далеко, а некоторые совсем близко. — Дерсу, что это такое? — спросил я гольда. — Манзы чушку гоняй, — отвечал он. Я не понял его и подумал, что китайцы загоняют своих свиней на ночь. Дерсу возражал. Он говорил, что, пока не убрана кукуруза и не собраны овощи с огородов, никто свиней из загонов не выпускает. Мы пошли дальше. Минут через двадцать я заметил огни, но не около фанз, а в стороне от них. — Манзы чушку гоняй, — опять сказал Дерсу, и я опять его не понял. Наконец мы обогнули утёсы и вышли на поляну. Звуки стали сразу яснее. Китаец кричал таким голосом, как будто аукался с кем-нибудь, и время от времени колотил палкой в медный тазик. Услышав шум приближающегося отряда, он закричал ещё больше и стал разжигать кучу дров, сложенных около тропинки. — Погоди, капитан, — сказал Дерсу. — Так худо ходи. Его могут стреляй. Его думай, наша чушка есть. Я начал понимать. Китаец принимал нас за диких свиней и действительно мог выстрелить из ружья. Дерсу что-то закричал ему. Китаец тотчас ответил и побежал нам навстречу, видно было, что он и испугался и обрадовался нашему приходу. Я решил здесь ночевать. Казаки принялись развьючивать лошадей и ставить палатки, а я вошёл в фанзу и стал расспрашивать китайцев. Они пеняли на свою судьбу и говорили, что вот три ночи подряд кабаны травят пашни и огороды. За двое суток они уничтожили почти все огородные овощи. Осталась одна кукуруза. Около неё днём китайцы уже видели диких свиней, и не было сомнения, что ночью они явятся снова. Китаец просил меня стрелять в воздух, за что обещал платить деньги. После этого он выбежал из фанзы и опять начал кричать и бить в тазик. Далеко из-за горы ему вторил другой китаец, ещё дальше — третий. Эти нестройные звуки неслись по долине и таяли в тихом ночном воздухе. После ужина мы решили заняться охотой. Когда заря потухла на небе, китаец сбегал к кукурузе и зажёг около неё огонь. Взяв ружья, мы с Дерсу отправились на охоту. Китаец тоже пошёл с нами. Он не переставал кричать. Я хотел было его остановить, но Дерсу сказал, что это не помешает и кабаны всё равно придут на пашню. Через несколько минут мы были около кукурузы. Я сел на пень с одной стороны, Дерсу — с другой и стали ждать. От костра столбом подымался кверху дым; красный свет прыгал по земле неровными пятнами и освещал кукурузу, траву, камни и всё, что было поблизости. Нам пришлось ждать недолго. За пашней, как раз против того места, где мы сидели, послышался шум. Он заметно усиливался. Кабаны взбивали ногами траву и фырканьем выражали своё неудовольствие, чуя присутствие людей. Несмотря на крики китайца, несмотря на огонь, дикие свиньи прямо шли к кукурузе. Через минуту-две мы увидели их. Передние уже начали потраву. Мы выстрелили почти одновременно. Дерсу уложил одно животное, я — другое. Кабаны бросились назад, но через четверть часа они опять появились в кукурузе. Снова два выстрела, и ещё пара свиней осталась на месте: одно животное, раскрыв рот, ринулось к нам навстречу, но выстрел Дерсу уложил его. Китаец бросал в свиней головешками. Выстрелы гремели один за другим, но ничто не помогало. Кабаны шли точно на приступ. Я хотел было идти к убитым животным, но Дерсу не пустил меня, сказав, что это очень опасно, потому что среди них могли быть раненые. Подождав ещё немного, мы пошли в фанзу и, напившись чаю, легли спать. Но уснуть не удалось: китаец всю ночь кричал и колотил в медный таз. К рассвету он, по-видимому, устал. Тогда я забылся крепким сном. Часов в девять я проснулся и спросил про кабанов. После нашего ухода кабаны всё-таки пришли на пашню и потравили остальную кукурузу начисто. Китаец был очень опечален. Мы взяли с собой только одного кабана, а остальных бросили на месте. По словам китайцев, раньше кабанов было значительно меньше. Они расплодились в последние десять лет, и, если бы их не уничтожали тигры, они заполонили бы всю тайгу. Распростившись с китайцем, мы пошли своей дорогой. Чем дальше, тем интереснее становилась долина. С каждым поворотом открывались всё новые и новые виды. Художники нашли бы здесь неистощимый материал для своих этюдов. Некоторые виды были так красивы, что даже казаки не могли оторвать от них глаз и смотрели как зачарованные. Кругом высились горы с причудливыми гребнями и утёсы, похожие на человеческие фигуры, которым кто-то как будто приказал охранять сопки. Другие скалы походили на животных, птиц или просто казались длинной колоннадой. Утёсы, выходящие в долину, увешанные гирляндами ползучих растений, листва которых приняла уже осеннюю окраску, были похожи на портики храмов, развалины замков и т. д. Большинство гор в долине Тютихе состоит из серых гранитов, порфиров и известняков. Лесонасаждение здесь крайне разнообразное: у моря растут преимущественно дуб и чёрная берёза, в среднем течении — ясень, клён, вяз, липа и бархат, ближе к горам начинает попадаться пихта, а около реки в изобилии растут тальник и ольха. Иной раз положительно останавливаешься в недоумении перед деревом, выросшим буквально на голом камне. Кажется, и трещины нет, но дерево стоит прочно: корни его оплели камень со всех сторон и укрепились в осыпях. В среднем течении река принимает в себя с левой стороны приток Горбушу. Издали невольно её принимаешь за Тютихе, которая на самом деле проходит левее через узкое ущелье. Не доходя до реки Горбуши километра два, тропа разделяется. Конная идёт вброд через реку, а пешеходная взбирается на утёсы и лепится по карнизу. Место это считается опасным, потому что почва на тропе под давлением ноги ползёт книзу. В этот день мы дошли до серебросвинцового рудника. Здесь была одна только фанза, в которой жил сторож-кореец. Он тоже жаловался на кабанов и собирался перекочевать к морю. Месторождение руды открыто лет сорок тому назад. Пробовали было тут выплавлять из неё серебро, но неудачно. Впоследствии место это застолбил Ю. И. Бринер. С каждым днём комаров и мошек становилось всё меньше и меньше. Теперь они стали появляться только перед сумерками и на рассвете. Это, вероятно, объясняется сильными росами и понижением температуры после захода солнца. Ночи сделались значительно холоднее. Наступило самое хорошее время года. Зато для лошадей в другом отношении стало хуже. Трава, которой они главным образом кормились в пути, начала подсыхать. За неимением овса изредка, где были фанзы, казаки покупали буду и понемногу подкармливали их утром перед походом и вечером на биваках. У корейцев в фанзе было так много клопов, что сам хозяин вынужден был спать снаружи, а во время дождя прятался в сарайчик, сложенный из тонкого накатника. Узнав об этом, мы отошли от фанзы ещё с километр и стали биваком на берегу реки. Вечером, после ужина, мы все сидели у костра и разговаривали. Вдруг что-то белесовато-серое пролетело мимо, бесшумно и неторопливо. Стрелки говорили, что это птица, а я думал, что это большая летучая мышь. Через несколько минут странное существо появилось снова. Оно не махало крыльями, а летело горизонтально и несколько наклонно книзу. Животное село на осину и затем стало взбираться вверх по стволу. Окраска зверька до того подходила под цвет дерева, что если бы он оставался неподвижным, то его совершенно нельзя было бы заметить. Поднявшись метров на шесть, он остановился и, казалось, замер на месте. Я взял дробовое ружьё и хотел было стрелять, но меня остановил Дерсу. Он быстро нарезал мелких веток и прикрепил их в виде веника к длинной палке, затем подошёл к дереву и поднял их так, чтобы не закрывать свет костра. Ослеплённое огнём животное продолжало сидеть на одном месте. Когда веник был достаточно высоко, Дерсу прижал его к дереву, затем велел одному казаку держать палку, а сам взобрался до ближайшего сука, сел на него и веником, как тряпкой, схватил свою добычу. Испуганный зверёк запищал и стал биться. Это оказалась летяга (Sciuropterus russiens Fied). Она относится к отряду грызунов (Rodentia) и к семейству беличьих (Sciuridae). По бокам туловища, между передними и задними ногами имеется эластичная складка кожи, которая позволяет ей планировать от одного дерева к другому. Все тело летяги покрыто мягкой шелковистой светло-серой шерстью, с пробором на хвосте. Летяга распространена по всему Уссурийскому краю и живёт в смешанных лесах, где есть берёза и осина. Пойманный нами экземпляр был длиной 50 и шириной (вместе с растянутой перепонкой) 16 сантиметров. Казаки и стрелки столпились и рассматривали летучего грызуна. Особенно оригинальна была его голова с большими усами и огромными чёрными глазами, приспособленными для восприятия возможно большего количества световых лучей ночью. Когда все кончили рассматривать летягу, Дерсу поднял её над головой, что-то громко сказал и пустил на свободу. Летяга полетела над землёй и скрылась в темноте. Я спросил гольда, зачем он отпустил летягу. — Его птица нету, мышь нету, — отвечал он. — Его нельзя убей. И он принялся мне рассказывать о том, что это душа умершего ребёнка. Она некоторое время скитается по земле в виде летяги и только впоследствии попадает в загробный мир, находящийся в той стороне, где закатывается солнце. Мы долго беседовали с ним на эту тему. Он рассказывал мне и о других животных. Каждое из них было человекоподобное и имело рушу. У него была даже своя классификация их. Так, крупных животных он ставил отдельно от мелких, умных — отдельно от глупых. Соболя он считал самым хитрым животным. На вопрос, какой зверь, по его мнению, самый вредный, Дерсу подумал и сказал: — Крот! А на вопрос, почему именно крот, а не другое животное, он ответил: — Так, никто его не хочу стреляй, никто не хочу его кушай. Этими словами Дерсу хотел сказать, что крот — животное бесполезное, никчёмное. Оглянувшись крутом, я увидел, что все уже спали. Пожелав Дерсу покойной ночи, я завернулся в бурку, лёг поближе к огоньку и уснул.
Глава 22 Рёв изюбров

Лесная растительность. — Женьшень. — Заездка для ловли рыбы. — Истоки Тютихе. — Перевал Скалистый. — Верховья Имана. — Дерсу перед китайской кумирней. — Сильный вихрь. — Тихая ночь. — Река Горбуша. — Пещеры. — Медведь добывает жёлуди. — Река Папигоуза. — Изюбры. — Тигр на охоте за оленями. — Факел. — Возвращение на бивак.
На следующий день, 30 августа, мы пошли дальше. В трёх километрах от корейской фанзы, за "щеками[140]", долина повернула к северо-западу. С левой стороны её по течению тянется невысокая, но обширная речная терраса. Когда-то здесь была глухая тайга. Три раза следовавшие друг за другом пожары уничтожили её совершенно. Остались только редкие обгорелые стволы. Точно гигантские персты, они указывали на небо, откуда за хищническое истребление лесов должно явиться возмездие в виде сильных дождей и связанных с ними стремительных наводнений. Этот горелый лес тянется далеко в стороны. Чрезвычайно грустный и безжизненный вид имеют такие гари. К полудню мы вошли в густой лес. Здесь был сделан небольшой привал. Воспользовавшись свободным временем, я стал осматривать древесную и кустарниковую растительность и отметил у себя в записной книжке: белый клён (Acer tegmentosum Maxim.) с гладкой зеленоватой корой и с листьями, слабо зазубренными, мохнатыми и белесоватыми снизу; черёмуху Маака (Prunus maakii R.), отличительными признаками которой являются кора, напоминающая бересту, и остроконечная зазубренная листва; каменную берёзу (Betula ermanii Cham.) с желтовато-грязной корой, чрезвычайно изорванной и висящей лохмотьями; особый вид смородины (Ribes petraeum Wulf.), почти не отличающийся от обыкновенной красной, несмотря на август месяц, на кустах ещё не было ягод; шиповник без шипов (Rosa acicularis Lindl.) с красноватыми ветвями, мелкими листьями и крупными розовыми цветами; спирею (Spiraea chamaedrifolia Lin.), имеющую клиновидно-заострённые, мелкозубчатые листья и белые цветы, и бузину (Sambucus racemosa Lin.) — куст со светлой корой, с парноперистыми, овально-ланцетовидными и мелкозазубренными листьями и с желтоватыми цветами. Подкрепив свои силы едой, мы с Дерсу отправились вперёд, а лошади остались сзади. Теперь наша дорога стала подыматься куда-то в гору. Я думал, что Тютихе протекает здесь по ущелью и потому тропа обходит опасное место. Однако я заметил, что это была не та тропа, по которой мы шли раньше. Во-первых, на ней не было конных следов, а во-вторых, она шла вверх по ручью, в чём я убедился, как только увидел воду. Тогда мы решили повернуть назад и идти напрямик к реке в надежде, что где-нибудь пересечём свою дорогу. Оказалось, что эта тропа увела нас далеко в сторону. Мы перешли на левую сторону ручья и пошли у подножия какой-то сопки. Вековые дубы, могучие кедры, чёрная берёза, клён, аралия, ель, тополь, граб, пихта, лиственница и тис росли здесь в живописном беспорядке. Что-то особенное было в этом лесу. Внизу, под деревьями, царил полумрак. Дерсу шёл медленно и, по обыкновению, внимательно смотрел себе под ноги. Вдруг он остановился и, не спуская глаз с какого-то предмета, стал снимать котомку, положил на землю ружьё и сошки, бросил топор, затем лёг на землю ничком и начал кого-то о чём-то просить. Я думал, что он сошёл с ума. — Дерсу, что с тобой? — спрашивал я его. Дерсу поднялся и, указав рукой на траву, сказал одно только слово: — Панцуй (женьшень)! Тут росло много травы. Которая из них была женьшень — я не знал. Дерсу показал мне его. Я увидел небольшое травянистое растение величиной в 40 сантиметров, с четырьмя листьями. Каждый лист состоял из пяти листочков, из которых средний был длиннее, два покороче, а два крайние — самые короткие. Женьшень уже отцвёл, и появились плоды. Это были маленькие кругленькие коробочки, расположенные так же, как у зонтичных. Коробочки ещё не вскрылись и не осыпали семян. Дерсу очистил вокруг растения землю от травы, потом собрал все плоды и завернул их в тряпицу. После этого он попросил меня придержать растение сверху рукой, а сам принялся выкапывать корень. Откапывал он его очень осторожно. Всё внимание было обращено на то, чтобы не порвать корневые мочки. Затем он понёс его к воде и стал осторожно смывать землю. Я помогал ему, как мог. Мало-помалу земля стала отваливаться, и через несколько минут корень можно было рассмотреть. Он был длиною 11 сантиметров, с двумя концами, значит — мужской. Так вот каков этот женьшень, излечивающий все недуги и возвращающий старческому телу молодую бодрость жизни! Дерсу отрезал растение, уложил его вместе с корнем в мох и завернул в бересту. После этого он помолился, затем надел свою котомку, взял ружьё и сошки и сказал: — Ты, капитан, счастливый! По дороге я спросил гольда, что он думает делать с женьшенем. Дерсу сказал, что он хочет его продать и на вырученные деньги купить патронов. Тогда я решил купить у него женьшень и дать ему денег больше, чем дали бы китайцы. Я высказал ему свои соображения, но результат получился совсем неожиданный. Дерсу тотчас полез за пазуху и, подавая мне корень, сказал, что отдаёт его даром. Я отказался, но он начал настаивать. Мой отказ и удивил и обидел его. Только впоследствии я понял, что делать подарки в обычае туземцев и что обычай требует отблагодарить дарившего равноценной вещью. Разговаривая таким образом, мы скоро вышли на Тютихе и здесь нашли потерянную тропинку. С первого же взгляда Дерсу увидел, что наш вьючный отряд прошёл вперёд. Надо было торопиться. Километра через два долина вдруг стала суживаться. Начали попадаться глинистые сланцы — верный признак, что Сихотэ-Алинь был недалеко. Здесь река протекает по узкому ложу. Шум у подножия береговых обрывов указывал, что дно реки загромождено камнями. Всюду пенились каскады; они чередовались с глубокими водоёмами, наполненными прозрачной водой, которая в массе имела красивый изумрудный цвет. В реке было много крупной мальмы. Дерсу хотел было стрелять в неё из ружья, но я уговорил его поберечь патроны. Мне хотелось поскорее присоединиться к отряду, тем более что стрелки считали меня и Дерсу находящимися впереди и, конечно, торопились догнать нас. Таким образом, они могли уйти далеко вперёд. Часов в пять мы подошли к зверовой фанзе. Около неё я увидел своих людей. Лошади уже были рассёдланы и пущены на волю. В фанзе, кроме стрелков, находился ещё какой-то китаец. Узнав, что мы с Дерсу ещё не проходили, они решили, что мы остались позади, и остановились, чтобы обождать. У китайцев было много кабарожьего мяса и рыбы, пойманной заездками. Китайская заездка устраивается следующим образом: при помощи камней река перегораживается от одного берега до другого, а в середине отставляется небольшой проход. Вода просачивается между камнями, а рыба идёт по руслу к отверстию и падает в решето, связанное из тальниковых прутьев. Раза два или три в сутки китаец осматривает его и собирает богатую добычу. От хозяина фанзы мы узнали, что находимся у подножия Сихотэ-Алиня, который делает здесь большой излом, а река Тютихе течёт вдоль него. Затем он сообщил нам, что дальше его фанзы идут две тропы: одна к северу, прямо на водораздельный хребет, а другая — на запад, вдоль Тютихе. До истоков последней оставалось ещё километров двенадцать. Вечером после ужина мы держали совет. Решено было, что завтра я, Дерсу и китаец-охотник отправимся вверх по Тютихе, перевалим через Сихотэ-Алинь и назад вернёмся по реке Лянчихезе. На это путешествие нужно было употребить трое суток. Стрелки и казаки с лошадьми останутся в фанзе и будут ожидать нашего возвращения. На другой день рано утром мы втроём наладили свои котомки, взяли ружья и тронулись в путь. Чем дальше, тем тропа становилась всё хуже и хуже. Долина сузилась совсем и стала походить на ущелье. Приходилось карабкаться на утёсы и хвататься руками за корни деревьев. От жёсткой почвы под ногами стали болеть подошвы ступнёй. Мы старались обходить каменистые россыпи и ступать ногой на мох или мягкий гнилой рухляк, но это мало помогало. Истоки реки Тютихе представляют собой два ручья. По меньшему, текущему с юга, можно выйти на реку Ното, а по большому, текущему с северо-запада, — на Иман. У места слияния их высота над уровнем моря равняется 651 метру. Мы выбрали последний путь, как наименее известный. С этой стороны Сихотэ-Алинь казался грозным и недоступным. Вследствие размывов, а может быть, от каких-либо других причин здесь образовались узкие и глубокие распадки, похожие на каньоны. Казалось, будто горы дали трещины и эти трещины разошлись. По дну оврагов бежали ручьи, но их не было видно; внизу, во мгле, слышно было только, как шумели каскады. Ниже бег воды становился покойнее, и тогда в рокоте её можно было уловить игривые нотки. Каким затерявшимся кажется человек среди этих скалистых гор, лишённых растительности! Незадолго до сумерек мы взобрались на перевал, высота которого измеряется в 1215 метров. Я назвал его Скалистым. Отсюда, сверху, всё представляется в мелком масштабе: вековой лес, растущий в долине, кажется мелкой щетиной, а хвойные деревья — тоненькими иглами. Заночевали мы по ту сторону Сихотэ-Алиня, на границе лесных насаждений. Ночью было сыро и холодно; мы почти не спали. Я всё время кутался в одеяло и никак не мог согреться. К утру небо затянулось тучами, и начал накрапывать дождь. Сегодня первый осенний день — пасмурный и ветреный. Живо, без проволочек, мы собрали свои пожитки и стали спускаться в бассейн Имана. Насколько подъём был крутым со стороны Тютихе, настолько он был пологим со стороны Имана. Сначала я даже думал, что мы находимся на плоскогорье, только когда я увидел воду, понял, что мы уже спустились с гребня. Лес, растущий на западных склонах Сихотэ-Алиня, — старый, замшистый, низкорослый и состоит главным образом из лиственницы, ели и пихты, с небольшой примесью ольхи и берёзы. В верховьях Иман слагается из двух рек, текущих с юга. Мы попали на правую речку, которую китайцы называют Ханихеза. От Сихотэ-Алиня до слияния их будет не менее 30 километров. Старые затёски на деревьях привели нас к зверовой фанзе. Судя по сложенным в ней запасам продовольствия, видно было, что иманские зверовщики уже готовились к соболеванию. Китаец не повёл нас далеко по Иману, а свернул на восток к Лянчихезе. Здесь наш проводник немного заблудился и долго искал тропу. К полудню погода испортилась совсем. Тучи быстро бежали с юго-востока и заволакивали вершины гор. Я часто поглядывал на компас и удивлялся, как наш проводник без всяких инструментов держал правильное направление. В одном пересохшем ручье мы нашли много сухой ольхи. Хотя было ещё рано, но я по опыту знал, что значат сухие дрова во время ненастья, и потому посоветовал остановиться на бивак. Мои опасения оказались напрасными. Ночью дождя не было, а утром появился густой туман. Китаец торопил нас. Ему хотелось поскорее добраться до другой фанзы, которая, по его словам, была ещё километрах в двенадцати. И действительно, к полудню мы нашли эту фанзочку. Она была пустая. Я спросил нашего вожатого, кто её хозяин. Он сказал, что в верховьях Имана соболеванием занимаются китайцы, живущие на берегу моря, дальше, вниз по реке, будут фанзы соболёвщиков Иодзыхе, а ещё дальше на значительном протяжении следует пустынная область, которая снова оживает немного около реки Кулумбе. Отдохнув здесь немного, мы пошли снова к Сихотэ-Алиню. По мере приближения к гребню подъём становился более пологим. Около часа мы шли как бы по плоскогорью. Вдруг около тропы я увидел кумирню. Это служило показателем того, что мы достигли перевала. Высота его равнялась 1190 метрам. Я назвал его Рудным. Отсюда начался крутой ступенчатый спуск к реке Тютихе. Отдохнув немного, мы стали спускаться с водораздела. Спуск в долину Тютихе, как я уже сказал, идёт уступами. По эту сторону был также хвойный лес, но по качеству несравненно лучше иманского. С перевала тропа привела прямо к той фанзе, где оставались люди и лошади. Казаки соскучились и были чрезвычайно рады нашему возвращению. За это время они убили изюбра и наловили много рыбы. Перед вечером небо вдруг как-то быстро стало расчищаться. Тучи, которые доселе лежали неподвижно ровной пеленой, разорвались. Облака имели разлохмаченный вид, двигались вразброд, навстречу друг другу, и вслед за тем налетел такой сильный ветер, что столетние деревья закачались, как слабые тростинки. В воздухе закружилась сухая трава, листва, сорванная с деревьев, и мелкие сучья. Какая-то птица пыталась было бороться с разбушевавшейся стихией, но скоро выбилась из сил. Её понесло куда-то вниз, и она скорее упала, чем спустилась на землю. Вдруг один кедр, растущий недалеко от фанзы, накренился и начал медленно падать. Со страшным грохотом рухнул он на землю, увлекая за собой соседний молодняк. Около часа свирепствовал этот вихрь и затем пропал так же неожиданно, как и появился. В лесу по-прежнему стало тихо. Я оделся, взял ружьё, свистнул собаку и пошёл вниз по реке. Отойдя немного от фанзы, я сел на камень и стал слушать. Монотонный шум ручья, который обыкновенно не замечаешь днём, вечером кажется сильнее. Внизу под обрывом плескалась рыба, по ту сторону реки в лесу ухал филин-пугач, в горах ревели изюбры и где-то поблизости тоскливо кричала кабарга. Я так увлёкся созерцанием природы, что не заметил, как прошло время. Одежда моя стала мокнуть от росы. Я вернулся в фанзу, забрался на тёплый кан и уснул как убитый. Следующие два дня (3 и 4 сентября) мы употребили на переход от Сихотэ-Алиня до устья реки Горбуши. Я намеревался сначала пройти по ней до перевала, а затем спуститься по реке Аохобе к морю. Река Горбуша (по-китайски — Дунмаца) длиной 8 километров. Общее направление её течения будет по кривой с востока к югу. Невдалеке от своего устья, с правой стороны, она принимает в себя безымянный приток, на котором есть довольно обширные пещеры. Они расположены в два яруса и идут книзу спиралями. Глубокие колодцы, ходы сообщений и сталактиты в виде колонн делают эти пещеры весьма интересными. Внутри их по стенам в виде барельефов спускаются натёки, рядом с которыми блестят друзы горного хрусталя и весьма крупные кристаллы известкового пшата. Другая пещера, меньшая по размерам, находится с левой стороны Горбуши, как раз против устья реки Безымянной. В этой пещере на мягкой наносной почве валялось много костей и виднелись свежие тигровые следы. Осмотрев обе пещеры, мы пошли дальше. В долине Горбуши развиты речные террасы. Они тянутся всё время, чередуясь то с правой, то с левой стороны. Здесь раньше были хорошие смешанные леса, впоследствии уничтоженные пожарами. Скоро выяснилось, что река Горбуша идёт вдоль Сихотэ-Алиня и в истоках подходит к нему почти вплотную. После полудня мы с Дерсу опять пошли вперёд. За рекой тропка поднялась немного на косогор. Здесь мы сели отдохнуть. Я начал переобуваться, а Дерсу стал закуривать трубку. Он уже хотел было взять её в рот, как вдруг остановился и стал пристально смотреть куда-то в лес. Через минуту он рассмеялся и сказал: — Ишь хитрый! Чего-чего понимай! — Кто? — спросил я его. Он молча указал рукой. Я поглядел в ту сторону, но ничего не видел. Дерсу посоветовал мне смотреть не на землю, а на деревья. Тогда я заметил, что одно дерево затряслось, потом ещё и ещё раз. Мы встали и тихонько двинулись вперёд. Скоро всё разъяснилось. На дереве сидел белогрудый медведь и лакомился желудями. Животное это (Ursus tibetanus F. Cuv.) no размерам своим значительно уступает обыкновенному бурому медведю. Максимальная его длина 1,8 метра, а высота в плечах 0,7 метра при наибольшем весе 160 килограммов. Окраска его шерсти — чёрная, блестящая, на груди находится белое пятно, которое захватывает нижнюю часть шеи. Иногда встречаются (правда, очень редко) такие медведи, у которых брюхо и даже лапы белые. Голова зверя конусообразная, с маленькими глазками и большими ушами. Вокруг неё растут длинные волосы, имеющие вид пышного воротника. Белогрудые медведи устраивают свои берлоги в дуплах старых тополей. Следовательно, область распространения их тесно связана с маньчжурской флорой. Северная граница этой области проходит приблизительно от устья Уссури к истокам Имана и оттуда по побережью моря к мысу Олимпиады. Главной пищей им служат: весной — корни росянки и листва белокопытника, летом — ягоды коломикты, черёмухи и жёлуди, а осенью — лещина, маньчжурские и кедровые орехи и плоды дикой яблони. В зимнюю спячку этот медведь впадает рано. Вверху, в стволе, он прогрызает небольшую отдушину, вокруг которой собирается замёрзший иней. По этому признаку охотники узнают о присутствии в дупле зверя. Подойдя к медведю шагов на сто, мы остановились и стали за ним наблюдать. «Косолапый» взобрался на самую вершину дерева и там устроил себе нечто вроде лабаза[141]. Много желудей оставалось на тех сучьях, до которых он не в силах был дотянуться. Тогда медведь начинал трясти дерево и поглядывать на землю. Расчёт его оказался правильным. Жёлуди созрели, но не настолько, чтобы осыпаться самостоятельно. Через некоторое время он спустился вниз и принялся искать в траве. — Тебе какой люди? — закричал ему Дерсу. Медведь быстро обернулся, насторожил уши и стал усиленно нюхать воздух. Мы не шевелились. Медведь успокоился и хотел было опять приняться за еду, но Дерсу в это время свистнул. Медведь поднялся на задние лапы, затем спрятался за дерево и стал выглядывать оттуда одним глазом. В это время ветер подул нам в спину. Медведь рявкнул, прижал уши и без оглядки пустился наутёк. Через несколько минут подошли казаки с конями. Подъём на перевал, высота которого измеряется в 770 метров, как со стороны реки Горбуши, так и со стороны реки Синанцы, одинаково пологий. Ближайшие горы состоят из кварцевого порфира. Отсюда Сихотэ-Алинь постепенно отходит к северо-востоку. С перевала мы спустились к реке Папигоузе, получившей своё название от двух китайских слов: «пали» — то есть береста, и «гоуз» — долинка[142]. Речка эта принимает в себя справа и слева два горных ручья. От места слияния их начинается река Синанца, что значит — Юго-западный приток. Дальше долина заметно расширяется и идёт по отношению к Сихотэ-Алиню под углом в десять градусов. Пройдя по ней километра четыре, мы стали биваком на берегу реки. Конец августа и начало сентября — самое интересное время в тайге. В это время начинается рёв изюбров и бой самцов за обладание матками. Для подзывания изюбра обыкновенно делается берестяной рожок, для чего снимается береста лентой, сантиметров десять шириной. Она скручивается спирально, и таким образом получается труба длиной в 60 — 70 сантиметров. Звук получается от втягивания в себя воздуха. Убить оленя во время рёва очень легко. Самцы, ослеплённые страстью, совершенно не замечают опасности и подходят к охотнику, когда он их подманивает рожком, почти вплотную. Мясом мы были вполне обеспечены, поэтому я не пустил казаков на охоту, но сам решил пойти в тайгу ради наблюдений. Запасшись такими рожками, мы с Дерсу отправились в лес и, отойдя от бивака с километр, разошлись в разные стороны. Выбрав место, где заросли были не так густы, я сел на пень и стал ждать. По мере того как угасал день, в лесу становилось всё тише и тише. В переходе от дня к ночи в тайге всегда есть что-то торжественное. Угасающий день нагоняет на душу чувство жуткое и тоскливое. Одиночество родит мысли, воспоминания. Я так ушёл в себя, что совершенно забыл о том, где я нахожусь и зачем пришёл сюда в этот час сумерек. Вдруг где-то на юге заревел один изюбр. Призывный крик его разнёсся по всему лесу, и тотчас в ответ ему ответил другой — совсем недалеко от меня. Это, должно быть, был старый самец. Он начал с низких нот, затем постепенно перешёл на высокие и окончил густой октавой. Я ответил ему на берестяном рожке. Не более как через минуту я услышал треск сучьев и вслед за тем увидел стройного оленя. Он шёл уверенной грациозной походкой, покачивая головой и поправляя рога, задевающие за сучья деревьев. Я замер на месте. Изюбр остановился и, закинув голову, делал носом гримасы, стараясь по запаху узнать, где находится его противник. Глаза его горели, ноздри были раздуты и уши насторожены. Минуты две я любовался прекрасным животным и совершенно не имел намерения лишать его жизни. Чувствуя присутствие врага, олень волновался. Он начал рогами рыть землю, затем поднял свою голову вверх и издал могучий крик. Лёгкий пар вылетел у него изо рта. Не успело ему ответить эхо, как со стороны Синанцы послышался другой рёв. Олень встрепенулся, как-то завыл, затем вой его перешёл в рёв, короткий и яростный. В это время олень был удивительно красив. Вдруг слева от меня послышался слабый шум. Я оглянулся и увидел самку. Когда я снова повернул голову к оленям, самцы уже дрались. С изумительной яростью они бросились друг на друга. Я слышал удары их рогов и тяжёлые вздохи, вырывающиеся из груди вместе со стонами. Задние ноги животных были вытянуты, а передние подогнуты под брюхо. Был момент, когда они так крепко сцепились рогами, что долго не могли разойтись. Сильным встряхиванием головы один олень отломал у другого верхний отросток рога и только этим освободил себя и противника. Бой изюбров продолжался минут десять. Наконец стало ясно, что один из них должен уступить. Он тяжело дышал и понемногу пятился назад. Заметив отступление противника, другой олень стал нападать ещё яростнее. Скоро оба изюбра скрылись у меня из виду. Я вспомнил про самку и стал искать её глазами. Она стояла на том же месте и равнодушно смотрела на обоих своих поклонников, сцепившихся в смертельной схватке. Шум борьбы постепенно удалялся. Очевидно, один олень гнал другого. Самка следовала сзади в некотором расстоянии… Вдруг по лесу прокатился отдалённый звук выстрела. Я понял, что это стрелял Дерсу. Только теперь я заметил, что не одни эти олени дрались. Рёв их нёсся отовсюду; в лесу стоял настоящий гомон. Начинало быстро темнеть. На небе последние вспышки зари боролись ещё с ночным мраком, быстро наступавшим с востока. Через полчаса я пришёл на бивак. Дерсу был уже дома. Он сидел у огня и чистил свою винтовку. Он мог бы убить нескольких изюбров, но ограничился одним только рябчиком. Долго сидели мы у костра и слушали рёв зверей. Изюбры не давали нам спать всю ночь. Сквозь дремоту я слышал их крики и то и дело просыпался. У костра сидели казаки и ругались. Искры, точно фейерверк, вздымались кверху, кружились и одна за другой гасли в темноте. Наконец стало светать. Изюбриный рёв понемногу стих. Только одинокие ярые самцы долго ещё не могли успокоиться. Они слонялись по теневым склонам гор и ревели, но им уже никто не отвечал. Но вот взошло солнце, и тайга снова погрузилась в безмолвие. Оставив всех людей на биваке, мы с Дерсу пошли на Сихотэ-Алинь. Для этого мы воспользовались одним из ключиков, текущих с водораздела к реке Синанце. Подъём был сначала длинный и пологий, а затем сделался крутым. Пришлось идти без тропы по густой кустарниковой заросли, заваленной горелым лесом. Приближалась осень. Листва на деревьях уже стала опадать на землю. Днём она шуршит под ногами, а вечером от росы опять становится мягкой. Это позволяет охотнику подойти к зверю очень близко. В полдень мы были на вершине Сихотэ-Алиня. Здесь я увидел знакомую картину: гарь — к востоку и замшистый хвойный лес — к западу. Восточный склон Сихотэ-Алиня крутой, а западный — пологий. Дерсу нашёл следы лося и сообщил мне, что сохатый в этих местах встречается только до Ното. Ниже этой границы он не спускается. Часам к шести пополудни мы возвратились на бивак. Было ещё довольно светло, когда наиболее ярые самцы начали реветь, сначала на высоких горах, а потом и в долинах. Бой изюбров в прошлый вечер произвёл на меня сильное впечатление; я решил опять пойти в тайгу и пригласил с собою Дерсу. Мы переправились через реку и вступили в лес, полный таинственного сумрака. Отойдя от бивака километра полтора, мы остановились около тихого ручья и стали слушать. Когда солнце скрылось за горизонтом, на землю опустились сумерки, и чем темнее становилось в тайге, тем больше ревели изюбры. Эта волшебная музыка наполняла весь лес. Мы пробовали было подходить к оленям, но неудачно. Раза два мы видели животных, но как-то плохо: или видна была одна голова с рогами, шт. задняя часть тела и ноги. В одном месте мы заметили красивого самца. Около него уже табунились три матки. Олени не стояли на месте, а тихонько шли. Мы следовали за ними по пятам. Если бы не Дерсу, я давно потерял бы их из виду. Самец шёл впереди. Он чувствовал, что он сильней других самцов, и потому отвечал на каждый брошенный ему вызов. Вдруг Дерсу остановился и стал прислушиваться. Он повернулся назад и замер в неподвижной позе. Оттуда слышался рёв старого быка, но только ноты его голоса были расположены не в том порядке, как обыкновенно у изюбров. — Гм, тебе понимай, какой это люди? — спросил меня тихо Дерсу. Я ответил, что думаю, что это изюбр, но только старый. — Это амба, — ответил он мне шёпотом. — Его шибко хитрый. Его постоянно так изюбра обмани. Изюбр теперь понимай нету, какой люди кричи, амба скоро матка поймай есть. Как бы в подтвержденье его слов, в ответ на рёв тигра изюбр ответил громким голосом. Тотчас ответил и тигр. Он довольно ловко подражал оленю, но только под конец его рёв закончился короткиммурлыканьем. Тигр приближался и, вероятно, должен был пройти близко от нас. Дерсу казался взволнованным. Сердце моё усиленно забилось. Я поймал себя на том, что чувство страха начало овладевать мной. Вдруг Дерсу принялся кричать: — А-та-та, та-та-та, та-та-та!… После этого он выстрелил из ружья в воздух, затем бросился к берёзе, спешно сорвал с неё кору и зажёг спичкой. Ярким пламенем вспыхнула сухая береста, и в то же мгновение вокруг нас сразу стало вдвое темнее. Испуганные выстрелом изюбры шарахнулись в сторону, а затем всё стихло. Дерсу взял палку и накрутил на неё горящую бересту. Через минуту мы шли назад, освещая дорогу факелом. Перейдя реку, мы вышли на тропинку и по ней возвратились на бивак.
Глава 23 Охота на медведя

Река Аохобе. — Лудева. — Береговая тропа. — Страшный зверь. — Три выстрела. — Бегство. — Бурый медведь. — Трофей, закопанный в землю. — Дерсу по следам восстанавливает картину борьбы с медведем. — Возвращение на бивак. — От реки Мутухе до Сеохобе. — Река Мутухе. — Отставшие перелётные птицы. — Лежбище сивучей. — Злоупотребление огнестрельным оружием. — Пал. — Поиски бивака. — Дым и холодные утренники. — Озера около реки Сеохобе. — Хищничество китайцев
На другой день, 7 сентября, мы продолжали наше путешествие. От китайского охотничьего балагана шли две тропы: одна — вниз, по реке Синанце, а другая — вправо, по реке Аохобе (по-удэгейски — Эhe, что значит — черт). Если бы я пошёл по Синанце, то вышел бы прямо к заливу Джигит. Тогда побережье моря между реками Тютихе и Иодзыхе осталось бы неосмотренным. Поэтому я решил спуститься к морю по реке Аохобе, а Синанцу осмотреть впоследствии. Сначала путь наш лежал на юг по небольшой тропинке, проложенной по самому верхнему и правому притоку Синанцы, длиной в два-три километра. Горы в этих местах состоят из порфиров, известняков и оруденелых фельзитов. Во многих местах я видел прожилки серебросвинцовой руды, цинковой обманки и медного колчедана. Поднявшись на перевал высотой в 270 метров, я стал осматриваться. На северо-западе высокой грядой тянулся голый Сихотэ-Алинь, на юге виднелась река Тютихе, на востоке — река Мутухе и прямо на запад шла река Дунца — приток Аохобе. По ней нам и надлежало идти. Всюду на горах лес был уничтожен пожарами; он сохранился только в долинах как бы отдельными островками. После короткого отдыха на перевале мы начали спускаться к реке Дунце, протекающей по небольшой извилистой долине, поросшей берёзой, бархатом и тополем. Вскоре мы наткнулись на какой-то забор. Это оказалась лудева. Она пересекала долину Аохобе поперёк и шла дальше по правому её притоку на протяжении 14 километров. При лудеве находилась фанза с двором, окружённым высоким частоколом. Здесь обыкновенно производится операция снимания пантов с живых оленей. За фанзой около забора были выстроены какие-то клетки, похожие на стойла. В этих клетках китайцы держат оленей до тех пор, пока их рога не достигнут наибольшей ценности. Справа у забора стоял амбар на сваях. В нём хранились кожи изюбров, сухие рога и более 190 килограммов жил, вытянутых из задних ног животных. Сваренные панты и высушенные оленьи хвосты висели рядами под коньком у самой крыши. В фанзе мы застали четырёх китайцев. Сначала они испугались, но затем, когда увидели, что мы им зла не хотим причинить, успокоились, и раболепство их сменилось услужливостью. Вечером в фанзу пришли ещё три китайца. Они что-то рассказывали и ужасно ругались, а Дерсу смеялся. Я долго не мог понять, в чём дело. Оказалось, что в одну из ям попал медведь. Конечно, он сейчас же вылез оттуда и принялся ломать забор и разбрасывать покрышки, которыми были замаскированы ямы. Теперь китайцам предстояла большая работа по приведению их в порядок. Лудевая фанза была маленькая, и китайцев набралось в ней много, поэтому я решил пройти ещё несколько километров и заночевать под открытым небом. Дальше тропа пошла по долине реки Аохобе, придерживаясь левой её стороны. Здесь особенно развиты речные террасы с массивно-кристаллическим основанием, высотой до 4 метров. Средняя часть долины Аохобе свободна от леса, но тем не менее совершенно непригодна для занятия земледелием. Тонкий слой земли едва прикрывает жёсткую каменистую почву и легко смывается водой. По теневым склонам гор растёт редкий смешанный лес, состоящий из кедра, бархата, липы, дуба, тополя, берёзы, ореха и т. д. На солнцепеках — кустарники лещины, леспедецы, калины и таволги. Около реки, где больше влаги, — заросли тонкоствольных тальников, ольхи и осины. В нижней части живёт много китайцев. На реке Аохобе они появились не более двадцати лет тому назад. Раньше здесь жили удэгейцы, впоследствии вымершие и частью переселившиеся на другое место. Если смотреть на долину со стороны моря, то она кажется очень короткой. Когда-то это был глубокий морской залив, и устье Аохобе находилось там, где суживается долина. Шаг за шагом отходило море и уступало место суше. Но самое интересное в долине — это сама река. Километрах в пяти от моря она иссякает и течёт под камнями. Только во время дождей вода выступает на дневную поверхность и тогда идёт очень стремительно. С Тютихе на Аохобе можно попасть и другой дорогой. Расстояние между ними всего только семь километров. Тропа начинается от того озерка, где мы с Дерсу стреляли уток. Она идёт по ключику на перевал, высота которого равна 310 метрам. Редколесье по склонам гор, одиночные старые дубы в долинах и густые кустарниковые заросли по увалам — обычные для всего побережья. Спуск на Аохобе в два раза длиннее, чем подъем со стороны Тютихе. Тропа эта продолжается и далее по побережью моря. Между рекой Синанцей, о которой говорилось выше, и рекой Аохобе тянется невысокий горный хребет, состоящий из кварцевого порфира. От него к морю идёт несколько отрогов, между которыми текут небольшие горные речки, имеющие обычно китайские числительные названия: Турлдагоу, Эрлдагоу, Сандагоу и Сыдагоу. Тропа пересекает их в самых истоках. После полудня мы как-то сбились с дороги и попали на зверовую тропу. Она завела нас далеко в сторону. Перейдя через горный отрог, покрытый осыпями и почти лишённый растительности, мы случайно вышли на какую-то речку. Она оказалась притоком Мутухе. Русло её во многих местах было завалено буреломным лесом. По этим завалам можно судить о размерах наводнений. Видно, что на Мутухе они коротки, но чрезвычайно стремительны, что объясняется близостью гор и крутизной их склонов. Пока земля прикрыта дёрном, она может ещё сопротивляться воде, но как только цельность дернового слоя нарушена, начинается размывание. Быстро идущая вода уносит с собой лёгкие частицы земли, оставляя на месте только щебень. От ила, который вместе с пресной водой выносится реками, море около берегов, полосой в несколько километров, из тёмно-зелёного становится грязно-жёлтым. Долину реки Мутухе можно считать самым зверовым местом на побережье моря. Из зарослей леспедецы и орешника то и дело выбегали олени, козули и кабаны. Казаки ахали, волновались, и мне стоило немалого труда удержать их от стрельбы и бесполезного истребления животных. Часа в три дня я подал сигнал к остановке. Мне очень хотелось убить медведя. «Другие бьют медведей один на один, — думал я, — почему бы мне не сделать то же?» Охотничий задор разжёг во мне чувство тщеславия, и я решил попытать счастья. Многие охотники рассказывают о том, что они били медведя без всякого страха, и выставляют при этом только комичные стороны охоты. По рассказу одних, медведь убегает после выстрела; другие говорят, что он становится на задние лапы и идёт навстречу охотнику, и что в это время в него можно влепить несколько пуль. Дерсу не соглашался с этим. Слушая такие рассказы, он сердился, плевался, но никогда не вступал в пререкания. Узнав, что я хочу идти на медведя один, он посоветовал мне быть осторожнее и предлагал свои услуги. Его уговоры ещё больше подзадорили меня, и я ещё твёрже решил во что бы то ни стало поохотиться за «косолапым» в одиночку. Я отошёл от бивака не более полкилометра, но уже успел вспугнуть двух козуль и кабана. Здесь так много зверя, что получалось впечатление заповедника, где животные собраны в одно место и ходят на свободе. Перейдя ручей, я остановился среди редколесья и стал ждать. Через несколько минут я увидел оленя: он пробежал по опушке леса. Рядом в орешнике шумели кабаны и взвизгивали поросята. Вдруг впереди меня послышался треск сучьев, и вслед за тем я услыхал чьи-то шаги. Кто-то шёл мерной тяжёлой походкой. Я испугался и хотел было уйти назад, но поборол в себе чувство страха и остался на месте. Вслед за тем я увидел в кустах какую-то тёмную массу. Это был большой медведь. Он шёл наискось по увалу и был немного больше меня. Он часто останавливался, копался в земле, переворачивал валежник и что-то внимательно под ним рассматривал. Выждав, когда зверь был от меня шагах в сорока, я медленно прицелился и спустил курок. Сквозь дым выстрела я видел, как медведь с рёвом быстро повернулся и схватил себя зубами за то место, куда ударила пуля. Что дальше случилось, я плохо помню. Всё произошло так быстро, что я уже не мог разобраться, что чему предшествовало. Тотчас же после выстрела медведь во весь дух бросился ко мне навстречу. Я почувствовал сильный толчок, и в то же время произошёл второй выстрел. Когда и как я успел зарядить ружьё, это для меня самого осталось загадкой. Кажется, я упал на левую сторону. Медведь перевернулся через голову и покатился по склону вправо. Как случилось, что я очутился опять на ногах и как я не выпустил ружья из рук, — не помню. Я побежал вдоль увала и в это время услышал за собой погоню. Медведь бежал за мной следом, но уже не так быстро, как раньше. Каждый свой прыжок он сопровождал грузными вздохами и ворчанием. Вспомнив, что ружьё моё заряжено, я остановился. «Надо стрелять! От хорошего прицела зависит спасение жизни», — мелькнуло у меня в голове. Я вставил приклад ружья в плечо, но ни мушки, ни прицела не видел. Я видел только мохнатую голову медведя, его раскрытый рот и злобные глаза. Если бы кто-нибудь в это время посмотрел на меня со стороны, то, наверное, увидел бы, как лицо моё исказилось от страха. Я ни за что не поверю охотникам, уверяющим, что в зверя, бегущего им навстречу, они стреляют так же спокойно, как в пустую бутылку. Это неправда! Неправда потому, что чувство самосохранения свойственно всякому человеку. Вид разъярённого зверя не может не волновать охотника и непременно отразится на меткости его стрельбы. Когда медведь был от меня совсем близко, я выстрелил почти в упор. Он опрокинулся, а я отбежал снова. Когда я оглянулся назад, то увидел, что медведь катается по земле. В это время с правой стороны я услышал ещё шум. Инстинктивно я обернулся и замер на месте. Из кустов показалась голова другого медведя, но сейчас же опять спряталась в зарослях. Тихонько, стараясь не шуметь, я побежал влево и вышел на реку. Минут двадцать я бесцельно бродил по одному месту, пока не успокоился. Идти на бивак с пустыми руками стыдно. Если я убил медведя, то бросить его было жалко. Но там был ещё другой медведь, не раненый. Что делать? Так и бродил до тех пор, пока солнце не ушло за горизонт. Лучи его оставили землю и теперь светили куда-то в небо. Тогда я решил пойти стороной и издали взглянуть на медведей. Чем ближе я подходил к опасному месту, тем становилось страшнее. Нервы мои были напряжены до последней крайности. Каждый шорох заставлял меня испуганно оборачиваться. Всюду мне мерещились медведи, всюду казалось, что они идут за мной по пятам. Я часто останавливался и прислушивался. Наконец я увидел дерево, около которого в последний раз свалился медведь. Оно показалось мне особенно страшным. Я решил обойти его по косогору и посмотреть с гребня увала. Вдруг я заметил, что в кустах кто-то шевелится. «Медведь!» — подумал я и попятился назад. Но в это время услышал человеческий голос. Это был Дерсу. Я страшно обрадовался и побежал к нему. Увидев меня, гольд сел на лежавшее на земле дерево и стал закуривать свою трубку. Я подошёл к нему и спросил, как он попал сюда. Дерсу рассказал мне, что с бивака он услышал мои выстрелы и пошёл мне на помощь. По следам он установил, где я стрелял медведя и как он на меня бросился. Затем он указал место, где я упал; дальше следы показали ему, что медведь гнался за мной, и т. д. Одним словом, он рассказал мне всё, что со мной случилось. — Должно быть, подранок ушёл, — сказал я своему товарищу. — Его остался здесь, — ответил Дерсу и указал на большую кучу земли. Я понял все. Мне вспомнились рассказы охотников о том, что медведь, найдя какое-нибудь мёртвое животное, всегда закапывает его в землю. Когда мясо станет разлагаться, он лакомится им. Но я не знал, что медведь закапывает медведя. Для Дерсу это тоже было новинкой. Через несколько минут мы откопали медведя. Кроме земли, на него было наложено много камней и валежника. Я стал раскладывать огонь, а Дерсу принялся потрошить зверя. Убитый мной медведь был из крупных, чёрно-бурой масти. Вид этот (Ursus arctos L.) близок к американскому гризли. Длина его тела равняется 2,4, высота — 1,2 метра, а вес достигает до 330 килограммов. Он имеет притуплённую морду, небольшие уши и маленькие глаза. К гигантской силе его надо прибавить крепкие клыки и когти в 8 сантиметров длиной. Животное это распространено по всему Уссурийскому краю, но чаще всего встречается в северной его половине и на берегу моря между мысом Гиляк и устьем Амура. Любопытно то, что окраска его на юге чёрная, а чем севернее, тем больше приближается к светло-бурой. Нрав этого медведя довольно добродушный, пока его не трогают, но раненный он становится положительно ужасен. Во время течки самцы очень злы. Они слоняются по тайге, нападают на животных и гоняются даже за рябчиками. Пища их главным образом растительная, но при случае они не прочь полакомиться мясом и рыбой. Берлогу бурый медведь устраивает под корнями деревьев, в расщелинах камней и даже просто в земле. Подобно своим четвероногим сородичам, он чрезвычайно любит забиваться в пещеры и жить в них не только зимой, но даже и в тёплое время года. В зимнюю спячку бурый медведь впадает поздно. Некоторые из них бродят по тайге иногда до декабря. Они не любят лазать по деревьям; быть может, препятствием этому служит их большой вес. В убитого мною медведя попали все три пули: одна в бок, другая в грудь и третья в голову. Когда Дерсу закончил свою работу, было уже темно. Подложив в костёр сырых дров, чтобы они горели до утра, мы тихонько пошли на бивак. Вечер был тихий и прохладный. Полная луна плыла по ясному небу и, по мере того как свет луны становился ярче, наши тени делались короче и чернее. По дороге мы опять вспугнули диких кабанов. Они с шумом разбежались в разные стороны. Наконец между деревьями показался свет. Это был наш бивак. После ужина казаки рано легли спать. За день я так переволновался, что не мог уснуть. Я поднялся, сел к огню и стал думать о пережитом. Ночь была ясная, тихая. Красные блики от огня, чёрные тени от деревьев и голубоватый свет луны перемешивались между собой. По опушкам сонного леса бродили дикие звери. Иные совсем близко подходили к биваку. Особенным любопытством отличались козули. Наконец я почувствовал дремоту, лёг рядом с казаками и уснул крепким сном. На рассвете раньше всех проснулся Дерсу. Затем встал я, а потом и другие. Солнце только что взошло и своими лучами едва озарило верхушки гор. Как раз против нашего бивака, шагах в двухстах, бродил ещё один медведь. Он всё время топтался на одном месте. Вероятно, он долго ещё ходил бы здесь, если бы его не спугнул Мурзин. Казак взял винтовку и выстрелил. Медведь круто обернулся, посмотрел в нашу сторону и проворно исчез в лесу. Закусив немного, мы собрали свои котомки и тронулись в путь. Около моря я нашёл место бивака Н. А. Пальчевского. Из письма, оставленного мне в бутылке, привязанной к палке, я узнал, что он здесь работал несколько дней тому назад и затем отправился на север, конечным пунктом наметив себе бухту Терней. Река Мутухе (по-удэгейски — Ца-уги) впадает в бухту Опричник (440 27' северной широты и 390 40' восточной долготы от Гринвича), совершенно открытую со стороны моря и потому для стоянки судов не пригодную. Глубокая заводь реки, сразу расширяющаяся долина и необсохшие болота вблизи моря указывают на то, что раньше здесь тоже был залив, довольно глубоко вдававшийся в сушу. По береговым валам около самой бухты растёт ползучий даурский можжевельник (Juniperus dahyrica Pall.), а по болотам — кустарниковая берёза (Betula fruticosa Pall.) с узкокрылыми плодами. Название Мутухе есть искажённое китайское название Му-чжу-хе («мугу» — самка, «чжу» — дикий кабан, «хе» — река, что значит — Река диких свиней). Она течёт вдоль берега моря по тектонической долине и принимает в себя, не считая мелких горных ручьёв, три притока с правой стороны. Так как речки эти не имели раньше названий, то я окрестил их. Первую речку я назвал Оленьей, вторую — Медвежьей, третью — Зверовой. Там, где долина Оленьей реки сходится с долиной реки Медвежьей, на конце увала приютилась маленькая фанза. Она была пуста. Окинув её взором, Дерсу сказал, что здесь живут корейцы, четыре человека, что они занимаются ловлей соболей и недавно ушли на охоту на всю зиму. Здесь по речкам, в болоте и на берегу моря на песке мы застали кое-каких перелётных птиц. Судя по малочисленности как особей, так и видов, видно, что по берегу моря не бывает большого перелёта. Тут было несколько амурских кроншнепов. Они красиво расхаживали по траве. При приближении нашем птицы останавливались, пристально смотрели на нас и затем с хриплым криком снимались с места. Отлетев немного, они опять спускались на землю, но были уже настороже. В другой стороне, около воды, ходила восточная белолобая казарка. Я сначала принял её за гуся. Она мне показалась больше размерами, чем есть на самом деле. Мурзин обошёл её по кустам и убил пулей. Из уток здесь было много маленьких чирков. Они держались в ручьях, заросших ольхой и кустарниками. Когда я очень близко подходил к ним, они не улетали, а только немного отплывали в сторону, и, видимо, совершенно не боялись человека. От корейской фанзы вверх по реке Мутухе идёт тропа. Она долгое время придерживается правого берега реки и только в верховьях переходит на другую сторону. Горы, окаймляющие долину Мутухе, состоят большей частью из кварцевого порфира. Между реками Оленьей, Медвежьей и Зверовой, по выходе в долину, они кончаются широкими террасами в 20 метров высотой. Слева (по течению) растёт лес хвойный и смешанный, справа — лиственный. Река Мутухе — самое близкое к морю место, где произрастает строевой кедр. Он достигает здесь высоты 22 метров и имеет в обхвате 3 — 3,5 метра. В верховьях реки небольшими рощицами встречается также тис (Taxus cuspidata S. ef Z.). Этот представитель реликтовой флоры нигде в крае не растёт сплошными лесонасаждениями; несмотря на возраст в триста — четыреста лет, он не достигает больших размеров и очень скоро становится дуплистым. Путь по реке Мутухе до перевала чрезвычайно каменист, и движение по нему затруднительно. Расщелины в камнях и решетины между корнями представляют собою настоящие ловушки. Опасения поломать ногу коням делают эту дорогу труднопроходимой. Надо удивляться, как местные некованые китайские лошади ухитряются ходить здесь да ещё нести на себе значительные тяжести. Пройдя по реке километров пять, мы повернули на восток к морю. Уже с утра я заметил, что в атмосфере творится что-то неладное. В воздухе стояла мгла; небо из синего стало белесоватым; дальних гор совсем не было видно. Я указал Дерсу на это явление и стал говорить ему многое из того, что мне было известно из метеорологии о сухой мгле. — Моя думай, это дым, — отвечал он. — Ветер нету, который сторона гори, понимай не могу. Едва мы поднялись наверх, как сразу увидели, в чём дело. Из-за гор, с правой стороны Мутухе, большими клубами подымался белый дым. Дальше, на севере, тоже курились сопки. Очевидно, пал уже успел охватить большое пространство. Полюбовавшись им несколько минут, мы пошли к морю и, когда достигли береговых обрывов, повернули влево, обходя глубокие овраги и высокие мысы. Я обратил внимание, как на распространение звуковых волн влияли встречающиеся на пути препятствия. Как только мы заходили за какую-нибудь вершину, шум дождя замирал, но когда приближались к расщелине, он опять становился явственным. Вдруг какие-то странные звуки, похожие на хриплый и протяжный лай, донесло до нас ветром снизу. Я тихонько подошёл к краю обрыва, и то, что увидел, было удивительно интересно. Множество сивучей, больших и малых, лежало на берегу моря. Сивуч (Eumetopias Stelleri Gray.) относится к отряду ластоногих (Pinnipedl) и к семейству ушастых тюленей (Otariidae). Это довольно крупное животное и достигает 4 метров длины и 3 метров в обхвате около плеч при весе 680 — 800 килограммов. Он имеет маленькие ушные раковины, красивые чёрные глаза, большие челюсти с сильными клыками, длинную сравнительно шею, на которой шерсть несколько длиннее, чем на всём остальном теле, и большие ноги (ласты) с голыми подошвами. Обыкновенно самцы в два раза больше самок. В Приморской области сивучи встречаются по всему побережью Японского моря. За ними охотятся туземцы, главным образом ради их толстой шкуры, которая идёт на обувь и на выделку ремней для собачьей упряжки. Нежиться на камнях, обдаваемых пеной прибоя, видимо, доставляло сивучам большое удовольствие. Они потягивались, закидывали голову назад, подымали кверху задние ноги насколько возможно, поворачивались вверх брюхом и вдруг совершенно неожиданно соскальзывали с камня в воду. Камень не оставался свободным, тотчас же около него показывалась другая голова, и другое животное спешило занять вакантное место. На берегу лежали самки и рядом с ними молодняк, а в стороне около пещер, выбитых волнением, дремали большие самцы. Старые были светло-бурого цвета, молодые более тёмные. Последние держали себя как-то особенно гордо. Подняв кверху голову, они медленно поворачивали ею из стороны в сторону, и, несмотря на своё неуклюжее тело, им нельзя было отказать в грации. По манере себя держать, по величию и быстроте движений они заслуживали бы названия морских львов, как и их сородичи у берегов Калифорнии. По свойственной казакам-охотникам привычке Мурзин поднял своё ружьё и стал целиться в ближайшего к нам сивуча, но Дерсу остановил его и тихонько в сторону отвёл винтовку. — Не надо стреляй, — сказал он. — Таскай не могу. Напрасно стреляй — худо, грех. Тут только мы заметили, что к лежбищу ни с какой стороны подойти было нельзя. Справа и слева оно замыкалось выдающимися в море уступами, а со стороны суши были отвесные обрывы метров 50 высотой. К сивучам можно было только подъехать на лодке. Убитого сивуча взять с собой мы не могли; значит, убили бы его зря и бросили бы на месте. Вместе с тем меня поразил Дерсу своими словами. Напрасно стрелять грех! Какая правильная и простая мысль! Почему же европейцы часто злоупотребляют оружием и сплошь и рядом убивают животных так, ради выстрела, ради забавы? Минут двадцать мы наблюдали сивучей. Я не мог оторвать от них своих глаз. Вдруг я почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо. — Капитан! Надо ходи, — говорил Дерсу. Идти по вершине хребта всегда легче, чем косогором, потому что выдающиеся вершины можно обходить по горизонталям. Когда мы вышли опять на тропу, ночь уже опустилась на землю. Нам предстояло теперь подняться на высокую гору и оттуда спуститься в седловину. Высота перевала оказалась равной 740 метрам. Картина, которую я увидел с вершины горы, так поразила меня, что я вскрикнул от удивления. Шёл пал, линия огней опоясывала горы, словно иллюминация. Величественная и жуткая картина. Огни мерцали и гасли, но тотчас вновь разгорались с большой силой. Они уже перешли через седловины и теперь спускались в долину. Наиболее высокие вершины ещё не были во власти огня. Пал шёл кверху правильным кольцом, точно на приступ. На небе стояли два зарева. Одно на западе, другое на востоке. Одно трепетало, другое было покойное. Начинала выходить луна. Из-за горизонта показался сначала край её. Медленно, нерешительно выплывала она из воды, всё выше и выше, большая, тусклая и багровая… — Капитан! Ходи надо, — шепнул опять мне Дерсу. Мы спустились в долину и, как только нашли воду, тотчас же остановились среди дубового редколесья. Дерсу велел нам нарвать травы для бивака, а затем пустил встречный пал. Как порох, вспыхнули сухая трава и опавшие листья. Огонь быстро пошёл по ветру и в стороны. Теперь лес имел сказочный феерический вид. Я стал следить за палом. Огонь шёл по листве довольно медленно, но когда добирался до травы, то сразу перескакивал вперёд. Жар увлекал кверху сухую ветошь. Она летела и горела в воздухе. Таким образом огонь перебрасывался всё дальше и дальше. Наконец пал подошёл к кустам. С сильным шумом взвилось огромное пламя. Тут росла жёлтая берёза с лохматой корой. В одно мгновение она превратилась в сплошной факел, но только на минуту; кора обгорела и потухла. Старые деревья с сухой сердцевиной горели, стоя на корню. Позади пала там и сям взвивались струйки белого дыма: это тлели на земле головешки. Испуганные животные и птицы спасались бегством. Мимо меня пробежал заяц; по начинавшему загораться колоднику прыгал бурундук; с резкими криками от одного дерева к другому носился пёстрый дятел. Я шёл за огнём всё дальше и дальше, не опасаясь заблудиться, шёл до тех пор, пока желудок не напомнил, что пора возвратиться назад. Я полагал, что костёр укажет мне место бивака. Обернувшись, я увидел много огней — это догорал валежник. Который из них был наш огонь, я разобрать не мог. Один из огней мне показался больше других. Я направился к нему, но это оказался горящий сухой пень. Я пошёл к другому — опять то же. Так я переходил от огня к огню и все не мог найти бивака. Тогда я принялся кричать. Совсем с другой стороны донёсся до меня отклик. Я повернул обратно и вскоре добрался до своих. Мои спутники подтрунивали надо мной, и я сам от души смеялся. Опасения Дерсу сбылись. Во вторую половину ночи пал стал двигаться прямо на нас, но, не найдя себе пищи, прошёл стороной. Вопреки ожиданиям, ночь была тёплая, несмотря на безоблачное небо. В тех случаях, когда я видел что-либо непонятное, я обращался к Дерсу и всегда получал от него верные объяснения. — Мороз ходи не могу, — ответил он. — Посмотри кругом, дыму много. Тогда я вспомнил, как садоводы при помощи дымокуров спасают сады свои от утренников. Днём мы видели изюбра; он пасся около горящего валежника. Олень спокойно перешагнул через него и стал ощипывать кустарники. Частые палы, видимо, приучили животных к огню, и они перестали его бояться. Солнечный восход застал нас в дороге. После спуска с перевала тропа некоторое время идёт по береговому валу, сложенному из скатанной гальки, имея справа море, а слева — болото. Вал этот и болото свидетельствуют о том, что здесь раньше была лагуна. На другом склоне вала лежали огромные валуны из гнейса. Никакое волнение не могло забросить их так высоко. Появление их на намывной полосе прибоя надо приписать действию льдов, которые в зимнее время нагоняются сюда ветрами и «припахивают» берег. Кроме валунов, здесь было также много китовых костей: лопатки, ребра, позвонки и части черепа. Вероятно, волнением прибило к берегу целый труп животного. Звери и птицы позаботились убрать всё, что можно; остались одни кости. Отдохнув немного, мы пошли дальше. Через час пути тропа привела нас к озёрам. Их быстро три: Малое, Среднее и Долгое. Последнее было километра три длиной. С западной стороны в него впадает река Сеохобе (то есть Река первого снега), почему-то названная на морских картах Ядихой. Местность между озёрами сильно заболочена. Только один вал из песка и гальки отделяет их от моря. Здесь мы видим опять исчезнувшую бухту. Когда-то залив этот был много длиннее и загибался на север. Около болот тропа разделилась. Одна пошла влево к горам, а другая по намывной полосе прибоя. Эта последняя привела нас к небольшой, но глубокой протоке, которой озеро Долгое сообщается с морем. Нечего делать, пришлось остановиться здесь, благо в дровах не было недостатка. Море выбросило на берег много плавника, а солнце и ветер позаботились его просушить. Одно только было нехорошо: в лагуне вода имела солоноватый вкус и неприятный запах. По пути я заметил на берегу моря каких-то куликов. Вместе с ними всё время летал большой улит. Он имел белое брюшко, серовато-бурую с крапинками спину и тёмный клюв. Пока казаки ставили палатку и таскали дрова, я успел сбегать на охоту. Птицы первый раз подпустили меня близко. Я убил четырёх и воротился назад. Бивак наш был не из числа удачных: холодный резкий ветер всю ночь дул с запада по долине, как в трубу. Пришлось спрятаться за вал к морю. В палатке было дымно, а снаружи холодно. После ужина все поспешили лечь спать, но я не мог уснуть — все прислушивался к шуму прибоя и думал о судьбе, забросившей меня на берег Великого океана. Двадцатого сентября погода весь день стояла тёплая и сухая. Я решил заняться обследованием реки Сеохобе. Сперва нам надлежало переправиться через озеро. При отсутствии лодок сделать это было нелегко. Надо было или вязать плоты, или попытаться перейти вброд. Я решился на последнее средство, как скорейшее. Опыт вышел удачным. Озеро оказалось мелким: самые глубокие места едва достигали 6 метров. Мели были извилистые. Мы всё время шли ощупью по пояс в воде. По мере приближения к реке вода заметно становилась холоднее. Как только мы вышли на берег, сразу попали на тропу. Река Сеохобе длиной 22 километра. Истоки её приходятся против среднего течения Синанцы, о которой упоминалось выше. Она, собственно говоря, состоит из двух речек одинаковой величины, сливающихся вместе в 5 километрах от устья. Немного ниже Сеохобе принимает в себя справа ещё один небольшой приток. Тут ходили изюбры целыми стадами. Рёв уже окончился; самцы отабунили около себя самок; вскоре олени должны были разойтись поодиночке. Заметно, что с каждым днём птиц становится всё меньше и меньше. За эти дни я заметил только уссурийскую длиннохвостую неясыть — птицу, смелую ночью и трусливую днём; в яркие солнечные дни она забивается в глухие хвойные леса не столько ради корма, сколько ради мрака, который там всегда господствует; уссурийского белоспинного дятла — самого крупного из семейства Picidae, птица эта держится в старых смешанных лесах, где есть много рухляка и сухостоев; клинохвостого сорокопута — жадного и задорного хищника, нападающего даже на таких птиц, которые больше его размерами; зелёного конька, обитающего по опушкам лесов, и черноголовых овсянок — красивых, желтобрюхих птичек с чёрными шапочками на головках. Они предпочитали открытые места теневым и собирались в небольшие стайки. Тропа, по которой мы шли, привела нас к лудеве длиной в 24 километра, с 74 действующими ямами. Большего хищничества, чем здесь, я никогда не видел. Рядом с фанзой стоял на сваях сарай, целиком набитый оленьими жилами, связанными в пачки. Судя по весу одной такой пачки, тут было собрано жил, вероятно, около 700 килограммов. Китайцы рассказывали, что оленьи сухожилья раза два в год отправляют во Владивосток, а оттуда в Чифу. На стенках фанзочки сушилось около сотни шкурок сивучей. Все они принадлежали молодняку. Не было сомнения, что китайцы знали о лежбище ластоногих около реки Мутухе и хозяйничали там так же хищнически, как на Сеохобе. — Все кругом скоро манза совсем кончай, — сказал Дерсу. — Моя думай, ещё десять лет — олень, соболь, белка пропади есть. Со словами Дерсу нельзя было не согласиться. У себя на родине китайцы уничтожили все живое. У них в стране остались только вороны, собаки и крысы. Даже в море, вблизи берегов, они уничтожили всех трепангов, крабов, моллюсков и всю морскую капусту. Богатый зверем и лесами Приамурский край ожидает та же участь, если своевременно не будут приняты меры к борьбе с хищничеством китайцев. Около моря, в полукилометре от озера, есть ещё одна небольшая лудева. Она длиной 3 километра и имеет 7 ям. В озеро Долгое с севера впадает маленькая безымянная речка, протекающая по болотистой долине. Здесь тропа становится весьма мокрой и вязкой. Местами при ходьбе ощущается колебание почвы. Вероятно, в дождливое время года путь этот труднопроходим. После перевала (высотой 150 метров) тропа придерживается левого берега маленькой речонки, впадающей в реку Тхеибе. Эта последняя длиной 5 километров и не менее болотиста, чем река Безымянная. Положение этих двух долин, параллельных берегу моря, определяет направление невысокого прибрежного горного хребта, отмытого вдоль оси своего простирания и состоящего из кварцитов и ещё из какой-то кремнистой породы.
Глава 24 Встреча с хунхузами

Следы. — Хунхузы. — Дерсу на разведках. — Перестрелка. — Чжан Бао. — Река Дунгоу. — Гора Хунтами. — Река Мулумбе. — Озеро Благодати. — Река Каимбе. — Грибная фанза. — «Каменная кожа». — Путь на реку Санхобе. — Отъезд Н. А. Пальчевского и А. И. Мерзлякова
Днём на тропе Дерсу нашёл человеческие следы. Он стал внимательно их изучать. Один раз он поднял окурок папиросы и кусок синей дабы. По его мнению, здесь проходили два человека. Это не были рабочие-манзы, а какие-то праздные люди, потому что трудящийся человек не бросит новую дабу только потому, что она запачкана; он и старую тряпку будет носить до тех пор, пока она совсем не истреплется. Затем, рабочие курят трубки, а папиросы для них слишком дороги. Продолжая свои наблюдения, он нашёл место, где прошедшие два человека отдыхали, причём один из них переобувался; брошенная ружейная гильза указала на то, что китайцы были вооружены винтовками. Чем дальше мы шли, тем разнообразнее были находки. Вдруг Дерсу остановился. — Ещё два люди ходили, — сказал он. — Теперь четыре стало. Моя думай, это худые люди. Мы посоветовались и решили оставить тропу и пойти целиной. Взобравшись на первую попавшуюся сопку, мы стали осматриваться. Впереди, километрах в четырёх от нас, виднелся залив Пластун; влево — высокий горный хребет, за которым, вероятно, должна быть река Синанца; сзади — озеро Долгое, справа — цепь размытых холмов, за ними — море. Не заметив ничего подозрительного, я хотел было опять вернуться на тропу, но гольд посоветовал спуститься к ключику, текущему к северу, и дойти по нему до реки Тхетибе.
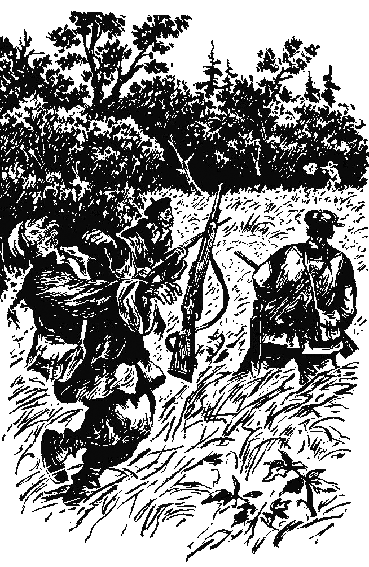
Через час пути мы дошли до опушки леса. Здесь Дерсу велел нам ожидать его возвращения, а сам пошёл на разведки. Тхетибе представляет собой небольшую горную речку, протекающую по широкой и заболоченной долинке, поросшей ивой, ольхой и белой берёзой. Приближались сумерки. Болото приняло одну общую жёлто-бурую окраску и имело теперь безжизненный и пустынный вид. Горы спускались в синюю дымку вечернего тумана и казались хмурыми. По мере того как становилось темнее, ярче разгоралось на небе зарево лесного пожара. Прошёл час, другой, а Дерсу не возвращался. Я начал беспокоиться. Вдруг где-то далеко послышался крик, затем раздались четыре выстрела, опять крик и ещё один выстрел. Я хотел бежать было туда, но вспомнил, что таким образом мы потеряем друг друга. Минут через двадцать гольд возвратился. Вид его был крайне встревоженный. Насколько возможно, он спешно рассказал, что с ним случилось. Идя по следам четырёх человек, он дошёл до залива Пластун и здесь увидел палатку. В ней было около двадцати вооружённых китайцев. Убедившись, что это хунхузы, он пополз по кустам обратно, но в это время его учуяла собака и подняла лай. Три китайца схватили ружья и бросились за ним в погоню. Убегая, Дерсу попал в зыбучее болото. Хунхузы закричали, чтобы он остановился, и затем стали стрелять. Выйдя на сухое место, Дерсу прицелился с колена в одного из разбойников и выстрелил. Он хорошо видел, что китаец упал. Двое других остались около раненого, а он побежал дальше. Чтобы сбить хунхузов с толку, Дерсу на глазах у них нарочно направился в сторону, противоположную той, где мы притаились, а затем кружным путём вернулся обратно. — Моя рубашка хунхузы дырку делай, — сказал Дерсу и показал свою куртку, простреленную пулей — Надо наша скоро ходи, — закончил он свой рассказ и стал надевать котомку. Мы тихонько двинулись вперёд, стараясь не шуметь. Гольд повёл нас осыпями по сухому ложу речки и избегая тропинок. Часов в девять вечера мы достигли реки Иодзыхе, но не пошли в фанзы, а остались ночевать под открытым небом. Ночью я сильно зяб, кутался в палатку, но сырость проникала всюду. Никто не смыкал глаз. С нетерпением мы ждали рассвета, но время, как назло, тянулось бесконечно долго. Как только стало светать, мы тотчас тронулись дальше. Надо было как можно скорее соединиться с Г. И. Гранатманом и А. И. Мерзляковым. Дерсу полагал, что будет лучше, если мы оставим тропу и пойдём горами. Так и сделали. Перейдя вброд реку, мы вышли на тропинку и только собирались юркнуть в траву, как навстречу нам из кустов вышел таз с винтовкой в руках. Сначала он испугался и изрядно, в свою очередь, напугал нас, но, увидев стрелков и казаков, полез за пазуху и подал пакет. Это было письмо от Н. А. Пальчевского. Последний извещал меня, что с реки Санхобе в поисках хунхузов выступил отряд охотников под начальством своего предводителя Чжан Бао. Пока я читал письмо, Дерсу расспрашивал таза, а таз в свою очередь расспрашивал его. Выяснилось, что Чжан Бао со своими тридцатью охотниками ночевал недалеко от нас и теперь, вероятно, подходил уже к реке Иодзыхе. Действительно, минут через двадцать мы с ним встретились. Чжан Бао был мужчина высокого роста, лет сорока пяти. Одет он был в обыкновенную китайскую синюю одежду, только несколько опрятнее, чем у простых рабочих манз. На подвижном лице его лежала печать перенесённых лишений. Он носил чёрные усы, по китайскому обычаю опущенные книзу, в которых уже кое-где пробивалась седина. В чёрных глазах этого человека сквозил ум, на губах постоянно играла улыбка, и в то же время лицо его никогда не теряло серьёзности. Прежде чем что-нибудь сказать, он всегда обдумывал свой ответ и говорил тихо, не торопясь. Мне не приходилось встречать человека, в котором так совмещались бы серьёзность, добродушие, энергия, рассудительность, настойчивость и таланты дипломата. В личности Чжан Бао, в его жестах, во всей его фигуре, в манере держать себя было что-то интеллигентное. Его ум, самолюбие и умение подчинить себе толпу говорили за то, что это не был простой манза. По всей вероятности, это был один из политических преступников, бежавших из Китая. Дружина, которой командовал Чжан Бао, состояла из китайцев и тазов. Всё это были молодые люди, крепкие, сильные, хорошо вооружённые. Я сразу заметил, что в его отряде была крепкая дисциплина. Все распоряжения его исполнялись быстро, и не было случая, чтобы он свои приказания повторял дважды. Во всём районе, от Кусуна до залива Ольги, Чжан Бао считался самой авторитетной личностью. Китайцы и тазы обращались к нему за советами, и, если где-нибудь надо было примирить двух непримиримых врагов, китайцы опять-таки обращались к Чжан Бао. Он часто заступался за обиженных, и на этой почве у него было много врагов. Особенную ненависть он питал к хунхузам и своими преследованиями навёл на них такой страх, что далее реки Иодзыхе они заходить не решались. Шайка, на которую мы наткнулись, приехала в залив Пластун на лодках с намерением заняться грабежом шаланд, заходящих сюда во время непогоды. Чжан Бао приветствовал меня вежливо, но с достоинством. Узнав, что Дерсу ночью подвергся нападению хунхузов, он стал подробно его расспрашивать, где это случилось, и при этом палочкой чертил план на песке. Собрав сведения, он сказал, что ему нужно торопиться и что он вернётся на реку Санхобе дня через два или три. Затем он простился со мной и пошёл с охотниками далее. Теперь уже нам нечего было скрываться от китайцев, поэтому мы отправились в первую попавшуюся фанзу и легли спать. В полдень мы встали, напились чаю и затем пошли вверх по долине реки Дунгоу, что по-китайски означает Восточная падь. Горы на левой стороне её крутые, на правой — пологие и состоят из полевошпатового порфира. Около устья, у подножия речных террас, можно наблюдать выходы мелкозернистого гранита, который в обнажениях превращался в дресвяник. Тропа идёт сначала с правой стороны реки, потом около скалы Янтун-лаза переходит на левый берег и отсюда взбирается на перевал высотой в 160 метров. Растительность в долине реки Дунгоу довольно скудная. Редколесье из дуба и чёрной берёзы, лиственницы и липы дровяного и поделочного характера нельзя назвать лесом. Молодняка нигде нет, он систематически два раза в год уничтожается палами. Склоны гор, обращённые к югу, поросли кустарниками, главным образом таволгой, калиной и леспедецей. Всё остальное пространство — луговое и заболоченное. Ширина реки — 4 — 6 метров; она порожиста и мелководна. Некоторые пороги очень красивы и имеют вид небольших водопадов. Во вторую половину дня нам удалось пройти только до перевала. Заметив, что вода в речке начинает иссякать, мы отошли немного в сторону и стали биваком недалеко от водораздела. Весело затрещали сухие дрова в костре. Мы грелись около огня и делились впечатлениями предыдущей ночи. Я заметил, что Дерсу что-то собирается меня спросить, но, видимо, стесняется. Я помог ему высказаться. — Моя слыхал, русские хунхузы тоже есть. Правда это али нет? — спросил он, конфузясь. — Правда, — отвечал я. — Только русские хунхузы ходят по одному, по два человека и никогда не собираются такими большими шайками, как китайские. Русское правительство не допускает до этого. Я думал, что моё объяснение удовлетворило гольда, однако я заметил, что мысли его были направлены в другую сторону. — Как это? — рассуждал он вслух. — Царь есть, много всяких капитанов есть, и хунхузы есть. У китайцев тоже так: царь есть, и хунхузы есть. Как наша живи? Царя нету, капитанов нету и хунхузов нету. Сначала мне показалось странным сопоставление — царь и хунхузы, но, вникнув в смысл его слов, я понял ход его мысли. Раз происходит сортировка людей по сословиям, то должны быть богатые ибедные, праздные и трудящиеся. Раз их сортируют на честных и бесчестных, то преступный элемент отделяется, ассоциируется и образует нечто вроде особой касты, по-китайски именуемой хунхузами. Недолго длилась наша беседа. Утренний отдых в фанзе был недостаточен. Организм требовал ещё сна. Положив в огонь старых дров, чтобы они дольше горели, мы легли на траву и крепко заснули. Когда на другой день я поднялся, солнце было уже высоко. Напившись чаю, мы взяли свои котомки и пошли к перевалу. Здесь тропа долгое время идёт по хребту, огибая его вершины то с одной, то с другой стороны. Поэтому кажется, что она то подымается, то опускается и как будто пересекает несколько горных отрогов. Поднявшись на перевал (240 метров), я увидел довольно интересную картину. Слева от нас высилась высокая гора Хунтами[143], имеющая вид усечённого конуса. Она входит в хребет, отделяющий бассейн реки Санхобе от реки Иодзыхе. Со стороны моря Хунтами кажется двугорбой. Вероятно, вследствие этого на морских картах она и названа Верблюдом. К востоку от нас высились горы, поросшие редким лесом, а впереди расстилалась большая болотистая низина, покрытая изжелта-бурой травой. С перевала тропа шла вниз по маленькому ключику и скоро пересекла небольшую горную речку Мулумбе (по-орочски — Мули), впадающую в озеро Хунтами. Китайцы название это толкуют по-своему и производят его от слов «му-лу», что значит — самка изюбра. Несомненно, и тут мы имеем дело со старой лагуной, процесс осыхания которой далеко ещё не закончен. Всему виной торфяники, прикрывшие её сверху и образовавшие болото. Около моря сохранилась ещё открытая вода. Это озеро Благодати (44047" северной широты и 136024'20" восточной долготы от Гринвича). Вероятно, тут было самое глубокое место бухты. 0 Мелкие ручьи, сбегающие с гор, текут по узким оврагам и питают болото водой. Между ними образовались небольшие релки, покрытые ольхой, берёзой, липой, а где посуше — дубовым редколесьем. Тропа идёт через эти овраги, но затем круто поворачивает к болоту. Расстояние от Мулумбе до реки Каимбе не более 6 километров, но на этот переход мы употребили почти целый день — болото оказалось зыбучим. Мы пробовали было идти стороной около тропы, но это оказалось ещё хуже. Наконец перед сумерками болото было пройдено. Впереди, около реки Каимбе, виднелась какая-то фанза; к ней мы направили свои стопы. Река Каимбе (по-орочски — Кая) на картах значится Каембэ. Она такой асе величины, как река Мулумбе, только впадает непосредственно в море. С левой стороны её тянется длинная и высокая терраса, уже разрушенная временем. Терраса эта является древним берегом лагуны и имеет наклон к озеру и обрывистые края к морю. В фанзе жили два китайца. Ни огородов, ни пашен вокруг неё не было видно. Однако зоркий глаз Дерсу усмотрел поперечную пилу, топоры с длинными ручками, кузовки, плетённые из лыка, и длинные каны, не соответствующие числу обитателей фанзы. Оказалось, что китайцы занимаются сбором древесных грибов и лишайников с камней. Первые относятся к семейству дрожалковых грибов (Tremellinaceae) и собираются исключительно с дуба. Они своеобразно ароматны и содержат в себе много воды (98 процентов). Для культуры их китайцы валят на землю множество дубовых деревьев. Когда дуб начинает гнить, на нём появляются грибы (Tremella lutescens), по внешнему виду похожие на белые кораллы. Китайцы их называют «му-эр». Их собирают и сушат сначала на солнце, а потом в фанзе на сильно нагретых канах. Лишайники (Parmelia centrifuga) тёмно-оливково-зелёные (называемые «шихуй-пи», то есть «каменная кожа») в сухом состоянии становятся чёрными. Их собирают с известковых и сланцевых скал и отправляют во Владивосток в плетёных корзинах как гастрономическое лакомство. Нельзя не удивляться предприимчивости китайцев. Одни из них охотятся за оленями, другие ищут женьшень, третьи соболюют, четвёртые заняты добычей кабарожьего мускуса, там видишь капустоловов, в другом месте ловят крабов или трепангов, там сеют мак и добывают опий и т. д. Что ни фанза, то новый промысел: ловля жемчуга, добыча какого-то растительного масла, ханшина, корней острогала, да всего и не перечтёшь. Всюду они умеют находить источники обогащения. Вопрос труда отходит у них на второй план, лишь бы источник этот был неиссякаемый. Мы так устали за день, что не пошли дальше и остались здесь ночевать. Внутри фанзы было чисто, опрятно. Гостеприимные китайцы уступили нам свои места на канах и вообще старались всячески услужить. На улице было темно и холодно; со стороны моря доносился шум прибоя, а в фанзе было уютно и тепло… Вечером манзы угостили нас «каменной кожей». Тёмно-бурые слизлые лишайники были безвкусны, хрустели на зубах, как вязига, и могли удовлетворить разве гастрономический вкус китайцев. По их словам, до Санхобе оставался только один переход. Желая дойти туда засветло, мы выступили на другой день очень рано. От грибной фанзы тропа идёт горами вдоль берега моря и в пути пересекает пять горных отрогов, слагающихся из кварцевого порфира и поросших редколесьем из дуба, липы и чёрной берёзы. Эта тропа считается тяжёлой как для лошадей, так и для пешеходов. По пятому, последнему распадку она поворачивает на запад и идёт вверх до перевала, высота которого равна 350 метрам. Подъем со стороны моря крутой, а спуск к реке Санхобе пологий. За перевалом картина меняется. Вместо порфиров появляются граниты и на смену лиственному редколесью выступает хвойно-смешанный лес отличного качества. Маленькая речка, по которой проложена тропа, привела нас на реку Сяненгоу[144], впадающую в Санхобе недалеко от моря. Когда-то здесь была лесная концессия Гляссера и Храманского. Предприятие это, как и все скороспелые русские предприятия, обречено было на гибель. Срублено деревьев было много, а вывезено мало. Большинство их брошено в тайге; зато какой горючий материал для лесных пожаров остался на месте! Китайцы в рыбной фанзе сказали правду. Только к вечеру мы дошли до реки Санхобе. Тропа привела нас прямо к небольшому посёлку. В одной фанзе горел огонь. Сквозь тонкую бумагу в окне я услышал голос Н. А. Пальчевского и увидел его профиль. В такой поздний час он меня не ожидал. Г. И. Гранатман и А. И. Мерзляков находились в соседней фанзе. Узнав о нашем приходе, они тотчас прибежали. Начались обоюдные расспросы. Я рассказывал им, что случилось с нами в дороге, а они мне говорили о том, как работали на Санхобе. Как ни интересен был наш разговор, но усталость взяла своё. Н. А. Пальчевский заметил это и стал устраивать мне постель. Я лёг на кан и тотчас уснул. Весь следующий день мы провели в беседе. Река Санхобе являлась крайним пунктом нашего путешествия по берегу моря. Отсюда нам надо было идти к Сихотэ-Алиню и далее на Иман. На совете решено было остаться на Санхобе столько времени, сколько потребуется для того, чтобы подкрепить силы и снарядиться для зимнего похода. Ввиду приближения зимнего времени довольствие лошадей сделалось весьма затруднительным. Поэтому я распорядился всех коней с А. И. Мерзляковым и с частью команды отправить назад к заливу Ольги. Вследствие полного замирания растительности Н. А. Пальчевский тоже пожелал возвратиться во Владивосток. Для этого он решил воспользоваться шхуной Гляссера, которая должна была уйти через двое суток. Таким образом, для зимнего похода через Сихотэ-Алинь оставались только я, Г. И. Гранатман, Дерсу, двое казаков (Мурзин и Кожевников) и стрелок Бочкарёв. Двадцать пятого сентября мы расстались с Н. А. Пальчевским и А. И. Мерзляковым.
Глава 25 Пожар в лесу

Бухта Терней. — Птицы на берегу моря. — Население реки Санхобе. — Река Сица. — Сихотэ-Алинь. — Да-Лазагоу. — Изучение следов. — Заноза. — Нарыв на подошве. — Лесной пожар. — Операция. — Возвращение. — Драмы на берегу моря
Двадцать седьмое число было посвящено осмотру бухты Терней (мыс Страшный, 450 северной широты и 136044'30" восточной долготы от Гринвича), открытой Лаперузом 23 июня 1767 года и окрещённой тогда этим именем. Здесь тоже ясно видно, что раньше бухта Терней гораздо глубже вдавалась в материк; значительная глубина реки около устья, обширный залив, отходящий от неё в сторону, и наконец два озера среди болот указывают, где ранее были глубокие места бухты. Самое море потрудилось над тем, чтобы оттеснить себя от суши. Коса, намётанная морским прибоем, протянувшаяся от одного мыса к другому, превратила залив в лагуну. Потом здесь образовались дюны; они увеличивались в размерах и погребли под собой прибрежные утёсы. Около таких лагун всегда держится много птиц. Одни из них были на берегу моря, другие предпочитали держаться в заводях реки. Среди первых я заметил тихоокеанских чернозобиков. Судя по времени, это были, вероятно, отсталые птицы. Тут же летали и чайки. Они часто садились на воду и вновь взлетали на воздух. В глубоких заводях можно было заметить больших бакланов. Они то и дело ныряли в воду и никак не могли наполнить своё прожорливое брюхо. Растительность в нижней части долины Санхобе чахлая и низкорослая. С правой стороны по болотам растёт небольшими группами сибирская лиственница (Larix sibirica). По-видимому, Санхобе является северной границей акации Маака (Cladrastis amurensis), по крайней мере тут она встречается уже как редкость. Население Санхобе смешанное и состоит из китайцев и тазов. Первые живут ближе к морю, вторые дальше — в горах. Китайских фанз тридцать восемь; в них насчитывается 233 человека. Тазовых фанз четырнадцать; в них живут 72 мужчины, 54 женщины и 89 детей обоего пола. Положение местных тазов весьма тяжёлое Они имеют совершенно забитый и угнетённый вид. Я стал было их расспрашивать, но они испугались чего-то, пошептались между собой и под каким-то предлогом удалились. Очевидно, они боялись китайцев. Если кто-либо из них посмеет жаловаться русским властям или расскажет о том, что происходит в долине Санхобе, того ждёт ужасное наказание: утопят в реке или закопают живым в землю. Санхобейские тазы почти ничем не отличаются от тазов на реке Тадушу. Они так же одеты, говорят по-китайски и занимаются хлебопашеством. Но около каждой фанзы есть амбар на сваях, где хранится разный скарб. Этот амбар является типичной тазовской постройкой. Кроме того, я заметил у стариков особые кривые ножи, которыми они владеют весьма искусно и которые заменяют им и шило, и буравчик, и долото, и наструг. По рассказам тазов, лет тридцать тому назад на реке Санхобе свирепствовала оспа. Не было ни одной фанзы, которую не посетила бы эта страшная болезнь. Китайцы боялись хоронить умерших и сжигали их на кострах, выволакивая трупы из фанз крючьями. Были случаи, когда вместе с мёртвыми сжигались и больные, впавшие в бессознательное состояние. В этот день вечером возвратился Чжан Бао. Он сообщил нам, что не застал хунхузов в заливе Пластун. После перестрелки с Дерсу они ушли на шаланде в море, направляясь, по-видимому, на юг. Следующие три дня, 28 — 30 сентября, я просидел дома, вычерчивал маршруты, делал записи в путевых дневниках и писал письма. Казаки убили изюбра и сушили мясо, а Бочкарёв готовил зимнюю обувь. Я не хотел отрывать их от дела и не брал с собой в экскурсию по окрестностям. Река Санхобе (на картах — Саченбея и по-удэгейски Санкэ) состоит из двух рек одинаковой величины — Сицы (по-китайски — Западный приток) и Дунцы (Восточный приток) Путь мой на Иман, на основании расспросных сведений, был намечен по реке Дунце. Поэтому я решил теперь, пока есть время, осмотреть реку Силу. На эту работу у меня ушло ровно семь суток. Первого октября я вместе с Дерсу с котомками за плечами выступил из своей «штаб-квартиры». Слияние Сицы и Дунцы происходит в 10 километрах от моря. Здесь долина Санхобе разделяется на две части, из которых одна идёт на север (Дунца), а другая — на запад (Сица). Вид в долину Сицы со стороны моря очень красив. Высокие горы с острыми и причудливыми вершинами кажутся величественными. Я несколько раз видел их впоследствии, и всегда они производили на меня впечатление какой-то особенной дикой красоты. На половине пути от моря, на месте слияния Сицы и Дунцы, с левой стороны есть скала Да-Лаза. Рассказывают, что однажды какой-то старик китаец нашёл около неё женьшень крупных размеров. Когда корень принесли в фанзу, сделалось землетрясение, и все люди слышали, как ночью скала Да-Лаза стонала. По словам китайцев, река Санхобе на побережье моря является северной границей, до которой произрастает женьшень. Дальше на север никто его не встречал. Река Сица течёт в направлении к юго-западу. Своё начало она берет с Сихотэ-Алиня (перевала на реку Иман) и принимает в себя только два притока. Один из них Нанца[145], длиной в 20 километров, находится с правой стороны с перевалом на Иодзыхе. От истоков Нанца сперва течёт к северу, потом к северо-востоку и затем к северо-западу. В общем, если смотреть вверх по долине, в сумме действительно получается направление южное. Долина Сицы покрыта отличным хвойно-смешанным лесом. Особенности этой долины заключаются в мощных террасах. В обнажениях видно, что террасы эти наносного образования и состоят из глины, ила и угловатых камней величиной с конскую голову. Было время, когда какие-то силы создали эти террасы. Затем вдруг наступил покой. Террасы стали зарастать лесом, которому теперь насчитывается более двухсот лет. Нижняя часть долины Сицы представляется в виде больших котловин, обставленных высокими горами. Здесь растут великолепные леса, среди которых много кедра. Около реки лес вырублен концессионером Хроманским, но вывезена только четвёртая его часть. Всё остальное брошено на месте. При падении своём лесные великаны поломали множество других деревьев, которые не предполагались к вырубке. В общем, здесь больше испорченного сухого леса, чем живого. По такому лесу идти очень трудно. Один раз мы пробовали было свернуть с тропы в сторону и через несколько шагов попали в такой бурелом, что еле-еле выбрались обратно. Площадь этого вырубленного леса занимает пространство около 15 квадратных километров. Тропа проходит почти посредине леса. Для того чтобы проложить её, вероятно, понадобилось употребить немало усилий и испортить много пил и топоров. На следующий день мы пошли вверх по реке Сипе. Чем дальше, тем тайга становилась глуше. Разрушающая рука лесопромышленника ещё не коснулась этого девственного леса. Кроме кедра, тополя, ели, пробкового дерева, пихты и ореха, тут росли: китайский ясень (Fraxinus phynchophyla Hance) — красивое дерево с серой корой и с овальными остроконечными листьями; дейция мелкоцветная (Deutzia parviflora В.) — небольшое деревце с мелкими чёрными ягодами; корзиночная ива (Salix vimmalis L.) — весьма распространённая по всему Уссурийскому краю и растущая обыкновенно по галечниковым отмелям вблизи рек. Растительное сообщество по берегам протоков состояло из кустарниковой ольхи (Ainus fruticosa Rupr.) с резкими жилками на крупных листьях; перистого боярышника (Crataegus pinnatifida Bge.), который имеет серую кору, клиновидные листья и редкие шипы; рябины бузинолистной (Sorbus sambucifolia Trautv.) с тёмно-зеленьпяи листьями и с крупными ярко-красными плодами; жимолости съедобной (Lonicera edulis Turcz.), её легко узнать по бурой коре, мелкой листве и удлинённым ягодам тёмно-синего цвета с матовым налётом, и наконец даурского луносемянника (Menispermum dauricum DC.), вьющегося около других кустарников. По мере того как исчезали следы человеческие, встречалось всё более и более следов звериных. Тигр, рысь, медведь, росомаха, изюбр, олень, козуля и кабан — постоянные обитатели здешней тайги. Река Сипа быстрая и порожистая. Пороги её не похожи на пороги других рек Уссурийского края. Это скорее шумные и пенистые каскады. В среднем течении река шириной около 10 метров и имеет быстроту течения 8 километров в час в малую воду. Истоки её представляются в виде одного большого ручья, принимающего в себя множество мелких ручьёв, стекающих с гор по коротким распадкам. Поднявшись на Сихотэ-Алинь, я увидел, как и надо было ожидать, пологий склон к западу и обрывистый — к востоку. Такая же резкая разница наблюдается в растительности. С западной стороны растёт хвойный лес, а с восточной — смешанный, который низке по реке очень скоро сменяется лиственным. За водоразделом мы нашли ручей, который привёл нас к реке Дананце, впадающей в Кулумбе (верхний приток Имана). Пройдя по ней километров десять, мы повернули на восток и снова взобрались на Сихотэ-Алинь, а затем спустились к реке Да-Лазагоу (приток Силы). Название это китайское и в переводе означает Падь больших скал. В геологическом отношении долина Да-Лазагоу денудационная. Если идти от истоков к устью, горные породы располагаются в следующем порядке: глинистые сланцы, окрашенные окисью бурого железняка, затем серые граниты и кварцевый порфир. По среднему течению — диабазовый афанит с неправильным глыбовым распадением и осыпи из туфовидного кварцепорфира. Пороги на реке Сице состоят: верхний из песчаниковистого сланца и нижний — из микропегматита (гранофира) с метаморфозом жёлтого и ржавого цвета. Дерсу шёл молча и смотрел на все равнодушно. Я восторгался пейзажами, а он рассматривал сломанный сучок на высоте кисти руки человека, и по тому, куда прутик был нагнут, он знал о направлении, в котором шёл человек. По свежести излома он определял время, когда это произошло, угадывал обувь и т. д. Каждый раз, когда я не понимал чего-нибудь или высказывал сомнение, он говорил мне: — Как тебе, столько года в сопках ходи, понимай нету? То, что для меня было непонятно, ему казалось простым и ясным. Иногда он замечал следы там, где при всём желании что-либо усмотреть я ничего не видел. А он видел, что прошла старая матка изюбра и годовалый телёнок. Они щипали листву таволожника, потом стремительно убежали, испугавшись чего-то. Всё это делалось не ради рисовки: мы слишком хорошо знали друг друга. Делалось это просто по вкоренившейся многолетней привычке не пропускать никакой мелочи и ко всему относиться внимательно. Если бы он не занимался изучением следов с детства, то умер бы с голода. Когда я пропускал какой-нибудь ясный след, Дерсу подсмеивался надо мной, покачивал головой и говорил: — Гм! Все равно мальчик. Так ходи, головой качай. Глаза есть, посмотри не могу, понимай нету. Верно — это люди в городе живи. Олень искай не надо; кушай хочу — купи. Один сопка живи не могу — скоро пропади. Да, он был прав. Тысячи опасностей ожидают одинокого путешественника в тайге, и только тот, кто умеет разбираться в следах, может рассчитывать на благополучное окончание маршрута. Во время пути я наступил на колючее дерево. Острый шип проколол обувь и вонзился в ногу. Я быстро разулся и вытащил занозу, но, должно быть, не всю. Вероятно, кончик её остался в ране, потому что на другой день ногу стало ломить. Я попросил Дерсу ещё раз осмотреть рану, но она уже успела запухнуть по краям. Этот день я шёл, зато ночью нога сильно болела. До самого рассвета я не мог сомкнуть глаз. Наутро стало ясно, что на ноге у меня образовался большой нарыв. Недостаток взятого с собой продовольствия принуждал идти вперёд. Мы уже и так сидели без хлеба и кормились только тем, что добывали охотой. На биваке были и перевязочные материалы и медикаменты. В тайте могло застать ненастье, и не известно, сколько времени я провалялся бы без движения. Поэтому, как ни больно было, но я решил идти дальше. Я твёрдо ступал только на одну правую ногу, а левую волочил за собой. Дерсу взял мои котомку и ружьё. При спусках около оврагов он поддерживал меня и всячески старался облегчить мои страдания. С большим трудом мы прошли в этот день только 8 километров, а до бивака осталось ещё 24 километра. Ночью ноту страшно ломило. Опухоль распространилась по всей ступне. Удастся ли мне дотащиться хотя бы до первой тазовской фанзы? Эта мысль, видимо, беспокоила и Дерсу. Он часто поглядывал на небо. Я думал, что он смотрит, не будет ли дождя, но у него были опасения другого рода. По небу тянулась какая-то мгла: она сгущалась всё больше и больше. Месяц только что зарождался, но лик его не был светлым, как всегда, а казался красноватым и тусклым. Порой его совсем не было видно. Наконец из-за гор показалось зарево. — Шибко большой дым, — сказал мой спутник. Чуть свет мы были уже на ногах. Все равно спать я не мог, и, пока была хоть малейшая возможность, надо было идти. Я никогда не забуду этого дня. Я шёл и через каждые сто шагов садился на землю. Чтобы обувь не давила ногу, я распорол её. Скоро мы дошли до того места, где Да-Лазагоу впадает в Сицу. Теперь мы вошли в лес, заваленный буреломом. Кругом всё было окутано дымом. В пятидесяти шагах нельзя было рассмотреть деревьев. — Капитан! Надо торопиться, — говорил Дерсу. — Моя мало-мало боится. Трава гори нету, лес — гори! Последние усилия собрал я и потащился дальше. Где был хоть маленький подъем, я полз на коленях. Каждый корень, еловая шишка, маленький камешек, прутик, попавший под больную ногу, заставлял меня вскрикивать и ложиться на землю. В дыму идти становилось всё труднее и труднее. Начинало першить в горле. Стало ясно, что мы не успеем пройти буреломный лес, который, будучи высушен солнцем и ветром, представлял теперь огромный костёр. Известно, что когда разгорается сильное пламя, то образуется вихрь. Шум этого вихря уловило привычное ухо гольда. Надо было перейти на другую сторону реки. Это было единственное спасение. Но для того чтобы перейти Да-Лазагоу, надо было крепко держаться на ногах. Для меня это было теперь совершенно немыслимо. Что делать? Вдруг Дерсу, не говоря ни слова, схватил меня на руки и быстро перенёс через реку. Тут была широкая полоса гальки. Он опустил меня на землю, как только вышел из воды, и тотчас побежал обратно за ружьями. В это время нанесло дым, и ничего не стало видно. Когда я очнулся, рядом со мной на камнях лежал Дерсу. Мы оба были покрыты мокрой палаткой. Сверху сыпались искры. Густой едкий дым не позволял дышать. Первый раз в жизни я видел такой страшный лесной пожар. Огромные кедры, охваченные пламенем, пылали, точно факелы. Внизу, около земли, было море огня. Тут все горело: сухая трава, опавшая листва и валежник; слышно было, как лопались от жара и стонали живые деревья. Жёлтый дым большими клубами быстро вздымался кверху. По земле бежали огненные волны; языки пламени вились вокруг пней и облизывали накалившиеся камни. Вдруг ветер переменился, и дым отнесло в сторону. Дерсу поднялся и растолкал меня. Я попробовал было ещё идти по галечниковой отмели, но вскоре убедился, что это свыше моих сил: я мог только лежать и стонать. Так как при ходьбе я больше упирался на пятку, то сильно натрудил и её. Другая нога устала и тоже болела в колене. Убедившись, что дальше я идти не могу, Дерсу поставил палатку, натаскал дров и сообщил мне, что пойдёт к китайцам за лошадью. Это был единственный способ выбраться из тайги. Дерсу ушёл, и я остался один. За рекой все ещё бушевало пламя. По небу вместе с дымом летели тучи искр. Огонь шёл всё дальше и дальше. Одни деревья горели скорее, другие — медленнее. Я видел, как через реку перебрел кабан, затем переплыл большой полоз Шренка; как сумасшедшая, от одного дерева к другому носилась желна, и, не умолкая, кричала кедровка. Я вторил ей своими стонами. Наконец стало смеркаться. Я понял, что сегодня Дерсу не придёт. Больная нога сильно отекла. Я разделся и ощупал нарыв. Он уже назрел, но огрубевшая от долгой ходьбы кожа на подошве не прорывалась. Я вспомнил, что имею перочинный нож. Тогда я стал точить его о камни. Подложив дров в костёр, я выждал, когда они хорошо разгорелись, и вскрыл нарыв. От боли у меня потемнело в глазах. Чёрная кровь и гной густой массой хлынули из раны. С ужасными усилиями я пополз к воде, оторвал рукав от рубашки и начал промывать рану. После этого я перевязал ногу и вернулся к костру. Через час я почувствовал облегчение: боль в ноге ещё была, но уже не такая, как раньше. В той стороне, куда пошёл пожар, виднелось красное зарево. В лесу во многих местах мерцали огни. Это догорал валежник. Я долго сидел в палатке и поглаживал рукой больную ногу. Пламя костра согрело меня, и я погрузился в сон. Когда я проснулся, то увидел около себя Дерсу и китайца. Я был покрыт одеялом. На костре грелся чай; в стороне стояла осёдланная лошадь. Боль в ноге утихла, и опухоль начала спадать. Согрев воду, я ещё раз промыл рану, затем напился чаю, закусил китайским пресным хлебом и стал одеваться. Дерсу и китаец помогли мне взобраться на коня, и мы тронулись в путь. За ночь лесной пожар ушёл далеко, но в воздухе всё ещё было дымно. После полудня мы прибыли на Санхобе. Г. И. Гранатмана не было дома. Он куда-то пошёл на разведки и возвратился только через двое суток. Пришлось мне сидеть на месте до тех пор, пока рана на ноге не зажила как следует. Через три дня я уже мог ходить, а через неделю совсем оправился. Чжан Бао несколько раз навещал меня. От него я узнал много интересного. Он рассказал мне, как несколько лет тому назад вблизи бухты Терней разбился пароход «Викинг»; узнал о том, как в 1905 году японцы убили его помощника Лю Пула и как он отомстил им за это; рассказал он мне также о партии каторжан, которые в 1906 году высадились на материке около мыса Олимпиада. Путь их по берегу моря сопровождался грабежами и убийствами. Чжан Бао со своими охотниками догнал их около озера Благодати и всех перебил… И много ещё чего я узнал от него. Всё это были страшные, кровавые драмы. Наблюдая за китайцами, я убедился, какой популярностью среди них пользовался Чжан Бао. Слова его передавались из уст в уста. Всё, что он приказывал, исполнялось охотно и без проволочек. Многие приходили к нему за советом, и, кажется, не было такого запутанного дела, которого он не мог бы разобрать и найти виновных. Находились и недовольные. Часто это были люди с преступным прошлым. Чжан Бао умел обуздывать их страсти. Он постоянно посылал разведчиков то на реку Иодзыхе, то на берег моря, то по тропе на север. Вечером он делал сводки этим разведкам и сообщал их мне ежедневно. Чжан Бао вёл большую корреспонденцию. Каждый почти день прибегал к нему нарочный и приносил письма. Все эти дни Дерсу пропадал где-то у тазов. Среди них он нашёл старика, который раньше жил на реке Улахе и которого он знал ещё в молодые годы. Он успел со всеми перезнакомиться и везде был желанным гостем. Дня за два до моего отхода Чжан Бао пришёл ко мне проститься. Неотложные дела требовали его личного присутствия на реке Такеме. Он распорядился назначить двух китайцев, которые должны были проводить меня до Сихотэ-Алиня, возвратиться обратно другой дорогой и сообщить ему о том, что они в пути увидят. Пятнадцатого октября был последний день наших сборов. Из муки мы напекли лепёшек, насушили мяса. Предусмотрено было всё, не забыта была даже сухая трава для обуви.
Глава 26 Зимний поход

Выступление. — Отравление. — Противоядие. — Река Дунца. — Уборка. — Уборка рыбы в истоках реки птицами и зверями. — Проклятое место. — Признаки непогоды. — Пурга. — Перевал Терпения
Шестнадцатого числа выступить не удалось. Задерживали проводники-китайцы. Они явились на другой день около полудня. Тазы провожали нас от одной фанзы до другой, прося зайти к ним хоть на минутку. По адресу Дерсу сыпались приветствия, женщины и дети махали ему руками. Он отвечал им тем же. Так от одной фанзы до другой, с постоянными задержками, мы дошли наконец до последнего тазовского жилья, чему я, откровенно говоря, очень порадовался. Дальше тропа перешла за реку и потянулась вдоль левого берега ещё километра два с половиной, а затем стала взбираться на перевал. В нижнем течении река Дунца[146] течёт в меридиональном направлении до тех пор, пока не встретит реку Сицу. Тут она делает петлю и огибает небольшой горный отрог, имеющий пологие склоны к реке Санхобе и крутые — к реке Дунце. Через этот самый отрог нам и надлежало перейти. Приближались сумерки. Поэтому мы встали биваком тотчас, как только спустились к воде. Днём мне недомогалось: сильно болел живот. Китаец-проводник предложил мне лекарство, состоящее из смеси женьшеня, опиума, оленьих пантов и навара из медвежьих костей. Полагая, что от опиума боли утихнут, я согласился выпить несколько капель этого варева, но китаец стал убеждать меня выпить целую ложку. Он говорил, что в смеси находится немного опиума, больше же других снадобий. Быть может, дозу он мерил по себе; сам он привык к опиуму, а для меня и малая доза была уже очень большой. Действительно, вскоре после приёма лекарства боль в животе стала утихать, но вместе с тем по всему телу разлилась какая-то слабость. Я лёг у огня и погрузился в тяжёлый сон, похожий на обморок. Через полчаса я очнулся и хотел подняться на ноги, но не мог, хотел шевельнуться — не мог, хотел крикнуть — и тоже не мог. В странном состоянии я находился: я утратил все чувства и ничего не видел, ничего не слышал, ничего не ощущал. Нечеловеческие усилия я сделал над собой, поднял руку, дотронулся до своего лица и испугался. Казалось, это были не мои руки, а чужие, точно не лицо я трогал, а какую-то маску. Ужас охватил меня. После страшной внутренней борьбы я рванулся, вскочил на ноги и тотчас упал на землю. Началась сильная рвота. На моё счастье, Дерсу ещё не спал. Он принёс мне воды. Я сделал несколько глотков и начал приходить в себя. Голова так сильно кружилась, что я не мог сосредоточить своё зрение ни на одном предмете: я понял, что я отравился. Несколько раз я пил воду в большом количестве и несколько раз искусственно вызывал рвоту, и это меня спасло. Так промаялся я до утра. Когда рассвело, Дерсу сбегал в лес, принёс какой-то травы, велел мне жевать её и глотать сок. Наконец понемногу я стал приходить в себя, головокружение и головная боль исчезли, зато появились слабость и сильная жажда. Растение это оказалось Polygonum amphibium L. Туземцы его принимают также от дизентерии. Санхобе протекает по типичной долине прорыва, местами расширяющейся, местами суживающейся ровно настолько, чтобы пропустить одну реку. Наиболее широкие места её находятся там, где в неё впадают притоки. Из них самым крупным будет река Фату, текущая с севера вдоль берега моря. По реке Дунце растёт такой же хороший лес, как и по реке Сице. С левой стороны в горах преобладают лиственные породы, с правой — хвойные. Тропа идёт по левому берегу реки, то приближаясь к ней, то удаляясь метров на двести. В одном месте река прижимается вплотную к горам, покрытым осыпями, медленно сползающими книзу. Сверху сыплются мелкие камни. Слабый ум китайского простонародья увидел в этом сверхъестественную силу. Они поставили здесь кумирню богу Шань-синье, охраняющему горы. Сопровождающие нас китайцы не преминули помолиться, нимало не стесняясь нашим присутствием. Дальше тропа выходит на гарь, которая тянется до самой Фату. Затем опять идут осыпи, а против них речные террасы, занимающие довольно большое пространство с правой стороны реки. Километров на семь ниже в Санхобе впадает небольшая речка, не имеющая названия. По ней можно выйти к самым истокам Билембе, впадающей в море севернее бухты Терней. Немного выше устья этой безымянной речки Дунца принимает в себя ещё один приток, который китайцы называют Сяоца. Тут тропы разделились: одна пошла вверх по Дунце, а другая свернула влево. Вследствие болезни я не мог идти скоро, часто останавливался, садился на землю и отдыхал. Дерсу и двое стрелков ходили осматривать реку Сяоцу. Истоки её сходятся с истоками горного ручья, впадающего в Сипу в среднем течении. Самый перевал покрыт густым хвойным лесом. Как подъем, так равно и спуск с него средней крутизны. Километрах в трёх от Дунцы они нашли китайскую зверовую фанзу. Хозяева её находились в отсутствии. К вечеру я почти оправился, но есть не мог — все ещё мешала рвота. Поэтому я решил пораньше лечь спать в надежде, что завтрашний день принесёт полное выздоровление. Часов в двенадцать я проснулся. У огня сидел китаец-проводник и караулил бивак. Ночь была тихая, лунная. Я посмотрел на небо, которое показалось мне каким-то странным, приплюснутым, точно оно спустилось на землю. Вокруг луны было матовое пятно и большой радужный венец. В таких же пятнах были и звезды. «Наверно, к утру будет крепкий мороз», — подумал я, затем завернулся в своё одеяло, прижался к спящему рядом со мной казаку и опять погрузился в сон. Утром меня разбудил дождь — мелкий и частый. Недомогание моё кончилось, и я чувствовал себя совсем здоровым. Нимало не мешкая, мы собрали свои котомки и снялись с бивака. От устья Сяоцы долина Дунцы стала заметно суживаться. С обеих сторон высились горы, покрытые осыпями. От них в долину выдвигается много утёсов. Пешеходная тропа лепится здесь по высокому карнизу, а конная несколько раз переходит вброд реку. Миновав теснину, дороги сходятся снова. Немного дальше река Дунца разделяется на две реки: долина одной из них идёт прямо, а сама Дунца поворачивает влево. В этом месте тропа наша опять разделилась. Одна пошла по Дунце, а другая, по словам провожающих нас китайцев, — на реку Арму (приток Имана). После полудня дождь усилился, нам пришлось рано встать на бивак. До вечера ещё было много времени, и потому мы с Дерсу взяли свои винтовки и пошли на разведки. Осенью, во время ненастья, лес имеет особенно унылый вид. Голые стволы деревьев, окутанные холодным туманом, пожелтевшая трава, опавшая на землю листва и дряблые потемневшие папоротники указывали, что наступили уже сумерки года. Приближалась зима. Вдруг какой-то странный шум послышался в стороне. Мы оставили тропу и пошли к берегу реки. Интересная картина представилась нашим глазам. Река была буквально запружена рыбой. Это была кета. Местами от дохлой рыбы образовались целые завалы. Тысячи её набились в заводи и протоки. Теперь она имела отвратительный вид. Плавники её были обтрёпаны и все тело изранено. Большая часть рыб была мёртвой, но некоторые из них ещё не утратили способности двигаться. Они все ещё стремились вверх против воды, точно рассчитывали там найти избавление от своих страданий. Для уборки рыбы природа позаботилась прислать санитаров в лице медведей, кабанов, лисиц, барсуков, енотовидных собак, ворон сизоворонок, соек и т. д. Дохлой кетой питались преимущественно птицы, четвероногие же старались поймать живую рыбу. Вдоль реки они протоптали целые тропы. В одном месте мы увидели медведя. Он сидел на галечниковой отмели и лапами старался схватить рыбу. Бурый медведь и родственный ему камчатский медведь отъедают у рыб головы, а мясо бросают. Белогрудые же медведи, наоборот, едят мясо, а головы оставляют. В другом месте рыбой лакомились два кабана. Они отъедали у рыб только хвосты. Пройдя ещё немного, я увидел лисицу. Она выскочила из зарослей, схватила одну из рыбин, но из предосторожности не стала её есть на месте, потащила в кусты. Больше всего здесь было пернатых. Орлы сидели около воды и лениво, не торопясь, точно сознавая своё превосходство, клевали то, что осталось от медвежьей трапезы. Особенно же много было ворон. Своим черным оперением они резко выделялись на светлой каменистой отмели. Вороны передвигались прыжками и особое предпочтение оказывали той рыбе, которая стала уже разлагаться. По кустам шныряли сойки, они ссорились со всеми птицами и пронзительно кричали. Вода в протоках кое-где начала замерзать. Вмёрзшая в лёд рыба должна остаться здесь на всю зиму. Весной, как только солнышко пригреет землю, она вместе со льдом будет вынесена в море, и там уничтожением её займутся уже морские животные. Какой круговорот! Как все это разумно! Ничего не пропадает! Даже в глухой тайге есть кому, позаботиться над уборкой падали. — Один люди другой люди кушай, — высказывал Дерсу вслух свои мысли. — Чего-чего рыба кушай, потом кабан рыбу кушай, теперь надо наша кабана кушай. Говоря это, он прицелился и выстрелил в одну из свиней. С рёвом подпрыгнуло раненное насмерть животное, кинулось было к лесу; но тут же ткнулось мордой в землю и начало барахтаться. Испуганные выстрелом птицы с криком поднялись на воздух и, в свою очередь, испугали рыбу, которая, как сумасшедшая, взад и вперёд начала носиться по протоке. К сумеркам мы возвратились на бивак. Дождь перестал, и небо очистилось. Взошла луна. На ней ясно и отчётливо видны были тёмные места и белые пятна. Значит, воздух был чист и прозрачен. Рано мы легли спать и на другой день рано и встали. Когда лучи солнца позолотили вершины гор, мы успели уже отойти от бивака километра три или четыре. Теперь река Дунца круто поворачивала на запад, но потом стала опять склоняться к северу. Как раз на повороте, с левой стороны, в долину вдвинулась высокая скала, увенчанная причудливым острым гребнем. Китайцы-проводники говорили, что здесь с людьми всегда происходит несчастье: то кто-нибудь сломает ногу, то кто-нибудь умрёт и т. д. В подтверждение своих слов они указали на две могилы тех несчастливцев, которых преследовал злой рок на этом месте. Однако с нами ничего не случилось, и мы благополучно прошли мимо Проклятых скал. Дальше мы вошли в зону густого хвойно-смешанного леса. Зимой колючки чёртова дерева (Eleuterococcus) становятся ломкими; хватая его рукой, сразу набираешь много заноз. Скверно то, что занозы эти входят в кожу в вертикальном направлении и при извлечении крошатся. К полудню мы достигли маленькой зверовой фанзочки, расположенной у слияния трёх горных ручьёв. По среднему лежал наш путь. Вечером я измерил высоту места. Барометр показал 620 метров над уровнем моря. Все эти дни стояла хорошая и тихая погода. Было настолько тепло, что мы шли в летних рубашках и только к вечеру одевались потеплее. Я восторгался погодой, но Дерсу не соглашался со мной. — Посмотри, капитан, — говорил он, — как птицы торопятся кушать. Его хорошо понимай, будет худо. Барометр стоял высоко. Я стал посмеиваться над гольдом, но он на это только возразил: — Птица сейчас понимай, моя понимай после. От упомянутой фанзы до перевала через Сихотэ-Алинь будет километров восемь. Хотя котомки и давали себя чувствовать, но тем не менее мы шли бодро и редко делали привалы. Часам к четырём пополудни мы добрались до Сихотэ-Алиня, оставалось только подняться на его гребень. Я хотел было идти дальше, но Дерсу удержал меня за рукав. — Погоди, капитан, — сказал он. — Моя думай, здесь надо ночевать. — Почему? — спросил я его. — Утром птицы торопились кушать, а сейчас, посмотри сам, ни одной нету. Действительно, перед закатом солнца птицы всегда проявляют особую живость, а теперь в лесу стояла мёртвая тишина. Точно по приказу, они все сразу куда-то спрятались. Дерсу советовал крепче ставить палатки и, главное, приготовить как можно больше дров не только на ночь, но и на весь завтрашний день. Я не стал с ним больше спорить и пошёл в лес за дровами. Часа через два начало смеркаться. Стрелки натаскали много дров, казалось, больше чем нужно, но гольд не унимался, и я слышал, как он говорил китайцам: — Лоца[147] понимай нету, наша надо сам работай. Они вновь принялись за дело. На помощь им я послал обоих казаков. И только когда на небе угасли последние отблески вечерней зари, мы прекратили работу. Взошла луна. Ясная ночь глядела с неба на землю. Свет месяца пробирался в глубину тёмного леса и ложился по сухой траве длинными полосами. На земле, на небе и всюду кругом было спокойно, и ничто не предвещало непогодь!. Сидя у огня, мы попивали горячий чай и подтрунивали над гольдом. — На этот раз ты соврал, — говорили казаки. Дерсу не ответил и молча продолжал укреплять свою палатку. Он забился под скалу, с одной стороны приворотил большой пень и обложил его камнями, а дыры между ними заткнул мхом. Сверху он ещё натянул свою палатку, а впереди разложил костёр. Мне так показалось у него уютно, что я немедленно перебрался к нему со своими вещами. Время шло, а крутом было по-прежнему тихо. Я тоже начал думать, что Дерсу ошибся, как вдруг около месяца появилось матовое пятно с радужной окраской по наружному краю. Мало-помалу диск луны стал тускнеть, контуры его сделались расплывчатыми, неясными. Матовое пятно расширялось и поглотило наружное кольцо. Какая-то мгла быстро застилала небо, но откуда она взялась и куда двигалась, этого сказать было нельзя. Я полагал, что дело окончится небольшим дождём, и, убаюканный этой мыслью, заснул. Сколько я спал, не помню. Проснулся я оттого, что кто-то меня будил. Я открыл глаза, передо мной стоял Мурзин. — Снег идёт, — доложил он мне. Я сбросил с себя одеяло. Кругом была тёмная ночь. Луна совершенно исчезла. С неба сыпался мелкий снег. Огонь горел ярко и освещал палатки, спящих людей и сложенные в стороне дрова. Я разбудил Дерсу. Он испугался спросонья, посмотрел по сторонам, на небо и стал закуривать свою трубку. Кругом было тихо, но в этой тишине чувствовалось что-то угрожающее. Через несколько минут снег пошёл сильнее, он падал на землю с каким-то особенным шуршанием. Проснулись остальные люди и стали убирать свои вещи. Вдруг снег начал кружиться. — Начинай есть, — сказал Дерсу. И точно в ответ на его слова в горах послышался шум, потом налетел сильный порыв ветра с той стороны, откуда мы его не ожидали. Дрова разгорелись ярким пламенем. Вслед за первым порывом налетел второй, потом третий, пятый, десятый, и каждый порыв был продолжительнее предыдущего. Хорошо, что палатки наши были крепко привязаны, иначе их сорвало бы ветром. Я взглянул на Дерсу. Он спокойно курил трубку и равнодушно посматривал на огонь. Начавшаяся пурга его не пугала. Он так много их видел на своём веку, что эта не была для него новинкой. Дерсу как бы понял мои мысли и сказал: — Дрова много есть, палатка хорошо ставили. Ничего. Через час начало светать. Пурга — это снежный ураган, во время которого температура понижается до 15Ь. И ветер бывает так силён, что снимает с домов крыши и вырывает с корнями деревья. Идти во время пурги положительно нельзя: единственное спасение — отстаиваться на месте. Обыкновенно всякая снежная буря сопровождается человеческими жертвами. Кругом нас творилось что-то невероятное. Ветер бушевал неистово, ломал сучья деревьев и переносил их по воздуху, словно лёгкие пушинки. Огромные старые кедры раскачивались из стороны в сторону, как тонкоствольный молодняк.Теперь уже ни гор, ни неба, ни земли — ничего не было видно. Всё кружилось в снежном вихре. Порой сквозь снежную завесу чуть-чуть виднелись силуэты ближайших деревьев, но только на мгновение. Новый порыв ветра — и туманная картина пропадала. Мы забились в свои палатки и в страхе притихли. Дерсу посматривал на небо и что-то говорил сам с собой. Я напомнил ему пургу, которая захватила нас около озера Ханка в 1902 году. После полудня пурга разыгралась со всей силой. Хотя мы были и защищены утёсами и палаткой, однако это была ненадёжная защита. То становилось жарко и дымно, как на пожаре, когда ветер дул нам в лицо, то холодно, когда пламя отклонялось в противоположную сторону. Мы уже не ходили за водой, а набивали чайники снегом, благо в нём не было недостатка. К сумеркам пурга достигла своей наибольшей силы, и, по мере того как становилось темнее, страшнее казалась буря. Мало кто спал в эту ночь. Вся забота была только о том, чтобы согреться. Двадцать первого мы ещё отстаивались от пурги. Теперь ветер переменился и дул с северо-востока, зато порывы его сделались сильнее. Даже вблизи бивака ничего нельзя было рассмотреть. — Чего его сердится? — говорил в досаде и со страхом Дерсу. — Неужели наша чего-нибудь худо делал? — Кто? — спросили казаки. — Моя не знаю, как по-русски говори, — отвечал гольд. — Его мало-мало бог, мало-мало люди, сопка постоянно живи, ветер могу гоняй, дерево ломай. Наша говори — Каньгу. «Горный или лесной дух», — подумал я. Больших трудов стоило нам поддерживать костёр. Скверно то, что каждый порыв ветра выносил из него уголья и засыпал их снегом. Около палатки намело большие сугробы, после полудня появились вихри необычной силы. Они вздымали с земли тучи снега и вдруг рассыпались белой пылью, потом зарождались снова и с воем носились по лесу. Каждый такой вихрь оставлял после себя след из множества поваленных деревьев. Иногда на мгновенье наступала короткая пауза, и тотчас вслед за ней опять начиналась пляска снежных привидений. После полудня небо стало понемногу расчищаться, но вместе с тем стала понижаться температура. Сквозь густую завесу туч в виде неясного пятна чуть-чуть проглянуло солнце. Надо было позаботиться о дровах. Мы побежали и стали собирать тот бурелом, который находился поблизости. Работали мы долго, пока Дерсу не скомандовал «довольно». Никого не надо было уговаривать. Все разом бросились к палаткам и стали греть у огня руки. Так мы промаялись ещё одну ночь. К утру погода мало изменилась к лучшему. Ветер был резкий и порывистый. На совете решено было попытаться перевалить через Сихотэ-Алинь, в надежде, что на западной стороне его будет тише. Решающее значение имел голос Дерсу. — Моя думай, его скоро кончай, — сказал он и начал первый собираться в дорогу. Сборы наши были недолги. Минут через двадцать мы с котомками за плечами уже лезли в гору. От бивака сразу начинался крутой подъём. За эти два дня выпало много снега. Местами он был глубиной до метра. На гребне мы остановились передохнуть. По барометрическим измерениям высота перевала оказалась равной 910 метрам. Мы назвали его перевалом Терпения. Жуткая картина представилась нам на Сихотэ-Алине. Здесь ветром были повалены целые полосы леса. Пришлось обходить их далеко стороной. Я уже говорил, что корни деревьев, растущих в горах, распространяются по поверхности земли: сверху они едва только прикрыты мхами. Некоторые из них были оторваны. Деревья качались и подымали всю корневую систему. Чёрные расщелины то открывались, то закрывались среди снежного покрова, словно гигантские пасти. На одном из корней вздумал было качаться Кожевников. В это время налетел сильный шквал, дерево наклонилось, и едва казак успел отскочить в сторону, как оно со страшным шумом рухнуло на землю, разбрасывая во все стороны комья мёрзлой земли.
Глава 27 К Иману
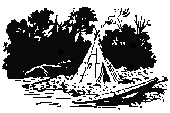
Дерсу разбирается в следах. — Птицы. — Доставка продовольствия соболёвщиками. — В верховьях Имана. — Корейцы. — Кабарожья лудева. — Удэгейцы. — Ночёвка в юрте. — Река Кулумбе. — Река Иман. — Удэгейская лодка. — Охотничий посёлок Сидатун и его обитатели. — Рабство
Спуск с Сихотэ-Алиня к западу был пологий, заваленный глыбами камней и поросший густым лесом. Небольшой ручей, которым мы спустились, привёл нас к реке Нанце. Она течёт с северо-востока вдоль хребта Сихотэ-Алинь и постепенно склоняется к северо-западу. Долина Нанцы широкая, болотистая и покрыта густым хвойно-смешанным лесом. Охотничья тропа проложена здесь частью по краю долины, частью по горам, которые имеют в этих местах вид размытых холмов. По пути нам попалась юрта, сложенная из кедрового корья, с двускатной крышей, приспособленная под фанзу. Утомлённые двумя предшествующими ночами, мы стали около неё биваком и, как только поужинали, тотчас легли спать. Двадцать третьего октября мы продолжали путь вниз по реке Нанце. На свежевыпавшем снегу был виден отчётливо каждый след. Тут были отпечатки ног лосей, кабарги, соболей, хорьков и т. д. Дерсу шёл впереди и внимательно их рассматривал. Вдруг он остановился, посмотрел во все стороны и проговорил: — Кого она боялась? — Кто? — спросил я его. — Кабарга, — ответил он. Я посмотрел на следы и ничего особенного в них не заметил. Следы как следы, маленькие, частые… Дерсу удивительно внимательно разбирался в приметах. Он угадывал даже душевное состояние животных. Достаточно было небольшой неровности в следах, чтобы он усмотрел, что животное волновалось. Я просил Дерсу указать мне данные, на основании которых он заключил, что кабарга боялась. То, что рассказал он мне, было опять так просто и ясно. Кабарга шла ровным шагом, затем остановилась и пошла осторожней, потом шарахнулась в сторону и побежала прыжками. На свежевыпавшем снегу все это видно как на ладони. Я хотел идти дальше, но Дерсу остановил меня. — Погоди, капитан, — сказал он. — Наша надо посмотри, какой люди пугай кабаргу. Через минуту он крикнул мне, что кабарга боялась соболя. Я подошёл к нему. На большом поваленном дереве, занесённом снегом, действительно виднелись его следы. Видно было, что маленький хищник крался тихонько, прятался за сук, затем бросился на кабаргу. Потом Дерсу нашёл место, где кабарга валялась на земле. Капли крови указывали на то, что соболь прокусил ей кожу около затылка. Далее следы доказывали, что кабарге удалось сбросить с себя соболя. Она побежала дальше, а соболь погнался было за ней, но отстал, затем свернул в сторону и полез на дерево. Чувствую, что, если бы я подольше походил с Дерсу и если бы он был общительнее, вероятно, я научился бы разбираться в следах если и не так хорошо, как он, то всё же лучше, чем другие охотники. Многое Дерсу видел и молчал. Молчал потому, что не хотел останавливаться, как ему казалось, на всяких мелочах. Только в исключительных случаях, когда на глаза ему попадалось что-нибудь особенно интересное, он рассуждал вслух, сам с собой. Километрах в двадцати пяти от Сихотэ-Алиня Нанца сливается с рекой Бейцой, текущей с севера. Отсюда собственно и начинается Кулумбе, которая должна была привести нас к Иману. Вода в реке стала уже замерзать, появились широкие забереги. Без труда мы переправились на другую её сторону и пошли дальше. Река Кулумбе течёт по широкой заболоченной долине в направлении с востока на запад. Тропа всё время придерживается правой стороны долины. Лес, растущий в горах, исключительно хвойный, с большим процентом кедра, в болотистых низинах много замшистого сухостоя. После полудня ветер стих окончательно. На небе не было ни единого облачка, яркие солнечные лучи отражались от снега, и от этого день казался ещё светлее. Хвойные деревья оделись в зимний наряд, отяжелевшие от снега ветви пригнулись к земле. Кругом было тихо, безмолвно. Казалось, будто природа находилась в том дремотном состоянии, которое, как реакция, всегда наступает после пережитых треволнений. Из царства пернатых я видел здесь большеклювых ворон, красноголовых желн, пёстрых дятлов и поползней. Раза два мы вспугивали белых крохалей, с чёрной головой и с красным носом. Птицы эти остаются на зимовку в Уссурийском крае и приобретают белую защитную окраску. Сплошь и рядом мы замечали их только тогда, когда подходили к ним вплотную. Следует ещё упомянуть об одной симпатичной птичке, которая за свой игривый нрав заслужила у казаков название «веселушка». Это оляпка. Она величиной с дрозда и всегда держится около воды. Одна из них подпустила меня очень близко. Я остановился и стал за ней наблюдать. Оляпка была настороже, часто поворачивалась, кричала и в такт голоса покачивала своим хвостиком, но затем вдруг бросилась в воду и нырнула. Туземцы говорят, что она свободно ходит по дну реки, не обращая внимания на быстроту течения. Вынырнув на поверхность и увидев людей, оляпка с криком полетела к другой полынье, потом к третьей. Я следовал за ней до тех пор, пока река не отошла в сторону. В другом месте мы спугнули даурского бекаса. Он держался около воды, там, где ещё не было снега. Я думал, что это отсталая птица, но вид у него был весёлый и бодрый. Впоследствии я часто встречал их по берегам незамерзших проток. Из этого я заключаю, что бекасы держатся в Уссурийском крае до половины зимы и только после декабря перекочёвывают к югу. В этот день мы прошли 12 километров и остановились у фанзочки Сиу-фу. Высота этого места определяется в 560 метров над уровнем моря. Обитатели фанзы, китайцы, занимались ловлей лосей ямами. Утром китайцы проснулись рано и стали собираться на охоту, а мы — в дорогу. Взятые с собой запасы продовольствия приходили к концу. Надо было пополнить их. Я купил у китайцев немного буды и заплатил за это 8 рублей. По их словам, в этих местах пуд муки стоит 16 рублей, а чумиза 12 рублей. Ценятся не столько сами продукты, сколько их доставка. За ночь река Кулумбе замёрзла настолько, что явилась возможность идти по льду. Это очень облегчило наше путешествие. Сильным ветром снег с реки смело. Лёд крепчал с каждым днём. Тем не менее на реке было много ещё проталин. От них подымался густой туман. Через каких-нибудь километров пять мы подошли к двум корейским фанзам. Хозяева их — два старика и два молодых корейца — занимались охотой и звероловством. Фанзочки были новенькие, чистенькие, они так мне понравились, что я решил сделать здесь днёвку. После полудня два корейца стали собираться в тайгу для осмотра кабарожьей лудевы. Я пошёл вместе с ними. Лудева была недалеко от фанзы. Это была изгородь высотой 1,2 метра, сложенная из буреломного леса. Чтобы деревья нельзя было растащить, корейцы закрепляли их кольями. Такие лудевы ставятся всегда в горах на кабарожьих тропах. В изгороди местами оставляются проходы, а в них настораживаются верёвочные петли. Попав головой в петлю, испуганная кабарга начинает метаться, и чем сильнее бьётся, тем больше себя затягивает. В осматриваемой лудеве было двадцать две петли. В четырёх из них корейцы нашли мёртвых животных — трёх самок и одного самца. Корейцы оттащили самок в сторону и бросили на съедение воронам. На вопрос, почему они бросили пойманных животных, корейцы ответили, что только одни самцы дают ценный мускус, который китайские купцы скупают у них по рублю за штуку. Что же касается до мяса, то и одного самца с них довольно, а завтра они поймают ещё столько же. По словам корейцев, в зимний сезон они убивают до 125 кабарожек, из которых 75 процентов приходится на маток. Грустное впечатление вынес я из этой экскурсии. Куда ни взглянешь, всюду наталкиваешься на хищничество. В недалёком будущем богатый зверем и лесами Уссурийский край должен превратиться в пустыню. На следующий день мы нарочно выступили пораньше, чтобы наверстать то, что потеряли на днёвке. Одну из кабарожек, брошенных корейцами, мы взяли с собой. От корейских фанз река Кулумбе течёт в широтном направлении с небольшим отклонением к югу. Тотчас за фанзами начинается гарь, которая распространяется далеко по долине и по горам. Заметно, что горы стали выше и склоны их круче. Сплошные хвойные лесонасаждения теперь остались позади, а на смену им стали выступать тополь, ильм, берёза, осина, дуб, осокорь, клён и т. д. В горах замшистая ель и пихта сменились великолепными кедровыми лесами. За день нам удалось пройти около 15 километров. В сумерки стрелки заметили в стороне на протоке одинокую юрту. Дым, выходящий из отверстия на крыше, указывал, что в ней есть люди. Около неё на стойках сушилось множество рыбы. Юрта была сложена из кедрового корья и прикрыта сухой травой. Она имела 3 метра в длину и 1,5 метра в высоту. Вход в неё был завешен берестяным пологом. На берегу лежали две опрокинутые вверх дном лодки: одна большого размера, с каким-то странным носом вроде ковша, другая — лёгонькая, с заострёнными концами спереди и сзади. Русские называют её оморочкой. Когда мы подошли поближе, две собаки подняли лай. Из юрты вышло какое-то человекоподобное существо, которое я сперва принял было за мальчишку, но серьга в носу изобличала в нём женщину. Она была очень маленького роста, как двенадцатилетняя девочка, и одета в кожаную рубашку длиной до колен, штаны, сшитые из выделанной изюбриной кожи, наколенники, разукрашенные цветными вышивками, такие же расшитые унты и красивые цветистые нарукавники. На голове у неё было белое покрывало. Карие глаза, расположенные горизонтально, прикрывались сильно развитой монгольской складкой век, выдающиеся скулы, широкое переносье, вдавленный нос и узкие губы — всё это придавало её лицу выражение, чуждое европейцу: оно казалось плоским, пятиугольным и в действительности было шире черепа. Женщина с удивлением посмотрела на нас, и вдруг на лице её изобразилась тревога. Какие русские могут прийти сюда? Порядочные люди не пойдут. "Это — чолдоны[148]", — подумала она и спряталась обратно в юрту. Чтобы рассеять её подозрения, Дерсу заговорил с ней по-удэгейски и представил меня как начальника экспедиции. Тогда она успокоилась. Этикет требовал, чтобы женщина не проявляла шумно своего любопытства. Она сдерживала себя и рассматривала нас тихонько, украдкой. Юрта, маленькая снаружи, внутри была ещё меньше. В ней можно было только сидеть или лежать. Я распорядился, чтобы казаки ставили палатки. Переход от окитаенных тазов на берегу моря к тазам, у которых ещё сохранилось так много первобытного, был очень резок. Женщина молча принялась готовить ужин. Она повесила над огнём котёл, налила воды и положила в него две большие рыбины, затем достала свою трубку, набила её табаком и принялась курить, время от времени задавая Дерсу вопросы. Когда ужин был готов, пришёл сам хозяин. Это был мужчина лет тридцати, сухощавый, среднего роста. Одет он был тоже в длинную рубашку, подвязанную пояском так, что получался напуск в талии. По всему правому борту рубашки, вокруг шеи и по подолу тянулась широкая полоса, покрытая узорными вышивками. На ногах у него были надеты штаны, наколенники и унты из рыбьей кожи, а на голове белое покрывало и поверх него маленькая шапочка из козьего меха с торчащим кверху беличьим хвостиком. Красное, загорелое лицо, пестрота костюма, беличий хвостик на головном уборе, кольца и браслеты на руках делали этого дикаря похожим на краснокожего. Впечатление это ещё более усилилось, когда он, почти не обращая на нас внимания, сел у огня и молча стал курить свою трубку. Этикет требовал, чтобы гости первыми нарушили молчание. Дерсу знал это и потому спросил его о дороге и о глубине выпавшего снега. Разговор завязался. Узнав, кто мы и откуда идём, удэгеец сказал, что ему известно было, что мы должны спуститься по Иману, — об этом он услыхал от своих сородичей, живущих ниже по реке, — и что там, внизу, нас давно уже ожидают. Это известие очень меня удивило. Вечером жена его осмотрела нашу одежду, починила её, где надо, и взамен изношенных унтов дала новые. Хозяин дал мне для подстилки медвежью шкуру, сверху я покрылся одеялом и скоро уснул. Ночью я проснулся от страшного холода. Сбросив с головы одеяло, я увидел, что огня в юрте нет. В очаге тлело только несколько угольков. Через отверстие в крыше виднелось тёмное небо, усеянное звёздами. С другой стороны юрты раздавался храп. Очевидно, ложась спать, удэгейцы, во избежании пожара, нарочно погасили огонь. Я попробовал было плотнее завернуться в одеяло, но ничто не помогло — холод проникал под каждую складку. Я поднялся, зажёг спичку и посмотрел на термометр, он показывал — 17ЬС. Тогда я оторвал часть своей берестяной подстилки, положил её на огонь и стал раздувать уголья. Через минуту вспыхнуло пламя. Собрав разбросанные головешки к огню, я оделся и вышел из юрты. В стороне под покровом палатки спали мои стрелки, около них горел костёр. Я погрелся у огня и хотел уже было пойти назад в юрту, но в это время увидел в стороне, около реки, отсвет другого костра. Здесь, внизу, под яром, я нашёл Дерсу. Водой подмыло берег, сверху нависла большая дерновина, под ней образовалось нечто вроде ниши. В этом углублении он устроил себе ложе из травы, а впереди разложил огонь. Во рту у Дерсу была трубка, а рядом лежало ружьё. Я разбудил его. Гольд вскочил и, думая, что проспал, начал спешно собирать свою котомку. Узнав, в чём дело, он тотчас же уступил мне своё место и сам поместился рядом. Через несколько минут здесь, под яром, я находился в большем тепле и спал гораздо лучше, чем в юрте на шкуре медведя. Проснулся я тогда, когда все были уже на ногах. Бочкарёв варил кабарожье мясо. Когда мы стали собираться, удэгеец тоже оделся и заявил, что пойдёт с нами до Сидатуна. За утренним чаем Г. И. Гранатман заспорил с Кожевниковым по вопросу, с какой стороны ночью дул ветер. Кожевников указывал на восток, Гранатман — на юг, а мне казалось, что ветер дул с севера. Мы не могли столковаться и потому обратились к Дерсу. Гольд сказал, что направление ветра ночью было с запада. При этом он указал на листья тростника (Phragmites communis Trin.). Утром с восходом солнца ветер стих, а листья так и остались загнутыми в ту сторону, куда их направил ветер. От юрты тропа стала забирать к правому краю долины и пошла косогорами на север, потом свернула к юго-западу. Километров через десять мы опять подошли к реке Кулумбе, которая здесь разбивается на протоки и достигает ширины до 2,4 и глубины по фарватеру до 1,8 метра. В этот день мы прошли немного. По мере того как уменьшались взятые с собой запасы продовольствия, котомки делались легче, а нести их становилось труднее: лямки сильно резали плечи, и я заметил, что HP я один, а все чувствовали это. От холодного ветра снег стал сухим и рассыпчатым, что в значительной степени затрудняло движение. В особенности трудно было подниматься в гору: люди часто падали и съезжали книзу. Силы были уже не те, стала появляться усталость, чувствовалась потребность в более продолжительном отдыхе, чем обыкновенная днёвка. Около реки мы нашли ещё одну пустую юрту. Казаки и Бочкарёв устроились в ней, а китайцам пришлось спать снаружи, около огня. Дерсу сначала хотел было поместиться вместе с ними, но, увидев, что они заготовляли дрова, не разбирая, какие попадались под руку, решил спать отдельно. — Понимай нету, — говорил он. — Моя не хочу рубашка гори. Надо хорошие дрова искать. Пустая юрта, видимо, часто служила охотникам для ночёвок. Кругом неё весь сухой лес давно уже был вырублен и пожжен. Дерсу это не смутило. Он ушёл поглубже в тайгу и издалека приволок сухой ясень. До самых сумерек он таскал дрова, и я помогал ему, сколько мог. Зато всю ночь мы спали хорошо, не опасаясь за палатку и за одежду. Багровая заря вечером и мгла на горизонте перед рассветом были верными признаками того, что утром будет мороз. Так оно и случилось. Солнце взошло мутное, деформированное. Оно давало свет, но не тепло. От диска его кверху и книзу шли яркие лучи, а по сторонам были светящиеся радужные пятна, которые на языке полярных народов называются «ушами солнца». Удэгеец, сопровождавший нас, хорошо знал эти места. Он находил тропы там, где надо было сократить дорогу. Не доходя двух километров до устья Кулумбе, тропа свернула в лес, которым мы шли ещё около часа. Вдруг лес сразу кончился и тропа оборвалась. Перед нами была река Иман. Теперь бросим беглый взгляд назад, на реку Кулумбе. Длина её около 60 километров. Направление течения строго широтное. Вверху она слагается из трёх рек: Бейцы, Нанцы и Санцазы[149]. По Бейце в два дня можно достигнуть перевала на Арму, а по Санцазе — в три дня до Санхобе. С правой стороны Кулумбе принимает в себя реку Янху[150], а с левой — Дананцу с шестью зверовыми фанзами. По этой последней в три дня китайцы выходят к истокам реки Санхобе. Ещё ниже слева будет река Дабейца («большой северный приток») с перевалом на реку Нэйкуля (приток Арму). Этот путь измеряется двумя переходами. Последними кулумбейскими притоками в нижнем течении будут реки Сяобейца[151] и Сяонанца[152]. По всей долине Кулумбе развиты глинистые сланцы, которые продолжаются и дальше по Иману. Все древнеречные террасы состоят именно из этой породы. Весьма возможно, что сланцы эти придётся отнести к архейским. Леса по реке Кулумбе такие же, как и в верховьях Имана: в горах растёт кедр с большой примесью ели, а по долине — лиственница, белая берёза, осина, ива, ольха, клён, пихта, липа, ясень, тополь, ильм и черёмуха, встречается и тис, но одиночными деревьями. На старинных картах, составленных в 1854 году, река эта значится под именем Нимана. Слово это маньчжурское и означает «горный козёл». Отсюда легко могло получиться и другое слово — «Иман». Удэгейцы называют её сокращённо Има, а китайцы к этому названию прибавляют ещё слово «хе» (река) — «Има-хе». Кулумбе встречает Иман уже большой рекой, шириной в 100 метров, глубиной в 3 метра, при быстроте течения 8 километров в час в малую воду. Долина Имана слагается из участков денудационных и тектонических, чередующихся между собою. Первые имеют широтное направление, вторые — меридиональное. Продолжением иманских денудационных долин будут долины притоков Тхетибе, Арму и Кулумбе. Иман ещё не замёрз и только по краям имел забереги. На другом берегу, как раз против того места, где мы стояли, копошились какие-то маленькие люди. Это оказались удэгейские дети. Немного дальше, в тальниках, виднелась юрта и около неё амбар на сваях. Дерсу крикнул ребятишкам, чтобы они подали лодку. Мальчики испуганно посмотрели в нашу сторону и убежали. Вслед за тем из юрты вышел мужчина с ружьём в руках. Он перекинулся с Дерсу несколькими словами и затем переехал в лодке на нашу сторону. Удэгейская лодка — длинный плоскодонный челнок, настолько лёгкий, что один человек может без труда вытащить её на берег. Передняя часть его тупая, но дно выдаётся вперёд, оно расширено и загнуто кверху, так что получается нечто вроде ковша или лопаты, вследствие чего вся лодка кажется несуразной. Благодаря такой конструкции она не разрезает воду, а, так сказать, взбирается на неё. Имея центр тяжести высоко поднятый, она кажется очень валкой. Когда мы вошли в лодку, она так закачалась, что я невольно ухватился руками за борта. Но как только мы успокоились и отчалили от берега, я убедился, насколько она была устойчива. Удэгеец управлял ею при помощи длинного шеста, стоя на ногах. Сильными толчками он продвигал лодку против воды, течение относило её в сторону и постепенно прибивало к противоположному берегу. Наконец мы пристали к тому месту, где была юрта, и высадились на лёд. Навстречу нам вышли женщина и трое ребятишек. Они испуганно прятались за свою мать. Пропустив нас, женщина тоже вошла в юрту, села на корточки у огня и закурила трубку, а дети остались на улице и принялись укладывать рыбу в амбар. В юрте было множество щелей. В них свистел ветер. Посредине помещения горел огонь. Время от времени ребятишки забегали в юрту и грели у огня свои озябшие ручонки. Я удивлялся, как легко они были одеты: с открытой грудью, без рукавиц и без головного убора, они работали и, казалось, нимало не страдали от стужи. Если кокой — нибудь из них дольше других засиживался у огня, отец прикрикивал на него и выгонял вон. — Он озяб, — сказал я Дерсу и просил его перевести слова мои удэгейцу. — Пусть привыкает, — отвечал тот, — иначе умрёт с голоду. С этим нельзя было не согласиться. Кому приходится иметь дело с природой и пользоваться дарами её в сыром виде, надо быть в общении с ней даже тогда, когда она не ласкает. Я принялся расспрашивать удэгейца об Имане и узнал, что в верхнем течении река имеет направление течения параллельно Сихотэ-Алиню, причём истоки её находятся на высоте истоков Тютихе. Странное явление! Вода сбегает с водораздела в каких-нибудь 60 километрах от моря, течёт на запад, совершает длинный кружной путь для того, чтобы в конце концов попасть в то же море. Верховья Имана покрыты густым смешанными лесами. Трудно себе представить местность более пустынную и дикую. Только в начале зимы она немного оживает. Сюда перекочёвывают прибрежные китайцы для соболевания, но долго не остаются: они боятся быть застигнутыми глубокими снегами и потому рано уходят обратно. Расспросив удэгейцев о дороге, мы отправились дальше и очень скоро дошли до того места, где Иман поворачивает на северо-запад. Здесь в углу с левой стороны примыкает к реке большая поляна. Она длиной пять километров и шириной около двух километров. В конце её находятся четыре фанзы. Это и есть китайский охотничий посёлок Сидатун[153]. На другой стороне Имана живут удэгейцы (пять семейств) в трёх юртах. У них я и остановился. На Сидатуне мы простояли с 27 по 30 октября. За это время я успел осмотреть посёлок и ознакомиться со всеми его обитателями. Это были большею частью различные преступники, беглые, уклоняющиеся от суда, и искатели приключений, бурные страсти которых не знали пределов. Они ничего не делали, курили опий, пили водку, играли в кости, ссорились и ругались между собой. Обитатели каждой фанзы делились на три группы: хозяев, работников и бездельников, живущих на средства, добытые грабежами и убийствами. Я вспомнил Чжан Бао. Он предупреждал меня не доверяться китайцам на Сидатуне. Как и везде, местное туземное население находилось в полном порабощении. Не имея никакого понятия о письменности, удэгейцы совершенно не знали, кто из них сколько должен китайцам. Тут можно было видеть рабство в буквальном смысле этого слова. Так, например, удэгеец Си Ба-юн за то, что к указанному сроку не доставил определённого числа соболей, был так избит палками, что на всю жизнь остался калекой. Жену и дочь у него отобрали, а самого его продали за 400 рублей в качестве бесплатного работника другому китайцу. Наблюдая всё это, я горел негодованием. Но что могли сделать мы вшестером, находясь среди хорошо вооружённых людей? Я обещал помочь удэгейцам тотчас, как только возвращусь в Хабаровск. Тридцать первого числа морозы заметно усилились, по реке плыл лёд. Несмотря на это, удэгейцы решили везти нас на лодке, сколько это будет возможно.
Глава 28 Тяжёлое положение

Плаванье по Иману. — Пороги. — Ледоход. — Крушение лодки. — Река Арму. — Река Синанца. — Голодовка. — Остатки медвежьей трапезы. — Лапша из кожи. — Утомление. — Ли Тан-куй. — Ночное приключение в Сянь-ши-хеза. — Волнение удэгейцев. — Стойбище Вагунбе. — Восстание инородцев. — Пение шамана
Первого ноября рано утром мы покинули Сидатун и поплыли вниз по Иману. К плаванию по горным рекам туземцы привыкают с детства. Надо далеко смотреть вперёд, надо знать, где следует придержать лодку, где повернуть её носом против воды или, наоборот, разогнать елико возможно и проскочить опасное место. Всё это надо учитывать и быстро принимать соответствующие меры. Малейший промах — и лодка, подхваченная быстрым течением, в один миг будет разбита о камни. На порогах вода находится в волнении, лодка качается, и потому сохранять равновесие в ней ещё труднее. Для нас трудность плавания увеличилась ещё тем, что по реке плыл лёд и фарватер её был стеснён заберегами. Льды заставляли плыть не там, где нам хотелось, а там, где это было возможно. Особенно это было заметно в тех случаях, когда порог находился на месте поворота. Чем больше увеличивались забереги, тем быстрее становилось течение посредине реки. От Сидатуна долина Имана носит резко выраженный денудационный характер. Из мелких притоков её в этом месте замечательны: с правой стороны Дандагоу[154] (с перевалом на Арму), потом — Хуангзегоу[155] и Юпигоу[156], далее — Могеудзгоу[157] и Туфангоу[158]. Немного ниже Сидатуна можно наблюдать высокие древнеречные террасы, слагающиеся из сильно перемятых глинистых сланцев, среди которых попадаются слои красновато-бурых песчаников с прожилками кварца. За террасами километрах в десяти от реки высится гора Яммудинзцы[159]. По рассказам удэгейцев, китайцы тайком моют там золото. По пути около устьев рек Мацангоу[160], Сыфангоу[161] и Гадала виднелись пустые удэгейские летники. В некоторых местах рыба ещё не была убрана. Для укарауливания её от ворон туземцы оставили собак. Последние несли сторожевую службу очень исправно. Каждый раз, как только показывались пернатые воровки, они бросались на них с лаем и отгоняли прочь. Леса, растущие по Иману, превосходного качества. В горах преимущественно кедровики и пихтачи, в долине преобладают лиственные породы. На Имане, как на всех горных речках, много порогов. Один из них, тот самый, который находится на половине пути между Сидатуном и Арму, считается самым опасным. Здесь шум воды слышен ещё издали, уклон дна реки заметён прямо на глаз. С противоположного берега нависла скала. Вода с пеной бьёт под неё. От брызг она вся обмёрзла. Удэгейцы задержали лодку и посоветовались между собой, затем поставили её поперёк воды и тихонько стали спускать по течению. В тот момент, когда сильная струя воды понесла лодку к скале, они ловким толчком вывели её в новом направлении. По глазам удэгейцев я увидел, что мы подверглись большой опасности. Спокойнее всех был Дерсу. Я поделился с ним своими впечатлениями. — Ничего, капитан, — отвечал он мне. — Удэгей все равно рыба. Шибко хорошо понимай в лодке ходи. Наша так не могу. Чем дальше, тем плыть было труднее. Льдов становилось больше, забереги делались шире. Вся эта часть Имана покрыта хвойно-смешанным лесом, на островах преобладают лиственные породы с примесью строевого кедра, а по берегам реки и по галечниковым отмелям — заросли тальника, дающего неисчерпаемый материал туземцам для лыж, юрт, острог, нарт и т. д. На лодках нам удалось проехать немного. Начавшая с утра хмуриться погода опять разразилась пургой. Удэгейцы очень искусно лавировали между льдами, отталкивая их в сторону шестами. За рекой Гадала Иман делает крутой поворот. Здесь скопилось много плавучего льда. Посередине шёл узкий проход. Был ли он сквозной или замыкался — этого не знали наши проводники. Удэгейцы задержали лодку и обратились ко мне с вопросом, рисковать или нет. Путешествие с котомкой на плечах до того надоело, что я решил попытать счастья. Дерсу начал было меня отговаривать, но я не согласился с ним, думая, что в случае неудачи нам всё же удастся выбраться на берег. Стоять на одном месте долго было нельзя. Мы тронулись вперёд, но не успели сделать и 40 метров, как увидели, что проход был закрыт. Дальше шёл сплошной лёд. Подходить к нему вплотную было опасно. Если нашу тяжело нагруженную лодку течение прижало бы ко льду, она сразу наполнилась бы водой. Надо было спешно выходить назад, но это оказалось не так просто. Повернуть лодку в узком проходе тоже было нельзя. Пришлось двигаться кормой против воды. Как на грех, мы находились на самом фарватере, и шесты едва доставали дно. С большими усилиями мы прошли половину. Вдруг один удэгеец что-то закричал. По тревожному тону его голоса я понял, что нам грозит опасность, и оглянулся назад. Навстречу нам неслась огромная льдина. Она должна была закупорить проход раньше, чем мы успеем из него выйти. Удэгейцы напрягли все свои силы, но льдина не ждала. Она с шумом ударилась об один край прохода и затем о другой. В это время случилось ещё худшее — то, чего мы вовсе не ожидали. От сильных толчков все льды пришли в движение. Проход начал суживаться. — Лёд скоро лодку ломай! — закричал Дерсу не своим голосом. — Скорей надо ходи! Он выскочил из лодки и по плавучему льду побежал к берегу, таща за собой верёвку. Раза два он проваливался, но скоро опять взбирался на лёд. К счастью, до берега было недалеко. Следуя его примеру, выскочили и казаки. Кожевников и Бочкарёв достигли берега благополучно, но Мурзин провалился. Он начал карабкаться на льдину, но она перевернулась. Чем больше он карабкался, тем глубже погружался в воду. Ещё минута, и он опустился бы на дно. Тогда на выручку ему бросился Дерсу. Был момент, когда он сам мог погибнуть. В это время я вместе с орочами перебирался с одной льдины на другую. Мы тащили лодку и в то же время держались за неё. К счастью, нос лодки скоро оказался вблизи Дерсу и Мурзина, и это спасло их обоих. Лодка опять загрузла. Она стала поперёк реки, и её повлекло по течению вместе со льдом. Тогда мы стали бросать на берег наши котомки и затем вылезли сами. Через несколько минут лодку прижало к утёсу. Словно живое существо, она некоторое время ещё сопротивлялась льдам и вздрагивала, потом вдруг треснула и сломалась пополам. Раздался ещё один хруст, из воды показался один обломок, и затем всё исчезло. Выбравшись на берег, первое, что мы сделали, — разложили костёр. Надо было обсушиться. Кто-то подал мысль, что следует согреть чай и поесть. Начали искать мешок с продовольствием, но его не оказалось. Не досчитались также одной винтовки. Нечего делать, мы закусили тем, что было у каждого в кармане, и пошли дальше. Удэгейцы говорили, что к вечеру мы дойдём до фанзы Сехозегоуза. Там в амбаре они надеялись найти мороженую рыбу. В сумерки мы действительно дошли до фанзы. Она оказалась пустой. В амбаре её казаки нашли две сухие рыбины. Пришлось довольствоваться этим скудным ужином. От горного ключа Таухомиору[162] Иман поворачивает на северо-запад и делает большую петлю. Здесь он принимает в себя с правой стороны один из самых больших своих притоков — Арму. Река эта длиной более 160 километров, имеет истоки в горах Сихотэ-Алиня, на широте мыса Арак. В верховьях она слагается из трёх речек, каждая длиной километров по тридцать. От места слияния их Арму направляется на запад, потом круто поворачивает на север, затем склоняется к юго-западу и наконец в нижнем течении снова принимает широтное направление. Уже из этой схемы видно, что долина Арму состоит из ряда продольных и поперечных долин. Последние являются наиболее извилистыми. Некоторые извилины описывают почти полную окружность. При знании местности зимой можно пользоваться перешейками и значительно сокращать дорогу. Ширина Арму в нижнем течении около 80 метров, глубина от 2 до 3 метров, быстрота течения 10 километров в час. В долине Арму сильно развиты речные террасы. Особенно их много в среднем течении реки, преимущественно с левой стороны. Террасы эти высотой до 10 метров; основание их массивное и состоит из плотных глинистых сланцев, поверх которых лежит мощный слой наносного обломочного материала. В двух километрах от устья её с правой стороны издавна живут удэгейцы. Стойбище их состоит из четырёх фанз. В 1906 году их тут было только 15 человек обоего пола. В одном переходе от Арму, ниже по Иману, есть другое удэгейское стойбище, Лаолю, с населением в восемь человек. Лаолю представляет собой поляну с правой стороны реки длиной 4 километра и шириной 1,5 километра. После принятия в себя Арму Иман вдруг суживается и течёт без протоков в виде одного русла шириной от 80 до 100 метров, отчего быстрота течения его значительно увеличивается. Здесь горы подходят вплотную к реке и теснят её то с одной, то с другой стороны. На всём этом протяжении преобладающая горная порода — все те же глинистые сланцы. От места нашей стоянки до Арму, по словам проводников, было три дня хода. Но можно сократить расстояние, если пересечь иманскую петлю напрямик горами. Тогда можно выйти прямо к местности Сянь-ши-хеза, находящейся низке Арму по течению километров на пятьдесят. Ввиду недостатка продовольствия сокращение пути теперь было особенно важно. Удэгейцы обещали проводить нас до того места, где нужно было свернуть с Имана. На следующий день к полудню, 2 ноября, мы дошли до реки Хутадо текущей по кривой от запада к югу. По ней нам надлежало подняться до перевала через горный хребет, являющийся причиной петли Имана. Эта речка длиной 3,5 километра. Подъём на хребет и спуск с него одинаковой крутизны, приблизительно в 30 градусов, а высота перевала относительно Имана равна 350 метрам. Теперь перед нами было два ключа: один шёл к северу, другой_ к западу. Нам, вероятно, следовало идти по правому, но я по ошибке взял северное направление. Сейчас же за перевалом мы стали на биваке, как только нашли дрова и более или менее ровное место. Утром 3 ноября мы съели последнюю юколу и пошли в путь с лёгкими котомками. Теперь единственная надежда осталась на охоту. Поэтому было решено, что Дерсу пойдёт вперёд, а мы, чтобы не пугать зверя, пойдём сзади шагах в трёхстах от него. Наш путь лежал по неизвестной нам речке, которая, насколько это можно было видеть с перевала, текла на запад. Мы все надеялись, что Дерсу убьёт что-нибудь, но напрасно. Выстрелов не было слышно. После полудня долина расширилась. Здесь мы нашли маленькую, едва заметную тропинку. Она шла влево на север, пересекая кочковатое болото. Голод давал себя чувствовать. Все шли молча, никто не хотел разговаривать. Вдруг я увидел Дерсу: он тихонько переходил с места на место, нагибался и что-то подбирал с земли. Я окликнул его. Он махнул мне рукой. — Ты что нашёл? — спросил его Г. И. Гранатман. — Медведь кушай рыбу, — отвечал он, — голова бросай, моя подбирай. В самом деле, на снегу валялось много рыбьих голов. Видно было, что медведи приходили сюда уже после того, как выпал снег. «На безрыбье и рак рыба». Во время голодухи можно покормиться и медвежьими объедками. Все дружно принялись за работу, и через четверть часа у людей все карманы были набиты рыбьими головами. Увлечённые работой, мы не заметили, что маленькая долина привела нас к довольно большой реке. Это была Синанца с притоками Даягоу[163], Маягоу[164] и Пилигоу[165]. Если верить удэгейцам, то завтра к полудню мы должны будем дойти до Имана. Перейдя на другую сторону реки, мы устроили бивак в густом хвойном лесу. Какими вкусными нам показались рыбьи головы! Около некоторых голов было ещё много мяса, такие головы были счастливыми находками. Мы разделили их поровну между собой и поужинали вкусно, но несытно. Ночью температура сильно понизилась, но так как в дровах не было недостатка, то мы спали хорошо. Утром 4 ноября мы встали голодными. Теперь путь наш лежал вниз по реке Синанце. Она течёт по широкой межскладчатой долине в меридиональном направлении с некоторым склонением на восток. Река эта очень извилиста. Она часто разбивается на протоки и образует многочисленные острова, поросшие тальниками. Ширина её 40 — 50 метров и глубина 3,6 — 4,5 метра. Леса, растущие по обеим сторонам реки, смешанные, со значительным преобладанием хвои. Я заметил, что в этих местах снега было гораздо больше, чем на реке Кулумбе. Глубина его местами доходила почти до колен. Идти по такому снегу было трудно. В течение часа удавалось сделать километра два, не больше. Расчёт на охоту не оправдался, не оправдались также надежды найти опять рыбьи головы. Казак Кожевников один раз видел кабаргу и стрелял в неё, но промахнулся. Судя по времени, мы уже должны были дойти до Имана. За каждым поворотом я рассчитывал увидеть устье Синанцы, но дальше шёл лес, потом опять поворот, опять лес и т. д. В сумерки мы достигли маленького балагана, сложенного из корья. Я обрадовался этой находке, но Дерсу остался ею недоволен. Он обратил моё внимание на то, что вокруг балагана были следы костров. Эти костры и полное отсутствие каких бы то ни было предметов таёжного обихода свидетельствовали о том, что балаган этот служит путникам только местом ночёвок и, следовательно, до реки Имана было ещё не менее перехода. Голод сильно мучил людей. Тоскливо сидели казаки у огня, вздыхали и мало говорили между собой. Я несколько раз принимался расспрашивать Дерсу о том, не заблудились ли мы, правильно ли мы идём. Но он сам был в этих местах первый раз, и все его соображения основывались лишь на догадках. Чтобы как-нибудь утолить голод, казаки легли раньше спать. Я тоже лёг, но мне не спалось. Беспокойство и сомнения мучили меня всю ночь. Утром Дерсу проснулся раньше всех и разбудил меня. Снова появились опасения за предстоящий путь. Надо идти, пока ещё есть возможность, пока ещё двигаются ноги. Но едва мы тронулись в путь, как я почувствовал, что силы уже не те: котомка показалась мне вдвое тяжелее, чем вчера, через каждые полкилометра мы садились и отдыхали. Хотелось лежать и ничего не делать. Плохой признак. Так пробились мы до полудня и прошли очень мало. Не было сомнения, что при таких условиях дойти до Имана нам не удастся и сегодня. По пути мы раза два стреляли мелких птиц и убили трёх поползней и одного дятла, но что значили эти птицы для пяти человек! Между тем погода начала хмуриться, небо опять заволокло тучами. Резкие порывы ветра подымали снег с земли. Воздух был наполнен снежной пылью, по реке кружились вихри. В одних местах ветром совершенно сдуло снег со льда, в других, наоборот, намело большие сугробы. За день все сильно прозябли. Наша одежда износилась и уже не защищала от холода. С левой стороны высилась скалистая сопка. К реке она подходила отвесными обрывами. Здесь мы нашли небольшое углубление вроде пещеры и развели в нём костёр. Дерсу повесил над огнёмкотелок и вскипятил воду. Затем он достал из своей котомки кусок изюбровой кожи, опалил её на огне и стал ножом мелко крошить, как лапшу. Когда кожа была изрезана, он высыпал её в котелок и долго варил. Затем он обратился ко всем со следующими словами: — Каждый люди надо кушай. Брюхо обмани. Силы мало-мало прибавляй. Потом надо скоро ходи. Отдыхать не могу. Тогда сегодня, солнце кончай, наша Иман найди есть. Уговаривать никого не нужно было. Каждый готов был глотать всё что угодно. Хотя кожа варилась долго, но она была всё же настолько тверда, что не поддавалась зубам. Дерсу не советовал есть много и останавливал жадных, говоря: — Не надо много есть — худо! Через полчаса мы снялись с привала. Действительно, съеденная кожа хотя и не утолила голода, но дала желудку механическую работу. Каждый раз, как кто-нибудь отставал, Дерсу начинал ругаться. День уже кончился, а мы все шли. Казалось, что реке Синанце и конца не будет. За каждым поворотом открывались всё новые и новые плёсы Мы еле волочили ноги, шли, как пьяные, и если бы не уговоры Дерсу, то давно стали бы на бивак. Часов в шесть вечера появились первые признаки близости жилья: следы лыж и нарт, свежие порубки, пилёные дрова и т. д. — Иман далеко нету, — сказал Дерсу довольным голосом. Все почувствовали прилив энергии и пошли бодрее. Как бы в ответ на его слова впереди послышался отдалённый собачий лай. Ещё один поворот, и мы увидели огоньки. Это было китайское селение Сянь-ши-хеза[166]. Через четверть часа мы подходили к посёлку. Я никогда не уставал так, как в этот день. Дойдя до первой фанзы, мы вошли в неё и не раздеваясь легли на кан. Естественно, что наше появление вызвало среди китайцев тревогу. Хозяин фанзы волновался больше всех. Он тайком послал куда-то рабочих. Спустя некоторое время в фанзу пришёл ещё один китаец. На вид ему было лет тридцать пять. Он был среднего роста, коренастого сложения и с типично выраженными монгольскими чертами лица. Наш новый знакомый был одет заметно лучше других. Держал он себя очень развязно и имел голос крикливый. Он обратился к нам на русском языке и стал расспрашивать, кто мы такие и куда идём. Речь его была чистая, правильная, нековерканная, слова свои он часто пересыпал русскими пословицами. Затем он стал уговаривать нас перейти к нему в фанзу, назвал себя Ли Тан-куём, сыном Лу Чин-фу, говорил, что его дом лучший во всём посёлке, а фанза, в которой мы остановились, принадлежит бедняку и т. д. Затем он вышел на улицу и о чём-то долго шептался с хозяином фанзы. Последний подошёл ко мне и тоже стал просить, чтобы мы перешли к Ли Тан-кую. Нечего делать, пришлось уступить. Откуда-то взялись рабочие, которые успели уже перенести наши вещи. Когда мы шли по тропе, Дерсу вдруг тихонько дёрнул меня за рукав и сказал: — Его шибко хитрый люди. Моя думай, его обмани хочу. Сегодня моя спи не буду. Мне самому китаец этот казался подозрительным и очень не нравились его заискивания и фамильярность. Селение Сянь-ши-хеза расположено на правом берету Имана. На другом конце поляны около леса находилось брошенное удэгейское стойбище, состоявшее из восьми юрт. Все удэгейцы в числе 65 человек (21 мужчина, 12 женщин и 32 детей) бросили свои жилища и ушли на Вагунбе. Минут через пять мы подошли к дому Ли Тан-куя. Вокруг него стояло несколько фанз для рабочих и охотников, а за ними виднелись амбары, кузница, сарай, конюшня и т. д. Мы вошли. Хозяин хотел было меня и Гранатмана поместить в своей комнате, но я настоял на том, чтобы казаки и Дерсу ночевали вместе со мной. После этого Ли Тан-куй принялся нас угощать. Каким вкусным показался нам чай с лепёшками, испечёнными на бобовом масле! На время мы даже забыли свои подозрения. Когда я утолил первые признаки голода, опасения появились вновь. Ли Тан-куй хотя и угощал нас, но в этом угощении не было радушия: в каждом движении его сквозила какая-то задняя мысль. Дерсу всё время осторожно следил за ним. Я решил тоже не спать, но не в силах был преодолеть усталость. После ужина я почувствовал, что веки мои слипаются сами собой; незаметно для себя я погрузился в глубокий сон. Ночью я проснулся оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Я быстро вскочил на ноги. Рядом со мной сидел Дерсу. Он сделал мне знак, чтобы я не шумел, и затем рассказал, что Ли Тан-куй давал ему деньги и просил его уговорить меня не ходить к удэгейцам на Вагунбе, а обойти юрты их стороной, для чего обещал дать специальных проводников и носильщиков. Дерсу отвечал ему, что это не от него зависит. После этого он, Дерсу, лёг на кан и притворился спящим. Ли Тан-куй выждал, когда, по его мнению, Дерсу уснул, тихонько вышел из фанзы и куда-то уехал верхом на лошади. — Надо наша завтра на Вагунбе ходи. Моя думай, там что-то худо есть, — закончил он свой рассказ. В это время снаружи послышался конский топот. Мы сунулись на свои места и притворились спящими. Вошёл Ли Тан-куй. Он остановился в дверях, прислушался и, убедившись, что все спят, тихонько разделся и лёг на своё место. Вскоре я опять заснул и проснулся уже тогда, когда солнце было высоко на небе. Проснулся я от какого-то шума и спросил, что случилось. Казаки доложили мне, что к фанзе пришло несколько человек удэгейцев. Я оделся и вышел к ним на улицу. Меня поразила та неприязнь, с какой они на меня смотрели. После чая я объявил, что пойду дальше. Ли Тан-куй стал уговаривать меня, чтобы я остался ещё на один день, обещал заколоть чушку и т. д. Дерсу в это время подмигнул мне, чтобы я не соглашался. Тогда Ли Тан-куй начал навязывать своего проводника, но я отказался и от этих услуг. Как ни хитрил Ли Тан-куй, но обмануть ему нас так и не удалось. От Сянь-ши-хезы тропа идёт по правому берегу реки у подножия высоких гор. Километра через два она опять выходит на поляну, которую местные китайцы называют Хозенгоу[167]. Поляна эта длиной 5 километров и шириной от 1 до 3 километров. Все иманские китайцы хорошо вооружены и живут очень зажиточно. Они относились к нам крайне враждебно. На мои вопросы о дороге и о численности населения они отвечали грубо: «Бу чжи дао» (не знаю), а некоторые говорили прямо: «Знаю, да не скажу». Немного дальше и несколько в стороне было удэгейское стойбище Вагунбе, состоящее из четырёх фанз и юрт. По сведениям, здесь обитали 85 удэгейцев (29 мужчин, 19 женщин и 37 детей). Когда мы подходили к их жилищам, они все высыпали нам навстречу. Удэгейцы встретили меня далеко не дружелюбно и не пригласили даже к себе в юрты. Первый вопрос, который они задали мне, был такой: почему я ночевал в доме Ли Тан-куя? Я ответил им и в свою очередь спросил их, почему они так враждебно ко мне относятся. Удэгейцы ответили, что давно ждали меня и вдруг узнали, что я пришёл и остановился у китайцев на Сянь-ши-хеза. Скоро всё объяснилось: оказалось, что здесь произошла целая трагедия. Китаец Ли Тан-куй нещадно эксплуатировал туземцев долины Имана и жестоко наказывал их, если они к назначенному времени не доставляли определённого числа мехов. Многие семьи он разорил совершенно, женщин насиловал, детей отбирал и продавал за долги. Наконец двое из удэгейцев, Масенда и Сомо, из рода Кялондига, выведенные из терпения, поехали в Хабаровск с жалобой к генерал-губернатору. Последний обещал им помочь и между прочим сказал, что я должен прийти на Иман со стороны моря. Он велел им обратиться ко мне, полагая, что на месте я легко разберусь с этим вопросом. Удэгейцы вернулись, сообщили сородичам о результатах своей поездки и терпеливо стали ждать моего прихода. О поездке Сомо и Масенды узнал Ли Тан-куй. Тогда для примера другим он приказал избить жалобщиков палками. Один из них умер во время наказания, а другой хотя и выжил, но остался калекой на всю жизнь. Тогда в Хабаровск поехал брат убитого Гулунга. Ли Тан-куй велел его схватить и заморозить в реке. Узнав об этом, удэгейцы решили с оружием в руках защищать товарища. Создалось осадное положение. Уже две недели туземцы сидели на месте, не ходили на охоту и, за недостатком продовольствия, терпели нужду. Вдруг до них дошла весть, что я пришёл на Сянь-ши-хеза и остановился в доме Ли Тан-куя. Я объяснил им, что мне ничего не было известно из того, что случилось на Имане, и что, придя в Сянь-ши-хеза, я до того был утомлён и голоден, что не разбирая воспользовался первой попавшейся мне фанзой. Вечером все старики собрались в одну юрту. На совете решено было, что по прибытии в Хабаровск я обо всём доложу начальству, буду просить оказать помощь туземцам. Когда старики разошлись, я оделся и вышел из юрты. Кругом было темно, так темно, что в двух шагах нельзя было рассмотреть человека. О местонахождении удэгейских жилищ можно было только узнать по искрам и клубам дыма, которые вырывались из отверстия в крышах. Вдруг в тихом вечернем воздухе пронеслись странные звуки: то были удары в бубен, и вслед за тем послышалось пение, похожее на стон и плач. В этих звуках было что-то жуткое и тоскливое. Как волны, они неслись в стороны и таяли в холодном ночном воздухе. Я окликнул Дерсу. Он вышел и сказал мне, что в самой крайней юрте шаман лечит больного ребёнка. Я отправился туда, но у самого входа в юрту натолкнулся на старуху, она загородила мне дорогу. Я понял, что присутствие моё при камлании[168] нежелательно, и пошёл назад по тропе. В той стороне, где находились китайские фанзы, виднелись огоньки. Я почувствовал, что прозяб, вернулся в юрту и стал греться у костра.
Глава 29 От Вагунбе до Паровози

Проводы. — Река Тайцзибери. — Картун. — Враждебное настроение китайцев. — Отказ в ночлеге. — Ориентировка при помощи обоняния. — Лофанза. — Мяолин. Буйный хозяин. — Паровози. — Река Нэйцухе. — Село Котельное. — Колёсная дорога. — Угощение в деревне Гоголевке. — Нижнее течение Имана. — Услуга попутчика. — Расставание с Дерсу. — Станция Иман. — Возвращение в Хабаровск
На следующий день утром, 8 ноября, мы продолжали наш путь. Все удэгейцы пошли нас провожать. Эта толпа людей, пёстро одетых, с загорелыми лицами и с беличьими хвостиками на головных уборах, производила странное впечатление. Во всех движениях её было что-то дикое и наивное. Мы шли в середине, старики рядом, а молодёжь бежала по сторонам, увлекаясь следами выдр, лисиц и зайцев. На конце поляны инородцы остановились и пропустили меня вперёд. Из толпы вышел седой старик. Он подал мне коготь рыси и велел положить его в карман, для того чтобы я не забыл просьбы их относительно Ли Тан-куя. После этого мы расстались: удэгейцы вернулись назад, а мы пошли своей дорогой. От устья Синанцы Иман изменяет своё направление и течёт на север до тех пор, пока не достигнет Тхетибе. Приток этот имеет три названия: гольды называют его Текибира, удэгейцы — Тэгибяза, русские — Тайцзибери. Отсюда Иман опять поворачивает на запад, какое направление и сохраняет уже до впадения своего в Уссури. Эта часть долины Имана тоже слагается из ряда денудационных и тектонических участков, чередующихся между собой. Такого рода долины особенно часто встречаются в Приамурском крае. Между реками Синанцей и Тхетибе Иман принимает в себя с левой стороны в последовательном порядке следующие притоки: Ташидохе[169] (длиной в 50 километров) и Хейсынгоу[170] (10 километров). Между их устьями есть гора Ломаза-Цзун[171], далее будут речки Мыдагауза[172] (6 километров) и гора того же имени и наконец речка Сяо-Шибахе[173] (25 километров). С правой стороны в том же последовательном порядке будут: Вагунбе (40 километров) с притоком Тайгоу[174] (6 километров) и Цуцувайза (15 километров). Река Тайцзибери длиной 100 километров; она очень порожиста завалена буреломом; в верхней части течёт с востока на запад и только вблизи устья склоняется к югу. Вся долина покрыта густыми хвойно-смешанными лесами. В нижнем течении Тайцзибери имеет следующие притоки: с правой стороны Цологоузу[175] (12 километров), Чанцзуйзу[176], с горой того же имени, и Сибичу[177]; потом следуют: Ханихеза[178], Бэйлаза[179] и Дунанца. Сибича образуется из слияния Сяо-Сибичи[180] и Санчазы[181] и имеет течение в среднем 9 километров в час, глубину около 1,5 метра и ширину близ устья 50 метров. Если идти вверх по правой речке, то можно в два дня выйти на реку Бейцухе[182], по второй — в четыре дня на Шитохе[183] (верхний приток Бикина). С левой стороны в Тайцзибери впадают Нанца (25 километров), Тяпогоу[184] (20 километров), Цамцагоуза[185] (30 километров), Поумазыгоу[186] (12 километров) и Талингоуза[187] (40 километров). Между устьями третьей и четвёртой рек находится довольно высокая гора, которую называют Логозуйза. После принятия в себя Тайцзибери Иман поворачивает на запад. Здесь он шириною около 140 метров, глубиной 3 — 4 метра. Дальше с левой стороны в него впадают две маленькие речки: Шаньдапоуза[188] (8 километров) и Кауланьтунь[189] (15 километров). Последнюю китайцы называют Динзахе (Золотая река). Летом, когда идёшь по лесу, надо внимательно смотреть, чтобы не потерять тропу. Зимой, покрытая снегом, она хорошо видна среди кустарников. Это в значительной степени облегчило мне съёмку. Иман мало где течёт одним руслом, чаще он разбивается на протоки. Некоторые из них имеют значительную длину и далеко отходят в сторону. Из них наиболее замечательны Тагоуза[190], Наллю и Картунская. За эти дни мы очень утомились. Хотелось остановиться и отдохнуть. По рассказам удэгейцев, впереди было большое китайское селение Картун. Там мы думали продневать, собраться с силами и, если возможно, нанять лошадей. Но нашим мечтам не суждено было сбыться. В промежутке между реками Динзахе и Картуном Иман принимает в себя много больших и малых притоков, которые имеют следующие названия: с правой стороны — Яумуга (25 километров), Логозуйза[191] (20 километров) и Вамбалаза, то есть Черепашья скала (25 километров). Скалистые горы около Картуна носят то же название. Если смотреть на них в профиль со стороны Имана, то контуры их действительно напоминают черепаху. По рассказам удэгейцев, в горах между Логозуйза и Вамбалаза есть золото. С левой стороны в Иман впадают Каулентун (10 километров), Сядопоуза (15 километров), Чулагоу (40 километров), Тувдагоу (50 километров), Тазыгоу[192] (15 километров) и Хоамихеза[193] (12 километров). Картун собственно представляет собою большую котловину в 6 километров длиной и 3 километра шириной. Здесь насчитывается сорок две китайские фанзы. Местность Картун можно считать границей, где кончаются смешанные и начинаются широколиственные леса. Горы в стороне от реки покрыты кедровым лесом, который зимой резко выделяется своей тёмной хвоей. День кончился, когда мы подошли к Картуну. Солнце только что успело скрыться за горизонтом. Лучи его играли ещё в облаках и этим отражённым сиянием напоследок освещали землю. В стороне около речки виднелись китайские фанзы. Слово «картун», вероятно «гао-ли-тунь», означает «корейский посёлок». Рассказывают, что здесь в протоках раньше добывали много жемчуга. По другому толкованию «картун» означает «ворота». Действительно, на западе за Картуном долина опять суживается. С левой стороны к реке подходят горы Хын-хуто[194], а справа длинный отрог Вамбалазы. Более зажиточных фанз, чем на Картуне, я нигде не видывал. Они были расположены на правом берегу реки и походили скорее на заводы, чем на жилые постройки. Я зашёл в одну из них. Китайцы встретили меня враждебно. До них уже долетели вести о том, кто мы и почему удэгейцы нас сопровождают. Неприятно быть в доме, когда хозяева нелюбезны. Я перешёл в другую фанзу. Там нас встретили ещё хуже, в третьей мы не могли достучаться, в четвёртой, пятой, десятой нам был оказан такой же приём. Против рожна не пойдёшь. Я ругался, ругались казаки, ругался Дерсу, но делать было нечего. Оставалось только покориться. Ночевать около фанз мне не хотелось. Поэтому я решил идти дальше, пока не найду место, подходящее для бивака. Настал вечер. Красивое сияние на небе стало блекнуть. Кое-где зажглись звезды. Китайские фанзы остались далеко позади, а мы все шли. Вдруг Дерсу остановился и, закинув назад голову, стал нюхать воздух. — Погоди, капитан, — сказал он. — Моя запах дыма найди есть. Это удэге, — сказал он через минуту. — Почему ты знаешь? — спросил его Кожевников. — Может быть, китайская фанза? — Нет, — говорил Дерсу, — это удэге. Китайская фанза большой труба есть: дым высоко ходи. Из юрты дым низко ходи. Удэге рыбу жарят. Сказав это, он уверенно пошёл вперёд. Порой он останавливался и усиленно нюхал воздух. Так прошли мы пятьдесят шагов, потом сто, двести, а обещанной юрты всё ещё не было видно. Усталые люди начали смеяться над стариком. Дерсу обиделся. — Ваша хочу тут спи, а моя хочу юрта ходи, рыбу кушай, — отвечал он спокойно. Я последовал за ним, а следом за мной пошли и казаки. Минуты через три мы действительно подошли к удэгейскому стойбищу. Тут были три юрты. В них жили 9 мужчин и 3 женщины с 4 детьми. Через несколько минут мы сидели у огня, ели рыбу и пили чай. За этот день я так устал, что едва мог сделать в дневнике необходимые записи. Я просил удэгейцев не гасить ночью огня. Они обещали по очереди не спать и тотчас принялись колоть дрова. Ночью был туманный мороз. Откровенно говоря, я был бы очень рад, если бы к утру разразилась непогода. По крайней мере мы отдохнули бы и выспались как следует, но едва взошло солнце, как туман сразу рассеялся. Прибрежные кусты и деревья около проток заиндевели и сделались похожими на кораллы. На гладком льду иней осел розетками. Лучи солнца играли в них, и от этого казалось, будто по реке рассыпаны бриллианты. Я видел, что казаки торопятся домой, и пошёл навстречу их желанию. Один из удэгейцев вызвался проводить нас до Мяолина. Так называется большой ханшинный завод, находящийся на правом берегу Имана, километрах в семи от Картуна, ниже по течению. Сегодня дорога мне показалась ещё более тяжёлой. За Картунскими воротами долина опять расширилась. Я поднялся на одну из сопок. Интересное зрелище представилось моим глазам. На восток шла долина Имана: она терялась где-то в горах. Но на запад, север и юг, насколько хватал глаз, передо мной развёртывалась огромная, слабо всхолмлённая низина, покрытая небольшими группами редкого лиственного леса, а за ними на бесконечном пространстве тянулись белоснежные поля, поросшие травой и кустарниками. Эту огромную низину китайцы называют Лофанза[195]. Она длиной 80 километров и в ширину по крайней мере 50 километров. Места эти казались весьма удобными для земледелия. Однако нигде фанз не было видно. Китайцы избегают их, и, вероятно, не без основания: или земля здесь плохая, или она затопляется водой во время разливов Имана. По слухам, в местности Чингуйза есть ещё одна юрта, в которой проживают два одиноких удэгейца. Часа в два мы дошли до Мяолина — то была одна из самых старых фанз в Иманском районе. В ней проживали 16 китайцев и одна гольдячка. Хозяин её поселился здесь лет пятьдесят тому назад, ещё юношей, а теперь он насчитывал себе уже семь десятков лет. Вопреки ожиданиям он встретил нас хотя и не очень любезно, но всё же распорядился накормить и позволил ночевать у себя в фанзе. Вечером он напился пьян. Начал о чём-то меня просить, но затем перешёл к более резкому тону и стал шуметь. — Мяолин не вчерашний и не сегодняшний, — говорил он. — Мяолин такой же старый, как и я, а вы пришли меня прогонять. Я вам Мяолин не отдам. Если мне придётся уходить отсюда, я его сожгу. Затем он объявил, что сейчас зажжёт фанзу, пошёл на двор и притащил оттуда большую охапку соломы. Всё это кончилось тем, что Дерсу напоил его до потери сознания и уложил спать на той же соломе. Утром мы рано ушли, оставив старика спать в его фанзе, которую он не хотел нам уступить и которую мы не собирались у него отнимать. Странное дело, чем ближе мы подходили к Уссури, тем самочувствие становилось хуже. Котомки наши были почти пустые, но нести их было тяжелее, чем наполненные в начале дороги. Лямки до того нарезали плечи, что дотронуться до них было больно. От напряжения болела голова, появилась слабость. Чем ближе мы приближались к железной дороге, тем хуже относилось к нам население. Одежда наша изорвалась, обувь износилась, крестьяне смотрели на нас как на бродяг. От Мяолина тропа пошла по кочковатому лугу в обход болот и проток. Часа через два она привела нас к невысоким сопкам, поросшим дубовым редколесьем. Эти сопки представляют собой отдельный массив, выдвинувшийся посредине Лофанзы, носящей название Коу-цзы-шань[196]. Это остатки каких-то больших гор, частью размытых, частью потопленных в толщах потретичных образований. У подножия их протекает маленькая речка Хаунихеза. Стрелки шли лениво и часто отдыхали. Незадолго до сумерек мы добрались до участка, носящего странное название Паровози. Откуда произошло это название, так я и не мог добиться. Здесь жил старшина удэгейцев Сарл Кимунка со своей семьёй, состоящей из 7 мужчин и 4 женщин. В 1901 году он с сотрудником Переселенческого управления Михайловым ходил вверх по Иману до Сихотэ-Алиня. В награду за это ему был отведён хуторской участок. Вечером я узнал от него, что километра на четыре ниже в Иман впадает ещё одна большая река — Нэйцухе[197]. Почти половина её протекает по низине Лофанзы среди кочковатых болот, покрытых высокой травой и чахлой кустарниковой порослью. По его словам, Нэйцухе очень извилиста. Густые смешанные леса начинаются в 40 километрах от Имана. Потом идут гари и лесные болота. Из притоков Нэйцухе река Хайнето[198] славится как местность, богатая женьшенем. На следующий день мы встали поздно, закусили немного рыбой и пошли дальше. Сарл Кимунка проводил нас до корейцев, недавно поселившихся около Паровози. Внизу Иман ещё не замёрз — надо было переправиться на лодке. Мы обошли все фанзы и нигде не нашли ни одного мужчины. Женщины испуганно смотрели на нас, молчали и прятали своих детей. Видя, что ничего добиться нельзя, я махнул рукой и велел стрелкам идти к реке. Удэгеец где-то нашёл спрятанную в кустах плоскодонку. В ней он перевёз нас через реку поодиночке и затем возвратился назад. На левом берегу Имана, у подножия отдельно стоящей сопки, расположилось четыре землянки: это было русское селение Котельное. Переселенцы только что прибыли из России и ещё не успели обстроиться как следует. Мы зашли в одну мазанку и попросились переночевать. Хозяева избушки оказались очень радушными. Они стали расспрашивать нас, кто мы такие и куда идём, а потом принялись пенять на свою судьбу. С каким удовольствием я поел крестьянского хлеба! Вечером в избу собрались все крестьяне. Они рассказывали про своё житьё-бытьё на новом месте и часто вздыхали. Должно быть, несладко им досталось переселение. Если бы не кета, они все погибли бы от голода, только рыба их и поддержала. От села Котельного начиналась дорога, отмеченная верстовыми столбами. Около деревни на столбе значилась цифра 74. Нанять лошадей не было денег. Мне непременно хотелось довести съёмки до конца, что было возможно только при условии, если идти пешком. Кроме того, ветхая одежонка заставляла нас согреваться движением. Мы выступили рано утром, почти на рассвете. Тотчас же за Нэйцухе дорога подымается на перевал и на протяжении 9 километров идёт косогорами, имея с левой стороны болотистую низину Имана, а справа — возвышенности, поросшие старым и редким дубовым лесом дровяного характера. Дорога идёт сначала на север, а потом у столба с цифрой 57 опять поворачивает на запад. Следующая деревня была Гончаровка. Она больше Котельной, но состояние её тоже было незавидное. Бедность проглядывала в каждом окне, её можно было прочесть и на лицах крестьян, в глазах баб и в одежде ребятишек. После полудня мы дошли до корейской деревушки Лукьяновки, состоящей из пятидесяти двух фанз, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. Здесь мы отдохнули немного и пошли дальше Сумерки застали нас в дороге. Мы все сильно устали, прозябли, и хотелось есть. Скоро я перестал разбирать цифры на инструменте, но дорога была видна. Тогда я стал работать с огнём. По сигналу один из казаков подносил зажжённую спичку к инструменту. При минутном освещении я замечал цифру нониуса, отмечал её на планшете и шёл дальше. Наконец впереди мелькнул огонёк. — Деревня! — воскликнули все в один голос. — Ночью огонь постоянно обмани, — сказал на это Дерсу. Действительно в темноте огонь виден далеко. Иногда он кажется дальше, чем есть на самом деле, иногда совсем близко, почти рядом. Мы шли, и, казалось, огонь тоже уходил от нас. Я уже хотел было сделать привал, но огонь вдруг сразу появился совсем близко. В темноте мы разглядели избу, другую, третью — всего восемь домов. Это была деревня Вербовка. Многих крестьян не было дома, они ушли на заработки в город. Испуганные женщины приняли нас за хунхузов и не хотели отворять дверей. Пришлось прибегнуть к помощи старосты. Он приютил меня, Дерсу и Бочкарёва у себя, а Г. И. Гранатмана, Мурзина и Кожевникова — соседи. За этот день мы прошли 35 километров и страшно устали. До железной дороги оставалось ещё 43 километра. Посоветовавшись с моими спутниками, я решил попытаться пройти это расстояние в один переход. Для исполнения этого плана мы выступили очень рано. Около часа я работал опять с огнём. Когда взошло солнце, мы подходили уже к Гоголевке. Утро было морозное. Вся деревня курилась; из труб столбами поднимался белый дым. Он расстилался по воздуху и принимал золотисто-розовую окраску. Я не хотел здесь останавливаться, но один из местных жителей узнал, кто мы такие, и просил зайти к нему напиться чаю. От хлеба-соли отказываться нельзя. Хозяин оказался человеком весьма любезным. Он угощал нас молоком, белым хлебом, мёдом и маслом. Фамилии его я не помню, но от души благодарю его за радушие и гостеприимство. Деревня Гоголевка расположена на левом берегу Имана, в полукилометре от реки. Противоположный берег — нагорный. Горы эти носят следующие названия: Шаньгуачин[199], Хоуши[200], Вамбабоза и Сяошаньцунзы[201]. Около первой горы (Шаньгуачин) в Иман впадает большая река Бэйцухе[202], текущая параллельно ему и только в низовьях склоняющаяся немного к югу. Длина реки около 150 километров, ширина 40 метров, глубина 2 метра и скорость течения 3 километра в час. В истоках она имеет перевал на Ситухе (приток Бикина). Бэйцухе чрезвычайно извилиста, особенно в нижнем течении. За последние годы здесь производились большие лесные порубки. Из притоков Бэйцухе заслуживают внимания с левой стороны (от истоков книзу) — Дунанца, Хайхе[203], Сатохе[204] и Сиксинда, справа — Сяухеза[205], Ханихеза, Ушанка и Малая Бэйцухе. Между устьем и Иманом приютилась небольшая корейская деревушка Саровка, а ещё низке, там, где начинаются горы, две корейские деревни — Омбор и Самбор. Чай с хлебом подкрепили наши силы. Поблагодарив гостеприимного хозяина, мы отправились дальше и вскоре подошли к деревне Звенигородке. До железной дороги оставалось теперь только 23 километра. Но что значит это расстояние после сытного завтрака, когда знаешь, что сегодня можно совсем закончить путь?! День был ясный, солнечный, но холодный. Мне страшно надоела съёмка, и только упорное желание довести её до конца не позволяло бросить работу. Каждый раз, взяв азимут, я спешно зарисовывал ближайший рельеф, а затем согревал руки дыханием. Через час пути мы догнали какого-то мужика. Он вёз на станцию рыбу. — Как неё вы так работаете? — спросил он у меня. — Неужели вам не холодно? Я ответил ему, что за дорогу мои перчатки износились. — Так возьмите же мои, — сказал попутчик. — У меня есть запасная пара. Говоря это, он достал с воза тёплые вязаные перчатки и подал их мне. Я взял перчатки и продолжал работать. Километра два мы шли вместе, я чертил, а крестьянин рассказывал мне про своё житьё и ругательски ругал всех и каждого. Изругал он своих односельчан, изругал жену, соседа, досталось учителю и священнику. Надоела мне эта ругань. Лошадёнка его шла медленно, и я видел, что при таком движении к вечеру мне не удастся дойти до Имана. Я снял перчатки, отдал их возчику, поблагодарил его и, пожелав успеха, прибавил шагу. — Как, — закричал он вслед, — неужто вы мне не заплатите? — За что? — спросил я. — А за перчатки! — Да ведь ты получил их обратно, — ответил я ему. — Вот тебе раз! — протянул с недовольством мой благодетель. _ Я вас пожалел, а вы не хотите денег платить?! — Хороша у тебя жалость, — вмешались казаки. Больше всех рассердился Дерсу. Он шёл, плевался и всё время ругал возчика разными словами. — Вредный люди, — говорил он, — мой такой не хочу посмотри. У него лица нету. Выражение гольда «потерять лицо» значило — потерять совесть. И нельзя было не согласиться, что у человека этого действительно не было совести. История эта на целый день испортила мне настроение. — Как такой люди живи? — не унимался Дерсу. — Моя думай, его живи не могу — его скоро сам пропади. После полудня мы подошли к реке Ваку и сделали привал на дороге. По прямой линии до железной дороги оставалось не более 2 километров, но на верстовом столбе стояла цифра 6. Это потому, что дорога здесь огибает большое болото. Ветром доносило свистки паровозов, и уже можно было рассмотреть станционные постройки. Я втайне лелеял мысль, что на этот раз Дерсу поедет со мной в Хабаровск. Мне очень жаль было с ним расставаться. Я заметил, что последние дни он был ко мне как-то особенно внимателен, что-то хотел сказать, о чём-то спросить и, видимо, не решался. Наконец, преодолев своё смущение, он попросил патронов. Из этого я понял, что он решил уйти. — Дерсу, не уходи, — сказал я ему. Он вздохнул и стал говорить, что боится города и что делать ему там нечего. Тогда я предложил ему дойти со мной до станции железной дороги, где я мог бы снабдить его на дорогу деньгами и продовольствием. — Не надо, капитан, — ответил гольд. — Моя соболь найди — его все равно деньги. Напрасно я уговаривал его, он стоял на своём. Дерсу говорил, что он отправится по реке Ваку и в истоках её будет гонять соболей, а затем, когда станут таять снега, перейдёт на Даубихе. Там около урочища Анучина жил знакомый ему старик гольд. У него он и решил провести два весенних месяца. Мы условились, что в начале лета, когда я пойду в новую экспедицию, пришлю за ним казака или приеду сам. Дерсу согласился и обещал ждать. После этого я отдал ему все имевшиеся у меня патроны. Мы сидели и говорили все об одном и том же. Я уже три раза условливался с ним, где нам опять встретиться, и всячески старался оттянуть время. Мне тяжело было с ним расставаться. — Ну, надо ходи, — сказал Дерсу и стал надевать свою котомку. — Прощай, Дерсу, — сказал я, крепко пожимая ему руку. — Спасибо за то, что ты помогал мне. Прощай! Я никогда не забуду то многое, что ты для меня сделал!… Большое красное солнце только что зашло, оставив за собой на горизонте тусклое сияние. Первая, как всегда, зажглась Венера, за ней — Юпитер и другие крупные звёзды. Дерсу хотел было ещё что-то сказать, но смутился и стал рукавом обтирать приклад своей винтовки С минуту мы простояли молча, затем ещё раз пожали друг другу руки и разошлись Он свернул на протоку, влево, а мы пошли прямо по дороге Отойдя немного, я оглянулся и увидел гольда. Он вышел на галечниковую отмель и рассматривал на снегу чьи-то следы… Я окликнул его и стал махать головным убором. Дерсу отвечал мне рукой. «Прощай, Дерсу», — подумал я про себя и пошёл дальше Казаки потянулись за мной. Теперь перед нами расстилалась равнина, покрытая сухой буро-жёлтой травой и занесённая снегом. Ветер гулял по ней, трепал сухие былинки. За туманными горами на западе догорала вечерняя заря, а со стороны востока уже надвигалась холодная тёмная ночь. На станции зажглись белые, красные и зелёные огоньки. За этот день мы так устали, как не уставали за всё время путешествия. Люди растянулись и шли вразброд. До железной дороги оставалось километра два, но это небольшое расстояние далось нам хуже двадцати в начале путешествия. Собрав последние остатки сил, мы потащились к станции, но, не дойдя до неё каких-нибудь двухсот-трёхсот шагов, сели отдыхать на шпалы. Проходившие мимо рабочие удивились тому, что мы отдыхаем так близко от станции. Один мастеровой даже пошутил. — Должно быть, до станции далеко, — сказал он товарищу со смехом. Нам было не до шуток. Жандармы тоже поглядывали подозрительно и, вероятно, принимали нас за бродяг. Наконец мы добрели до посёлка и остановились в первой попавшейся гостинице. Городской житель, наверное, возмущался бы её обстановкой, дороговизной и грязью, но мне она показалась раем. Мы заняли два номера и расположились с большим комфортом. Все трудности и все лишения остались позади Сразу появился интерес к газетам. Я всё время вспоминал Дерсу. «Где-то он теперь? — думал я. — Вероятно, устроил себе бивак где-нибудь под берегом, натаскал дров, разложил костёр и дремлет с трубкой во рту». С этими мыслями я уснул. Утром я проснулся рано. Первая мысль, которая мне доставила наслаждение, было сознание, что более нести котомку не надо Я долго нежился в кровати. Затем оделся и пошёл к начальнику Иманского участка Уссурийского казачьего войска Г. Ф. Февралеву. Он принял меня очень любезно и выручил деньгами. Вечером мы ходили в баню. За время путешествия я так сжился с казаками, что мне не хотелось от них отделяться. После бани мы все вместе пили чай. Это было в последний раз. Вскоре пришёл поезд, и мы разошлись по вагонам. Семнадцатого ноября мы прибыли в Хабаровск.
Алфавитный указатель русских и латинских названий растений и животных, упомянутых в тексте
а) Ботанические названия
Абрикосовое дерево см. Абрикос маньчжурский Абрикос маньчжурский Armeniaca manshurica Koehne Акат, акатник см. Маакия амурская Акация жёлтая см. Карагана кустарниковая Акация Маака м. Маакия амурская Актинидия коломикта Actinidia kolomikta Max. Аралия маньчжурская Aralia manshurica Rupr. et Max. Арундинелла Arundinella anomala Steud.Бадан тихоокеанский Bergenia paciiica Kom. Барбарис амурский Berberis amurensis Max. Бархатное дерево амурское Phellodendron amurense Rupr. Бархат см. Бархатное дерево Башмачок вздутый Cypripedium ventricosum Sw. Белокопытник гигантский см. Белокопытник дланевидный Белокопытник дланевидный Petasites palmata Asa Gray Берёза даурская Betula dahurica Pall. Берёза жёлтая м. Берёза ребристая Берёза каменная см. Берёза Эрмана Берёза кустарниковая см. Берёза овальнолистная Берёза маньчжурская Betula manshurica (Rgl.) Nakai Берёза ребристая Betula costata Trautv. Берёза чёрная см. Берёза даурская Берёза Эрмана Betula Ermani Cham. Берёза японская см. Берёза маньчжурская Берёза овальнолистная Betula ovalifolia Rupr. Бересклет большекрылый Euonymus macroptera Rupr. Бересклет крылатый Euonymus alata Thunb. Бересклет малоцветковый Euonymus pauciflora Max. Богородская трава см. Тимьян боровой Борец Кузнецова Aconitum Kusnetzovii Rchnb. Боярка бородавчатая см. Боярышник перистонадрезанный Боярышник Максимовича Crataegus Maximoviczii С. Schn. Боярышник перистонадрезанный Crataegus pinnatifida Bunge Бузина кистевая Sambucus racemosa L.
Василёк крупноцветный Centaurea monanthos Georgi Василёк полевой Centaurea cyanus L. Василёк розовый см. Василёк крупноцветный Василистник тычиночный Thalictrum filameniosum Max. Вейник Лангсдорфа Calamagrostis Langsdorffii Trin. Вейник см. Вейник Лангсдорфа Вереск болотный Chamaedaphne calyculata Moench. Виноград амурский Vitis amurensis Rupr. Вишня железистая Cerasus glandulifolia Rupr. et Max. Вишня Максимовича Cerasus Maximoviczii Rupr. Волчник камчатский см. Дафна камчатская Вороний глаз шестилистный Paris hexaphylla Cham. Восковник пушистый Myrica tomentosa Asch. et Gr. Вяз см. Ильм белокорый
Гвоздика бородатая Dianthus barbatus L. Горец земноводный Polygonum amphibium L. Горошек полевой Vicia cracca L. и V. ussuriensis Oett. Граб сердцелистный Carpinus cordata Blume Гриб дрожжалковый см. Гриб чёрный древесный Гриб чёрный древесный Auricularia Auricula-Judae L. Груша уссурийская Pirus ussuriensis Max. Грушевое дерево см. Груша уссурийская
Дафна камчатская Daphne kamczatica Max. Дейция мелкоцветная Deutzia parviflora Bge. Дикий перец см. Элеутерококк колючий Диморфант см. Калопанакс клещевинообразный Диоскорея вьющаяся см. Диоскорея Жиральди Диоскорея Жиральди Dioscorea Giraldii R. Knuth. Дрёма сверкающая Lychnis fulgens Fisch. Дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. Дудник даурский Angelica dahurica Rupr.
Ель аянская Picea ajanensis Fisch. Ель корейская Picea koraiensis Nakai Ель сибирская см. Ель корейская
Жасмин см. Чубушник тонколистный Женьшень Panax ginseng С. А. Меу. Жимолость золотистая Lonicera chrysantha Turcz. Жимолость жёлтая см. Жимолость золотистая Жимолость Маака Lonicera Maackii Rupr. Жимолость съедобная Lonicera edulis Turcz.
Земляника восточная Fragaria orientalis Los. Зорька см. Дрёма сверкающая
Ива козья Salix caprea L. Ива корзиночная Salix viminalis L. Ива пепельная см. Ива сереющая Ива росистая Salix rorida Laksch. Ива сереющая Salix cin rascens (Wahlb) Flod. Ива трехтычинковая Salix triandra L. Ильм белокорый Ulmus japonica Sarg. Ильм горный Ulmus montana Wither, var. heterophylla Max. Ильм японский см. Ильм белокорый Ирис одноцветковый см. Касатик одноцветковый
Калина см. Калина Саржента Калина буреинская Viburnum burejanum Herder Калина лесная см. Калина буреинская Калина Саржента Viburnum Sargentii Koehne Калопанакс клещевинообразный Kalopanax ricinifofia Miq. Калужница болотная Caltha palustris L. Камыш см. Тростник обыкновенный Капуста морская см. Ламинария Карагана кустарниковая Caragana fruticosa Besser. Касатик одноцветковый Iris uniflora Pall. Кедр корейский Pinus koraiensis S. et Z. Кишмиш см. Актинидия коломикта Клевер белый см. Клевер ползучий Клевер ползучий Trifolium repens L. Клён белый см. Клён зеленокорый Клён бородатый Acer barbinerve Max. Клён жёлтый Acer ukurunduense Tr. et Mey. Клён зеленокорый Acer tegmenfosnm Max. Клён ложнозибольдов Acer pseudo-sieboldianum Kom. Клён мелколистный Acer mono Max. Клинтония удская Clintonia udensis Tr. et Mey. Княжник охотский Atragene ochotensis Pall. Колокольчик скученнолистный Campanula glomerata L. Колокольчик тёмно-фиолетовый см. Колокольчик скученнолистный Коломикта см. Актинидия коломикта Красноягодник см. Смородина маньчжурская Крушина даурская Rhamnus dahuricus Pall. Кувшинка четырёхгранная Nymphaea tetragona Georgi Купальница Ледебура Trollius Ledepourii Reich. Курослеп жёлтый см. Калужница болотная
Ламинария Бурые морские водоросли из рода Laminaria (L.) чаще других L. sacha-rina (L.) Lamour
Ландыш душистый см. Ландыш майский Ландыш майский Convallaria majalis L. Леспедеца двухцветная Lespedeza bicolor Turcz. Лещина маньчжурская Corylus manshurica Max. Лещина разнолистная Corylus heterophylla Fisch. Лилия даурская Lilium dahuricum Gawl. Лимонник китайский Schizandra chinensis Baill. Липа амурская Tilia amurensis Kom. Липа маньчжурская Tilia manshurica Rupr. Лиственница даурская Larix dahurica Turc… Лиственница ольгинская Larix olgensis A. Henry Лиственница сибирская см. Лиственница ольгинская Лоза кустарниковая см. Ива кустарниковая Ломонос маньчжурский Clematis manshurica Rupr. Луносеменник даурский Menispermum danurieum DC. Лютик водяной Batrachium trichophyllum F. Schultz
Маакия амурская Maackia amurensis Rupr. et Max. Мак Papaver somniierum L. Мирт болотный см. Восковник пушистый Мискантус сахароцветный Miscanthus sacehariflorus Hackel. Можжевельник даурский Juniperus dahurica Pall. Му-эр см. Гриб чёрный древесный
Неклен см. Клён ложнозибольдов
Ольха волосистая Alnus hirsuta Turcz. Ольха кустарниковая Alnus fruticosa L. v. manshurica Call. Ольха японская Alnus japonica S. et Z. Орех водяной Trapa natans L. v. amurensis Fler. Орех маньчжурский Juglans manshurica Max. Орляк обыкновенный Pteridium aduilinum Kuhn. Осина Populus tremula L. v. Davidiana Schn. Осмунда коричневая Osmunda cinnamomea L. v. asiatica Fern. Осокорь душистый см. Тополь душистый
Папоротник чёрный см. Страусопер Папоротник чистоуст см. Осмунда коричневая Папоротник орляк см. Орляк обыкновенный Паслён персидский см. Паслён сладко-горький Паслён сладко-горький Solanum dulcamara L. Пион бело-розовый см. Пион белоцветковый Пион белоцветковый Paeonia albiflora Pall. Пихта амурская Abies nephrolepis Max. Пихта белокорая см. Пихта амурская Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. Пробковое дерево см. Бархатное дерево
Рододендрон амурский Rhododendron mucronulatum Turcz. Рододендрон даурский см. Рододендрон амурский Роза иглистая Rosa acicularis Lindl. Роза мелколистная Rosa pimpineilitolia L. Роза ребристая Rosa rugosa Thunb. Рябина бузинолистная Sorbus sambuclfolia Trautv. Рябина двухцветная Sorbus discolor Max. Рябина маньчжурская см. Рябина двухцветная
Секуринега ветвецветная Securinega ramijlora Mull. Сирень амурская Syringa amurensis Rupr. Смородина Максимовича Ribes Maximoviczianum Kom. Смородина маньчжурская Ribes manshuricum (Max.) Kom. Спирея см. Таволга Страусопер Struthiopteris germanica Willd.
Таволга березолистная Spiraea betulifolia Pall. Таволга иволистная Spiraea salicifolia L. Таволга лесная Spiraea shamaecirifolia L. Таволга средняя Spiraea media Schmidt Таволга шелковистая см. Таволга средняя Таволожник см. Таволга Тальник см. Ива Тимьян боровой Thymus serpyllum L. Тис остроконечный Taxus cuspidata S. et Z. Тополь душистый Populus suaveolens Fisch. Троллиус оранжевый см. Купальница Ледебура Тростник обыкновенный Phragmites communis Trin.
Хмель охотский см. Княжник охотский
Чемерица зелёная Veratrum Lobclianum Bcrnh. Черёмуха Маака Padus Maackii Rupr. Черёмуха Максимовича см. Вишня Максимовича Черёмуха обыкновенная Padus racemosa L. Черёмуха японская см. Вишня железистая Черешня Максимовича см. Вишня Максимовича Чёртово дерево см. Аралия маньчжурская Чозения Chosenia macrolepis (Turcz.) Kom. Чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. Et Max. Чумиза Setaria italica P. B.
Шиповник см. Роза Шиповник многоиглистый см. Роза мелколистная
Элеутерококк колючий Eleutherococcus senticosus Max.
Яблоня маньчжурская Malus manshurica (Max.) Kom. Яблоня сибирская см. Яблоня маньчжурская Ясенец белый Ясень пушистоплодный Ясенец пушистоплодный Dictamnus dasycarpus Turcz. Ясень китайский см. Ясенец носолистный Ясень маньчжурский Fraxinus manshurica Rupr. Ясень носолистный Fraxinus rhynchophylla Hance.
б) Зоологические названия
Аполлон Parnassius eversmanni Men.Баклан уссурийский Phalocrocorax filamentosus Temm. et Schleg. Барс Felis pardus orientalis Schleg. Барсук Meles meles amurensis Schrenck. Бекас Capella stenura Br. Бурундук Eutamias sibiricus orientalis Bonh.
Вальдшнеп Scolpax rusticola L. Волк Canis lupus L. Воробей полевой Passer montanus dubowskii Doman. Ворон Corvus corax kamtschaticus Dybow. Ворона Corvus corone orientalis Eversm. Выдра Lutra lutra L. Выпь Botaurus stellaris orientalis But.
Голубь скалистый Columba rupestris rupestris Pall. Горал Nemorhaedus goral raddeanus Heide Горбуша Oncorhynchus gorbuscha W. Горлица восточносибирская Streptopelia orientalis orientalis Lath. Гребешок большой Pecten maximus. Грязовик восточносибирский Limicola falcinellus sibiricus Dress.
Дрозд каменный Monticola solitarius magnus La-Touche Дупель горный Capella solitaria japonica Br. Дятел восточный седоголовый Picus canus jessoensis Stejn. Дятел зелёный Picus viridis viridis L. Дятел пёстрый уссурийский Dryobates japonicus tscherskii But.
Енот Nyctereutes procyonoides Gray
Жаворонок уссурийский Alauda arvensis nigrescens Kilst. Желна Dryocopus martius martius L. Жемчужница Margaritana margan'tifera L. Жужелица Carabus canaliculars M. Adam
Заяц-беляк Lepus timidus mordeni Goodwin Заяц маньчжурский Lepus mantschuricus Radde Землеройка уссурийская Sorex tsherskii Ognev Зимородок Alcedo atthis bengalensis Gm. Змея копьеголовая Ancistrodon dlomhoffii ussuriensis Em. Зуёк уссурийский Charadrius placidus Gray
Иволга китайская Oriolus chinensis diffusus Sharpe Изюбр Cervus elaphus xanthopigus M.-E.
Кабан Sus scrofa continentalis Nehr. Кабарга Moschus moschiferus parvipes Holl. Казарка белолобая Anser albifrons Scop. Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus pyrrhulina Sw. Канюк японский Buteo buteo burmanicus Hume Карась Carassius carassius rinchos Brehm. Кедровка сибирская Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm Кета Oncorhynchus keta Walb, Кобчик амурский Eryrhropus vespertinus amurensis Radde Коза дикая Caprolus capeolus bedfordi Ths. Комар-долгоножка Tipula sp.? Конёк сибирский Anthus hodgsoni inopinatus Hart, et St. Краб Paralithodes camtshatica Til. Крапивница Vanessa urticae L. Краснопёрка Leuciscus brandii Dyb. Крачка Sternula sinensis Gm. Кроншнеп Numenius cyanopus Vieil. Крохаль Mergus serrate L. Крыса водяная Arvicola terrestris L. Кулик-сорока Haematopus ostralegus osculans Sw. Куличок-травник Tringa totanus ussuriensis But. Кунжа Salvelinus leucomaenis Pall. Курочка (лысуха) болотная Fulica atra L.
Ленок Brachymystax lenok Pall. Летяга Pteromys volans arsenjevi Ogn. Лисица Vtilpes vulpes L. Лось Alces alces bedfordi Lyd.
Мальма Salvelinus alpinus malma Walb. Махаон Papilio Maackii Men. Медведь Ursus tibetanus ussuricus Heude Мокрец-мошка Culicoides sp.? Мошка-гнус Simulia sp.? Мышь летучая Myotis ikonnikovi Ogn. Мышь маньчжурская полевая Apademus agrarius manthuricus Thos
Неясыть уссурийская Strix uralensis nikolskii Rut.
Овсянка ошейниковая Emberiza fucata fucata Pall. Овсянка черноголовая Emberiza melanocephala Scop. Олень пятнистый Cervus nippon hortulorum Swinhoe Оляпка Cinclus pallasii pallasii Tem. Орлан белохвостый Haliaetus alhicilla L. Осьминог Ostopus sp.?
Пантера маньчжурская Felis pardus orientalis Schleg. Пеночка японская Phylloscopus tenellipes Sw. Перепел уссурийский Ceturnix japonica ussuriensis Bogd. Перепелятник Accipiter nisus nisosimilis Tickell Пищуха Ochotona hyperborea Pall. Плиска северная Motacilla sp.? Поганка Podiceps sp.? Полёвка красная Evotomys rutilus Pall. Полёвка-экономка Microtus oeconomus Pall. Полоз красноспинный Elaphe rufodorsalis
Полоз Шренка Elaphe Schrenckii Поползень амурский Sitta europaea amurensis Sw. Пустельга Cerchneis tinnunculus doerriesi Sw.
Ракушник Mytilus edulis L. Ремез-овсянка Gulo gulo L. Росомаха Emleriza rustica latifascia Рог. Рябчик Tetrastes banasia ussuriensis But. Рысь Felis lynx L.
Светляк Luciola mongolica Сивуч Eumetopias jubatus Schr. Сизоворонка Eurystomus orientalis calonix Sharpe Скворец Spodiopsar cineraceus Tern. Собака енотовидная Nyctereutes procyonoidos Gray Соболь Maries zibellina arsenjevi Kusn. Сова болотная Asio flammeus Pont. Совка восточная азиатская Otus japonicus stictonotus Sharpe Сокол-дербник Aesalom columbarius pacificus Steg. Соловей сибирский Luscinia sidilans Sw. Сорока голубая Cyanopica cyana pallescens Steg. Сорокопут клинохвостый Lanius sphenocercus Cab. Сорокопут серый Lanius excubitor subsp.? Сойка Garrulus glandarius brandtii Ev. Сыч-воробей Glaucidium passerinum crientale Tacz.
Таймень Hucho taimen Тигр Fciis tigris longipillis Ftz. Трясогузка азиатская Matocilla cinerea malanope Pall. Трясогузка камчатская чёрная Matocilla alba lugens Glog. Тюлень ушастый Eumetopias jubatus Sen.
Удод Upupa epops saturatus Lon. Улит Tiinga nehularia Gun? Утка морская Nyroca marila mariloides Vig.
Фазан уссурийский Phasianus mongolicus Pall. Филин уссурийский Bubo bubo-ussuriensis Pall.
Хорёк Musteia sibirica Pall. Хохотунья восточносибирская Larus cochinnans Pall.
Цапля белая Egretta alba modesta Gray
Чернозобик тихоокеанский Erolia alpina sakhalina Viell. Чирок Querquedula querquedula L.
Шершень Vespa sp.? Щука Esnx reicherii
Ястреб Accipiter virgatus gularis Temm. Et Schleg.
Дерсу Узала
Посвящается памяти ДерсуАвтор
Глава первая Отъезд

План экспедиции. — Мулы. — Конское снаряжение. — Инвентарь. — Питательные базы. — Прибытие Дерсу. — Помощь, оказанная моряками. — Залив Петра Великого. — Остров Аскольд. — Залив Преображения. — Плавание на миноносцах. — Прибытие в залив Ольги. — Высадка на берег. — Горбуша
С января до апреля я был занят составлением отчётов за прошлую экспедицию и только в половине мая мог начать сборы в новое путешествие. В этих сборах есть всегда много прелести. Общий план экспедиции был давно уже предрешён, оставалось только разработать детали. Теперь обследованию подлежала центральная часть Сихотэ-Алиня, между 45° и 47° северной широты, побережье моря от того места, где были закончены работы в прошлом году, — значит, от бухты Терней к северу, сколько позволит время, и затем маршрут по Бикину до реки Уссури. Организация экспедиции 1907 года в общих чертах была такая же, как и в 1906 году. Изменения были сделаны только по некоторым пунктам на основании прошлогоднего опыта. Новый отряд состоял из девяти стрелков[206], ботаника Н. А. Десулани, студента Киевского университета П. П. Бордакова и моего помощника А. И. Мерзлякова. В качестве вольнонаёмного препаратора пошёл брат последнего Г. И. Мерзляков. Лошади на этот раз были заменены мулами. Обладая более твёрдым шагом, они хорошо ходят в горах и невзыскательны на корм, но зато вязнут в болотах. В отряде остались те же собаки: Леший и Альпа. В конском снаряжении пришлось сделать некоторые изменения. Из опыта выяснилось, что путы — вещь малопригодная. Они цепляются за пни, кусты и сильно стесняют движения коней, иногда совершенно привязывая их к месту. Лошади часто их рвут и теряют, в особенности в сырую и дождливую погоду. Вместо пут мы купили канат для коновязи недоуздки в двойном числе и колокольчики. В хозяйственной части тоже пришлось кое-что изменить. Например, мы совершенно отказались от медных чайников. Они тяжелы, требуют постоянной полуды, у них часто отпаиваются носики. Несравненно лучше простые алюминиевые котелки разного диаметра. Они прочны, дёшевы, легки и при переноске вкладываются один в другой. Для ловли рыбы в реках мы захватили с собой маленький бредень. Самое важное в походе — уметь предохранить спички от сырости: сплошь и рядом случается вымокнуть до последней нитки. В таких случаях никакая обёртка из коней или резины не помогает. Во время ненастья спички не загораются далее тогда, когда они не были подмочены. Самое лучшее средство — укупорить спички в деревянную коробку с хорошо пригнанной крышкой. От сырости дерево разбухает, и крышка ещё плотней прижимается к краям коробки. Этот неприкосновенный запас спичек я хранил в своей сумке. Стрелкам для табака были куплены резиновые кисеты с затяжными завязками. Кроме того, на всякий случай мы захватили с собой целлулоид, кремень, огниво, трут и жжёную тряпку. Инструменты и приборы были те же, что и в прошлом году. Только прибавился плотничий инструмент: бурав диаметром в 8 миллиметров, рубанок, долото, напильник и поперечная пила с разводкой. Фотографические пластинки для предохранения от сырости были запаяны в цинковые коробки — в каждой по дюжине. Не были забыты и подарки для туземных женщин и детей в виде бус, пуговиц, гаруса, шёлковых ниток, иголок, зеркал, перочинных ножиков, серёг, колец, разных брелоков, цепочек, стекляруса и т. д. Самыми ценными подарками для мужчин были топоры, пилы, берданки кавалерийского образца и огнеприпасы. За месяц вперёд А. И. Мерзляков был командирован во Владивосток за покупкой мулов для экспедиции. Валено было приобрести животных некованых, с крепкими копытами. Мерзлякову поручено было отправить мулов на пароходе в залив Рында, где и оставить их под присмотром трёх стрелков, а самому ехать дальше и устроить на побережье моря питательные базы. Таких баз намечено было пять: в заливе Джигит, в бухте Терней, на реке Такеме, на реке Амагу и на реке Кумуху, у мыса Кузнецова. В апреле всё было закончено, и А. И. Мерзляков выехал во Владивосток. Надо было ещё исполнить некоторые предварительные работы, и потому я остался в Хабаровске ещё недели на две. Я воспользовался этой задержкой и послал Захарова в Анучино искать Дерсу. Он должен был вернуться к Уссурийской железной дороге и ждать моих распоряжений. От села Осиновки Захаров поехал на почтовых лошадях, заглядывая в каждую фанзу и расспрашивая встречных, не видел ли кто-нибудь старика гольда из рода Узала. Немного не доезжая урочища Анучино, в фанзочке на краю дороги, он застал какого-то туземного охотника, который увязывал котомку и разговаривал сам с собою. На вопрос, не знает ли он гольда Дерсу Узала, охотник отвечал: — Это моя. Тогда Захаров объяснил ему, зачем он приехал. Дерсу тотчас стал собираться. Переночевали они в Анучине и наутро отправились обратно. 13 июня я покончил свои работы и распрощался с Хабаровском. На станции Ипполитовке Захаров и Дерсу прожили четверо суток, затем по моей телеграмме вышли к поезду и сели в наш вагон. Я очень обрадовался приезду Дерсу. Целый день мы провели с ним в разговорах. Гольд рассказывал мне о том, как в верховьях реки Санда-Ваку зимой он поймал двух соболей, которых выменял у китайцев на одеяло, топор, котелок и чайник, а на оставшиеся деньги купил китайской дрели, из которой сшил себе новую палатку. Патроны он купил у русских охотников; удэгейские женщины сшили ему обувь, штаны и куртку. Когда снега начали таять, он перешёл в урочище Анучино и здесь жил у знакомого старика гольда. Видя, что я долго не являюсь, он занялся охотой и убил пантача-оленя. Между прочим, в Анучине его обокрали. Там он познакомился с каким-то промышленником и по своей наивной простоте рассказал ему о том, что соболевал зимою на реке Баку и выгодно продал соболей. Промышленник предложил ему зайти в кабак и выпить вина. Дерсу охотно согласился. Почувствовав в голове хмель, гольд отдал своему новому приятелю на хранение все деньги. На другой день, когда Дерсу проснулся, промышленник исчез. Дерсу никак не мог этого понять. Люди его племени всегда отдавали друг другу на хранение меха и деньги, и никогда ничего не пропадало[207]. В то время правильного пароходного сообщения по побережью Японского моря не существовало. Переселенческое управление первый раз, в виде опыта, застраховало пароход «Эльдорадо», который ходил только до залива Джигит. Определённых рейсов ещё не было, и сама администрация не знала, когда вернётся пароход и когда он снова отправится в плавание. Нам не повезло. Мы приехали во Владивосток два дня спустя после ухода «Эльдорадо». Меня выручили П. Г. Тигерстедт и А. Н. Пель, предложив отправиться с ними на миноносцах. Они должны были идти к Шантарским островам и по пути обещали доставить меня и моих спутников в залив Джигит[208]. Двадцать второго июня, после полудня, мы перебрались на суда. Вечером в каюте беседы наши с моряками затянулись далеко за полночь. Я рассчитывал хорошо уснуть, но не удалось. Задолго до рассвета поднялся сильный шум снимались с якоря. Я оделся и вышел на палубу. Занималась заря; от воды поднимался густой туман; было холодно и сыро. Чтобы не мешать матросам, я спустился обратно в каюту, достал из чемодана тетради и начал свой дневник. Вскоре лёгкая качка известила о том, что мы вышли в открытое море. Шум на палубе стал стихать. На морской карте Лаперуза 1787 года залив Петра Великого называется заливом Виктории. Посредством Альбертова полуострова (ныне называемого полуостровом Муравьёва-Амурского) и Евгениева архипелага (острова Русский, Шкота, Попова, Рейнеке и Кикорд) он делится на две части: залив Наполеона (Уссурийский залив) и бухту Герин (Амурский залив)[209]. Часов около десяти с половиной миноносцы были на траверсе острова Аскольда, называемого китайцами Циндао, что значит — Зелёный остров (42°47'северной широты и 160°2' восточной долготы от острова Ферро, знак на мысе Северо-западном). Этот какими-то силами оторванный от материка кусок суши с высокими скалистыми берегами имеет форму подковы, обращённой открытой стороной к югу. Продолжением его по направлению к материку будет остров Путятин и мыс Майдль. Ныне Аскольд известен как естественный питомник пятнистых оленей. Лет пятнадцать тому назад здесь было до четырёх тысяч оленей. Вследствие браконьерства, глубоких снегов и прогрессивного ухудшения подножного корма животные стали быстро сокращаться в числе, и теперь на всём острове их насчитывается не более полутораста голов. Выбирая только кормовые травы, олени тем самым способствовали распространению по острову растений, негодных для корма. Полная изоляция и кровосмешение уменьшили плодовитость до минимума. Олени вымрут, если к ним не будет влита новая кровь с материка. Владивостокское общество любителей охоты, которому принадлежал тогда остров, мало думало об этом, и в настоящее время Аскольдский питомник на краю гибели. Другой достопримечательностью острова будет золотой прииск. Разработка производится раздроблением рудной породы и затем извлечением из неё золота при помощи амальгамирования ртутью. В открытом море нам встретились киты-полосатики и касатки. Киты плыли медленно в раз взятом направлении, мало обращая внимания на миноносцы, но касатки погнались за судами и, когда поравнялись с нами, начали выскакивать из воды. Стрелок Загурский стрелял; два раза он промахнулся, а в третий раз попал. На воде появилось большое кровавое пятно. После этого все касатки сразу исчезли. К сумеркам мы дошли до залива Америка и здесь заночевали, а на другой день отправились дальше. После полудня 27 июня мы обогнули мыс Поворотный и взяли курс на NO (норд-ост). Часа в четыре дня погода начала портиться, с востока стал надвигаться туман, и, хотя ветра ещё не было, море сильно волновалось. Это объясняется тем, что волны часто обгоняют ветер. Миноносцы шли осторожно, ощупью, соразмеряя свой ход с показаниями лага. Надо удивляться, как в темноте и в таком тумане моряки разыскали залив Преображения и через узкий проход прошли в бухту (42° 54' северной широты и 151° 34 восточной долготы). Ночью поднялся сильный ветер, и море разбушевалось. Утром, несмотря на непогоду, миноносцы снялись с якоря и пошли дальше. Я не мог сидеть в каюте и вышел на палубу. Следом за «Грозным» шли другие миноносцы в кильватерной колонне. Ближайшим к нам был миноносец «Бесшумный». Он то спускался в глубокие промежутки между волнами, то вновь взбегал на валы, увенчанные белыми гребнями. Когда пенистая волна накрывала лёгкое судёнышко с носа, казалось, что вот-вот море поглотит его совсем, но вода скатывалась с-палубы, миноносец всплывал на поверхность и упрямо шёл вперёд. Когда мы вошли в залив Ольги, было уже темно. Мы решили провести ночь на суше и потому съехали на берег и развели костёр. Дерсу, против ожидания, легко перенёс морскую качку. Он и миноносец считал живым существом. — Моя хорошо понимай — его, — он указывал на миноносец «Грозный», — сегодня шибко сердился. Мы уселись у костра и стали разговаривать. Наступила ночь. Туман, лежавший доселе на поверхности воды, поднялся кверху и превратился в тучи. Раза два принимался накрапывать дождь. Вокруг нашего костра было темно — ничего не видно. Слышно было, как ветер трепал кусты и деревья, как неистовствовало море и лаяли в селении собаки. Наконец стало светать. Вспыхнувшую было на востоке зарю тотчас опять заволокло тучами. Теперь уже всё было видно: тропу, кусты, камни, берег залива, чью-то опрокинутую вверх дном лодку. Под ней спал китаец. Я разбудил его и попросил подвезти нас к миноносцу. На судах ещё кое-где горели огни. У трапа меня встретил вахтенный начальник. Я извинился за беспокойство, затем пошёл к себе в каюту, разделся и лёг в постель. За ночь море немного успокоилось, ветер стих, и туман начал рассеиваться. Наконец выглянуло солнце и осветило угрюмые скалистые берега. Тридцатого числа вечером миноносцы дошли до залива Джигит. П. Г. Тигерстедт предложил мне переночевать на судне, а завтра с рассветом начать выгрузку. Всю ночь качался миноносец на мёртвой зыби. Качка была бортовая, и я с нетерпением ждал рассвета. С каким удовольствием мы все сошли на твёрдую землю! Когда миноносцы стали сниматься с якоря, моряки помахали нам платками, мы ответили им фуражками. В рупор ветром донесло: «Желаем успеха!» Минут через десять миноносцы скрылись из виду. Местом высадки был назначен залив Джигит, а не бухта Терней, на том основании, что там, вследствие постоянного прибоя, нельзя выгружать мулов. Как только ушли миноносцы, мы стали ставить палатки и собирать дрова. В это время кто-то из людей пошёл за водою. Он вернулся и сообщил, что в устье реки бьётся много рыбы. Стрелки закинули неводок и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть на берег. Пойманная рыба оказалась горбушей (Oncorhynchus gorbuhscha W.). Вместе с нею попали ещё две небольшие рыбки: огуречник (Osmerus eperlanus dentex Stn.) — род корюшки с тёмными пятнами по бокам и на спине (это было очень странно, потому что идёт она вдоль берега моря и никогда не заходит в реки) и колюшка (Pygosteus sinensis Guich.) — обитательница заводей и слепых рукавов, вероятно снесённая к устью быстрым течением реки. Горбуша не имела ещё такого безобразного вида, который она приобретает впоследствии, хотя челюсти её начали уже немного загибаться и на спине появился небольшой горб. Я распорядился взять только несколько рыб, а остальных пустить обратно в воду. Все с жадностью набросились на горбушу, но она скоро приелась, и потом уже никто не обращал на неё внимания. После полудня мы с Н. А. Десулави пошли осматривать окрестности. Он собирал растения, а я охотился.
Глава вторая Пребывание в заливе

Залив Рында. — Вечные переселенцы. — Приспособляемость к местным условиям жизни. — Взгляд на туземцев. — Первобытный коммунизм. — Таинственные следы. — Люди, скрывающиеся в тайге. — Золотая лихорадка. — Экспедиция к заливу Пластун. — Туман. — Потерянный трофей. — Бессонная ночь. — Случайная находка. — Стрельба по утке. — Состязание. — Выстрелы гольда. — Дерсу успокаивает стрелков. — Сказка «О рыбаке и рыбке». — Мнение гольда
Залив Рында находится под 44°47 'северной широты и 13°22 'восточной долготы от Гринвича и состоит из двух заливов: северного, именуемого Джигитом, и южного — Пластуна. Оба они открыты со стороны моря и потому во время непогоды не всегда дают судам защиту. Наибольшая глубина их равна 25-28 метрам. Горный хребет, разделяющий оба упомянутых залива, состоит из кварцевого порфира и порфирита со включением вулканического стекла. Чем ближе к морю, тем горы становятся ниже и на самом берегу представляются холмами высотою от 400 до 580 метров. На прибрежных лугах около кустарников Десулави обратил моё внимание на следующие растения, особенно часто встречающиеся в этих местах: астру (Aster tataricus L.) с удлинёнными ромбовидными и зазубренными листьями, имеющую цветы фиолетово-жёлтые с белым хохолком величиной с копейку, расположенные красивой метёлкой; особый вид астрогала (Astragalus membranaceus Fisch.), корни которого в массе добывают китайцы для лекарственных целей, — это крупное многолетнее растение имеет ветвистый стебель, мелкие листья и многочисленные мелкие бледно-жёлтые цветы; крупную живокость (Delphium maackianum Rgl.) с синими цветами, у которой вся верхняя часть покрыта нежным пушком; волосистый журавельник (Geranium wlassovianum Fisch.) с грубыми, глубоко надрезанными листьями и нежными малиновыми цветами; тёмно-пурпуровую кровохлёбку (Sanguisorba offioinalis L.) с её оригинальными перистыми листьями; крупнолистную горечавку (Gentiana macrophylla Pall.) — растение с толстым корнем и толстым стеблем и с синевато-фиолетовыми цветами, прикрытыми длинными листьями; и наконец из числа сложноцветных Saussurea maximoviczii Herd., имеющую высокий стройный стебель, зазубренные лировидные листья и фиолетовые цветы. Из пернатых в этот день мы видели сокола-сапсана. Он сидел на сухом дереве на берегу реки и, казалось, дремал, но вдруг завидел какую-то птицу и погнался за нею. В другом месте две вороны преследовали сорокопута. Последний прятался от них в кусты, но вороны облетали куст с другой стороны, прыгали с ветки на ветку и старались всячески поймать маленького разбойника. Тут же было несколько овсянок: маленькие рыженькие птички были сильно встревожены криками сорокопута и карканьем ворон и поминутно то садились на ветки деревьев, то опускались на землю. В окрестностях залива Рында есть пятнистые олени. Они держатся на полуострове Егорова, окаймляющем залив с северо-востока. Раньше их здесь было гораздо больше. В 1904 году выпали глубокие снега, и тогда много оленей погибло от голода. Дня через три, 7 июля, пришёл пароход «Эльдорадо», но мулов на нём не было. Приходилось, значит, ждать другой оказии. На этом пароходе в Джигит приехали две семьи староверов. Они выгрузились около наших палаток и заночевали на берегу. Вечером я подошёл к огню и увидел старика, беседующего с Дерсу. Удивило меня то обстоятельство, что старовер говорил с гольдом таким приятельским тоном, как будто они были давно знакомы между собою. Они вспоминали каких-то китайцев, говорили про тазов и многих называли по именам. Должно быть, вы раньше встречали друг друга? — спросил я старика. Как же, как же, — отвечал старовер, — я давно знаю Дерсу. Он был ещё молодым, когда мы вместе с ним ходили на охоту. И опять они принялись делиться воспоминаниями: вспомнили, как ходили за пантами, как стреляли медведей, вспоминали какого-то китайца, которого называли Косозубым, вспоминали переселенцев, которых называли странными прозвищами — Зелёный Змий и Деревяное Ботало. Первый, по их словам, отличался злобным характером, второй — чрезмерной болтливостью. Гольд отвечал и смеялся от души. Старик угощал его мёдом и калачиками. Мне приятно было видеть, что Дерсу любят. Старовер пригласил меня присесть к огню, и мы разговорились. Дерсу не дождался конца нашей беседы и ушёл, а я ещё долго сидел у старика и слушал его рассказы. Когда я собрался уходить, случайно разговор опять перешёл на Дерсу. — Хороший он человек, правдивый, — говорил старовер. — Одно только плохо — нехристь он, азиат, в бога не верует, а вот, поди-ка, живёт на земле все равно также, как и я. Чудно, право! И что с ним только на том свете будет? — Да то же, что со мной и с тобой, — ответил я ему. — Оборони, царица небесная, — сказал старовер и перекрестился. Я истинный христианин по церкви апостольской, а он что? Нехристь. У него и души-то нет, а пар. Старовер с пренебрежением плюнул и стал укладываться на ночь. Я распрощался с ним и пошёл к своему биваку. У огня с солдатами сидел Дерсу. Взглянув на него, я сразу увидел, что он куда-то собирается. — Ты куда? — спросил я его. — На охоту, — отвечал он. — Моя хочу один козуля убей — надо староверу помогай, у него детей много. Моя считал — шесть есть. «Не душа, а пар», — вспомнились мне слова старовера. Хотелось мне отговорить Дерсу ходить на охоту для этого «истинного христианина по церкви апостольской», но этим я доставил бы ему только огорчение, и воздержался. На другой день утром Дерсу возвратился очень рано. Он убил оленя и просил меня дать ему лошадь для доставки мяса на бивак. Кроме того, он сказал, что видел свежие следы такой обуви, которой нет ни у кого в нашем отряде и ни у кого из староверов. По его словам, неизвестных людей было трое. У двоих были новые сапоги, а у третьего старые, стоптанные, с железными подковами на каблуках. Зная наблюдательность Дерсу, я нисколько не сомневался в правильности его выводов. Часам к десяти утра Дерсу возвратился и привёз с собой мясо. Он разделил его на три части. Одну часть отдал солдатам, другую — староверам, третью — китайцам соседних фанз. Стрелки стали протестовать. — Нельзя, — возразил Дерсу. — Наша так не могу. Надо кругом люди давай. Чего-чего один люди кушай — грех. Этот первобытный коммунизм всегда красной нитью проходил во всех его действиях. Трудами своей охоты он одинаково делился со всеми соседями, независимо от национальности, и себе оставлял ровно столько, сколько давал другим. Дня через два я, Дерсу и Захаров переправились на другую сторону залива Джигит. Не успели мы отойти от берега и ста шагов, как Дерсу опять нашёл чьи-то следы. Они привели нас к оставленному биваку. Дерсу принялся осматривать его с большим вниманием. Он установил, что здесь ночевали русские — четыре человека, что приехали они из города и раньше никогда в тайге не бывали. Первое своё заключение он вывел из того, что на земле валялись коробки из-под папирос, банки из-под консервов, газета и корка такого хлеба, какой продаётся в городе. Второе он усмотрел из неумелого устройства бивака, костра и, главное, по дровам. Видно было, что ночевавшие собирали всякий рухляк, какой попадался им под руку, причём у одного из них сгорело одеяло. С тех пор всё чаще и чаще приходилось слышать о каких-то людях, скрывающихся в тайге. То видели их самих, то находили биваки, лодки, спрятанные в кустах, и т. д. Это становилось подозрительным. Если бы это были китайцы, мы усмотрели бы в них хунхузов. Но, судя по следам, это были русские. Каждый день приносил что-нибудь новое. Наконец недостаток продовольствия принудил этих таинственных людей выйти из лесу. Некоторые из них явились к нам в бивак с просьбой продать им сухарей. Естественно, начались расспросы, из которых выяснилось следующее. Во Владивостоке в начале этого года разнёсся слух, что в окрестностях залива Джигит находятся богатейшие золотые россыпи и даже алмазы. Масса безработных в надежде на скорое и лёгкое обогащение бросилась на побережье моря. Они пробирались туда на лодках, шхунах и на пароходах, небольшими партиями. Высадившись где-нибудь на берег около Джигита, они пешком, с котомками за плечами, тайком пробирались к воображаемому Эльдорадо. Золотая лихорадка охватила всех: и старых и молодых. И в одиночку, и по двое, и по трое, перенося всяческие лишения, усталые, обеспокоенные долгими и тщетными поисками, эти несчастные, по существу душевнобольные, люди бродили в горах в надежде найти хоть крупинку золота. Они тщательно скрывали цели своего приезда, прятались в горах и нарочно распускали самые нелепые слухи, лишь бы сбить с толку своих конкурентов. Они все перессорились между собою и начали следить друг за другом. Когда без всяких данных одна партия шла искать золото в какой-нибудь распадок, другой казалось, что именно там-то и есть алмазы. Эта другая партия старалась опередить первую, и нередко дело доходило до кровопролития. Видя, что золото не так-то легко найти и что для этого нужны опыт, время и деньги, они решили поселиться тут же, где-нибудь поблизости. Тогда они отправились во Владивосток и, получив в переселенческом управлении денежные пособия, возвратились назад в качестве переселенцев. Часть золотоискателей поселилась в бухте Терней. В заливе Джигит нам пришлось просидеть около двух недель. Надо было дождаться мулов во что бы то ни стало. Без вьючных животных мы не могли тронуться в путь. Воспользовавшись этим временем, я занялся обследованием ближайших окрестностей по направлению к заливу Пластун, где в прошлом году у Дерсу произошла встреча с хунхузами. Один раз я ходил на реку Кулёму и один раз на север по побережью моря. По возвращении с этих работ я занялся вычерчиванием съёмок. Н. А. Десулави ботанизировал на берегу моря, а П. П. Бордаков все эти дни проводил с Дерсу. Он расспрашивал его об охоте на тигров, о религии и загробной жизни. Два дня я просидел в палатке, не отрываясь от планшета. Наконец был нанесён последний штрих и поставлена точка. Я взял ружьё и пошёл на охоту за козулями. У правого края долины Иодзыхе тянутся пологие заболоченные увалы, покрытые тощею травою, кустарниками леспедецы и редколесьем из дуба, липы и белой берёзы. Между увалами вода промыла длинные овраги. Сюда я и направил свои стопы. Хотя день был солнечный, но со стороны моря ветром гнало туман. Он не проникал далеко на материк и скоро рассеивался в воздухе. Это обычное явление, хорошо известное жителям прибрежного района. В то время как на берегу моря бывает пасмурно и сыро, в горах ясно, сухо и тепло. В сфере нагретого воздуха конденсация пара прекращается, и он становится невидимым для глаза. Отойдя от бивака километра четыре, я нашёл маленькую тропинку и пошёл по ней к лесу. Скоро я заметил, что ветки деревьев стали хлестать меня по лицу. Наученный опытом, я понял, что тропа эта зверовая, и, опасаясь, как бы она не завела меня куда-нибудь далеко в сторону, бросил её и пошёл целиною. Здесь я долго бродил по оврагам, но ничего не нашёл. Большая часть дня уже прошла. Приближался вечер. По мере того как становилось прохладнее, туман глубже проникал на материк. Словно грязная вата, он спускался с гор в долины, распространяясь шире и шире и поглощая всё, с чем приходил в соприкосновение. В это время выбежали две козули. Я быстро поднял ружьё и выстрелил. Одна козуля упала, другая отбежала немного и остановилась. Я выстрелил второй раз. Она споткнулась, но тотчас оправилась и медленно пошла в кусты. Не теряя времени, я погнался за подранком, но не мог догнать его. Опасаясь потерять ту козулю, которая была уже убита, я повернул назад. Место, где лежал козёл, я хорошо не запомнил и, вероятно, прошёл мимо него. Тогда я принялся искать его в другом направлении, но тщетно. Кусты и деревья были донельзя похожи друг на друга. Животное пропало, точно провалилось сквозь землю. Я решил вернуться на бивак, а завтра прийти сюда с людьми и возобновить поиски. Выбрав направление, которое мне казалось правильным, я пошёл вдоль оврага. Вдруг радиус моего кругозора стал быстро сокращаться: навалился густой туман. Точно стеной отделил он меня от остального мира. Теперь я мог видеть только те предметы, которые находились в непосредственной близости от меня. Из тумана навстречу мне поочерёдно выдвигались то лежащее на земле дерево, то куст лозняка, пень, кочка или ещё что-нибудь в этом роде. В такую погоду сумерки наступают рано. Чтобы не заблудиться, я решил вернуться на тропинку. По моим соображениям, она должна была находиться слева и сзади. Прошёл час, другой, а тропинка не попадалась. Тогда я переменил направление и пошёл по оврагу, но он стал загибать в сторону. Ночёвка в лесу без огня в прошлом году на реке Арзамасовке не послужила мне уроком: я опять не захватил с собой спичек. На выстрелы в воздух ответных сигналов не последовало. Я устал и сел отдохнуть на валежник, но тотчас почувствовал, что начинаю зябнуть. Холодная сырость принудила меня подняться и идти дальше. Должно быть, взошла луна; сквозь туман её не было видно, но на земле стало светлее. Часа два ещё я бродил наудачу. Местность была поразительно однообразна: поляны, перелески, овраги, кусты, отдельные деревья и валежник на земле — всё это было так похоже друг на друга, что по этим предметам никак нельзя было ориентироваться. Наконец я окончательно выбился из сил и, подойдя к первому лежащему на земле дереву, сел на него, опершись спиной на сук, и задремал. Я сильно зяб, постоянно вскакивал и топтался на одном месте. Так промаялся я до утра. Рядом лежало другое дерево. Оно показалось мне знакомым. Я подошёл к нему и узнал именно то, на котором я сидел первый раз. Наконец стало светать. В воздухе разлился неясный серовато-синий свет тумана. Туман казался неподвижным и сонным; трава и кусты были мокрые. Мало-помалу начали просыпаться пернатые обитатели леса. Откуда-то появилась ворона. Она каркнула один раз и лениво полетела через поляну. За ней проснулись дятлы, лесные голуби и сизоворонки. Когда стало совсем светло, я стряхнул с себя сонливость и уверенно пошёл по краю оврага. Не успел я сделать и девяти шагов от валежника, на котором дремал, как сразу натолкнулся на мёртвого козла. Оказалось, что я всё время кружил около него. Досадно мне было за бессонную ночь, но тотчас же это досадное чувство сменилось радостью: я возвращался на бивак не с пустыми руками. Это невинное тщеславие свойственно каждому охотнику. Скоро стало совсем светло. Солнца не было видно, но во всём чувствовалось его присутствие. Туман быстро рассеивался, кое-где проглянуло синее небо, и вдруг яркие лучи прорезали мглу и осветили мокрую землю. Тогда всё стало ясно, стало видно, где я нахожусь и куда надо идти. Странным мне показалось, как это я не мог взять правильное направление ночью. Солнышко пригрело землю, стало тепло, хорошо, и я прибавил шаг. Через два часа я был на биваке. Товарищи не беспокоились за меня, думая, что я заночевал где-нибудь в фанзе у китайцев. Напившись чаю, я лёг на своё место и уснул крепким сном. Несколько дней спустя после этого мы занимались пристрелкой из ружей. Людям были розданы патроны и указана цель для стрельбы с упора. По окончании пристрелки солдаты стали просить разрешения открыть вольную стрельбу. Стреляли они в бутылку, стреляли в белое пятно на дереве, потом в круглый камешек, поставленный на краю утёса. Вдруг откуда-то взялась нырковая утка. Не обращая внимания на стрельбу, она спустилась на воду недалеко от берега. Захаров и Сабитов стали в неё целить, и так как каждому хотелось выстрелить первому, то оба горячились, волновались и мешали друг другу. Два выстрела произошли почти одновременно. Одна пуля сделала недолёт, а другая всплеснула воду далеко за уткой. Испуганная птица нырнула и вновь всплыла на поверхность воды, но уже дальше от берега. Тогда в неё выстрелил Захаров и тоже не попал. Пуля ударилась в воду совсем в сторону. Утка опять нырнула. Солдаты бросили стрельбу в пятнышко и, выстроившись на берегу в одну линию, открыли частый огонь по уходящей птице, и чем больше они горячились, тем дальше отгоняли птицу. По моим соображениям, она была теперь в шагах трёхстах, если не больше. В это время на бивак возвратился Дерсу. Взглянув на него, я сразу понял, что он был навеселе. На лице его играла улыбка. Подойдя к палаткам, он остановился и, прикрыв рукою глаза от солнца, стал смотреть, в кого стреляют солдаты. Как раз в этот момент выстрелил Калиновский. Пуля сделала такой большой недолёт, что даже не напугала птицу. Узнав, что стрелки не могли попасть в утку тогда, когда она была близко, он подошёл к ним, и, смеясь, сказал: — Ваша хорошо стреляли. Теперь моя хочу утку гоняй. Сказав это, он быстро поднял своё ружьё и, почти не целясь, выстрелил. Крик удивления вырвался у всех сразу. Пуля ударила под самую птицу так, что обдала её водой. Утка до того была напугана, что с криком сорвалась с места и, отлетев немного, нырнула в воду. Спустя несколько минут она показалась на поверхности, но уже значительно дальше. С поразительной быстротой Дерсу опять вскинул винтовку и опять выстрелил. Если бы утка не взлетела на воздух, можно было бы подумать, что пуля ударила именно в неё. Теперь птица отлетела очень далеко. Чуть-чуть её можно было рассмотреть простым глазом. Мы взяли бинокли. Дерсу смеялся и подтрунивал над солдатами. Дмитрий Дьяков, который считал себя хорошим стрелком, стал доказывать, что выстрелы Дерсу были случайными и что он стреляет не хуже гольда. Товарищи предложили ему доказать своё искусство. Дьяков сел на одно колено, долго приспособлялся и долго целился, наконец спустил курок. Пуля сделала рикошет далеко перед уткой. Птица нырнула, но тотчас же опять показалась на поверхности. Тогда Дерсу медленно поднял своё ружьё, прицелился и выстрелил. В бинокль видно было, как пуля опять вспенила воду под самой уткой. Вероятно, такое состязание в стрельбе длилось бы ещё долго, если бы сама утка не положила ему конец: она снялась с воды и полетела в открытое море. Вечером я услышал у стрелков громкие разговоры. По настроению я догадался, что они немного выпили. Оказалось, что Дерсу притащил с собой бутылку спирта и угостил им солдат. Вино разгорячило людей, и они начали ссориться между собой. — Не надо ругаться, — сказал им тихо Дерсу, — слушайте лучше, я вам песню спою. — И, не дождавшись ответа, он начал петь свои сказки. Сначала его никто не слушал, потом притих один спорщик, за ним другой, третий, и скоро на таборе совсем стало тихо, Дерсу пел что-то печальное, точно он вспомнил родное прошлое и жаловался на судьбу. Песнь его была монотонная, но в ней было что-то такое, что затрагивало самые чувствительные струны души и будило хорошие чувства. Я присел на камень и слушал его грустную песню. «Поселись там, где поют; кто поёт, тот худо не думает», — вспомнилась мне старинная швейцарская пословица. Уже смерклось совсем, зажглись яркие звёзды; из-за гор подымалась луна. Её ещё не было видно, но бледный свет уже распространился по всему небу. Подвыпившие стрелки уснули, а Дерсу все ещё пел свою песню, и пел он её теперь вполголоса — для себя. Я вернулся в палатку, лёг на постель и тоже уснул. На другой день вечером, сидя у костра, я читал стрелкам сказку «О рыбаке и рыбке». Дерсу в это время что-то тесал топором. Он перестал работать, тихонько положил топор на землю и, не изменяя позы, не поворачивая головы, стал слушать. Когда я кончил сказку, Дерсу поднялся и сказал: — Верно, такой баба много есть. — Он даже плюнул с досады и продолжал: — Бедный старик. Бросил бы он эту бабу, делал бы оморочку да кочевал бы на другое место. Мы все расхохотались. Сразу сказался взгляд бродячего туземца. Лучший выход из этого положения, по его мнению, был — сделать лодку и перекочевать на другое место. Поздно вечером я подошёл к костру. На дровах сидел Дерсу и задумчиво глядел на огонь. Я спросил его, о чём он думает. — Шибко жалко старика. Его был смирный люди. Сколько раз к морю ходи, рыбу кричи, — наверно, совсем стоптал свои унты. Видно было, что сказка «О рыбаке и рыбке» произвела на него сильное впечатление. Поговорив с ним ещё немного, я вернулся в свою палатку.
Глава третья Первый поход

Выступление. — Дерсу находит отряд по следам. — Река Иодзыхе и река Литянгоу. — Население. — Притоки реки Иодзыхе. — Лудева. — Тайга. — Пауки. — Да-Синанца и её притоки. — Затяжные дожди. — Горбатый таз и его семья. — Бегство тазов от китайцев. — Сон Дерсу и поминки по усопшим
Наконец, после долгого ожидания, в конце июня на пароходе «Эльдорадо» прибыли наши мулы. Это было радостное событие, выведшее нас из бездействия и позволившее выступить в поход. Пароход стал шагах в четырёхстах от устья реки. Мулы были спущены прямо на воду. Они тотчас же сориентировались и поплыли к берегу, где их уже ожидали стрелки. Двое суток мы пригоняли к мулам седла и налаживали вьюки. 30 июня была последняя днёвка, а на следующий день, 1 июля, мы тронулись в путь. На реке Иодзыхе наш отряд разделился. Я, Н. А. Десулави и П. П. Бордаков с частью команды отправились на реку Синанцу[210], а А. И. Мерзляков с остальными людьми пошёл вверх по реке Литянгоу[211]. Около последних тазовских фанз, в северо-западном углу долины, нам надлежало разойтись. В это время ко мне подошёл Дерсу и попросил разрешения остаться на один день у тазов. Завтра к вечеру он обещал нас догнать. Я высказал опасения, что он может нас не найти. Гольд громко засмеялся и сказал: — Тебе иголка нету, птица тоже нету — летай не могу. Тебе земля ходи, нога топчи, след делай. Моя глаза есть — посмотри. На это у меня уже не было возражений. Я знал его способность разбираться в следах и согласился. Мы пошли дальше, а он остался на реке Иодзыхе. На второй день утром Дерсу действительно нас догнал. По следам он узнал всё, что произошло у нас в отряде: он видел места наших привалов, видел, что мы долго стояли на одном месте — именно там, где тропа вдруг сразу оборвалась, видел, что я посылал людей в разные стороны искать дорогу. Здесь один из стрелков переобувался. Из того, что на земле валялся кусочек тряпки с кровью и клочок ваты, он заключил, что кто-то натёр ногу, и т. д. Я привык к его анализу, но для стрелков это было откровением. Они с удивлением и любопытством поглядывали на гольда. Река Иодзыхе[212] (по-удэгейски — Иеньи) на морских картах названа Владимировкой и почему-то показана маленьким ручейком. Долина её — шириною около трёх вёрст и имеет левый край возвышенный и гористый, а правый — пологие увалы, поросшие редкой осиной, берёзой, ольхой и лиственницей. Уловить, где именно долина переходит в горы, нельзя. Выше по реке картина меняется, и горы принимают резко выраженный характер. Здесь, кроме дуба (Quercus mongolica Fisch.), растут: чёрная и белая берёза (Betula cianurica Pall, et Betula latifolia Tausch.), китайский ясень (Fraxinus phynchophula Hancl.), орех (Juglans manshurica Maxim.), клён (Acer mono Maxim.), пихта (Abies nepholepis Maxim.), пробковое дерево (Phelolodndron amurense Rupr.), тис (Taxus cuspidata S. et ?.), акация Маака (Maackia amurensis Rupr. Maxim.), осина (Popolus tremula L.) и липа (Tuia amurensis Rupr.), а из кустов — лещина (Corylus heterophula Fisch.), боярышник (Crataegus manschurica Buke),калина (Viburnum sargenti Koehne), таволга (Spiraea salicifolia L.) и леспедеца (Lespedeza bicolur Turcz.). Река Иодзыхе близ устья разбивается на множество рукавов, из которых один подходит к правой стороне долины. Место это староверы облюбовали для своего будущего посёлка. Тропа от моря идёт вверх по долине так, что все протоки Иодзыхе остаются от неё вправо, но потом, как раз против устья Дунгоу, она переходит реку вброд около фанз, расположенных у подножия широкой террасы, состоящей из глины, песка и угловатых обломков. Реку Иодзыхе было бы справедливо назвать «козьей рекой». Нигде я не видел так много этих грациозных животных, как здесь. Сибирская козуля (Capreolus pygargus Pal.) крупнее европейской. Сжатое с боков тело её имеет в длину полтора метра и в высоту 87 сантиметров. Красивая притуплённая голова с большими подвижными округлёнными ушами сидит на длинной шее и у самцов украшена двумя маловетвистыми рогами, на конце вильчатыми и имеющими не более шести отростков. Окраска тела у козули летом тёмно-ржавая, зимою — буро-серая. Сзади на ляжках, около хвоста, цвет шерсти белый. Хвост очень заметён, когда козуля бежит, сильно вскидывая задом. Охотники называют это пятно «зеркалом». Защитная окраска делает её совершенно невидимой: цвет шерсти животного сливается с окружающей обстановкой и видно одно только мелькающее белое «зеркало». Осенью, в октябре, козуля большими табунами оставляет лесистые местности Уссурийского края и перекочёвывает в Маньчжурию. Впрочем, некоторая часть животных остаётся в приханкайских степях. Заметив место, где табуны коз переплывали через реку, казаки караулили их и избивали во множестве, не разбирая ни пола, ни возраста. С проведением железной дороги и заселением долины Уссури сибирская козуля перестала совершать такие кочёвки. Убой животных на переправах сошёл на нет, и о таких ходах нынче сохранились только воспоминания. В общем, дикая коза — пугливое животное, вечно преследуемое четвероногими хищниками и человеком. Она всегда держится настороже и старается уловить малейший намёк на опасность при помощи слуха и обоняния. Любимым местопребыванием козули являются лиственные леса, и только вечером она выходит пастись на поляны. Даже и здесь, при полной тишине и спокойствии, козуля всё время оглядывается и прислушивается. Убегая в испуге, козуля может делать изумительно огромные прыжки через овраги, кусты и завалы буреломного леса. В Уссурийском крае козуля обитает повсюду, где только есть поляны и выгоревшие места. Она не выносит высоких гор, покрытых осыпями, и густых хвойных лесов. Охотятся на козулю ради её мяса. Зимние шкурки идут на устройство спальных мешков, кухлянок и дох; рога продаются по три рубля за пару. Любопытно, что козуля охотно мирится с присутствием других животных и совершенно не выносит изюбра. В искусственных питомниках, при совместной жизни, она погибает. Это особенно заметно на солонцах. Если такие солонцы сперва разыщут козы, они охотно посещают их до тех пор, пока не придут олени. Охотники неоднократно замечали, что как только на солонцах побывали изюбры, козули покидают их на более или менее продолжительное время. Редколесье в горах, пологие увалы, поросшие кустарниковой растительностью, и широкая долина реки Иодзыхе, покрытая высокими тростниками и полынью, весьма благоприятны для обитания диких коз. Мы часто видели их выбегающими из травы, но они успевали снова так быстро скрываться в заросли, что убить не удалось ни одной. Кое-где виднелась свежевзрытая земля. Так как домашних свиней содержат в загонах, то оставалось допустить присутствие диких кабанов, что и подтвердилось. А раз здесь были кабаны, значит, должны быть и тигры. Действительно, вскоре около реки на песке мы нашли следы одного очень крупного тигра. Он шёл вдоль реки и прятался за валежником. Из этого можно было заключить, что страшный зверь приходил сюда не для утоления жажды, а на охоту за козулями и кабанами. По рассказам тазов, месяца два тому назад один тигр унёс ребёнка от самой фанзы. Через несколько дней другой тигр напал на работавшего в поле человека и так сильно изранил его, что он в тот же день умер. В долине реки Иодзыхе водится много фазанов. Они встречались чуть ли не на каждом шагу. Любимыми местами их обитания были заросли около пашен и плантаций снотворного мака, засеваемого китайцами для сбора опиума. Среди тальниковых зарослей по старицам и протокам изредка попадались и рябчики. Они чем-то кормились на земле и только в случае тревоги взлетали на деревья. В воздухе кружилось несколько белохвостых орланов. Один из них вдруг начал спускаться к реке. Осторожно пробрался я по траве к берегу и стал наблюдать за ним. Он сел на гальку около воды. Тут было несколько ворон, лакомившихся рыбой. Орлан стал их прогонять. Вороны сначала пробовали был с обороняться, но, получив несколько сильных ударов клювом, уступили свои места и улетели прочь. Тогда орлан занялся рыболовством. Он прямо вошёл в воду и, погрузив в неё брюхо, хвост и крылья, стал прыгать по воде. Не более как через минуту он поймал одну рыбину, вытащил её на берег и тут же принялся есть. Насытившись, пернатый хищник опять поднялся в воздух. Тотчас к нему присоединилось ещё два орлана. Тогда они стали описывать плавные круги. Они не гонялись друг за другом, а спокойно парили в разных плоскостях, поднимаясь всё выше и выше, в беспредельную синеву неба. Скоро они превратились в маленькие, едва заметные точки, и если я не потерял их из виду, то только потому, что не спускал с них глаз. В это время со стороны дороги я услышал призывные крики. Мои спутники требовали, чтобы я поскорей возвращался. Минут через пять я присоединился к отряду. В нижнем течении река Иодзыхе принимает в себя три небольших притока: справа — Сяо-Иодзыхе длиной 19 километров и слева — Дунгоу, с которой мы познакомились уже в прошлом году, и Литянгоу, по которой надлежало теперь идти А. И. Мерзлякову. Река Сяо-Иодзыхе очень живописная. Узенькая извилистая долинка обставлена по краям сравнительно высокими горами. По рассказам, в вершине её есть мощные жилы серебросвинцовой руды и медного колчедана. Долина реки Литянгоу какая-то странная — не то поперечная, не то продольная. Местами она расширяется до 1/2 километра, местами суживается до 200 метров. В нижней части долины есть много полян, засорённых камнями и непригодных для земледелия. Здесь часто встречаются горы и кое-где есть негустые лиственные леса. Чем выше подыматься по долине, тем чаще начинают мелькать тёмные силуэты хвойных деревьев, которые мало-помалу становятся преобладающими. В верховьях Литянгоу есть одинокая зверовая фанза. От неё тропа поворачивает налево, в горы, и идёт на Иман. Подъём на перевал Хунтами с южной стороны затруднителен; в истоках долина становится очень узкой и завалена камнями и буреломным лесом. Население окрестностей реки Иодзыхе — смешанное и состоит из китайцев и тазов (удэгейцев). Китайские фанзы сосредоточены главным образом на левом берегу реки, а туземцы поселились выше по долине, около гор. Здешние манзы очень скрытны; они не хотели указывать дорог и, даже наоборот, всячески старались сбить нас с толку. Все тазы находились в неоплатном долгу у них и немилосердно эксплуатировались. Китайцы отняли у туземцев женщин и разделили между собою как движимое имущество. На задаваемые по этому поводу вопросы тазы отмалчивались, а если и говорили что-нибудь, то украдкой, шёпотом, озираясь по сторонам. У них ещё живы были воспоминания о сородичах, заживо погребённых в земле за то, что пробовали было протестовать и мстить насильникам. Очевидцы говорили, что эта казнь производилась на глазах жён и детей казнённых: китайцы заставили их присутствовать при погребении. В этот день мы дальше не пошли и, выбрав фанзу, которая была почище, расположились биваком на дворе её, а седла и все имущество убрали под крышу. На следующий день мы расстались с китайцами, которые этому, видимо, были очень рады. Хотя они и старались быть к нам внимательными, но в услугах их чувствовалась неискренность, я сказал бы даже-затаённая злоба. Тропа опять перешла за реку и вскоре привела нас к тому месту, где Иодзыхе разбивается на три реки: Синанцу, Кулёму (этимология этого слова мне неизвестна) и Ханьдахэзу[213]. Кулёму, длиною километров в сорок, течёт с запада и имеет истоки в горах Сихотэ-Алиня, а Ханьдахэза — 20 километров; по последней можно выйти на реку Сицу (приток Санхобе), где в прошлом году меня застал лесной пожар. От места слияния этих рек и начинается, собственно, Иодзыхе. Здесь с правой стороны (по течению) высится высокая скалистая сопка Да-Лаза. Тропа проходит у её подножия. По рассказам, это излюбленное местопребывание тигров. Река Синанца течёт по продольной долине между Сихотэ-Алинем и хребтом, ему параллельным. Она длиною около 75 километров и шириною до 30 метров. За скалистой сопкой сначала идут места открытые и отчасти заболоченные. Дальше поляна начинает возвышаться и заметно переходит в террасу, поросшую редким лиственным лесом. Спустившись с неё, мы прошли ещё с полкилометра и затем вступили в роскошный лес. Если я хочу представить себе девственную тайгу, то каждый раз мысленно переношусь в долину реки Синанцы. Кроме обычных ясеня (Fraxinus manshurica Rupr.), берёзы Эрмана (Betula ermani Cham.) и ольхи (Alnus incana L.), здесь произрастали: аянская ель (Picea ajanensis Fisch) — представительница охотской флоры, лён с красными ветвями (Acer ukurunduense Tr. et Mey.), имеющий листву как у неклена, затем черёмуха Маака (Padus maackii Rupr.) с жёлтой берестой, как у берёзы, и с ветвями, пригнутыми к земле, над чем немало потрудились и медведи, и наконец, в изобилии по берегам реки ивняки (Salix acutifolia Wild.), у которых молодые побеги имеют красновато-сизый оттенок. Подлесье состояло из всевозможных кустарников, между которыми следует отметить колючий крыжовник (Ribes burejense Fr. Schmindt) с весьма мелкими закруглёнными мохнатыми листьями и белый дёрен (Cornus alba L.) с гибкими длинными ветвями и ланцетовидными листьями, сверху тёмно-зелёными, снизу белесоватыми. Вверху ветви деревьев переплелись между собою так, что совершенно скрыли небо. Особенно поражал своими размерами тополь (Populus suaveolens Fisch.) и кедр (Pinus koraiensis S. et ?.). Сорокалетний молодняк, растущий под их покровом, казался жалкою порослью. Сирень (Syginga amurensis Rupr.), обычно растущая в виде кустарника, здесь имела вид дерева в пять саженей высоты и в два фута в обхвате. Старый колодник, богато украшенный мхами, имел весьма декоративный вид и вполне гармонировал с окружающей его богатой растительностью. Густой подлесок, состоящий из чёртова дерева (Eleutherococcus senticosus Maxim.), виноградника (Vitis amurensis Rupr.) и лиан (Schizan-dra chinensis Baili.), делает места эти труднопроходимыми, вследствие чего нагл отряд подвигался довольно медленно: приходилось часто останавливаться и высматривать, где меньше бурелома, и обводить мулов стороною. В этот день Н. А. Десулави отметил в своём дневнике растущие в сообществе следующие цветковые и тайнобрачные растения: клинтонию (Clintonia udensis Tr., et Mey.) с крупными сочными листьями и белыми цветами на длинном стебельке; гнездовку (Neottia nidus avis Kich.), украшенную многочисленными ароматичными фиолетовыми цветами; козелец (Scorzonera albicaulis Bge.) — высокое растение с длинными сидящими листьями и с беловато-жёлтыми цветами; затем папоротник (Nephrodium meuspinulosum Diels.), большие ажурные листья которого имеют треугольную форму и по первому впечатлению напоминают листья орляка (Pteris) и Athyrium felix-femina Roth — тоже с отдельными большими листьями, форма которых непостоянна и меняется в зависимости от окружающей их обстановки. Чем дальше, тем больше лес был завален колодником и тропа вовсе не была приспособлена для передвижения с вьюками. Во избежание задержек вперёд был послан рабочий авангард под начальством Захарова. Он должен был убирать бурелом с пути и, где нужно, делать обходы. Иногда упавшее дерево застревало вверху. Тогда обрубали только нижние ветви его, оставляя проход в виде ворот; у лежащего на земле колодника оббивали сучки, чтобы мулы не попортили ног и не накололись брюхом. После полудня отряд дошёл до лудевы. Она пересекала долину реки Синанцы и одним концом упиралась в скалистую сопку. Лудева была старая, и потому следовало внимательно смотреть под ноги, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку. Путеводная тропа привела нас к покинутой зверовой фанзе. Около неё на сваях стоял амбар, предназначаемый для хранения запасов продовольствия, зверовых шкур, пантов и прочего охотничьего имущества. Здесь мы и заночевали. На рассвете появилось много мошкары; воздух буквально кишел ею. Мулы оставили корм и жались к биваку. На скорую руку мы напились чаю, собрали палатки и тронулись в путь. От зверовой фанзы тропа идёт густым лесом. Она сильно кружит, обходя колодник и густые заросли виноградников. Обыкновенно во второй половине лета появляются большие чёрные пауки (Epeira sp.). Они строят тенёта колёсного типа, причём основные нити бывают длиною от 5 до 7 метров и так прочны, что их свободно можно оттягивать в сторону рукою. В августе пауки эти пропадают, и на их место появляются другие, меньших размеров, жёлто-зелёного цвета, с красным рисунком на брюшке и головогруди. Их противные паутины встречаются чуть ли не на каждом шагу. В особенности много неприятностей испытывает тот, кто едет впереди: ему то и дело приходится снимать паутину с лица или сбрасывать паука, уцепившегося за нос. В этот день мы дошли до того места, где Синанца разделяется надвое: Да-Синанцу[214] и Сяо-Синанцу[215]. Первая является главной рекой, вторая — её притоком. По мере приближения к водоразделу угрюмее становился лес и больше попадалось звериных следов; тропа стала часто прерываться и переходить то на одну, то на другую сторону реки, наконец мы потеряли её совсем. На этом протяжении в Синанцу впадают следующие горные речки: Пярл-гоу и Изимлу — справа; Лаза-гоу и Хунголя-гоу[216] — слева. Сама по себе река немноговодна, но бурелом, сложенный в большие груды, указывает на то, что во время дождей вода подымается настолько высоко, что деревья по ней свободно переносятся с одного места на другое. Чем дальше, тем идти становилось труднее. Поэтому я решил оставить мулов на биваке и назавтра продолжать путь с котомками. Мы рассчитывали в два дня достигнуть водораздела; однако этот переход отнял у нас четверо суток. В довершение всего погода испортилась — пошли дожди. В верховьях река Синанца с левой стороны принимает в себя целый ряд мелких ручьёв, стекающих с Сихотэ-Алиня. Выбрав один из них, мы стали взбираться на хребет. По наблюдениям Дерсу, дождь должен был быть затяжным. Тучи низко ползли над землёю и наполовину окутывали горы. Следовательно, на вершине хребта мы увидели бы только то, что было в непосредственной от нас близости. К тому же взятые с собой запасы продовольствия приходили к концу. Это принудило нас на другой день спуститься в долину. Двое суток мы отсиживались в палатках. Наружу нельзя было показать носа. По хмурому небу низко, словно вперегонку, бежали тяжёлые тучи и сыпали дождём. Наконец терпение наше лопнуло, и, невзирая на непогоду, мы решили идти назад к морю. Не успели мы отойти от бивака на такое расстояние, с которого в тихую погоду слышен ружейный выстрел, как дождь сразу прекратился, выглянуло солнце, и тогда все вокруг приняло ликующий вид, только мутная вода в реке, прибитая к земле трава и клочья тумана в горах указывали на недавнее ненастье. Утомлённые непогодой, мы рано стали на бивак. Вечером около нашего табора с рёвом ходил тигр. Ночью мы поддерживали усиленный огонь и несколько раз стреляли из ружей. Дня через два мы дошли до того места, где оставили мулов и часть команды. Около устья реки Синанцы мы застали семью, состоящую из горбатого таза, его жены, двух малых детей и ещё одного молодого удэгейца, по имени Чан Лин. Они стояли на галечниковой отмели и занимались ловлей рыбы. Невдалеке от их стойбища на гальке лежала опрокинутая вверх дном лодка, белизна дерева и свежие подпалины на бортах её свидетельствовали о том, что она только что выдолблена и ещё не видела воды. Горбатый таз объяснил нам, что сам он лодок делать не умеет и для этого пригласил своего племянника с реки Такемы. Поговорив немного с туземцами, мы пошли дальше, а Дерсу остался. На другой день он догнал нас и сообщил много интересного. Оказалось, что местные китайцы решили отобрать у таза его жену с детьми и увезти их на Иман. Таз решил бежать. Если бы он пошёл сухопутьем, китайцы догнали бы его и убили. Чан Лин посоветовал ему сделать лодку и уйти морем. Двадцать пятого июля мы пошли к китайским фанзам, расположенным около реки Дунгоу, по долине которой идёт путь на реку Санхобе. Следующая ночь была тёмная и дождливая. Тазы решили воспользоваться ею для побега. Совпало так, что китайцы тоже в эту ночь решили сделать нападение и не только отобрать женщину, но и раз навсегда отделаться от обоих тазов. Дерсу как-то пронюхал об этом и сообщил удэгейцам о грозящей им опасности. Захватив с собою винтовку, он отправился в фанзу горбатого таза и разжёг в ней огонь, как будто все обитатели её были дома. В это время тазы тихонько спустили лодку в воду и посадили в неё женщину и детей. Надо было проплыть мимо китайского селения. Ночь была ветреная, дождливая, и это способствовало успеху. Чтобы лодку не было видно, Дерсу вымазал её снаружи грязью и углём. Как ни старались оба охотника, но обмануть собак не удалось. Они учуяли тазов и подняли неистовый лай. Китайцы выскочили из фанзы, но лодка прошла опасное место раньше, чем они успели добежать до реки. Дерсу решил проводить тазов до самого моря. Приблизительно через час лодка дошла до моря. Здесь Дерсу распрощался с тазами и вышел на берег. Опасаясь встречи с китайцами, он не пошёл назад по дороге, а спрятался в лесу и только под утро возвратился к нам на бивак. Двадцать шестого июля мы пробыли ещё на реке Иодзыхе. Стрелки занимались приведением в порядок своей обуви и стиркой белья. Целый день Дерсу был в каком-то мрачном настроении. Он всё время уединялся и не хотел ни с кем разговаривать. Потом он попросил у меня три рубля и ушёл куда-то. В четыре часа пополудни Н. А. Десулави и П. П. Бордаков пошли экскурсировать по окрестностям, а я занялся вычерчиванием маршрута по реке Синанце. В сумерки снова появился туман. По мере того как становилось темнее, он сгущался всё больше и больше, скоро в нём утонули противоположный берег реки и фанзы китайцев. Казалось, вместе с туманом на землю спустилась мертвящая тишина, нарушаемая только падением капель воды с намокшей листвы деревьев. В это время пришёл один из стрелков и стал рассказывать о том, что Дерсу (так всегда они его звали) сидит один у огня и поёт песню. Я спросил солдата, где он видел гольда. — Далеко, — отвечал он мне, — в лесу около речки. Стрелок объяснил мне, что надо идти по тропе до тех пор, пока справа я не увижу свет. Это и был огонь Дерсу. Шагов триста я прошёл в указанном направлении и ничего не видел. Я хотел уже было повернуть назад, как вдруг слабо сквозь туман в стороне заметил отблеск костра. Не успел я отойти от тропы и пятидесяти шагов, как туман вдруг рассеялся. То, что я увидел, было так для меня неожиданно и ново, что я замер на месте и не смел пошевельнуться. Дерсу сидел перед огнем лицом ко мне. Рядом с ним лежали топор и винтовка. В руках у него был нож. Уткнув себе в грудь небольшую палочку, он строгал её и тихо пел какую-то песню. Пение его было однообразное, унылое и тоскливое. Он недорезал стружки до конца. Они загибались одна за другой и образовывали султанчики. Взяв палочку в правую руку и прекратив пение, он вдруг обращался к кому-то в пространство с вопросом и слушал, слушал напряжённо, но ответа не было. Тогда он бросал стружку в огонь и принимался строгать новую. Потом он достал маленькую чашечку, налил в неё водки из бутылки, помочил в ней указательный палец и по капле бросил на землю во все четыре стороны. Опять он что-то прокричал и прислушался. Далеко в стороне послышался крик какой-то ночной птицы. Дерсу вскочил на ноги. Он громко запел ту же песню и весь спирт вылил в огонь. На мгновение в костре вспыхнуло синее пламя. После этого Дерсу стал бросать в костёр листья табаку, сухую рыбу, мясо, соль, чумизу, рис, муку, кусок синей дабы, новые китайские улы, коробок спичек и наконец пустую бутылку. Дерсу перестал петь. Он сел на землю, опустил голову на грудь и глубоко о чём-то задумался.

Тогда я решил к нему подойти и нарочно спустился на прибрежную гальку, чтобы он слышал мои шаги. Старик поднял голову и посмотрел на меня такими глазами, в которых я прочёл тоску. Я спросил его, почему он так далеко ушёл от фанзы, и сказал, что беспокоился о нём. Дерсу ничего не ответил мне на это. Я сел против него у огня. Минут пять сидели мы молча. В это время опять повторился крик ночной птицы. Дерсу спешно поднялся с места и, повернувшись лицом в ту сторону, что-то закричал ей громким голосом, в котором я заметил нотки грусти, страха и радости. Затем всё стихло. Дерсу тихонько опустился на своё место и стал поправлять огонь. Накалившаяся докрасна бутылка растрескалась и стала плавиться. Я не расспрашивал его, что всё это значит, я знал, что он сам поделится со мною. И не ошибся. — Там люди много, — начал он. — Китайцы, солдаты… Понимай нету, смеяться будут, — мешай. Я не прерывал его. Тогда он рассказал мне, что прошлой ночью он видел тяжёлый сон: он видел старую развалившуюся юрту и в ней свою семью в страшной бедности. Жена и дети зябли от холода и были голодны. Они просили его принести им дров и прислать тёплой одежды, обуви, какой-нибудь еды и спичек. То, что он сжигал, он посылал в загробный мир своим родным, которые, по представлению Дерсу, на том свете жили так же, как и на этом. Тогда я осторожно спросил его о криках ночной птицы, на которые он отвечал своими криками. — Это ханяла[217], — ответил Дерсу. — Моя думай, это была жена. Теперь она все получила. Наша можно в фанзу ходи. Дерсу встал и разбросал в стороны костёр. Стало вдвое темнее. Через несколько минут мы шли назад по тропе. Дерсу молчал, и я молчал тоже. Кругом было тихо. Сочный воздух точно застыл. Густой туман спустился в самую долину, и начало моросить. При нашем приближении к фанзам собаки подняли громкий лай. Дерсу, по обыкновению, остался ночевать снаружи, а я вошёл в фанзу, растянулся на тёплом кане и начал дремать. Рядом за стеной слышно было, как мулы ели сено. Собаки долго не могли успокоиться.
Глава четвёртая В горах

Река Дунгоу. — Непогода. — Медведь, добывающий мёд. — Встреча с Чжан Вао. — Река Бея. — Зоогеографическая граница горалов. — Река Кудяхе. — Фанза Дун-Тавайза. — Реки Фату и Адимил. — Осыпи в горах. — Мелкие речки, текущие в море. — Береговая тропа. — Дикая кошка. — Нападение жуков
На другой день погода была пасмурная, по небу медленно ползли тяжёлые дождевые тучи, и самый воздух казался потемневшим, точно предрассветные сумерки. Горы, которые ещё вчера были так живописно красивы, теперь имели угрюмый вид. Мои спутники знали, что если нет проливного дождя, то назначенное выступление обыкновенно не отменяется. Только что-нибудь особенное могло задержать нас на биваке. В восемь часов утра, расплатившись с китайцами, мы выступили в путь по уже знакомой нам тропе, проложенной местными жителями по долине реки Дунгоу к бухте Терней. В природе чувствовалась какая-то тоска. Неподвижный и отяжелевший от сырости воздух, казалось, навалился на землю, и от этого все кругом притаилось. Хмурое небо, мокрая растительность, грязная тропа, лужи стоячей воды и в особенности царившая кругом тишина — всё свидетельствовало о ненастье, которое сделало передышку для того, чтобы снова вот-вот разразиться дождём с ещё большей силой. К полудню мы дошли до верховьев реки Дунгоу и сделали привал. В то время, когда мы сидели у костра и пили чай, из-за горы вдруг показался орлан белохвостый. Описав большой круг, он ловко, с налёта, уселся на сухоствольной лиственнице и стал оглядываться. Захаров выстрелил в него — и промахнулся. Испуганная птица торопливо снялась с места и полетела к лесу. — Худо, — сказал Дерсу, — будет большой дождь. Он объяснил, что, если в тихую погоду туман подымается кверху и если при этом бывает сильное эхо, непременно надо ждать затяжного дождя. Около часу дня я, Н. А. Десулави и П. П. Бордаков пошли вперёд, а стрелки начали вьючить мулов. К трём часам мы взошли на перевал, откуда начинался сток воды по реке Каимбе. Надо было бы здесь стать на бивак, но я уступил просьбам своих товарищей, и мы пошли дальше. Не успели мы спуститься с водораздела, как начался дождь, скоро превратившийся в настоящий ливень. Мы развели большой огонь — мокли и сушились в одно и то же время. К сумеркам подошли мулы, только тогда мы начали переодеваться и ставить палатки. Вечером дождь пошёл ещё сильнее, и так до самого рассвета. Мы не спали всю ночь, зябли, подкладывали дрова в костёр, несколько раз принимались пить чай и в промежутках между чаепитиями дремали. Утром Н. А. Десулави хотел было подняться на гору Хунтами для сбора растений около гольцов, но это ему не удалось. Вершина горы была окутана туманом, а в два часа дня опять пошёл дождь, мелкий и частый. Днём мы успели как следует обсушиться, оправить палатки и хорошо выспаться. На следующий день, 26 июля, опять дождь. Нельзя разобраться, где кончается туман и где начинаются тучи. Этот маленький, частый дождь шёл подряд трое суток с удивительным постоянством. Терпение наше истощилось. Н. А. Десулави не мог больше ждать. Отпуск его кончался, и ему надлежало возвратиться в Хабаровск. Несмотря на непогоду, он решил ехать в залив Джигит и там дожидаться парохода. Я дал ему двух мулов и двух провожатых. Часов в одиннадцать утра мы расстались, пожелав друг другу счастливого пути и успехов. В полдень погода не изменилась. Её можно было бы описать в двух словах: туман и дождь. Мы опять просидели весь день в палатках. Я перечитывал свои дневники, а стрелки спали и пили чай. К вечеру поднялся сильный ветер. Царствовавшая дотоле тишина в природе вдруг нарушилась. Застывший воздух пришёл в движение и одним могучим порывом сбросил с себя апатию. Сорванная с деревьев листва закружилась в вихре и стала подниматься кверху. Порывы ветра были так сильны, что ломали сучья, пригибали к земле молодняк и опрокидывали сухие деревья. — Кончай есть, — сказал Дерсу довольным тоном. — Сегодня ночью наша звезды посмотри. Завтра — посмотри солнце. И действительно, часов в десять вечера тёмный небесный свод, усеянный миллионами звёзд, совершенно освободился от туч. Сияющие ночные светила словно вымылись в дожде и приветливо смотрели на землю. К утру стало прохладнее. Следующий день был последним днём июля. Когда занялась заря, стало видно, что погода будет хорошая. В горах ещё кое-где клочьями держался туман. Он словно чувствовал, что доживает последние часы, и прятался в глубокие распадки. Природа ликовала: все живое приветствовало всесильное солнце, как бы сознавая, что только одно оно может прекратить ненастье. Этот день мы употребили на переход к знакомой нам грибной фанзе, около озера Благодати. Опять нам пришлось мучиться в болотах, которые после дождей стали ещё непроходимее. Чтобы миновать их, мы сделали большой обход, но и это не помогло. Мы рубили деревья, кусты, устраивали гати, и всё-таки наши вьючные животные вязли на каждом шагу чуть не по брюхо. Большого труда стоило нам перейти через зыбуны и только к сумеркам удалось выбраться на твёрдую почву. На другой день мы выступили рано. Путь предстоял длинный, и хотелось поскорее добраться до реки Санхобе, откуда, собственно, и должны были начаться мои работы. П. П. Бордаков взял ружьё и пошёл стороною, я с Дерсу, по обыкновению, отправился вперёд, а А. И. Мерзляков с мулами остался сзади. Около второго распадка я присел отдохнуть, а Дерсу стал переобуваться. Вдруг до нас донеслись какие-то странные звуки, похожие не то на вой, не то на визг, не то на ворчанье. Дерсу придержал меня за рукав, прислушался и сказал: — Медведь! Мы встали и тихонько пошли вперёд. Скоро мы увидели виновника шума. Медведь средней величины возился около большой липы. Дерево росло почти вплотную около скалы. С лицевой стороны на нём была сделана заметка топором, что указывало на то, что рой этот раньше нас и раньше медведя нашёл кто-то из людей. С первого взгляда я понял, в чём дело: медведь добывал мёд. Он стоял на задних ногах и куда-то тянулся. Протиснуть лапу в дупло ему мешали камни. Медведь был из числа терпеливых. Он ворчал и тряс дерево изо всей силы. Вокруг улья вились пчелы и жалили его в голову. Медведь тёр морду лапами, кричал тоненьким голосом, валялся по земле и затем вновь принимался за ту же работу. Его уловки были очень комичны. Наконец он утомился, сел на землю по-человечески и, раскрыв рот, стал смотреть на дерево, видимо что-то соображая. Так просидел он минуты две. Затем вдруг поднялся, быстро подбежал к липе и полез на её вершину. Взобравшись наверх, он протиснулся между скалой и деревом и, упёршись передними и задними лапами в камни, начал сильно давить спиной в дерево. Дерево подалось немного. Но, видимо, у медведя заболела спина. Тогда медведь переменил положение и, упёршись спиной в скалу, стал лапами давить на дерево. Липа затрещала и рухнула на землю. Этого и надо было медведю. Теперь оставалось только разобрать заболонь и добыть соты. — Его шибко хитрый люди, — сказал Дерсу. — Надо его гоняй, а то скоро весь мёд кушай. Сказав это, он крикнул: — Тебе какой люди, тебе как чужой мёд карабчи[218]! Медведь оглянулся. Увидя нас, он побежал и быстро исчез за скалою. — Надо его пугай, — сказал Дерсу и выстрелил в воздух. В это время подошли кони. Услышав наш выстрел, Мерзляков остановил отряд и пришёл узнать, в чём дело. Решено было для добычи мёда оставить двух стрелков. Надо было дать пчёлам успокоиться, а затем уморить их дымом и собрать мёд. Если бы этого не сделали мы, то все равно медведь съел бы весь мёд.

Минут через пять мы тронулись дальше. По мере того как продвигаешься на север по побережью моря, замечаешь, что представители маньчжурской флоры один за другим остаются сзади. Первая отстала груша (Pyrus sinensis Lindi.). Я видел её последний раз на реке Иодзыхе. Потом — акация Маака (Cladrastis amurensis Benth.): бухта Терней, по-видимому, является для неё северной границей. Дальше всех на север проникает монгольский дуб (Quercus mongolica Fisch). Зато лиственница (Larix dahurica Turcz.) появилась на берегу моря небольшими группами. Кроме растущих здесь в изобилии калины (Viburnum sargenti Koehne), орешника (Corylus heterophylia Fisch.) и леспедецы (Lespedeza bicolor Turcz), мы заметили перистые пятерные листочки и характерные бледно-жёлтые цветы лапчатки (Potentina fruticosa L.), затем кустарниковую низкорослую рябину (Sorbus sambucifolia Tr.), дающую мелкие и почти безвкусные светло-красные плоды, а рядом с ней даурский можжевельник (Juniperus dahurica Pall.), стелющийся по траве и подымающий кверху свои густые зелёные ветви с матово-синим оттенком и прошлогодними сухими ягодами. Дальнейшее путешествие наше до реки Санхобе прошло без всяких приключений. К бухте Терней мы прибыли в четыре часа дня, а через час прибыли и охотники за пчёлами и принесли с собой б килограммов хорошего сотового меду. Вечером казаки ловили рыбу в реке. Кроме горбуши, в неводок попалось несколько гольянов (Phoxinus lagowskil Dyb.), мясо которых имело горьковатый привкус. Здесь мы расстались с П. П. Бордаковым. Он тоже решил возвратиться в Джигит с намерением догнать Н. А. Десулави и с ним доехать до Владивостока. Жаль мне было потерять хорошего товарища, да ничего не поделаешь. Мы расстались искренними друзьями. На другой день П. П. Бордаков отправился обратно, а ещё через сутки (3 августа) снялся с якоря и я со своим отрядом. На реке Санхобе мы опять встретились с начальником охотничьей дружины Чжан Бао и провели вместе целый день. Оказалось, что многое из того, что случилось с нами в прошлом году на Имане, ему было известно. От него я узнал, что зимой он ходил разбирать спорный вопрос между тазами и китайцами, а весной был на реке Ното, где уничтожил шайку хунхузов. Я чрезвычайно обрадовался, когда услышал, что он хочет идти со мной на север. Это было вдвойне выгодно. Во-первых, потому, что он хорошо знал географию прибрежного района, во-вторых, его влияние на туземцев могло значительно способствовать выполнению моих заданий. Небольшая речка Бея[219] (по-удэгейски — Иеля), по которой я пошёл от бухты Терней, впадает в реку Санхобе в 2 километрах от устья. Она длиною около 12 километров и течёт по заболоченной долине, расположенной параллельно берегу моря. С правой стороны её тянутся пологие увалы, с левой — скалистые сопки, состоящие из кварцевого порфира, диабаза и диорита. В истоках река Бея поворачивает на восток и доходит почти до самого моря. Тропа здесь проложена по увалам с правой стороны долины. Окрестные горы, о которых идёт здесь речь, покрыты весьма редким лесом, состоящим преимущественно из клёна, бархата, ореха, липы и чёрной берёзы. По берегам речки густо растут ивняк и ольха. Открытые места заросли леспедецей, таволожником, шиповником и калиной. Внизу, по низинам, царство тростника, подмаренника и полыни. Местами эти травы положительно глушат все другие растения. Только полевой горошек, пользуясь способностью цепляться за них, мог ещё оспаривать своё право на существование. Следуя за рекой, тропа уклоняется на восток, но не доходит до истоков, а поворачивает опять на север и взбирается на перевал Кудя-Лин[220], высота которого определяется в 260 метров. Подъём на него с юга и спуск на противоположную сторону — крутые. Куполообразную гору с левой стороны перевала китайцы называют Цзун-ган-шань[221]. Эта гора состоит главным образом из породы авгитового андезита. За перевалом мы нашли маленькую горную речку Кудя-хе[222], которая на морских картах называется Кудия, а у тазов Кудя-Базани. Она не имеет выхода в море: устье её занесено песком и галькой. Вследствие этого здесь образовалась болотина. По словам тазов, это лучшие солонцы во всём прибрежном районе. Действительно, около болота виднелось множество звериных следов. От моря Кудяхе отделяется высокими скалистыми горами, покрытыми с подветренной стороны хвойным лесом. В зоогеографическом отношении это очень интересное место. Здесь проходит северная граница распространения горалов (Nemorhoedus caudatus M. Edw). Небольшие долинки, обставленные невысокими остроконечными сопками, покрытые лиственным редколесьем, весьма удобны для поселений небольшими хуторами. Прибрежные возвышенности состоят из фильзитовых порфиритов, поверх которых лежат слои вулканических туфов. За рекой Кудяхе тропа переваливает через небольшой мысок и спускается в долину другой горной речки Тавайзы[223] (по-удэгейски Омуски), длиною в 7-8 километров. Спуск в долину Тавайзы крутой, почти обрывистый. Ещё один перевал, и мы попали в великолепную плодородную долину небольшой реки Адимил, которая на картах обозначена Акмой и которую удэгейцы называют Агама. Собственно говоря, здесь две речки сходятся вместе в одном километре от моря. При устье их углубление береговой линии образовало небольшую весьма живописную бухточку. Здесь мы нашли хорошенькую китайскую фанзу с названием Дун-Тавайза[224]. От бухты Терней до этого места 27 километров. Из фанзы навстречу нам вышли два китайца. Они приняли мулов от людей, помогли нам раздеться и пригласили к себе в жилище. Более радушного приёма я нигде не встречал. У этих китайцев не было и тени раболепства — они просто были гостеприимны и караулили каждое наше желание. Впоследствии от староверов я слышал о них именно такие же отзывы. Где они теперь? Один из них был старик; быть может, его теперь нет в живых. Во всяком случае, у всех нас об этих людях сохранились самые хорошие воспоминания. Здесь было так хорошо и уютно, жизнь китайцев казалась такой тихой и мирной, что я решил остаться у них на днёвку. Вечером, сидя у жаровни с угольями, я пил чай с солёными лепёшками и расспрашивал старика о путях, ведущих на север. Река Фату (по-удэгейски — Фарту) впадает в реку Санхобе с левой стороны, в однодневном пути от устья, и течёт с северо-востока параллельно берегу моря. Горный хребет, отделяющий бассейн её от речек, текущих непосредственно в море, имеет в среднем высоту в 600 метров. Следующая большая река, которая берёт начало с Сихотэ-Алиня, будет река Билимбее, впадающая в море около горы Железняк, немного южнее мыса Шанц. Я рассчитывал часть людей и мулов направить по тропе вдоль берега моря, а сам с Чжан Бао, Дерсу и тремя стрелками пойти по реке Адимил к её истокам, затем подняться по реке Билимбее до Сихотэ-Алиня и обратно спуститься по ней же к морю. Утром 4 августа мы стали собираться в путь. Китайцы не отпустили нас до тех пор, пока не накормили как следует. Мало того, они щедро снабдили нас на дорогу продовольствием. Я хотел было рассчитаться с ними, но они наотрез отказались от денег. Тогда я положил им деньги на стол. Они тихонько передали их стрелкам. Я тихонько положил деньги под посуду. Китайцы заметили это и, когда мы выходили из фанзы, побросали их под ноги мулам. Пришлось уступить и взять деньги обратно. Река Адимил в верховьях слагается из двух ручьёв, текущих навстречу друг другу. Километрах в пяти от земледельческой фанзы находится другая, лудевая фанза, в которой живут три охотника, занимающиеся ловлей оленей ямами. В долине реки Адимил произрастают лиственные леса дровяного и поделочного характера; в горах всюду видны следы пожарищ. На речках и по увалам — густые заросли таволги, орешника и леспедецы. Дальше в горах есть немного кедра и пихты. Широкие полосы гальки по сторонам реки и измочаленный колодник в русле указывают на то, что хотя здесь больших наводнений и не бывает, но всё же в дождливое время года вода идёт очень стремительно и сильно размывает берега. Так как отряд выступил от фанзы Дун-Тавайза довольно поздно, то пришлось идти почти до сумерек. К вечеру мы дошли до истоков реки Адимил и стали биваком близ перевала на реку Фату. В этот день погода стояла хотя пасмурная и туманная, но было душно и сильно парило. Я опасался дождя и спросил мнения Дерсу насчёт погоды. Он сказал, что сейчас состояние погоды такое, что «туман сам ещё не знает, превратиться ему в тучи или рассеяться». Сказал это он по-своему и опять назвал туман «люди». У него это вышло так, как будто туман рассуждал, превратиться ли ему в дождь или подождать немного. Часов в семь вечера вдруг туман быстро начал подниматься кверху. Одновременно с этим стал накрапывать дождь, который минут через пятнадцать перестал, а вместе с ним рассеялся и туман. На небе выглянули звезды. Наутро мы поднялись довольно рано, напились чаю и стали подыматься на гору Тигровую (595 метров), сплошь покрытую осыпями. Надо сказать, что в прибрежном районе осыпи больше развиты, чем к западу от Сихотэ-Алиня. Одни из них состоят из обломков в метр величиною, другие — из камней с конскую голову, третьи с голову человека. Обломки в большинстве случаев угловатые и так плотно уложены, что по ним свободно можно идти, как по лестнице. Осыпи древнего происхождения всегда скрыты под мощным покровом растительности. Впрочем, мне часто приходилось видеть старые осыпи, покрытые одними только лишайниками. Они чаще всего располагаются по вершине гор и издали кажутся в виде серых пятен. Иногда осыпи эти занимают большую часть горы. Тогда участки с растительностью на общем сером фоне осыпей кажутся зелёными пятнами. Как произошли осыпи? Кажется, будто здесь были землетрясения и целые утёсы распались на обломки. На самом деле эта работа медленная, вековая и незаметная для глаза. Сначала в каменной породе появляются трещины: они увеличиваются в размерах, сила сцепления уступает силе тяжести, один за другим камни обрываются, падают, и мало-помалу на месте прежней скалы получается осыпь. Обломки скатываются вниз до тех пор, пока какое-либо препятствие их не задержит. Движение по осыпям, покрытым мхом, всегда довольно затруднительно: то ставишь ногу на ребра, то попадаешь в щели между камнями. Внизу осыпи покрыты землёй и травой настолько густо, что их не замечаешь вовсе, но по мере того как взбираешься выше, растительность постепенно исчезает. Летом, в жаркие дни, багульник (Ledum palustre L.) выделяет такое обилие эфирных масел, что у непривычного человека может вызвать обморочное состояние. За багульником идут мхи и лишайники. Осыпи для людей не составляют помехи, но для коней и мулов они являются серьёзным препятствием. Приходится обходить их далеко стороною. Поднявшись на хребет, мы повернули на север и некоторое время шли по его гребню. Теперь слева от нас была лесистая долина реки Фату, а справа — мелкие речки, текущие в море: Секуму, Одега Первая, Одега Вторая, Тания, Вязтыгни, Хотзе, Иеля и Шакира. Вдоль берега моря проложена пешеходная тропа. Она пересекает все упомянутые речки в трёх — пяти километрах от их устьев. Твёрдый грунт тропы допускает движение вьючных обозов. Перевалы через горные отроги между речками не превышают 125 метров. На всём протяжении от реки Секуму до реки Шакиры в последовательном порядке располагаются следующие горные породы: известняки, известковые песчаники, граниты, гнейсы и кристаллические сланцы. Часа в четыре дня пошёл дождь. Мы спустились с хребта и, как только нашли в ручье воду, тотчас стали биваком. Стрелки принялись развьючивать мулов, а мы с Дерсу по обыкновению отправились на разведку. Я пошёл вверх, а он вниз по ключу. Дождь в лесу — это двойной дождь. Каждый куст и каждое дерево при малейшем сотрясении обдают путника водою. В особенности много дождевой воды задерживается на листве леспедецы. Через пять минут я был таким же мокрым, как если бы окунулся головой в реку. Я хотел было уже повернуть назад, как вдруг увидел какое-то странное животное. Оно спускалось с дерева на землю. Я прицелился и выстрелил. Животное стало биться на земле. Вторым выстрелом я прекратил его мучения. Это оказалась дикая кошка(по-китайски елиза). Меня поразили её размеры. Сначала я думал, что это рысь, но отсутствие кисточек на ушах и длинный хвост убедили меня, что это Felis cuptimra Elliot. Длина её равнялась 1 метру 9 сантиметрам; окраска — буровато-желтовато-серая с едва заметными пятнами по всему телу, брюхо и внутренняя сторона ног — грязновато-белые. Хвост короче, чем у домашней кошки, и не имеет поперечных тёмных полос. От домашней кошки она отличается не только своими крупными размерами, но и другими признаками: более сильными зубами, длинными усами и густой шерстью. Дикая кошка ведёт одиночный образ жизни и держится в густых сумрачных лесах, где есть скалистые утёсы и дуплистые деревья. Это весьма осторожное и трусливое животное становится способным на яростное нападение при самозащите. Охотники делали опыты приручения молодых котят, но всегда неудачно. Удэгейцы говорят, что котята дикой кошки, даже будучи взятыми совсем малыми, никогда не ручнеют. Специально за дикой кошкой никто не охотится, и убой её — дело случайное. Иногда из кошачьего меха делают зимние воротники и шапки. В Уссурийском крае кошка распространена повсеместно, но чаще встречается около Владивостока — на Русском острове. Забрав свой трофей, я возвратился на бивак. Там все уже были в сборе, палатки поставлены, горели костры, варился ужин. Вскоре возвратился и Дерсу. Он сообщил, что видел несколько свежих тигровых следов и один из них недалеко от нашего бивака. Часов в восемь вечера дождь перестал, хотя небо было по-прежнему хмурое. До полуночи вызвался караулить Дерсу. Он надел унты, подправил костёр и, став спиною к огню, стал что-то по-своему громко кричать в лес. — Кому ты кричишь, с кем говоришь? — спросили его стрелки. — Амба, — отвечал он. — Моя говори ему: на биваке много солдат есть. Солдаты стреляй, тогда моя виноват нету. И он опять принялся кричать протяжно и громко: «А-та-та-ай, а-та-та-ай». Ему вторило эхо, словно кто перекликался в лесу, повторяя на разные голоса последний слог — «ай». Крики уносились всё дальше и дальше и замирали вдали. Вдруг какой-то сильный шум, похожий на стрекотание, окружил нас. Что-то больно ударило меня в лицо, и в то же время я почувствовал посторонний предмет у себя на шее. Я быстро поднял руку и схватил что-то жёсткое, колючее и испуганно сбросил на землю. Это был огромных размеров жук, похожий на оленя, но только без рогов. Другого такого жука я смахнул с руки и вдруг увидел ещё одного у себя на рубашке, я вскочил с постели и отбежал в сторону. Жуки долго ещё попадались то на одеяле, то на шинели, то у кого-нибудь в сумке, то в головном уборе. Дерсу объяснил: — Моя раньше такой люди, — он указал на жука, — много посмотри нету; один-один каждый год найди… Как его там много собрался? Я поймал одного жука и впоследствии узнал его научное название — Callipogon relictus. Он является представителем фауны, оставшейся в Уссурийском крае в наследие от третичного периода. Жук был коричневого цвета, с пушком на спине, сильными челюстями, загнутыми кверху, и очень напоминал жука-дровосека, только усы у него были покороче. Длина тела его равнялась 9 1/2 сантиметра, а ширина — 3 сантиметрам. Небольшие глаза треугольной формы были расположены по сторонам головы; они были тёмного цвета и как бы прикрыты мелкой сеткой. Долго мы провозились с жуками и успокоились только после полуночи.
Глава пятая Наводнение

Река Билимбее. — Плохие приметы. — Чёртово место. Ночная тревога. — Сихотэ-Алинь. — Непогода. — Зверовая фанза. — Тайфун. — Трёхдневный ливень. — Разбушевавшиеся стихии. — Затопленный лес
На другой день мы продолжали наш путь на север по хребту и часов в десять утра дошли до горы Острой, высотою в 678 метров. Осмотревшись, мы спустились в один из ключиков, который привёл нас к реке Билимбее. Погода все эти дни стояла хмурая; несколько раз начинал моросить дождь; отдалённые горы были задёрнуты не то туманом, не то какою-то мглою. По небу, покрытому тучами, на восточном горизонте протянулись светлые полосы, и это давало надежду, что погода разгуляется. Выкормив мулов на подножном корму, мы пошли вверх по реке Билимбее, которую удэгейцы называют Били, а китайцы — Бинь-лянь-бэй[225]. Она длиною около 90 километров и берёт начало с Сихотэ-Алиня. Перевалов с Билимбее будет три: один влево (если стоять лицом к истокам), на реку Санхобе, другой вправо — на реку Такему, и третий прямо — на Иман. Билимбее течёт по сравнительно узкой долине и на всём протяжении принимает в себя только четыре более или менее значительных притока, по два с каждой стороны. Самый большой из них будет река Забытая. Она впадает в Билимбее слева (по течению), в 29 километрах от устья. Истоки её находятся в горном узле, откуда берут начало реки Амагу и Кулумбе, о которых речь будет ниже. В то время реку Билимбее можно было назвать пустынною. В нижней половине река шириною около 20 метров, глубиною до 1 1/2 метра и имеет скорость течения от 8 до 10 километров в час. В верховьях реки есть несколько зверовых фанз. Охотники приходили сюда с Санхобе зимою лишь во время соболевания. В этот день нам удалось пройти километров тридцать; до Сихотэ-Алиня оставалось ещё столько же. Билимбее — царство растений. По обоим берегам реки лес растёт так густо, что кажется, будто река течёт в коридоре. Наклонившиеся деревья во многих местах перепутались ветвями и образовали живописные арки. По берегам протоки растут кустарники, любящие свет и влагу. В собранном мною гербарии имеется даурский шиповник (Rosa cianurica Pall.), лишённый шипов, с опущенными мелкими листочками и с цветами средней величины; розовая иволистная таволожка (Spiraea salicifolia L.), образующая вместе с леспедецей (Lespedeza bicolor Turcz.) густые заросли. Тут же можно было видеть серебристо-белые пушки ломоноса (Clematis intricata Bunge) с мелкими листьями на длинных черешках, отходящих в сторону от стебля; крупный раскидистый гречишник (Polygonum divaricatum L.), обладающий изумительной способностью приспосабливаться и процветать во всякой обстановке, изменяя иногда свой внешний вид до неузнаваемости; особый вид астры (Aster scaber Thund.), растущей всегда быстро, и высокую веронику (Veronica grandis Fisch.), выдающую себя большим ростом и соцветием из белых колосовидных кистей. Часа в четыре дня мы стали высматривать место для бивака. Здесь река делала большой изгиб. Наш берег был пологий, а противоположный — обрывистый. Тут мы и остановились. Стрелки принялись ставить палатки, а Дерсу взял котелок и пошёл за водой. Через минуту он возвратился крайне недовольный. Что случилось? — спросил я гольда. Моя думай, это место худое, — отвечал он на мой вопрос. — Моя река ходи, хочу воды бери, рыба ругается. — Как ругается? — изумились солдаты и покатились со смеху. — Чего ваша смеётся? — сердился Дерсу. — Плакать скоро будете. Наконец я узнал, в чём дело. В тот момент, когда он хотел зачерпнуть котелком воды, из реки выставилась голова рыбы. Она смотрела на Дерсу и то открывала, то закрывала рот. — Рыба тоже люди, — закончил Дерсу свой рассказ. Его тоже могу говори, только тихо. Наша его понимай нету. Только что чайник повесили над огнём, как вдруг один камень накалился и лопнул с такой силой, что разбросал угли во все стороны. Точно ружейный выстрел. Один уголь попал к Дерсу на колени. — Тьфу! — сказал он в сердцах. Моя хорошо понимай, это место худое. Стрелки опять стали смеяться. После ужина я взял ружьё и пошёл прогуляться вблизи бивака. Отойдя с полкилометра, я сел на бурелом и стал слушать. Кругом царила тишина, только вверху, на перекатах, глухо шумела вода. На противоположном берегу, как исполинские часовые, стояли могучие кедры. Они глядели сурово, точно им известна была какая-то тайна, которую во что бы то ни стало надо было скрыть от людей. После тёплого дождя от земли стали подниматься тяжёлые испарения. Они сгущались всё более и более, и вскоре вся река утонула в тумане. Порой лёгкое дуновение ветерка приводило туман в движение, и тогда сквозь него неясно вырисовывались очертания противоположного берега, покрытого хвойным лесом. В это время я увидел в тумане что-то громоздкое и большое. Оно двигалось по реке мне навстречу медленно и совершенно бесшумно. Я замер на месте, сердце моё усиленно забилось. Но я ещё больше изумился, когда увидел, что тёмный предмет остановился, потом начал подаваться назад и через несколько минут так же таинственно исчез, как и появился. Был ли это зверь какой-нибудь или это плыл бурелом по реке, не знаю. Сумерки, угрюмый лес, густой туман и главным образом эта мертвящая тишина создавали картину, невыразимо жуткую и тоскливую. Мне стало страшно. Я встал и поспешно пошёл назад. Минут через десять я подходил к биваку. Люди двигались около огня и казались длинными привидениями. Они тянулись куда-то кверху, потом вдруг сокращались и припадали к земле. Я спросил Захарова, не проплыло ли мимо что-нибудь по реке. Он ответил отрицательно. Тогда я рассказал им о виденном и пробовал объяснить это явление игрою тумана. Гм, какое худое место, — услышал я голос Дерсу. Я обернулся. Он сидел у огня и качал головой. — Надо его гоняй, — сказал он и вслед за тем взялся за топор. — Кого? — спросил я. — Черта, — отвечал гольд самым серьёзным образом. Затем он пошёл в лес и принялся рубить сырую ель, осину, сирень и т. п., то есть такие породы, которые трещат в огне. Когда дров набралось много, он сложил их в большой костёр и поджёг. Яркое пламя взвилось кверху, тысячи искр закружились в воздухе. Когда дрова достаточно обуглились, Дерсу с криками стал разбрасывать их во все стороны. Стрелки обрадовались случаю и прибежали ему помогать. Они крутили горящими головешками и бросали их кверху. Красивую картину представляет собою такая вертящаяся ракета, разбрасывающая во все стороны искры. Два полена упали в воду. Они сразу потухли, но долго ещё дымились. Наконец костёр был уничтожен. Разбросанные в лесу головешки медленно гасли одна за другой. После этого мы принялись за чаепитие, а затем стали укладываться на ночь. Я хотел было почитать немного, но не мог бороться со сном и незаметно для себя заснул. Мне показалось, что я спал долго. Вдруг я почувствовал, что кто-то трясёт меня за плечо. — Вставайте скорее! — Что случилось? — спросил я и открыл глаза. Было темно — темнее, чем раньше. Густой туман, точно вата, лежал по всему лесу. Моросило. — Какой-то зверь с того берега в воду прыгнул, — ответил испуганно караульный. Я вскочил на ноги и взял ружьё. Через минуту я услышал, что кто-то действительно вышел из воды на берег и сильно встряхивался. В это время ко мне подошли Дерсу и Чжан Бао. Мы стали спиной к огню, старались рассмотреть, что делается на реке, но туман был такой густой и ночь так темна, что в двух шагах решительно ничего не было видно. — Ходи есть, — тихо сказал Дерсу. Действительно, кто-то тихонько шёл по гальке. Через минуту мы услышали, как зверь опять встряхнулся. Должно быть, животное услышало нас и остановилось. Я взглянул на мулов. Они жались друг к другу и, насторожив уши, смотрели по направлению к реке. Собаки тоже выражали беспокойство. Альпа забилась в самый угол палатки и дрожала, а Леший поджал хвост, прижал угли и боязливо поглядывал по сторонам. Но вот опять стала бренчать галька. Я велел разбудить остальных людей и выстрелил. Звук моего выстрела всколыхнул сонный воздух. Глухое эхо подхватило его и далеко разнесло по лесу. Послышалось быстрое бренчание гальки и всплеск воды в реке. Испуганные собаки сорвались со своих мест и подняли лай. — Кто это был? — обратился я к гольду. — Изюбр? Он отрицательно покачал головой. — Может быть, медведь? — Нет, — отвечал Дерсу. — Так кто же? — спросил я нетерпеливо. — Не знаю, — ответил он. Ночь кончай, след посмотри, тогда понимай. После переполоха сна как не бывало. Все говорили, все высказывали свои догадки и постоянно обращались к Дерсу с расспросами. Гольд говорил, что это не мог быть изюбр, потому что он сильнее стучит копытами по гальке; это не мог быть и медведь, потому что он пыхтел бы. Посидели мы ещё немного и наконец стали дремать. Остаток ночи взялись окарауливать я и Чжан Бао. Через полчаса все уже опять спали крепким сном, как будто ничего и не случилось. Наконец появились предрассветные сумерки. Туман сделался серовато-синим и хмурым. Деревья, кусты и трава на земле покрылись каплями росы. Угрюмый лес дремал. Река казалась неподвижной и сонной. Тогда я залез в свой комарник и крепко заснул. Проснулся я в восемь часов утра. По-прежнему моросило. Дерсу ходил на разведки, но ничего не нашёл. Животное, подходившее ночью к нашему биваку, после выстрела бросилось назад через реку. Если бы на отмели был песок, можно было бы увидеть его следы. Теперь остались для нас только одни предположения. Если это был не лось, не изюбр и не медведь, то, вероятно, тигр. Но у Дерсу на этот счёт были свои соображения. — Рыба говори, камень стреляй, тебе, капитан, в тумане худо посмотри, ночью какой-то худой люди ходи… Моя думай, в этом месте черт живи. Другой раз тут моя спи не хочу! Часов в девять утра мы снялись с бивака и пошли вверх по реке Билимбее. Погода не изменилась к лучшему. Деревья словно плакали: с ветвей их на землю всё время падали крупные капли; даже стволы были мокрые. Чем дальше, тем долина становилась всё уже и уже. На пути нам повстречалось несколько пустых зверовых фанз. В них я увидел только то, что заметил бы и всякий другой наблюдатель, но Дерсу увидел ещё многое другое. Так, например, осматривая кожи, он сказал, что у человека нож был тупой и что он, когда резал их, то за один край держал зубами. Беличья шкурка, брошенная звероловами, рассказала ему, что животное было задавлено бревном. В третьем месте Дерсу увидел, что в фанзе было много мышей и хозяин вёл немилосердную войну с ними, и т. д. Мы немного задержались в последней фанзе и к полудню достигли верховьев реки. Тропа давно кончилась, и мы шли некоторое время целиною, часто переходя с одного берега реки на другой. По мере приближения к Сихотэ-Алиню лес становился гуще и больше был завален колодником. Дуб, тополь и липа остались позади, и место чёрной берёзы заняла белая. Под ногами появились мхи, на которых обильно произрастали плаун (Lycopodium odscurum Thund.), папоротник (Athyrium spinulosum[226] Milde), мелкая лесная осока (Carex pilosa Scop.) и заячья кислица (Oxalis acetosella L.). В верховьях река Билимбее разбивается на две речки. Если пойти по правой, то можно перевалить на реку Кулумбе (верхний приток Имана), если же идти по левой (к северо-западу), то выйдешь в один из верхних притоков реки Арму. Мы пошли по правой речке, которая скоро привела нас к подножию Сихотэ-Алиня. Теперь Билимбее имела вид горного ручья, с руслом, заваленным большими камнями. Вода маленькими струйками сбегала по ним вниз, пряталась в траве и вдруг, неожиданно, вновь появлялась где-нибудь в стороне около бурелома. Подъём на перевал со стороны моря довольно крутой. В этих местах гребень Сихотэ-Алиня голый. Не без труда взобрались мы на хребет. Я хотел остановиться здесь и осмотреться, но за туманом ничего не было видно. Дав отдохнуть мулам, мы тронулись дальше. Редкий замшистый хвойный лес, заросли багульника и густой ковёр мхов покрывают западные склоны Сихотэ-Алиня. Спустившись немного с водораздела, мы стали биваком у первого же попавшегося ручья… К вечеру погода не изменилась, земля по-прежнему, словно саваном, была покрыта густым туманом. Этот туман с изморосью начинал надоедать. Идти по лесу в такую погоду всё равно что во время дождя. Каждый куст, каждое дерево, которые нечаянно задеваешь плечом, обдают тысячами крупных капель. После ужина, протерев ружья, стрелки сейчас же легли спать. Я хотел было заняться съёмками, но работа у меня как-то не клеилась. Я завернулся в бурку, лёг к огню и тоже уснул. Следующий день был посвящён осмотру западных склонов Сихотэ-Алиня. Здесь нет настоящих горных ручьёв. Вода бесшумно просачивается под мхом. Речки текут спокойно среди невысоких берегов, заросших елью, пихтой, лиственницей и ольхою. Я хотел спуститься по реке Кулумбе до того места, где в прошлом году нашёл удэгейцев, но Дерсу и Чжан Бао не советовали уходить далеко от водораздела. Они говорили, что надо ждать сильных дождей, и в подтверждение своих слов указывали на небо. Теперь туман поднялся выше и имел вид дождевых туч. Оба мои проводника объяснили мне, что, если во время штиля туман вдруг перестаёт моросить и начинает подниматься кверху и если при этом раскатистое эхо исчезает, надо ждать весьма сильного дождя. Действительно, все эти дни земля точно старалась покрыться туманом, спрятаться от чего-то угрожающего, и вдруг туман изменил ей и, как бы войдя в соглашение с небом, отошёл в сторону, предоставляя небесным стихиям разделаться с землёю по своему усмотрению. Чжан Бао советовал вернуться назад на Билимбее и постараться дойти до зверовых фанз. Совет его был весьма резонным, и потому мы в тот же день пошли обратно. Ещё утром на перевале красовалось облако тумана. Теперь вместо него через хребет ползли тяжёлые тучи. Дерсу и Чжан Бао шли впереди. Они часто поглядывали на небо и о чём-то говорили между собой. По опыту я знал, что Дерсу редко ошибается и если он беспокоится, то, значит, тому есть серьёзные основания. Часа в четыре дня мы дошли до первой зверовой фанзы. Вдруг опять появился туман, и такой густой, что казалось, чтобы пройти сквозь него, нужно употребить усилие. Дерсу выстрелил в воздух. Гулкое эхо с перекатами разнеслось по лесу. После этого я совсем запутался в метеорологии и попросил у Дерсу объяснений. Он остался доволен. По его словам выходило, что повторное появление тумана с изморосью и гулкое эхо указывали на то, что дождь отодвигается по крайней мере до рассвета. Значит, можно идти дальше. Мы пошли скорее и к сумеркам добрались до второй фанзы. Она была уютнее и больше размерами. В несколько минут фанза была приведена в жилой вид. Разбросанное имущество мы сложили в один угол, подмели пол и затопили печь. Вследствие тумана, а может быть и оттого, что печь давно уже не топилась, в трубе не было тяги, и вся фанза наполнилась дымом. Пришлось прогревать печь горячими углями. Только вечером, когда было уже совсем темно, тяга установилась и каны стали нагреваться. Стрелки развели снаружи большой костёр, варили чай и что-то со смехом рассказывали друг другу. У другого огня сидели Дерсу и Чжан Бао. Оба они молчали и курили трубки. Посоветовавшись с ними, я решил, что, если завтра большого дождя не будет, пойдём дальше. Надо было во что бы то ни стало пройти «щеки», иначе, если станет прибывать вода в реке, мы будем вынуждены совершить большое обходное движение через скалистые сопки Онку Чжугдыни, что по-удэгейски значит «чёртово жилище». Ночь прошла благополучно. Было ещё темно, когда всех нас разбудил Чжан Бао. Этот человек без часов ухитрялся точно угадывать время. Спешно мы напились чаю и, не дожидаясь восхода солнца, тронулись в путь. Судя по времени, солнце давно взошло, но небо было серое и пасмурное. Горы тоже были окутаны не то туманом, не то дождевой пылью. Скоро начал накрапывать дождь, а вслед за тем к шуму дождя стал примешиваться ещё какой-то шум. Это был ветер. — Начинай есть, — сказал Дерсу, указывая на небо. Действительно, сквозь разорвавшуюся завесу тумана совершенно явственно обозначилось движение облаков. Они быстро бежали к северо-западу. Мы очень скоро вымокли до последней нитки. Теперь нам было всё равно. Дождь не мог явиться помехой. Чтобы не обходить утёсы, мы спустились в реку и пошли по галечниковой отмели. Все были в бодром настроении, стрелки смеялись и толкали друг друга в воду. Наконец в три часа дня мы прошли теснины. Опасные места остались позади. В лесу мы не страдали от ветра, но каждый раз, как только выходили на реку, начинали зябнуть. В пять часов пополудни мы дошли до четвёртой зверовой фанзы. Она была построена на берегу небольшой протоки с левой стороны реки. Перейдя реку вброд, мы стали устраиваться на ночь. Развьючив мулов, стрелки принялись таскать дрова и приводить фанзу в жилой вид. Кому приходилось странствовать по тайге, тот знает, что значит во время непогоды найти зверовую фанзу. Во-первых, не надо заготовлять много дров, а во-вторых, фанза всё же теплее, суше и надёжнее, чем палатка. Пока стрелки возились около фанзы, я вместе с Чжан Бао поднялся на ближайшую сопку. Оттуда сверху можно было видеть, что делалось в долине реки Билимбее. Сильный, порывистый ветер клубами гнал с моря туман. Точно гигантские волны, катился он по земле и смешивался в горах с дождевыми тучами. В сумерки мы возвратились назад. В фанзе уже горел огонь. Я лёг на кан, но долго не мог уснуть. Дождь хлестал по окнам; вверху, должно быть на крыше, хлопало корьё; где-то завывал ветер, и не разберёшь, шумел ли то дождь или стонали озябшие кусты и деревья. Буря бушевала всю ночь. Наутро, 10 августа, я проснулся от сильного шума. Не надо было выходить из фанзы, чтобы понять, в чём дело. Дождь лил как из ведра. Сильные порывы ветра потрясали фанзу до основания. Я спешно оделся и вышел наружу. В природе творилось что-то невероятное. И дождь, и туман, и тучи — все это перемешалось между собою. Огромные кедры качались из стороны в сторону, сердито шумели и словно жаловались на свою судьбу. На берегу реки я заметил Дерсу. Он ходил и внимательно смотрел на воду. — Ты что делаешь? — спросил я его. — Камни смотрю, вода прибавляй, — отвечал он и стал ругать тех, кто построил фанзу так близко от реки. Тут только я обратил внимание, что фанза действительно стояла на низком берегу и в случае наводнения могла быть затоплена. Около полудня Дерсу и Чжан Бао, поговорив о чём-то между собою, пошли в лес. Накинув на себя дождевик, я пошёл следом за ними и увидел их около той сопки, на которую подымался накануне. Они таскали дрова и складывали их в кучу. Меня удивило, почему они складывают их так далеко от фанзы. Я не стал мешать им и поднялся на горку. Напрасно я рассчитывал увидеть долину Билимбее: я ничего не видел, кроме дождя и тумана. Полосы дождя, точно волны, двигались по воздуху и проходили сквозь лес. Вслед за моментами затишья буря как будто хотела наверстать потерянное и неистовствовала ещё больше. Измокший и озябший, я возвратился в фанзу и послал Сабитова к Дерсу за дровами. Он возвратился и доложил, что Дерсу и Чжан Бао дров не дают. Зная, что Дерсу никогда ничего не делает зря, я пошёл вместе со стрелками собирать дрова вверх по протоке. Часа через два возвратились в фанзу Дерсу и Чжан Бао. На них не было сухой нитки. Они разделись и стали сушиться у огня. Перед сумерками я ещё раз сходил посмотреть на воду. Она прибывала медленно, и, по-видимому, до утра не было опасений, что река выйдет из берегов. Тем не менее я приказал уложить все имущество и заседлать мулов. Дерсу одобрил эту меру предосторожности. Вечером, когда стемнело, с сильным шумом хлынул страшный ливень. Стало жутко. Вдруг в фанзе на мгновение всё осветилось. Сверкнула яркая молния, и вслед за тем послышался резкий удар грома. Гулким эхом он широко прокатился по всему небу. Мулы стали рваться на привязи, собаки подняли вой. Дерсу не спал, он лежал на кане и прислушивался к тому, что происходило снаружи. Чжан Бао сидел у дверей и время от времени перебрасывался с ним короткими фразами. Я что-то сказал, но Чжан Бао сделал мне знак молчать. Затаив дыхание, я стал тоже слушать. Ухо моё уловило за стеной слабый звук, похожий на журчанье. Дерсу вскочил со своего места и быстро выбежал из фанзы. Через минуту он вернулся и сообщил, что надо скорее будить людей, так как река вышла из берегов и вода кругом обходит фанзу. Стрелки вскочили и быстро стали одеваться. При этом Туртыгин и Калиновский перепутали обувь и начали смеяться. — Чего смеётесь? — закричал сердито Дерсу. — Скоро будете плакать. Пока мы обувались, вода успела просочиться сквозь стену и залила очаг. Угли в нём зашипели и погасли. Чжан Бао зажёг смольё. При свете его мы собрали свои постели и пошли к мулам. Они стояли уже по колено в воде и испуганно озирались по сторонам. При свете бересты и смолья мы стали вьючить мулов, — и было пора. За фанзой вода успела уже промыть глубокую протоку, и опоздай мы ещё немного, не переправились бы вовсе. Дерсу и Чжан Бао куда-то убежали, и я, признаться, испугался изрядно. Приказав людям держаться ближе друг к другу, я направился к той горке, на которую взбирался днём. Тьма, ветер и дождь встретили нас сразу, как только мы завернули за угол фанзы. Ливень хлестал по лицу и не позволял открыть глаз. Не было видно ни зги. В абсолютной тьме казалось, будто вместе с ветром неслись в бездну деревья, сопки и вода в реке, и всё это вместе с дождём образовало одну сплошную, с чудовищной быстротой движущуюся массу. Среди стрелков произошло замешательство. В это время я увидел впереди небольшой костёр и догадался, что его разложили Дерсу и Чжан Бао. За фанзой образовалась глубокая протока. Я велел стрелкам держаться за мулов со стороны, противоположной течению. До костра было не больше полутораста шагов, но, чтобы пройти их, потребовалось много времени. В темноте мы залезли в бурелом, запутались в кустах, потом опять попали в воду. Она быстро бежала вниз по долине, из чего я заключил, что к утру, вероятно, будет затоплен весь лес. Наконец мы добрались до сопки. Тут только я увидел, до какой степени были предусмотрительны Дерсу и Чжан Бао. Теперь только мне стало ясно, зачем они собирали дрова. На жердях были укреплены два куска кедрового корья. Под этой-то защитой они и развели огонь. Не теряя времени, мы стали ставить палатку. Высокая скала, у подножия которой мы расположились, защищала нас от ветра. О сне нечего было и думать. Долго мы сидели у огня и сушились, а погода бушевала все неистовее, шум реки становился всё сильнее. Наконец стало светать. При дневном свете мы не узнали того места, где была фанза; от неё не осталось и следа. Весь лес был в воде; вода подходила уже к нашему биваку, и пора было позаботиться перенести его выше. С одного слова люди поняли, что надо делать. Одни принялись переносить палатки, другие — рубить хвою и устилать ею сырую землю. Дерсу и Чжан Бао опять принялись таскать дрова. Перенос бивака и заготовка дров длились часа полтора. В это время дождь как будто немного стих. Но это был только небольшой перерыв. Опять появился густой туман; он быстро поднялся кверху, и вслед за тем снова хлынул сильнейший ливень. Такого дождя я не помню ни до, ни после этого. Ближайшие горы и лес скрылись за стеной воды. Мы снова забились в палатки. Вдруг раздались крики. Опасность появилась с той стороны, откуда мы её вовсе не ожидали. По ущелью, при устье которого мы расположились, шла вода. На наше счастье, одна сторона распадка была глубже. Вода устремилась туда и очень скоро промыла глубокую рытвину. Мы с Чжан Бао защищали огонь от дождя, а Дерсу и стрелки боролись с водой. Никто не думал о том, чтобы обсушиться, — хорошо, если удавалось согреться. Порой сквозь туман было видно тёмное небо, покрытое тучами. Они шли совсем не в ту сторону, куда дул ветер, а к юго-западу. — Худо, — говорил Дерсу, — скоро кончай нету. По его словам, такой же тайфун был в 1895 году. Наводнение застало его на реке Даубихе, около урочища Анучино. Тогда на маленькой лодочке он спас заведующего почтово-телеграфной конторой, двух солдаток с детьми и четырёх китайцев. Два дня и две ночи он разъезжал на оморочке и снимал людей с крыш домов и с деревьев. Сделав это доброе дело, Дерсу ушёл из Анучина, не дожидаясь полного спада воды. Его потом хотели наградить, но никак не могли разыскать в тайге. Перед сумерками мы все ещё раз сбегали за дровами, дабы обеспечить себя на ночь. Утром 12 августа, на рассвете, подул сильный северо-восточный ветер, но скоро стих. Дождь лил по-прежнему без перерыва. Все страшно измучились и от усталости еле стояли на ногах. То надо было держать палатку, чтобы её не сорвало ветром, то укрывать огонь, то таскать дрова. Ручей, бегущий по ущелью, доставлял нам немало хлопот. Вода часто прорывалась к палаткам; надо было устраивать плотины и отводить её в сторону. Намокшие дрова горели плохо и сильно дымили. От бессонницы и от дыма у всех болели глаза. Ощущение было такое, как будто в них насыпали песок. Несчастные собаки лежали под скалой и не подымали голов. На реку было страшно смотреть. От быстро бегущей воды кружилась голова. Казалось, что берег с такой же быстротой двигался в противоположную сторону. Вся долина от гор и до гор была залита водою. Русло реки определялось только стремительным течением. По воде плыл мелкий мусор и крупные коряжины; они словно спасались бегством от того ничем не поправимого несчастья, которое случилось там, где-то в горах. Подмытые в корнях лесные великаны падали в реку, увлекая за собою глыбы земли и растущий на ней молодняк. Тотчас этот бурелом подхватывался водою и уносился дальше. Словно разъярённый зверь, река металась в своих берегах. Бешеными прыжками стремилась вода по долине. Там, где её задерживал плавник, образовывались клубы жёлтой пены. По лужам прыгали пузыри. Они плыли по ветру, лопались и появлялись вновь. Миновал ещё один день. Вечером дождь пошёл с новой силой. Вместе с тем усилился и ветер. Эту ночь мы провели в состоянии какой-то полудремоты. Один подымался, а другие валились с ног. Природа словно хотела показать, до какой степени она способна обессилить человека в борьбе со стихиями. Так прошла четвёртая бурная ночь. На рассвете то же, что и вчера. Невозможно разобрать, отчего происходит такой шум: от ветра, от дождя или от воды в реке. Часов в девять утра ветер переменился ещё раз и подул с юго-востока. Стрелки забились в палатки и, прикрывшись шинелями, лежали неподвижно. У огня оставались только Дерсу и Чжан Бао, но и они, видимо, начали уставать. Что же касается меня, то я чувствовал себя совершенно разбитым. Мне не хотелось ни есть, ни пить, ни спать, — мне просто хотелось лежать, не шевелиться. Около полудня небо как будто просветлело, но дождь не уменьшался. Вдруг появились короткие, но сильные вихри. После каждого такого порыва наступал штиль. Вихри эти становились реже, но зато каждый последующий был сильнее предыдущего. — Скоро кончай, — сказал Дерсу. Слова старика сразу согнали с людей апатию. Все оживились, поднялись на ноги. Дождь утратил постоянство и шёл порывами, переходя то в ливень, то в изморось. Это вносило уже некоторое разнообразие и давало надежду на перемену погоды. В сумерки он начал заметно стихать и вечером прекратился совсем. Мало-помалу небо стало очищаться, кое-где проглянули звезды. С каким удовольствием мы обсушились, напились чаю и легли на сухую подстилку! Это был настоящий отдых.
Глава шестая Возвращение к морю

Переправа через реку Билимбее. — Встреча с А. И. Мерзляковым. — Доставка продовольствия китайцами. — Устье реки Билимбее. — Олений хвост. — Птицы. — Тигр, убитый Дерсу. — Свечение моря
На следующий день мы проснулись поздно. Сквозь прорывы в облаках виднелось солнце. Оно пряталось в тучах, точно не желало смотреть на землю и видеть, что натворила вчерашняя буря. Всюду мутная вода шумящими каскадами сбегала с гор; листва на деревьях и трава на земле ещё не успели обсохнуть и блестели, как лакированные; в каплях воды отражалось солнце и переливалось всеми цветами радуги. Природа снова возвращалась к жизни. Тучи ушли к востоку. Теперь буря свирепствовала где-нибудь у берегов Японии или южной оконечности острова Сахалин. Весь этот день мы простояли на месте: сушили имущество и отдыхали. Человек скоро забывает невзгоды. Стрелки стали смеяться и подтрунивать друг над другом. Вечерняя заря была багрово-красная и сумерки длинные. В этот день мы улеглись спать рано. Нужно было отоспаться и за прошедшее и на будущее. Следующий день был 15 августа. Все поднялись рано, с зарёй. На восточном горизонте тёмной полосой все ещё лежали тучи. По моим расчётам, А. И. Мерзляков с другой частью отряда не мог уйти далеко. Наводнение должно было задержать его где-нибудь около реки Билимбее. Для того чтобы соединиться с ним, следовало переправиться на правый берег реки. Сделать это надо было как можно скорей, потому что ниже в реке воды будет больше и переправа труднее. Для исполнения этого плана мы пошли сначала вниз по долине, но вскоре должны были остановиться: река подмывала скалы. Вода нанесла сюда много бурелома и сложила его в большую плотину. По ту сторону виднелся небольшой холмик, не покрытый водою. Надо было обследовать это место. Первым перешёл Чжан Бао. По пояс в воде, с палкой в руках он бродил около противоположного берега и ощупывал дно. Исследования показали, что река здесь разбивается на два рукава, находящиеся один от другого в расстоянии тридцати метров. Второй рукав был шире и глубже первого и не был занесён плавником. Шестом достать дна нельзя было, потому что течение относило его в сторону. Дерсу и Чжан Бао принялись рубить большой тополь. Скоро на помощь им пришли стрелки с поперечной пилою. Стоя больше чем по колено в воде, они работали очень усердно. Минут через пятнадцать дерево затрещало и с грохотом упало в воду. Комель тополя сначала было подался вниз по течению, но вскоре за что-то зацепился, и дерево осталось на месте. По этому мосту мы перешли через вторую протоку. Оставалось пройти затопленным лесом ещё метров пятьдесят. Убедившись, что больше проток нет, мы вернулись назад. Люди перейдут, имущество и седла тоже можно перенести, но как быть с мулами? Если их пустить вплавь, то силой течения их снесёт под бурелом раньше, чем они достигнут противоположного берега. Тогда решено было переправить их на верёвке. Выбрав самый крепкий недоуздок, мы привязали к нему верёвку и перетащили конец её через завалы. Когда всё было готово, первого мула осторожно спустили в реку. В мутной воде он оступился и окунулся с головой. Сильное течение тотчас подхватило его и понесло к завалу. Вода пошла через голову мула. Бедное животное оскалило зубы и начало задыхаться. В этот момент его подтащили к берегу. Первый опыт был не совсем удачен. Тогда мы выбрали другое место, где спуск в реку был пологий. Тут дело попело успешнее. Немало трудностей доставил нам переход по затопленному лесу. В наносной илистой почве мулы вязли, падали и выбивались из сил. Только к сумеркам нам удалось подойти к горам с правой стороны долины. Вьючные животные страшно измучились, но ещё больше устали люди. К усталости присоединился озноб, и мы долго не могли согреться. Но самое главное было сделано: мы переправились через реку. Когда стемнело, пошёл опять дождь, мелкий и частый. Всю ночь моросило. От места нашей переправы через реку Билимбее до моря оставалось ещё километров сорок. Это расстояние мы прошли в два дня (16 и 17августа) без всяких приключений. Как и надо было ожидать, чем ниже, тем воды в реке было больше. В тех местах, где маленькие распадки выходили в долину, около устья их была нагромождена масса песку и глины. Завалы эти надо исчислять тысячами тонн. И все это образовалось в течение каких-нибудь трёх суток. Кое-где вода промыла глубокие овраги, по сторонам их произошли огромные оползни, но от обвалившейся земли не осталось и следа — бешеный поток все унёс и разметал по долине. Маленькие, ничтожные ручейки превратились теперь в бурные многоводные потоки, переправа через которые отняла у нас много времени. Волей-неволей пришлось придерживаться возвышенного края долины, следуя всем её изгибам. По мере того как мы приближались к морю, лес становился хуже и однообразнее. Иногда встречались группами берёза и лиственница, клён, липа и дуб дровяного характера. Около реки на галечниковых наносах в изобилии растут: корзиночная ива (Salix viminalis L.) и пирамидальная ива (Salix acutifolia Willd.), из ствола которой туземцы выдалбливают челноки. Среди ивняков на затопляемой гальке мы видим особое сообщество растений. Чаще всего (и в данном случае) здесь можно видеть довольно высокую охотскую хохлатку (Corydalis ochotensis Turcz.) с мелкими жёлтыми цветами, нежные розовые цветы донтостемона (Dontostemon hispidus Maxim.), у которого и стебель и верхние листья покрыты тонким пушком, и цепляющийся за ивняки Schizopepon bryoniifolius Maxim, с выемчатыми сердцевидными листьями; затем звездчатку водяную (Stellaria aquatica Scop.) с характерными для неё бледною листвою и узловатым стебельком и пышный белокопытник (Petasites palmata Asa Gray.), образующий большие заросли громадных жирных листьев, напоминающих лопасти рогов сохатого (Alces palmatus Pal.). Недолго нас баловала хорошая погода. Вечером 16 августа опять появился туман и опять качало моросить. Эта изморось продолжалась всю ночь и весь следующий день. Мы шли целый день чуть ли не по колено в воде. Наконец начало темнеть, и я уже терял надежду дойти сегодня до устья реки Билимбее, как вдруг услышал шум моря. Оказалось, что в тумане мы внезапно вышли на берег и заметили это только тогда, когда у ног своих увидели окатанную гальку и белую пену прибойных волн. Я хотел было идти налево, но Дерсу советовал повернуть направо. Свои соображения он основал на том, что видел на песке человеческие следы. Они шли от реки Шакиры к реке Билимбее и обратно. Поэтому гольд и заключил, что бивак А. И. Мерзлякова был в правой стороне. Я сделал два выстрела в воздух, и тотчас же со стороны реки Шакиры последовал ответ. Через несколько минут мы были у своих. Начались обоюдные расспросы: с кем что случилось и кто что видел. Вечером мы долго сидели у костра и делились впечатлениями. Странно устроен человек… Бивак этот ничем не отличался от других биваков. Так же он был под открытым небом, так же около односкатной палатки горел костёр, так же кругом было мокро и сыро, но тем не менее все чувствовали себя так, как будто вернулись домой. Часов в девять вечера прошёл короткий, но сильный дождь, после которого туман сразу исчез, и мы увидели красивое звёздное небо. И это небо, по которому широкою полосою протянулся Млечный Путь, и тёмный океан, в котором разом отражались все светила небесные, одинаково казались беспредельно глубокими. Ночью было холодно. Стрелки часто вставали и грелись у огня. На рассвете термометр показывал 7°С. Когда солнышко пригрело землю, все снова уснули и проспали до девяти часов утра. Переправляться через реку Билимбее, пока не спадёт вода, нечего было и думать. Нет худа без добра. Мы все нуждались в отдыхе: мулы имели измученный вид; надо было починить одежду и обувь, исправить седла, почистить ружья. Кроме того, у нас начали иссякать запасы продовольствия. Я решил заняться охотой и послал двух стрелков на реку Адимил за покупками. За последние пять дней я запустил свою работу, и нужно было заполнить пробелы. Стрелки Сабитов и Аринин стали собираться в дорогу, а я отправился на реку Билимбее, чтобы посмотреть, насколько спала вода за ночь. Не успел я отойти и ста шагов, как меня окликнули. Я возвратился назад и увидел подходящих к биваку двух китайцев с вьючными конями. Это были рабочие из фанзы Дун-Тавайза, куда я хотел посылать за продовольствием. Китайцы сказали, что хозяева их, зная, что перейти теперь через Билимбее нам не удастся, решили послать четыре кулька муки, 10 килограммов свиного сала, 16 килограммов рису, 4 килограмма бобового масла, 4 килограмма сахару и плитку кирпичного чаю. При этом они заявили, что им воспрещено брать с нас деньги. Я был тронут таким вниманием китайцев и предложил им подарки, но они отказались их принять. Китайцы остались у нас ночевать. От них я узнал, что большое наводнение было на реке Иодзыхе, где утонуло несколько человек. На реке Санхобе снесло водой несколько фанз; с людьми несчастий не было, но зато там погибло много лошадей и рогатого скота. На другой день китайцы, уходя, сказали, что если у нас опять не хватит продовольствия, то чтобы присылали к ним без стеснения. Отпустив их, мы с А. И. Мерзляковым пошли к устью реки Билимбее. Море имело необыкновенный вид: на расстоянии двух или трёх километров от берега оно было грязно-жёлтого цвета, и по всему этому пространству плавало множество буреломного леса. Издали этот плавник казался лодками, парусами, шаландами и т. д. Некоторые деревья были ещё с зелёною листвою. Как только переменился ветер, плавник погнало обратно к берегу. Море стало выбрасывать назад все лишнее, все мёртвое и всё, что чуждо было его свободной и живой стихии. Устье реки Билимбее находится около горы Железняк (460 метров), состоящей из кварцевого порфирита, прорезанного в разных местах жилами глубинной зеленокаменной породы, дающей при разрушении охристо-жёлтый древесняк. Недалеко от устья, с левой стороны реки, высится небольшая береговая терраса с основанием из мелкозернистого туфа, а с правой — расстилается заболоченная низина. Раньше здесь проходила река Билимбее. Устье её было в том месте, где теперь находится река Шакира. Со временем морским прибоем заметало старое русло; тогда река проложила себе выход в море около горы Железняк. В нижнем течении река Билимбее в малую воду имеет в ширину 25 метров. Жёлтая грязная вода шла сильной струёй, и казалось, будто и в море ещё продолжала течь Билимбее. Продукты разрушения горы в виде мелкого песка, выносимого рекою, отлагаются там, где течение пресной воды ослабляется морским прибоем. Вследствие этого около устья реки Билимбее образовалась полоса мелководья — бар, которая, как барьером, преграждает доступ к реке. С 19 по 21 августа мы простояли на месте. Стрелки по очереди ходили на охоту, и очень удачно. Они убили козулю и двух кабанов, а Дерсу убил оленя. Из голеней и берцовых костей изюбра он вынул костный жир, подогрел его немного на огне и слил в баночку. Жир этот у туземцев предназначается для смазки ружей. После кипячения он остаётся жидким и не застывает на морозе. Вечером Дерсу угостил меня оленьим хвостом. Он насадил его на палочку и стал жарить на углях, не снимая кожи. Олений хвост представляет собою небольшой мешок, внутри которого проходит тонкий стержень. Всё остальное пространство наполнено буровато-белой массой, по вкусу напоминающей не то мозги, не то печёнку. Олений хвост ценится как особое гастрономическое лакомство. Целые дни я проводил в палатке, вычерчивал маршруты, делал записи в дневниках и писал письма. В перерывах между этими занятиями я гулял поберегу моря и наблюдал птиц. Один раз из болот, заросших тростниками, я выгнал камышовку. Отлетев немного, она сейчас же опустилась в осоку, и после, сколько я ни искал её, не мог уже найти вторично. Тут яге были и кулики средней величины, с загнутыми кверху носами, должно быть, улиты; вероятно, уже началось перекочёвывание их к югу. По берегу моря, по песку, у самой воды, бегали грациозные кулички-песочники; они тоже готовились к перелёту. В море, на воде, держались нырковые утки и белые и сизые чайки. Около устья Билимбее по воздуху с быстротой молнии носились какие-то тёмные длиннокрылые птички, похожие на ласточек. Я с трудом убил одну из них. Это оказался иглохвостый стриж (Acanthillis caudacuta Lath.). Около береговых обрывов можно было усмотреть каменных дроздов с тёмно-бурой окраской, с белыми крапинками на спине. Они весьма подходили под цвет окружающей обстановки и ловко прятались в камнях. В ручьях, среди кустарников и в ямах с водою около реки держались чирки-клоктуны[227] (Nettion formosus Georgi.). Эти доверчивые и смирные уточки при приближении человека не выказывали испуга и не улетали прочь, а старались лишь немного отплыть в сторону, точно так, как это делают домашние утки. Вечером мы с Дерсу долго разговаривали об охоте, о зверях, о лесных пожарах и т. д. У него были интересные и тонкие наблюдения. Так, по его словам, Лет двадцать тому назад две зимы подряд тигры двигались от запада к востоку. Заметил это не он один, а также и другие охотники. Все тигровые следы шли в этом направлении. По его мнению, это был массовый переход тигров из Сунгарийского края в Сихотэ-Алинь. Затем он припомнил, что в 1886 году был общий падеж зверя. Летом гибли пятнистые олени, потом стали падать изюбры, а зимой — кабаны. Раньше я несколько раз пытался расспрашивать Дерсу, при каких обстоятельствах он убил тигра, но гольд упорно отмалчивался или старался перевести разговор на другую тему, но сегодня мне удалось выпытать от него, как это случилось. Дело было на реке Фудзине, в мае месяце. Дерсу шёл по долине среди дубового редколесья. При нём была маленькая собачонка. Сначала она весело бежала вперёд, но потом стала выказывать признаки беспокойства. Не видя ничего подозрительного, Дерсу решил, что собака боится медвежьего следа, и без опаски пошёл дальше. Но собака не унималась и жалась к нему так, что положительно мешала идти. Оказалось, что поблизости был тигр. Увидев человека, он спрятался за дерево. По совершенной случайности вышло так, что Дерсу направлялся именно к тому же дереву. Чем ближе подходил человек, тем больше прятался тигр; он совсем сжался в комок. Не замечая опасности, Дерсу толкнул собаку ногой, но в это время выскочил тигр. Сделав большой прыжок в сторону, он начал бить себя хвостом и яростно реветь. — Что ревёшь? — закричал ему Дерсу. — Моя тебя трогай нету. Зачем сердишься? Тогда тигр отпрыгнул на несколько шагов и остановился, продолжая реветь. Гольд опять закричал ему, чтобы он уходил прочь. Тигр сделал ещё несколько прыжков и снова заревел. Видя, что страшный зверь не хочет уходить, Дерсу крикнул ему: — Ну, хорошо! Тебе ходи не хочу — моя стреляй, тогда виноват не буду. Он поднял ружьё и стал целиться, но в это время тигр перестал реветь и шагом пошёл на увал в кусты. Надо было воздержаться от выстрела, но Дерсу не сделал этого. В тот момент, когда тигр был на вершине увала, Дерсу спустил курок. Тигр бросился в заросли. После этого Дерсу продолжал свой путь. Дня через четыре ему случилось возвращаться той же дорогой. Проходя около увала, он увидел на дереве трёх ворон, из которых одна чистила нос о ветку. «Неужели я убил тигра?!» — мелькнуло у него в голове. Едва он перешёл на другую сторону увала, как наткнулся на мёртвого зверя. Весь бок у него был в червях. Дерсу сильно испугался. Ведь тигр уходил, зачем он стрелял? Дерсу убежал. С той поры мысль, что он напрасно убил тигра, не давала ему покоя. Она преследовала его повсюду. Ему казалось, что рано или поздно, а он поплатится за это и даже по ту сторону смерти должен дать ответ. — Моя теперь шибко боится, — закончил он свой рассказ. Раньше моя постоянно один ходи, ничего бойся нету, а теперь чего-чего посмотри — думай, след посмотри думай, один тайга спи — думай… Он замолчал и сосредоточенно стал смотреть на огонь. Ночь была тёплая и тихая. Иногда сквозь облака на мгновение выглядывала луна, но хмурые тучи стремились заслонить её, точно они не хотели, чтобы она светила на землю. Сонный воздух, наполненный запахом багульника, был неподвижен. Где-то звонко капала вода и стрекотали кузнечики. Дня через два вода в реке начала спадать, и можно было попытаться переправиться на другую её сторону. Буреломный лес хотя и продолжал ещё плыть, но не уносился в море, а застревал на баре. Приказ выступать назавтра обрадовал моих спутников. Все стали суетиться, разбирать имущество и укладывать его по местам. После бури атмосфера пришла в равновесие и во всей природе воцарилось спокойствие. Особенно тихими были вечера. Ночи стали прохладными. На следующий день, когда я проснулся, солнце было уже высоко. Мои спутники напились чая и ждали только меня. Быстро я собрал свою постель, взял в карман кусок хлеба и, пока солдаты вьючили мулов, пошёл вместе с Дерсу, Чжан Бао и А. И. Мерзляковым к реке Билимбее. Собаки тотчас переплыли на другую сторону, но, видя, что мы не переходим, вернулись обратно. Надо было поискать брод. С той и с другой стороны тянулись отмели. Одна из них была выше по течению, а другая ниже. Очевидно, брод шёл наискось. Вода в реке стояла ещё довольно высоко, и течение было быстрое. Положим, что лошади и люди могли бы переплыть, но как перетащить грузы? Оставалось только одно средство — сделать плот и на нём переправиться. Эта работа отняла у нас почти целый день. Часов в семь вечера мы закончили переправу, основательно устав и промокнув. Мулы, напуганные во время наводнения, сначала не хотели идти в воду. Дьяков переплыл с одним из них, и тогда остальные без всяких заминок пошли сзади. На другом берегу высилась большая терраса. Тут мы и остановились. Когда на западе угасли последние отблески вечерней зари и все кругом погрузилось в ночной мрак, мы могли наблюдать весьма интересное явление из области электрометеорологии: свечение моря и в то же время исключительную яркость Млечного Пути. Море было тихое. Нигде ни единого всплеска. И вся обширная гладь воды как-то тускло светилась. Иногда вдруг разом вспыхивало все море, точно молния пробегала по всему океану. Вспышки эти исчезали в одном месте, появлялись в другом и замирали где-то на горизонте. На небе было так много звёзд, что оно казалось одною сплошною туманностью; из всей этой массы особенно явственно выделялся Млечный Путь. Играла ли тут роль прозрачность воздуха или действительно существовала какая-нибудь связь между этими двумя явлениями боюсь сказать. Мы долго не ложились спать и любовались то на небо, то на море. На другое утро караульные сообщили мне, что свечение морской воды длилось всю ночь и прекратилось только перед рассветом.
Глава седьмая Экскурсия на Сяо-Кему

Мелкие речки, текущие в море. — Кости оленей. — Комета. — Что такое солнце? Река Конор. — Староверы. — Непогода. — Река Сакхома. — Недоразумение с условными знаками. — Река Угрюмая. — Горы в истоках реки Горелой. — Звезды. — Суеверие дикаря и образованного человека. — Красные волки. — Возвращение.
Двадцать четвёртого августа мы распрощались с рекой Билимбее и пошли вдоль берега моря. Продолжением берегового хребта, отделяющего реку Фату и реку Бейцу (притоки Санхобе) от моря, будет гора Узловая. Далее, на север, за ней в море впадают следующие речки: Кольгатео (по-удэгейски Куалигаса), Хаома (Хома), Сюригчи (Сюликси), Гицироза, Вязтыгни, Ойонктого (по-китайски — Куандал и по-удэгейски — Куанда), Ада, Чуркан (по-китайски — Чаан-уоза и по-удэгейски — Анкуга) и Конор. На этом протяжении в обнажениях на берегу моря встречаются слюдистые сланцы, известковые и глинистые песчаники, окрашенные окисью железа, затем известняки, сланцевая глина, мелафиры, базальты и андезиты. Гора Железняк падает к морю обрывистыми утёсами, у подножия которых тянется узкая, местами совсем исчезающая полоса прибоя. Во время волнения идти здесь совсем нельзя. Около реки Кольгатео есть скала, удивительно похожая на голову человека. Удэгейцы называют её Кадани, то есть каменный человек. По их преданию, это был великан. Один раз он вошёл в воду и стал кричать, что никого не боится. В этот момент властитель морей — Тэму — превратил его в камень. От тяжести он стал увязать в земле и опускаться всё ниже и ниже. Лет пятьдесят тому назад ещё были видны его плечи, а теперь над водной поверхностью осталась только одна голова. Иногда великан шевелится: тогда содрогаются и стонут прибрежные сопки. От устья реки Билимбее до Конора двенадцать километров по прямой линии. В этот день, несмотря на хорошую погоду, нам удалось пройти немного. На бивак мы стали около небольшой речки Сюригчи. Нижняя часть её заболочена, а верхняя покрыта гарью. Здесь был когда-то хороший лес. Недавнее наводнение размыло оба берега речки. Невдалеке от бивака Дьяков нашёл скелеты двух оленей, спутавшихся рогами. Я отправился по указанному направлению и вскоре действительно увидел на земле изюбровые кости. Видно было, что над уборкой трупов потрудились и птицы и хищные звери. Особенный интерес представляли головы животных. Во время драки они так сцепились рогами, что уже не могли разойтись и погибли от голода. Стрелки пробовали разнять рога; шесть человек (по три с каждой стороны) не могли этого сделать. Можно представить себе, с какой силой бились изюбры! Очевидно, при ударе рога раздались и приняли животных в смертельные объятия. Хотя мулы наши были перегружены, тем не менее я решил дотащить эту редкую находку до первого жилого пункта и там оставить её на хранение. Ночью, перед рассветом, меня разбудил караульный и доложил, что на небе видна «звезда с хвостом». Спать мне не хотелось, и потому я охотно оделся и вышел из палатки. Чуть светало. Ночной туман исчез, и только на вершине горы Железняк держалось белое облачко. Прилив был в полном разгаре. Вода в море поднялась и затопила значительную часть берега. До восхода солнца было ещё далеко, но звезды стали уже меркнуть. На востоке, низко над горизонтом, была видна комета. Она имела длинный хвост. Скоро проснулись остальные люди и принялись рассуждать о том, что предвещает эта небесная странница. Говорили, что земля обязана ей своим недавним наводнением, а Чжан Бао сказал, что в той стороне, куда направляется комета, будет война. Видя, что Дерсу ничего не говорит, я спросил его, что думает он об этом явлении. — Его так сам постоянно по небу ходи, людям никогда мешай нету, — отвечал гольд равнодушно. При всём своём антропоморфизме он был прав и судил о вещах так, каковы они есть на самом деле. Но вот на востоке стала разгораться заря, и комета пропала. Ночные тени в лесу исчезли; по всей земле разлился серовато-синий свет утра. И вдруг яркие солнечные лучи вырвались из-под горизонта и разом осветили все море. — Дерсу, — спросил я его, — что такое солнце? Он посмотрел на меня недоумевающе и, в свою очередь, задал вопрос: — Разве ты никогда его не видал? Посмотри! — сказал он и указал рукой на солнечный диск, который в это время поднялся над горизонтом. Все засмеялись. Дерсу остался недоволен: как можно спрашивать человека, что такое солнце, когда это самое солнце находится перед глазами? Он принял это за насмешку. Вследствие того, что мы рано встали, мы рано выступили и с бивака. Тропа по-прежнему шла по берегу моря. После реки Сюригчи на значительном протяжении идут метаморфические глинистые сланцы. Из мелких речек здесь наиболее интересна река Конор. Она длиною около 10 километров и состоит из слияния двух речек: большой Левой и меньшей Правой. Истоки реки Конор находятся в том же горном узле (горы Туманная и Дромацер), где истоки реки Забытой (приток реки Билимбее). Долина Конор большей частью болотистая, покрыта лиственным редколесьем; река маловодная, но имеет довольно быстрое течение. Около устья она разделяется на два рукава, текущие по глубоким расщелинам. По сторонам их возвышаются морские береговые террасы — как результат отрицательного движения береговой линии. Отдохнув немного на Коноре, мы снова тронулись в путь. Тут тропа оставляет берег моря и по ключику Ада поднимается в горы, затем пересекает речку Чюриги и тогда выходит в долину реки Сяо-Кемы, которая на морских картах названа Сакхомой. На Сяо-Кеме, в полутора километрах от моря, жил старообрядец Иван Бортников. Семья его состояла из него самого, его жены, двух взрослых сыновей и двух дочерей. Надо было видеть, как испугало их наше появление! Захватив детей, женщины убежали в избу и заперлись на засовы. Когда мы проходили мимо, они испуганно выглядывали в окна и тотчас прятались, как только встречались с кем-нибудь глазами. Пройдя ещё с полкилометра, мы стали биваком на берегу реки, в старой липовой роще. Сегодня весь день стояла в воздухе какая-то мгла. Она медленно сгущалась. После полудня в ней потонули дальние горы. Барометр стоял на 757 миллиметрах при +14,5°С. На западной части неба всё время держалась тёмная туча с резко очерченными краями. Характер ветра был неровный: то он становился порывистым, то спадал до полного штиля. В тот момент, когда солнце скрылось за облаками, края последних стали светиться, как будто были из расплавленного металла. Прошло несколько минут, и вдруг из-за тучи по жёлто-зелёному фону неба веером поднялись три пурпуровых луча. Явление это продолжалось не более двух минут. Затем оно начало блекнуть, и вместе с тем туча стала быстро застилать небо. Я думал, что на другой день, 26 августа, будет непогода. Но опасения мои оказались напрасными. Наутро небо очистилось, и день был совершенно ясный. Староверы Бортниковы жили зажиточно, повинностей государственных не несли, земли распахивали мало, занимались рыболовством и соболеванием и на своё пребывание здесь смотрели как на временное. Они не хотели, чтобы мы отправились в горы, и неохотно делились с нами сведениями об окрестностях. Река Сяо-Кема состоит из слияния двух рек: Горелой длиною в 15 и Сакхомы длиной в 20-25 километров. Слияние их происходит недалеко от моря. Здесь долина становится шире и по сторонам окаймляется невысокими сопками, состоящими главным образом из базальтов, с резко выраженной флюидальной структурой и листоватою сфероидальною отдельностью. Во время недавнего наводнения вода сильно размыла русло реки и всюду проложила новые протоки. Местами видно было, что она шла прямо по долине и плодородную землю занесла песком и галькой. Около устья все протоки снова собираются в одно и образуют нечто вроде длинной заводи. Сегодняшняя вечерняя заря была опять очень интересной и поражала разнообразием красок. Крайний горизонт был багровый, небосклон — оранжевый, затем жёлтый, зелёный и в зените мутно-бледный. Это была паутина перистых облаков. Мало-помалу она сгущалась и наконец превратилась в слоистые тучи. Часов в десять вечера за ней скрылись последние звезды. Началось падение барометра. Утром разбудил меня шум дождя. Одевшись, я вышел на улицу. Низко бегущие над землёй тучи, порывистый ветер и дождь живо напомнили мне бурю на реке Билимбее. За ночь барометр упал на 17 миллиметров. Ветер несколько раз менял своё направление и к вечеру превратился в настоящий шторм. В этот день работать не удалось. Палатку так сильно трепало, что, казалось, вот-вот её сорвёт ветром и унесёт в море. Часов в десять вечера непогода стала стихать. На рассвете дождь перестал и небо очистилось. 28, 29 и 30 августа были посвящены осмотру реки Сяо-Кемы. На эту экскурсию я взял с собою Дерсу, Аринина и Сабитова. Маршрут я наметил по реке Сакхоме до истоков и назад, к морю, — по реке Горелой. Стрелки с вьючным мулом должны были идти с нами до тех пор, пока будет тропа. Дальше мы идём сами с котомками, а они тою же дорогою возвращаются обратно. Часов в восемь утра мы выступили с бивака. Тропа начинается от самого дома староверов и идёт по левому берегу реки. Здесь рельеф представляется в виде холмов с длинными пологими скатами. Разбросанные по долине реки, густо поросшие орешником холмы чередуются с болотцами и каменистыми участками, лишёнными растительности. Между ними река проложила себе много проток. После недавнего дождя они все были переполнены водою. Эти пологие увалы есть не что иное, как размытые речные террасы, покрытые редколесьем из дуба, бархата, клёна, чёрной берёзы, тополя, вяза и липы в возрасте от 150 до 200 лет. Как и везде, густое подлесье в долине Сакхомы состояло из зарослей калины, таволожки и леспедецы. Среди кустарников нагнел себе приют охотский хмель (Atrangene ochotensis Pall.) с зимующим одеревенелым стеблем, повесивший на близрастущее деревце свои цепкие плети с белыми пушинками, как у одуванчика. В другом месте тонкие длинные ветви ломоноса (Clematis manshurica Rupr.) с мелкими белыми цветами совсем опутали куст шиповника. Тут же из зарослей подымала свою красивую головку пышная ятрышниковая любка (Platanthera chloran-tha Custor.), а рядом с ней — ядовитая чемерица (Veratrum album L.), которую легко узнать по плойчатым, грубым листьям и шапке белых цветов, теперь уже побуревших и засохших. По дну длинных балок, прорезывающих террасы в направлении, перпендикулярном к линии тальвега долины, текут небольшие извилистые ручейки. Около их устьев кустарники прерываются, и их места занимают тростники (Phragmites communis Trin.) и обыкновенная полынь (Artemisia vulgaris L.) сажённой высоты, оспаривающие друг у друга открытые и сухие места. Мул, которого взяли с собою Аринин и Сабитов, оказался с ленцой, вследствие чего стрелки постоянно от нас отставали. Из-за этого мы с Дерсу должны были часто останавливаться и поджидать их. На одном из привалов мы условились с ними, что в тех местах, где тропы будут разделяться, мы будем ставить сигналы. Они укажут им направление, которого надо держаться. Стрелки остались поправлять седловку, а мы пошли дальше. Река Сакхома около устья шириною 6-8 и глубиною не более 1-1 1/2 метра. Немного выше того места, где она соединяется с рекой Горелой, долина суживается. С правой стороны подымаются высокие горы, поросшие густым смешанным лесом, а слева тянутся размытые террасы с лиственным редколесьем. Здесь тропы первый раз разделились: одна пошла вверх по реке, другая куда-то вправо. Надо было поставить условленный сигнал. Дерсу взял палочку, застругал её и воткнул в землю; рядом с ней он воткнул прутик, согнул его и надломленный конец направил в ту сторону, куда надо идти. Установив сигналы, мы отправились дальше в уверенности, что стрелки поймут наши знаки и пойдут как следует. Пройдя километра два, мы остановились. Не помню, мне что-то понадобилось во вьюках. Мы стали ждать стрелков, но не дождались и пошли назад, к ним навстречу. Минут через двадцать мы были у места разветвления троп. С первого лее взгляда стало ясно, что стрелки не заметили нашего сигнала и пошли по другой дороге. Дерсу начал ругаться. — Какой народ! — говорил он в сердцах. — Так ходи, головой качай, всё равно как дети. Глаза есть — посмотри нету. Такие люди в сопках живи не могу — скоро пропади. Его удивляло не то, что Аринин и Сабитов ошиблись. Это не беда! Но как они, идя по тропе и видя, что на ней нет следов, всё-таки продолжают идти вперёд. Мало того, они столкнули оструганную палочку. Он усмотрел, что сигнал был опрокинут не копытом мула, а ногою человека. Однако разговором дела не поправишь. Я взял своё ружьё и два раза выстрелил в воздух. Через минуту откуда-то издалека послышался ответный выстрел. Тогда я выстрелил ещё два раза. После этого мы развели огонь и стали ждать. Через полчаса стрелки возвратились. Они оправдывались тем, что Дерсу поставил такие маленькие сигналы, что их легко было не заметить. Гольд не возражал и не спорил. Он понял, что то, что ясно для него, совершенно неясно для других. Напившись чаю, мы опять пошли вперёд. Уходя, я велел людям внимательно смотреть под ноги, чтобы не повторить ошибки. Часа через два мы достигли того места, где в Сакхому с правой стороны впадает река Угрюмая. Тут тропы опять разделились. Первая ведёт на перевал к реке Илимо (приток Такемы), а по второй нам следовало идти, чтобы попасть в истоки реки Горелой. Дерсу снял котомку и стал таскать бурелом. Рано делать бивак, — сказал я ему. — Пойдём дальше. — Моя дрова таскай нету. Моя дорога закрывай, — ответил он серьёзным тоном. Тогда я понял его. Стрелки бросили ему укор в том, что оставляемые им сигналы незаметны. Теперь он решил устроить такую преграду, чтобы они упёрлись в неё и остановились. Меня это очень рассмешило. Дерсу навалил на тропе множество бурелома, нарубил кустов, подрубил и согнул соседние деревья — словом, создал целую баррикаду. Завал этот подействовал. Натолкнувшись на него, Сабитов и Аринин осмотрелись и пошли как следует. Река Угрюмая течёт в широтном направлении. Узкая долина её покрыта густым хвойно-смешанным лесом. Следы разрушительного действия воды видны на каждом шагу. Лежащие на земле деревья, занесённые галькою и песком, служат запрудами, пока какое-нибудь новое большое наводнение не перенесёт их в другое место. По дороге мы несколько раз видели козуль. Я стрелял и убил одну из них. В сумерки мы дошли до верховьев реки и стали биваком. Вечером Дерсу особым способом жарил козулятину. Он выкопал в земле яму размером 40 сантиметров в кубе и в ней развёл большой огонь. Когда стенки ямы достаточно прогрелись, жар из ямы был вынут. После этого гольд взял кусок мяса, завернул его в листья подбела (Petasites palmata) и опустил в яму. Сверху он прикрыл её плоским камнем, на котором снова развёл большой огонь на полтора часа. Приготовленное таким образом мясо было удивительно вкусно. Ни в одном первоклассном ресторане не сумели бы так хорошо его зажарить: снаружи козулятина покрылась красновато-бурой плёнкой, но внутри была сочная. С той поры при каждом удобном случае мы жарили мясо именно таким способом. Отсюда на другой день стрелки Аринин и Сабитов с мулом пошли обратно, а мы с Дерсу продолжали маршрут дальше. В верховьях река Угрюмая разбивается на две речки, расходящиеся под углом градусов в тридцать. Мы пошли влево и стали взбираться на хребет, который здесь описывает большую дугу, охватывая со всех сторон истоки реки Горелой (река Угрюмая огибает его с запада). С этих гор берут начало и другие реки. На запад течёт река Сяо-Кунчи (приток Такемы), на юг — один из притоков реки Билимбее, на юго-восток — Конор. Если стоять лицом вверх по реке Горелой, а спиною к морю, то вершины, составляющие упомянутый горный хребет, располагаются справа налево в следующем порядке: гора Голиаф (960), Туманная (970), Шпиц (940), Шанц (1000), Дромадер (1060), Облачная (980) и Алмазная (900 метров). Последняя состоит из крупнозернистого кварцевого порфира. Здесь в жилах часто находили грузы горного хрусталя. Это обстоятельство, вероятно, и послужило поводом для того, чтобы окрестить её Алмазной горой. — Все окрестные сопки обезлесены пожарами; дожди смыли всю землю и оголили старые осыпи, среди которых кое-где сохранились одинокие скалы с весьма причудливыми очертаниями. Одни из них похожи на людей, другие — на колонны, третьи — на наковальни и т.д. Мы с Дерсу прошли вдоль по хребту. Отсюда сверху было видно далеко во все стороны. На юге, в глубоком распадке, светлой змейкой извивалась какая-то река; на западе в синеве тумана высилась высокая гряда Сихотэ-Алиня; на севере тоже тянулись горные хребты; на восток они шли уступами, а дальше за ними виднелось тёмно-синее море. Картина была величественная и суровая. Когда начало смеркаться, мы немного спустились с гребня хребта в сторону реки Горелой. После недавних дождей ручьи были полны водою. Очень скоро мы нашли удобное место и расположились биваком высоко над уровнем моря. С утра день был облачный, но к вечеру небо очистилось. Золотисто-розовые лучи заходящего солнца некоторое время скользили по склонам гор и взбирались всё выше и выше. Потом они оставили скалы и стали играть с облаками на небе; потом угасло и это явление: вечерняя заря стала медленно замирать. Дромадер, Шанц и Алмазная гора резко вырисовывались на светлом фоне неба и казались теперь ещё сумрачнее и выше. По мере того как пропадал свет солнца на небе, по земле разливался другой, бледно-голубой свет луны. Тени стали резче и темнее. Кругом пала обильная роса. Ночь обещала быть холодной, и потому мы постарались собрать побольше дров, благо в них здесь не было недостатка. Лёжа у костра, я любовался звёздами. Дерсу сидел против меня и прислушивался к ночным звукам. Он понимал эти звуки, понимал, что бормочет ручей и о чём шепчется ветер с засохшей травою. Мы разговаривали: говорили о небе, о луне, о звёздах. Мне интересно было узнать, как объясняет все небесные явления человек, проведший всю жизнь среди природы, ум которого не был заполнен книжными аксиомами. Оказалось, что он никогда не задумывался над тем, что такое небо, что такое звезды. Объяснял он все удивительно просто. Звезда-звезда и есть; луна — каждый её видел, значит и описывать нечего; небо — синее днём, тёмное ночью и пасмурное во время ненастья. Дерсу удивился, что я расспрашиваю его о таких вещах, которые хорошо известны всякому ребёнку. — Кругом люди понимай. Разве тебе, капитан, посмотри нету? — спрашивал он меня, в свою очередь. Я так увлёкся созерцанием звёздного неба, что совершенно забыл о том, где я нахожусь. Вдруг голос Дерсу вывел меня из задумчивости. — Посмотри, капитан, — сказал он, — эта маленькая уикта (звезда). Я долго не мог разобраться, на какое светило он указывал, и наконец после разъяснений понял, что он говорил про Полярную звезду. — Это самый главный люди, — продолжал гольд. — Его всегда один место стоит, а кругом его все уикта ходят. В это время яркая падающая звезда черкнула по небу. Что это такое, Дерсу? Как ты думаешь? — спросил я его. — Одна уикта упала. Я думал, что он свяжет это явление с рождением или со смертью человека, даст ему религиозную окраску. Ничего подобного. Явление простое: одна звезда упала. — Люди говорят, — добавил он, — там, где упала звезда, надо искать женьшень. Для образованного человека это явление сложное: осколок астероида, случайно вошедший в сферу земного притяжения, раскалившийся от трения о воздух, горящий за счёт кислорода воздуха, метеорное железо, космическая пыль… Падение их на Землю в течение многих веков должно влиять на объём, вес и плотность Земли, а всякое малейшее изменение в этом направлении влечёт изменение в движении её и рефлектирует на движение других планет и т. д. Я очнулся от своих дум. Костёр угасал. Дерсу сидел, опустив голову на грудь, и дремал. Я подбросил дров в огонь и стал устраиваться на ночь. На другое утро мы проснулись от холода. Роса, выпавшая с вечера на землю, замёрзла и превратилась в иней. Согревшись чаем, мы надели свои котомки и стали спускаться к реке Горелой. Долина её шире, чем долина реки Сакхомы, и имеет явно выраженный характер размыва. Другой отличительной чертой её будет отсутствие лесов, большею частью уничтоженных пожарами. Все склоны гор, обращённые к реке Горелой, сплошь покрыты осыпями, заросшими травой, кустарниками, и завалены буреломом. Река имеет порожистый характер. Долина её длиною в 14 километров, ширина около устья — 4-6 и глубина не более 0,6-0,9 метра. По мере того как мы подвигались книзу, ручей становился многоводнее. Справа и слева в него впадали такие же ручьи, и скоро наш ручей стал довольно большою горного речкой. Вода с шумом стремилась по камням, но этот шум до того однообразен, что забываешь о нём, и кажется, будто в долине царит полная тишина. Пробираться сквозь заросли горелого леса всегда трудно. Оголённые от коры стволы деревьев с заострёнными сучками в беспорядке лежат на земле. В густой траве их не видно, и потому часто спотыкаешься и падаешь. Обыкновенно после однодневного пути по такому горелому колоднику ноги у лошадей изранены, у людей одежда изорвана, а лица и руки исцарапаны в кровь. Зная по опыту, что гарь выгоднее обойти стороною, хотя бы и с затратой времени, мы спустились в ручей и пошли по гальке. Вдруг за поворотом речки я увидел какое-то животное, похожее на собаку, только выше ростом. Широкая голова, небольшие мохнатые стоячие уши, притуплённая морда, сухое сложение и длинный пушистый хвост изобличали в нём красного волка, или шакалоподобную дикую собаку (Cyon alpinus Palb.). Цвет волка действительно был красный, тёмный на спине и светлый на брюхе. Животное лакало воду. Когда мы вышли на гальку, оно перестало пить и большими прыжками побежало к лесу. Вслед за ним из прибрежных кустов выскочили ещё два волка, из которых один был такой же окраски, как и первый, а другой темнее, и ещё несколько животных промелькнуло мимо нас по кустам. Я стрелял и ранил одного из них. В это время подошёл Дерсу. Узнав, в чём дело, он направился в заросли и стал что-то искать. Минуты через две я услышал его оклик и повернул в ту сторону. Гольд стоял около большого кедра и махал мне рукою. Подойдя к нему, я увидел на земле большое кровавое пятно и кое-где клочки оленьей шерсти. Дерсу сообщил мне, что красные волки всегда бродят по тайге стаями и охотятся за козами сообща, причём одни играют роль загонщиков, а другие устраивают засаду. Когда они бросаются на животное, то растаскивают его на части, оставляя на месте, как и в данном случае, только кровавое пятно и клочки шерсти. Охотники говорят, что бывали случаи нападения их на человека. Область распространения красных волков обнимает долину реки Уссури, Южноуссурийский край и прибрежный район к северу от залива Ольги до мыса Плитняк. Другими словами, северная граница их обитания совпадает с границей распространения диких коз и пятнистых оленей. Чаще всего животное это встречается в Посьетском, Барабашевском и Суйфунском районах. Отдохнув немного около речки, мы пошли дальше и к вечеру дошли до берега моря. Следующий день, 31 августа, мы провели на реке Сяо-Кеме, отдыхали и собирались с силами. Староверы, убедившись, что мы не вмешиваемся в их жизнь, изменили своё отношение к нам. Они принесли нам молока, масла, творогу, яиц и хлеба, расспрашивали, куда мы идём, что делаем и будут ли около них сажать переселенцев.
Глава восьмая Такема

Птицы на берегу моря. — Население. — Дугообразно расположенные горные складки. — Река Илимо. — Старуха с внучатами. — Река Цимухе. — Леший и следы тигра. — Изюбр. Пороги. Переправа вброд. Бивак старика китайца
Сегодня первый день осени (1 сентября). После полудня мы оставили реку Сяо-Кему и перешли на Такему. Расстояние это небольшое всего только 7 километров при хорошей тропе, проложенной параллельно берегу моря. Окрестные горы состоят из метаморфизированных базальтов, авгитового андезита и туфов и имеют вид размытых невысоких холмов с пологими скатами. На Такему мы пришли рано, но долго не могли переправиться через реку. На правом её берегу, около устья, паслись лошади под наблюдением старика китайца и хромого таза. Последний, по словам старика, поехал на лодке в деревню за продуктами и должен был скоро возвратиться обратно. Пришлось его дожидаться. Пока стрелки варили чай, я от нечего делать пошёл к берегу моря посмотреть птиц. Перелёт только что начался. Прежде всего я заметил серых уток и узконосых чирков. Тех и других было очень много. Первые очень пугливы. Они не подпускали к себе человека и взлетали тотчас, как только слышали шум шагов. Вторые — маленькие серые уточки с синими зеркальцами на крыльях, смирные и доверчивые, — старались только немного отплыть в сторону. В другом месте я увидел нескольких чернетей. Чёрные, с синим отливом и с белыми пятнами на спине, они быстро плавали по лагуне и часто ныряли. Я убил двух птиц, но есть их было нельзя, потому что мясо сильно пахло рыбой. На противоположном берегу стайками ходило много куличков. Некоторые из них перелетали на нашу сторону. Это были красноногие щёголи. Около воды суетились камнешарки — красивые пёстренькие птички, тоже с красными ногами. Они бегали по воде и каждый раз, когда отходила волна, заглядывали под камни, переворачивали травинки и выискивали корм. Ближе к морю держались самые крупные и красивые кулики-сороки с красными клювами и ногами серо-фиолетового цвета. Они подпускали человека не более как на сто пятьдесят-двести шагов, затем снимались по очереди и, отлетев шагов на четыреста, снова садились у воды, озираясь по сторонам. Около устья реки в одиночку бегали по камням, помахивая хвостиками, грациозные трясогузки и нисколько не боялись присутствия человека. В море плавали обычные каменушки, которые, видимо, были совершенно равнодушны к перелёту. Их не беспокоили надвигавшиеся холода. Приближалось время хода кеты, и потому в море перед устьем Такемы держалось множество чаек. Уже несколько дней птицы эти в одиночку летели куда-то к югу. Потом они пропали и вот теперь неожиданно появились снова, но уже стаями. Иногда чайки разом снимались с воды, перелетали через бар и опускались в заводь реки. Я убил двух птиц. Это оказались тихоокеанские клуши. На Такеме фазанов нет вовсе, несмотря на то, что возделывают землю здесь уже более десяти лет. Это объясняется тем, что между реками Санхобе и Такемой лежит пустынная область, без пашен и огородов. По-видимому, река Такема в Уссурийском крае является северной границей распространения обыкновенной белобокой сороки, столь обычной для Ольгинского района и быстро сокращающейся в числе по мере продвижения на север по побережью моря. Наконец хромой таз вернулся, и мы стали готовиться к переправе. Это было не так просто и легко, как казалось с берега. Течение в реке было весьма быстрое, перевозчик таз каждый раз поднимался вверх по воде метров на триста и затем уже спускался к противоположному берегу, упираясь изо всех сил шестом в дно реки, и всё же течением его сносило к самому устью. В низовьях река Такема разбивается на три рукава. Они все впадают в длинную заводь, которая тянется вдоль берега моря и отделена от него песчаным валом. Раньше устье Такемы было в 12 километрах от моря, там, где долина суживается и образует «щеки». Об этом красноречиво говорят следы коррозии[228] с левой стороны долины, у подножия отодвинутых ныне в глубь страны береговых обрывов, состоящих из аклировидного гранита. Километрах в десяти от моря правый берег реки скалистый и состоит из крепкого, не поддающегося разрушению гранита, с многочисленными жилами из афанита и скилита. Переправившись на другую сторону реки, мы пошли к фанзам, видневшимся вдали. Население Такемы смешанное и состоит из китайцев и тазов, китайских фанз 23, тазовских -11. В горах с правой стороны реки, против фанзы Сиу Фу, манзы мыли золото, но бросили это дело вследствие того, что добыча драгоценного металла не оправдывала затрачиваемых на него усилий. Тазы на реке Такеме те же, что и в Южноуссурийском крае, только менее подвергшиеся влиянию китайцев. Живут они в фанзах, умеют делать лодки и лыжи; летом занимаются земледелием, а зимой соболеванием. Говорят они по-китайски, а по-удэгейски знают только счёт да отдельные слова. Туземцы забиты и как везде находятся в неоплатных долгах. Когда мы подходили к посёлку, навстречу нам вышел старшина Сю Кай. Это был благообразный старик с седою бородою. Местом стоянки я выбрал фанзу таза Сиу Фу, одиноко стоящую за протокой. На следующий день, 2 сентября, была назначена днёвка. Любители ловить рыбу ходили на реку. Они поймали три кеты (Oncorhynchus keta Walb.), одну горбушу (Oncorhynchus gorbuscha W.) и двух бычков-подкаменщиков (Cottus poecilopus Heckel) с пёстрой окраской и оранжевой каймой на тёмно-оливковом спинном плавнике. Остальные люди приводили в порядок одежду и чистили оружие. Посоветовавшись с тазами, я решил вверх по реке Такеме идти с Дерсу, Чжан Бао, Арининым и Чан Лином, племянником горбатого таза, убежавшего с реки Иодзыхе. А. И. Мерзлякову с остальными мулами я велел отправиться на реку Амагу, где и ждать моего возвращения. Выступление было назначено на другой день, но осуществить его не удалось вследствие весьма ненастной погоды. Наконец 4 сентября дождь перестал. Тогда мы собрали свои котомки и после полудня вчетвером выступили в дальний путь. К северу от мыса Видного прибрежная полоса в географическом отношении представляет область, совершенно не похожую на то, что мы видели южнее. Интересной особенностью этой части Уссурийского края являются дугообразно расположенные горные складки. В связи с этим и направление течения рек к морю дугообразное. Такими именно реками будут Такема, Кусун, Кулумбе и Амагу. Первые две являются объемлющими, а вторые объемлемыми, причём верховья Такемы заходят за верховья Кусуна. Кулумбе и Амагу в свою очередь охватывают реки Вандагоу, Наину и Момокчи. Река Такема длиною более ста двадцати километров. Течёт она по продольной долине и в нижнем течении прерывает горный хребет. Такема река быстрая, многоводная и чрезвычайно порожистая. Ширина её в нижнем течении 60 и глубина до l 1/2 метра. От фанз тазов вверх по долине идёт пешеходная тропа. Она придерживается левого берега реки и всячески избегает бродов. Там, где долина суживается, приходится карабкаться по скалам и даже идти вброд по воде. Первые «щеки» (из породы кварцепорфирового туфа) находятся в 12 километрах от моря, вторые будут на 2,5 километра выше. Здесь в обнажениях можно видеть диабазовый и сильно хлоризированный порфирит. В углублении одной из скал китайцы устроили кумирню, посвящённую божеству, охраняющему леса и горы. За «щеками» долина опять расширяется. Эта местность называется Илимо, по имени реки, впадающей в Такему с правой стороны. Длина её 35 километров, и в истоках она состоит из трёх горных ручьёв. Наиболее интересный — левый её приток Чаку, с перевалом на Такунчи (приток Такемы). По словам туземцев, в верховьях Чаку есть высокая скалистая сопка, которую китайцы называют Ян-Лаза (то есть Трубчатая скала): Средний безымянный ключик приведёт путника на реку Билимбее, а правый на реку Сяо-Кему. Долина реки Илимо прямая, в нижней части открытая и каменистая. С левой стороны её тянутся террасы, местами болотистые и заросшие редколесьем из чёрной берёзы, липы и лиственницы. Около устья реки Илимо мы нашли две маленькие полуразрушенные фанзочки. В одной из них жила старуха с внучатами: мальчиком девяти и девочкой семи лет. У этих детей отец и мать умерли от оспы два года тому назад. Китайцы воспользовались беззащитностью старухи и обобрали её дочиста: отняли жилище, огороды, кур, свиней и даже собак. Несчастной старухе ничего не оставалось, как перекочевать на Илимо и поселиться здесь в одиночестве. Я застал семью в ужасной бедности. Мальчик ловил рыбу и тем кормил старуху и свою сестрёнку. Нигде потеря мужа не является таким несчастьем, как у тазов. Со смертью кормильца семьи являются кредиторы. Как хищные птицы, они набрасываются на имущество покойного и буквально начисто обирают вдову. К её душевным Страданиям присоединяется ещё страх перед изгнанием из жилища, нищетой и разлукой с детьми, которых китайцы обыкновенно продают как рабов на сторону. Мне стало жаль старуху, и я ей дал три рубля. Она растерялась, заплакала и просила меня не говорить об этом китайцам. Простившись с нею, мы отправились дальше. Мальчик пошёл проводить нас до реки Цимухе. От устья реки Илимо Такема поворачивает на север и идёт в этом направлении километров шесть или семь. Она всё время придерживается правой стороны долины и протекает у подножия гор, покрытых осыпями и почти совершенно лишённых растительности. Горы эти состоят из глинисто-кремнистых сланцев и гранитного порфира. С левой стороны реки тянется широкая полоса земли, свободная от леса. Здесь можно видеть хорошо сохранившиеся двойные террасы. Деревья, разбросанные в одиночку и небольшими группами, придают им живописный вид. Долина Цимухе кажется как бы продолжением долины Такемы. Из зелени леса около её устья подымается одинокая скала без названия, которая может служить прекрасным ориентировочным пунктом. Вдали виднеется высокий горный хребет, окаймляющий бассейн реки Такемы с северо-восточной стороны и совершенно оголённый от леса. От реки Цимухе Такема делает крутой поворот на запад и проходит по ущелью между гор, состоящих из полевошпатового порфира с включениями хлорита; с правой стороны наблюдаются обнажения фельзитов и кварцевого порфира с эпидотом. Тут много скал, от действия воды принявших причудливые очертания. Некоторые из них похожи на ворота, другие — на допотопных животных с маленькими головами, третьи — на фигурные столбы и т. д. Они тянутся на протяжении двух или трёх километров. Затем долина опять расширяется. Во время дождей здесь всегда скопляется много воды. Тогда река выходит из берегов и затопляет весь лес. В долине Такемы произрастают могучие девственные леса, которых ни разу ещё не касалась рука человека. Казалось, природа нарочно избрала эти места для того, чтобы показать, какова может быть производительная сила земли. Кедр (Pinus karajensis S. et Z.), тополь (Populus suaveolens Fisch.), клён (Acer mono Maxim.), ольха (Alnus fruticosa Rupr.), черёмуха Максимовича (Prunus padus maackii Rupr.), шиповник (Rosa acicularis Lindl.), рябина бузинолистная (Sorbus sambucifolia Tr.), амурский барбарис (Berberis amurensis Maxim.) и чёртово дерево (Aralia chinensis R. M.), опутанные виноградником (Vitis amurensis Rupr.), актинидиями (Actinudia kolomicta Maxim.) и лимонником (Schizandra chinensis Baill.), образуют здесь такую непролазную чащу, что пробираться через неё можно только с ножом в руке, с затратой больших усилий и с риском оставить одежду свою в кустах. Мы шли довольно шумно. Дерсу что-то рассказывал, Чжан Бао и Чан Лин смеялись. Вдруг Леший остановился, поджал под себя хвост, сгорбился и, прижав уши, со страхом стал озираться по сторонам. Пропустив мимо себя людей, он тихонько поплёлся сзади. Причина его страха скоро разъяснилась. Впереди на илистой почве были видны отпечатки тигровых лап. Зверь только что бродил здесь, но, услышав наши голоса, скрылся в зарослях. В это время моя Альпа, понимающая толк только в пернатой дичи, отстала немного и затем бросилась нас догонять. Услышав, что сзади кто-то бежит,Леший с визгом бросился под ноги Дерсу и опрокинул его на землю. Мы тоже сначала испугались и приготовились к обороне. Дерсу поднялся с земли и сказал, обращаясь к Лешему: — Нет, тебе вместе с людьми ходи не могу. Моя тебе товарищ нету. С такой собакой в компании ходи — скоро пропади. В заключение своей фразы он плюнул в её сторону. И действительно, с такой собакой очень опасно ходить на охоту. Она может привлечь зверя на охотника и в то время, когда последний целится из ружья, сбить его с ног. Часа в четыре или пять пополудни мы стали биваком. Котомки наши были тяжёлые, и потому все сильно устали. Кругом было много травы и сухостоя для дров. Чтобы не зажечь лес, мы устроились на гальке около реки. Приближалась осень. Сумерки стали наступать раньше, ночи сделались длиннее, начала выпадать обильная роса. Это природа оплакивала весну и лето, когда всё было молодо и наслаждалось жизнью. Вечером, после ужина, я пошёл немного побродить по галечниковой отмели. Дойдя до конца её, я сел на пень, принесённый водою, и стал смотреть на реку. Ночь была ясная. Одна сторона реки была освещена, другая в тени. При лунном свете листва деревьев казалась посеребрённой, стволы белесовато-голубыми, а тени чёрными. Кусты тальника низко склонились над водою, точно они хотели скрыть что-то около своих берегов. Кругом было тихо, безмолвно, только река слабо шумела на перекатах. Вдруг до слуха моего донёсся шорох. Он раздался из кустов. Я вспомнил встречу с тигром и немного испугался. По опыту я знал, что шорох ещё не означает опасности. Сплошь и рядом его причиной является какое-нибудь мелкое животное, вроде мыши или лягушки. Я взял себя в руки и остался на месте. Через минуту шорох повторился, потом послышался треск сучьев, и вслед за тем на галечниковую отмель, освещённую луной, вышел олень. Он подошёл к реке и жадно стал пить воду. Я не смел шевельнуться и минуты две любовался прекрасным животным. В это время наши собаки почуяли зверя и подняли лай. Изюбр встрепенулся, рысью выбежал из реки, положил рога на спину, прыгнул на берег и скрылся в лесу. Я поднялся с пня и возвратился на бивак. Вечером мы долго ещё сидели у огня и говорили об охоте. На другой день все поднялись рано; первые утренние лучи застали нас уже в дороге. Теперь река повернула на запад. В этих местах она шириной от 60 до 80 и глубиной 1 ? — 2 метра. Река Такема в прибрежном районе считается самой бурной. И действительно, быстрота течения её в среднем из четырёх измерений дала 10 километров в час.

Благодаря тому что в долине Такемы хорошие леса, сохранились и звери. Здесь можно найти всех представителей четвероногих, начиная с белки и кончая тигром. В особенности много изюбров. Всюду по пути нам встречались охотничьи шалаши и соболиные ловушки. Всё время мы шли левым берегом, по зверовой тропе. Таких троп здесь довольно много. Они слабо протоптаны и часто теряются в кустах. Четвероногие по ним идут свободно, но для человека движение затруднительно. Надо иметь большую сноровку, чтобы с ношей за плечами прыгать с камня на камень и карабкаться по уклону более чем в 40 градусов. По мере того как мы подвигались вперёд, издали доносился какой-то шум. Чан Лин сказал нам, что это пороги. На реке Такеме их шесть. Самый большой около реки Такунчи, а меньшие — близ устьев Охотхе и Чандингоуза. Здесь нам надлежало переправиться на другую сторону Такемы. Перейти вброд глубокую и быструю реку не так-то просто. Если вода низкая, то об этом разговаривать не стоит, но если вода доходит до пояса, то переходить её надо с большой осторожностью. Я уже говорил, что отличительной чертой здешних рек является низкая температура воды, поэтому переходить вброд надо одетым. Голое тело зябнет, в особенности голени. Затем надо идти не по прямой линии и отнюдь не против воды, а наискось, по течению. Ни в каком случае не следует поворачиваться к воде лицом или спиной, иначе течение собьёт с ног. Для того чтобы вода не, снесла с намеченного пути, надо крепко держаться на ногах, что возможно сделать только при условии, если ноги будут обуты. Для большей устойчивости люди надевают на себя котомки и даже накладывают в них камни. Такие котомки опасны. В случае падения в воду груз не позволит подняться на ноги; о плавании тогда нечего и думать. Решено было идти всем сразу, на тот случай, что если кто ослабеет, то другие его поддержат. Впереди пошёл Чан Лин, за ним Чжан Бао, меня поставили в середину, а Дерсу замыкал шествие. Собаки поплыли рядом, но течением отнесло их в сторону. Когда мы входили в воду, они уже были на противоположном берегу и отряхивались. С первых же шагов я почувствовал, что, не будь у меня котомки за плечами и в руках крепкой палки, я не мог бы справиться с течением. От быстро бегущей воды закружилась голова, я покачнулся и едва не упал, но сильною рукою меня поддержал Чжан Бао. В это время палкой я сбил у себя с головы фуражку; о ней некогда было думать. Через минуту я оправился и пошёл дальше. Скоро я заметил, что идти стало легче. Ещё несколько шагов, и мы вышли на мелководье. По вздоху, вырвавшемуся у моих спутников, я понял, что мы действительно подвергались серьёзной опасности. Выйдя на берег, я стал торопливо одеваться, но Чан Лин сказал, что сегодня дальше мы не пойдём и останемся здесь ночевать. На самом берегу был след костра. Зола, угли и обгоревшие головешки — вот всё, что я заметил, но Дерсу увидел больше. Прежде всего он заметил, что огонь зажигался на одном и том же месте много раз. Значит, здесь был постоянный брод через реку. Затем Дерсу сказал, что последний раз, три дня тому назад, у огня ночевал человек. Это был старик, китаец, зверолов, он всю ночь не спал, а утром не решился переходить реку и возвратился назад. То, что здесь ночевал один человек, положим, можно было усмотреть по единственному следу на песке; что он не спал, видно было по отсутствию лёжки около огня; что это был зверолов, Дерсу вывел заключение по деревянной палочке с зазубринками, которую употребляют обыкновенно для устройства западнёй на мелких четвероногих; что это был китаец, он узнал по брошенным улам и по манере устраивать бивак. Всё это было понятно. Но как Дерсу узнал, что человек этот был старик? Не находя разгадки, я обратился к нему за разъяснениями. — Как тебе столько лет в сопках ходи, понимай нету? — обратился он ко мне в свою очередь с вопросом. И он поднял с земли улы. Они были старые, много раз чинённые, дыроватые. Для меня ясно было только то, что китаец бросил их за негодностью и пошёл назад. — Неужели понимай нету? — продолжал удивляться Дерсу. — Молодой человек сперва проносит носок, а старик непременно протопчет пятку. Как это было просто! В самом деле, стоит только присмотреться к походке молодого человека и старого, чтобы заметить, что молодой ходит легко, почти на носках, а старый ставит ногу на всю ступню и больше надавливает пятку. Пока мы с Дерсу осматривали покинутый бивак, Чжан Бао и Чан Лин развели огонь и поставили палатку. Обсушившись немного, я пошёл вниз по реке со слабой надеждой найти фуражку. Течением могло прибить её где-нибудь около берега. Так я проходил до самых сумерек, но фуражки не нашёл и должен был взамен её повязать голову платком. В этом своеобразном уборе я продолжал уже весь дальнейший путь. Когда я шёл назад, на землю спустилась ночь. Всходила луна, и от этого за сопками, по ту сторону реки, стало светлее. Лес на гребне горы выделялся так резко, что можно было рассмотреть каждое отдельное дерево. При этом освещении тени в лесу казались глубокими ямами, а огонь — краснее, чем он есть на самом деле. Где-то в стороне заревел изюбр, но вяло и, не дотянув до конца», оборвал последние ноты. Ответа ему не последовало. Над рекой появился туман. Он тянулся над водой и принимал страшные очертания. Мне не хотелось идти на бивак. Я сел на берегу и долго следил, как лунные лучи играли с ночными тенями. Чжан Бао и Дерсу, обеспокоенные моим отсутствием, стали звать меня. Минут через пятнадцать я был вместе с ними.
Глава девятая Ли Цун-бин

Выдра. — Острога удэхейцев. — Долина Такунчи. — Лесные птицы. — Одинокая фанза. — Старик китаец. — Маленькая услуга. — История одной жизни. — Тяжёлые воспоминания. — Исповедь. — Душевный переворот. — Решение и прощание. — Амулет.
Чуть свет мы снялись с бивака и пошли по правому берегу Такемы. Река опять повернула на север. Между притоками её Хумо, Сяо-Кунчи и Такунчи от гор в долину выдвигаются отроги, которые ближе к реке переходят в высокие речные террасы с массивным основанием, состоящим из кварцевого порфира и витрофирового липарита. В тех местах, где отроги пересекают реку, образовались пороги, из которых последний имеет вид настоящего водопада. Вода с шумом стремится в узкий проход и с пеной бьётся о камни. Около самого порога образовалась глубокая выбоина. Здесь вода идёт тихо и при солнечном освещении имеет изумрудный цвет. Я долго любовался бы порогом, если бы внимание моё не было отвлечено в другую сторону. Невдалеке от нас на поверхности спокойной воды вдруг появился какой-то предмет. Это оказалась голова выдры, которую крестьяне в России называют «порешней». Она имеет длинное тело (1 м 20 см), длинный хвост (40 см) и короткие ноги, круглую голову с выразительными чёрными глазами, тёмно-бурую блестящую шерсть на спине и с боков и серебристо-серую на нижней стороне шеи и на брюхе. Когда животное двигается по суше, оно сближает передние и задние ноги, отчего тело его выгибается дугою кверху. В Уссурийском крае выдра распространена равномерно и повсеместно. Любимое местопребывание её — это реки, обильные рыбой, и в особенности такие места, которые не замерзают и где есть около берегов пустоты подо льдом. Замечено, что для отправления естественной надобности выдра выходит из воды постоянно на одно и то же место, хотя бы для этого ей пришлось проплыть значительное расстояние. Тут в песке обыкновенно охотники ставят капканы. Уничтожив рыбу в одном каком-нибудь районе, выдра передвигается вверх или вниз по реке, для чего идёт по берегу. У неё прекрасно развита ориентировка. В тех местах, где река делает петлю, она пересекает полуостров в наиболее узком его месте. Иногда выдра перекочёвывает из одной речки в другую; туземцам случалось убивать их в горах, далеко от реки. Пугливое, хитрое и осторожное животное это любит совершать свои охотничьи экскурсии в лунные ночи и редко показывается днём. Выдра, которую я наблюдал, держала в зубах рыбу и плыла к противоположному берегу. Через минуту она вылезла на мокрый камень. Мокрое тело её блестело на солнце. В это время она оглянулась и, увидев меня, бросила рыбу и снова проворно нырнула в воду. Я уговорил своих спутников скрыться в кустах в надежде, что животное покажется опять, но выдра не появлялась. Я уже хотел было встать, как вдруг какая-то тень мелькнула в воздухе и вслед за тем что-то большое и грузное опустилось на камень. Это был белохвостый орлан. Схватив рыбу, он снова легко поднялся на воздух. В это время на воде появилась выдра, но уже значительно дальше по реке. Она, видимо, поднялась только для того, чтобы набрать в лёгкие воздуха, и затем скрылась совсем. Километра через три мы достигли устья Такунчи и здесь стали биваком. Чжан Бао и Дерсу занялись рубкой дров, а Чан Лин отправился острогой ловить рыбу. Походная острога удэхейцев имеет вид маленького гарпуна с ремнём. Носится она у пояса и надевается на древко в минуту необходимости. Обыкновенно рыбу бьют с берега. Для этого к ней надо осторожно подкрасться. После удара наконечник соскакивает с древка, и рыба увлекает его с собою, но так как он привязан к ремню, то и рыба оказывается привязанною. Чан Лин ловко владел острогой и убил шесть больших форелей, которые составили великолепный ужин. На следующий день, 8 сентября, мы распрощались с Такемой и пошли вверх по Такунчи. Река эта длиной немного более 40 километров и течёт по кривой с северо-запада к востоку. Около устья она шириной до 6 и глубиной от 1 до 1,2 метра по руслу. Вода в ней мутная, с синим опаловым оттенком. Такунчи — типичная долина размыва, суженная около устья и расширяющаяся вверху. Остроконечные, как бы стоящие одиноко сопки со сглаженными контурами и пологими склонами указывают на постоянные денудационные процессы. Геология Такунчи такова: около устья река подмывает высокую террасу, основание которой слагается из красивых глинистых сланцев с тонкими прослойками серых песчаников. Немного выше с правой стороны видны обнажения весьма древних конгломератов, которые имеют такой вид, как будто они побывали в огне. Далее, с левой стороны, идёт акмуровидный гранит с плитняковой отдельностью, а выше — опять глинистые сланцы с весьма интенсивной складчатостью. Из притоков Такунчи самые интересные в среднем течении: два малых безымянных справа и один большой (река Талда) с левой стороны. Первый приведёт к перевалу на Илимо, второй— на реку Сакхому (Сяо-Кема) и третий — опять на Такему. Около устья каждого из притоков есть по одной зверовой фанзе. До первой фанзы мы дошли очень скоро. Отдохнув немного и напившись чаю с сухарями, мы пошли дальше. Вся долина Такунчи, равно как и долина Такемы, покрыта густым хвойно-смешанным лесом. Сильно размытое русло реки и завалы бурелома указывают на то, что во время дождей Такунчи знакомы наводнения. Вторую половину пути мы сделали легко, без всяких приключений и, дойдя до другой зверовой фанзы, расположились в ней на ночь как дома. Что-то сделалось с солнцем. Оно уже не так светило, как летом, вставало позже и рано торопилось уйти на покой. Трава на земле начала сохнуть и желтеть. Листва на деревьях тоже стала блекнуть. Первыми почувствовали приближение зимы виноградники и клёны. Они разукрасились в оранжевые, пурпуровые и фиолетовые тона. В сумерки мы с Дерсу пошли на охоту за изюбрами. Они уже отабунились. Самцы не хотели вступать в борьбу и хотя и отвечали на зов друг другу, но держались позади стада и рогами угоняли маток с места, где мог явиться соперник. После ужина мы все расположились на тёплом кане. Дерсу стал рассказывать об одном из своих приключений. Около него сидели Чжан Бао и Чан Лин и внимательно слушали. По их коротким возгласам я понял, что гольд рассказывал что-то интересное, но сон так овладел мною, что я совершенно не мог бороться с ним и уснул как убитый. 9 сентября мы продолжали наше движение к Сихотэ-Алиню. В хороших лесах всегда много пернатых. Кроме обычных для уссурийской тайги желн, орехотворок, соек, пёстрых дятлов, диких голубей, ворон, орлов и поползней здесь, близ реки, на старых горелых местах, уже успевших зарасти лиственным молодняком, в одиночку держались седоголовые дятлы. Удэхейцы называют их земляными дятлами, потому что они кормятся на земле, а не на деревьях. Эти птицы каждый раз при приближении людей поднимали неистовый крик и старались как можно скорее укрыться в чаще леса. В другом месте в траве я увидел краснобрюхих дроздов. Заслышав шум наших шагов, они вдруг все сразу поднимались на воздух и садились на ветви ближайших деревьев, щебеча так, как будто бы обменивались мнениями о происшедшем. По кустарникам шныряли маленькие симпатичные птички с полосатой спиной и белой головкой. Это были касатки-мухоловки. С исчезновением насекомых должны улететь и они в более тёплые страны. Время это было уже близко. Недаром мухоловки стали собираться в стайки. Над осыпями кружились два ястреба. Сеноставцы-пищухи служили им лакомой приманкой. Но эти грызуны очень осторожны. Далеко от нор они не отходили и при малейшем намёке на опасность проворно скрывались в камнях. Но всё же при умелом маневрировании пернатые хищники не оставались без добычи. За работой незаметно прошёл день. Солнце уже готовилось уйти на покой. Золотистые лучи его глубоко проникали в лес и придавали ему особенную привлекательность. Мы прибавили шагу. Маленькая, едва заметная тропинка, служившая нам путеводной нитью, всё время кружила: она переходила то на один берег реки, то на другой. Долина становилась всё уже и уже и вдруг сразу расширилась. Рельеф принял неясный, расплывчатый характер. Это были верховья реки Такунчи. Здесь три ручья стекались в одно место. Я понял, что нахожусь у подножия Сихотэ-Алиня. Отроги хребта, сильно размытые и прорезанные горными ключами, казались сопками, разобщёнными друг от друга. Дальше за ними виднелся гребень водораздела; точно высокой стеной, окаймлял он истоки Такунчи. Природа словно хотела резко отграничить здесь прибрежный район от бассейна Имана. В том же месте, где соединялись три ручья, была небольшая полянка, и на ней стояла маленькая фанзочка, крытая корьём и сухой травой. Около фанзочки мы застали одинокого старика китайца. Когда мы вышли из кустов, первым движением его было бежать. Но видимо, самолюбие, преклонный возраст и обычай гостеприимства принудили его остаться. Старик растерялся и не знал, что делать. В то время уже начались преследования браконьеров и выселение их из пределов края. Китаец, вероятно, думал, что его сейчас арестуют и отправят в залив Ольги под конвоем. От волнения он сел на пень и долго не мог успокоиться. Он тяжело и прерывисто дышал, лицо его покрылось потом. В это время солнце скрылось за горами. Волшебный свет в лесу погас; кругом сразу стало сумрачно и прохладно. Место, где стояла фанзочка, показалось мне таким уютным, что я решился здесь ночевать. Дерсу и Чжан Бао приветствовали старика по-своему, а затем принялись раскладывать огонь и готовить ужин. Я сел в стороне и долго рассматривал китайца. Он был высокого роста, немного сутуловат, с чёрными помутневшими глазами и с длинной редкой седой бородой. Жилистая шея, тёмное морщинистое лицо и заострившийся нос делали его похожим на мумию. Одет он был в старую, уже давно выцветшую и грубо заплатанную рубашку из синей дабы, подпоясанную таким же старым шарфом, к которому сбоку привязаны были охотничий нож, лопаточка для выкапывания женьшеня и сумочка для кремня и огнива. На нём были синие штаны и низенькая самодельная обувь из лосиной кожи с ремёнными перетяжками, а на голове простая тряпица, почерневшая от копоти и грязи. Старик китаец не был похож на обыкновенных рабочих-китайцев. Эти руки с длинными пальцами, этот профиль и нос с горбинкой и какое-то особенное выражение лица говорили за то, что он попал в тайгу случайно. «Вероятно, беглый политический», — подумал я про себя. У меня мелькнула мысль, что я причина его страха. Мне стало неловко. В это время Аринин принёс мне кружку чая и два куска сахара. Я встал, подошёл к китайцу и все это подал ему. Старик до того растерялся, что уронил кружку на землю и разлил чай. Руки у него затряслись, на глазах показались слёзы. Он опустился на колени и вскрикнул сдавленным голосом: — Тау-сё-ба, та-лай-я! (Спасибо, капитан!) Я поднял его и сказал: — Бупа, бэ-хай-па, латурл! (Ничего не бойся, старик!) Мы все занялись своими делами. Я принялся вычерчивать дневной маршрут, а Дерсу и Чжан Бао стали готовить ужин. Мало-помалу старик успокоился. После чая, сидя у костра, я начал расспрашивать его о том, как он попал на Такунчи. Китаец рассказал мне, что зовут его Ли Цун-бин, ему 74 года, родом он из Тяньцзина и происходит из богатой китайской семьи. Ещё будучи молодым человеком, он поссорился с родными. Младший брат нанёс ему кровную обиду. В деле этом была замешана женщина. Отец принял сторону брата. Тогда он оставил родительский дом и ушёл на Сунгари, а оттуда перебрался в Уссурийский край и поселился на реке Даубихе. Впоследствии, с приходом на Даубихе русских переселенцев, он перешёл на Улахе, затем жил на реках Судзухе, Пхусуне и Вай-Фудзине и, наконец, добрался до реки Такемы, где и прожил 34 года. Раньше он занимался охотой. Первое ружьё у него было фитильное, за которое он заплатил 30 отборных соболей. Потом он искал дорогой корень женьшень. Под старость он уже не мог заниматься охотой и стал звероловом. Это понудило его сесть на одном месте, подальше от людей. Он облюбовал реку Такунчи и пришёл сюда уже много лет назад. Жил здесь Ли Цун-бин один-одинёшенек. Изредка кто-нибудь из туземцев заходил к нему случайно, и сам он раз или два в год спускался к устью Такемы. Потом старик вспомнил свою мать, детство, сад и дом на берегу реки. Наконец он замолк, опустил голову на грудь и глубоко задумался. Я оглянулся. У огня мы сидели вдвоём. Дерсу и Чжан Бао ушли за дровами. Ночь обещала быть холодной. По небу, усеянному звёздами, широкой полосой протянулся Млечный Путь. Резкий, холодный ветер тянул с северо-запада. Я озяб и пошёл в фанзу, а китаец остался один у огня. Я заметил, что Дерсу проходил мимо старика на носках, говорил шёпотом и вообще старался не шуметь. Время от времени я выглядывал в дверь и видел старика, сидевшего на том же месте, в одной и той же позе. Пламя костра освещало его старческое лицо. По нему прыгали красные и чёрные тени. При этом освещении он казался выходцем с того света, железным человеком, раскалённым докрасна. Китаец так ушёл в свои мысли, что, казалось, совершенно забыл о нашем присутствии. О чём думал он? Вероятно, о своей молодости, о том, что он мог бы устроить свою жизнь иначе, о своих родных, о любимой женщине, о жизни, проведённой в тайге, в одиночестве… Поздно вечером я снова выглянул в окно. Ветер раздувал потухший костёр. На минуту вспыхивало тусклое пламя и на мгновение освещало худую фигуру старика. Он сидел все на том же месте, подперев голову руками, смотрел на угли и вспоминал далёкое прошлое. Я хотел было его окликнуть, но почему-то не решился этого сделать. Наконец, покончив свою работу, я закрыл тетрадь и хотел было лечь спать, но вспомнил про старика и вышел из фанзы. На месте костра осталось только несколько угольков. Ветер рвал их и разносил по земле искры. А китаец сидел на пне так же, как и час назад, и напряжённо о чём-то думал. Я сказал Дерсу, чтобы он позвал его в фанзу. — Не надо, капитан, — ответил мне тихонько гольд, усиленно подчёркивая слово «не надо», и при этом сказал, что в таких случаях, когда человек вспоминает свою жизнь, его нельзя беспокоить. Я понял, что в это время беспокоить человека действительно нельзя, вернулся в фанзу и лёг на кан. Тоскливо завывал ветер в трубе и шелестел сухой травой на крыше. Снаружи что-то царапало по стене, должно быть, качалась сухая ветка растущего поблизости куста или дерева. Убаюкиваемый этими звуками, я сладко заснул. На другое утро, когда я проснулся, солнце было уже высоко. Я поспешно оделся и вышел из фанзы. Кругом все белело от инея. Вода в лужах замёрзла. Под тонким слоем льда стояли воздушные пузыри. Засохшая жёлто-бурая трава искрилась такими яркими блёстками, что больно было на неё смотреть. Сучья деревьев, камни и утоптанная земля на тропе покрылись холодным матовым налётом. Осмотревшись кругом, я заметил, что все вещи, которые ещё вчера валялись около фанзы в беспорядке, теперь были прибраны и сложены под навес. Около огня сидели Чжан Бао, Дерсу и Чан Лин и о чём-то тихонько говорили между собою. — А где старик? — спросил я их. Чжан Бао указал мне рукой на лес. Тут только я заметил на краю полянки маленькую кумирню, сложенную из накатника и крытую кедровым корьём. Около неё на коленях стоял старик и молился. Я не стал ему мешать и пошёл к ручью мыться. Минут через пятнадцать старик возвратился в фанзу и стал укладывать свою котомку. — Куда он собирается? — спросил я своих спутников. Тогда Чжан Бао сказал мне, что старик решил вернуться на родину, примириться со своим братом, если он жив, и там окончить дни свои. Уложив котомку, старик снял с левой руки деревянный браслет и, подавая его мне, сказал: — Возьми, капитан, береги, он принесёт тебе счастье! Я поблагодарил его за подарок и тут же надел браслет на руку. После этого старик сделал земные поклоны на все четыре стороны и стал прощаться с сопками, с фанзой и с ручьём, который утолял его жажду. Около фанзы росли две лиственницы. Под ними стояла маленькая скамеечка. Ли Цун-бин обратился к лиственницам с трогательной речью. Он говорил, что посадил их собственными руками и они выросли большими деревьями. Здесь много лет он отдыхал на скамейке в часы вечерней прохлады и вот теперь должен расстаться с ними навсегда. Старик прослезился и снова сделал земные поклоны. Затем он попрощался с моими спутниками. Они в свою очередь поклонились ему до земли, помогли ему надеть котомку, дали в руки палку и пошли провожать до опушки леса. На краю полянки старик обернулся и ещё раз посмотрел на место, где столько лет он провёл в одиночестве. Увидев меня, он махнул мне рукой, я ответил ему тем же и почувствовал на руке своей браслет. Когда возвратились Дерсу, Чжан Бао и Чан Лин, мы собрали котомки и пошли своей дорогой. Дойдя до опушки леса, я, так же как и старик, оглянулся назад. Словно что оборвалось! Эта полянка и эта фанзочка, которые ещё вчера казались мне такими уютными, сразу сделались чуждыми, пустыми. Брошенный дом! Душа улетела, остался один труп!
Глава десятая Страшная находка

Пологий склон Сихотэ-Алиня. — Верховья реки Арму. — Скелеты. — Лунное световое явление. — Тянь-чин-лаза. — Сихотэ-Алинь. — Кедровый стланец.
От фанзочки сразу начался подъём на Сихотэ-Алинь, сначала пологий, а потом все круче и круче. На восточном склоне хребта растёт хвойно-смешанный лес; главную массу его составляют кедр, ель, пихта, лиственница, клён и берёза с мохнатой жёлтой корой. Травяная растительность состоит из папоротников, чемерицы, ландышей, царского скипетра, трилистника, заячьей кислицы и различных мелких осок. Подъём на гребень Сихотэ-Алиня был настолько крут, что приходилось хвататься руками за камни и корни деревьев. Высота перевала над уровнем моря, по показаниям анероида, 875 метров. На западном склоне хребта растительность более однообразна, чем на восточном. Разница в характере лесов очень резкая. Я ожидал увидеть на вершине Сихотэ-Алиня гольцы. Ничего подобного: передо мной была возвышенная равнина вроде плоскогорья, покрытая редкой замшистой лиственницей, без всякого подлесья. Нигде ни кустов, ни травы — всюду один мох. Чтобы добыть кусок горной породы, пришлось глубоко копаться во мху. Взятые образцы оказались кварцевым порфиром и липаритом. В собранном мною здесь гербарии отмечены: стелющийся по мху дёрен канадский с розеткой из шести листочков и красными ягодами; потом тоже канадский майник, имеющий два сердцевидных, ярко блестящих сочных листа; затем особый вид плауна. Первый по внешнему виду несколько напоминает низкорослый орляк, который имеет довольно простой перистый лист. Отдохнув немного на перевале, мы пошли дальше. Я решил пересечь плато и спуститься к воде по другую его сторону. Но сколько мы ни шли, конца его не было видно. Перед нами расстилалась пустынная болотистая равнина, покрытая чахлым лесом. Хоть бы одна сопка, хоть бы какой-нибудь бугор или углубление! Я думал, что мы попали на плоскогорье, и не знал, идём ли мы вдоль или пересекаем его по кратчайшему направлению. Вдруг я услышал шум воды. Это обстоятельство ещё: больше меня удивило. Скоро всё разъяснилось: западные склоны Сихотэ-Алиня в этих местах оказались настолько пологими, что понижение их совершенно незаметно для глаза. Перед нами была река Арму — самый большой приток Имана, впадающий в него в среднем течении, с правой стороны. Я взглянул на барометр: стрелка показывала 697 миллиметров, что по приведению к уровню моря давало абсолютную высоту 770 метров. Значит, с вершины мы спустились только на 105 метров, что в среднем на один километр составляет 10 метров. Уровень воды в реке на западной стороне Сихотэ-Алиня оказался на 225 метров выше, чем на восточной. В верховьях река Арму состоит из двух речек одинаковой величины. Мы попали как раз к месту их слияния. Чан Лин измерял каждую из них двумя днями пути. Посоветовавшись с ним, я решил отправиться по левой речке (ближайшей к Сихотэ-Алиню), затем подняться на водораздел, пройти немного по хребту и выйти к истокам Такемы. Здесь река Арму имеет до 6 метров ширины и около 45 сантиметров глубины. Вода в ней красноватого цвета и не имеет той низкой температуры, которая свойственна быстрым горным речкам. Русло Арму завалено колодником, что при сравнительно тихом течении вполне понятно: дерево остаётся лежать там, где оно упало. Около реки лес значительно гуще и состоит из ольхи, белой берёзы, ели и пихты; особенно много растёт лиственницы. Это в полном смысле слова тайга: дикая, пустынная и неприветливая. Все живое её избегает; нигде не видно звериных следов, и за двое суток мы не встретили ни одной птицы. Такая тайга влияет на психику людей, что заметно было и по моим спутникам. Они шли молча и почти не разговаривали между собой. По обыкновению около 3 часов пополудни мы стали выбирать место для бивака. Дерсу и Чжан Бао зачем-то отошли вправо, а я, Чан Лин и Аринин пошли по берегу речки. Вдруг мы услышали позади себя крик: Дерсу звал нас к себе. Мы тотчас вернулись. Пробираясь сквозь чащу леса, я увидел маленькую полянку, а на ней что-то белело. Около этих предметов стояли Дерсу и Чжан Бао и внимательно их рассматривали. Сначала я думал, что это кочки, но уже по лицам своих спутников понял, что это было что-то посерьёзнее простых кочек. Подойдя поближе, я увидел человеческие черепа. Их было шесть; тут же по сторонам валялись и другие кости. Шесть скелетов! Как погибли эти люди? Суровая тайга хранит такие тайны. Дерсу долго рассматривал кости и что-то говорил с Чжан Бао. По его мнению, эти люди не были убиты, потому что ни на одном из черепов не было проломов. Они умерли, но не от болезней. От болезней все сразу не умирают, а гибнут поодиночке: один умрёт, а остальные плетутся дальше. Дерсу стал осматривать стволы деревьев. По ожогам на коре он установил время последнего пала. Это было два года назад. А так как кости тоже носили на себе следы огня, то, очевидно, в то время, когда шёл огонь по лесу, трупы были уже скелетами. Пал сжёг остатки одежды. Однако около костей должны были остаться такие предметы, которые не могли сгореть и по которым можно было бы установить национальность умерших. Дерсу и Чжан Бао принялись копаться во мху и скоро нашли железный котелок, топор, заржавленный нож, шило, ручка которого была сделана из ружейной гильзы, огниво, трубку, жестяную баночку и серебряное кольцо. По этим предметам Дерсу узнал, что погибшие люди были корейцы-золотоискатели. Они, видимо, хотели пробраться на берег моря, но заблудились в тайге и погибли от голода. А спасение было так близко: один переход — и они были бы в фанзе отшельника-китайца, у которого мы провели прошлую ночь. Окаймляющие полянку деревья, эти безмолвные свидетели гибели шестерых людей, молчаливо стояли и теперь, Тайга показалась мне ещё угрюмее. Как бы сговорившись, мы все разом сняли с себя котомки. Чжан Бао и Чан Лин выворотили пень, выбросили из-под него камни и землю, а мы с Дерсу стащили туда кости. Затем прикрыли их мхом, а сверху наложили тот же пень и пошли к реке мыться. Была пора устраиваться на ночь. Чжан Бао и Чан Лин не хотели располагаться рядом с мертвецами. Взяв свои котомки, мы отошли ещё полкилометра и, выбрав на берегу речки место поровнее, стали биваком. В сумерки появился туман. Он переплыл через водораздел и распространился по всему западному склону Сихотэ-Алиня. Вечером я имел случай наблюдать интересное метеорологическое явление. Около 10 часов взошла луна, тусклая, почти не дающая света. Вслед за тем туман рассеялся, и тогда от лунного диска вверх и вниз протянулись два длинных луча, заострившихся к концам. Явление это продолжалось минут пятнадцать, затем опять надвинулся туман, и луна снова сделалась расплывчатой и неясной; пошёл мелкий дождь, который продолжался всю ночь, до рассвета. Утром 11 сентября погода как будто немного изменилась к лучшему. Чтобы не терять напрасно времени, мы собрали свои котомки и пошли вверх по реке Арму. Местность была настолько ровная и однообразная, что я совершенно забыл, что нахожусь у подножия Сихотэ-Алиня. Здешний хвойный лес плохого дровяного качества, растёт весьма неравномерно: болотистые поляны отделяются друг от друга небольшими перелесками, деревья имеют отмершие вершины и множество сухих ветвей. Часов в 11 утра мы распрощались с Арму и круто повернули к востоку. Здесь был такой же пологий подъём, как и против реки Такунчи. Совершенно незаметно мы поднялись на Сихотэ-Алинь и подошли к восточному его обрыву. В это время туман рассеялся, и мы могли ориентироваться. Слева от нас, километрах в пятнадцати, высилась какая-то большая гора. Чан Лин, хорошо знающий эти места, сказал, что сопка эта не имеет названия и находится в истоках реки Сицы. Мы были как раз против долины реки Тянь-чин-гоуза[229], впадающей в Такему с правой стороны, выше Такунчи. По размерам первая немного меньше второй. Березняки в её истоках указывают на то, что здесь был когда-то большой пожар, уничтоживший весь хвойный лес. Прилегающая часть Сихотэ-Алиня со стороны Такемы имеет вид длинной столовой горы. Китайцы называют её Тянь-чин-лаза[230]. Нам не суждено было долго любоваться красивой панорамой: надвинувшиеся тучи снова окутали Сихотэ-Алинь, снова пошёл дождь, мелкий и частый. Производить съёмку во время ненастья трудно. Бумага становится дряблой, намокшие рукава размазывают карандаш. Зонтика у меня с собой не было, о чём я искренно жалел. Чтобы защитить планшет от дождя, каждый раз, как только я открывал его, Чан Лин развёртывал над ним носовой платок. Но скоро и это оказалось недостаточным: платок намок и стал сочить воду. — Погоди, капитан, — сказал мне Дерсу и, отбежав в сторону, начал снимать с дерева бересту, затем срезал несколько прутьев и быстро смастерил зонтик. Меня всегда удивляла находчивость гольда. Кажется, не было такого затруднительного положения, из которого он не сумел бы выйти. Всё, что ему было нужно, он находил тут же, около себя, под рукою. Выполняя намеченный маршрут, мы повернули на север и пошли вдоль по Сихотэ-Алиню к большой куполообразной горе, которую видели на северо-востоке. Пройти нам удалось немного. Опасаясь во время тумана заблудиться в горах, я решил рано стать на бивак. На счастье, Чжан Бао нашёл между камней яму, наполненную дождевой водой, и вблизи от неё сухой кедровый стланец. Мы поставили односкатную палатку, развели огонь и стали сушиться. Перед вечером Дерсу ходил на охоту и убил кабаргу. Это двукопытное животное, похожее на антилопу, высотой полметра, а длиной метр. Задние ноги её немного длиннее передних, отчего, когда животное стоит на всех четырёх ногах, зад его немного приподнят. Шея у кабарги длинная, голова небольшая, стройная, с тёмными выразительными глазами и подвижным носом. Она не имеет рогов и слёзных ямок. Зато природа наградила её клыками: у самок клыки маленькие и не выходят изо рта, а у самцов длинные, острые и торчат книзу на 5 — 6 сантиметров. Во время гона самцы дерутся между собой, нанося друг другу довольно опасные раны. В отличие от прочих двукопытных кабарга имеет жёлчный пузырь и мускусный мешок. Общая окраска животных пёстро-тёмно-бурая; шерсть грубая и ломкая, движения порывистые и неуверенные; крик пронзительный и тоскливый. Во время гона самцы распространяют вокруг себя сильный запах. На ужин варили мясо кабарги; оно чем-то припахивало. Чан Лин сказал, что оно пахнет мхом. Чжан Бао высказался за запах смолы, а Дерсу указал на багульник. В местах обитания кабарги всегда есть и то, и другое, и третье; вероятно, это был запах мускуса. Весь следующий день, 12 сентября, мы простояли на месте из-за дождя. Надо было переждать непогоду. Осенние дожди в Уссурийском крае никогда не бывают продолжительными, но зато очень сильны. Целый день я сидел в палатке и вычерчивал свои съёмки. Ночью поднялся сильный порывистый ветер. Кое-где показались звезды, и, как всегда в таких случаях бывает, перед рассветом ударил крепкий мороз. Кругом опять все забелело, от инея сырой мох замёрз и хрустел под ногами. От наших ног на нём оставались глубокие следы, чем очень были недовольны Дерсу и Чжан Бао. Эта осторожность красной нитью проходила во всех их действиях, даже в тех случаях, когда мы находились очень далеко от жилья и трудно было рассчитывать на встречу с человеком. Осмотревшись, мы увидели, что находимся как раз против истоков Сицы[231]. От столовой горы Тянь-чин-лаза Сихотэ-Алинь идёт сначала к северо-востоку, а затем поворачивает на северо-запад. В этом углу высится острая коническая сопка. Высота сопки, по барометрическим измерениям, равняется 1230 метрам. Дальше Сихотэ-Алинь тянется на север. Километрах в пяти от сопки он поворачивает к востоку, образуя двугорбую сопку, названную нами Верблюдом (1100 м). Потом хребет изгибается ещё раз на запад. Отсюда он берет старое направление и подходит к самой высокой горе, которую мы вчера видели издали. Вся описываемая часть Сихотэ-Алиня совершенно голая; здесь, видимо, и раньше не было лесов. Если смотреть на вершины гор снизу (из долин), то кажется, что около гольцов зеленеет травка. Неопытный путник торопится пройти лесную зону, чтобы поскорее выйти к альпийским лугам. Но велико бывает его разочарование, когда вместо травки он попадает в пояс кедрового стланца. Корни этого древесного растения находятся вверху, а ствол и ветви его стелются по склону, как раз навстречу человеку, поднимающемуся в гору. Пробираться сквозь кедровый стланец очень трудно: без топора тут ничего не сделать. Нога часто соскальзывает с сучьев; при падении то и дело садишься верхом на ветви, причём ноги не достают до земли, и обойти стланцы тоже нельзя, потому что они кольцом опоясывают вершину. Выше их на Сихотэ-Алине растут низкорослые багульники, брусника, рододендрон, мхи, ещё выше — лишаи, и наконец начинаются гольцы. В этот день мы дошли до подножия куполообразной горы и остановились около неё в седловине.
Глава одиннадцатая Опасная переправа

Гора Шайтан. — Река Сица. — Истоки реки Такемы. — Прибыль воды. — Переправа на плоту. — Дерсу в опасности. — Привязанное дерево. — Спасение. — Возвращение к морю. —Смешное недоразумение. — Прибрежные горные речки. — Скала Ван-Син-лаза. — Кольчатый тюлень. — Бивак около устья Кулумбе. — Тень и душа. — Пятнистый олень.
Ночью мы мало спали, зябли и очень обрадовались, когда на востоке появились признаки зари. Солнце ещё пряталось за горизонтом, а на земле было уже все видно. Горная страна с птичьего полёта! Какая красота! Куда ни глянешь — всюду горы, вершины их, то остроконечные, как петушиные гребни, то ровные, как плато, то куполообразные, словно морская зыбь, прятались друг за друга, уходили вдаль и как будто растворялись во мгле. Но вот взошло солнышко и пригрело землю. Иней исчез, и трава из пепельно-серебристой снова сделалась буро-жёлтой и сухой. Собрав свои котомки, мы стали взбираться на самую высокую гору. Много раз мы садились отдыхать, затем опять карабкались вверх и только к полудню достигли её вершины. По барометрическим измерениям, высота горы оказалась равной 1570 метрам. Я назвал её Шайтаном. Это самая высокая точка в центральной части Сихотэ-Алиня. Восточные склоны — каменистые и крутые, западные — пологие. Камни, покрывающие вершину Шайтана, были так плотно уложены, что можно подумать, будто их кто-нибудь нарочно утрамбовывал и пригонял друг к другу. Спуск с горы отнял у нас тоже много времени. В следующей, соседней седловине барометр показывал 1066 метров. Отсюда Сихотэ-Алинь поворачивает на северо-восток. Дальше мы по нему не пошли и начали спуск в долину реки Сицы. С большой горы всегда надо спускаться осторожно, не торопясь, иногда останавливаться. Осыпи, мхи и кедровые стланцы теперь остались позади. Здесь я нашёл мохнатую чёрную смородину. Ниже росла рябина, мелкая лиственница и низкорослая берёза, ещё ниже — кедр, потом — чёрная берёза, дуб и все прочие деревья. В полдень мы остановились на привал. Пока кипятили чай, я успел сделать несколько фотографических снимков. Сица в верховьях состоит из двух речек, каждая из них в свою очередь разбивается на два ручья, потом ещё и ещё. Все ручьи сбегают в обширную котловину, изрезанную оврагами. Нигде хребет Сихотэ-Алинь не выступает так величественно и резко, как в истоках Сицы. Здесь он действительно кажется высоким горным хребтом. Всюду в обнажениях я видел кристаллические сланцы и кварцы, окрашенные окисью меди. Китайцы говорят, что на Сице есть золото, а в горах—горный хрусталь. В долине Сицы раньше были хорошие хвойные смешанные леса, впоследствии выгоревшие. Теперь на месте пожарища выросли березняки 25-летнего возраста. Река Сица считается хорошим охотничьим местом, и действительно, следы изюбров встречались чуть ли не на каждом шагу. Избитая земля, истрёпанные кусты, клочья шерсти и обломки рогов говорили о том, что здесь происходят главные бои. К вечеру мы дошли до маленькой зверовой фанзы, которую, по словам Чан Лина, выстроил кореец-золотоискатель. Золота он не нашёл, но соболей в тот год поймал много. Тут мы остановились. В сумерки Чаи Лин и Дерсу ходили на охоту и убили сайка[232]. Ночью они по очереди сушили мясо. Дальнейший путь лежал вниз по Сице. Она шириной около 4 метров, глубиной 0,6 метра и в нижнем течении очень порожиста и бурлива. По мере того как мы отходили от водораздела, долина суживалась всё более и более и наконец превратилась в глубокое ущелье. Здесь с обеих сторон высятся мощные древнеречные террасы, состоящие из глинистых сланцев с прослойками жёлтого мелкозернистого песчаника и молочно-белого кварца. Сланцы сильно перемяты и кажутся плойчатыми. С левой стороны террасы стоит одинокая скала, похожая на старинную башню. Вместе с Чан Лином мы поднялись наверх, чтобы с высоты её посмотреть на верховья Такемы. До истоков было ещё далеко. Река загибается на север и охватывает истоки Кусуна. В самых верховьях Такема принимает в себя справа и слева ещё по одному притоку. Правый называется Чен-Шенза[233], левый — Сяодунца[234]. Немного выше устьяпоследней, на левом берегу Такемы, по словам Чан Лина, есть скалистая сопка, куда удэхейцы боятся ходить: там с гор всегда сыплются камни, там — обиталище злого духа Какзаму. Из всего изложенного выше явствует, что хребет Сихотэ-Алинь по отношению к Такеме идёт под углом, сначала небольшим, а затем, по мере отклонения реки к югу, увеличивающимся всё больше и больше. Спустившись с Сихотэ-Алиня в долину Сицы, мы заночевали в зверовой фанзочке Чан Лина, где он за два года поймал 86 соболей. На следующий день к полудню мы дошли до реки Такемы и направились вниз по её течению, придерживаясь правого края долины. По пути мы видели одного медведя и нескольких изюбров. Полюбовавшись красивой горной панорамой, мы пошли вниз по правому берегу Такемы и, немного не доходя до реки Сяо-Дунанцы[235], стали биваком. С утра хмурившаяся погода к вечеру разразилась сильным дождём. С первых же капель стало видно, что дождь будет затяжной. Палатки мы поставили хорошо, натаскали сухих дров и потому ночь провели спокойно. Утром дождь пошёл ещё сильнее. Пришлось продневать. Мои спутники убивали время разговорами, спали или пили чай, а я занимался своей обычной работой. Часов в одиннадцать утра была короткая гроза. Молнии не было видно; гром грохотал где-то вверху, в облаках, тучи шли вразброд, и ветер часто менял направление. Целый день и всю ночь шёл дождь с удивительным постоянством. На рассвете 17 сентября тучи рассеялись и опять ударил мороз. Вершины гор забелели от снега и в этом уборе приняли праздничный вид. Земля, пригретая солнечными лучами, стала оттаивать; онемевшая было вода ожила и тонкими струйками стала сбегать по скатам, и чем. ниже, тем бег её становился стремительнее; это подбодрило всех. Словно сговорившись, мы проворно собрали свои котомки и бодро пошли дальше и около полудня были близ реки Ноготхо (Ага-то), впадающей в Такему с левой стороны. По ней можно перевалить в реку Чеэ-Бязани (приток Кусуна). Как мы ни старались, но в этот день нам удалось дойти только до устья реки Тянь-чин-гоуза. Небольшая тропка привела нас к фанзочке, построенной среди густого леса, в расстоянии одного километра от Такемы; тут мы заночевали, а утром снова продолжали свой путь вниз по долине реки Такемы. После грозы погода установилась хорошая, и мы продвигались довольно быстро. Я заметил, что каждый раз, когда тропа приближалась к реке спутники мои о чём-то тревожно говорили между собой. Скоро всё разъяснилось: от последних дождей вода в Такеме поднялась выше своего уровня, и этого было достаточно, чтобы воспрепятствовать нам перейти вброд. Оставалось или продолжать путь по правому берегу до реки Сяо-Кунчи и затем через перевал выйти в долину реки Илимо, или же переправиться через Такему где-нибудь выше Такунчи. Путь через реку Илимо был длинный и кружный. Посоветовавшись между собой, мы решили попытаться переправиться через реку на плоту и только в случае неудачи идти к верховьям Илимо и по ней к устью Такемы. Для этого надо было найти плёс, где вода шла тихо и где было достаточно глубоко. Такое место скоро было найдено немного выше последнего порога. Русло проходило здесь около противоположного берега, а с нашей стороны тянулась длинная отмель, теперь покрытая водой. Свалив три большие ели, мы очистили их от сучьев, разрубили пополам и связали в довольно прочный плот. Работу эту мы закончили перед сумерками и потому переправу через реку отложили до утра. Вечером мы ещё раз совещались. Решено было, что, когда плот понесёт вдоль берега, Аринин и Чжан Бао должны будут соскочить с него первыми, а я стану сбрасывать вещи. Чан Лин и Дерсу будут управлять плотом. Затем спрыгиваю я, за мной Дерсу, последним оставляет плот Чан Лин.

На другой день мы так и сделали. Котомки положили посредине плота, поверх них ружья, а сами распределились по концам. Едва мы оттолкнули плот от берега, как его сразу подхватило течение и, несмотря на наши усилия, отнесло далеко ниже того места, где мы рассчитывали высадиться. Как только плот подошёл к противоположному берегу, Чжан Бао и Аринин, захватив с собой по два ружья, спрыгнули на землю. От этого толчка плот немного отошёл к середине реки. Пока его несло вдоль берега, я принялся сбрасывать вещи. Дерсу и Чан Лин прилагали все усилия подвести плот возможно ближе к берегу, дабы дать возможность мне высадиться. Я уже собрался было это сделать, как вдруг у Чан Лина сломался шест и он полетел головой в воду. Вынырнув, он поплыл к берегу. Тогда я схватил запасной шест и бросился помогать Дерсу. Немного дальше виднелся каменный выступ. Дерсу закричал мне, чтобы я прыгал как можно скорее. Не зная его плана, я продолжал работать шестом. Не успел я опомниться, как он поднял меня на руки и бросил в воду. Я ухватился руками за куст и выбрался на берег. В это мгновение плот ударился о камень, завертелся и опять отошёл на середину реки. На плоту остался один Дерсу. Мы бросились бегом по берегу с намерением протянуть гольду шест, но река здесь делала изгиб, и мы не могли догнать плот. Дерсу делал отчаянные усилия, чтобы снова приблизить его к берегу. Но что значила его сила в сравнении с течением реки! Впереди, метрах в 30, шумел порог. Стало ясно, что Дерсу не справится с плотом и течение непременно увлечёт его к водопаду. Недалеко от порога из воды торчал сук утонувшего тополя. Чем ближе приближался плот к водопаду, тем быстрее несло его течением. Гибель Дерсу казалась неизбежной. Я бежал вдоль берега и что-то кричал. Сквозь чащу леса я видел, что он бросил шест, стал на край плота и в тот момент, когда плот проносился мимо тополя, он, как кошка, прыгнул на сук и ухватился за него руками. Через минуту плот достиг порога. Два раза из воды показались концы брёвен, и затем их разметало на части. Крик радости вырвался из моей груди. Но тотчас же появился новый тревожный вопрос: как теперь снять Дерсу с дерева и надолго ли у него хватит сил? Сук торчал из воды наклонно по течению, под углом градусов в 30. Дерсу держался крепко, обхватив его руками и ногами. К несчастью, у нас не было ни одной верёвки: они все ушли на увязку плота и теперь погибли с ним вместе. Что делать? Медлить было нельзя. Руки у Дерсу могли озябнуть, устать и тогда… Мы стали совещаться. В это время Чан Лин обратил внимание на Дерсу, который делал нам рукой какие-то знаки. За шумом воды в реке нельзя было расслышать, что он кричал. Наконец мы поняли его: он просил рубить дерево. Валить дерево в реку против самого Дерсу было опасно, потому что оно могло сбить его с сука, за который он держался. Значит, надо было рубить дерево выше. Выбрав большой тополь, мы начали было его рубить, но увидели, что Дерсу отрицательно замахал рукой. Тогда мы подошли к липе — Дерсу замахал снова. Наконец мы остановились около большой ели… Дерсу дал утвердительный знак. Теперь мы поняли его. Ель не имеет толстых ветвей, и потому она не застрянет в реке, а поплывёт. В это время я заметил, что Дерсу показывает нам ремень. Чжан Бао понял этот знак. Дерсу указывал, что ель надо привязать. Я спешно стал развязывать котомки и собирать всё, что было подходящего и что могло хоть как-нибудь заменить верёвки. Для этого пошли ружейные, поясные ремни и ремни от обуви. В котомке Дерсу оказался ещё один запасной ремень. Мы все их связали вместе и одним концом привязали ель за основание. После этого мы дружно взялись за топоры. Подрубленная ель покачнулась. Ещё маленькое усилие — и она стала падать в воду. В это время Чжан Бао и Чан Лин схватили концы ремней и закрутили их за пень. Течение тотчас же начало отклонять ель к порогу, она стала описывать кривую от середины реки к берегу, и в тот момент, когда вершина проходила мимо Дерсу, он ухватился за хвою руками. Затем я подал ему палку, и мы без труда вытащили его на берег. Первое, что я сделал, — поблагодарил гольда за то, что он вовремя столкнул меня с плота. Дерсу смутился и стал говорить, что так и надо было, потому что если бы он соскочил, а я остался на плоту, то погиб бы наверное, а теперь мы все опять вместе. Он был прав, но тем не менее он рисковал жизнью ради того, чтобы не рисковал ею я. Человек скоро забывает опасность. Едва она минует, сейчас же он начинает шутить. Чан Лин хохотал во всё горло и кривлялся, изображая, как Дерсу сидел на суку, Чжан Бао говорил, что Дерсу так крепко ухватился за сук, что он подумал, не приходится ли он сродни медведю? Смеялся и сам Дерсу тому, как Чан Лин упал в воду; посмеялся и надо мною, как я очутился на берегу, сам того не помня, и т. д. Вслед за тем мы принялись собирать разбросанные вещи. Когда работа была кончена, солнце уже скрылось за лесом. Вечером мы долго сидели у огня. Чжан Бао и Чан Лин рассказывали о том, как каждый из них тонул И как они спасались от гибели. Мало-помалу разговоры на биваке начали стихать. Рассказчики молча ещё покурили трубки и затем стали укладываться спать, а я взялся за дневник. Кругом было темно. Вода в реке казалась бездонной пропастью. В ней отражались звёзды. Там, наверху, они были неподвижны, а внизу плыли с водой, дрожали и вдруг вновь появлялись на прежнем месте. Мне было особенно приятно, что ни с кем ничего не случилось. С этими радостными мыслями я задремал. На другой день мы продолжали наш путь вниз по долине реки Такемы и в три с половиной дня дошли до моря уже без всяких приключений. Это было 22 сентября. С каким удовольствием я растянулся на чистой циновке в фанзе у тазов! Гостеприимные удэхейцы окружили нас всяческим вниманием: одни принесли мясо, другие — чай, третьи — сухую рыбу. Я вымылся, надел чистое бельё и занялся работой. Следующие два дня были дождливые, в особенности последний. Лёжа на кане, я нежился под одеялом. Вечером перед сном тазы последний раз вынули жар из печей и положили его посредине фанзы в котёл с золой. Ночью я проснулся от сильного шума. На дворе неистовствовала буря, дождь хлестал по окнам. Я совершенно забыл, где мы находимся; мне казалось, что я сплю в лесу, около костра, под открытым небом. Сквозь темноту я чуть-чуть увидел свет потухающих углей и испугался. — Дерсу, Дерсу! — закричал я. — Вставай скорей! Дождь сейчас зальёт огонь. Дерсу поднялся со своего ложа. — Ничего, ничего, капитан! Сейчас мы кладём огонь поближе, — сказал он и начал искать топор. — Тьфу! — вдруг услышал я его голос. — Как так обмани? Наша в фанзе спи. Тебе капитан играй. Тут только я спохватился, что сплю не в лесу, а в фанзе, на кане и под тёплым одеялом. Со сладостным сознанием я лёг опять на своё ложе и под шум дождя уснул крепким-крепким сном. Утром 25 сентября мы распрощались с Такемой и пошли далее на север. Я звал Чан Лина с собой, но он отказался. Приближалось время соболевания; ему надо было приготовить сетку, инструменты и вообще собраться на охоту на всю зиму. Я подарил ему маленькую берданку, и мы расстались друзьями[236]. От Такемы на север идут два пути: один — горами, вдали от моря, другой — по намывной полосе прибоя. А. И. Мерзляков с лошадьми пошёл первым, а я — вторым. Путь А. И. Мерзлякова начинался от фанзы удэхейца Сиу Ху и шёл прямо на восток, пересекая несколько маленьких перевальчиков. Перейдя речку Хуля, он повернул к северо-востоку, затем пересёк ещё одну реку — Шооми (в верховьях) —и через трое суток вышел на реку Кулумбе. Здесь, около скалы Мафа, он где-то видел выходы каменного угля на поверхность. После перевала по другой безымянной горной речке он пришёл на реку Найну, прямо к корейским фанзам. Как я уже сказал, я избрал второй путь — по берегу моря. Подойдя к устью Такемы, я увидел, что, пока мы ходили в горы, река успела переменить своё устье. Теперь оно было у левого края долины, а там, где мы переезжали реку на лодке, образовался высокий вал из песка и гальки. Такие перемещения устьев рек в прибрежном районе происходят очень часто в зависимости от наводнений и от деятельности морского прибоя. Большие обнажения на берегу моря к северу от реки Такемы состоят главным образом из лав и их туфов (биолитовый дацит), дальше тянутся полевошпатовые сланцевые породы и диорит. Тип берега кулисный. Действительно, мысы выступают один за другим наподобие кулис в театре. Вблизи берега нигде нет островов. Около мысов, разрушенных морским прибоем, кое-где образовались береговые ворота. Впоследствии своды их обрушились, остались только столбы — любимые места отдыха птиц. После Такемы в последовательном порядке идут горные речки: Коами (по-удэхейски Агана, а на морских картах — Лоаен-гоу), потом около мыса Большева будет речка Шооми (по-китайски Сеами, по-удэхейски Соми). Долины их близ моря слились вместе и образовали обширную низину, покрытую редколесьем. Шооми длиной 12 километров. Истоки её находятся около горы Туманной с перевалом на реку Такему, к местности Илимо. Долина последней речки непропорционально широка, в особенности в верхней части. Горы с левой стороны так размыты, что можно совершенно незаметно перейти в соседнюю с ней реку Кулумбе. Здесь я наблюдал такие же каменные россыпи, как и на реке Аохобе. Воронки среди них, диаметром около 2 метров и глубиной 1,5 метра, служат водоприёмниками. Через них вода уходит в землю и вновь появляется на поверхности около устья. К северу от реки Шооми характер горной страны выражен очень резко. Быть может, это только так кажется из-за контраста остроконечных сопок с ровной поверхностью моря. Редколесье, покрывающее склоны гор, состоит преимущественно из монгольского дуба, амурской липы и даурской берёзы. Главную массу кустарников составляют калина, таволга, леспедеца, шиповник и лещина. Здесь, на каменистых склонах, попутно я собрал колокольчик (платикодон крупноцветный), одно из самых обычных и красивых растений формации орешников и лугов на местах выгоревшего леса. Видовое название этого колокольчика показывает, что цветы его крупной величины; потом я заметил тимьян с уже поблекшими жёсткими фиолетовыми цветами; крупную веронику, имеющую бархатисто-опушённые стебли и короткие остроконечные зубчатые листья. Каков цветок у неё — сказать не могу. Судя по увядшим венчикам, мне показалось, что у неё были не белые, а синие цветы. Затем борец — пышное высокое растение с мелким пушком в верхней части стебля и бархатистыми большими листьями; засохшие цветы его, расположенные крупной кистью, вероятно, были тёмно-голубые. И наконец — мелколистную смолёвку; цветы её уже опали, остались только бокалообразные чашечки с выдающимися наружу длинными тычинками. Осмотр реки Шооми отнял довольно много времени. После полудня мы повернули назад, к морю, и направились к горам, расположенным с левой стороны долины. Удэхейцы называют их Саха-дуони и Канда-дуони (мыс Черта Канда). Каждая из них высотой около 240 метров. Часа через два с половиной мы подошли к реке Кулумбе. Южный мыс с правой стороны заслуживает особого внимания. Здесь можно наблюдать великолепные образцы столбчатого распадения базальтов. С левой стороны реки поднимается высокая терраса, свидетельствующая об отрицательном движении береговой линии. По берегам реки и на островах растёт тонкоствольный ивняк, а на террасе — редкий липовый и дубовый лес. За ним высится высокий утёс, которому местные китайцы дали название Янтун-Лаза[237]. Переправившись через Кулумбе вброд, мы взобрались на террасу, развели огонь и начали сушиться. Отсюда, сверху, хорошо было видно всё, что делается в воде. Только что начался осенний ход кеты. Тысячи тысяч рыб закрывали дно реки. Иногда кета стояла неподвижно, но вдруг, словно испугавшись чего-то, бросалась в сторону и затем медленно подавалась назад. Чжан Бао стрелял и убил двух рыб. Этого было вполне достаточно для нашего ужина. У северного края долины, в том месте, где береговая терраса примыкает к горам, путь преграждается высокой скалой, состоящей из роговообманкового андезита. Тут надо карабкаться вверх, за камни хвататься нельзя: они качаются и вываливаются из своих гнёзд. По ту сторону утёса тропа лепится по карнизу на высоте 20 метров над морем. Идти прямо по тропе опасно, потому что карниз узок, можно двигаться только боком, оборотясь лицом к стене и держась руками за выступы скалы. Самый карниз неровный и имеет наклон к морю. Здесь погибло много людей. Удэхейцы скалу эту называют Куле-Рапани, а китайцы — Ван-Син-лаза, по имени китайца Ван Сина — первой жертвы неосторожности. В сапогах по карнизу идти рискованно; люди обыкновенно идут босые или надевают обувь мягкую и сухую. Ван-Син-лаза нельзя переходить в дождливую погоду, утром после росы и во время гололедицы. После перехода вброд реки Кулумбе наша обувь была мокрой, и потому переход через скалу Ван-Син-лаза был отложен до другого дня. Тогда мы стали высматривать место для бивака. В это время из воды показалось какое-то животное. Подняв голову, оно с видимым любопытством рассматривало нас. Это была нерпа. Кольчатый тюлень, или нерпа, относится к отряду ластоногих. Тело её длиной более 2 метров и весит около 80 килограммов. По берегам Уссурийского края нерпы встречаются повсеместно, но, чем севернее, тем больше, что объясняется безлюдностью побережья. Окраска тела животного светло-серая с серебристым оттенком и с ясно выраженными тёмными кольцевыми пятнами. Животное большую часть времени проводит в воде, но иногда для отдыха вылезает на прибрежные камни. Сон нерпы тревожен: она часто просыпается и оглядывается по сторонам. Слух и зрение у неё развиты лучше других чувств. Насколько она неповоротлива на суше, настолько проворна в воде. В своей родной стихии она становится смелой до дерзости и даже нападает на человека. Отличительные черты характера нерпы — любопытство и любовь к музыке. Охотники подзывают её свистом или ударами палки по какому-нибудь металлическому предмету. Дерсу что-то закричал нерпе. Она нырнула, но через минуту опять появилась. Тогда он бросил в неё камень. Нерпа погрузилась в воду, но вскоре поднялась снова и, задрав голову, усиленно смотрела в нашу сторону. Это вывело гольда из терпения. Он схватил первую попавшуюся ему под руку винтовку и выстрелил. Пуля всплеснула совсем близко от животного. — Эх, брат, промазал ты, — сказал я ему. — Моя его пугай.; — ответил он. — Убей не хочу. Я спросил, зачем он прогнал нерпу. Дерсу сказал, что она считала, сколько сюда, на берег, пришло людей. Человек может считать животных, но нерпа?! Это очень задевало его охотничье самолюбие. Остаток дня мы распределили следующим образом: Чжан Бао и Дерсу пошли осматривать скалу — они хотели обвалить непрочные камни и, где можно, устроить ступеньки, а я почти до самых сумерек вычерчивал маршруты. Покончив работу, я кликнул свою собаку и, взяв ружьё, пошёл немного побродить по берегу. Дойдя до реки Кулумбе, я сел на камень и стал вслушиваться в тихие, как шёпот, звуки, которыми всегда наполняется тайга в часы сумерек. Безбрежный океан, сонная земля и глубокое тёмное небо с миллионами неведомых светил одинаково казались величественными. Собака моя сидела рядом со мной и, насторожив уши, тоже внимательно прислушивалась к лесным звукам. Вдруг она встрепенулась и стала смотреть вверх по реке. Вслед за тем позади себя я услышал сопение. Я быстро обернулся. Какая-то тёмная масса двигалась около реки. Это был большой медведь. Урок, данный мне в прошлом году на реке Мутухе, был ещё памятен, и я воздержался от выстрела. Но Альпа не выдержала и стала лаять. Медведь остановился, понюхал воздух, затем повернул назад и с ворчаньем пошёл опять в тальники. Я встал и поспешно направился к биваку. Костёр на таборе горел ярким пламенем, освещая красным светом скалу Ван-Син-лаза. Около огня двигались люди; я узнал Дерсу — он поправлял дрова. Искры, точно фейерверк, вздымались кверху, рассыпались дождём и медленно гасли в воздухе. Через четверть часа я был вместе со своими товарищами. После ужина мы долго сидели у огня и разговаривали; говорили больше Дерсу и Чжан Бао, а я слушал. Время летело незаметно. Когда мы кончили беседу, созвездие Близнецов уже показывало полночь. Подбросив ещё раз дров в огонь, мы завернулись в одеяла и легли спать. Бивак этот почему-то оставил во мне неизгладимое впечатление. На другой день, 26 сентября, вышло как-то так, что мы все встали очень рано. Утренняя заря была багровая, солнце взошло деформированное; барометр показывал 758 мм и температуру + 6° С. Греясь у костра, мы пили чай. Вдруг Чжан Бао что-то закричал. Я обернулся и увидел мираж. В воздухе, немного выше поверхности воды, виднелся пароход, две парусные шхуны, а за ними горы, потом появилась постройка, совершенно непохожая ни на русский дом, ни на китайскую фанзу. Явление продолжалось несколько минут, затем оно начало блекнуть и мало-помалу рассеялось в воздухе. Все принялись обсуждать. Чжан Бао сказал, что явления миража в прибрежном районе происходят осенью и большей частью именно в утренние часы. Я пытался объяснить моим спутникам, что это такое, но видел, что они меня не понимают. По выражению лица Дерсу я видел, что он со мной не согласен, но из деликатности не хочет делать возражений. Я решил об этом поговорить с ним в дороге. Когда мы выступили с бивака, я стал его расспрашивать. Сначала он уклонялся от ответов, и я уже терял надежду узнать от него что-нибудь, но одно слово, сказанное мною, дало толчок. Я сказал «тень» и попал как раз в точку. Однако слово «тень» он понимал в смысле тени астральной, в смысле души. После этого Дерсу принялся мне объяснять явление миража очень сложно. По его представлению, душу — тень (ханя) —имеют не только люди, животные, птицы, рыбы, насекомые, но и растения, и камни, и вообще все неодушевлённые предметы. — Люди спи, — говорил Дерсу, — ханя ходи; ханя назад ходи — люди проснулся. Душа оставляет тело, странствует и многое видит в то время, когда человек спит. Этим объясняются сны. Душа неодушевлённых предметов тоже может оставлять свою материю. Виденный нами мираж, с точки зрения Дерсу, был тенью (ханя) тех предметов, которые в это время находились в состоянии покоя. Так первобытный человек, одушевляя природу, просто объясняет такое сложное оптическое явление, как мираж. Переправа через скалу Ван-Син-лаза действительно была очень опасна. Я старался не глядеть вниз и осторожно переносил ногу с одного места на другое. Последним шёл Дерсу. Когда он спустился к берегу моря, я облегчённо вздохнул. Сейчас же за скалой течёт маленький ключ Дзалянкуни (на картах — Талянкуни), рядом с ним гора Уонгу и затем две речки: Момокчи и Асектани (на картах — Остегни). От устья Кулумбе до Асектани— 10 километров. Места эти очень интересны в зоогеографическом отношении. Здесь находится последний естественный питомник пятнистых оленей. Животное это по своим размерам занимает промежуточное место между козулей и изюбром и является единственным представителем хвостатых оленей. Летняя окраска его весьма пёстрая: общий тон шерсти красно-кирпичный; по сторонам тела расположено семь рядов белых пятен величиной с яблоко; по спине проходит чёрный ремень; хвост животного, которым он постоянно помахивает, украшен длинными чёрными волосами. Зимой олень становится буро-серым и пятна почти совсем исчезают. Мускулистая шея его покрыта довольно длинной шерстью, которая спереди и на груди несколько темнее, чем на остальных частях тела. Рога самцов не имеют нижних глазных отростков, как у изюбров; панты ценятся китайцами очень высоко (от 800 до 1200 рублей пара). В Уссурийском крае пятнистый олень обитает в южной части страны. Северной границей его распространения в бассейне Уссури можно считать реку Иман и на берегу моря реку Амагу (мыс Арка). За последние 20 лет площадь обитания оленей сократилась раз в десять. В тех местах, где раньше они бродили стадами, поселились корейцы и начали уничтожать леса. Бедные животные стали отходить на север, но не могли выдержать жизни в хвойных лесах и погибли очень скоро. В настоящее время во всём Уссурийском крае есть только три естественных питомника: остров Аскольд в заливе Петра Великого; горная область с правой стороны в верховьях реки Судзухе (местность Юм-бей-си) и небольшой участок на побережье Японского моря, между реками Кулумбе и Наиной (мыс Арка). Как только зверопромышленники пронюхают об этом, они быстро перебьют всех оленей. Местным властям в крае следовало бы позаботиться об охране этих питомников теперь же, пока ещё не поздно.
Глава двенадцатая Корейцы—соболёвщики

Мелкие речки прибрежного района. — Корейская фанза. — Водяная толчея. — Река Найна. — Корейская соболиная ловушка. — Влияние колонизации на край. — Мыс Арка. — Река Квандагоу. — Река Кудя-хе. — Старообрядческая деревня. — Удэхейцы. — Климат прибрежного района. — Фенология. — Ботанические и зоогеографические границы. — Река Амагу. — Лось.
Чем дальше на север, тем террасы на берегу моря становятся всё выше и выше. Особенно сильно они развиты около устьев горных речек: Гаппакси, Була (по-китайски Яндиоза), Толомги, Кулумбе, Момокчи и Найны, где достигают высоты 15 метров. Около Момокчи они углубляются в долину и идут по сторонам её в виде ясно выраженных карнизов. Основание террас массивное, а верхняя часть состоит из угловатых обломков вперемежку с глиной, вследствие чего сверху они всегда заболочены. Здесь на берегу моря впервые встречается лиственница, растущая группами. География части побережья между Момокчи и Найной такова: высокий горный хребет Габади тянется под острым углом по отношению к берегу моря. По ту сторону его будет бассейн реки Кулумбе, по эту — мелкие речки, имеющие только удэхейские названия: Яшу (на картах — Ячасу), Уяхги-Бязани, Санкэ, Капуты, Янужа и другие. Между ними следует отметить три горные вершины: Габади, Дюхане и гору Яндоюза, а около устья реки Яшу — одинокую скалу Када-Буди-Дуони. На морских картах она названа горой Ожидания. От реки Кулумбе на север до реки Найны горные породы располагаются следующим образом: сперва идёт андезит со столбчатым, несколько веерообразным распадением, дальше будет дацит с тридимитом и кремнистые сланцы. Близ устья реки Момокчи (мыс Александра) горы состоят из сильно изменившегося кварцевого порфирита и весьма плотной грейзеноподобной породы. В ней в виде редких шлир встречается серный блеск. Между реками Яшу и Момокчи от массы горы в море выдвигаются два мыса, имеющие удэхейские названия: Ухэ-дуони и Копочи-дуони. Наконец около реки Найны в береговых обнажениях видна какая-то бурая, сильно метаморфизированная сложная порода. У подножия найнийских террас, на самом берегу моря, мы нашли корейскую фанзу. Обитатели её занимались ловлей крабов и соболеванием. В фанзе жило девять холостых корейцев. Среди них двое одетых по-китайски и один по-удэхейски. Они носили косы и имели подбритые лбы. Я долго их принимал за то, чем они казались, и только впоследствии узнал, кто они на самом деле. Подходя к фанзе, я услышал шум воды и затем звук от падения чего-то тяжёлого. Сначала я не обратил на это внимания, но, когда звук повторился во второй, третий и в десятый раз, я спросил, что это значит. Чжан Бао сказал, что это корейская толчея, приводимая в движение водою. Такая толчея устраивается около ручья следующим образом: на двух опорах лежит свободно вращающийся валик, проходящий сквозь длинное коромысло с неравными плечами. К короткому плечу прикреплён тяжёлый пест, под которым поставлена большая деревянная ступа. Другое (длинное) плечо коромысла оканчивается ковшом. Стекающая по жёлобу вода наполняет ковш. Получив значительный вес, он опускается вниз, поднимая пест кверху. Как только ковш наклонится, из него разом выливается вода, тогда перетягивает пест и падает в ступу. Из всех восточных народов на материке Азии корейцы первые додумались до использования живой силы воды. У китайцев таких машин нет. Иногда толчеи устраиваются дома или в самой фанзе. В последнем случае вместо ковша коромысло кончается плоской лопатой, а машина приводится в движение давлением ноги. Эту работу обыкновенно исполняют женщины. На возвратном пути в фанзу я услышал ещё какой-то шум в сарае — это корейцы мололи муку при помощи ручных жерновов, наложенных один на другой. К верхнему прикреплён короткий рычаг, при помощи которого он и приводится в движение. Зерно насыпается в деревянный ящик, откуда оно течёт в отверстие верхнего камня и затем к зазорам между жерновами. Как и надо было ожидать, наше появление вызвало беспокойство среди корейцев. В фанзе было свободно, и потому мы разместились на одном из канов. Дерсу сделал вид, что не понимает их языка, и внимательно стал прислушиваться к тому, что они говорили между собою. Из этого разговора он узнал, что среди корейцев есть несколько искателей руд, остальные — охотники, пришедшие за провизией с реки Кулумбе, где у них имеются зверовые фанзы. 27 сентября было посвящено осмотру реки Найны, почему-то названной на морских картах Яходеи-Санка. Река эта длиной 20 километров; истоки её находятся в горах Карту, о которых будет сказано ниже. Сначала Найна течёт с севера на юг, потом поворачивает к юго-востоку и последние 10 километров течёт к морю в широтном направлении. В углу, где река делает поворот, находится зверовая фанза. Отсюда прямо на запад идёт та тропа, по которой прошёл А. И. Мерзляков со своим отрядом. Корейская зверовая фанза — это небольшая постройка, сложенная из брёвен, с пологой двускатной крышей из кедрового корья. Она имеет два или три окна, по одному с каждой стороны, и две двери, всегда обращённые к речке. Внутреннее устройство её такое же, как и в китайских фанзах. Тут есть очаг с железным котлом и кан для спанья, нагреваемый дымовыми ходами. Вся внутренняя обстановка сделана грубо, топорно, чтобы не жаль было бросить её в случае, если придётся переходить на другое место. И снаружи, по типу постройки, и по внутренней обстановке всегда можно отличить корейскую зверовую фанзу от китайской. Время было осеннее, и корейцы начали уже соболевать. Недалеко от фанзы мы увидели и самые ловушки на соболя, так называемые мосты. Для устройства их корейцы пользуются буреломным лесом, переброшенным с одного берега реки на другой. Иногда они нарочно для этого валят деревья, если место кажется подходящим, а валежника вблизи нет. Посредине бревна из мелких прутиков сделана изгородь, в которой оставлен узкий проход, а в нём в вертикальном положении укреплена волосяная петля. По бокам бревно отёсано так, чтобы соболь не мог обойти изгородь стороной. Петля одним концом привязана к деревянной палочке, которая небольшим выступом чуть только держится на маленьком упорце. К этой палочке привязан груз (камень) весом 3—4 килограмма. Когда соболь бежит по такому «мосту», он натыкается на изгородь, старается её обойти, но гладкие затёски мешают ему; тогда он пробует перескочить через петлю, запутывается, тянет её за собой и срывает палочку с упорца. Груз падает в воду и увлекает за собой дорогого хищника. Корейцы считают, что их способ соболевания самый лучший, потому что ловушка действует наверняка и случаев, чтобы соболь ушёл, не бывает. Кроме того, под водой соболь находится в сохранности и не может быть испорчен воронами или сойками. В корейские ловушки, так же как и в китайские, часто попадают белки, рябчики и другие мелкие птицы. Вся долина реки Найны покрыта горелым лесом — пожар был здесь несколько лет назад. Ныне на месте хвойного леса вырос молодняк, состоящий из берёзы, лиственницы и осины. К вечеру мы вернулись назад. Дерсу недолюбливал корейцев и, несмотря на то что на дворе было холодно и ветрено, отказался ночевать в фанзе. Он устроил себе бивак на берегу моря, под защитой террасы. Вечером, после ужина, я пошёл посмотреть, что он делает. Дерсу сидел, поджав под себя ноги, и курил трубку. Мне показалось у него так уютно, что я не мог отказать себе в удовольствии погреться у огня и поговорить с ним за кружкой чая. — Дерсу, — сказал я ему, — я о тебе соскучился. Как только тебя нет около меня, чувствую, что чего-то не хватает. — Спасибо, капитан, — ответил он с улыбкой, — спасибо! Моя тоже так. Тебе сопка один ходи — моя шибко боится. Он подвинулся. Я сел рядом с ним и спросил его, почему он не любит корейцев. Дерсу стал вспоминать дни своего детства, когда, кроме гольдов и удэхе, других людей не было вовсе. Но вот появились китайцы, а за ними — русские. Жить становилось с каждым годом все труднее и труднее. Потом пришли корейцы. Леса начали гореть; соболь отдалился, и всякого другого зверя стало меньше. А теперь на берегу моря появились ещё и японцы. Как дальше жить? Дерсу замолк и задумался. Перед ним воскресло далёкое прошлое. Он весь ушёл в эти воспоминания. Задумался и я. Действительно, Приморье быстро колонизировалось. Недалеко уже то время, когда от первобытной, девственной тайги и следа не останется. Исчезнут и звери. Мы сидели молча, и каждый по-своему думал об одном и том же. — Как дальше жить? — вдруг опять проговорил Дерсу и глубоко вздохнул. — Ничего, старик, — ответил я ему, — на наш с тобой век хватит. В это время подошёл к нам Чжан Бао и, смеясь, стал рассказывать, как кореец впотьмах наступил на голову другому корейцу, как тот в отместку вымазал ему физиономию чумизной кашей. Разговор наш переменился. На другой день мы продолжали наш путь далее на север. Погода стояла пасмурная, но дождя не было. К северу от реки Найны до реки Амагу тянутся андезиты и кварцево-порфировый туф. Особенного внимания заслуживают обнажения около реки Амагу (мысы Белкина и Арка). Здесь в пёстрых слоях туфа можно видеть пустоты с конкрециями из известкового шпата и из какой-то мягкой зеленокаменной породы. На морских картах в этих местах показаны двое береговых ворот. Одни малые — у самого берега, другие большие — в воде. Ныне сохранились только те, что ближе к берегу. Удэхейцы называют их Сангасу, что значит «Дыроватые камни», а китайцы — Кулунзуйза[238]. Об этих Дыроватых камнях у туземцев есть такое сказание. Одни люди жили на реке Нахтоху, а другие — на реке Шооми. Последние взяли себе жён с реки Нахтоху, но, согласно обычаю, сами им в обмен дочерей своих не дали. Нахтохуские удэхейцы отправились на Шооми и, воспользовавшись отсутствием мужчин, силой забрали столько девушек, сколько им было нужно. Шоомийцы погнались за ними на лодках. Когда они достигли мыса Сангасу, то не помолились, а, наоборот, с криками и руганью вошли под свод береговых ворот. Здесь, наверху, они увидели гагару, но птица эта была не простая, а Тэму (Касатка — властительница морей). Один удэхеец выстрелил в неё и не попал. Тогда каменный свод обрушился и потопил обе лодки с 22 человеками. Немного дальше камней Сангасу тропа оставляет морское побережье и идёт вверх через перевал на реке Квандагоу (приток Амагу). Эта река длиной около 30 километров. Истоки её находятся там же, где и истоки Найны. Квандагоу течёт сначала тоже в глубоком ущелье, заваленном каменными глыбами, но потом долина её расширяется. Верхняя половина течения имеет направление с северо-запада, а затем река круто поворачивает к северо-востоку и течёт вдоль берега моря, будучи отделена от него горным кряжем Чанготыкалани. Следующие два мыса называются Нюммый-дуони и Лаамчи-дуони, и, наконец, самый последний мыс около Амагу имеет русское название — Белкина, а рядом небольшая бухточка — Разочарования. По выходе из гор течение реки Квандагоу становится тихим и спокойным. Река блуждает от одного края долины к другому, рано начинает разбиваться на пороги и соединяется с рекой Амагу почти у самого моря. После перевала тропа идёт сначала правым берегом реки, потом переходит через топкое болото на левый берег, затем снова возвращается на правую сторону, каковой и придерживается уже до самого устья. В верхней половине река Квандагоу заросла хвойным лесом, а в нижней — исключительно лиственными породами: тополем, дубом, берёзой, осокорем, осиной, клёном и т. д. Путь по реке Квандагоу показался мне очень длинным. Раза два мы отдыхали, потом опять шли в надежде, что вот-вот покажется море. Наконец лес начал редеть; тропа поднялась на невысокую сопку, и перед нами развернулась широкая и живописная долина реки Амагу со старообрядческой деревней по ту сторону реки. Мы покричали. Ребятишки подали нам лодку. Наше долгое отсутствие вызвало у Мерзлякова тревогу. Стрелки хотели уже было идти нам навстречу, но их отговорили староверы. Через несколько минут я сидел в избе за столом, пил молоко и слушал доклад А. И. Мерзлякова. Весть о том, что я пришёл на Амагу, быстро пронеслась по всей деревне. Староверы встретили меня очень приветливо. Пришлось принимать гостей и отвечать им тем же. Следующие три дня были днёвки. Мы отдыхали и собирались с силами. Каждый день я ходил к морю и осматривал ближайшие окрестности. Река Амагу (по-удэхейски Амули, а по-китайски Ама-гоу) образуется из слияния трёх рек: самой Амагу, Квандагоу, по которой мы прошли, и Кудя-хе, впадающей в Амагу тоже с правой стороны, немного выше Квандагоу. Поэтому когда смотришь со стороны моря, то невольно принимаешь Кудя-хе за главную реку, которая на самом деле течёт с севера, и потому долины её из-за гор не видно. Кудя-хе — быстрая и порожистая речка длиною около 20 километров. Она протекает по широкой долине и тоже берёт начало с хребта Карту. Верхняя часть долины покрыта горелым сухостоем. Вновь появившийся молодняк состоит главным образом из осины, лиственницы и белой берёзы; ближе к морю, в горах, преобладают хвойные породы. Видно, что нижняя часть долины Амагу, где поселились староверы, раньше была морским заливом. Реки Кудя-хе и Квандагоу некогда впадали в море самостоятельно. Затем произошёл обычный процесс заполнения бухты наносами реки и отступления моря. С левой стороны ещё и теперь сохранилось длинное торфяное болото, но и оно уже находится в периоде усыхания. Ныне река Амагу впадает в море близ мыса Белкина и около устья образует небольшую заводь, которая сообщается с морем узкой протокой. Старообрядческая деревня Амагу состояла из 18 дворов. Первые переселенцы (семь семейств) перекочевали сюда в 1900 году с реки Даубихе. Живя далеко в горах, старообрядцы сохранили облик чистых великороссов. Патриархальность семьи, костюмы, утварь, вышивки на одежде, резьба по дереву и т. д. — всё это напоминало Древнюю Русь. У меня создалось впечатление, как будто я перенёсся сразу на несколько столетий назад. Интересно было наблюдать, как они жили «задним числом»: для них сенсационным событием было то, что уже прошло, чем в России давно уже перестали интересоваться. К ним заходили японские суда и очень редко — русские. Поэтому все свои закупки жители делали в Японии и только в случае крайности ходили сухопутьем в залив Ольги, совершая для этого длительные путешествия. Средствами к жизни их были земледелие и соболевание. Соболей они ловили всеми способами: и китайским, и корейским, и удэхейским. Занимались также охотой на оленей, били лосей, ловили рыбу. Ни в одежде их, ни в домашней обстановке, ни в чём другом не было заметно роскоши, но тем не менее всё указывало на то, что это народ зажиточный. Особенно много у них было коней и рогатого скота. Я насчитал 82 лошади и 84 коровы. Кроме старообрядцев на Амагу жила ещё одна семья удэхейцев, состоящая из старика мужа, его жены и трёх взрослых сыновей. К чести старообрядцев нужно сказать, что, придя на Амагу, они не стали притеснять туземцев, а, наоборот, помогли им и начали учить земледелию и скотоводству; удэхейцы научились говорить по-русски, завели лошадей, рогатый скот и построили баню. На опушке лиственного леса, что около болота, староверы часто находили неглубоко в земле бусы, серьги, браслеты, пуговицы, стрелы, копья и человеческие кости. Я осмотрел это место и нашёл следы жилищ. На старинных морских картах при устье Амагу показаны многочисленные туземные юрты. Старик рассказывал мне, что лет 30 назад здесь действительно жило много удэхейцев, но все они погибли от оспы. В 1870 году, по словам Боголюбского, на берегу моря, около реки Амагу, жило много туземцев. В климатическом отношении эта часть побережья резко отличается от мест, находящихся к западу от Сихотэ-Алиня. Лето здесь сырое и прохладное, осень долгая и тёплая, зима сухая, холодная, а весна поздняя. Первая половина зимы бесснежная, снега выпадают только в феврале и марте. Зато ноябрь и декабрь страшно ветреные. Обыкновенно ветры дуют со стороны хребта Карту. По наблюдениям староверов, если на западе в горах небо чистое — погода будет тихая, но если с утра там поднимаются кучевые облака — это верный признак сильного северо-западного ветра. Из 30 дней бывает приблизительно дней пять тихих, «морочных», 10 с сильными ветрами, а остальные 15 дней с ветрами, которые можно просто назвать свежими. На рассвете обыкновенно всегда бывает тихо; ветер начинает дуть с восхода солнца, постепенно усиливаясь, и достигает наибольшего напряжения к 2 часам пополудни. Затем ветер начинает спадать и совсем стихает после полуночи. В Южно-Уссурийском крае опилки, зарытые в землю, быстро сгнивают и превращаются в удобрение, но на побережье моря они не гниют в течение трёх лет. Это можно объяснить тем, что летом вследствие холодных туманов земля никогда не бывает парная. Первое выпадение снегов около Амагу происходит около половины декабря. Осень стоит долгая и тёплая, вследствие этого травы не сохнут, а вянут. В сырых местах, где трава растёт кочками, нижняя часть её долго ещё остаётся зелёной. Это даёт возможность рогатому скоту большую часть года держаться на подножном корму. Лошадей приходится подкармливать только весной. Старообрядцы говорят, что в год своего переселения они совершенно не имели сухого фуража и держали коров и лошадей на подножном корму всю зиму, и, по их наблюдениям, животные нисколько не похудели. Вследствие того что весна здесь наступает поздно, староверы пашут только в мае, а косят в августе. Так как лето туманное и холодное, то хлеба созревают тоже поздно. Уборка их производится в конце сентября, а иногда затягивается и до половины октября. Все овощи, в особенности картофель, растут хорошо; не созревают только дыни и арбузы. Период цветения растений и созревания плодов по сравнению с бассейном Уссури, на одной и той же широте, отстаёт почти на целый месяц. В флористическом отношении река Амагу не менее интересна, чем в климатическом. В горах растёт довольно много тиса. Любопытно, что дерево это вприбрежном районе встречается небольшими группами и не повсеместно. Южнее реки Мутухе его можно найти в лесу только одиночными деревьями. Здешняя липа не достигает таких размеров, как в Южно-Уссурийском крае, но зато ствол её массивный и не имеет дупла. В районе верховьев Уссури и южнее наблюдается обратное явление: там липа хотя и растёт в виде большого дерева, но почти всегда внутри полая. Ольха на Амагу имеет тоже очень крупные размеры и встречается не только по берегам рек, но и по теневым склонам гор. Дуб растёт небольшой, с белесоватой корой (на юге кора у дуба тёмная). Хотя жёлуди и созревают, но сами не спадают на землю, а их сбивают сильные осенние ветры. Заметно, что в здешних лесах болезненных наростов па деревьях меньше, чем к западу от Сихотэ-Алиня, и притом они встречаются только в верховьях рек. В Южно-Уссурийском крае такие наплывы достигают чрезвычайно больших размеров. Около Амагу кедр, лиственница, ель, пихта, берёза, осина произрастают хорошо, зато ясень, клён и вообще все твёрдые породы растут плохо. Чёртово дерево попадается редко и имеет чахлый вид и отмершие вершины. Реку Амагу можно считать северной границей дикого винограда и маньчжурского ореха. Первый — низкорослый, растёт исключительно на солнцепёке и с подветренной стороны, но не вызревает. Уже на реке Кусуне (немного севернее) его совсем нет. Ореха крестьяне на Амагу не видели, но однажды во время наводнения по реке плыла к ним ветка со свежей листвой. Из этого они заключили, что где-то по реке есть одно такое дерево. Крайне интересно влияние моря на растительность. Например, яд зверобоя, борца, чемерицы у моря несравненно слабее, чем в горах. То же самое можно сказать относительно укусов змей, шершней и ос. Около реки Амагу домашние пчелы могут ещё жить, но требуют за собой большого ухода. На зиму их надо тщательно прикрывать и оставлять больше корму. Завезённым сюда пчёлам трудно собирать мёд. В поисках медоносных трав им приходится совершать большие полёты. Старообрядцы заметили, что если настоящих медоносов бывает мало, то пчелы собирают мёд с других растений, иногда даже с чемерицы. От этого мёда пчелы болеют, и если им дать хорошего мёда, то они тотчас выбрасывают из улья мёд отравленный. Дальше на север опыты разведения староверами домашних пчёл кончились неудачей. Амагинский район заслуживает внимания натуралиста и в зоогеографическом отношении. Например, белогрудый медведь с юга доходит только до реки Кулумбе. Тигры появляются периодически. Пантер никто не встречал, и за семь лет староверы только один раз видели следы её на скалах, но они не уверены, была ли то пантера или молодой тигр. Шакалоподобные «дикие собаки» встречаются весьма редко. Так как на западе раньше наступают холода, то и опушение соболя и белки происходит там раньше, чем на берегу моря (разница равна почти месяцу). По словам староверов, когда они первый раз прибыли на Амагу, то застали здесь дроф. В 1904—1905 годах дрофы ещё изредка появлялись, но затем перелёты их совсем прекратились. Как-то раз, года два назад, вдруг на пашнях появилось несколько фазанов. Откуда они взялись — неизвестно; на другой год фазаны исчезли. Однажды на падали около моря видели большого тёмно-бурого орла с длинной голой шеей. Судя по описаниям, это был гриф. Вероятно, он залетел сюда из Центральной Азии случайно. Река Амагу является южной границей распространения глухаря и северной — зелёного дятла. 4 октября был отдан приказ приготовляться к походу. Теперь я хотел подняться по реке Амагу до истоков, затем перевалить через хребет Карту — по реке Кулумбе спуститься к берегу моря. Староверы говорили мне, что обе упомянутые реки очень порожисты и в горах много осыпей. Они советовали оставить мулов у них в деревне и идти пешком с котомками. Тогда я решил отправиться в поход только с Дерсу. По моим расчётам, у нас должно было хватить продовольствия на две трети пути. Поэтому я условился с А. И. Мерзляковым, что он командирует удэхейца Сале с двумя стрелками к скале Ван-Син-лаза, где они должны будут положить продовольствие на видном месте. На следующий день, 5 октября, в 2 часа дня с тяжёлыми котомками мы выступили в дорогу. Река Амагу длиной около 50 километров. Начало она берет с хребта Карту и огибает его с западной стороны. Амагу течёт сначала на северо-восток, потом принимает широтное направление и только вблизи моря немного склоняется к югу. Из притоков её следует указать только Дунанцу длиною 19 километров. По ней можно перевалить на реку Кусун. Вся долина Амагу и окаймляющие её горы покрыты густым хвойно-смешанным лесом строевого и поделочного характера. Вегетационный период почти что кончился. Большинство цветковых растений завяло, и только в некоторых ещё теплилась жизнь. К числу последних относились: анафалис жемчужный, у которого листья с исподней стороны войлочные; особый вид астры, с тёмным пушистым стеблем и чешуйчатой фиолетовой корзинкой; затем заячье ушко — зонтичное растение, имеющее на листьях выпуклые дугообразные жилки, и, наконец, черемша с листьями, как у ландыша. Едва заметная тропинка привела нас к тому месту, где река Дунанца впадает в Амагу. Это будет километрах в десяти от моря. Близ её устья есть утёс, который староверы по-китайски называют Лаза[239] и производят от глагола «лазить». Действительно, через эту «лазу» приходится перелезать на животе, хватаясь руками за камни. Пройдя ещё с километр, мы стали биваком на галечниковой отмели. До заката было ещё более часа. Я воспользовался этим временем и пошёл на охоту вверх по Дунанце. Поднявшись на первую попавшуюся сопку, я сел на валежник и стал осматриваться. Отсюда, сверху, были видны Амагу, Кудя-хе, Квандагоу и побережье моря. Листопад был в полном разгаре. Лес с каждым днём всё более и более принимал монотонно-серую, безжизненную окраску, знаменующую приближение зимы. Только дубняки сохранили ещё листву, но и она пожелтела и от этого казалась ещё печальнее. Кусты, лишённые пышных нарядов, стали удивительно погожи друг на друга. Чёрная, похолодевшая земля, прикрытая опавшей листвой, погружалась в летаргический сон; растения покорно, без протестов готовились к смерти. Я так ушёл в свои думы, что совершенно забыл, зачем пришёл сюда в этот час сумерек. Вдруг сильный шум послышался сзади меня. Я обернулся и увидел какое-то несуразное и горбатое животное с белыми ногами. Вытянув вперёд свою большую голову, оно рысью бежало по лесу. Я поднял ружьё и стал целиться, но кто-то опередил меня. Раздался выстрел, и животное упало, сражённое пулей. Через минуту я увидел Дерсу, спускавшегося по кручам к тому месту, где упал зверь. Убитое им животное оказалось лосем. Это был молодой самец лет трёх. Длина зверя от верхней губы до конца хвоста равнялась 2 метрам 20 сантиметрам, высота от подошвы копыта до холки—1 метру 70 сантиметрам, общий вес — около 240 килограммов. Это на вид неуклюжее животное имеет мощную шею и большую вытянутую голову с толстой, загнутой книзу мордой. Шерсть длинная, блестящая, гладко прилегающая к телу; окраска тёмно-бурая, почти чёрная; ноги белесоватые. Лось — очень строгий зверь: достаточно один раз его побеспокоить, чтобы он надолго оставил облюбованное место. Спасаясь от преследования охотника, он идёт рысью и иногда галопом. Лось очень любит купаться в болотистых озерках. Раненный, он убегает, но во время течки становится злым и не только защищается, но и сам нападает на человека. При этом он поднимается на задние ноги и, скрестив передние, старается ими сбить врага и тогда топчет его с ожесточением. Амагу будет южной границей, где лось выходит к берегу моря. С наступлением холодов он начинает перекочёвывать к западу. В ноябре его ещё можно застать около Сихотэ-Алиня, а в декабре он совсем уходит в бассейн Бикина. Там, в густых лесах, где не бывает наста, он находит достаточно корма и благоприятные условия для существования. По внешнему виду уссурийский лось мало чем отличается от своего европейского собрата, но зато рога его иные: они вовсе не имеют лопастей и скорее похожи на изюбровые, чем на лосиные. Дерсу принялся снимать шкуру и делить мясо на части. Неприятная картина, но тем не менее я не мог не любоваться работой своего приятеля. Он отлично владел ножом: ни одного лишнего пореза, ни одного лишнего движения. Видно, что рука у него на этом деле хорошо была набита. Мы условились, что немного мяса возьмём с собой; Чжан Бао и Фокин примут меры доставить остальное староверам и для команды.
Глава тринадцатая Водопад

Случай с тигром. — Запретное место. — Дерсу и ворона. — Верховья реки Амагу. — Водопад. — Жертвоприношение. — Хребет Карту. — Брусника. — Ночлег в горах. — Спуск в долину реки Кулумбе. — Забота о животных.
Вечером, после ужина, зашёл разговор об охоте. Говорил Дерсу, а мы его слушали. Жизнь этого человека была полна интереснейших приключений. Гольд рассказывал, как однажды, десять лет назад, он охотился за изюбрами в самый разгар пантовки. Дело было на реке Эрлдагоу (приток Даубихе), в самых её истоках. Здесь, в горах, вода промыла длинные и глубокие овраги; крутые склоны их поросли лесом. Дерсу имел при себе винтовку, охотничий нож и шесть патронов. Недалеко от бивака он увидел пантача, стрелял и ранил слабо. Изюбр упал было, но скоро оправился и побежал в лес. Гольд догнал его там, опять стрелял четыре раза, но все раны были не убойные, и изюбр уходил дальше. Тогда Дерсу выстрелил в шестой, и последний, раз. После этого олень забился в овраг, который соединялся с другим таким же оврагом. Олень лежал как раз у места их соединения в воде, и только плечо, шея и голова его были на камнях. Раненое животное поднимало голову и, видимо, кончало расчёты с жизнью. Гольд сел на камень и стал курить в ожидании, когда изюбр подохнет. Пришлось выкурить две трубки, прежде чем олень испустил последний вздох. Тогда Дерсу подошёл к нему, чтобы отрезать голову с пантами. Место было неудобное: у самой воды росла толстая ольха. Как ни приспособлялся Дерсу, он мог устроиться только в одном положении. Он опустился на правое колено, а левой ногой упёрся в один из камней в ручье. Винтовку он забросил себе на спину и начал было свежевать оленя. Не успел он два раза резануть ножом, как вдруг за шумом воды позади себя услышал шорох. Он хотел было оглянуться, но в это мгновение совсем рядом с собой увидел тигра. Зверь хотел было наступить на камень, но оступился и попал лапой в воду. Гольд знал, что если он сделает хоть малейшее движение, то погибнет. Он замер на месте и притаил дыхание. Тигр покосился на него и, видя неподвижную фигуру, двинулся было дальше. Однако он почувствовал, что это неподвижное — не пень и не камень, а что-то живое. Два раза он оборачивался назад и усиленно нюхал воздух, но, на счастье Дерсу, ветер тянул не от него, а от тигра. Не уловив запаха оленьей крови, страшный зверь полез на кручу. Камни и песок из-под его лап посыпались в ручей. Но вот он взобрался наверх. Тут он вдруг почуял запах человека. Шерсть на спине у него поднялась дыбом, он сильно заревел и стал бить себя хвостом по телу. Тогда Дерсу громко закричал и пустился бежать по оврагу. Тигр бросился вниз, к оленю, и стал его обнюхивать. Это и спасло Дерсу. Он выбрался из ущелья и бежал долго, бежал, как козуля, преследуемая волками. Тогда он понял, что убитый олень принадлежал не ему, а тигру. Вот почему он и не мог его убить, несмотря на то что стрелял шесть раз. Дерсу удивился, как он об этом не догадался сразу. С той поры он не ходил больше в эти овраги. Место это стало для него раз навсегда запретным. Он получил предупреждение… После ужина я и стрелок Фокин улеглись спать, а гольд и Чжан Бао устроились в стороне. Они взяли на себя заботу об огне. Ночью я проснулся. Вокруг луны было матовое пятно — верный признак, что утром будет мороз. Так оно и случилось: перед рассветом температура быстро понизилась и вода в лужах замёрзла. Первыми проснулись Чжан Бао и Дерсу. Они подбросили дров в огонь, согрели чай и тогда только разбудили меня и Фокина. Удивительные птицы вороны: как скоро они узнают, где есть мясо! Едва солнечные лучи позолотили вершины гор, как несколько их появилось уже около нашего бивака. Они громко перекликались между собой и перелетали с одного дерева на другое. Одна из ворон села очень близко от нас и стала каркать. — Ишь, проклятая! Погоди, я тебя сейчас ссажу, — сказал стрелок Фокин и потянулся за винтовкой. — Не надо, не надо стрелять, — остановил его Дерсу. — Его мешай нету. Ворона тоже хочу кушай. Его пришёл посмотреть, люди есть или нет. Нельзя — его улетит. Наша ходи, его тогда на землю прыгай, чего-чего остался — кушай. Как бы в подтверждение его слов ворона снялась с дерева и улетела. Доводы эти Фокину показались убедительными; он положил ружьё на место и уже больше не ругал ворон, хотя они подлетали к нему ещё ближе, чем в первый раз. Дерсу был безусловно прав. Обычай «ссаживать» ворон с деревьев — жестокая забава охотников. Стрельбой по воронам забавляются иногда даже образованные люди. Стреляют так же, как в бутылку, только потому, что чёрная ворона представляет собой хорошую цель. Ворон скорее следует отнести к полезным птицам, чем к вредным. Убирая в тайге трупы павших животных, дохлых рыб по берегам рек, моллюсков, выброшенных морским прибоем, и в особенности разные отбросы человеческих жилищ, они являются незаменимыми санитарами и играют огромную роль в охране природы. Вред, причиняемый воронами хозяйству, по сравнению с той пользой, которую они приносят, невелик. На этом биваке мы расстались. Чжан Бао и стрелок Фокин вернулись назад, а мы с Дерсу пошли дальше. Отсюда долина Амагу начала суживаться, и река сделалась порожистой; в горах появились осыпи и целые площади, обезлесенные пожарами; зато внизу, в долине, лес стал гуще; к лиственным породам примешалось много хвои. Километрах в 20 от моря река снова разделилась надвое. Одна речка (большая) огибает хребет Карту с запада, а другая (меньшая) течёт с юга. От места слияния их потянулись сплошные гари. Два раза мы переходили речку вброд и в конце концов снова очутились на правом берегу. Ещё дальше долина становится похожей на ущелье. Некоторые утёсы имеют весьма причудливые очертания. Они постепенно разрушаются и превращаются в осыпи. Иногда сорвавшаяся сверху глыба увлекает за собой другие камни. Тогда в долину свергается целый поток щебня и поломанных сухостойных деревьев. Немудрёно, что удэхейцы боятся этих мест: здесь, по их мнению, обиталище злого духа. Мы шли с Дерсу и говорили об охоте. Вдруг он сделал мне знак, чтобы я остановился. Мы стали слушать. Издали доносился какой-то шум, похожий не то на подземный гул, не то на отдалённые раскаты грома. — Водопад, — сказал Дерсу и указал рукой на реку. Я взглянул и увидел плывшую по воде пену. Мы прибавили шагу и через полчаса действительно подошли к водопаду. Из всех водопадов, которые мне приходилось видеть, Амагинский водопад был самым красивым. Представьте себе узкий коридор, верхние края которого немного загнуты внутрь так, что вода идёт как бы в трубе. В одном месте труба эта обрывается. Здесь образовался водопад высотой 8 метров. Однако верхние края коридора продолжаются и далее. Из этого можно заключить, что первоначально водопад был ниже по течению, и если бы удалось определить, сколько вода стирает ложе водопада в течение года, то можно было бы сказать, когда он начал свою работу, сколько ему лет и сколько ещё осталось существовать на свете. Порода, сквозь которую вода пробила себе дорогу, — буро-красный глауконитовый песчаник с весьма плотным цементом. Цвет воды в массе изумрудный. При ярком солнечном освещении белая пена с зеленовато-синим цветом воды и с красно-бурыми скалами, по которым разрослись пёстрые лишайники и светло-зелёные мхи, создавала картину чрезвычайно эффектную. Под водопадом вода имеет вращательное движение. В течение многих лет она сточила породу по сторонам и образовала «исполиновый котёл». Я подошёл к краю обрыва, и мне показалось, что от массы падающей воды порой содрогается земля. В это время обоняние моё уловило запах дыма. Я обернулся и увидел Дерсу, разжигающего костёр. Потом он начал развязывать котомку. Я думал, что он хочет остановиться на бивак, и стал убеждать его пройти ещё немного. Гольд соглашался со мной, но продолжал развязывать котомку. Он достал из неё кусок сахару, две спички, ломтик хлеба и листочек табаку. Всё это он взял в одну руку, в другую — маленький горящий уголёк и что-то стал говорить. Лицо его было серьёзно, глаза опущены в землю. Что именно он говорил, я не мог расслышать за шумом водопада. Потом он подошёл к обрыву и все бросил в воду. — Что ты сделал? — спросил я его. — Наша постоянно так, — отвечал он. — Его, — он указал на водопад, — все равно гром, черта гоняй. Водопад и на меня произвёл жуткое и чарующее впечатление. Что-то в нём было живое, стихийное. Какое же впечатление он мог произвести на душу человека, который все считал живым и человекоподобным! Дерсу молча начал укладывать свою котомку. Желая показать ему, что я разделяю его мысли, я взял то, что первое мне попало под руку, — кусок сухой рыбы и большую головешку — и подошёл к водопаду. Увидев, что я хочу бросить их в воду, Дерсу подбежал ко мне, махая руками; вид у него был встревоженный. Я понял, что он меня останавливает. — Не надо, не надо, капитан! — говорил он испуганно и торопливо. Я отдал ему головешку и юколу. Он бросил головешку в огонь, а юколу в лес. После этого он надел котомку, и мы пошли дальше. По дороге я стал расспрашивать его, почему он не хотел, чтобы я бросил в воду огонь и рыбу. Дерсу тотчас мне объяснил: в воду бросают только то, чего в ней нет, в лес можно бросать только то, чего нет на земле. Табак можно бросать в воду, а рыбу на землю. В воду можно бросать немного огня — только один уголёк, но нельзя воду лить в огонь; также нельзя в воду бросать большую головешку, иначе рассердятся огонь и вода. Тогда я твёрдо решил более не вмешиваться в дела такого рода, чтобы нам обоим, как он выразился, не было худо. Отойдя ещё с полкилометра, мы стали биваком. Когда на другой день, 7 октября, я проснулся, Дерсу был уже на ногах. Должно быть, я спал очень долго, потому что котомка его была уже увязана и он терпеливо ожидал моего пробуждения. — Отчего ты меня не разбудил? — спросил я его. Он ответил, что сегодня мы пойдём на высокие горы и потому необходимо набраться побольше сил и выспаться как следует. Перед выступлением я посмотрел на свой барометр: он показывал 458 метров. День обещал быть тихим и тёплым. Прямо от бивака мы начали восхождение на хребет Карту, главная ось которого располагается от северо-востока к юго-западу. Чем выше мы поднимались, тем больше перед нами раскрывался горизонт. Кругом, насколько хватало глаз, нигде не было леса: нигде ни одного деревца, даже сухостойного. Чрезвычайно тоскливый вид имеют такие горы. С исчезновением лесов исчезло и подлесье, исчезли мхи; дожди смыли тонкий растительный слой земли и оголили материковую почву. Куда ни посмотришь — всюду одна и та же однообразная, тусклая картина: серые утёсы и серые осыпи. Хребет Карту — это безжизненная и безводная пустыня. Первая сопка, на которую мы поднялись, имела высоту 900 метров. Отдохнув немного на её вершине, мы пошли дальше. Вторая гора почти такой же величины, но вследствие того, что перед нею мы спустились в седловину, она показалась гораздо выше. На третьей вершине барометр показал 1016 метров. Я взглянул на часы: обе стрелки показывали полдень. Значит, за три с половиной часа мы успели «взять» только три вершины, а главный хребет был ещё впереди. Меня сильно мучила жажда. Вдруг я увидел бруснику; она была мороженая. Я начал её есть с жадностью. Дерсу смотрел на меня с любопытством. — Как его фамилия? — спросил он, держа на ладони несколько ягод. — Брусника, — отвечал я. —Тебе понимай, — спросил он опять, — его можно кушать? — Можно, — отвечал я. — Разве ты не знаешь эту ягоду? Дерсу ответил, что видел её часто, но не знал, что она съедобна. Местами брусники было так много, что целые площади казались как будто окрашенными в бордовый цвет. Подбирая ягоды, мы понемногу подвигались вперёд и незаметно поднялись на вершину, высота которой равнялась 1290метрам. Здесь мы впервые ступили в снег, он был глубиной около 15 сантиметров. По наблюдениям старообрядцев, первый снег на Сихотэ-Алине в 1907 году выпал 20 сентября, а на хребте Карту — 3 октября и уже более не таял. 7 октября снеговая линия опустилась до 900 метров над уровнем моря. Отсюда мы повернули к югу и стали взбираться на четвёртую высоту (1510 метров). Этот подъём был особенно трудным. Мы часто глотали снег, чтобы утолить мучившую нас жажду. Хребет Карту с восточной стороны очень крут, с западной — пологий. Здесь можно наблюдать, как происходит разрушение гор. Сверху всё время сыплются мелкие камни; они постепенно засыпают долины, погребая под собой участки плодородной земли и молодую растительность. Таковы результаты лесных пожаров. Как ни старались мы добраться в этот день до самой высокой горы, нам сделать этого не удалось. С закатом солнца должен опять подуть холодный северо-западный ветер. Пора было подумать обиваке. Поэтому мы спустились немного с гребня и стали искать место для ночлега на западном склоне. Теперь у нас были три заботы: первая — найти воду, вторая — найти топливо и третья — найти защиту от ветра. Нам посчастливилось найти все это сразу в одном месте. В километре от седловины виднелся кедровый стланец. Мы забрались в самую середину его и устроились даже с некоторыми удобствами. Снег заменил нам воду. Среди живого стланца было много сушняка. Мы с Дерсу натаскали побольше дров и развели жаркий огонь. С подветренной стороны мы натянули полотнище палатки, хвои наложили себе под бок, а сверху покрыли её козьими шкурками. Ночь была лунная и холодная. Предположения Дерсу оправдались. Лишь только солнце скрылось за горизонтом, сразу подул резкий, холодный ветер. Он трепал ветви кедровых стланцев и раздувал пламя костра. Палатка парусила, и я очень боялся, чтобы её не сорвало со стоек. Полная луна ярко светила на землю; снег блестел и искрился. Голый хребет Карту имел теперь ещё более пустынный вид. Утомлённые дневным переходом, мы недолго сидели у огня и рано легли спать. Утром, когда я проснулся, первое, что бросилось мне в глаза, был туман. Скоро всё разъяснилось — шёл снег. Хорошо, что мы ориентировались вчера, и потому сегодня с бивака могли ер-азу взять верное направление. Напившись чаю с сухарями, мы опять стали подниматься, на хребет Карту. Теперь нам предстояло взобраться на самую высокую сопку, которую моряки называют Амагунскими гольцами. Потому ли, что мы были со свежими силами, или снег нас принуждал торопиться, но только на эту гору мы взошли довольно скоро. Высота её равна 1660 метрам. Отсюда берёт начало река. Кулумбе (по-удэхейски Куле); староверы измеряют её в 50— 60 километров. Течёт она по кривой так же, как и Амагу, но только в другую сторону, а именно к югу и юго-востоку. Когда мы спустились до 1200 метров, снег сменился дождём, что было весьма неприятно; но делать было нечего — приходилось терпеть. Километров пять мы шли гарью и только тогда нашли живой лес, когда снизились до 680 метров. Это была узкая полоса растительности около речки, состоящая преимущественно из берёзы, пихты и лиственницы. К полудню дождь усилился. Осенний дождь — это не то, что летний дождь; легко можно простудиться. Мы сильно прозябли, и потому пришлось рано стать на бивак. Скоро нам удалось найти балаган из корья. Способ постройки его и кое-какие брошенные вещи указывали на то, что он был сделан корейцами. Оправив его немного, мы натаскали дров и принялись сушить одежду. Часа в четыре дня дождь прекратился. Тяжёлая завеса туч разорвалась, и мы увидели хребет Карту, весь покрытый снегом. Когда солнце скрылось за горизонтом, по всему западному небосклону широко разлилась багровая заря. Потом взошла луна; вокруг неё опять было густое матовое пятно и большой венец — верный признак, что завтра снова будет дождь. Вечером я записывал свои наблюдения, а Дерсу жарил на вертеле сохатину. Во время ужина я бросил кусочек мяса в костёр. Увидев это, Дерсу поспешно вытащил его из огня и швырнул в сторону. — Зачем бросаешь мясо в огонь? — спросил он меня недовольным тоном. — Как можно его напрасно жечь! Наша завтра уехали, сюда другой люди ходи кушай. В огонь мясо бросай, его так пропади. — Кто сюда другой придёт? — спросил я его в свою очередь. — Как кто? — удивился он. — Енот ходи, барсук или ворона; ворона нет — мышь ходи, мышь нет — муравей ходи. В тайге много разный люди есть. Мне стало ясно: Дерсу заботился не только о людях, но и о животных, хотя бы даже и о таких мелких, как муравей. Он любил тайгу с её обитателями и всячески заботился о ней. Разговор наш перешёл на охоту, на браконьеров, на лесные пожары. Незаметно мы досидели с ним до полуночи. Наконец Дерсу начал дремать. Я закрыл свою тетрадь, завернулся в одеяло, лёг поближе к огню и скоро заснул. Ночью сквозь сон я слышал, как он поправлял огонь и прикрывал меня своей палаткой.
Глава четырнадцатая Тяжёлый переход

Денудационная долина реки Кулумбе. — Броды. — Скала Мафа. — Упадок сил. — Гололедица. — Лес, поваленный бурею. — Лихорадка. — Кошмар. — Голод. — Берег моря. — Ван-Син-лаза. — Разочарование. — Миноносец «Грозный». — Спасение. — Возвращение на Амагу. — Отъезд А. И. Мерзлякова.
С рассветом опять ударил мороз; мокрая земля замёрзла так, что хрустела под ногами. От реки поднимался пар. Значит, температура воды была значительно выше температуры воздуха. Перед выступлением мы проверили свои продовольственные запасы. Хлеба у нас осталось ещё на двое суток. Это не особенно меня беспокоило. По моим соображениям, до моря было не особенно далеко, а там к скале Ван-Син-лаза продовольствие должен принести удэхеец Сале со стрелками. За ночь обувь наша просохла. Когда солнышко взошло, мы с Дерсу оделись и бодро пошли вперёд. Более характерной денудационной долины, чем Кулумбе, я не видывал. Река, стеснённая горами, всё время извивается между утёсами. Можно подумать, что горные хребты здесь старались на каждом шагу создать препятствия для воды, но последняя взяла верх и силой проложила себе дорогу к морю. Окрестные горы, можно сказать, совершенно оголены от древесной растительности; лес растёт только около реки, окаймляя её по обеим сторонам, как бордюром. Преобладающие породы здесь лиственница, ель, берёза и ольха. Ближе к горам, на местах открытых, приютились: даурский шиповник, обыкновенная рябина, а около неё — каменная полынь с листвой, расположенной у основания стебля. С первого взгляда никто не угадал бы в ней родную сестру луговой полыни. В другом месте мы наткнулись на багульник и множество папоротников. У первого — лист ажурный, небольшой по размерам; второй вид имел буровато-зелёные листья с красноватым оттенком с исподней стороны; у третьего — хотя лист и простой, но ему нельзя было отказать в изяществе. По долине реки Кулумбе никакой тропы нет. Поэтому нам пришлось идти целиной. Не желая переходить реку вброд, мы пробовали было идти берегом, но скоро убедились, что это невозможно: первая же скала принудила нас перейти на другую сторону реки. Я хотел было переобуваться, но Дерсу посоветовал идти в мокрой обуви и согреваться усиленной ходьбой. Не прошли мы и полкилометра, как пришлось снова переходить на правый берег реки, потом на левый, затем опять на правый и т. д. Вода была холодная; голени сильно ломило, точно их сжимали в тисках. По сторонам высились крутые горы, они обрывались в долину утёсами. Обходить их было нельзя. Это отняло бы у нас много времени и затянуло бы путь лишних дня на четыре, что при ограниченности наших запасов продовольствия было совершенно нежелательно. Мы с Дерсу решили идти напрямик в надежде, что за утёсами будет открытая долина. Вскоре нам пришлось убедиться в противном: впереди опять были скалы, и опять пришлось переходить с одного берега на другой. — Тьфу! — ворчал Дерсу. — Мы идём — все равно выдры. Маленько по берегу ходи, посмотри, вода есть — ныряй, потом опять на берег и опять ныряй… Сравнение было весьма удачное. Выдры именно так и ходят. Или мы привыкли к воде, или солнце пригрело нас, а может быть, то и другое вместе, только броды стали казаться не такими уж страшными и вода не такой холодной. Я перестал ругаться, а Дерсу перестал ворчать. Вместо прямой линии наш путь изображал собой зигзаги. Так мы пробились до полудня, но под вечер попали в настоящее ущелье. Оно тянулось более чем на 400 метров. Пришлось идти прямо по руслу реки. Иногда мы взбирались на отмель и грелись на солнце, а затем снова спускались в воду. Наконец я почувствовал, что устал. День кончился, и в воздухе стало холодать. Тогда я предложил своему спутнику остановиться. В одном месте между утёсами был плоский берег, куда водой нанесло много плавника. Мы взобрались на него и первым делом развели большой костёр, а затем принялись готовить ужин. Вечером я подсчитал броды. На протяжении 15 километров мы сделали 32 брода, не считая сплошного хода по ущелью. Ночью небо опять затянуло тучами, а перед рассветом пошёл мелкий и частый дождь. Утром мы встали раньше обычного, поели немного, напились чаю и тронулись в путь. Первые 6 километров мы шли больше по воде, чем по суше. В среднем течении Кулумбе очень извилиста. Она всё время жмётся к утёсам и у подножия их образует глубокие ямы. Во многих местах русло её завалено камнями и занесено буреломом. Можно представить себе, что здесь делается во время наводнений! Один раз я, другой раз Дерсу оборвались в ямы и вымокли как следует. Наконец узкая и скалистая часть долины была пройдена. Горы как будто стали отходить в стороны. Я обрадовался, полагая, что море недалеко, но Дерсу указал на какую-то птицу, которая, по его словам, живёт только в глухих лесах, вдали от моря. В справедливости его доводов я сейчас же убедился. Опять пошли броды, и, чем дальше, тем глубже. Раза два мы разжигали костры, главным образом для того, чтобы погреться. Часов в двенадцать дня мы были около большой скалы Мафа, что по-удэхейски значит «медведь». Действительно, своими формами она очень его напоминает и состоит из плотного песчаника с прослойками кварца и известкового шпата. У подножия её шла свежепротоптанная тропа; она пересекала реку Кулумбе и направлялась на север. Дерсу за скалой нашёл бивак. По оставленным на нём следам он узнал, что здесь ночевал Мерзляков с командой, когда шёл с Такемы на Амагу. Мы рассчитали, что если пойдём по тропе, то выйдем на реку Найну к корейцам, а если пойдём прямо, то придём на берег моря к скале Ван-Син-лаза. Путь на Найну нам был совершенно неизвестен, и к тому же мы совершенно не знали, сколько времени может занять этот переход. До моря же мы рассчитывали дойти если не сегодня, то во всяком случае завтра к полудню. Закусив остатками мяса, мы пошли далее. Часа в два дня мелкий дождь превратился в ливень. Это заставило нас остановиться раньше времени и искать спасения в палатке. Я страшно прозяб, руки мои закоченели, пальцы не гнулись, зубы выбивали дробь. Дрова, как на грех, попались сырые и плохо горели. Наконец всё было налажено. Тогда мы принялись сушить свою одежду. Я чувствовал упадок сил и озноб. Дерсу достал из котомки последний сухарь и советовал поесть. Но мне было не до еды. Напившись чаю, я лёг к огню, но никак не мог согреться. Около полуночи дождь прекратился, но изморось продолжала падать на землю. Дерсу ночью не спал и всё время поддерживал костёр. Часа в три утра в природе совершилось что-то необычайное. Небо вдруг сразу очистилось. Началось такое быстрое понижение температуры воздуха, что дождевая вода, не успевшая стечь с ветвей деревьев, замёрзла на них в виде сосулек. Воздух стал чистым и прозрачным. Луна, посеребрённая лучами восходящего солнца, была такой ясной, точно она вымылась и приготовилась к празднику. Солнце взошло багровое и холодное. Утром я встал с головной болью. По-прежнему чувствовался озноб и ломота в костях. Дерсу тоже жаловался на упадок сил. Есть было нечего, да и не хотелось. Мы выпили немного горячей воды и пошли. Скоро нам опять пришлось лезть в воду. Сегодня она показалась мне особенно холодной. Выйдя на противоположный берег, мы долго не могли согреться. Но вот солнышко поднялось из-за гор и под его живительными лучами начал согреваться озябший воздух. Как ни старались мы избежать бродов, нам не удалось от них отделаться. Но всё же заметно было, что они становились реже. Через несколько километров река разбилась на протоки, между которыми образовались острова, поросшие тальниками. Тут было много рябчиков. Мы стреляли, но ни одного не могли убить: руки дрожали, не было сил прицеливаться как следует. Понуро мы шли друг за другом и почти не говорили между собой. Вдруг впереди показался какой-то просвет. Я думал, что это море. Но большое разочарование ждало нас, когда мы подошли поближе. Весь лес лежал на земле. Он был повален бурей в прошлом году. Это была та самая пурга, которая захватила нас 20, 21 и 22 октября при перевале через Сихотэ-Алинь. Очевидно, центр тайфуна прошёл именно здесь. Надо было обойти бурелом стороной или идти по островам, среди тальников. Не зная, какой длины и ширины будет площадь поваленного леса, мы предпочли последнее. Река сплошь была занесена плавником, и, следовательно, всюду можно было свободно перейти с одного берега на другой. Такой сплошной завал тянулся километров шесть, если не больше. Наше движение было довольно медленно. Мы часто останавливались и отдыхали. Но вот завалы кончились, и опять началась вода. Я насчитал ещё 23 брода, затем сбился со счёта и шёл без разбора. После полудня мы еле-еле тащили ноги. Я чувствовал себя совершенно разбитым; Дерсу тоже был болен. Один раз мы видели кабана, но нам было не до охоты. Сегодня мы рано стали на бивак. Здесь я окончательно свалился с ног: меня трясла сильная лихорадка и почему-то опухли лицо, ноги и руки. Дерсу весь вечер работал один. Потом я впал в забытьё. Мне всё время грезилась какая-то тоненькая паутина. Она извивалась вокруг меня, постепенно становилась все толще и толще и, наконец, принимала чудовищные размеры. Мне казалось, что горный хребет Карту движется с ужасающей быстротой и давит меня своей тяжестью. В ужасе я вскакивал и кричал. Хребет Карту сразу пропадал, и вместо него опять появлялась паутина, и опять она начинала увеличиваться, приобретая в то же время быстрое вращательное движение. Смутно я чувствовал у себя на голове холодную воду. Сколько продолжалось такое состояние, не знаю. Когда я пришёл в себя, то увидел, что покрыт кожаной курткой гольда. Был вечер; на небе блестели яркие звёзды. У огня сидел Дерсу; вид у него был изнурённый, усталый. Оказалось, что в бреду я провалялся более 12 часов. Дерсу за это время не ложился спать и ухаживал за мною. Он клал мне на голову мокрую тряпку, а ноги грел у костра. Я попросил пить. Дерсу подал мне отвар какой-то травы противного сладковатого вкуса. Дерсу настаивал, чтобы я выпил его как можно больше. Затем мы легли спать вместе и, покрывшись одной палаткой, оба уснули. Следующий день был 13 октября. Сон немного подкрепил Дерсу, но я чувствовал себя совершенно разбитым. Однако дневать здесь было нельзя. Продовольствия у нас не было ни крошки. Через силу мы поднялись и пошли дальше вниз по реке. Долина становилась все шире и шире. Буреломы и гарь остались позади; вместо ели, кедра и пихты чаще стали попадаться березняки, тальники и лиственницы, имеющие вид строевых деревьев. Я шёл как пьяный. Дерсу тоже перемогал себя и еле-еле волочил ноги. Заметив впереди, с левой стороны, высокие утёсы, мы заблаговременно перешли на правый берег реки. Здесь Кулумбе сразу разбилась на восемь рукавов. Это в значительной степени облегчило нашу переправу. Дерсу всячески старался меня подбодрить. Иногда он принимался шутить, но по его лицу я видел, что он тоже страдает. — Каза, каза! (чайка), — закричал он вдруг, указывая на белую птицу, мелькавшую в воздухе. — Море далеко нету. И как бы в подтверждение его слов из-за поворота с левой стороны выглянула скала Ян-Тун-лаза — та самая скала, которую мы видели около устья Кулумбе, когда шли с реки Такемы на Амагу. Надежда на то, что близок конец нашим страданиям, придала мне силы. Но теперь опять предстояло переправляться на левый берег Кулумбе, которая текла здесь одним руслом и имела быстрое течение. Поперёк реки лежала длинная лиственница. Она сильно качалась. Эта переправа отняла у нас много времени. Дерсу сначала перенёс через реку ружья и котомки, а затем помог переправиться мне. Наконец мы подошли к скале Ян-Тун-лаза. Тут на опушке дубовой рощи мы немного отдохнули. До моря оставалось ещё километра полтора. Долина здесь делает крутой поворот к юго-востоку. Собрав остаток сил, мы поплелись дальше. Скоро дубняки стали редеть, и вот перед нами сверкнуло море. Наш трудный путь был кончен. Сюда стрелки должны были доставить продовольствие, здесь мы могли оставаться на месте до тех пор, пока окончательно не выздоровеем. В 6 часов пополудни мы подошли к скале Ван-Син-лаза. Ещё более горькое разочарование ждало нас здесь: продовольствия не было. Мы обшарили все уголки, засматривали за бурелом, за большие камни, но нигде ничего не нашли. Оставалась ещё одна надежда: быть может, стрелки оставили продовольствие по ту сторону скалы Ван-Син-лаза. Гольд вызвался слазить туда. Поднявшись на её гребень, он увидел, что карниз, по которому идёт тропа, покрыт льдом. Дерсу не решился идти дальше. Сверху он осмотрел весь берег и ничего там не заметил. Спустившись назад, он сообщил мне эту печальную весть и сейчас же постарался утешить. — Ничего, капитан, — сказал он, — около моря можно всегда найти кушать. Потом мы пошли к берегу и отворотили один камень. Из-под него выбежало множество мелких крабов. Они бросились врассыпную и проворно спрятались под другие камни. Мы стали ловить их руками и скоро собрали десятка два. Тут же мы нашли ещё двух протомоллюсков и около сотни раковин береговичков. После этого мы выбрали место для бивака и развели большой огонь. Протомоллюсков и береговичков мы съели сырыми, а крабов сварили. Правда, это дало нам немного, но всё же первые приступы голода были утолены. Зная исполнительность своих людей, я никак не мог понять, почему они не доставили продовольствия на указанное место. Завтра надо перейти через скалу Ван-Син-лаза и попытаться берегом дойти до корейцев на реке Найне. Лихорадка моя прошла, но слабость ещё осталась. Дерсу хотел завтра рано утром сбегать на охоту и потому лёг спать пораньше. Я долго сидел у огня и грелся. Ночь была ясная и холодная. Звезды ярко горели на небе; мерцание их отражалось в воде. Кругом было тихо и безлюдно; не было слышно даже всплесков прибоя. Красный полумесяц взошёл поздно и задумчиво глядел на уснувшую землю. Высокие горы, беспредельный океан и глубокое тёмно-синее небо — всё было так величественно, грандиозно. Шёпот Дерсу вывел меня из задумчивости: он о чём-то бредил во сне. Утомлённый тяжёлой дорогой, измученный лихорадкой, я лёг рядом с ним и уснул. Чуть брезжило. Сумрак ночи ещё боролся с рассветом, но уже видно было, что он не в силах остановить занимавшейся зари. Неясным светом освещала она тихое море и пустынный берег. Наш костёр почти совсем угас. Я разбудил Дерсу, и мы оба принялись раздувать угли. В это время до слуха моего донеслись два каких-то отрывистых звука, похожие на вой. — Это изюбр ревёт, — сказал я своему приятелю. — Иди поскорей: быть может, ты убьёшь его. Дерсу стал молча собираться, но затем остановился, подумал немного и сказал: — Нет, это не изюбр. Теперь его кричи не могу. В это время звуки опять повторились, и мы ясно разобрали, что исходят они со стороны моря. Они показались мне знакомыми, но я никак не мог припомнить, где раньше их слышал, Я сидел у огня спиною к морю, а Дерсу против меня, Вдруг он вскочил на ноги и, протянув руку, сказал: — Смотри, капитан! Я оглянулся и увидел миноносец «Грозный», выходящий из-за мыса. Точно сговорившись, мы сделали в воздух два выстрела, затем бросились к огню и стали бросать в него водоросли. От костра поднялся белый дым. «Грозный» издал несколько пронзительных свистков и повернул в нашу сторону. Нас заметили… Сразу точно гора свалилась с плеч. Мы оба повеселели. Через несколько минут мы были на борту миноносца, где нас радушно встретил П. Г. Тигерстедт. Оказалось, что он, возвращаясь с Шантарских островов, зашёл на Амагу и здесь узнал от А. И. Мерзлякова, что я ушёл в горы и должен выйти к морю где-нибудь около реки Кулумбе. Староверы ему рассказали, что удэхеец Сале и двое стрелков должны были доставить к скале Ван-Син-лаза продовольствие, но по пути во время бури лодку их разбило о камни, и всё то, что они везли с собой, утонуло. Они сейчас же вернулись обратно на Амагу, чтобы с новыми запасами продовольствия пойти вторично нам навстречу. Тогда П. Г. Тигерстедт решил идти на поиски. Ночью он дошёл до Такемы и повернул обратно, а на рассвете подошёл к реке Кулумбе, подавая сиреной сигналы, которые я и принял за рёв изюбра. П. Г. Тигерстедт взялся доставить меня к отряду. За обильным яствами столом и за стаканом чая мы и не заметили, как дошли до Амагу. Здесь А. И. Мерзляков, ссылаясь на ревматизм, стал просить позволения уехать во Владивосток, на что я охотно согласился. Вместе с ним я отпустил также стрелков Дьякова и Фокина и велел ему с запасами продовольствия и с тёплой одеждой выйти навстречу мне по реке Бикину. Через час «Грозный» стал сниматься с якоря. Моё прощание с моряками носило более чем дружеский характер. Стоя на берегу, я увидел на мостике миноносца командира судна. Он посылал мне приветствия, махая фуражкой. Когда «Грозный» отошёл настолько далеко, что нельзя уже было разобрать на нём людей, я вернулся в старообрядческую деревню. Теперь в отряде осталось только семь человек: я, Дерсу, Чжан Бао, Захаров, Аринин, Туртыгин и Сабитов. Последние не пожелали возвращаться во Владивосток и добровольно остались со мной до конца экспедиции. Это были самые преданные и самые лучшие люди в отряде.
Главапятнадцатая Низовья реки Кусун
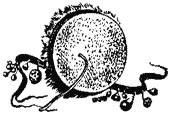
Хребет Караминский. — Зыбучий песок. — Река Соен. — Мелкие горные ручьи. — Река Витухэ. — Последние перелётные птицы. — Летающие куры. — Туземцы на реке Кусун. — Священное дерево. — Жилище шамана. — Морской старшина. — Расставание с Чжан Бао. — Выступление.
Следующие пять дней я отдыхал и готовился к походу на север вдоль берега моря. Приближалась зима. Голые скелеты деревьев имели безжизненный вид. Красивая летняя листва их, теперь пожелтевшая и побуревшая, в виде мусора валялась на земле. Куда девались те красочно-разнообразные тона, которыми ранней осенью так богата растительность в Уссурийском крае? Кормить мулов становилось всё труднее и труднее, и я решил оставить их до весны у староверов. 20 октября, утром, мы тронулись в путь. Старообрядец Нефед Черепанов вызвался проводить нас до реки Соен. На этом пути в море впадает несколько мелких речек, имеющих только туземные названия. Это будут: Мэяку (по-китайски Михейзуйза), Найна, Калама, Гианкуни и Лоси. Горный хребет, с которого они берут начало, называемый староверами Караминским, тянется параллельно берегу моря и является водоразделом между рекой Амагу и вышеперечисленными речками. Наивысшие точки Караминского хребта будут: Киганкуни, Лысуха, Водолей и Три Брата. Все они имеют сглаженные контуры и состоят из мелафиров, базальтов и их туфов. Растительность на горах как травяная, так и кустарниковая пышная; зато древесная, как и везде по морскому побережью, очень бедна. Редколесье состоит главным образом из лиственницы, ольхи, дуба, чёрной и белой берёзы. С реки Амагу мы выступили довольно поздно, поэтому не могли уйти далеко и заночевали на реке Соен. Река эта (по-удэхейски Суа или Соага) состоит из двух речек—Гага и Огоми, длиною каждая 7—8 километров, сливающихся в 1,5 километра от моря. Речка Гага имеет три притока: справа — Нунги с притоком Дагдасу и Дуни, а слева — один только ключ Ада с перевалом на Кусун. Речка Огоми имеет два притока: Канходя и Цагдаму. Около устья Соен образует небольшую, но глубокую заводь, соединяющуюся с морем узкой протокой. Эта заводь и зыбучее болото рядом с ним — остатки бывшей ранее лагуны. Когда мы подошли к реке, было уже около 2 часов пополудни. Со стороны моря дул сильный ветер. Волны с шумом бились о берег и с пеной разбегались по песку. От реки в море тянулась отмель. Я без опаски пошёл по ней и вдруг почувствовал тяжесть в ногах. Хотел было я отступить назад, но, к ужасу своему, почувствовал, что не могу двинуться с места. Я медленно погружался в воду. — Зыбучий песок! — закричал я не своим голосом и опёрся ружьём в землю, но и его стало засасывать. Стрелки не поняли, в чём дело, и в недоумении смотрели на мои движения. Но в это время подошли Дерсу и Чжан Бао. Они бросились ко мне на помощь: Дерсу протянул сошки, а Чжан Бао стал бросать мне под ноги плавник. Ухватившись рукой за валежину, я высвободил сначала одну ногу, потом другую и не без труда выбрался на твёрдую землю. Зыбуны на берегу моря, по словам Черепанова и Чжан Бао, явление довольно обычное. Морской прибой взрыхляет песок и делает его опасным для пешеходов. Когда же волнение успокаивается, тогда по нему свободно может пройти не только человек, но и лошадь с полным вьюком. Делать нечего, пришлось остановиться и в буквальном смысле ждать у моря погоды. На реке Гага, как раз против притока Ада, в 5 километрах от моря, есть тёплый ключ. Окружающая его порода — диабаз. Здесь, собственно говоря, два ключа: горячий и холодный. Оба они имеют выходы на дне небольшого водоёма, длина которого равна 2, ширина 5 и глубина 0,6 метра. Со дна с шипением выделяется сероводород. Температура воды +28,1°; на поверхности земли, около резервуара, было -12°. Температура воздуха +7,5° С. Ночью море успокоилось. Черепанов сказал правду: утром песок уплотнился так, что на нём даже не оставалось следов ног. Около реки Соен Караминский хребет отходит несколько в глубь материка, постепенно повышаясь на север, а около моря выступает цепь холмов, отмытых водой вдоль оси их простирания. Из мысов, с которыми у туземцев связаны какие-либо сказания, можно отметить два: Омулен-Гахани и Сутдэма-Оногони. Здесь морским прибоем в береговых утёсах выбило глубокие пещеры, порода обрушилась, и во многих местах образовались одиноко стоящие каменные столбы. Километрах в 10 от реки Соен тропа оставляет берег и через небольшой перевал, состоящий из роговообманкового андезита, выходит к реке Витухэ — первому правому притоку Кусуна. Она течёт в направлении с юго-запада на северо-восток и по пути принимает в себя один только безымянный ключик. Окрестные горы покрыты березняком, порослью дуба и сибирской пихтой. Время стояло позднее, осеннее, но было ещё настолько тепло, что люди шли в одних фуфайках. По утрам бывали заморозки, но днём температура опять поднималась до — 4 и 5° С. Длинная и тёплая осень является отличительной чертой Зауссурийского края. Несмотря на столь позднее время, в лесу ещё можно было видеть кое-где перелётных и неперелетных птиц. На полях, где паслись лошади староверов, в сухой траве копошились серые скворцы. Вид у них был весёлый, игривый. Далее, в редколесье, я заметил большого пёстрого дятла — птицу, всюду распространённую и действительно пёструю. Тут же с места на место перелетали белобрюхие синицы. К ним присоединились и другие мелкие птицы, в числе которых я узнал белоголовую овсянку. По времени ей надлежало бы уже давно отлететь к югу, но, вероятно, в прибрежном районе вследствие длинной осени и запаздывания весны перелёты птиц также запаздывают. Попадались ещё какие-то пёстренькие птички с красными пятнами на голове, быть может чечётки. Столь раннее появление этой северной гостьи можно объяснить тем, что в горах Зауссурийского края после лесных пожаров выросло много березняков, где она и находит для себя обильный корм. Вероятно, реки Амагу и Кусун будут южной границей её распространения в Зауссурийском крае. Эта розовая птичка держится в лесистых горных местах и ведёт скрытный образ жизни. Потом я увидел двух азиатских канюков. Эти проворные хищники всё время носились по воздуху и описывали большие круги. Завидев подходящих людей, они бросались нам навстречу и, испуская пронзительные крики, кружились над головами. На дереве, на берегу ручья, сидела обыкновенная сорока. Я узнал её по чекотанию и чёрному с белым оперению. При приближении отряда она снялась с дерева и полетела неровно, распустив свой длинный хвост. За перевалом тропа идёт по болотистой долине реки Витухэ. По пути она пересекает четыре сильно заболоченных распадка, поросших редкой лиственницей. На сухих местах царят дуб, липа и чёрная берёза с подлесьем из таволги вперемежку с даурской калиной. Тропинка привела нас к краю высокого обрыва. Это была древняя речная терраса. Редколесье и кустарники исчезли, и перед нами развернулась широкая долина реки Кусун. Вдали виднелись китайские фанзы. Когда после долгого пути вдруг перед глазами появляются жилые постройки, люди, лошади и собаки начинают идти бодрее. Спустившись с террасы мы прибавили шагу. Собака моя бежала впереди и старательно осматривала кусты по сторонам дороги. Вскоре мы подошли к полям; хлеб был уже убран и сложен в зароды. Вдруг Альпа сделала стойку. «Неужели фазаны?» — подумал я и приготовил ружьё. Я заметил, что Альпа была в сильном смущении: она часто оглядывалась и как будто спрашивала, продолжать работу или нет. Я подал знак — она осторожно двинулась вперёд, усиленно нюхая воздух. По стойкам её я видел, что тут были не фазаны, а кто-то другой. Вдруг с шумом поднялись сразу три птицы. Я стрелял и промахнулся. Полет птиц был какой-то тяжёлый: они часто махали крыльями и перед спуском на землю неловко спланировали. Я следил за ними глазами и видел, что они спустились во двор ближайшей к нам фанзы. Это оказались домашние куры. Так как туземцы их не кормят, то они вынуждены сами добывать себе корм на полях. Для этого им приходится уходить далеко от жилищ. Очевидно, способность летать развилась у них постепенно вследствие постоянного упражнения. Будучи испуганы какими-либо животными, они должны были спасаться не только бегством, но и при помощи крыльев. Куры и тропа привели нас к фанзе старика удэхейца Люрла. Семья его состояла из пяти мужчин и четырёх женщин. Удэхейцы на реке Кусун сами огородничеством не занимаются, а нанимают для этого китайцев. Одеваются они наполовину по-китайски, наполовину по-своему, говорят по-китайски и только в том случае, если хотят посекретничать между собой, говорят на родном языке. Женские костюмы отличаются пестротой вышивок, а на груди, подоле и рукавах украшаются ещё светлыми пуговицами, мелкими раковинами, бубенчиками и разными медными побрякушками, отчего всякое движение обладательниц их сопровождается шелестящим звоном. Мне очень хотелось поближе познакомиться с кусунскими удэхейцами. Поэтому я, несмотря на усиленные приглашения китайцев, остановился у туземцев. Мне скоро удалось заручиться их доверием; они охотно отвечали на мои вопросы и всячески старались услужить. Особенно же они ухаживали за Дерсу. Лет 40 назад удэхейцев в прибрежном районе было так много, что, как выражался сам Люрл, лебеди, пока летели от реки Самарги до залива Ольги, от дыма, который поднимался от их юрт, из белых становились чёрными. Больше всего удэхейцев жило на реках Тадушу и Тетюхе. На Кусуне было 22 юрты, на Амагу только 3 и на Такеме—18. Тогда граница обитания их спускалась до реки Судзухе и к западу от неё. Как и везде, кусунские удэхейцы находились в неоплатных долгах у китайцев. Первобытная честность их теперь стала падать. Они не говорили, сколько поймали соболей: худших отдавали кредиторам, а лучших оставляли у себя и потом торговали ими тихонько где-нибудь на стороне. Такой обман являлся единственным средством борьбы с китайцами, немилосердно их эксплуатировавшими. Затем они старались набрать в кредит как можно больше в расчёте, что кредитор, опасаясь совсем потерять долг, согласится на уступки и сделает скидку. Иногда это им удавалось, но иногда китайцы выходили из терпения и жестоко расправлялись со своими должниками. Следующий день я посвятил осмотру окрестностей. Река Кусун (по-китайски Кусун-гоу, по-удэхейски Куй или Куги) впадает в море немного севернее мыса Максимова. Между устьем Витухэ и устьем Кусуна образовалась длинная заводь, отделённая от моря валом из гальки и песка шириной 80 метров. Обыкновенно в этой заводи отстаиваются китайские лодки, застигнутые непогодой в море. Раньше здесь также скрывались хищнические японские рыбалки. Несомненно, нижняя часть долины Кусуна раньше была тоже лагуной, как и в других местах побережья, о чём уже неоднократно говорилось. Река Кусун придерживается левой стороны долины. Она идёт одним руслом, образуя по сторонам много сухих рукавов, играющих роль водоотводных каналов, отчего долина Кусуна в дождливое время года не затопляется водой. По показаниям удэхейцев, за последние 30 лет здесь не было ни одного наводнения. Левый, возвышенный, террасообразный берег реки имеет высоту около 30 метров и состоит из белой глины, в массе которой можно усмотреть блёстки колчедана. Где-то в горах удэхейцы добывают довольно крупные куски обсидиана. Растительность в низовьях Кусуна довольно невзрачная и однообразная. Около реки, на островах и по сухим протокам — густые заросли тальников, имеющих вид высоких пирамидальных тополей, с ветвями, поднимающимися кверху чуть ли не от самого корня. Среди них попадается осина, немало ольхи. Все удобные земли располагаются с правой стороны реки, где почва весьма плодородная и состоит из ила и чернозёма с прослойками гальки и песка, вследствие чего травы развиваются весьма пышно, в особенности тростники, достигающие 2,5—3 метров высоты. В сообществе с ними, а иногда отдельно, целыми площадями растёт обыкновенная полынь, а около реки, на галечниковых и песчаных наносах — другая полынь, с ветвистым высоким стеблем и с густой, пышной метёлкой. Тут было много и ещё каких-то злаков и цветковых растений, но все они настолько завяли, что определить их по внешнему виду даже приблизительно было нельзя. Дальнейший сбор гербарного материала не имел смысла. Кусунские тазы-удэхейцы находились в переходном состоянии от охотничьего образа жизни к земледельческому. Вследствие отдалённости влияние китайцев сказалось на них неглубоко. Поэтому здесь мне удалось увидеть много того, чего нет на юге Уссурийского края. Так, например, в одном месте, около глубокого пруда, стояло фигурное дерево «Тхун». Оно всё было покрыто резьбой, а на главных ветвях его были укреплены идолы, изображающие людей, птиц и животных. Это место запретное: здесь обитает злой дух Огзо. История дерева такова. Несколько лет назад около пруда поселилась семья удэхейцев, состоящая из трёх мужчин, трёх женщин и семерых детей. Однажды ночью один из братьев, выйдя из фанзы, услышал всплески воды в пруде и чьё-то сопение. Подойдя поближе, он увидел какое-то большое животное, похожее на сивуча. Пруд не сообщался ни с рекой, ни с морем. В страхе удэхеец убежал домой. Тогда все решили, что это был черт. Спустя немного времени один за другим начали умирать дети. Позвали шамана. В конце второго дня камлания он указал место, где надо поставить фигурное дерево, но и это не помогло. Смерть уносила одного человека за другим. Очевидно, черт поселился в самом жилище. Оставалось последнее средство — уступить ему фанзу. Так и сделали. Забрав все имущество, они перекочевали на реку Уленгоу. В одном километре от фигурного дерева находилось жилище шамана. Я сразу узнал его по обстановке. Около тропы стояли четыре кола с грубыми изображениями человеческих лиц. Это «цзайгда» — охраняющие дорогу. У них на головах ножи, которыми и поражают черта. На деревьях красовались медвежьи черепа и деревянные бурханы. Тут же стояли древесные пни, вкопанные в землю острыми концами и корнями кверху. На них тоже были сделаны грубые изображения человеческих лиц. Против самого входа в жилище стоял большой деревянный идол Мангани-Севохи с мечом и копьём в руках, а рядом с ним — две оголённые от сучьев лиственницы с корой, снятой кольцами. Внутреннее устройство фанзы ничем не отличалось от фанз прочих туземцев. На стене висел бубен с колотушкой, пояс с погремушками, шаманская юбка с рисунками и деревянная маска, отороченная мехом медведя. Шаман надевает её во время камлания для того, чтобы страшным видом запугать черта. От старика Люрла я узнал, что в прибрежном районе Кусун будет самой южной рекой, по которой можно перевалить на Бикин, а самой северной — река Един (мыс Гладкий). По этой последней можно выйти и на Бикин и на Хор, смотря по тому, по какому из двух верхних притоков идти к перевалу. Он также сообщил мне, что в прибрежном районе Зауссурийского края осень всегда длинная и ледостав наступает на месяц, а иногда и на полтора позже, чем к западу от водораздела. Поэтому я решил идти по берегу моря до тех пор, пока не станут реки, и только тогда направиться к Сихотэ-Алиню. На заводях Кусуна мы застали старого лодочника маньчжура Хей-ба-тоу, что в переводе значит «морской старшина». Это был опытный мореход, плавающий вдоль берегов Уссурийского края с малых лет. Отец его занимался морскими промыслами и с детства приучил сына к морю. Раньше он плавал у берегов Южно-Уссурийского края, но в последние годы под давлением русских перекочевал на север. Хей-ба-тоу хотел ещё один раз сходить на реку Самаргу и вернуться обратно. Чжан-Бао уговорил его сопровождать нас вдоль берега моря. Решено было, что завтра удэхейцы доставят наши вещи к устью Кусуна и с вечера перегрузят их в лодку Хей-ба-тоу. Когда мы вернулись назад, были уже глубокие сумерки. В фанзах засветились огоньки. В наш дом собрались почти все китайцы и удэхейцы. Было людно и тесно. Дерсу сообщил мне, что «все люди» собрались чествовать экспедицию за то, что мы отнеслись к ним дружелюбно. Китайцы принесли водку, свинину, муку, овощи и устроили ужин. Я не дождался конца пирушки и рано лёг спать. Ночью сквозь щели в дверях я видел свет и слышал людские голоса, но пьянства, ссор и ругани не было. Китайцы мирно разговаривали и рассуждали о грядущих событиях. Утром на другой день я поднялся рано и тотчас же стал собираться в дорогу. Я по опыту знал, что если удэхейцев не торопить, то они долго не соберутся. Так и случилось. Удэхейцы сперва чинили обувь, потом исправляли лодки, и выступить нам удалось только около полудня. На Кусуне нам пришлось расстаться с Чжан Бао. Обстоятельства требовали его возвращения на реку Санхобе. Он не захотел взять с меня денег и обещал помочь, если на будущий год я снова приду в прибрежный район. Мы пожали друг другу руки и расстались друзьями. Переправившись через Кусун, мы поднялись на террасу и пошли к морю. Эта часть, побережья до самой реки Тахобе состоит из туфов и базальтовой лавы. Первые под влиянием пресной воды и лучей солнца приняли весьма красивую, пёструю окраску. Утром был довольно сильный мороз (—10°С), но с восходом солнца температура стала повышаться и к часу дня достигла +3° С. Осень на берегу моря именно тем и отличается, что днём настолько тепло, что смело можно идти в одних рубашках, к вечеру приходится надевать фуфайки, а ночью — завёртываться в меховые одеяла. Поэтому я распорядился всю тёплую одежду отправить морем на лодке, а с собой мы несли только запас продовольствия и оружие. Хей-ба-тоу с лодкой должен был прийти к устью реки Тахобе и там нас ожидать. От Кусуна до Тахобе — 7 километров. На этом протяжении в море впадает несколько горных ручьёв, которые удэхейцы называют Догум, Тохонкси, Сюнды, Ампо и Диенсу.
Глава шестнадцатая Солоны

Река Тахобе. — Обиженная белка. — Обиталище черта. — Гроза со снегом. — Агды. — Лакомство солона. — Снежный перевал. — Стойкость туземцев к холоду. — Река Кумуху. — Лоси. — Возвращение к морю.
Устье Тахобе находится между мысами Максимова и Олимпиады. Раньше оно было у левого края долины, но потом переместилось, вследствие чего образовался слепой рукав, впоследствии превратившийся в болото. В низовьях долина Тахобе покрыта редколесьем из вяза, липы, дуба и чёрной берёзы. Места открытые, чистые и годные для поселений находятся немного выше, в 2 километрах от моря. Тут мы нашли маленькую фанзочку. Обитателей её я принял сначала за удэхейцев и только вечером узнал, что это были солоны. Наши новые знакомые по внешнему виду мало чем отличались от уссурийских туземцев. Они показались мне как будто немного ниже ростом и шире в костях. Кроме того, они более подвижны и более экспансивны. Говорили они по-китайски и затем на каком-то наречии, составляющем смесь солонского языка с гольдским. Одежда их тоже ничем не отличалась от удэхейской, разве только меньше было пестроты и орнаментов. Вся семья солонов состояла из десяти человек: старика отца, двух взрослых сыновей с жёнами и пятерых малых детей. Как попали они сюда из Маньчжурии? Из расспросов выяснилось следующее. Раньше они жили на реке Сунгари, откуда ради охоты переселились на реку Нор, впадающую в Уссури. Когда там появились многочисленные шайки хунхузов, китайское правительство выслало против них свои войска. Семья солонов попала в положение между двух огней; с одной стороны на них нападали хунхузы, а с другой — правительственные войска, которые избивали всех без разбору. Тогда солоны бежали на Бикин, затем перекочевали через Сихотэ-Алинь и остались на берегу моря. Следующие четыре дня были посвящены осмотру рек Тахобе и Кумуху. Сопровождать нас вызвался младший из солонов, Да Парл. Это был молодой человек крепкого телосложения, без усов и бороды. Он держал себя гордо и свысока посматривал на стрелков. Я невольно обратил внимание на лёгкость его походки, ловкость и изящество движений. Дня через два мы выступили в поход. Река Тахобе длиной около 68 километров и имеет течение с запада на восток, с небольшим склонением к югу. По обе стороны её на ширину до 200 метров тянутся полосы гальки, заваленной корчами и буреломом. 24-го числа мы дошли до реки Бали, а 25-го стали подходить к водоразделу. Горы утратили свои резкие очертания. Места их заняли невысокие сопки с пологими склонами. В 1907 году в прибрежном районе был урожай кедровых орехов, но к западу от Сихотэ-Алиня их не было вовсе. Зато желудей много уродилось в бассейне Уссури, и, наоборот, в Зауссурийском крае дуб был пустоцветным. Мы шли по левому берегу реки. Я, Дерсу и Да Перл впереди, а Захаров и Аринин шагах в 15 сзади. Вдруг впереди, на валежнике, показалась белка. Она сидела на задних лапках и, заложив хвостик на спинку, грызла кедровую шишку. При нашем приближении белка схватила свою добычу и бросилась на дерево. Оттуда, сверху, она с любопытством посматривала на людей. Солон тихонько подкрался к кедру, крикнул и изо всей силы ударил по стволу палкой. Белка испугалась, выронила свою добычу и забралась ещё выше. Этого только и надо было солону. Он поднял шишку и, нимало не обращая внимания на обиженного зверька, пошёл дальше. Белка прыгала с ветки на ветку и фырканьем выражала неудовольствие за грабёж среди бела дня. Мы от души смеялись. Дерсу способа этого не знал и в будущем для добычи орехов решил тоже применять солонские приёмы. — Тебе сердись не надо, — сказал он, обращаясь с утешениями к белке. — Наша внизу ходи, как орехи найди? Тебе туда смотри, там много орехов есть. — Он указал рукой на большой кедр; белка словно поняла его и направилась в ту сторону. Кстати, два слова о маньчжурской белке. Этот представитель грызунов имеет удлинённое тело и длинный пушистый хвост. Небольшая красивая головка его украшена большими чёрными глазами и небольшими закруглёнными ушами, оканчивающимися пучком длинных чёрных волос, расположенных веерообразно. Общая окраска белки пепельно-серая, хвост и голова чёрные, брюшко белое. Изредка встречаются отдельные экземпляры с жёлтыми подпалинами. Белка — животное то оседлое, то кочевое, смотря по тому, изобилует ли избранный ею для поселения район пищею. Она заблаговременно усматривает, в чём будет недород и в чём избыток, и заранее перекочёвывает то в дубняк, то в кедровники или лиственные леса с подлесьем из орешника. Весь день она пребывает в движении и даже в ненастную погоду выходит из своего гнезда пробежаться по дереву. Она, можно сказать, положительно не выносит покоя и только, в темноте лежит на боку, свернувшись и закинув хвост на голову. Чуть свет—белка уже на ногах. Кажется, движение ей так же необходимо, как вода, пища и воздух. Лет 20 назад беличья шкурка стоила 20 копеек. По мере спроса на её мех цена на него возрастала и ныне доходит до 3 рублей за штуку. Главными врагами белки являются куница, соболь и человек. Весь день в воздухе стояла мгла; небо затянуто паутиной слоисто-перистых облаков; вокруг солнца появились «венцы»; они суживались всё более и более и наконец слились в одно матовое пятно. В лесу было тихо, а по вершинам деревьев уже разгуливал ветер. Это, видимо, беспокоило Дерсу и солона. Они что-то говорили друг другу и часто поглядывали на небо. — Плохо, — сказал я, — ветер начинает дуть с юга. — Нет, — протянул Дерсу. — Его так ходи. — И он указал на северо-восток. Мне показалось, что он ошибся, и я начал было возражать. — Посмотри на птицу! — воскликнул Дерсу. — Видишь, она на ветер смотрит. Действительно, на одной из елей сидела ворона головой к северо-востоку. Это было самое выгодное для неё положение, при котором ветер скользил по перу. Наоборот, если бы она села боком или задом к ветру, то холодный воздух проникал бы под перо и она стала бы зябнуть. К вечеру небо покрылось тучами, излучение тепла от земли уменьшилось и температура воздуха повысилась с -2 до + 10° С. Это был тоже неблагоприятный признак. На всякий случай мы прочно поставили палатки и натаскали побольше дров. Но опасения наши оказались напрасными: ночь прошла благополучно. Утром, когда я проснулся, то прежде всего взглянул на небо. Тучи на нём лежали параллельными полосами в направлении с севера на юг. Мешкать нельзя было. Мы проворно собрали свои котомки и пошли вверх по реке Тахобе. Я рассчитывал в этот день добраться до Сихотэ-Алиня, но вследствие непогоды этого нам сделать не удалось. Около полудня в воздухе вновь появилась густая мгла. Горы сделались тёмно-синими и угрюмыми. Часа в четыре хлынул дождь, а вслед за ним пошёл снег, мокрый и густой. Тропинка сразу забелела; теперь её можно было далеко проследить среди зарослей и бурелома. Ветер сделался резким и порывистым. Надо было остановиться на бивак. Недалеко от реки, с правой стороны, высилась одинокая скала, похожая на развалины замка с башнями по углам. У подножия её рос мелкий березняк. Место это мне показалось удобным, и я подал знак к остановке. Стрелки принялись таскать дрова, а солон пошёл в лес за сошками для палатки. Через минуту я увидел его бегущим назад. Отойдя от скалы шагов сто, он остановился и посмотрел наверх, потом отбежал ещё немного и, возвратившись на бивак, что-то тревожно стал рассказывать Дерсу. Гольд тоже посмотрел на скалу, плюнул и бросил топор на землю. После этого оба они пришли ко мне и стали просить, чтобы я переменил место бивака. На вопрос, какая тому причина, солон сказал, что, когда под утёсом он стал рубить дерево, сверху в него черт два раза бросил камнями. Дерсу и солон так убедительно просили меня уйти отсюда и на лицах у них написано было столько тревоги, что я уступил им и приказал перенести палатки вниз по реке метров на 400. Тут мы нашли место ещё более удобное, чем первое. Дружно все принялись за работу: натаскали дров и развели большие костры. Дерсу и солон долго трудились над устройством какой-то изгороди. Они рубили деревья, втыкали в землю и подпирали сошками. На изгородь они не пожалели даже своих одеял. На задаваемые вопросы Дерсу ответил мне, что изгородь эту они сделали для того, чтобы черт со скал не мог видеть, что делается на биваке. Мне стало смешно, но я не высказывал этого, чтобы не обидеть старого приятеля. Мои стрелки расположились рядом и мало думали о том, смотрит на них черт с сопки или нет. Они больше интересовались ужином. Вечером непогода ухудшилась. Люди забились в палатки и согревались горячим чаем. Часов в 11 вечера вдруг густо повалил снег, и вслед за тем что-то сверкнуло на небе. — Молния! — воскликнули стрелки в один голос. Не успел я им ответить, как послышался резкий удар грома. Эта гроза со снегом продолжалась до 2 часов ночи. Молнии сверкали часто и имели красный оттенок. Раскаты грома были могучие и широкие; чувствовалось, как от них содрогались земля и воздух. Явление грозы со снегом было так ново и необычно, что все с любопытством посматривали на небо, но небо было тёмное, и только при вспышках молнии можно было рассмотреть тяжёлые тучи, двигавшиеся в юго-западном направлении. Один удар грома был особенно оглушителен. Молния ударила как раз в той стороне, где находилась скалистая сопка. К удару грома примешался ещё какой-то сильный шум: произошёл обвал. Надо было видеть, в какое волнение пришёл солон! Он решил, что черт сердится и ломает сопку. Он развёл ещё один огонь и спрятался за изгородь. Я взглянул на Дерсу. Он был смущён, удивлён и даже испуган: черт на скале, бросивший камнями, гроза со снегом и обвал в горах — все это перемешалось у него в голове и, казалось, имело связь друг с другом. — Эндули[240] черта гоняй! — сказал он довольным голосом и затем что-то неожиданно стал говорить солону. Между тем гроза стала удаляться, но молнии ещё долго вспыхивали на небе, отражаясь широким пламенем на горизонте, и тогда особенно отчётливо можно было рассмотреть контуры отдалённых гор и тяжёлые дождевые тучи, сыпавшие дождём вперемежку со снегом. Издали долго ещё доносились глухие раскаты грома, от которых вздрагивали земля и воздух… Напившись чаю, стрелки легли спать, а я долго ещё сидел с Дерсу у огня и расспрашивал о чертях и о грозе со снегом. Он мне охотно отвечал. — Гром — это Агды. Когда черт долго держится в одном месте, то бог Эндули посылает грозу, и Агды гонит черта. Значит, там, где разразилась гроза, был черт. После ухода черта (то есть после грозы) кругом воцаряется спокойствие: животные, птицы, рыбы, травы и насекомые тоже понимают, что черт ушёл, и становятся жизнерадостными, весёлыми… О грозе со снегом он сказал, что раньше гром и молния были только летом, зимние же грозы принесли с собой русские. Эта гроза была третья, которую он помнил за всю свою жизнь. За разговором незаметно прошло время. Начинался рассвет… Из темноты стали выступать сопки, покрытые лесом, Чёртова скала и кусты, склонившиеся над рекой. Всё предвещало пасмурную погоду… Но вдруг неожиданно на востоке, позади гор, появилась багровая заря, окрасившая в пурпур хмурое небо. В этом золотисто-розовом сиянии отчётливо стал виден каждый куст и каждый сучок на дереве. Я смотрел как очарованный на светлую игру лучей восходящего солнца. — Ну, старина, пора и нам соснуть часок, — обратился я к своему спутнику, но Дерсу уже спал, прислонившись к валежине, лежащей на земле около костра. На другой день мы все проспали и встали очень поздно. По небу все ещё ползли тучи, но они не имели уже такого страшного вида, как ночью. Закусив немного и напившись чаю, мы прошли опять вверх по реке Тахобе, которая должна была привести нас к Сихотэ-Алиню. От места нашего бивака до главного хребта был ещё один переход. По словам солона, перевал этот невысок. По ту сторону его будет река Мыхе (приток Бикина); она течёт вдоль Сихотэ-Алиня, Я не пошёл туда, а повернул вправо по ключику Ада, чтобы выйти в один из верхних притоков соседней реки Кумуху, намереваясь по ней спуститься к морю. В сумерки мы немного не дошли до водораздела и стали биваком в густом лесу. Вечером солон убил белку. Он снял с неё шкурку, затем насадил её на вертел и стал жарить, для чего палочку воткнул в землю около огня. Потом он взял беличий желудок и положил его на угли. Когда он зарумянился, солон с аппетитом стал есть его содержимое. Стрелки начали плеваться, но это мало смущало солона. Он сказал, что белка — животное чистое, что она ест только орехи да грибки, и предлагал отведать этого лакомого блюда. Все отказались… В это время Аринин стал поправлять огонь и задел белку. Она упала. Стрелок поставил её на прежнее место, но не так, как раньше, а головой вниз. Солон засуетился и быстро повернул её головой кверху. При этом он сказал, что жарить белку можно только таким образом, иначе она обидится и охотнику не будет удачи, а рыбу, наоборот, надо ставить к огню всегда головой вниз, а хвостом кверху. 28-го числа день был такой же пасмурный, как и накануне. Ручьи ещё шумели в горах, но и они уже начали испытывать на себе заморозки. По воде всюду плыла шуга, появились забереги, кое-где стал образовываться донный лёд. Сразу от бивака начинался подъём. Чем выше мы взбирались в гору, тем больше было снега. На самом перевале он был по колено. Тёмно-зелёный хвойный лес оделся в белый убор и от этого имел праздничный вид. Отяжелевшие от снега ветви елей пригнулись книзу и в таком напряжении находились до тех пор, пока случайно упавшая сверху веточка или еловая шишка не стряхивала пышные белые комья, обдавая проходящих мимо людей холодной снежной пылью. Являлось полное впечатление зимы. В лесу царила удивительная тишина. По барометрическим измерениям высота перевала над уровнем моря оказалась равной 880 метрам. Солон торопил. Он говорил, что скоро должен подуть северо-западный ветер и будет беда, если здесь нас застанет непогода. Пурга в горах — обычное явление, если вслед за свежевыпавшим снегом поднимается ветер. Признаки этого ветра уже налицо: тучи быстро бежали к востоку; они стали тоньше, прозрачнее, и уже можно было указать место, где находится солнце. Я послушался совета солона и пошёл скорее. Спуск с перевала к реке Кумуху был такой же крутой, как и подъем со стороны Тахобе. Лес, покрывающий северный склон водораздела между бассейнами обеих упомянутых рек, — хвойно-смешанный, угрюмый, заваленный колодником. Предсказания солона сбылись. Когда мы были внизу, в горах послышался шум, который постепенно усиливался и спускался в долину. Я оглянулся назад: снежные сопки курились — начиналась пурга. Маленький ключик привёл нас к каменистой, заваленной колодником речке Цаони, впадающей в Кумуху с правой стороны. После полуденного привала мы выбрались из бурелома и к вечеру достигли реки Кумуху, которая здесь шириной немного превосходит Цаони и мало отличается от неё по характеру. Ширина, её в верховьях не более 4—5 метров. Если отсюда идти по ней вверх, к Сихотэ-Алиню, то перевал опять будет на реке Мыхе, но уже в самых её истоках. От устья Цаони до Сихотэ-Алиня туземцы считают один день пути. Бивак мы устроили, как всегда, на берегу реки. К вечеру небо очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной. Я понадеялся на одеяло и лёг в стороне от огня, уступив своё место солону, у которого одежонка была очень плохая. Часа в три утра я проснулся оттого, что озяб. Как ни старался я укрыться плотнее, ничего не помогало: холодный воздух находил себе лазейку и сквозил то в плечо, то в ноги. Пришлось встать.
Кругом было темно: огонь наш погас. Я собрал тлеющие головешки и стал их раздувать. Через минуту вспыхнуло пламя, и кругом всё стало видно: Захаров и Аринин лежали под защитой палатки, а Дерсу спал сидя, одетый. Собирая дрова, я увидел совсем в стороне, далеко от костра, спавшего солона. Ни одеяла, ни тёплой одежды у него не было. Он лежал на ельнике, покрывшись только одним своим матерчатым кафтаном. Опасаясь, как бы он не простудился, я стал трясти его за плечо, но солон спал так крепко, что я насилу его добудился. Да Парл поднялся, почесал голову, зевнул, затем лёг опять на прежнее место и громко захрапел. Удэхейцы с удивительной стойкостью переносят холод. К этому они привыкают с детства, с того момента, как первый раз вдохнут в себя воздух. Я погрелся немного у огня, затем залез к стрелкам в палатку и тогда хорошо заснул. На другое утро мы все поднялись очень рано. Взятые с собой запасы продовольствия подходили к концу, и потому надо было торопиться. Наш утренний завтрак состоял из жареной белки, остатков лепёшки, испечённой в золе, и кружки горячего чая. Когда мы выступили в путь, солнышко только всходило. Светлое и лучезарное, оно поднялось из-за леса и яркими лучами осветило вершины гор, покрытые снегом. Река Кумуху (по-удэхейски Кумму), названная русскими рекой Кузнецова, берёт начало с хребта Сихотэ-Алинь, течёт в широтном направлении, только в нижней своей части склоняется к югу и в море впадает около мыса Олимпиады (46°12,5' с. ш. и 138°20,0' в. д. от Гринвича). По пути Кумуху принимает в себя следующие притоки: с левой стороны — реки Яаса 1-я, Яаса 2-я, Усмага, Тапку, Ного, Тагды, Хандями, Дыонго, а с правой —кроме Цыгони, по которой мы пришли, ещё Лиго, Цаолосо, Бутыче и Амукта. Из них самая быстрая Лиго, а самая спокойная Тагды. С последней будет перевал на реку Сваин, впадающую в море севернее реки Кузнецова. Удэхейцы в лодках поднимаются до реки Тагды; дальше движение вверх по Кумуху возможно только по льду реки на нартах. В средней части её, в особенности с левой стороны, между реками Тагды и Яаса, видны следы давнишних пожарищ. Как и везде, наиболее выгорели леса по хребтам и сохранились только в долинах. Река Кумуху интересна ещё и в том отношении, что здесь происходят как раз стыки двух флор — маньчжурской и охотской. Проводниками первой служат долины, второй — горные хребты. Создаётся впечатление, будто одна флора клином входит в другую. Теперь, когда листва опала, сверху, с гор, было хорошо видно, где кончаются лиственные леса и начинаются хвойные. Долины кажутся серыми, а хребты — тёмно-зелёными. Здесь среди кустарниковой растительности ещё можно видеть кое-каких представителей маньчжурской флоры, например: лещину, у которой обёртка орехов вытянута в длинную трубку и густо усажена колючими волосками; красноветвистый шиповник с сильно удлинёнными плодиками, сохраняющимися на ветках его чуть ли не всю зиму; калину, дающую в изобилии сочные светло-красные плоды; из касатиковых — вьющуюся диоскорею, мужские и женские экземпляры которой разнятся между собой; актинидию, образующую густые заросли по подлесью, и лимонник с гроздьями красных ягод, от которых во рту остаётся лёгкий ожог, как от перца. В среднем течении Кумуху имеет метров 20 ширины и около одного метра глубины по фарватеру. Средняя скорость течения равна 8 километрам в час в малую воду. По словам туземцев, недалеко от моря есть выходы углей на дневную поверхность. Как мы ни старались, но в этот день нам удалось дойти только до реки Тагды. До моря оставалось ещё километров 20. Когда намеченный маршрут близится к концу, то всегда торопишься: хочется скорее закончить путь. В сущности, дойдя до моря, мы ничего не выигрывали. От устья Кумуху мы опять пойдём по какой-нибудь реке в горы; так же будем устраивать биваки, ставить палатки и таскать дрова на ночь; но всё же в конце намеченного маршрута всегда есть что-то особенно привлекательное. Поэтому все рано легли спать, чтобы пораньше встать. На другой день, чуть только заалел восток, все поднялись как по команде и стали собираться в дорогу. Я взял полотенце и пошёл к реке мыться. Природа находилась ещё в том состоянии покоя, когда все дремлет и наслаждается предрассветным отдыхом. От реки поднимались холодные испарения; на землю пала обильная роса… Но вот слабый утренний ветерок пробежал по лесу. Туман тотчас пришёл в движение, и показался противоположный берег. На биваке стало тихо: люди начали подкреплять себя пищей. Вдруг до слуха моего донеслось бренчание гальки: кто-то шёл по камням. Я оглянулся и увидел две тени: одну высокую, другую пониже. Это были лоси — самка и годовалый телок. Они подошли к реке и начали жадно пить воду. Самка мотнула головой и стала зубами чесать свой бок. Я любовался животными и боялся, чтобы их не заметили стрелки. Вдруг самка почуяла опасность и, насторожив свои большие уши, внимательно стала смотреть в нашу сторону. Вода капала у неё с губ, и от этого расходились круги по спокойной поверхности реки. Лосиха встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу. В это мгновение потянул ветерок, и снова противоположный берег утонул в тумане. Захаров стрелял и промахнулся, чему в душе я порадовался. Наконец взошло солнце. Клубы тумана приняли оранжевые оттенки. Сквозь них стали вырисовываться кусты, деревья, горы… Через полчаса мы шли по тропинке и весело болтали между собой. На поляне, ближайшей к морю, поселился старовер Долганов, занимающийся эксплуатацией туземцев, живущих на соседних с ним реках. Мне не хотелось останавливаться у человека, который строил своё благополучие за счёт бедняков; поэтому мы прошли прямо к морю и около устья реки нашли Хей-ба-тоу с лодкой. Он прибыл к Кумуху в тот же день, как вышел из Кусуна, и ждал нас здесь около недели. Вечером стрелки разложили большие костры. У них было весёлое настроение, точно они возвратились домой. Люди так привыкли к походной жизни, что совершенно не замечали её тягот. Одни сутки мы простояли на месте. Нужно было отдохнуть, собраться с силами и привести в порядок свои вещи. Наконец наступило 1 ноября — первый день зимнего месяца. Утром был мороз до 10° С при сильном ветре. В каком бы направлении ветер ни дул — с материка в море или, наоборот, с моря на материк, движение его всегда происходит по долинам. В тех случаях, если последние имеют северо-западное направление, ветер дует с такой силой, что опрокидывает на землю деревья и снимает с домов крыши. Обыкновенно с восходом солнца ветер стихает, а часа в четыре дня начинает дуть снова. От реки Тахобе до Кумуху есть пешеходная тропа. Она проложена горами и проходит недалеко от моря. Расстояние это измеряется в 16 километров. В топографическом и геологическом отношении вся местность между двумя упомянутыми реками представляет собой обширный лавовый покров. Теперь это невысокие холмы, изрезанные большими оврагами. Когда-то тут был хороший лес. Ныне от него остались только пни и редкие сухостои. По оврагам, о которых я упомянул, в море текут ручьи Цалла, Анкуга, Лолобинга, Тахалун, Калама и Кумолун.
Глава семнадцатая Сердце Зауссурийского края

Мелкие речки на берегу моря. — Сухая мгла и звукопроницаемость воздуха. — Обоняние охотника. — Беспокойство и сомнения. — Перевал на реку Нахтоху. — Следы человека. — Удэхеец Янсели. — Притоки реки. — Удэхеец Монгули. — Китаец, укравший соболя. — Туземное население. — Кладбище. — Тревожная весть. — Исчезновение Хей-ба-тоу. — Безвыходное положение.
На реке Кузнецова мы распрощались с солоном. Он возвратился к себе на реку Тахобе, а мы пошли дальше на север. Хей-ба-тоу было приказано следовать вдоль берега моря и дожидаться нас в устье реки Холонку. От выпавшего снега не осталось и следа, несмотря на то что температура всё время стояла довольно низкая. На земле нигде не видно было следов оттепели, а между тем снег куда-то исчез. Это происходит от чрезвычайной сухости зимних северо-западных ветров, которые поглощают всю влагу и делают климат Зауссурийского края в это время года похожим на континентальный. Здешняя растительность такая же чахлая, как и везде на побережья моря. Заметным становится преобладание хвойных пород; на сцену всё больше и больше выступает лиственница, а дубняки отходят на задний план. Тропа, которая до сего времени вела нас вдоль берега моря, кончилась около реки Кумуху. От мыса Олимпиады до реки Самарги, на протяжении 150 по прямой линии и 230 километров в действительности, берег горист и совершенно пустынен. Наподобие густой корковой щётки хвойный замшистый лес одевает все горы и доходит вплотную до берега моря. Эта часть пути считается очень трудной. Сюда избегают заходить даже удэхейцы. Расстояние, которое по морю на лодке можно проехать в полдня, пешком по берегу едва ли удастся пройти и в четверо суток. За день мы прошли немного и стали биваком около рекиБабкова. Здесь можно видеть хорошо выраженные береговые террасы. Они высотой около 12 метров. Река в них промыла узкое ложе, похожее на каньон. По широкому заболоченному плато кое-где растут в одиночку белая берёза, лиственница и поросль дуба. Лодка Хей-ба-тоу могла останавливаться только в устьях таких рек, которые не имели бара и где была хоть небольшая заводь. Река Бабкова достоинствами этими не отличалась, и потому Хей-ба-тоу прошёл её мимо с намерением остановиться около мыса Сосунова. С утра погода была удивительно тихая. Весь день в воздухе стояла сухая мгла, которая после полудня начала быстро сгущаться. Солнце из белого стало жёлтым, потом оранжевым и, наконец, красным; в таком виде оно и скрылось за горизонтом. Я заметил, что сумерки были короткие: как-то скоро спустилась ночная тьма. Море совершенно успокоилось, нигде не было слышно ни единого всплеска. Казалось, будто оно погрузилось в сон. Часов в 10 вечера взошла луна. Она была очень больших размеров, имела странный вид и даже в полночь не утратила того красного цвета, который свойствен ей во время низкого стояния над горизонтом. Утёсы на берегу моря, лес в горах и одиноко стоящие кусты и деревья казались как бы другими — не такими, как всегда. В полночь мгла сгустилась до того, что её можно было видеть в непосредственной от себя близости, и это не был дым, потому что гарью не пахло. Вместе с тем воздух приобрёл удивительную звукопроницаемость: обыкновенный голос на дальнем расстоянии слышался как громкий и крикливый; шорох мыши в траве казался таким шумом, что невольно заставлял вздрагивать и оборачиваться. Казалось, будто мы перенеслись в другой мир, освещённый не луною, а каким-то неведомым тусклым светилом. Вслед за тем воздух наполнился какими-то звуками, похожими на раскаты грома, глухие взрывы или отдалённую пушечную пальбу залпами. Звуки эти неслись откуда-то со стороны моря. Может быть, единственный раз в жизни мы слышали подземный гул. Явление это навеяло на всех людей страх; Дерсу говорил, что за всю свою жизнь он никогда ничего подобного не слышал. Я счёл необходимым адресоваться к инструментам: барометр показывал 759, температура воздуха —3°С, анемометр — полный штиль. Это интересное явление продолжалось до рассвета. Когда мгла исчезла, снова подул холодный северо-западный ветер. От реки Бабкова берег делает небольшой изгиб. Чтобы сократить путь, мы поднялись по одному из притоков реки Каменной, перевалили через горный кряж, который здесь достигает высоты 430 метров, и вышли на реку Холонку, невдалеке от её устья, где застали Хей-ба-тоу с лодкой. За штиль ночью ветер, казалось, хотел наверстать потерянное и дул теперь особенно сильно; анемометр показывал 215. Остальную часть дня я употребил на осмотр нижней долины Холонку. Здесь мы опять видим лагуну длиной 5 и шириной 1 километр. Она отделена от моря двухъярусным валом. Около устья река Холонку непомерно широка и глубока — это наиболее глубокое место бывшей лагуны. Длина обоих валов около 500 метров; один вал сложен из крупных окатанных валунов, обросших лишайниками, что доказывает, что камни эти давно уже находятся в состоянии покоя. Вал, ближайший к морю, меньше размерами и, видимо, только недавно наметен морским прибоем. Ныне на месте лагуны образовалось мшистое болото, поросшее голубикой, багульником и морошкой. Вечером я сделал распоряжение: на следующий день Хей-ба-тоу с лодкой должен был перейти на реку Хатоху и там опять ждать нас, а мы пойдём вверх по реке Холонку до Сихотэ-Алиня и затем по реке Нахтоху спустимся обратно к морю, Я распорядился, чтобы с вечера люди собрали всё, что им надо, так как завтра Хей-ба-тоу хотел уйти на рассвете. На другой день, 3 ноября, я проснулся раньше других, оделся и вышел из палатки. Картина, которую я увидел, была необычайно красива. На востоке пылала заря. Освещённое лучами восходящего солнца море лежало неподвижно, словно расплавленный металл. От реки поднимался лёгкий туман. Испуганная моими шагами, стая уток с шумом снялась с воды и с криком полетела куда-то в сторону, за болото. Когда солнце поднялось над горизонтом, я увидел далеко в море парус Хей-ба-тоу. Я согрел чай и разбудил своих спутников. Закусив поплотнее, мы собрали свои котомки и тоже отправились в путь по намеченному маршруту. Река Холонку (по-удэхейски Халланку) называется на картах рекой Светлой. Длиной она около 90 километров, течёт в широтном направлении и начало имеет в горах Сихотэ-Алиня. Если идти вверх по реке, то в нижней половине её в последовательном порядке будут встречаться следующие притоки. С правой стороны — Хунды и Дя. Первая немного больше второй. Лососёвые рыбы поднимаются только до реки Дя, но главная масса их сворачивает на Хунды. С левой стороны Холонку принимает в себя только один приток—Тальмакси, по которому можно выйти на реку Пия, впадающую в море на 20 километров выше мыса Плитняк. В долине реки Холонку раньше были хорошие леса, но теперь они все уничтожены пожарами. Лес сохранился одинокими островками только в верхнем течении. В этот день мы вышли сравнительно поздно, потому и прошли немного. С первых же шагов Дерсу определил, что река Холонку не жилая, что туземцы заглядывают сюда редко и что года два назад здесь соболевали корейцы. Перед сумерками Дерсу ходил на охоту. Назад он вернулся с пустыми руками. Повесив ружьё на сучок дерева, он сел к огню и заявил, что нашёл что-то в лесу, но забыл, как этот предмет называется по-русски. Так как он долго не мог найти его, то я стал задавать ему наводящие вопросы. Вдруг Дерсу спохватился, — Дуба сынка! — воскликнул он простодушно и вслед за тем подал мне обыкновенный жёлудь. Потом он сообщил мне, что нашёл его на сопке с левой стороны реки, хотя вблизи самого дерева нигде не было видно. Очевидно, этот жёлудь занесла сюда какая-нибудь птица или мелкое животное вроде белки или бурундука. С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Средняя суточная температура понизилась до 6,3° С, и дни заметно сократились. На ночь для защиты от ветра нужно было забираться в самую чащу леса. Для того чтобы заготовить дрова, приходилось рано становиться на биваки. Поэтому за день удавалось пройти мало и на маршрут, который летом можно было сделать в сутки, теперь приходилось тратить времени вдвое больше. Утром 4 ноября мы все проснулись от холода. Термометр показывал — 11° С при сильном ветре. Погревшись у огня, мы напились горячего чая и тронулись в путь. Всё время начиная от самого моря, по сторонам, в горах, тянулись сплошные гари. Впереди и слева от нас высилась Плоская гора высотой 600 метров, которую местные жители называют Кямо. С горного хребта, в состав которого она входит, берут начало три притока Холонку: Пуйму, Сололи и Дагды — единственное место в бассейне Холонку, где ещё встречаются изюбры и кабаны. Подъём на лодке возможен только до реки Сололи. Около устья Пуйму мы нашли развалившуюся корейскую зверовую фанзу и около неё старую дощатую лодку. Это показало, что наблюдения Дерсу были правильны. Выбрав место для ночёвки, я приказал Захарову и Аринину ставить палатку, а сам с Дерсу пошёл на охоту. Здесь по обоим берегам реки кое-где узкой полосой ещё сохранился живой лес, состоящий из осины, ольхи, кедра, тальника, берёзы, клёна и лиственницы. Мы шли и тихонько разговаривали, он—впереди, а я — несколько сзади. Вдруг Дерсу сделал мне знак, чтобы я остановился. Я думал сначала, что он прислушивается, но скоро увидел другое: он поднимался на носки, наклонялся в стороны и усиленно нюхал воздух. — Пахнет, — сказал он шёпотом. — Люди есть. — Какие люди? — Кабаны, — отвечал гольд. — Моя запах найди есть. Как я ни нюхал воздух, никакого запаха не ощущал. Дерсу осторожно двинулся вправо и вперёд. Он часто останавливался и принюхивался. Так прошли мы шагов полтораста. Вдруг что-то шарахнулось в сторону. Это была дикая свинья и с нею полугодовалый поросёнок. Ещё несколько кабанов бросилось врассыпную. Я выстрелил и уложил поросёнка. На обратном пути я спросил Дерсу, почему он не стрелял в диких свиней. Гольд ответил, что не видел их, а только слышал шум в чаще, когда они побежали. Дерсу был недоволен: он ругался вслух и потом вдруг снял шапку и стал бить себя кулаком по голове. Я засмеялся и сказал, что он лучше видит носом, чем глазами. Тогда я не знал, что это маленькое происшествие было повесткой к трагическим событиям, разыгравшимся впоследствии. Поросёнок весил около 24 килограммов и был как нельзя более кстати. Вечером мы лакомились свежей дичью; все были веселы, шутили и смеялись. Один Дерсу был не в духе. Он все хмыкал и вслух спрашивал себя, как это он не видел кабанов. После ужина стрелки разделились на смены и стали сушить мясо на огне, а я занялся путевым дневником. 5 ноября, утром, был опять мороз (—14° С); барометр стоял высоко (757). Небо было чистое; взошедшее солнце не давало тепла, зато давало много света. Холод всех подбадривал, всем придавал энергии. Раза два нам пришлось переходить с одного берега реки на другой. В этих местах Холонку шириной около 6 метров; русло её загромождено валежником. Сегодня мы прошли ещё два притока, впадающие в реку с левой стороны: Монинги 1-ю, Монинги 2-ю и Тигдамугу. Они также берут начало с горы Кямо. По долинам рек Монинги держатся лоси; свежие следы их попадались часто, но так как мы были вполне обеспечены продовольствием, то не задерживались здесь и прошли мимо. От реки Тигдамугу до реки Олосу (верхний левый приток Холонку) — один день ходу. По самой реке Холонку и по Олосу можно в один день дойти до водораздела. Эта часть Сихотэ-Алиня с восточной стороны голая, а с западной покрыта хвойным лесом. Шли мы теперь без проводника, по приметам, которые нам сообщил солон. Горы и речки так походили друг на друга, что можно было легко ошибиться и пойти не по той дороге. Это больше всего меня беспокоило. Дерсу, наоборот, относился ко всему равнодушно. Он так привык к лесу, что другой обстановки, видимо, не мог себе представить. Для него было совершенно безразлично, где ночевать — тут или в ином месте… Согласно указаниям, данным солоном, после реки Тигдамугу мы отсчитали второй безымянный ключик и около него стали биваком. По этому ключику нам следовало идти к перевалу на реке Нахтоху. Ночью я плохо спал. Почему-то всё время меня беспокоила одна и та же мысль: правильно ли мы идём? А вдруг мы пошли не по тому ключику и заблудились! Я долго ворочался с боку на бок, наконец поднялся и подошёл к огню. У костра сидя спал Дерсу. Около него лежали две собаки. Одна из них что-то видела во сне и тихонько лаяла. Дерсу тоже о чём-то бредил. Услышав мои шаги, он спросонья громко спросил: «Какой люди ходи?» — и тотчас снова погрузился в сон. Над землёй, погруженной в ночную тьму, раскинулся тёмный небесный свод с миллионами звёзд, переливавшихся цветами радуги. Широкой полосой, от края до края, протянулся Млечный Путь. По ту сторону реки стеной стоял молчаливый лес. Кругом было тихо, очень тихо… С полчаса посидел я у огня. Беспокойство моё исчезло. Я пошёл в палатку, завернулся в одеяло, уснул, а утром проснулся лишь тогда, когда все уже собирались в дорогу. Солнце только что поднялось из-за горизонта и посылало лучи свои к вершинам гор. Сразу с бивака начался подъем. С первого же перевала мы увидели долину реки Пия; за нею высился другой горный хребет с гольцами, потом третий, покрытый снегом. За ними, вероятно, должна быть река Нахтоху. По пути нам встречалось много мелких речек, должно быть притоки реки Пия. Плохо, когда идёшь без проводника: всё равно как слепой. К вечеру мы дошли до какой-то реки, а на другой день, к 2 часам пополудни, достигли третьего перевала. Подъем у него был продолжительный, но некрутой. Внизу, у подножия хребта, растёт смешанный лес, который по мере приближения к гребню становится жидким и сорным. Лиственные породы скоро уступили место хвойным, и на смену кустарнику и травяному подлесью явились мхи и багульник. Чем выше мы поднимались, тем больше было снегу. Увидя вверху просвет, я обрадовался, думая, что вершина недалеко, но радость оказалась преждевременной: то были кедровые стланцы. Хорошо, что они не занимали большого пространства. Пробравшись сквозь них, мы ступили на гольцы, лишённые всякой растительности. Я посмотрел на барометр — стрелка показывала 760 метров. Отсюда, сверху, открывался великолепный вид во все стороны. На северо-западе виднелся низкий и болотистый перевал с реки Нахтоху на Бикин. В другую сторону, насколько хватал глаз, тянулись какие-то другие горы. Словно гигантские волны с белыми гребнями, они шли куда-то на север и пропадали в туманной мгле. На северо-востоке виднелась Нахтоху, а вдали на юге — синее море. Холодный, пронзительный ветер не позволял нам долго любоваться красивой картиной и принуждал к спуску в долину. С каждым шагом снегу становилось всё меньше и меньше. Теперь мы шли по мёрзлому мху. Он хрустел под ногами и оставался примятым к земле. Я шёл впереди, а Дерсу — сзади. Вдруг он бегом обогнал меня и стал внимательно смотреть на землю. Тут только я заметил человеческие следы; они направлялись в ту же сторону, куда шли и мы. — Кто здесь шёл? — спросил я гольда. — Маленькая нога; такой у русских нету, у китайцев нету, у корейцев тоже нету, — отвечал он и затем прибавил: — Это унта[241], носок кверху. Люди совсем недавно ходи. Моя думай, наша скоро его догоняй. Другие признаки, совершенно незаметные для нас, открыли ему, что этот человек был удэхеец, что он занимался соболеванием, имел в руках палку, топор, сетку для ловли соболей и, судя по походке, был молодой человек. Из того, что он шёл напрямик по лесу, игнорируя заросли и придерживаясь открытых мест, Дерсу заключил, что удэхеец возвращался с охоты и, вероятно, направлялся к своему биваку. Посоветовавшись, мы решили идти по его следам, тем более что они шли в желательном для нас направлении. Лес кончился, и опять потянулась сплошная гарь. Так прошли мы с час. Вдруг Дерсу остановился и сказал, что пахнет дымом. Действительно, минут через десять мы спустились к реке и тут увидели балаган и около него костёр. Когда мы были от балагана шагах в ста, из него выскочил человек с ружьём в руках. Это. был удэхеец Янсели с реки Нахтоху. Он только что пришёл с охоты и готовил себе обед. Котомка его лежала на земле, и к ней были прислонены палка, ружьё и топор. Меня заинтересовало, как Дерсу узнал, что у Янсели должна быть сетка на соболя. Он ответил, что по дороге видел срезанный рябиновый прутик и рядом с ним сломанное кольцо от сетки, брошенное на землю. Ясно, что прутик понадобился для нового кольца. И Дерсу обратился к удэхейцу с вопросом, есть ли у него соболиная сетка. Последний молча развязал котомку и подал то, что у него спросили. Действительно, в сетке одно из средних колец было новое. От Янсели мы узнали, что находимся па реке Дагды, текущей к Нахтоху. Не без труда удалось нам уговорить его быть нашим проводником. Главной приманкой для него послужили не деньги, а бердановские патроны, которые я обещал дать ему на берегу моря. По дороге я стал расспрашивать его о тех местах, которые мы проходили. Река Нахтоху (по-удэхейски Накту или Нактана), названная топографами рекой Лебедева, такой же величины, как и река Холонку, и также имеет истоки в горах Сихотэ-Алиня, который называется здесь Кунка-Киамани. В верхней половине своего течения она состоит из двух рек: Нунгини и Дагды. Обе они сливаются на половине пути между морем и Сихотэ-Алинем. Справой стороны в Нахтоху впадают две реки: Амукты и Хагдыги. Между Дагды и Нунгини высятся скалистые сопки, из которых особенно выделяются вершины Ада и Тыонгони. Река Дагды принимает в себя справа ещё две реки: Малу-Сагды, Малу-Наиса — и два ключа: Эйфу и Адани, текущие с горы того же имени, а слева — несколько маленьких речек: Джеиджа, Ада 1-я, Ада 2-я и Тыонгони. От устья Дагды в три дня можно дойти до Сихотэ-Алиня. Вся местность с правой стороны реки Дагды до реки Локтоляги обезлесена пожарами. В горах с левой стороны растут исключительно хвойные леса; внизу, по долине, участки гари чередуются с участками смешанного леса, тоже со значительной примесью хвои. В начале ноября было особенно холодно. На реке появились забереги, и это значительно облегчило наше путешествие. Все притоки замёрзли. Мы пользовались ими для сокращения пути и к вечеру дошли до того места, где Дагды сливается с Нунгини. Отсюда, собственно, и начинается река Нахтоху. Последние два дня дул сильный северо-западный ветер. Он ломал сучья деревьев и носил их по воздуху, как пылинки. К вечеру 6 ноября ветер вдруг сразу стих. Мы так привыкли к его шуму, что неожиданно наступившая тишина показалась нам даже подозрительной. В одной из ям в реке Янсели нашёл мальму, заменяющую в Зауссурийском крае форель. Рыба эта составила нам превосходный ужин, после которого мы, напившись чаю, рано легли спать, предоставив охрану бивака собакам. Во вторую половину ночи все небо покрылось тучами. От Дерсу я научился распознавать погоду и приблизительно мог сказать, что предвещают тучи в это время года: тонкие слоистые облака во время штиля, если они лежат полосами на небе, указывают на ветер, и, чем дольше стоит такая тишь, тем сильнее будет ветер. Утром мы поплотнее закусили, чтобы не останавливаться днём, и часов в девять выступили в поход. После слияния рек Нунгини и Дагды Нахтоху становится извилистой, но, имея опытного провожатого, мы пересекли «кривуны» напрямик, где можно было, и довольно быстро продвигались вперёд. На этом участке в Нахтоху впадают следующие реки: с левой стороны — Бия и Локтоляги с перевалами на одну из прибрежных рек — Эхе. Из выдающихся горных вершин тут можно подниматься только до реки Малу-Сагды. На подъём против воды нужно четверо суток, а на сплав по течению — один день. Янсели сказал, что по реке Нахтоху идёт кета, морская мальма и горбуша. Главная масса кеты направляется по реке Локтоляги, мальма поднимается до порогов реки Дагды, а горбуша — до реки Нунгини. После полудня Янсели вывел нас на тропинку, которая шла вдоль реки, по соболиным ловушкам. Я спросил нашего провожатого, кто здесь ловит соболей. Он ответил, что место это издавна принадлежит удэхейцу Монгули и, вероятно, мы вскоре встретим его самого. Действительно, не прошли мы и двух километров, как увидели какого-то человека; он стоял около одной из ловушек и что-то внимательно в ней рассматривал. Увидев людей, идущих со стороны Сихотэ-Алиня, он сначала было испугался и хотел бежать, но, когда увидел Янсели, сразу успокоился. Как всегда бывает в таких случаях, все разом остановились. Стрелки стали закуривать, а Дерсу и удэхейцы принялись о чём-то горячо говорить между собой. — Что случилось? — спросил я Дерсу. — Манза соболя украл, — отвечал он. По словам Монгули, китаец, проходивший но тропе дня два назад, вынул из ловушки соболя и наладил её снова. Я высказал предположение, что, может быть, ловушка пустовала. Тогда Монгули указал на кровь — ясное доказательство, что ловушка действовала. — Может быть, в ловушку попал не соболь, а белка? — спросил я опять. — Нет, — отвечал Монгули. — Когда бревном придавило соболя, он грыз приколышки, оставив на них следы зубов. Тогда я спросил его, почему он думает, что вор был именно китаец. Удэхеец ответил, что человек, укравший соболя, был одет в китайскую обувь и в левом каблуке у него не хватает одного гвоздя[242]. Доводы эти были вполне убедительны. Отдохнув немного, мы отправились дальше и часов в пять дошли до устья реки Ходэ. Вечером, у огня, я имел возможность хорошо рассмотреть своих новых знакомых. Нахтохуские удэхейцы невысокого роста, сухощавы, имеют овальное лицо с выдающимися скулами, вогнутый нос, карие, широко расставленные глаза с небольшой монгольской складкой век, довольно большой рот, неровные зубы и маленькие руки и ноги. — Точно детские! — говорили мои спутники, рассматривая их обувь, сшитую из выделанной лосиной кожи, в виде олоч, с загнутыми кверху носками. Цвет кожи удэхейцев можно было назвать оливковым, со слабым оттенком желтизны. Летом они так сильно загорают, что становятся похожими на краснокожих. Впечатление это ещё более усугубляется пестротой их костюмов. Длинные, прямые, чёрные как смоль волосы, заплетённые в две коротких косы, были сложены вдвое и туго перетянуты красными шнурами. Косы носятся на груди, около плеч. Чтобы они не мешали, когда человек нагибается, сзади, ниже затылка, они соединены перемычкой, украшенной бисером и ракушками. Одежда нахтохуских удэхейцев состоит главным образом из трёх кафтанов: двух нижних, матерчатых, и одного верхнего, сшитого из тонкой изюбровой кожи, выделанной под замшу. Рубашки застёгиваются у правого плеча и сбоку, как поддёвки, и надеваются с напуском вокруг талии. Рукава около кистей стягиваются особыми нарукавниками. Затем принадлежностями костюма являются короткие штаны и наколенники, привязываемые ремешками к поясу. Головной убор состоит из белого капюшона, спускающегося на спину и плечи, и маленькой шапочки, на которой в стоячем положении прикреплён беличий хвост и несколько красных шнурков с кисточками. Весь костюм, от головы до ступнёй ног, спереди и сзади, обшит цветными полосами и обильно украшен красным орнаментом, изображающим спиральные круги, стилизованных рыб, птиц и животных. Удэхейцы — большие любители металлических украшений, в особенности браслетов и колец. Некоторые старики ещё носят в ушах серьги; ныне обычай этот выходит из употребления. Каждый мужчина и даже мальчики носят у пояса два ножа: один — обыкновенный охотничий, а другой — маленький кривой, которым владеют очень искусно и который заменяет им шило, струг, буравчик, долото и все прочие инструменты. Проговорили мы почти до полуночи. Пора было идти на покой. Удэхейцы взялись караулить бивак, а я пристроился около Дерсу, лёг спиной к огню и скоро уснул. На другой день с бивака мы снялись рано и пошли по тропе, проложенной у самого берега реки. На этом пути Нахтоху принимает в себя с правой стороны два притока: Хулеми и Гоббиляги, а с левой — одну только маленькую речку Ходэ. Нижняя часть долины Нахтоху густо поросла даурской берёзой и монгольским дубом. Начиная от Локтоляги, она постепенно склоняется к югу и только около Хулеми опять поворачивает на восток. От Ходэ долина сразу начинает расширяться. По сторонам, в горах, произрастают хвойные леса, а внизу, в долине, — смешанные, с преобладанием тополя и каменной берёзы. Кроме этих пород мы встречаем здесь мелколистный клён с серой корой и густой кроной, ильм, красивое, стройное дерево со светлосерой корой, и тис — оригинальное хвойное дерево с красными ягодами. Затем идут такие породы, которые не знаешь куда и причислить: к кустарникам или деревьям, например бересклет широколистный, дающий длиннокрылые плоды, и кустарниковая ольха с блестящей тёмной корой. Особенно часто на Нахтоху встречаются таволга бузинолистная и жимолость, дающая чёрные, с сизым налётом кислые ягоды. Последние дни были холодные и ветреные. Анемометр показывал 225. Забереги на реке во многих местах соединились и образовали природные мосты. По ним можно было свободно переходить с одной стороны реки на другую. Километрах в 10 от реки Гоббиляги кончается лес и начинаются открытые места. На последней поляне мы нашли три удэхейские фанзы. Здешние удэхейцы обзавелись китайскими постройками весьма недавно. Несколько лет назад они жили ещё в юртах. Около каждого домика были небольшие огороды, возделываемые наёмным трудом китайцев. Последние являются среди удэхейцев половинщиками в пушных промыслах. Из расспросов выяснилось, что река Нахтоху—северная граница, до которой с юга китайцы распространили своё влияние. Здесь было их только пять человек: четыре постоянных обитателя и один пришлый, с реки Кусуна. Провожавшие нас удэхейцы бросились к нему и стали осматривать его обувь: в ней не хватало одного гвоздя. Они развязали его котомку, вынули из неё соболя и сообщили все подробности, при которых он совершил кражу. Китаец, полагая, что за ним подсматривали из кустов, сознался. Удэхейцы удалились, довольные тем, что нашли свою добычу. Но не так отнеслись к этому остальные китайцы. Они пошептались между собой и затем объявили провинившемуся, что он опозорил их всех и потому должен оставить реку Нахтоху навсегда и уйти в другое место. Виновный, стоя с непокрытой головой, выслушал свой приговор и обещал на другой же день уйти из долины, чтобы никогда в неё более не возвращаться. От туземного посёлка до моря не более 8 километров. Недалеко от последней фанзы тропа разделилась надвое. Аринин пошёл влево, а мы — прямо к берегу реки. Скоро он возвратился назад и сообщил, что среди тальников в маленькой лодочке лежит «морской бог». Я велел ему принести бурхана к себе, но затем раздумал и пошёл туда сам. «Морской бог» в лодке оказался мёртвым младенцем в гробу. Трупик засох и превратился в мумию. Рядом с ним оказалось целое кладбище. Одни гробы стояли на коротких сваях под крышей, другие были засунуты между стволами тальников. Расколотые лодки, поломанные нарты, разорванные рыболовные сети, весла и остроги были брошены тут же, около могил. Я хотел было вскрыть один из гробов, но в это время в стороне услышал голоса и пошёл к ним навстречу. Через минуту из кустов вышли два удэхейца, только что прибывшие с реки Един. Они сообщили нам крайне неприятную новость: 4 ноября наша лодка вышла с реки Холонку, и с той поры о ней ни слуху ни духу. Я вспомнил, что в этот день дул особенно сильный ветер. Пугуй (так звали одного из наших новых знакомых) видел, как какая-то лодка в море боролась с ветром, который относил её от берега всё дальше и дальше; но он не знает, была ли то лодка Хей-ба-тоу. Это было для нас непоправимым несчастьем. В лодке находилось все наше имущество: тёплая одежда, обувь и запасы продовольствия. При себе мы имели только то, что могли нести: лёгкую осеннюю одежду, по одной паре унтов, одеяла, полотнища палаток, ружья, патроны и весьма ограниченный запас продовольствия. Я знал, что к северу, па реке Един, ещё живут удэхейцы, по до них было так далеко и они были так бедны, что рассчитывать на приют у них всего отряда нечего было и думать. Что делать? С такими мыслями мы незаметно подошли к хвойному мелкорослому лесу, который отделяет поляны Нахтоху от моря. Обыкновенно к лодке мы всегда подходили весело, как будто к дому, но теперь Нахтоху была нам так же чужда, так же пустынна, как и всякая другая речка. Было жалко и Хей-ба-тоу, этого славного моряка, быть может теперь уже погибшего. Мы шли молча; у всех была одна и та же мысль: что делать? Стрелки понимали серьёзность положения, из которого теперь я должен был их вывести. Наконец появился просвет; лес сразу кончился, показалось море.
Глава восемнадцатая Завещание

Приготовление к зимовке. — Река Един. — Поиски лодки. — Росомаха. — Побережье моря между реками Кумуху и Нахтоху. — Река Пия. — Роковой выстрел. — Испуг Дерсу. — Договор. — Обратный путь.
Раньше около реки Нахтоху была лагуна, отделённая от моря косой. Теперь на её месте большое моховое болото, поросшее багульником с ветвями, одетыми густым железистым войлоком ярко-ржавого цвета; голубикой с сизыми листочками; шикшей с густо облиственными ветвями, причём листья очень мелки и свёрнуты в трубочки. Среди этих кустарников ещё можно было усмотреть отцветшие и увядшие: сабельник с ползучим корневищем; морошку с колючими полулежащими стеблями и жёлтыми плодами; болотную чину, по внешнему виду похожую на полевой горошек и имеющую крылатый стебель и плоские бобы; затем и рис-касатик с грубыми сухими и серыми листьями и, наконец, обычную в болотах пушицу — высокое и красивое белое растение. Мысы, окаймляющие маленькую бухточку, в которую впадает Нахтоху, слагаются из пёстрых вулканических туфов и называются по-удэхейски северный — Чжаали-дуони и южный — Маас-дуони. Здесь, у подножия береговых обрывов, мы устроили свой бивак. Вечером мы с Дерсу сидели у огня и совещались. Со времени исчезновения лодки прошло четверо суток. Если она была где-нибудь поблизости, то давно возвратилась бы назад. Я говорил, что надо идти на реку Амагу и зазимовать у староверов, но Дерсу не соглашался со мной. Он советовал остаться на Нахтоху, заняться охотой, добыть кож и сшить новую обувь. У туземцев, по его мнению, можно было получить сухую юколу и чумизу. Но тут возникли другие затруднения: морозы с каждым днём становились сильнее; недели через две в лёгкой осенней одежде идти будет уже невозможно. Всё-таки проект Дерсу был наиболее разумным, и мы на нём остановились. После ужина стрелки легли спать, а мы с Дерсу долго сидели у огня и обсуждали наше положение. Я полагал было пойти в фанзы к удэхейцам, но Дерсу советовал остаться на берегу моря. Во-первых, потому, что здесь легче было найти пропитание, а во-вторых, он не терял надежды на возвращение Хей-ба-тоу. Если последний жив, он непременно возвратится назад, будет искать нас на берегу моря, и если не найдёт, то может пройти мимо. Тогда мы опять останемся ни с чем. С его доводами нельзя было не согласиться. Мысли одна другой мрачнее лезли мне в голову и не давали покоя. Порывистый и холодный ветер шумел сухой травой и неистово трепал растущее вблизи одинокое молодое деревце. Откуда-то из темноты, с той стороны, где были прибрежные утёсы, неслись странные звуки, похожие на вой. Беспокойство мучило меня всю ночь. Возвращаться назад, не доведя дело до конца, было до слёз обидно. С другой стороны, идти в зимний поход, не снарядившись как следует, — безрассудно. Будь я один с Дерсу, я не задумался бы и пошёл вперёд, но со мной были люди, моральная ответственность за которых лежала на мне. Под утро я немного уснул. На другой день ветер был особенно силён: анемометр давал показания 242 при температуре воздуха — 6° С и при барометрическом давлении в 766 мм. Стрелки, узнав о том, что мы остаёмся здесь надолго и даже, быть может, зазимуем, принялись таскать плавник, выброшенный волнением на берег, и устраивать землянку. Это была остроумная мысль. Печи они сложили из плитнякового камня, а трубу устроили по-корейски — из дуплистого дерева. Входы завесили полотнищами палаток, а на крышу наложили мох с дёрном. Внутри землянки настлали ельницу и сухой травы. В общем помещение получилось довольно удобное. 10 ноября к нам на бивак приходили удэхейцы с мыса Сосунова. Один из них взял палочку и ловко начертил на песке план. Когда я развернул перед ним сорокавёрстную карту, он быстро сориентировался и сам стал указывать на ней реки, горы и мысы, правильно их называя. Я поразился, до какой степени быстро он освоился с масштабом и сразу понял, что такое проекция. Помню, как меня учили читать топографические карты и как долго не мог я к этому привыкнуть, а тут простой дикарь, отроду никогда не видевший их, разбирается так свободно, как будто он всю жизнь только этим и занимался. Я объясняю это тем, что люди, которым приходится бродить по горам, привыкают сверху видеть поверхность земли в проекции. Вместе с тем у них развивается и чутьё масштаба. На следующий день мы с Дерсу вдвоём решили идти к югу по берегу моря и посмотреть, нет ли там каких-нибудь следов пребывания Хей-ба-тоу, и, кстати, поохотиться. Захаров и Аринин пошли на север, имея то же задание, а Сабитов и Туртыгин — вверх по реке, к устью реки Ходэ. Выступили мы с реки Нахтоху рано и пошли по намывной полосе прибоя. С утра погода стояла хмурая; небо было: туман или тучи. Один раз сквозь них прорвался было солнечный луч, скользнул по воде, словно прожектором, осветил сопку на берегу и скрылся опять в облаках. Вслед за тем пошёл мелкий снег. Опасаясь пурги, я хотел было остаться дома, но просвет на западе и движение туч к юго-востоку служили гарантией, что погода разгуляется. Дерсу тоже так думал, и мы бодро пошли вперёд. Часа через два снег перестал идти, мгла рассеялась, и день выдался на славу — тёплый и тихий. Вода в горных ручьях была ещё в движении, но по замирающему шуму было уже заметно, что скоро и она должна будет покрыться ледяной корой и совсем замолкнуть. Там, где из расщелин в камнях сочилась вода и где раньше её не было видно, теперь образовались большие ледяные натёки; они постоянно увеличивались в размерах и казались замёрзшими водопадами. Мы шли берегом моря и разговаривали о том, как могло случиться, что Хей-ба-тоу пропал без вести. Этот вопрос мы поднимали уже сотый раз и всегда приходили к одному и тому же выводу: надо шить обувь и возвращаться к староверам на Амагу. Впереди, шагах в полутораста от нас, бежала моя собака Альпа. Вдруг я заметил два живых существа: одно была Альпа, а другое — животное, тоже похожее на собаку, по тёмной окраски, мохнатое и коротконогое. Оно бежало около береговых обрывов неловкими и тяжёлыми прыжками и, казалось, хотело обогнать собаку. Поравнявшись с Альпой, мохнатое животное стало в оборонительное положение. Я узнал росомаху, самого крупного представителя семейства хорьковых. Максимальные размеры этого стопоходящего, косматого и неуклюжего животного достигают одного метра длины и 45 сантиметров высоты. Общая окраска тёмно-бурая, спина чёрного цвета, от каждого плеча к заду по бокам тянется по широкой светло-серой полосе. Шерсть на нижней части тела и на верхней половине ног значительно длиннее, чем на остальном теле. Шея у росомахи короткая, голова большая, удлинённая, ноги вооружены крепкими, сильными когтями. Росомаха обитает в горных лесах, где есть козули и в особенности кабарга. Целыми часами она сидит неподвижно на дереве или на камне кабарожьей тропы, выжидая добычу. Она отлично изучила нрав своей жертвы, знает излюбленные пути её и повадки; например, она хорошо знает, что по глубокому снегу кабарга бегает все по одному и тому же кругу, чтобы не протаптывать новой дороги. Поэтому, спугнув кабаргу, она гонится за нею до тех пор, пока последняя не замкнёт полный крут. Тогда росомаха влезет на дерево и ждёт, когда кабарга вновь пойдёт мимо. Если это не удаётся, она берет кабаргу измором, для чего преследует её до тех пор, пока та от усталости не упадёт; при этом если на пути она увидит другую кабаргу, то не бросается за нею, а будет продолжать преследование первой, хотя бы эта последняя и не находилась у неё в поле зрения. Росомаха — шкодливое животное: забравшись в амбары, она начинает с остервенением рвать всё, что ей попадётся на глаза. Сухое мясо, юколу и прочее продовольствие она непременно огадит и тогда уйдёт. Раньше туземцы ценили мех росомахи выше соболиного и только с появлением китайцев и русских поняли свою ошибку. Лет 20 назад мех росомахи ценился не более трёх рублей. Специально за ней не охотятся, бьют только, если она случайно попадает под выстрел. Росомаха распространена по всему Уссурийскому краю, примерно к югу до 44° широты. Её нет в Посьетском, Барабашском, Суйфунском районах и около Никольска-Уссурийского. В горах Сихотэ-Алиня она встречается довольно часто. Альпа остановилась и с любопытством стала рассматривать свою случайную спутницу. Я хотел было стрелять, но Дерсу остановил меня и сказал, что надо беречь патроны. Замечание его было вполне резонным. Тогда я отозвал Альпу. Росомаха бросилась бежать и скрылась в одном из оврагов. Прибрежная линия между реками Холопку и Нахтоху представляет собой несколько изогнутую линию, отмеченную мысами Плитняка, Бакланьим и Сосунова (по-удэхейски Хуо-лодуони, Леникто-дуони и Хорло-дуони). Мысы эти заметно выдаются в море. За ними берег опять выгибается к северо-западу и вновь выдаётся около мыса Олимпиады. По побережью моря, в направлении от Нахтоху к Уитуту, горные породы располагаются в таком порядке: сначала идёт кремнистый сланец, затем андезит и местами стекловатый базальт. Ещё южнее тянутся какие-то глубинные зеленокаменные породы, а выше их—базальтовый андезит и ещё дальше — порфирит. Кроющие пласты состоят из цветных чередующихся слоёв туфа. Здесь особенно интересен утёс Хадиэ с плитняковой вертикальной и дуговой отдельностью. Около реки Пия есть два утёса Садзасу-мамаса-ни, имеющие человекоподобные формы. Удэхейцы говорят, что раньше это были люди, но всесильный Тему (хозяин рыб и морских животных) превратил их в скалы и заставил караулить береговые сопки. Здесь, на берегу, валялось много сухого плавника. Выбрав место для бивака, мы сложили свои вещи и разошлись в разные стороны на охоту. Чрезвычайно извилистое русло реки Пия блуждает по долине, и, если смотреть на реку с высоты птичьего полёта, получается впечатление кружев. В нижней части долины почва исключительно наносная: ил и полосы свежего песка, придавившего траву и кусты, свидетельствуют о том, что в конце лета места эти заливались водой два раза. Близ моря растёт кустарниковая ольха и высокоствольный тальник, выше по долине — лиственница, белая берёза, осина и тополь, а ещё дальше — клён, осокорь, ясень и кое-где ель и кедр. Склоны гор, окаймляющие долину, поросли с солнечной стороны низкорослым дубняком, а с северной — старым замшистым хвойным лесом. Охотиться нам долго не пришлось. Когда мы снова сошлись, день был на исходе. Солнце уже заглядывало за горы, лучи его пробрались в самую глубь леса и золотистым сиянием осветили стволы тополей, остроконечные вершины елей и мохнатые шапки кедровников. Где-то в стороне от нас раздался пронзительный крик. — Кабарга! — шепнул Дерсу на мой вопросительный взгляд. Минуты через две я увидел животное, похожее на козулю, только значительно меньше ростом и темнее окраской. Изо рта её книзу торчали два тонких клыка. Отбежав шагов 100, кабарга остановилась, повернула в нашу сторону свою грациозную головку и замерла в выжидательной позе. — Где она? — спросил меня Дерсу. Я указал ему рукой. — Где? — опять переспросил он. Я стал направлять его взгляд рукой по линии выдающихся и заметных предметов, но, как я ни старался, он ничего не видел. Дерсу тихонько поднял ружьё, ещё раз внимательно всмотрелся в то место, где было животное, выпалил и — промахнулся. Звук выстрела широко прокатился по всему лесу и замер в отдалении. Испуганная кабарга шарахнулась в сторону и скрылась в чаще. — Попал? — спросил меня Дерсу, и по его глазам я увидел, что он не заметил результатов своего выстрела. — На этот раз ты промазал, — отвечал я ему. — Кабарга убежала. — Неужели моя попади нету? — спросил он испуганно. Мы пошли к тому месту, где стояла кабарга. На земле не было крови. Сомнений не было: Дерсу промахнулся. Я начал подшучивать над своим приятелем, а Дерсу сел на землю, положил ружьё па колени и задумался. Вдруг он быстро вскочил на ноги и сделал па дереве ножом большую затёску, затем схватил ружьё и отбежал назад шагов на полтораста. Я думал, что он хочет оправдаться передо мною и доказать, что его промах по кабарге был случайным. Однако с этого расстояния пятно на дереве было видно плохо, и он должен был подойти ближе. Наконец он выбрал место, поставил сошки и стал целиться. Целился Дерсу долго, два раза отнимал голову от приклада и, казалось, не решался спустить курок. Наконец он выстрелил и побежал к дереву. Из того, как у пего сразу опустились руки, я понял, что в пятнышко он не попал. Когда я подошёл к нему, то увидел, что шапка его валялась па земле, ружьё тоже; растерянный взгляд его широко раскрытых глаз был направлен куда-то в пространство. Я дотронулся до его плеча, Дерсу вздрогнул и быстро-быстро заговорил. — Раньше никакой люди первый зверя найти не могу. Постоянно моя первый его посмотри. Моя стреляй — всегда в его рубашке дырку делай. Моя пуля никогда ходи нету. Теперь моя 58 лет. Глаз худой стал, посмотри не могу. Кабарга стреляй —не попал, дерево стреляй — тоже не попал. К китайцам ходи не хочу — их работу моя понимай нету. Как теперь моя дальше живи? Тут только я понял неуместность моих шуток. Для него, добывающего себе средства к жизни охотой, ослабление зрения было равносильно гибели. Трагизм увеличивался ещё и тем обстоятельством, что Дерсу был совершенно одинок. Куда идти? Что делать? Где склонить на старости лет свою седую голову? Мне стало нестерпимо жаль старика. — Ничего, — сказал я ему, — не бойся. Ты мне много помогал, много раз выручал меня из беды. Я у тебя в долгу. Ты всегда найдёшь у меня крышу и кусок хлеба. Будем жить вместе. Дерсу засуетился и стал собирать свои вещи. Он поднял ружьё и посмотрел на него как на вещь, которая теперь была ему более совсем не нужна. В это время солнце только что скрылось за горизонтом. От гор к востоку потянулись длинные тени. Ещё не успевшая замёрзнуть вода в реке блестела как зеркало; в ней отражались кусты и прибрежные деревья. Казалось, что там, внизу, под водой, был такой же мир, как и здесь, и такое же светлое небо… Около речки мы разделились: Дерсу воротился на бивак, а я решил ещё поохотиться. Долго я бродил по лесу и ничего не видел. Наконец я устал и повернул назад. На западе медленно угасала заря. Посиневший воздух приобрёл сонную неподвижность; долина приняла угрюмый вид и казалась глубокой трещиной в горах. Вдруг в кустах что-то зашевелилось. Я замер на месте и приготовил ружьё. Снова лёгкий треск, и из ольшаников тихонько на поляну вышла козуля. Она стала щипать траву и, видимо, совсем меня не замечала. Я быстро прицелился и выстрелил. Несчастное животное рванулось вперёд и сунулось мордой в землю. Через минуту жизнь оставила его. Я взял свой ремень, связал козуле ноги и взвалил сё на плечи. Что-то тёплое потекло мне за шею — это была кровь. Тогда я опустил свой охотничий трофей на землю и принялся кричать. Скоро я услышал ответные крики Дерсу. Он пришёл без ружья, и мы вместе с ним потащили козулю на палке. Когда мы подходили к биваку, был уже полный вечер. Взошла луна и своими фосфорическими лучами осветила море, прибрежные камни, лес и воду в реке. Кругом было тихо, только лёгкий ночной ветер слабо шелестел травой. Шум этот был так однообразен, что привыкшее к нему ухо совершенно его не замечало. На нашем биваке горел огонь; свет от него ложился по земле красными бликами и перемешивался с чёрными тенями и бледными лучами месяца, украдкой пробивавшимися сквозь ветви кустарников. Вдали виднелся высокий Бакланий мыс, окутанный морскими испарениями. После охоты я чувствовал усталость. За ужином я рассказывал Дерсу о России,советовал ему бросить жизнь в тайге, полную опасности и лишений, и поселиться вместе со мной в городе, но он по-прежнему молчал и о чём-то крепко думал. Наконец я почувствовал, что веки мои слипаются. Я завернулся в одеяло и погрузился в сон. Ночью я проснулся. Луна стояла высоко на небе; те звезды, которые были ближе к горизонту, блистали как бриллианты. Было за полночь. Казалось, что вся природа погрузилась в дремотное состояние. Ничего нет прекраснее беспредельного широкого моря, залитого лунным светом, и глубокого неба, полного тихих сияющий звёзд. Тёмная вода, громады утёсов на берегу и молчаливый лес в горах так гармонировали друг с другом и создавали картину, полную величественной красоты. Около огня сидел Дерсу. С первого же взгляда я понял, что он ещё не ложился спать. Он обрадовался, что я проснулся, и стал греть чай. Я заметил, что старик волнуется, усиленно ухаживает за мной и всячески старается, чтобы я опять не заснул. Я уступил ему и сказал, что спать мне более не хочется. Дерсу подбросил дров в костёр и, когда огонь разгорелся, встал со своего места и начал говорить торжественным тоном: — Капитан! Теперь моя буду говори. Тебе надо слушай. Он начал с того, как он жил раньше, как стал одинок и как добывал себе пропитание охотой. Ружьё всегда его выручало. Он продавал панты и взамен их приобретал у китайцев патроны, табак и материал для одежды. Он никогда не думал о том, что глаза могут ему изменить и купить их нельзя будет уже ни за какие деньги. Вот уже с полгода, как он стал ощущать ослабление зрения, думал, что это пройдёт, но сегодня убедился, что охоте его пришёл конец. Это его напугало. Потом он вспомнил мои слова, что у меня он всегда найдёт приют и кусок хлеба. — Спасибо, капитан, — сказал он. — Шибко спасибо! И вдруг он опустился на колени и поклонился в землю. Я бросился поднимать его и стал говорить, что, наоборот, я обязан ему жизнью и если он будет жить со мною, то этим только доставит мне удовольствие. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, я предложил ему заняться чаепитием. — Погоди, капитан,—сказал Дерсу. — Моя ещё говорить кончай нету. После этого он продолжал рассказывать про свою жизнь. Он говорил о том, что, будучи ещё молодым, от одного старика китайца научился искать женьшень и изучил его приметы. Он никогда не продавал корней, а в живом виде переносил их в верховья реки Лефу и там сажал в землю. Последний раз на плантации женьшеня он был лет 15 назад. Корни все росли хорошо; всего там было 22 растения. Не знает он теперь, сохранились они или нет, вероятно, сохранились, потому что посажены были в глухом месте и поблизости следов человеческих не замечалось. — Это все тебе! — закончил он свою длинную речь. Меня это поразило; я стал уговаривать продать корни китайцам, а деньги взять себе, но Дерсу настаивал на своём. — Моя не надо, — говорил он. — Мне маленько осталось жить. Скоро помирай. Моя шибко хочу панцуй[243] тебе подарить. В глазах его было такое просительное выражение, что я не мог противиться. Отказ мой обидел бы его. Я согласился, но взял с него слово, что по окончании экспедиции он поедет со мною в Хабаровск. Дерсу согласился тоже. Мы порешили весной отправиться на реку Лефу за дорогими корнями. Посеребрённая луна склонилась к западу. С восточной стороны на небе появились новые созвездия. Находящаяся в воздухе влага опустилась на землю и тонким серебристым инеем покрыла все предметы. Это были верные признаки приближения рассвета. Дерсу ещё раз подбросил дров в огонь. Яркое, трепещущее пламя взвилось кверху и красноватым заревом осветило кусты и прибрежные утёсы — эти безмолвные свидетели нашего договора и обязательств по отношению друг к другу. Но вот на востоке появилась розовая полоска — занималась заря. Звезды быстро начали меркнуть; волшебная картина ночи пропала, и в потемневшем серо-синем воздухе разлился неясный свет утра. Красные угли костра потускнели и. покрылись золой; головешки дымились, казалось, огонь уходил внутрь их. — Давай-ка соснём немного, — предложил я своему спутнику. Он встал и поправил палатку, затем мы оба легли и, прикрывшись одним одеялом, уснули как убитые. Когда мы проснулись, солнце стояло уже высоко. Утро было морозное, ясное. Вода в озерках покрылась блестящим тонким слоем льда, и только полыньи казались тёмными пятнами. На скорую руку мы закусили холодным мясом, напились чаю и, собрав котомки, пошли назад, к реке Нахтоху. Там мы застали всех в сборе. Аринин убил сивуча, а Захаров— нерпу. Таким образом, у пас получился значительный запас кожи и вдоволь мяса. С 12 по 16 ноября мы простояли на месте. За это время стрелки ходили за брусникой и собирали кедровые орехи. Дерсу выменял у удэхейцев обе сырые кожи на одну сохатиную выделанную. Туземных женщин он заставил накроить унты, а шили их мы сами, каждый по своей ноге. 17-го утром мы распрощались с рекой Нахтоху и тронулись в обратный путь, к староверам. Уходя, я ещё раз посмотрел на море с надеждой, не покажется ли где-нибудь лодка Хей-ба-тоу. Но море было пустынно. Ветер дул с материка, и потому у берега было тихо, но вдали ходили большие волны. Я махнул рукой и подал сигнал к выступлению. Тоскливо было возвращаться назад, но больше ничего не оставалось делать. Обратный путь наш прошёл без всяких приключений.
Глава девятнадцатая Возвращение Хей-ба-тоу

Сильный ветер. — Приключения Хей-ба-тоу. — Снаряжение в зимний путь. — Устройство нарт. — Рыбная ловля. — Привычка удэхейцев к холоду. — Саджи. — Зимний поход. — Накануне выступления. — Нартовый обоз. — Река Кусун с притоками. — Тигровая скала. — Горные породы. — Выгоревшие леса. — Зимняя палатка. — Лесные птицы. — Национализация чертей. — Удэхеец Сунцай.
В геологическом отношении эта часть побережья мало интересна. Между Унтугу и рекой Кузнецова горные породы располагаются в следующем порядке: около ручья Унтугу-Сагды с правой стороны виднеются выходы конгломератов из мелкой окатанной гальки, имеющие протяжение от северо-востока к юго-западу— 51° с углом падения в 18°; далее, у мыса Хорло-дуони, — красные метаморфизованные лавы; ещё южнее, около реки Каньчжоу, — цветные чередующиеся слои базальтового туфа мощностью около 120—130 метров и ещё дальше — какая-то изверженная зеленокаменная порода со шлирами. Около ключика Куа — высокие береговые террасы с массивным основанием из какой-то тёмной горной породы с неправильной трещиноватостью и, наконец, близ утёса Хадиэ — та же неизвестная порода, по с плитняковой вертикальной отдельностью. 22 ноября мы достигли реки Тахобе, а 23-го утром пришли на Кусун. Ещё со вчерашнего дня погода начала хмуриться. Барометр стоял на 756 при 10°. Небо было покрыто тучами. Около 10 часов утра пошёл небольшой снег, продолжавшийся до полудня. После короткого отдыха у туземцев на Кусуне я хотел было идти дальше, но они посоветовали мне остаться у них ещё на день. Удэхейцы говорили, что после долгого затишья и морочной погоды надо непременно ждать очень сильного ветра. Местные китайцы тоже были встревожены. Они часто посматривали на запад. Я спросил, в чём дело. Они указали на хребет Кямо, покрытый снегом. Тут только я заметил, что гребень хребта, видимый дотоле отчётливо и ясно, теперь имел контуры неопределённые, расплывчатые: горы точно дымились. По их словам, ветер от хребта Кямо до моря доходит через два часа. Китайцы привязывали крыши фанз к ближайшим пням и деревьям, а зароды с хлебом прикрывали сетями, сплетёнными из травы. Действительно, часов около двух пополудни начал дуть ветер, сначала тихий и ровный, а затем все усиливающийся. Вместе с ветром шла какая-то мгла. Это были снег, пыль и сухая листва, поднятая с земли вихрем. К вечеру ветер достиг наивысшего напряжения. Я вышел с анемометром, чтобы смерить его силу, но порывом его сломало колесо прибора, а самого меня едва не опрокинуло на землю. Мельком я видел, как по воздуху летели доска и кусок древесной коры, сорванные с какой-то крыши. Около фанзы стояла двухколёсная китайская арба. Ветром её перекатило через весь двор и прижало к забору. Один стог с сеном был плохо увязан, и в несколько минут от него не осталось и следа. К утру ветер начал стихать. Сильные порывы сменялись периодами затишья. Когда рассвело, я не узнал места: одна фанза была разрушена до основания, у другой выдавило стену; много деревьев, вывороченных с корнями, лежало на земле. С восходом солнца ветер упал до штиля; через полчаса он снова начал дуть, но уже с южной стороны. Надо было идти дальше, но как-то не хотелось: спутники мои устали, а китайцы были так гостеприимны. Я решил продневать у них ещё одни сутки — и хорошо сделал. Вечером в этот день с моря прибежал молодой удэхеец и сообщил радостную весть: Хей-ба-тоу с лодкой возвратился назад и все имущество наше цело. Мои спутники кричали «ура» и радостно пожимали друг другу руки. И действительно, было чему радоваться; я сам был готов пуститься в пляс. На другой день, чуть свет, мы все были на берегу. Хей-ба-тоу радовался не меньше нас. Стрелки теснились к нему и засыпали вопросами. Оказалось, что сильный ветер подхватил его около реки Каньчжу и отнёс к острову Сахалин. Хей-ба-тоу не растерялся и всячески старался держаться ближе к берегу, зная, что иначе его отнесёт в Японию. С острова Сахалин он перебрался в Советскую (бывшую Императорскую) Гавань и уже оттуда спустился на юг вдоль берега моря. На реке Нахтоху он узнал от удэхейцев, что мы пошли на Амагу, тогда и он отправился за нами вдогонку. Вчерашнюю бурю он пережил на реке Холопку и затем в один день дошёл до Кусуна. Тотчас у меня в голове созрел новый план: я решил подняться по реке Кусуну до Сихотэ-Алиня и выйти на Бикин. Продовольствие, инструменты, тёплая одежда, обувь, снаряжение и патроны — всё это было теперь с нами. Хей-ба-тоу тоже решил зазимовать на Кусуне. Плавание по морю стало затруднительным: у берегов появилось много плавающего льда, устья рек замерзали. Не мешкая, стрелки стали разгружать лодку. Когда с неё были сняты мачты, руль и паруса, они вытащили её на берег и поставили на деревянные катки, подперев с обеих сторон кольями. На другой день мы принялись за устройство шести нарт[244]. Три мы достали у удэхейцев, а три приходилось сделать самим. Захаров и Аринин умели плотничать. В помощь им были приставлены ещё два удэхейца. На Дерсу было возложено общее руководство работами. Всякие замечания его были всегда кстати, стрелки привыкли, не спорили с ним и не приступали к работе до тех пор, пока не получали его одобрения. На эту работу ушло 10 суток. Временами мои спутники ходили на охоту, иногда удачно, но часто возвращались ни с чем. С кусунскими удэхейцами мы подружились и всех наперечёт знали в лицо и по именам. 25 ноября я, Дерсу и Аринин вместе с туземцами отправились на рыбную ловлю к устью Кусуна. Удэхейцы захватили с собой тростниковые факелы и тяжёлые деревянные колотушки. Между протоками, на одном из островов, заросших осиной, ольхой и тальниками, мы нашли какие-то странные постройки, крытые травой. Я сразу узнал работу японцев. Это были хищнические рыбалки, совершенно незаметные как с суши, так и со стороны моря. Один из таких шалашей мы использовали для себя. Вода в заводи хорошо замёрзла. Лёд был гладкий, как зеркало, чистый и прозрачный; сквозь него хорошо были видны мели, глубокие места, водоросли, камни и утонувший плавник. Удэхейцы сделали несколько прорубей и спустили в них двойную сеть. Когда стемнело, они зажгли тростниковые факелы и затем побежали по направлению к прорубям, время от времени с силой бросая па лёд колотушки. Испуганная светом и шумом рыба, как шальная, бросалась вперёд и путалась в сетях. Улов был удачный. За один раз они поймали одного морского тайменя, 3 морских мальм, 4 кунж и 11 краснопёрок. Потом удэхейцы снова опустили сети в проруби и погнали рыбу с другой стороны, потом перешли на озеро, оттуда в протоку, на реку и опять в заводь. Часов в 10 вечера мы окончили ловлю. Часть туземцев пошла домой, остальные остались ночевать на рыбалке. Среди последних был удэхеец Логада, знакомый мне ещё с прошлого года. Ночь была морозная и ветреная. Даже у огня холод давал себя чувствовать. Около полуночи я спохватился Логады и спросил, где он. Один из его товарищей ответил, что Логада спит снаружи. Я оделся и вышел из балагана. Было темно, холодным ветром, как ножом, резало лицо. Я походил немного по реке и возвратился назад, сказав, что нигде костра не видел. Удэхейцы ответили мне, что Логада спит без огня. — Как, без огня? — спросил я с изумлением. — Так, — ответили они равнодушно. Опасаясь, чтобы с Логадой чего-нибудь не случилось, я зажёг свой маленький фонарик и снова пошёл его искать. Два удэхейца вызвались меня провожать. Под берегом, шагах в 50 от балагана, мы нашли Логаду спящим на охапке сухой травы. Одет он был в куртку и штаны из выделанной изюбровой кожи и сохатиные унты, на голове имел белый капюшон и маленькую шапочку с собольим хвостиком. Волосы на голове у него заиндевели, спина тоже покрылась белым налётом. Я стал усиленно трясти его за плечо. Он поднялся и стал руками снимать с ресниц иней. Из того, что он не дрожал и не подёргивал плечами, было ясно, что он не озяб. — Тебе не холодно? — спросил я его удивлённо. — Нет, — отвечал он и тотчас спросил: — Что случилось? Удэхейцы сказали ему, что я беспокоился о нём и долго искал в темноте. Логада ответил, что в балагане людно и тесно и потому он решил спать снаружи. Затем он поплотнее завернулся в свою куртку, лёг на траву и снова уснул. Я вернулся в балаган и рассказал Дерсу о случившемся. — Ничего, капитан, — отвечал мне гольд. — Эти люди холода не боится. Его постоянно сопка живи, соболя гоняй. Где застанет ночь, там и спи. Его постоянно спину на месяце греет. Когда рассвело, удэхейцы опять пошли ловить рыбу. Теперь они применяли другой способ. Над прорубью была поставлена небольшая кожаная палатка, со всех сторон закрытая от света. Солнечные лучи проникали под лёд и освещали дно реки. Ясно, отчётливо были видны галька, ракушки, песок и водоросли. Спущенная в воду острога немного не доставала дна. Таких палаток было поставлено четыре, вплотную друг к другу. В каждой палатке село по одному человеку; все другие пошли в разные стороны и стали тихонько гнать рыбу. Когда она подходила близко к проруби, охотники кололи её острогами. Охота эта была ещё добычливее, чем предыдущая. За ночь и за день удэхейцы поймали 22 тайменя, 136 кунж, 240 морских форелей и очень много краснопёрки. На возвратном пути от моря к фанзам моя собака выгнала каких-то четырёх птиц. Они держались преимущественно на песке и по окраске так подходили к окружающей обстановке, что их совершенно нельзя было заметить даже на близком расстоянии; вторично я увидел птиц только тогда, когда они поднялись в воздух. Я стрелял и убил одну из них. Это оказалась саджа, вероятно случайно занесённая сюда ветром из Восточной Монголии. В Зауссурийском крае птица эта появилась впервые. Когда я показал её туземцам, они стали шумно высказывать своё удивление и говорили, что никогда такой птицы не видели. Они сейчас же окрестили её по-своему: «мафа» (медведь). Такое название они дали потому, что ноги её напоминали ступню медведя. Вскоре я убедился, что виденные мною птицы не были единственными. По дороге мы встретили их ещё несколько стаек. Впоследствии я узнал, что в конце ноября того же года садж видели около залива Ольги и около реки Самарги. Птицы эти продержались с неделю, затем исчезли так же неожиданно, как и появились. Пока делались нарты и лыжи, я экскурсировал по окрестностям, но большую часть времени проводил дома. Надо было всё проверить, предусмотреть. Из личного опыта я знал, что нельзя игнорировать многовековой опыт туземцев. Впоследствии я имел много случаев благодарить удэхейцев за то, что слушался их советов и делал так, как они говорили. 2 декабря стрелки закончили все работы. Для окончательных сборов им дан был ещё один день. На Бикин до первого китайского посёлка с нами решил идти старик маньчжур Чи Ши-у. 3-го числа после полудня мы занялись укладкой грузов на нарты. Наутро оставалось собрать только свои постели и напиться чаю. Вечером удэхейцы камланили[245]. Они просили духов дать нам хорошую дорогу и счастливую охоту в пути. В фанзу набралось много народу. Китайцы опять принесли ханшин и сласти. Вино подействовало на удэхейцев возбуждающим образом. Всю ночь они плясали около огней и под звуки бубнов пели песни. Перед рассветом я ушёл в самую дальнюю китайскую фанзу и там немного соснул. Утро 4 декабря было морозное: —19° С. Барометр стоял на высоте 756 мм. Лёгкий ветерок тянул с запада. Небо было безоблачное, глубокое и голубое. В горах белел снег. Первое выступление в поход всегда бывает с опозданием. Обыкновенно задержка происходит у провожатых: то у них обувь не готова, то они ещё не поели, то на дорогу нет табаку и т. д. Только к 11 часам утра после бесконечных понуканий нам удалось-таки наконец тронуться в путь. Китайцы вышли провожать нас с флагами, трещотками и ракетами. За последние четыре дня река хорошо замёрзла. Лёд был ровный, гладкий и блестел как зеркало. Вследствие образования донного льда и во время ледостава вода в реке поднялась выше своего уровня и заполнила все протоки. Это позволило нам сокращать путь и идти напрямик, минуя извилины реки и такие места, где лёд стал торосом. Наш обоз состоял из восьми нарт[246]. В каждой нарте было по 30 килограммов полезного груза. Ездовых собак мы не имели, потому что у меня не было денег, да и едва ли на Кусуне нашлось бы их столько, сколько надо. Поэтому нарты нам пришлось тащить самим. Удэхейский способ перевозки грузов зимой заключается в следующем. К передней части нарты привязывается верёвка или ремень, которые оканчиваются лямкой, надеваемой через плечо. Сбоку, к ближайшей стойке у полоза, прикрепляется длинная жердь, называемая правилом. Человек держит правило правой рукой, направляет нарту и поддерживает её при крутых поворотах. Погода нам благоприятствовала. Нарты бежали по льду легко. Люди шли весело, шутили и смеялись. Между реками Че и Цзава, посреди реки Кусун, высится одинокая скала, которую туземцы называют Чжеле-Кадани. Старик Люрл рассказывал мне, что однажды он с другими охотниками долгое время стоял биваком около этой скалы. Один из удэхейцев заметил на вершине её тигра. Он лежал на боку без движения. Удэхейцы простояли здесь несколько суток. За это время два раза шёл снег. Он совершенно закрыл зверя. Вдруг, к удивлению их, на утро шестого дня зверь поднялся, встряхнулся и стал спускаться к реке. Тогда они поняли, что тигр был мёртвым только на время (он может всегда делать это по своему желанию). Душа его (ханя) оставила тело и странствовала где-то далеко, потом вернулась назад, и тигр ожил снова. Удэхейцы испугались и убежали. С этой поры скала Чжеле-Кадани стала запретной. Другим таинственным местом в нижнем течении, с левой стороны Кусуна, будет скала, похожая на человеческое лицо. Удэхейцы называют её Када-Дэлин, то есть Каменная Голова. По наблюдениям туземцев, лососёвые рыбы идут по Кусуну неодинаково: кета идёт до реки Сололи, горбуша — до Бягаму и, как всегда, дальше всех забирается мальма. Особенно много её бывает на реке Адыне. Река Кусун длиной около 100 километров. Начало она берет с Сихотэ-Алиня и течёт по кривой к северо-востоку. По характеру Кусун такая же быстрая и порожистая река, как и Такема. С реки Кусун видны ближайшие отроги Сихотэ-Алиня. В истоках Иони 1-й, Иони 2-й, Иони 3-й и Олосо находятся высокие горы Ионя-Кямони; их хорошо видно с моря. По словам удэхейцев, в котловине между тремя их вершинами есть озеро с пресной водой. Породы, из которых слагаются ближайшие горы, в последовательном порядке от моря вверх по течению реки располагаются так: сначала базальты, потом андезиты и порфириты, затем какая-то тёмная лава с пустотами, выполненными ярко-зелёными конкрециями; далее следует мелкозернистый базальт и около реки Буй — авгитовый андезит. Выше реки Буй километров на 10 есть каменный уголь. Лет 30 назад, во время пала, он загорелся и с той поры всё время тлеет под землёй. Другие выходы каменного угля на дневную поверхность находятся по ключику Необе, с левой стороны Кусуна, в 25 километрах от моря. Ещё недавно вся долина Кусуна была покрыта густыми смешанными лесами. Два больших пожара, следовавших один за другим, уничтожили их совершенно. Теперь Кусунская долина представляет собой сплошную гарь. Особенно сильно выгорели леса на реках Буй, Холосу, Фу, Бягаму, Сололи и Цзава 3-я. Живой лес сохранился ещё только по рекам Одо, Агдыне и Сидэкси (она же Сиденгей). Из животных в долине Кусуна обитают: изюбр, дикая коза, кабарга, куница, хорёк, соболь, росомаха, красный волк, лисица, бурый медведь, рысь и тигр. Последнего чаще видят на реках Сиденгей 2-й и Оддэгэ. В этот день мы прошли мало и рано стали биваком. На первом биваке места в палатке мы заняли случайно, кто куда попал. Я, Дерсу и маньчжур Чи Ши-у разместились по одну сторону огня, а стрелки — по другую. Этот порядок соблюдался уже всю дорогу. Зимой, в особенности во время сильных ветров, надо умело ставить двускатную палатку. Остов её складывается из тальниковых жердей, всегда растущих около реки в изобилии, и со всех сторон обтягивается полотнищами; вверху оставляется отверстие для выхода дыма. Для того чтобы в палатке была тяга, надо немного приподнять одно из полотнищ (обыкновенно это делается со стороны входа). Но зато внутрь палатки вместе с чистым воздухом входит и холод. В этом случае опять-таки нам помог находчивый Дерсу. Он принёс дуплистое дерево и положил его на землю так, что один конец его пришёлся около костра, а другой остался снаружи. Это дуплистое дерево было отличным поддувалом. Сразу установилась тяга, и воздух в палатке очистился. На постели стрелки нарезали ельника и сверху прикрыли его сухой травой. Ночью все спали очень хорошо. На другой день (5 декабря) я проснулся раньше всех, оделся и вышел из палатки. Предрассветные сумерки оттесняли ночную тьму на запад. Занималась заря. Мороз звонко пощёлкивал по лесу; термометр показывал — 20° С. От полыней на реке поднимался пар. Деревья, растущие вблизи их, убрались инеем и стали похожими на белые кораллы. Около проруби играли две выдры. Они двигались как-то странно, извиваясь, как змеи, и издавали звуки, похожие на свист и хихиканье. Иногда одна из них поднималась на задние ноги и озиралась по сторонам. Я наблюдал за выдрами из кустов, но всё же они учуяли меня и нырнули в воду. На обратном пути я занялся охотой на рябчиков и подошёл к биваку с другой стороны. Дым от костра, смешанный с паром, густыми клубами валил из палатки. Там шевелились люди, вероятно, их разбудили мои выстрелы. Напившись чаю и обувшись потеплее, стрелки весьма быстро сняли палатки и увязали нарты. Через какие-нибудь полчаса мы были уже в дороге. Солнце взошло в туманной мгле и багровое. Начался очередной день. По тем островкам живого леса, которые в виде оазисов сохранились по сторонам реки, можно было судить о том, какая в этих местах была растительность. Здесь в изобилии росли кедр и тополь, там и сям виднелись буро-серые ветки кустарникового клёна с сухими розоватыми плодами, а рядом с ним — амурская сирень, которую теперь можно было узнать только по пучкам засохших плодов на вершинах голых ветвей с тёмно-серой корой. Ближе удалось рассмотреть куст жасмина и амурский барбарис с сохранившимися замёрзшими плодами. К зиме в Зауссурийском крае количество пернатых сильно сократилось. Чаще всего встречались клёсты — пёстрые миловидные птички с клювами, половинки которых заходят друг задруга. Они собирались в маленькие стайки, причём красного цвета самцы держались особняком от жёлто-серых самок, Клёсты часто спускались вниз, что-то клевали на земле и подпускали к себе так близко, что можно было в деталях рассмотреть их оперение. Даже будучи вспугнуты, они не отлетали далеко, а садились тут же, где-нибудь поблизости. Затем в порядке уменьшения особей следует указать на поползней. Я узнал их по окраске и по голосу, похожему на тихий писк. В одном месте я заметил двух японских корольков — маленьких птичек, прятавшихся от ветра в еловых ветвях. Там и сям мелькали пёстрые дятлы с белым и черным оперением, с красным надхвостием. Для этих задорных и крикливых птиц, казалось, не страшны были холод и ветер. Рыжие сойки, крикливые летом и молчаливые зимой, тоже забились в самую чащу леса. Увидя нас, они принимались пронзительно кричать, извещая своих товарок о грозящей опасности. Попадались также большеклювые вороны и какие-то дневные хищники, которых за дальностью расстояния рассмотреть не удалось. По проталинам на притоках реки раза два мы спугнули белых крохалей. Они держались парами— вероятно, самцы и самки. Сабитов убил одного крохаля из винтовки. Пуля разорвала его на части, и я очень сожалел, что с птицы нельзя было снять шкурку для определения. Часа в четыре мы дошли до ключика Олосо. Отсюда начались гари. Дальше в этот день мы не пошли; выбрав небольшой островок, мы залезли в самую чащу и там уютно устроились на биваке. Вечером стрелки рассказывали друг другу разные страхи, говорили о привидениях, домовых, с кем что случилось и кто что видел. Странное дело: стрелки верили в существование своих чертей, но в то же время с недоверием и насмешками относились к чертям удэхейцев. То же самое и в отношении религии: я неоднократно замечал, что удэхейцы к чужой религии относятся гораздо терпимее, чем европейцы. У первых невнимание к чужой религии никогда не заходит дальше равнодушия. Это можно было наблюдать и у Дерсу. Когда стрелки рассказывали разные диковинки, он слушал, спокойно курил трубку, и на лице его нельзя было заметить ни улыбки, ни веры, ни сомнения. Утром 6 декабря мы встали до света. Термометр показывал —21° С. С восходом солнца ночной ветер начал стихать, и от этого как будто стало теплее. Раньше, когда долина Кусуна была покрыта лесом, здесь водилось много соболей. Теперь это пустыня. На горах выросли осинники и березняки, а места поемных лесов заняли тонкоствольные тальники, ольшаники и молодая лиственница. В этот день мы дошли до устья реки Буй, которую китайцы называют Уленгоу[247]. Тут мы должны были расстаться с Кусуном и повернуть к Сихотэ-Алиню. Около устья Уленгоу жилудэхеец Сунцай. Это был типичный представитель своего народа. Он унаследовал от отца шаманство. Жилище его было обставлено множеством бурханов. Кроме того, он славился как хороший охотник и ловкий, энергичный и сильный пловец на лодках по быстринам реки. На моё предложение проводить нас до Сихотэ-Алиня Сунцай охотно согласился, но при условии, если я у него простою один день. Он говорил, что ему нужно отправить своего брата на охоту, вылечить больную старуху мать и снарядиться самому в далёкий путь. Этой женщине было 60 лет. Она являлась хранительницей древних традиций, обычаев и обрядов, знала много сказаний, знала, в каких случаях какой налагается штраф (байта), и считалась авторитетной в решении спорных вопросов о калыме при заключении или расторжении браков. Я согласился пробыть в доме Сунцая весь следующий день и не раскаялся. Сам хозяин и его мать оказались довольно общительными, и потому мне удалось узнать много интересного о шаманстве и записать несколько сказок. Вечером он угостил нас струганиной. На стол была подана целая замороженная рыба. Это оказался ленок (по размерам немного уступающий молодой горбуше). Мы отбросили предубеждения европейцев к сырой рыбе и оказали ей должную честь.
Глава двадцатая Через Сихотэ-Алинь

Река Уленгоу. — Гарь. — Наледи. — Труп китайца. — Сбросовый выступ. — Перевал Маака. — Облака и снег. — Западный склон Сихотэ-Алиня. — Дикушка. — Чёртова юрта. — Реки Мыге и Бягаму. — Метель. — Бикин в верхнем течении. — Брошенная юрта. — Изгнание черта. — Страхи. — Ночные звуки.
Следующие четыре дня (с 9 по 12 декабря) мы употребили на переход по реке Уленгоу. Река эта берёт начало с Сихотэ-Алиня и течёт сначала к юго-востоку, потом к югу, километров 30 опять на юго-восток и последние 5 километров снова на юг. В средней части Уленгоу разбивается на множество мелких ручьёв, теряющихся в лесу среди камней и бурелома. Вследствие из года в год не прекращающихся пожаров лес на горах совершенно уничтожен. Он сохранился только по обоим берегам реки и на островах между протоками. Глядя на замёрзшие протоки, можно подумать, что Уленгоу и летом богата водой. На самом деле это не так. Сбегающая с гор вода быстро скатывается вниз, не оставляя позади себя особенно заметных следов. Зимой же совсем другое дело. Вода заполняет ямы, рытвины, протоки и замерзает. Поверх льда появляются новые наледи, которые все увеличиваются и разрастаются вширь, что в значительной степени облегчало наше продвижение. На больших реках буреломный лес уносится водой, в малых же речках он остаётся лежать там, где упал. Зная это, мы захватили с собой несколько топоров и две поперечные пилы. При помощи их стрелки быстро разбирали завалы и прокладывали дорогу. После 1 декабря сильные северо-западные ветры стали стихать. Иногда выпадали совершенно тихие дни. Показания анемометра колебались теперь в пределах от 60 до 75, но вместе с тем стали увеличиваться морозы. Чем ближе мы подвигались к перевалу, тем больше становилось наледей. Такие места видны издали по поднимающимся от них испарениям. Чтобы обойти наледи, надо взбираться на косогоры. На это приходится тратить много сил и времени. Особенно надо остерегаться, чтобы не промочить ног. В этих случаях незаменимой является удэхейская обувь из рысьей кожи, сшитая жильными нитками. Здесь случилось маленькое происшествие, которое задержало нас почти на целый день. Ночью мы не заметили, как вода подошла к биваку. Одна нарта вмёрзла в лёд. Пришлось её вырубать топорами, потом оттаивать полозья на огне и исправлять поломки. Наученные опытом, дальше на биваках мы уже не оставляли нарты на льду, а ставили их на деревянные катки. С каждым днём идти становилось всё труднее и труднее. Мы часто попадали то в густой лес, то в каменистые россыпи, заваленные буреломом. Впереди с топором в руках шли Дерсу и Сунцай. Они рубили кусты и мелкие деревья там, где они мешали проходу нарт, или клали их около рытвин и косогоров в таких местах, где нарты могли опрокинуться. Чем дальше мы углублялись в горы, тем больше было снега. Всюду, куда ни глянешь, чернели лишённые коры и ветвей, обгоревшие стволы деревьев. Весьма печальный вид имеют эти гари. Нигде ни единого следа, ни одной птицы… Я, Сунцай и Дерсу шли впереди; стрелки подвигались медленно. Сзади слышались их голоса. В одном месте я остановился для того, чтобы осмотреть горные породы, выступающие из-под снега. Через несколько минут, догоняя своих приятелей, я увидел, что они идут нагнувшись и что-то внимательно рассматривают у себя под ногами. — Что такое? — спросил я Сунцая. — Один китайский люди три дня назад ходи, — отвечал Дерсу. — Наша след его найди. Действительно, кое-где чуть-чуть виднелся человеческий след, совсем почти запорошённый снегом. Дерсу и Сунцай заметили ещё одно обстоятельство: они заметили, что след шёл неровно, зигзагами, что китаец часто садился на землю и два бивака его были совсем близко один от другого. — Больной, — решили они. Мы прибавили шагу. Следы всё время шли по реке. По ним видно было, что китаец уже не пытался перелезать через бурелом, а обходил его стороной. Так прошли мы ещё с полчаса. Но вот следы круто повернули в сторону. Мы направились по ним. Вдруг с соседнего дерева слетели две вороны. — А-а! — сказал, остановившись, Дерсу. — Люди помирай есть. Действительно, шагах в 50 от речки мы увидели китайца. Он сидел на земле, прислонившись к дереву, локоть правой руки его покоился на камне, а голова склонилась на левую сторону. На правом плече сидела ворона. При нашем появлении она испуганно снялась с покойника. Глаза умершего были открыты и запорошены снегом. Из осмотра места вокруг усопшего мои спутники выяснили, что когда китаец почувствовал себя дурно, то решил стать на бивак, снял котомку и хотел было ставить палатку, но силы оставили его; он сел под дерево и так скончался. Маньчжур Чи Ши-у, Сунцай и Дерсу остались хоронить китайца, а мы пошли дальше. Целый день мы работали не покладая рук, даже не останавливаясь на обед, и всё же прошли не больше 10 километров. Бурелом, наледи, кочковатые болота, провалы между камней, занесённые снегом, создавали такие препятствия, что за восемь часов пути нам удалось сделать только 4,25 километра, что составляет в среднем 560 метров в час. К вечеру мы подошли к гребню Сихотэ-Алиня. Барометр показывал 700 метров. Следующий день был 14 декабря. Утро было тихое и морозное. Солнце взошло красное и долго не давало тепла. На вершинах гор снег окрасился в нежно-розовый цвет, а в теневых местах имел синеватый оттенок. Осматривая окрестности, я заметил в стороне клубы пара, поднимавшегося с земли. Я кликнул Дерсу и Сунцая и отправился туда узнать, в чём дело. Это оказался железистосернистоводородный тёплый ключ. Окружающая его порода красного цвета; накипь белая, известковая; температура воды +27° С. Удэхейцам хорошо известен тёплый ключ на Уленгоу как место, где всегда держатся лоси, но от русских они его тщательно скрывают. От горячих испарений, кроме источника, все заиндевело: камни, кусты лозняка и лежащий на земле валежник покрылись причудливыми узорами, блестевшими на солнце, словно алмазы. К сожалению, из-за холода я не мог взять с собой воды для химического анализа. Пока мы ходили по тёплому источнику, стрелки успели снять палатку и связать спальные мешки. Сразу с бивака начался подъём на Сихотэ-Алинь. Сначала мы перенесли на вершину все грузы, а затем втащили пустые нарты. На самом перевале стояла маленькая китайская кумирня со следующей надписью: «Си-жи Циго вей-дассуай. Цзинь цзай да цин чжей шай линь». (В древности в государстве Ни был главнокомандующим; теперь, при Да-циньской династии, охраняет леса и горы.) В проекции положение этой части Сихотэ-Алиня представляется ломаной линией. Она идёт сначала на северо-восток, потом делает изгиб к востоку и затем опять на северо-северо-восток. Здесь Сихотэ-Алинь представляет собой как бы сбросовый выступ (горст). Впоследствии во многих местах произошли повторные обвалы, позади сползшей земли скопилась вода и образовались водоёмы. С восточной стороны подъём на Сихотэ-Алинь очень крутой. Истоки реки Буй (Уленгоу) представляют собой несколько мелких ручьёв, сливающихся в одно место. Эти овраги делают местность чрезвычайно пересечённой. По барометрическим измерениям, приведённым к уровню моря, абсолютная высота перевала измеряется в 860 метров. Я назвал его именем Маака, работавшего в 1855 году в Амурском крае. Две высоты по сторонам перевала имеют туземные названия: правая—Атаксеони высотой 1120, и левая —Адахуналянгзянь высотой 1000 метров. Мои спутники окрестили их Горелым конусом и горой Гребенчатой. Восточный склон Сихотэ-Алиня совершенно голый. Трудно представить себе местность более неприветливую, чем истоки реки Уленгоу. Даже не верится, чтобы здесь был когда-нибудь живой лес. Не многие деревья остались стоять на своих корнях. Сунцай говорил, что раньше здесь держалось много лосей, отчего и река получила название Буй, что значит «сохатый»; но с тех пор как выгорели леса, все звери ушли, и вся долина Уленгоу превратилась в пустыню. Солнце прошло по небу уже большую часть своего пути, когда стрелки втащили на перевал последнюю нарту. Весь день стояла хорошая, ясная и солнечная погода. Термометр показывал—17,5° С. Барометр стоял на 685. Лёгкий ветер гнал с востока небольшие кучевые облака. Издали они казались идущими высоко по небу, но по мере приближения к Сихотэ-Алиню как будто опускались к земле. Над водоразделом облака проходили совсем низко и принимали какой-то серовато-жёлтый оттенок. Каждое облачко разряжалось тончайшей искрящейся снежной пылью. Тогда вокруг солнца появлялись радужные венцы, но, как только облако проходило мимо, световое явление исчезало. Западный склон Сихотэ-Алиня пологий, но круче, чем в истоках Арму. За перевалом сразу начинается лес, состоящий из ели; пихты и лиственницы. По берегам речек растут' берёза с жёлтой мохнатой корой, горный клён и ольха. Обилие мхов и влаги не позволило пожарам распространиться дальше водораздела, хотя и с этой стороны кое-где выделялись выгоревшие плешины; в, бинокль ясно было видно, что это не осыпи, а места пожарищ. Увязав нарты, мы тотчас тронулись в путь. Лес, покрывающий Сихотэ-Алинь, мелкий, старый, дровяного характера. Выбор места для бивака в таком лесу всегда доставляет много затруднений: попадёшь или на камни, опутанные корнями деревьев, или на валежник, скрытый под мхом. Ещё больше забот бывает с дровами. Для горожанина покажется странным, как можно идти по лесу и не найти дров… А между тем это так. Ель, пихта и лиственница бросают искры; от них горят палатки, одежда и одеяла. Ольха — дерево мозглое, содержит много воды и даёт больше дыму, чем огня. Остаётся только каменная берёза. Но среди хвойного леса на Сихотэ-Алине она попадается одиночными экземплярами. Сунцай, знавший хорошо эти места, скоро нашёл всё, что нужно было для бивака. Тогда я подал сигнал к остановке. Стрелки стали ставить палатки, а я с Дерсу пошёл на охоту в надежде, не удастся ли где-нибудь подстрелить сохатого. Недалеко от бивака я увидел трёх рябчиков. Они ходили по снегу и мало обращали на нас внимания. Я хотел было стрелять, но Дерсу остановил меня. — Не надо, не надо, — сказал он торопливо. — Их можно так бери. Меня удивило то, что он подходил к птицам без опаски, но я ещё более удивился, когда увидел, что птицы не боялись его и, словно домашние куры, тихонько, не торопясь, отходили в сторону. Наконец мы подошли к ним метра на четыре. Тогда Дерсу взял нож и, нимало не обращая на них внимания, начал рубить молоденькую ёлочку, потом очистил её от сучков и к концу привязал верёвочную петлю. Затем он подошёл к птицам и надел петлю на шею одной из них. Пойманная птица забилась и стала махать крыльями. Тогда две другие птицы, соображая, что надо лететь, поднялись с земли и сели на растущую вблизи лиственницу: одна — на нижнюю ветку, другая — у самой вершины. Полагая, что птицы теперь сильно напуганы, я хотел было стрелять, но Дерсу опять остановил меня, сказав, что на дереве их ловить ещё удобнее, чем на земле. Он подошёл к лиственнице и тихонько поднял палку, стараясь не шуметь. Надевая петлю на шею нижней птице, он по неосторожности задел её палкой по клюву. Птица мотнула головой, поправилась и опять стала смотреть в нашу сторону. Через минуту она беспомощно билась на земле. Третья птица сидела так высоко, что достать её с земли было нельзя. Дерсу полез на дерево. Лиственница была тонкая, жидкая. Она сильно качалась. Глупая птица, вместо того чтобы улететь, продолжала сидеть на месте, крепко ухватясь за ветку своими ногами, и балансировала, чтобы не потерять равновесия. Как только Дерсу мог достать её палкой, он накинул ей петлю на шею и стащил вниз. Таким образом мы поймали всех трёх птиц, не сделав ни одного выстрела. Тут только я заметил, что они были крупнее рябчиков и имели более тёмное оперение. Кроме того, у самца были ещё красные брови над глазами, как у тетеревов. Это оказался чёрный рябчик, или «дикушка», обитающий в Уссурийском крае исключительно в хвойных лесах Сихотэ-Алиня, к югу до истоков Арму. Он совершенно не оправдывает названия «дикушка», данного ему староверами. Быть может, они окрестили его так потому, что он живёт в самых диких и глухих местах. Китайцы называют его «дашугирл» (большой рябчик). Исследования зоба дикушки показали, что она питается еловыми иглами и брусникой.

Когда мы подходили к биваку, были уже глубокие сумерки. Внутри палатки горел огонь, и от этого она походила на большой фонарь, в котором зажгли свечу. Дым и пар, освещённые пламенем костра, густыми клубами взвивались кверху. В палатке двигались чёрные тени: я узнал Захарова с чайником в руках и маньчжура Чи Ши-у с трубкой во рту. Собаки, услышав, что кто-то идёт, с лаем бросились к нам навстречу, но, узнав своих, начали ласкаться. В палатке все работы были уже закончены; стрелки пили чай. Сунцай назвал дикушек по-своему и сказал, что бог Эндури[248] нарочно создал непугливую птицу и велел ей жить в самых пустынных местах, для того чтобы случайно заблудившийся охотник не погиб с голоду. Вечером мы отпраздновали переход через Сихотэ-Алинь. На ужин были поданы дикушки, потом сварили шоколад, пили чай с ромом, а перед сном я рассказал стрелкам одну из страшных повестей Гоголя. Утром мы сразу почувствовали, что Сихотэ-Алинь отделил нас от моря: термометр на рассвете показывал —20° С. Здесь мы расстались с Сунцаем. Дальше мы могли идти сами; течение воды в реке должно было привести нас к Бикину. Тем не менее Дерсу обстоятельно расспросил его о дороге. Когда взошло солнце, мы сняли палатки, уложили нарты.: оделись потеплее и пошли вниз по реке Ляоленгоузе, имеющей вид порожистой горной речки с руслом, заваленным колодником и камнями. Километрах в 15 от перевала Маака Ляоленгоуза соединяется с другой речкой, которая течёт с северо-востока и которую удэхейцы называют Мыге. По ней можно выйти на реку Тахобе, где живут солоны. По словам Сунцая, перевал там через Сихотэ-Алинь низкий, подъем и спуск длинные, пологие. Река Мыге очень извилистая и измеряется пятью десятками километров. Окружающие леса дровяного характера и состоят исключительно из хвойных пород. С утра погода хмурилась. Воздух был наполнен снежной пылью. С восходом солнца поднялся ветер, который к полудню сделался порывистым и сильным. По реке кружились снежные вихри; они зарождались неожиданно, словно сговорившись, бежали в одну сторону и так же неожиданно пропадали. Могучие кедры глядели сурово и, раскачиваясь из стороны в сторону, гулко шумели, словно роптали на непогоду. При морозе идти против ветра очень трудно. Мы часто останавливались и грелись у огня. Врезультате за целый день нам удалось пройти не более 10 километров. Заночевали мы в том месте, где река разбивается сразу на три протоки. Вследствие ветреной погоды в палатке было дымно. Это принудило нас рано лечь спать. Ночью вокруг луны появилось матовое пятно, неясное и расплывчатое. Утром 17 декабря состояние погоды не изменилось к лучшему. Ветер дул с прежней силой: анемометр показывал 220, термометр —30° С. Несмотря на это, мы всё-таки пошли дальше. Заметно, что к западу от Сихотэ-Алиня снегу было значительно больше, чем в прибрежном районе. Река Мыге в среднем течении имеет 6—7 метров ширины. Во многих местах около берегов видны тонкие ледяные карнизы. Они получились вследствие убыли воды в реке после того, как она сверху замёрзла. В среднем течении река Мыге протекает по широкой долине, покрытой густым хвойно-смешанным лесом. Из лиственных пород здесь произрастают ольха, черёмуха, тальники, осина, осокорь и берёза. Судя по следам, которые мы видели в пути, можно заключить, что на Мыге водятся лось, кабарга, волк, выдра, белка, соболь и, вероятно, медведь. 19 декабря наш отряд достиг реки Бягаму, текущей с юго-востока, по которой можно выйти на реку Кусун. Эта река и по величине, и по обилию воды раза в два больше Мыге. Близ своего устья она около 20 метров шириной и 1—1,5 метра глубиной. По словам удэхейцев, вся долина Бягаму покрыта гарью; лес сохранился только около Бикина. Раньше Бягаму было одним из самых зверовых мест; особенно много было здесь лосей. Ныне это пустыня. После пожаров все звери ушли на Арму и Кулумбе, притоки Имана. Пройдя по Бягаму ещё два километра, мы стали биваком на левом её берегу, в густом ельнике. По счёту это был наш 12-й бивак от моря. В сумерки Захаров ходил на охоту, но вместо дичи принёс рыбу, которую он нашёл в яме подо льдом. Это были краснопёрка, толпыга и ленок — всего 9 рыб. 20 декабря мы употребили на переход до Бикина. Правый берег Бягаму — нагорный, левый — низменный и лесистый. Горы носят китайское название Бэй-си-лаза и Данцанза. Голые вершины их теперь были покрыты снегом и своей белизной резко выделялись из тёмной зелени хвои. Бягаму огибает Бей-си-лаза с юга и затем поворачивает на запад. В нижнем течении река разбивается на протоки попарно, образуя острова, покрытые лесом. В верховьях её растут лиственницы, ель и пихта, в среднем течении встречается кедр, а внизу по долине растут хорошие смешанные леса, состоящие из ясеня, ильма, тополя, осокоря, ольхи, черёмухи, сирени, бересклета, липы и тонкоствольного тальника. Я измерил несколько елей. Из 40 измерений в 4 местах (по 10 измерений в каждом) я получил следующие цифры: 44, 80, 103 и 140 сантиметров. Цифры эти указывают на лучшие качества леса по мере удаления от Сихотэ-Алиня. Из крупных млекопитающих в верховьях Бягаму встречаются лось, рысь, бурый медведь и росомаха; ниже по течению — изюбр, кабан и тигр. Из царства пернатых я встретил на снегу следы глухарей, затем несколько раз видел большеклювых ворон, соек, ореховок, ронж, пёстрых дятлов, желн, поползней и снегирей. Дерсу сообщил мне, что зимой, когда начинают замерзать реки, все крупные пернатые хищники спускаются к низовьям рек, где им легче найти себе пропитание. Бягаму встречает Бикин рекой шириной около 100 и глубиной 2—2,5 метра. Бикин (по-удэхейски Бики, по-китайски Дизинхе)—одна из самых больших рек Уссурийского края. Она длиной около 500 километров, истоки её находятся в горах Сихотэ-Алиня на широте мыса Гладкого. Невдалеке от устья реки Бягаму стояла одинокая удэхейская юрта. Видно было, что в ней давно уже никто не жил. Такие брошенные юрты, в представлении туземцев, всегда служат обиталищем злых духов. По времени нам пора было устраивать бивак. Я хотел было войти в юрту, но Дерсу просил меня подождать немного. Он накрутил на палку бересту, зажёг её и, просунув факел в юрту, с криками стал махать им во все стороны. Захаров и Аринин смеялись, а он пресерьёзно говорил им, что, как только огонь вносится в юрту, черт вместе с дымом вылетает через отверстие в крыше. Только тогда человек может войти в неё без опаски. Стрелки вымели из юрты мусор, полотнищем палатки завесили вход и развели огонь. Сразу стало уютно. Кругом разлилась приятная теплота. Поздно вечером солдаты опять рассказывали друг другу страшные истории: говорили про мертвецов, кладбища, пустые дома и привидения. Вдруг что-то сильно бухнуло на реке, точно выстрел из пушки. Рассказчик прервал свою речь на полуслове. Все испуганно переглянулись. — Лёд треснул, — сказал Захаров. Дерсу повернул голову в сторону шума и громко закричал что-то на своём языке. — Кому ты кричишь? — спросил я его. — Наша прогнал черта из юрты, теперь его сердится — лёд ломает, — отвечал гольд. И, высунув голову за полотнища палатки, он опять стал громко говорить кому-то в пространство. — Все равно наша не боится. Тебе надо другой место ходи. Там, выше, есть ещё одна пустая юрта. Когда Дерсу вернулся на своё место, лицо его было опять равнодушно-сосредоточенное. Солдаты фыркали в кулак, а между тем со своими домовыми они были так же наивны, как и Дерсу со своим чёртом. В это время где-то далеко снова треснул лёд. — Уехал, — сказал Дерсу довольным тоном и махнул рукой в сторону шума. Я оделся и вышел из юрты. Ночь была ясная. По чистому, безоблачному небу плыла полная луна. Снег искрился на льду, и от этого казалось ещё светлее. В ночном воздухе опять воцарилось спокойствие. Покончив с работой, я ещё раз напился чаю, завернулся в одеяло и, повернувшись спиной к огню, сладко уснул.
Глава двадцать первая Зимние праздники

Река Бикин в среднем течении. — Зимняя охота на кабанов. — Вечеринка в юрте. — Недоразумение с разменом денег. — Представление туземцев о расстояниях. — Ёлка в лесу. — Игры на льду. — Лотерея.
Как и надо было ожидать, к рассвету мороз усилился до 32° С. Чем дальше мы отходили от Сихотэ-Алиня, тем ниже падала температура. Известно, что в прибрежных странах очень часто на вершинах гор бывает теплее, чем в долинах. Очевидно, с удалением от моря мы вступили в «озеро холодного воздуха», наполнявшего долину реки Уссури. С восходом солнца мы тронулись в путь. От устья Бягаму Бикин, если не считать его частичные изгибы, течёт всё время на запад. С правой стороны на значительном протяжении тянется высокий террасообразный берег, похожий на плоскогорье и известный у китайцев под названием Лао-бей-лаза[249]. Это — мощный лавовый покров. Верхний слой базальта превратился в глину, что и послужило причиной заболачивания террасы, а это в свою очередь повлияло на растительность. Поэтому мы видим здесь только березняки, осинники и тощую лиственницу. С плоскогорья Лао-бей-лаза стекают два ключа: Кямту и Сигими-Бъяса. Далее, с правой стороны, в Бикин впадают: река Бей-си-лаза, стекающая с горы того же имени, маленький ключик Музейза[250] и река Лаохозен[251], получившая своё название от слова «лахоу», что значит «тигр». По рассказам удэхейцев, несколько лет назад здесь появился тигр, который постоянно ходил по соболиным ловушкам, ломал западни и пожирал всё, что в них попадалось. Ни одна река так сильно не разбивается на протоки, как Бикин. Удэхейцы говорят, что есть места, где можно насчитать 22 протоки. Течение Бикина гораздо спокойнее, чем течение Имана, но русло его завалено топным лесом, что очень затрудняет плавание на лодках. От устья Бягаму до железной дороги около 350 километров. Немного ниже Лаохозена находится небольшое удэхейское стойбище, носящее то же название и состоящее из трёх юрт. Мы подошли к нему в сумерки. Появление неизвестных людей откуда-то «сверху» напугало удэхейцев, но, узнав, что в отряде есть Дерсу, они сразу успокоились и приняли нас очень радушно. На этот раз палаток мы не ставили и разместились в юртах. Вечером я расспрашивал удэхейцев об их жизни на Бикине и об отношениях их к китайцам. М. Венюков, путешествовавший в Уссурийском крае в 1857 году, говорит, что тогда на реке Бикин китайцев не было вовсе, а жили только одни удэхейцы (он называет их орочонами). Сыны Поднебесной империи появились значительно позже. Они занесли сюда оспу, которая свирепствовала так сильно, что от некоторых стойбищ не осталось ни одного человека. В 1895 году на Бикине население состояло только из 306 душ обоего пола. Прибывшие на Бикин китайцы скоро превысили в численности удэхейцев, подчинили их себе и сделались полными хозяевами реки. Тогда удэхейцы впали в неоплатные долги и очутились в положении рабов. Рассказы о бесчеловечном обращении с ними китайцев полны ужаса: людей убивали, продавали, как скотину, избивали палками… Чтобы узнать о числе пойманных соболей, китайцы нередко прибегали к пыткам. Так продолжалось до тех пор, пока па помощь удэхейцам не пришёл начальник Ястребов. С воинской командой он поднялся по реке и выселил с Бикина всех китайцев, оставив только стариков и калек. Эта мера помогла, удэхейцы вздохнули свободнее, но в последние годы опять начался наплыв китайцев на Бикин. На этот раз они колонизировались в местности Сигоу. Уже две недели, как мы шли по тайге. По тому, как стрелки и казаки стремились к жилым местам, я видел, что они нуждаются в более продолжительном отдыхе, чем обыкновенная ночёвка. Поэтому я решил сделать днёвку в Лаохозенском стойбище. Узнав? об этом, стрелки в юртах стали соответственно располагаться. Бивачные работы отпадали: не нужно было рубить хвою, таскать дрова и т. д. Они разулись и сразу приступили к варке ужина. В сумерки возвратились с охоты два юноши — удэхейца и сообщили, что недалеко от стойбища они нашли следы кабанов и завтра намерены устроить на них облаву. Охота обещала быть интересной, и я решил пойти вместе с ними. Зимой, если снега выпадут глубокие, амурские туземцы охотятся за кабанами на лыжах. Дикие свиньи убегают далеко, но скоро устают. Тогда охотники догоняют их и бьют копьями. Ружей на такую охоту не берут ради экономии патронов, которые в тайге всегда очень дороги. Кроме того, охота с копьём нравится удэхейцам как спорт. Здесь молодые люди имеют случай показать свою силу и ловкость. С вечера они стали готовиться: перетянули ремни у лыж и подточили копья. Так как назавтра выступление было назначено до восхода солнца, то после ужина все рано легли спать. Было ещё темно, когда я почувствовал, что меня кто-то трясёт за плечо. Я проснулся. В юрте ярко горел огонь. Удэхейцы уже приготовились; задержка была только за мной. Я быстро оделся, сунул два сухаря в карман и вышел на берег реки. Чуть брезжилось; звезды погасли одна за другой; побледневший месяц медленно двигался навстречу лёгким воздушным облачкам. На другой стороне неба занималась заря. Утро было холодное. В термометре ртуть опустилась до —39° С. Кругом царила торжественная тишина; ни единая былинка не шевелилась. Тёмный лес стоял стеной и, казалось, прислушивался, как; трещат от мороза деревья. Словно щёлканье бича, звуки эти звонко разносились в застывшем утреннем воздухе. Удэхейцы шли впереди, а я следовал за ними. Пройдя немного по реке Лаохозен, они свернули в сторону, затем поднялись на небольшой хребет и спустились с него в соседний распадок. Тут охотники стали совещаться. Поговорив немного, они снова пошли вперёд, но уже тихо, без разговоров. Через полчаса стало совсем светло. Солнечные лучи, осветившие вершины гор, известили обитателей леса о наступлении дня. В это время мы как раз дошли до того места, где юноши накануне видели следы кабанов. Надо заметить, что летом дикие свиньи отдыхают днём, а ночью кормятся. Зимой обратное: днём они бодрствуют, а на ночь ложатся. Значит, вчерашние кабаны не могли уйти далеко. Началось преследование. Я первый раз в жизни видел, как быстро удэхейцы ходят по лесу на лыжах. Вскоре я начал отставать от удэхейцев и затем потерял их из виду совсем. Бежать за ними вдогонку не имело смысла, и потому я пошёл по их лыжне, не торопясь. Так прошёл я, вероятно с полчаса; наконец устал и сел отдохнуть. Вдруг позади меня раздался какой-то шум. Я обернулся и увидел двух кабанов, мелкой рысцой перебегавших мне дорогу. Я быстро поднял ружьё и выстрелил, но промахнулся. Испуганные кабаны бросились в сторону. Не найдя крови на следах, я решил их преследовать. Минут через пятнадцать или двадцать я снова догнал кабанов. Они, видимо, устали и шли с трудом по глубокому снегу. Вдруг животные почуяли опасность и, словно солдаты по команде, быстро повернулись ко мне головами. По тому, как они двигали челюстями, и по звуку, который долетал до меня, я понял, что они подтачивали клыки. Глаза животных горели, ноздри были раздуты, уши насторожены. Будь один кабан, я, может быть, стрелял бы, но передо мной были два секача. Несомненно, они бросятся мне навстречу. Я воздержался от выстрела и решил подождать другого, более удобного случая. Кабаны перестали щёлкать клыками; они подняли кверху свои морды и стали усиленно нюхать воздух, затем медленно повернулись и пошли дальше. Тогда я обошёл стороною и снова догнал их. Кабаны остановились опять. Один из них клыками стал рвать кору на валежнике. Вдруг животные насторожились, затем издали короткий рёв и пошли прокладывать дорогу влево от меня. В это время я увидел четырёх удэхейцев. По выражению их лиц я понял, что они заметили кабанов. Я присоединился к ним и пошёл сзади. Дикие свиньи далеко уйти не могли. Они остановились и приготовились к обороне. Удэхейцы обошли их кругом и стали сходиться к центру. Это заставило кабанов вертеться то в одну, то в другую сторону. Наконец они не выдержали и бросились вправо. С удивительной ловкостью удэхейцы ударили их копьями. Одному кабану удар пришёлся прямо под лопатку, а другой был ранен в шею. Этот последний ринулся вперёд. Молодой удэхеец старался сдержать его копьём, но в это время послышался короткий сухой треск. Древко копья было перерезано клыками кабана, как тонкая хворостинка. Охотник потерял равновесие и упал вперёд. Кабан метнулся в мою сторону. Инстинктивно я поднял ружьё и выстрелил почти в упор. Случайно пуля попала прямо в голову зверя. Тут только я заметил, что удэхеец, у которого кабан сломал копьё, сидел на снегу и зажимал рукой на ноге рану, из которой обильно текла кровь. Когда кабан успел царапнуть его клыком, не заметил и сам пострадавший. Я сделал ему перевязку, а удэхейцы наскоро устроили бивак и натаскали дров. Один человек остался с раненым, другой отправился за нартами, а остальные снова пошли на охоту.

Ранение охотника не вызвало на стойбище тревоги; жена смеялась и подшучивала над мужем. Случаи эти так часты, что на них никто не обращал внимания. На теле каждого мужчины всегда можно найти следы кабаньих клыков и когтей медведя. За день стрелки исправили поломки у нарт, удэхейские женщины починили унты и одежду. Чтобы облегчить людей, я нанял двух человек с нартами и собаками проводить нас до следующего стойбища. На другой день, 23 декабря, мы продолжали наш путь. Дальше река Бикин течёт по-прежнему на северо-запад. Долина её то суживается до 200 метров, то расширяется до 3 и более километров. Здесь, в горах, растёт преимущественно хвойный строевой лес, а внизу, в долине, — смешанный, состоящий из ясеня, тополя, вяза, ильма, клёна, дуба, липы и бархата. После Лаохозена Бикин принимает в себя справа следующие речки: Сагде-ула, Кангату и Хабагоу, а слева — Чугулянкуни, Давасигчи и Сагде-гэ (по-китайски Ситцихе). С Давасигчи перевал будет опять-таки на реке Арму, в среднем её течении. Две высокие сопки с правой стороны реки носят название Лао-бей-лаза и Сыфантай. Около устья реки Давасигчи было удэхейское стойбище, состоящее из четырёх юрт. Мужчины все были на охоте, дома остались только женщины и дети. Я рассчитывал сменить тут проводников и нанять других, но из-за отсутствия мужчин это оказалось невозможным. К моей радости, лаохозенские удэхейцы согласились идти с нами дальше. После полудня мы миновали ещё одно стойбище — Канготу. Здесь мы расстались с маньчжуром Чи Ши-у. Я снабдил его деньгами и продовольствием. Незадолго до сумерек, немного не доходя реки Хабагоу, мы нашли ещё одну жилую юрту и около неё стали биваком. В юрте была молодая женщина с двумя малыми детьми; муж её тоже был на охоте. На этот раз я остался со стрелками в палатке. Вечером за мной пришёл Дерсу и сказал, что женщина просит меня пожаловать к ней в гости. Обыкновенно удэхейские женщины до крайности молчаливы. Они всегда смотрят угрюмо, недоверчиво, не разговаривают с посторонними и часто даже лаконично не отвечают на задаваемые вопросы. В противоположность им наша новая знакомая была очень приветлива, держала себя просто и непринуждённо. Она расспрашивала нас о кусунских тазах, о жизни в городе, о железной дороге и т. д. После ужина я попросил её разменять мне 10 рублей. Женщина стала тихонько о чём-то шептаться с Дерсу. Он что-то отвечал ей и громко смеялся. Потом я узнал, что она не понимает толку в деньгах, и спрашивала его, не обману ли я её, если она принесёт деньги и предоставит мне самому в них разобраться. Получив успокоительный ответ, она отправилась в амбар и принесла оттуда небольшую берестяную коробочку, украшенную орнаментом. В этой коробочке бумажных денег было рублей сорок. Подавая мне коробку, она сказала, что муж её предпочитает серебряные деньги бумажным, потому что их можно прятать в земле, а она — потому, что их можно нашивать на одежду. Я хотел разменять деньги помельче и, положив десятирублёвую бумажку ей на колени, стал отбирать из коробки рублёвки. Вдруг я увидел на глазах её слезы. — Что такое? — спросил я гольда. — Она говорит, — ответил мне Дерсу, — что ты дал ей одну бумажку, а из коробки взял десять. Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась, что я её не обману и когда муж её придёт, то увидит, что я поступил правильно. Но удэхейка отвечала, что муж её тоже не понимает счета в деньгах, и продолжала заливаться слезами. Чтобы успокоить её, я отказался от размена денег, положил рублёвые бумажки обратно, взял назад свою десятирублёвку и подарил ей новенький серебряный полтинник. Тревога мигом сбежала с её лица; сквозь слёзы она улыбнулась, затем принялась нас угощать чумизной кашей с рыбьей икрой и снова стала расспрашивать о жизни удэхейцев, живущих по ту сторону Сихотэ-Алиня. Часов в девять вечера я вышел из юрты и невольно обратил внимание на небо. Вследствие ли особенной чистоты воздуха или каких-либо иных причин звезды по величине и яркости лучей казались крупнее, и от этого на небе было светлее, чем на земле. Контур соседних гор и остроконечные вершины елей были видны отчётливо, ясно, зато внизу все утопало во тьме. Неясные, почти неуловимые ухом звуки наполняли сонный воздух; шум от полёта ночной птицы, падения снега с ветки на ветку, шелест колеблемой лёгким дуновением слабого ветерка засохшей былинки — всё это вместе не могло нарушить тишины, царившей в природе. Я подошёл к палатке. Стрелки давно уже спали. Я посидел немного у огня, затем снял обувь, пробрался на своё место и тотчас уснул. На следующий день мы пошли дальше. В горах были видны превосходные кедровые леса, зато в долине хвойные деревья постепенно исчезали, а на смену им выступали широколиственные породы, любящие илистую почву и обилие влаги. Животный мир этих лесов весьма разнообразен. Тут водятся тигр, рысь, дикая кошка, белка, бурундук, изюбр, козуля, кабарга, росомаха, соболь, хорёк и летяга. Белогрудый медведь встречается по нижнему течению Бикина только до реки Хабагоу; выше будут владения бурого медведя. Когда бывает урожай кедровых орехов, то кабаны поднимаются до реки Бягаму, если же кедровых орехов уродится мало, то они спускаются книзу, за скалы Сигонку-Гуляни. Бикин по справедливости считается одной из самых рыбных рек в крае. В нём во множестве водятся: вверху — хариус и ленок, по протокам в тинистых водах—сазан, налим и щука, а внизу, ближе к устью, — таймень и сом. Кета поднимается почти до самых истоков. Около скал Сигонку стояли удэхейцы. От них я узнал, что на Бикине кого-то разыскивают и что на розыски пропавших выезжал пристав, но вследствие глубокого снега возвратился обратно. Я тогда ещё не знал, что это касалось меня. По рассказам удэхейцев, дальше были ещё две пустые юрты….. В этом покинутом стойбище я решил в первый предпраздничный день устроить днёвку. — В каком это месте? — спросил я удэхейцев. — Бей-си-лаза-датани, — отвечал один из них. — Сколько вёрст? — спросил его Захаров. — Две, — отвечал удэхеец уверенно. Я попросил его проводить нас, на что он охотно согласился. Мы купили у них сохатиного мяса, рыбы, медвежьего сала и пошли дальше. Пройдя 3 километра, я спросил проводника, далеко ли до юрты. — Недалеко, — отвечал он. Однако мы прошли ещё 4 километра, а стойбище, как заколдованное, уходило от нас всё дальше и дальше. Пора было становиться на бивак, но обидно было копаться в снегу и ночевать по соседству с юртами. На все вопросы, далеко ли ещё, удэхеец отвечал коротко: — Близко. За каждым изгибом реки я думал, что увижу юрты, но поворот следовал за поворотом, мыс за мысом, а стойбища нигде не было видно. Так прошли мы ещё километров восемь. Вдруг меня надоумило спросить проводника, сколько вёрст ещё осталось до Бей-си-лаза-датани. — Семь, — отвечал он тем же уверенным тоном. Стрелки так и сели и начали ругаться. Оказалось, что наш проводник не имел никакого понятия о верстах. Об этом удэхейцев никогда не следует спрашивать. Они меряют расстояние временем: полдня пути, один день, двое суток и т. д. Тогда я подал сигнал к остановке. Удэхеец говорил, что юрты совсем близко, но никто ему уже не верил. Стрелки принялись спешно разгребать снег, таскать дрова и ставить палатки. Мы сильно запоздали: глубокие сумерки застали нас за работой. Несмотря на это, бивак вышел очень удобный. Вечером я угостил своих спутников шоколадом и ромом. Потом я рассказал им о жизни в Древнем Риме, о Колизее и гладиаторах, которые своими страданиями должны были увеселять развращённую аристократию. Стрелки слушали меня с глубоким вниманием. Потом я показывал им созвездия на небе. Днём, при солнечном свете, мы видим только Землю, ночью мы видим весь мир. Словно блестящая световая пыль была рассыпана по всему небосклону. От тихих сияющих звёзд, казалось, нисходил на землю покой, и потому в природе было всё так торжественно и тихо. Следующий день мы простояли на месте. Ещё при отъезде из Владивостока я захватил с собой ёлочные украшения: хлопушки, золочёные орехи, подсвечники с зажимами, золотой дождь, парафиновые свечи, фигурные пряники и тому подобные подарки: серебряную рюмку, перочинный нож в перламутровой оправе, янтарный мундштук и т. д. Всё это я хранил в коллекционных ящиках и берег для праздника. Около нашей палатки росла небольшая ёлочка. Мы украсили её бонбоньерками и ледяными сосульками. Днём на реке были устроены игры. К вбитому в лёд колу привязали две верёвки, концы их прикрепили к поясам двух человек и завязали км глаза. Одному в руки был дан колокольчик, а другому — жгут из полотенца. Сущность игры заключалась в том, что один должен был звонить в колокольчик и уходить, а другой подкрадываться на звук и бить звонаря жгутом. Игра эта увлекала всех. Туземцы смеялись до упаду и катались по земле так, что я не на шутку стал опасаться за их здоровье. Когда стемнело, я велел зажечь бенгальские огни. Вечер был ясный и тихий. При розыгрыше подарков Дерсу выиграл трубку, что вышло как раз кстати. Затем были розданы сласти. Все были довольны и веселы. Пение стрелков далеко разносилось по реке, будило эхо и лесных зверей. Около полуночи стрелки ушли в палатки и, лёжа на сухой траве, рассказывали друг другу анекдоты, острили и смеялись. Мало-помалу голоса их стали затихать, реплики становились всё реже и реже. Стрелок Туртыгин пробовал было возобновить разговор, но ему уже никто не отвечал. Скоро дружный храп возвестил о том, что все уснули.
Глава двадцать вторая Нападение тигра

Размен денег. — Замерзание реки. — Таза Китенбу. — Река Катэтабауни. — Перевал на Хор. — Непогода. — Бивак в снегу. — Дерсу и Альпа. — Буря. — Кабаны. — Тревожная ночь. — Тигр. — Рассвет. — Преследование зверя. — Следы. — Возвращение на бивак. — Росомахи.
Утром я отпустил обоих проводников. Тут случилось довольно забавное происшествие. Я дал им каждому по 10 рублей: одному — 10 рублей бумажкой, а другому —две пятирублёвые. Тогда первый обиделся. Я думал, что он недоволен платой, и указал ему на товарища, который явно выказывал удовлетворение. Оказалось совсем иное: удэхеец обиделся на то, что я дал ему одну бумажку, а товарищу две. Я забыл, что они не разбираются в деньгах. Желая доставить удовольствие второму, я дал ему взамен десятирублёвой бумажки три трёхрублёвые и одну рублёвую. Тогда обиделся тот, у которого были две пятирублёвые бумажки. Чтобы помирить их, пришлось дать тому и другому бумажки одинакового достоинства. Надо было видеть, с каким довольным видом они отправились восвояси. После днёвки у всех было хорошее настроение; люди шли бодро и весело. От удэхейцев я узнал, что гроза со снегом, которую мы наблюдали 26 ноября на реке Нахтоху, была одновременно и на Бикине. Первый снег выпал здесь 11 ноября, когда река только что начала замерзать. Лёд, прикрытый снегом, уже не утолщался более. Наоборот, там, где снег сдуло ветрами, река промёрзла глубоко. Вот почему замерзание местных рек отличается такой неравномерностью. Толщина льда часто колеблется от 1 до 70 сантиметров. Поэтому если снег выпал рано, то по реке надо ходить осторожно, всё время пробуя лёд толстой палкой. В этом случае незаменимыми являются лыжи. Если лёд выдерживает удары палки, можно идти свободно без лыж. Стрелки с недоверием отнеслись к словам удэхейцев и шли не разбирая, но после одного-двух купаний убедились, что такими советами пренебрегать нельзя. За день мы прошли километров 18 и стали биваком около речки Катэтабауни. Здесь оказались три юрты и одна фанза, называемая Сидунгоу[252]. В ней жили два старика; один из них был таза, другой — китаец-соболёвщик. Хозяева фанзочки оказались очень гостеприимными и всячески старались нам услужить. Мне очень хотелось подняться на Хорский перевал. Я стал расспрашивать о дороге. Таза Китенбу (так звали нашего нового знакомого) изъявил согласие быть проводником. Ему, вероятно, было около 60 лет. В волосах на голове у пего уже показались серебряные нити, и лицо покрылось морщинами. По внешнему виду он нисколько не отличался от китайцев. Единственным доказательством его туземного происхождения было его собственное заявление. Он рассказывал, что ранее жил на Уссури, но, потесненный русскими переселенцами, перекочевал на реку Бикин, где и живёт уже более 10 лет. Китенбу тотчас же стал собираться. Он взял с собой заплатанное одеяло, козью шкуру и старую, много раз чинённую берданку; я взял чайник, записную книжку и спальный мешок, а Дерсу — полотнище палатки, трубку и продовольствие. Кроме нас троих в отряде было ещё два живых существа: моя Альпа и другая, принадлежащая тазе серенькая остромордая собачка со стоячими ушами по кличке Кады. Катэ-Табань (Катэтабауни)—маленькая горная речка, протекающая по долине, суженной близ устья и несколько расширяющейся к истокам. Окружающие её горы покрыты старым хвойно-смешанным лесом. С утра стояла хорошая погода. Мы рассчитывали, что к вечеру успеем дойти до зверовой фанзы по ту сторону водораздела. Однако нашим мечтаниям не суждено было сбыться. После полудня небо стало заволакиваться слоистыми облаками; вокруг солнца появились круги, и вместе с тем начал подниматься ветер. Я хотел уже было повернуть назад, но Дерсу успокоил меня, сказав, что пурги не будет, будет только сильный ветер, который назавтра прекратится. Так оно и случилось. Часа в четыре пополудни солнце скрылось, и не разберёшь, в тучах или в тумане. Воздух был наполнен сухой снежной пылью. Поднявшийся ветер дул нам навстречу и, как ножом, резал лицо. Когда начало смеркаться, мы были как раз на водоразделе. Здесь Дерсу остановился и стал о чём-то совещаться со стариком тазой. Подойдя к ним, я узнал, что старик таза немного сбился с дороги. Из опасения заблудиться они решили заночевать под открытым небом. — Капитан, — обратился ко мне Дерсу, — сегодня наша фанза найди нету, надо бивак делай. — Хорошо, — сказал я, — давайте выбирать место. Оба моих спутника ещё поговорили между собой и, отойдя в сторону шагов 20, начали снимать котомки. Место для бивака было выбрано нельзя сказать чтобы удачное. Это была плоская седловина, поросшая густым лесом. В сторону от неё тянулся длинный отрог, оканчивающийся небольшой конической сопкой. По обеим сторонам седловины были густые заросли кедровника и ещё какого-то кустарника с неопавшей сухой листвой. Мы нарочно зашли в самую чащу его, чтобы укрыться от ветра, и расположились у подножия огромного кедра высотой, вероятно, метров 20. Дерсу взял топор и пошёл за дровами, старик таза начал резать хвою для подстилки, а я принялся раскладывать костёр. Только к шести с половиной часам мы окончили бивачные работы и сильно устали. Когда вспыхнул огонь, на биваке стало сразу уютнее. Теперь можно было переобуться, обсушиться и подумать об ужине. Через полчаса мы пили чай и толковали о погоде. Моя Альпа не имела такой тёплой шубы, какая была у Кады. Она прозябла и, утомлённая дорогой, сидела у огня, зажмурив глаза, и, казалось, дремала. Тазовская собака, с малолетства привыкшая к разного рода лишениям, мало обращала внимания на невзгоды походной жизни. Свернувшись калачиком, она легла в стороне и тотчас уснула. Снегом всю её запорошило. Иногда она вставала, чтобы встряхнуться, затем, потоптавшись немного на месте, ложилась на другой бок и, уткнув нос под брюхо, старалась согреть себя дыханием. Дерсу всегда жалел Альпу и каждый раз, прежде чем разуться, делал ей из еловых ветвей и сухой травы подстилку. Если поблизости не было ни того, ни другого, он уступал ей свою куртку, и Альпа понимала это. На привалах она разыскивала Дерсу, прыгала около него, трогала его лапами и всячески старалась обратить на себя внимание. И как только Дерсу брался за топор, она успокаивалась и уже терпеливо дожидалась его возвращения с охапкой еловых веток. Сами мы были утомлены не меньше, чем собаки, и потому тотчас после чая, подложив побольше дров в костёр, стали устраиваться на ночь. Расположились мы у огня каждый в отдельности. С подветренной стороны расположился я; Дерсу поместился сбоку. Он устроил себе нечто вроде палатки, а на плечи набросил шинель. Старик таза поместился у подножия кедра, прикрывшись одеялом. Он взялся караулить бивак и поддерживать огонь всю ночь. Нарубив еловых веток, я разостлал на них свой мешок и устроился очень удобно. С одной стороны от ветра меня защищала валежина, а с другой — горел огонь. В большом лесу во время непогоды всегда жутко. Так и кажется, что именно то дерево, под которым спишь, упадёт на тебя и раздавит. Несмотря на усталость, я долго не мог уснуть. Кто-то привёл ветер в такое яростное состояние, что он, как бешеный зверь, бросался на всё, что попадалось ему на пути. Особенно доставалось деревьям. Это была настоящая борьба лесных великанов с обезумевшей воздушной стихией. Ветер налетал порывами, рвал, потом убегал прочь и жалобно выл в стороне. Являлось впечатление, будто мы попали в самую середину гигантского вихря. Ветер описывал большой круг, возвращался на наш бивак и нападал на кедр, стараясь во что бы то ни стало опрокинуть его на землю. Но это не удалось. Лесной великан хмурился и только солидно покачивался из стороны в сторону. Я вспомнил пургу около озера Ханка и снежную бурю при переходе через Сихотэ-Алинь. Я слышал, как таза подкладывал дрова в огонь и как шумело пламя костра, раздуваемое ветром. Потом всё перепуталось, и я задремал. Около полуночи я проснулся. Дерсу и Китенбу не спали и о чём-то говорили между собой. По интонации голосов я догадался, что они чем-то встревожены. «Должно быть, кедр качается и грозит падением», — мелькнуло у меня в голове. Я быстро сбросил с головы покрышку спального мешка и спросил, что случилось. — Ничего, ничего, капитан, — отвечал мне Дерсу, но я заметил, что говорил он неискренно. Ему просто не хотелось меня беспокоить. На биваке костёр горел ярким пламенем. Дерсу сидел у огня и, заслонив рукой лицо от жара, поправлял дрова, собирая уголья в одно место; старик Китенбу гладил свою собаку. Альпа сидела рядом со мной и, видимо, дрожала от холода. Казалось, что все злые духи собрались в одно место и с воем и плачем носились по тайге друг за другом, точно они хотели разрушить порядок, данный природе, и создать снова хаос на земле. Слышались то иступленный плач и стенания, то дикий хохот и вой; вдруг на мгновение наступала тишина, и тогда можно было разобрать, что происходит поблизости. Но уже но этим перерывам было видно, что ветер скоро станет стихать. Дрова в костре горели ярко. Чёрные тени и красные блики двигались по земле, сменяя друг друга; они то удалялись от костра, то приближались к нему вплотную и прыгали по кустам и снежным сугробам. — Ничего, капитан, — сказал мне опять Дерсу. — Твоя можно спи. Наша так, сам говори. Я не заставил себя упрашивать, закрылся опять с головой и заснул. Приблизительно через полчаса я снова проснулся. Меня разбудили голоса. «Что-то неладное», — подумал я и вылез из мешка. Буря понемногу стихала. На небе кое-где показались звезды. Каждый порыв ветра сыпал на землю сухой снег с таким шумом, точно это был песок. Около огня я увидел своих приятелей. Таза был на ногах и к чему-то прислушивался. Дерсу стоял боком и, заслонив ладонью свет от костра, всматривался в темноту ночи. Собаки тоже не спали; они жались к огню, пробовали было ложиться, но тотчас же вскакивали и переходили на другое место. Они что-то чуяли и смотрели в ту же сторону, куда направлены были взоры Дерсу и старика тазы. Ветер сильно раздувал огонь, вздымая тысячи искр кверху, кружил их в воздухе и уносил куда-то в глубь леса. — Что такое, Дерсу?! — спросил я гольда. — Кабаны ходи, — отвечал он. — Ну так что же? Кабаны в лесу — это так естественно: животные шли, наткнулись на наш бивак и теперь шумно выражали своё неудовольствие. Дерсу сделал рукой досадливый жест и сказал: — Как тебе столько тайга ходи —понимай нету!… Зимой ночью кабаны ходи не хочу. В той стороне, куда смотрели Дерсу и Китенбу, слышались треск ломаемых сучьев и характерное «чиханье» диких свиней. Немного не доходя до нашего бивака, кабаны спустились с седловины и обошли коническую сопку стороной. Я размялся, и спать мне уже не хотелось. — А почему эти кабаны идут ночью? — спросил я Дерсу. — Его напрасно ходи нету, — отвечал он. — Его другой люди гоняй. Я подумал было, что он говорит про удэхейцев, и мысленно удивился, как ночью они ходят по тайге на лыжах. Но вспомнил, что Дерсу «людьми» называл не одних только людей, и сразу всё понял: кабанов преследовал тигр. Значит, хищник был где-то поблизости от нас. Понемногу в природе стал воцаряться порядок. Какая-то другая сила начала брать верх над ветром и заставляла его успокаиваться. Но, судя по тому, как качались старые кедры, видно было, что там, вверху, не все ещё благополучно. Я не стал дожидаться чая, подтащил свой мешок поближе к огню, залез в него и опять заснул. Мне показалось, что я спал очень долго. Вдруг что-то тяжёлое навалилось мне на грудь, и одновременно с этим я услышал визг собаки и отчаянный крик Дерсу: — Скорей! Быстро сбросил я с себя верхний клапан мехового мешка. Снег и сухие листья обдали мне лицо. В то же мгновение я увидел, как какая-то длинная тень скользнула наискось к лесу. На груди у меня лежала Альпа. Костёр почти что совсем угас: в нём тлели только две головешки. Ветер раздувал уголья и разносил искры по снегу. Дерсу сидел на земле, упёршись ногами в снег. Левой рукой он держался за грудь и, казалось, хотел остановить биение сердца. Старик таза лежал ничком в снегу и не шевелился. Несколько мгновений я не мог сообразить, что случилось и что мне надо делать. С трудом я согнал с себя собаку, вылез из мешка и подошёл к Дерсу. — Что случилось? —спросил я его, тряся за плечо. — Амба, Амба! — испуганно закричал он. — Амба совсем наша бивак ходи! Один собака таскай! Тут только я заметил, что нет тазовской собаки. Дерсу поднялся с земли и стал приводить в порядок костёр. Как только появился огонь, таза тоже пришёл в себя; он испуганно озирался по сторонам и имел вид сумасшедшего. В другое время он показался бы смешным.

На этот раз больше всех самообладания сохранил я. Это потому, что я спал и не видел того, что тут произошло. Однако скоро мы поменялись ролями: когда Дерсу успокоился, испугался я. Кто поручится, что тигр снова не придёт на бивак, не бросится на человека? Как всё это случилось и как это никто не стрелял? Оказалось, что первым проснулся Дерсу; его разбудили собаки. Они всё время прыгали то на одну, то на другую сторону костра. Спасаясь от тигра, Альпа бросилась прямо на голову Дерсу. Спросонья он толкнул её и в это время увидел совсем близко от себя тигра. Страшный зверь схватил тазовскую собаку и медленно, не торопясь, точно понимая, что ему никто помешать не может, понёс её в лес. Испуганная толчком, Альпа бросилась через огонь и попала ко мне на грудь. В это самое время я услышал крик Дерсу. Инстинктивно я схватил ружьё, но не знал, куда стрелять. Вдруг в зарослях позади меня раздался шорох. — Здесь! — сказал шёпотом таза, указывая рукой вправо от кедра. — Нет, тут, — ответил Дерсу, указывая в сторону, совершенно противоположную. Шорох повторился, но на этот раз с обеих сторон одновременно. Ветер шумел вверху по деревьям и мешал слушать. Порой мне казалось, что я как будто действительно слышу треск сучков и вижу даже самого зверя, но вскоре убеждался, что это совсем не то: это был или колодник, или молодой ельник. Кругом была такая чаща, сквозь которую и днём-то ничего нельзя было бы рассмотреть. — Дерсу, — сказал я гольду, — полезай на дерево. Тебе сверху хорошо будет видно. — Нет, — отвечал он, — моя не могу. Моя старый люди: теперь дерево ходи — совсем понимай нету. Старик таза тоже отказался лезть на дерево. Тогда я решил взобраться на кедр сам. Ствол его был ровный, гладкий и с подветренной стороны запорошённый снегом. С большими усилиями я поднялся не более как на три метра. У меня скоро озябли руки, и я должен был спуститься обратно на землю. — Не надо, — сказал Дерсу, поглядывая на небо. — Скоро ночь кончай. Он взял винтовку и выстрелил в воздух. Как раз в это время налетел сильный порыв ветра. Звук выстрела затерялся где-то поблизости. Мы разложили большой огонь и принялись готовить чай. Альпа всё время жалась то ко мне, то к Дерсу и при малейшем шуме вздрагивала и испуганно озиралась по сторонам. Минут 40 мы ещё сидели у огня и делились впечатлениями. Наконец начало светать. Воздух наполнился неясными сумеречными тенями, звезды стали гаснуть, точно они уходили куда-то в глубь неба. Ещё немного времени — и кроваво-красная заря показалась на востоке. Ветер стал быстро стихать, а мороз — усиливаться. Тогда Дерсу и Китенбу пошли к кустам. По следам они установили, что мимо нас прошло девять кабанов и что тигр был большой и старый. Он долго ходил около бивака и тогда только напал на собак, когда костёр совсем угас. Я предложил Дерсу оставить вещи в таборе и пойти по тигриному следу. Я думал, что он откажется, и был удивлён, узнав, что Дерсу согласен отнять у тигра задавленную собаку. Гольд стал говорить о том, что тигру дано в тайге много корма и запрещено нападать на человека. Этот тигр следил кабанов, но по пути увидел людей, напал на наш бивак и украл собаку. — Такой Амба можно стреляй, греха нет, — закончил он свою длинную речь. Закусив наскоро холодным мясом и напившись горячего чая, мы надели лыжи и пошли по тигриному следу. Непогода совсем почти стихла. Вековые ели и кедры утратили свой белый наряд, зато на земле во многих местах намело большие сугробы. По ним скользили солнечные лучи, и от этого в лесу было светло по-праздничному. От нашего бивака тигр шёл обратно старым следом и привёл нас к валежнику. Следы шли прямо под бурелом. — Не торопись, капитан, — сказал мне Дерсу. — Прямо ходи не надо; надо кругом ходи, хорошо посмотри. Мы стали обходить бурелом стороною. — Уехали! — вдруг закричал Дерсу и быстро повернул в направлении нового следа. Тут ясно было видно, что тигр долго сидел на одном месте. Под ним подтаял снег. Собаку он положил перед собой и слушал, нет ли сзади погони. Потом он понёс её дальше. Так мы прошли ещё три часа. Тигр не шёл прямо, а выбирал такие места, где было меньше снегу, где гуще были заросли и больше бурелома. В одном месте он взобрался на поваленное дерево и долго стоял на нём, но вдруг чего-то испугался, прыгнул на землю и несколько метров полз на животе. Время от времени он останавливался и прислушивался; когда мы приближались, то уходил сперва прыжками, а потом шагом и рысью. Наконец Дерсу остановился и стал советоваться со стариком тазой. По его мнению, надо было возвратиться назад, потому что тигр не был ранен, снег недостаточно глубок и преследование являлось бесполезной тратой времени. Мне казалось странным и совершенно непонятным, почему тигр не ест собаку, а тащит её с собой. Как бы в ответ на мои мысли, Дерсу сказал, что это не тигр, а тигрица и что у неё есть тигрята; к ним-то она и несёт собаку. К своему логовищу она нас не поведёт, а будет водить по сопкам до тех пор, пока мы от неё не отстанем. С этими доводами нельзя было не согласиться. Когда было решено возвращаться на бивак, Дерсу повернулся в ту сторону, куда ушёл тигр, и закричал: — Амба! Твоя лицо нету. Ты вор, хуже собаки. Моя тебя не боится. Другой раз тебя посмотри — стреляй. После этого он закурил свою трубку и пошёл назад по протоптанной лыжне. Немного не доходя до бивака, как-то случилось так, что я ушёл вперёд, а таза и Дерсу отстали. Когда я поднялся на перевал,мне показалось, что кто-то с нашего бивака бросился под гору. Через минуту мы подходили к табору. Все наши вещи были разбросаны и изорваны. От моего спального мешка остались одни клочки. Следы на снегу указывали, что такой разгром произвели две росомахи. Их-то, вероятно, я и видел при приближении к биваку. Собрав, что можно было, мы быстро спустились с перевала и пошли назад, к биваку. Идти под гору было легко, потому что старая лыжня хотя и была запорошена снегом, но крепко занастилась. Мы не шли, а просто бежали и к вечеру присоединились к своему отряду.
Глава двадцать третья Конец путешествию

Река Бикин в нижнем течении. — Ночёвка в покинутом жилище. — Грязная вода. — Местность Сигоу. — Новый год. — Приём у китайцев. — Встреча с Мерзляковым. — Олон. — Порочное население. — Табандо. — Река Алчан. — Железнодорожная станция.
Двадцать девятого декабря мы выступили в дальнейший поход вниз по реке Бикин, которая здесь течёт строго на запад. Чем ниже, тем больше река разбивается на протоки. При умении можно ими пользоваться и значительно сокращать дорогу. На островах между протоками, в местностях Хойтун и Митахеза, мы встречаем туземцев, рождённых от брака китайцев с удэхейскими женщинами. Это те же чжагубай[253] (по-китайски «кровосмешение»), что и в прибрежном районе на реках Тадушу, Тетюхе и Санхобе. Они живут в фанзах китайского типа и занимаются рыболовством, охотой и огородничеством. Насколько недавно люди эти занялись земледелием, видно из того, что на возделываемой ими земле сохранились пни, которые они не успели ещё выкорчевать. Река Бикин считается самой лесистой рекой. Лесом покрыто все: горы, долины и острова. Бесконечная тайга тянется во все стороны на сотни километров. Немудрёно, что места эти в бассейне Уссури считаются самыми зверовыми. Около горы Бомыдинза, с правой стороны Бикина, мы нашли одну пустую удэхейскую юрту. Из осмотра её Дерсу выяснил, почему люди покинули жилище, — черт мешал им жить и строил разные козни: кто-то умер, кто-то сломал ногу, приходил тигр и таскал собак. Мы воспользовались этой юртой и весьма удобно расположились в ней на ночлег. Стрелки пошли за дровами, а Дерсу опять принялся дымом изгонять черта из юрты. Я взял ружьё и пошёл вниз по реке на разведку. С утра хмурившаяся погода разразилась крупным мокрым снегом при полном безветрии. Громадные кедры, словно исполинские часовые, стояли теперь неподвижно и не шептались между собой. Вечерние сумерки, хлопья снега, лениво падающего с неба, и угрюмый, молчаливый лес — всё это вместе создавало картину бесконечно тоскливую… Мимо меня бесшумно пролетела сова, испуганный заяц шарахнулся в кусты, и сова тотчас свернула в его сторону. Я посидел немного на вершине и пошёл назад. Через несколько минут я подходил к юрте. Из отверстия её в крыше клубами вырывался дым с искрами, из чего я заключил, что мои спутники устроились и варили ужин. За чаем стали опять говорить о привидениях и злых духах. Захаров все домогался, какой черт у гольдов. Дерсу сказал, что черт не имеет постоянного облика и часто меняет «рубашку», а на вопрос, дерётся ли черт с добрым богом Эндури, гольд пресерьёзно ответил: — Не знаю! Моя никогда это не видел. После чая, когда все легли на свои места, я ещё с час работал, приводил в порядок свой дневник и затем все покончил сном. 30 декабря наш отряд дошёл до местности Тугулу с населением, состоящим из «кровосмешанных» туземцев. Чем ближе мы подвигались к Уссури, тем больше и больше встречалось китайцев и тем больше утрачивался тип удэхейцев. В этих местах Бикин принимает в себя следующие маленькие речки: Амба, Фунзилаза[254], Уголикоколи, Рохоло и Тугулу. Из возвышенностей в этом районе следует отметить с правой стороны гранитные сопки Фунзилаза, Рохоло, Джара-Хонкони, местность Ванзиками, а с левой стороны — Вамбабоза с вершинами Амбань, Уголи и Лансогой со скалой Банга, состоящей из мелафира. Ниже Сыфантая Бикин достигает ширины 200 метров при глубине около 2 метров и скорости течения 4 километра в час. Потому ли, что земля переместилась в плоскости эклиптики по отношению к солнцу, или потому, что мы всё более и более удалялись от моря (вероятно, имело место и то и другое), но только заметно день удлинился и климат сделался ровнее. Сильные ветры остались позади. Барометр медленно поднимался, приближаясь к 760. Утром температура стояла низкая (—30°С), днём немного повышалась, но к вечеру опять падала до—25° С. Сегодня случилось маленькое событие, опечалившее Дерсу и очень меня насмешившее. В моей сумочке было много всякой мелочи: цветные карандаши, перочинный ножик, резина, игольник с нитками, шило, часы, секундомер и пр. Часть этих предметов, в том числе и роговую чернильницу с завинчивающейся пробкой, наполненную чернилами, я дал нести Дерсу. После полудня он вдруг подбежал ко мне и тревожным голосом сообщил, что потерял… — Что? — спросил я его. Он мялся и не знал, что ответить. Я видел, что он находился в затруднительном положении и мысленно перебирал в памяти все известные русские слова. — Что ты потерял? — переспросил я его вторично. — Грязную воду, — ответил он сконфуженно. В лексиконе его не было слова «чернила», и он не знал, как назвать жидкость, которая все так пачкает. Мои спутники рассмеялись, а он обиделся. Он понял, что мы смеёмся над его оплошностью, и стал говорить о том, что «грязную воду» он очень берег. Одни слова, говорил он, выходят из уст человека и распространяются вблизи по воздуху. Другие закупорены в бутылку. Они садятся на бумагу и уходят далеко. Первые пропадают скоро, вторые могут жить сто годов и больше. Эту чудесную «грязную воду» он, Дерсу, не должен был носить вовсе, потому что не знал, как с нею надо обращаться. Последний день 1907 года мы посвятили переходу к местности Сигоу (Западная долина), самому населённому пункту на Бикине. Здесь живут исключительно китайцы. В 1882 году селение это называлось Сиа-моу-диуза[255], в 1894 году в нём насчитывалось 70 человек. Немного выше Сигоу (километра на два) есть ещё два посёлка — Цамодынза[256] и Дафазигоу (последний ныне заброшен). Обитатели Сигоу занимаются поиском женьшеня, охотой, соболеванием, выгонкой спирта и эксплуатацией удэхейцев. С большим трудом они очищают от леса участки земли и засевают их пшеницей и кукурузой. Горный хребет с правой стороны реки называется Олонцынза и имеет две видные вершины: Дангоза и Цамодынза. Отроги последних оканчиваются около реки скалистыми обрывами Чжагали, Хонкони и Дайгу[257]. Рядом с Бикином и почти параллельно ему течёт большая река Алчан. На перевале между этими двумя реками, на горе Нюосыдыцзы, есть естественный водоём овальной формы, около 150 метров в окружности. То обстоятельство, что навстречу нам выезжал пристав, подняло мой престиж в глазах китайцев. Вероятно, поэтому они устроили нам торжественную встречу с флагами, трещотками, ракетами и бумажными фонарями. С большой помпой мы вступили в селение Сигоу. Китайцы зарезали свинью и убедительно просили меня провести у них завтрашний день. Наши продовольственные запасы истощились совсем, а перспектива встретить Новый год в более культурной обстановке, чем обыкновенный бивак, улыбалась моим стрелкам. Я согласился принять приглашение китайцев, но взял со своих спутников обещание, что пить много вина они не будут. Мои спутники сдержали данное слово, и я ни одного из них не видел в нетрезвом состоянии. Следующий день был солнечный и морозный. Утром я построил свою команду, провозгласил тост за всех, кто содействовал снаряжению нашей экспедиции. В заключение я сказал людям приветственное слово и благодарил их за примерную службу. Крики «ура» разнеслись по лесу. Из соседних фанз выбежали китайцы и, узнав, в чём дело, опять пустили в ход трещотки. Только мы разошлись по фанзам и принялись за обед, как вдруг снаружи донёсся звон колокольчика. Китайцы прибежали с известием, что приехал пристав. Через несколько минут кто-то в шубе ввалился в фанзу. И вдруг пристав этот превратился в А. И. Мерзлякова. Мы поздоровались. Начались расспросы. Оказалось, что он (а вовсе не пристав) хотел было идти мне навстречу, но отложил свою поездку вследствие глубокого снега. Мой путь приближался к концу. Из Сигоу мы поехали на лошадях, пришедших вместе с А. И. Мерзляковым. Всего саней было трое. От Сигоу до станции Бикин на протяжении 160 километров идёт хорошая санная дорога, проложенная лесорубами. Это расстояние мы проехали в трое суток. Сказать, какой ширины здесь река, нельзя, равно не поддаётся исчислению и скорость течения воды по руслу. В разных протоках течение различное. По Бикину (в нижнем течении) сплавляется много леса, поэтому русло его ежегодно очищают от бурелома, но, несмотря на это, плавание плотов не всегда бывает благополучным. Много их разбивается около утёсов Чжагали, Хонкони и Дайгу. Высокий горный хребет, протянувшийся с правой стороны Бикина, называется Олонцынза. Он выдвигает на юг мощный отрог, оканчивающийся сопкой Олонгу-Уони. Бикин обходит её с юга и затем вновь поворачивает на запад. В этом горном кряже есть несколько приметных вершин со следующими названиями: Богоулаза[258], Чжунтайза и Госхондза[259], обрывающаяся к реке утёсами Синдафу и Гсанза. Около Чжунтайзы есть выходы бурого угля на дневную поверхность. Километрах в 15 от Сигоу, вниз по Бикину, встречается местность, свободная от леса и с землёй, годной для обработки. Тут жили окитаившиеся гольды. Здешние китайцы в большинстве случаев разные бродяги, проведшие жизнь в грабежах и разбоях. Любители лёгкой наживы, они предавались курению опиума и азартным играм, во время которых дело часто доходило до кровопролития. Весь беспокойный, порочный элемент китайского населения Уссурийского края избрал низовья Бикина своим постоянным местопребыванием. Здесь по островам, в лабиринте потоков, в юртах из корья, построенных по туземному образцу, они находили условия, весьма удобные для своего существования. Местное туземное население должно было подчиниться и доставлять им продовольствие. Мало того, китайцы потребовали, чтобы мясо и рыбу приносили к ним женщины. Запуганные тазы все это исполняли. Невольно поражаешься тому, как русские власти мирились с таким положением вещей и не принимали никаких мер к облегчению участи закабалённых туземцев. От Сигоу вниз по Бикину часто встречались зимовья, построенные русскими лесопромышленниками. Зимовье от зимовья находилось на расстоянии 25 километров. За день мы проехали километров 50 и заночевали около устья Гооголауза. 3 января мы выехали задолго до восхода солнца. Возчики-казаки поторапливали нас, да и всем нам одинаково хотелось поскорее добраться до железной дороги. Когда ещё далеко, то обыкновенно идёшь не торопясь, но чем ближе к концу, тем больше волнуешься, начинаешь торопиться, делать промахи и часто попадаешь впросак. В таких случаях надо взять себя в руки и терпеливо подвигаться, не ускоряя шага. От Олона до Табандо около 40 километров. Здесь река прижимается к правому краю долины, а слева тянется огромное болото. Горы отходят далеко в сторону и теряются в туманной дали на юго-западе. Река Алчан будет правым, самым большим и последним притоком Бикина. Верховья её находятся в горах Оло (по-китайски Олонцзинза[260].) Длина реки около 100 километров и в истоках слагается из двух рек: Санго (что по-удэхейски значит «медведь») и самого Алчана, который в верхней части имеет широтное направление. Дальше направление течения Алчана определяет невысокий, расплывшийся в ширину горный кряж, идущий в направлении с северо-северо-востока на юго-юго-запад. Оконечность его подходит к Бикину и называется Даютай[261]. Место это называется Банадо, что значит «переволок». Обыкновенно здесь перетаскивают лодки из одной реки в другую, что значительно сокращает дорогу и даёт выигрыш во времени. У казаков про Табандо ходят нехорошие слухи. Это постоянный притон хунхузов. Они поджидают тут китайцев, направляющихся на Уссури, и обирают их дочиста. Хунхузы не дают спуска и русским, если судьба случайно занесёт их сюда без охраны. Широкая долина Алчана с правой стороны нагорная, с левой — пологая. Около переволока она суживается до одного километра. Это будет как раз место его прежнего впадения в Бикин. Отсюда Алчан течёт уже большой рекой, шириной 60—80 и глубиной 2—2,5 метра. По долине в среднем его течении наблюдается развитие диоритов, малафитов, базальтов, андезитов и их туфов. Обогнув гору Даютай, Алчан, как уже выше было сказано, входит в старое русло Бикина и по пути принимает в себя с правой стороны ещё три обильных водой притока: Ольду (по-китайски Култухе), Таудахе[262] и Малую Лултухе. Алчан впадает в Бикин в 10 километрах к югу от станции железной дороги того же имени. Долина его издавна славится как хорошее охотничье угодье и как место женьшеневого промысла. Из животных здесь держатся изюбр, дикая козуля, кабарга, кабан, тигр, росомаха, енотовидная собака, соболь и рысь. Последняя чаще всего встречается по реке Култухе. С 1904 года по Алчану стали производиться большие порубки и сплав леса. Это в значительной степени разогнало зверей, но всё же и теперь ещё казаки по старой памяти ходят на Алчан и никогда не возвращаются с пустыми руками. В селение Табандо мы приехали в сумерки. Здесь было 8 фанз, в которых жило до 70 китайцев. 4 января было последним днём нашего путешествия. Казаки разбудили меня очень рано. Было темно, но звезды на небе уже говорили, что солнце приближается к горизонту. Морозило… Термометр показывал —34° С. Гривы, спины и морды лошадей заиндевели. Когда мы тронулись в дорогу, только что начинало светать. На переволоке было так мало снегу, что пришлось вылезти из саней и переносить на себе грузы. Дно низового Бикина илистое и песчаное. Около берегов часто попадаются сухие речки и между ними маленькие озерки, а дальше в сторону — болота, поросшие редкой лиственницей и тощей белой берёзой. Вскоре после полудня мы прибыли в казачий посёлок Георгиевский, немного здесь отдохнули и отправились на станцию Уссурийской железной дороги. Красота жизни заключается в резких контрастах. Как было бы приятно из удэхейской юрты сразу попасть в богатый городской дом! К сожалению, переход этот бывает всегда постепенным: сначала юрта, потом китайская фанза, за ней крестьянская изба, затем уже город. После долгого питья из кружки дешёвого кирпичного чая с привкусом дыма с каким удовольствием я пил хороший чай из стакана! С каким удовольствием я сходил в парикмахерскую, вымылся в бане и затем лёг в чистую постель с мягкой подушкой!…
Глава двадцать четвёртая Смерть Дерсу

Приехали мы в Хабаровск 7 января вечером. Стрелки пошли в свои роты, а я вместе с Дерсу отправился к себе на квартиру, где собрались близкие мне друзья. На Дерсу все поглядывали изумлённо и с любопытством. Он тоже чувствовал себя не в своей тарелке и долго не мог освоиться с новыми условиями жизни. Я отвёл ему маленькую комнату, в которой поставил кровать, деревянный стол и два табурета. Последние ему, видимо, совсем были не нужны, так как он предпочитал сидеть на полу или чаще на кровати, поджав под себя ноги по-турецки. В этом виде он напоминал бурхана из буддийской кумирни. Ложась спать, он по старой привычке поверх сенного тюфяка и ватного одеяла каждый раз подстилал под себя козью шкурку. Любимым местом Дерсу был уголок около печки. Он садился на дрова и подолгу смотрел на огонь. В комнате для него всё было чуждо, и только горящие дрова напоминали тайгу. Когда дрова горели плохо, он сердился на печь и говорил: — Плохой люди, его совсем не хочу гори. Иногда я подсаживался к нему, и мы вспоминали все пережитое во время путешествий. Эти беседы обоим нам доставляли большое удовольствие. Однажды мне пришла мысль записать речь Дерсу фонографом. Он вскоре понял, что от него требовалось, и произнёс в трубку длинную сказку, которая заняла почти весь валик. Затем я переменил мембрану на воспроизводящую и завёл машину снова. Дерсу, услышав свою речь, переданную ему обратно машиной, нисколько не удивился, ни один мускул на лице его не шевельнулся. Он внимательно прослушал конец и затем сказал: — Его, — он указал на фонограф,—говорит верно, ни одного слова пропускай нету. Дерсу оказался неисправимым анимистом: он очеловечил и фонограф. По возвращении из экспедиции всегда бывает много работы: составление денежных и служебных отчётов, вычерчивание маршрутов, разборка коллекций и т. п. Дерсу заметил, что я целые дни сидел за столом и писал. — Моя раньше думай,—сказал он, — капитан так сиди, — он показал, как сидит капитан, — кушает, людей судит, другой работы нету. Теперь моя понимай: капитан сопка ходи — работай, назад город ходи — работай. Совсем гуляй не могу. Такое представление у туземцев о начальствующих лицах вполне естественно. В словах Дерсу мы узнаем китайских чиновников, которые главным образом несут обязанности судей, милуют и наказывают по своему усмотрению. Дерсу, быть может, сам и не видел их, но, вероятно, много слышал от тех гольдов, которые бывали в Сан-Сине. Однажды, войдя к нему в комнату, я застал его одетым. В руках у него было ружьё. — Ты куда? — спросил я. — Стрелять, — отвечал он просто и, заметив в моих глазах удивление, стал говорить о том, что в стволе ружья накопилось много грязи. При выстреле пуля пройдёт по нарезам и очистит их; после этого канал ствола останется только протереть тряпкой. Запрещение стрельбы в городе было для него неприятным открытием. Он повертел ружьё в руках и, вздохнув, поставил его назад в угол. Почему-то это обстоятельство особенно сильно его взволновало. На другой день, проходя мимо комнаты Дерсу, я увидел, что дверь в неё приотворена. Случилось как-то так, что я вошёл тихо. Дерсу стоял у окна и что-то вполголоса говорил сам с собою. Замечено, что люди, которые подолгу живут одиноко в тайге, привыкают вслух выражать свои мысли. — Дерсу! — окликнул я его. Он обернулся. На лице его мелькнула горькая усмешка. — Ты что?. — обратился я к нему с вопросом. — Так,—отвечал он. — Моя здесь сиди все равно утка. Как можно люди в ящике сидеть? — Он указал на потолок и стены комнаты. — Люди надо постоянно сопка ходи, стреляй. Дерсу замолчал, повернулся к окну и опять стал смотреть на улицу. Он тосковал об утраченной свободе. «Ничего, — подумал я. — Обживётся и привыкнет к дому». Случилось как-то раз, что в его комнате нужно было сделать небольшой ремонт: исправить печь и побелить стены. Я сказал ему, чтобы он дня на два перебрался ко мне в кабинет, а затем, когда комната будет готова, он снова в неё вернётся. — Ничего, капитан, — сказал он мне. — Моя можно на улице спи: палатку делай, огонь клади, мешай нету. Ему казалось все так просто, и мне стоило больших трудов отговорить его от этой затеи. Он не был обижен, но был недоволен тем, что в городе много стеснений: нельзя стрелять, потому что всё это будет мешать прохожим. Однажды Дерсу присутствовал при покупке дров; его поразило то, что я заплатил за них деньги. — Как! — закричал он. — В лесу много дров есть, зачем напрасно деньги давай? Он ругал подрядчика, назвав его «плохой люди», и всячески старался убедить меня, что я обманут. Я пытался было объяснить ему, что плачу деньги не столько за дрова, сколько за труд, но напрасно. Дерсу долго не мог успокоиться и в этот вечер не топил печь. На другой день, чтобы не вводить меня в расход, он сам пошёл в лес за дровами. Его задержали и составили протокол. Дерсу по-своему протестовал, шумел. Тогда его препроводили в полицейское управление. Когда мне сообщили об этом по телефону, я постарался уладить дело. Сколько потом я ни объяснял ему, почему нельзя рубить деревьев около города, он меня так и не понял. Случай этот произвёл на него сильное впечатление. Он понял, что в городе надо жить не так, как хочет он сам, а как этого хотят другие. Чужие люди окружали его со всех сторон и стесняли на каждом шагу. Старик начал задумываться, уединяться; он похудел, осунулся и даже как будто ещё более постарел. Следующее маленькое событие окончательно нарушило его душевное равновесие: он увидел, что я заплатил деньги за воду. — Как! — опять закричал он. — За воду тоже надо деньги плати? Посмотри на реку, — он указал на Амур, — воды много есть. Землю, воду, воздух бог даром давал. Как можно? Он недоговорил, закрыл лицо руками и ушёл в свою комнату. Вечером я сидел в кабинете и что-то писал. Вдруг я услышал, что дверь тихонько скрипнула. Я обернулся: на пороге стоял Дерсу. С первого взгляда я увидел, что он хочет меня о чём-то просить. Лицо его выражало смущение и тревогу. Не успел я задать вопрос, как вдруг он опустился на колени и заговорил: — Капитан! Пожалуйста, пусти меня в сопки. Моя совсем не могу в городе жить: дрова купи, воду тоже надо купи, дерево руби — другой люди ругается. Я поднял его и посадил на стул. — Куда же ты пойдёшь? — спросил я. — Туда! — он указал рукой на синеющий вдали хребет Хехцир. Жаль мне было с ним расставаться, но жаль было и задерживать. Пришлось уступить. Я взял с него слово, что через месяц он вернётся обратно, и тогда мы вместе поедем на Уссури. Там я хотел устроить его на житьё у знакомых мне тазов. Я полагал, что Дерсу дня два ещё пробудет у меня, и хотел снабдить его деньгами, продовольствием и одеждой. Но вышло иначе. На другой день, утром, проходя мимо его комнаты, я увидел, что дверь в неё открыта. Я заглянул туда — комната была пуста. Уход Дерсу произвёл на меня тягостное впечатление, словно что-то оборвалось в груди. Закралось какое-то нехорошее предчувствие; я чего-то боялся, что-то говорило мне, что я больше его не увижу. Я был расстроен на весь день; работа валилась у меня из рук. Наконец я бросил перо, оделся и вышел. На дворе была уже весна: снег быстро таял. Из белого он сделался грязным, точно его посыпали сажей. В сугробах в направлении солнечных лучей появились тонкие ледяные перегородки; днём они рушились, а за ночь опять замерзали. По канавам бежала вода. Она весело журчала и словно каждый сухой былинке торопилась сообщить радостную весть о том, что она проснулась и теперь позаботится оживить природу. Возвращавшиеся с полевых работ стрелки говорили, что видели на дороге какого-то человека с котомкой за плечами и с ружьём в руках. Он шёл радостный, весёлый и напевал песню. Судя по описаниям, это был Дерсу. Недели через две после его ухода от своего приятеля И. А. Дзюля я получил телеграмму следующего содержания: «Человек, посланный Вами в тайгу, найден убитым». «Дерсу!» — мелькнуло у меня в голове. Я вспомнил, что для того, чтобы в городе его не задерживала полиция, я выдал ему свою визитную карточку с надписью на оборотной стороне, кто он и что жительство имеет у меня. Вероятно, эту карточку нашли и дали мне знать по телеграфу. На другой день я выехал на станцию Корфовская, расположенную с южной стороны хребта Хехцир. Там я узнал, что рабочие видели Дерсу в лесу на дороге. Он шёл с ружьём в руках и разговаривал с вороной, сидевшей на дереве. Из этого они заключили, что, вероятно, он был пьян. На станцию Корфовская поезд пришёл почти в сумерки. Было уже поздно, и поэтому мы с И. А. Дзюлем решили идти к месту происшествия на другой день утром. Всю ночь я не спал. Смертельная тоска щемила мне сердце. Я чувствовал, что потерял близкого человека. Как много мы с ним пережили. Сколько раз он выручал меня в то время, когда сам находился на краю гибели! Чтобы рассеяться, я принимался читать книгу, но это не помогало. Глаза механически перебирали буквы, а в мозгу в это время рисовался образ Дерсу, того Дерсу, который последний раз просил меня, чтобы я отпустил его на волю. Я обвинял себя в том, что привёз его в город. Но кто бы мог подумать, что все это так кончится! Под утро я немного задремал, и тотчас мне приснился странный сон: мы — я и Дерсу — были на каком-то биваке в лесу. Дерсу увязывал свою котомку и собирался куда-то идти, а я уговаривал его остаться со мной. Когда всё было готово, он сказал, что идёт к жене, и вслед за этим быстро направился к лесу. Мне стало страшно; я побежал за ним и запутался в багульнике. Появились пятипальчатые листья женьшеня. Они превратились в руки, схватили меня и повалили на землю. Я слабо вскрикнул и сбросил с головы одеяло. Яркий свет ударил мне в глаза. Передо мной стоял И. А. Дзюль и тряс за плечо. — Здорово же вы заспались! — сказал он. — Пора вставать. Часов в девять утра мы вышли из дому. Был конец марта. Солнышко стояло высоко на небе и посылало на землю яркие лучи. В воздухе чувствовалась ещё свежесть ночных заморозков, в особенности в теневых местах, но уже по талому снегу, по воде в ручьях и по весёлому, праздничному виду деревьев видно было, что ночной холод никого уже запугать не может. Маленькая тропка повела нас в тайгу. Мы шли по ней долго и почти не говорили между собой. Километра через полтора справа от дорожки я увидел костёр и около него три фигуры. В одной из них я узнал полицейского пристава. Двое рабочих копали могилу, а рядом с нею на земле лежало чьё-то тело, покрытое рогожей. По знакомой мне обуви на ногах я узнал покойника. — Дерсу! Дерсу! — невольно вырвалось у меня из груди. Рабочие изумлённо посмотрели на меня. Мне не хотелось при посторонних давать волю своим чувствам; я отошёл в сторону, сел на пень и отдался своей печали. Земля была мёрзлая; рабочие оттаивали её огнём и выбирали то, что можно было захватить лопатой. Минут через пять ко мне подошёл пристав. Он имел такой радостный и весёлый вид, точно приехал на праздник. Потому ли, что на своей жизни ему много приходилось убирать брошенных трупов и он привык относиться к этой работе равнодушно, или потому, что хоронили какого-то безвестного «инородца», только по выражению лица его я понял, что особенно заниматься розысками убийц он не будет и намерен ограничиться одним протоколом. Он рассказал мне, что Дерсу нашли мёртвым около костра. Судя по обстановке, его, видимо, убили сонного. Грабители искали у него деньги и унесли винтовку. Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дерсу и сняли с него рогожку. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойного. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо; выражение их было такое, как будто Дерсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землёю. — Прощай, Дерсу! — сказал я тихо. — В лесу ты родился, в лесу и покончил счёты с жизнью. Минут через двадцать над тем местом, где опустили тело гольда, возвышался небольшой бугорок земли. Кончив своё дело, рабочие закурили трубки и, разобрав инструменты, пошли на станцию вслед за приставом. Я сел на землю около дороги и долго думал об усопшем друге. Как в кинематографе, передо мной одна за другой вставали картины прошлого: первая встреча с Дерсу на реке Лефу, озеро Ханка, встреча с тигром на Ли-Фудзине, лесной пожар на реке Санхобе, наводнение на Билимбе, переправа на плоту через реку Такему, маршрут по Иману, голодовка на Кулумбе, путь по Бикину и т. д. В это время прилетел поползень. Он сел на куст около могилы, доверчиво посмотрел на меня и защебетал. «Смирный люди», — вспомнилось мне, как Дерсу называл этих пернатых обитателей тайги. Вдруг птичка вспорхнула и полетела в кусты. И снова тоска защемила мне сердце. — Прощай, Дерсу! — сказал я в последний раз и пошёл по дороге.
Летом 1908 года я отправился в третье путешествие, которое длилось два года. В 1910 году, зимой, я вернулся в Хабаровск и тотчас поехал на станцию Корфовская, чтобы навестить дорогую могилку. Я не узнал места — всё изменилось: около станции возник целый посёлок, в пригорьях Хехцира отрыли ломки гранита, начались порубки леса, заготовка шпал. Мы с А. И. Дзюлем несколько раз принимались искать могилу Дерсу, но напрасно. Приметные кедры исчезли, появились новые дороги, насыпи, выемки, бугры, рытвины и ямы… Прощай, Дерсу!
Путешественник, учёный, писатель
Древняя мудрость гласит: познающий природу познает истину, возвышающую душу. Именно таким познанием была вся жизнь Владимира Клавдиевича Арсеньева, выдающегося путешественника, видного учёного и талантливого писателя. Тридцать лет непрерывной экспедиционной работы, научных поисков и литературных занятий — вот что отметило сравнительно короткую жизнь Арсеньева, стало выражением его человеческого предназначения и сделало незабвенным в людской памяти. Он и умер работая: вернувшись в конце августа 1930 года с низовьев Амура во Владивосток, Арсеньев написал в Дальневосточный университет письмо, где изложил планы своей работы на ближайшие два года, но смерть от крупозного воспаления лёгких, последовавшая 4 сентября, прервала все замыслы. Трудно оценить масштабность географических исследований Арсеньева, потому что, даже представив себе протяжённость его маршрутов и площадь обследованных им территорий, мы всё равно окажемся в роли людей, оценка которых будет чисто умозрительной. Лишь тот, кто сам ходил по девственным тропам Уссурийского края и кручам Сихотэ-Алиня, занимающего три четверти нашего Приморья, может понять, каких трудов стоило их изучение 80 лет назад, когда Арсеньев начинал свою деятельность. А ведь он не только изучил — описал и картировал —бассейн реки Уссури, но и проводил изыскательские работы на Камчатке и Командорских островах, на побережье Пенжинской губы в Охотском море и на трассе Хабаровск — Советская Гавань, а также на севере Хабаровского края. Нам неизвестно, подсчитывалась ли протяжённость арсеньевских маршрутов, но если учесть, что в 1907 году было пройдено около 1500 километров, то сколько же их уложилось в восьми экспедициях?! Но каким же образом человек, родившийся на западном конце тогдашней Российской империи, в Петербурге, оказался на её восточной окраине, ставшей для него второй родиной? Можно сказать, что решающую роль здесь сыграл отец Арсеньева, Клавдий Фёдорович. Этот человек, незаконнорождённый сын тверского мещанина и крепостной крестьянки, благодаря своим способностям и уму сумел подняться от простого конторщика до начальника Московской окружной железной дороги, что было немалым достижением. Интеллигентный и начитанный, Клавдий Фёдорович и детей, а их было девять, приучал к чтению, причём особенно рекомендовал читать книги о путешествиях. В доме была даже заведена своеобразная игра, когда детям предлагалось проложить тот или иной маршрут по карте. Поэтому не случайно, что сыновья Клавдия Фёдоровича так или иначе связали свою жизнь с землеизучением: старший сын, Анатолий, стал капитаном дальнего плавания, Александр, окончив Московский межевой институт, уехал на Дальний Восток, а Владимир стал первопроходцем этого интересного и ещё мало изученного края. Не меньшее влияние, чем отец, оказал на молодого Арсеньева и его дядя со стороны матери, Иоиль Егорович Кашлачев. «Если отец дал мне географическую канву, то брат матери, И. Е. Кашлачев, страстный любитель природы, указал, как по ней вышивать узоры», — писал впоследствии Арсеньев. Однако одного желания стать путешественником было ещё мало для того, чтобы действительно стать им. Нужны были реальные пути к этому, один из таких путей — военная служба. И Арсеньев поступает в Петербургское юнкерское училище, что в известной степени отразилось на его дальнейшей судьбе. Во-первых, географию в училище преподавал известный путешественник М. Е. Грум-Гржимайло, лекции которого о Восточной Сибири и Дальнем Востоке особенно заинтересовали Арсеньева, а во-вторых, он мог в то время на правах вольнослушателя прослушать курс профессора кафедры географии и этнографии Петербургского университета Э. Ю. Петри; эти знания пригодятся ему позднее. Итак, выбор был сделан — Дальний Восток. Но служба есть служба. После окончания училища Арсеньева направляют в Польшу, и только в 1900 году, двадцативосьмилетним, он наконец-то переводится во Владивосток. Своих намерений заняться географическими исследованиями Арсеньев не скрывает, но на первых порах ему удаётся не много: изучить Русский остров, частично обследовать реку Иман, а также Посьетский участок. Всё это — ближние подступы к Владивостоку, а молодому начальнику конноохотничьей команды нужен другой размах. Положение изменилось после русско-японской войны 1904— 1905 годов. Проигрыш в ней заставил царское правительство основательнее заняться военно-экономическим положением края. Требовались люди, способные в условиях бездорожья и глухомани организовать изучение его ресурсов, наметить линии коммуникаций, собрать и обобщить сведения о народностях, проживающих в бассейнах рек Уссури и Амура. Арсеньев, как никто, подходил для такого назначения, что прозорливо увидел приамурский генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер, давший «зелёную улицу» начинаниям своего офицера. Так было положено начало целому ряду экспедиций, совершавшихся почти без перерыва из года в год и принёсших Арсеньеву заслуженную славу. Все они были довольно продолжительными и необычайно трудными. Вот как писал о них сам Арсеньев одному из своих знакомых: «Четыре раза я погибал с голоду. Один раз съели кожу, другой раз набивали желудок морской капустой, ели ракушки. Последняя голодовка была самой ужасной. Она длилась 21 день. Вы помните мою любимую собаку Альпу — мы её съели в припадке голода и этим спаслись от смерти. Три раза я тонул, дважды подвергался нападению диких зверей (тигр и медведь). Глубокие снега едва не погубили весь отряд… Подряд 76 дней мы шли на лыжах и тащили за собой нарты…» Что же касается результатов хотя бы первых трёх экспедиций (1906—1910), то они поистине поразительны. Так, в экспедиции 1906 года хребет Сихотэ-Алинь был пересечён по четырём направлениям и была составлена подробная карта обследованного района с нанесением рельефа и всех населённых пунктов, а кроме того, велись постоянные метеонаблюдения и описания рельефа, флоры и фауны, собирались коллекции мхов, водорослей и лишайников, шляпных грибов и грибков-паразитов. Большая часть этих коллекций послужила хорошим подспорьем при создании атласов, таких, как «Флора Маньчжурии», изданного Петербургским ботаническим садом, или «Русского микологического гербария», который готовил к выпуску В. Л. Комаров, будущий президент Академии наук СССР. Весь зоологический материал (60 птиц, 50 земноводных, 400 рыб и 500 насекомых) был отправлен в Зоологический музей Академии наук. Экспедиция собрала также 50 образцов различных горных пород. Но и это было не все. В маршрутах Арсеньев занимался археологическими раскопками старинных городищ и укреплений в районе залива Ольги. Найденные там предметы пополнили запасники Русского музея в Петербурге. Целью экспедиции 1907 года было обследование горного района Сихотэ-Алиня между 45—47° с. ш. Работы продолжались семь месяцев и дали материал для написания «Краткого военно-географического и военно-статистического очерка Уссурийского края», опубликованного Арсеньевым в Хабаровске. И наконец, задача экспедиции 1908—1910 годов — всестороннее обследование той части Уссурийского края, которая протянулась с запада на восток от нижнего течения Амура до пролива Невельского. Частью этой экспедиции, продолжавшейся 19 месяцев, было отыскание кратчайшего летнего пути от Хабаровска до Императорской (в наше время Советской) Гавани. Насколько она была трудна, можно судить хотя бы по тому, что к её окончанию в отряде Арсеньева осталось только три человека из шестнадцати, остальные выбыли по болезни и другим причинам. Отчёт об экспедиции был помещён в газете «Приамурье» 10 апреля 1910 года, где имя Арсеньева ставилось в один ряд с именами Н. М. Пржевальского и П. Н. Козлова. Октябрьскую революцию Арсеньев встретил словами: «Революция для всех, в том числе и для меня!» В этой фразе он весь: гражданин и патриот, работающий не за страх, а за совесть, не за вознаграждения и похвалы, а по внутреннему убеждению. Из экспедиций этого периода необходимо отметить Камчатскую в 1918 году, Гижигинскую в 1922-м, а также поездку на Командорские острова в 1923-м и прохождение маршрута Советская Гавань — Хабаровск в 1927-м. Все они были связаны с решением важнейших народнохозяйственных и научных задач, вставших перед молодой Советской республикой. И, как всегда, Арсеньев исполнял роль руководителя с величайшей ответственностью и пониманием. Так, он одним из первых поставил вопрос о запрещении сдавать в аренду американским и японским промышленникам наши тихоокеанские острова; от него исходила инициатива организации первых природных заповедников на Дальнем Востоке для сохранения его уникальной флоры и фауны; он с неистощимой энергией занимался делом восстановления рыбных и звериных промыслов на Командорских островах, экономике которых был причинен огромный ущерб за время иностранной интервенции. Всем этим вопросам Арсеньев отдавался целиком, хотя именно в этот период он пережил тяжелейшее личное потрясение: в ночь с 24 на 25 ноября 1918 года на Украине были убиты бандитами мать и отец Арсеньева, брат Клавдий с женой и две сестры. Лишь большая сила воли и понимание своей необходимости помогли Арсеньеву пережить эту трагедию. Но на протяжении всей своей работы Арсеньев был не только её организатором и одним из непосредственных исполнителей, но и пытливым учёным. В этих заметках просто невозможно рассказать обо всём, что сделал Арсеньев для географии, истории и этнографии Дальнего Востока, однако даже неполный перечень его научных трудов даёт представление о необычайно широких интересах этого человека. Начиная с 1908 года и до конца жизни им написано несколько десятков научных работ, которые сохранили своё значение до нашего времени, таких, как: «Наблюдения над лососёвыми Зауссурийского края», «Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края», «Краткий физико-географический очерк бассейна р. Амура», «Шаманство у сибирских инородцев и их анимистические воззрения на природу», «Тихоокеанский морж», «Этнологические проблемы на востоке Сибири», «Тазы и удэхе» и др. К сожалению, осталась незавершённой основная работа Арсеньева «Страна Удэхе», над которой он работал 27 лет и редактировать которую согласился известный русский советский этнограф Л. Я Штернберг. Более того, после Великой Отечественной войны рукопись «Страны» исчезла и не обнаружена до сих пор. Однако, отмечая современность звучания этнографических трудов Арсеньева, нельзя оставлять в стороне противоречивость и ошибочность некоторых его положений, о чём ему справедливо указывали в своё время и Л. Я. Штернберг, и В. Г. Богораз, и которые критически осмыслены нынешней советской этнографической наукой. Имя Арсеньева навечно закреплено в целом ряде научных названий, свидетельствующих о непосредственном касательстве Владимира Клавдиевича к разнообразным научным вопросам. Например, всем известна так называемая «линия Арсеньева» — биогеографическая граница между маньчжурской и охотской флорой и фауной в Сихотэ-Алине; в честь его назван новый вид бабочки и полуподземный бокоплав неизвестного для Азии рода, не говоря уже о том, что существует ледник Арсеньева на Камчатке, вулкан на Курильских островах, горы в Сихотэ-Алине и на острове Парамушир. В них, в этих названиях — безоговорочное признание научных заслуг выдающегося естествоиспытателя. К этому остаётся лишь добавить, что около 20 отечественных научных обществ избрали Арсеньева своим членом, а Вашингтонское национальное географическое общество приняло его в свои ряды пожизненно. Талантливый человек талантлив во всём, и громадный жизненный материал, накопленный Арсеньевым в его путешествиях, не мог не подвигнуть его к пробе пера. Конечно, для этого у человека должны быть определённые художественные наклонности, и можно утверждать, что они у Арсеньева были (например, он ещё в юные годы хорошо рисовал), но толчок к тому, чтобы рассказать об увиденном и пережитом, дали ему, несомненно, его экзотические маршруты, на которых он встретил много интересных, неординарных людей. Этому содействовала и дальневосточная природа. Её мощь, величие и своеобразие должны были всколыхнуть наблюдательную и впечатлительную душу. Литературоведы много спорили о том, когда началась писательская деятельность Арсеньева. Указывались разные годы, но, думается, нет смысла оспаривать свидетельство самого писателя, сообщавшего в одном из писем Л. Я. Штернбергу, что работу над книгой «По Уссурийскому краю» он начал в 1910 году. Через десять лет она вышла во Владивостоке, а в 1923 году там же появилась и вторая книга Арсеньева — «Дерсу Узала». Первое же знакомство с ними читателей вызвало восторг и восхищение. Искренность тона, невыдуманность сцен и деталей, а также простота изложения сразу выдвинули Арсеньева на видное место среди других советских и зарубежных писателей. М. М. Пришвин, тончайший ценитель природы и человеческих чувств, прочитав обе книги, объединённые в одну под общим названием «В дебрях Уссурийского края», немедленно отправил её в Сорренто А. М. Горькому, снабдив припиской, что она «станет на полки всех наших библиотек и воспитает юношество лучше, чем М. Рид». Пришвину же принадлежит и другое высказывание о литературном мастерстве Арсеньева: «…я не сомневаюсь теперь, что если бы не среда, заманившая меня в искусство слова самого по себе, я мало-помалу создал бы книгу, подобную арсеньевской, где поэт до последней творческой капли крови растворился в изображаемом мире». Но так ли просто далась Арсеньеву та простота стиля, которая восхитила всех? Было ли это свободным дыханием одарённого человека, или и здесь присутствовал кропотливый труд? Оказывается, присутствовал. В рабочем наследии Арсеньева сохранились его собственные выписки из произведений многих русских и заграничных писателей, из которых видно, что Арсеньев учился писательскомумастерству. Выписки эти не датированы, но, судя по всему, сделаны в разное время. Интересен и подбор цитат—большинство из них касается темы природы. На примерах классиков Арсеньев как бы пытается проникнуть в существо природы и понять взаимосвязь её проявлений, поэтому не случайно так чётко определены темы выписок: лунная ночь, огонь, птицы, утро, море и т. д. Были споры и о жанре арсеньевских книг. Может быть, для специалистов это и важно; для нас же важнее другое: книги эти есть то, что называется великим и вечным словом — Литература. Можно писать целые тома и оставаться всего-навсего занимательным беллетристом, интерес к которому скор и преходящ; тема Арсеньева — человек и природа — не имеет границ ни во времени, ни в пространстве. Умрём мы, умрут целые поколения, но истина взойдёт на других нивах и пажитях, ибо её зерно падает с колоса жизни, чтобы прорасти. И в этом смысле Арсеньев созвучен духу учения В. И. Вернадского о неразрывной связи всего сущего не только на Земле, но и в целой Вселенной. И последнее, о чём необходимо сказать. Книги Арсеньева при всей своей документальности отнюдь не документы, строго фиксирующие хронологию и характеры людей, описанных в них. Это произведения художественные, где правда жизни образует такой сплав с художественным вымыслом, какой только и должен отличать истинную литературу. Фотография отражает точечный момент какого-нибудь явления и не может отразить его полностью в развитии. Для этого снимку надо придать движение, сделать его как бы кинолентой, которая дала бы возможность видеть перспективу. Движение и развитие есть главные качества и всякого литературного произведения, и, только следуя за ними, возможно понять и представить себе живыми книжные персонажи. Так, кстати, произошло и с любимым героем Арсеньева гольдом Дерсу Узала. Читая «В дебрях Уссурийского края», мы верим автору и не сомневаемся в том, что его знакомство с Дерсу произошло именно в том году, о событиях которого рассказывается в книге, то есть в 1902-м. В действительности же всё обстояло несколько иначе. Арсеньев познакомился с Дерсу в августе 1906 года, и не на реке Лефу, как о том говорится в книге, а на реке Тадушу. Этот факт отмечен Арсеньевым в его экспедиционном дневнике за 1906 год. Кроме того, из книги же нам известно, что Дерсу одинок — его семья погибла во время эпидемии, тогда как подлинный Дерсу Узала имеет брата Степана, и этому есть доказательство — снимок братьев, сделанный Арсеньевым в сентябре 1906 года. Чем можно объяснить такое «разночтение»? Думается, во-первых, тем, что обе книги «вырастали» из путевых дневников Арсеньева и первоначально были задуманы автором как чисто научные, а точнее, научно-популярные, но позднее, в период творческих поисков, пришло решение сделать книги художественными. Отсюда — и это во-вторых — возникла необходимость некоторого смещения событий, а также отказа от голой документалистики. Вполне вероятно, что, делая Дерсу Узала одиноким, Арсеньев тем самым как бы оставлял своего героя-язычника с глазу на глаз с силами природы, которым тот поклонялся и которые одушевлял. Как бы там ни было, но отступление от правды жизни в пользу правды художественной Арсеньев предпринял не под влиянием момента, а руководствуясь глубоким пониманием законов литературы. И если продолжить мысль, то придётся отметить и другой очевидный факт: ведь и автор дилогии — один из её главных действующих лиц — не есть сам Арсеньев, а обобщённый литературный образ. Только так и происходит то творческое растворение, о котором говорил Пришвин. Книги Арсеньева с годами приобретают все большую воспитательную и нравственную ценность. Вставшая во весь рост проблема гармоничного сосуществования человека и природы заставляет нас все чаще обращаться к ним. Именно это побудило в своё время японского кинорежиссёра А. Куросава обратиться к экранизации «Дерсу Узала»; именно гуманистическая направленность книги обеспечила фильму успех, отмеченный золотым «Оскаром»; именно она принесла книгам Арсеньева мировую известность: ныне их читают более чем на 30 языках.
Алфавитный указатель русских и латинских названий растений и животных, упомянутых в тексте
а) Ботанические названия
Проверены по «Определителю растений Дальневосточного края» акад. В. Л. Комарова и Е. Н. Клобуковой-Алисовой
Акация см. Маакия амурская Актинидия коломикта Actinidia kolomikta Max. Аралия маньчжурская Aralia manshurica Rupr. et Max. Астра татарская Aster tataricus L. Астра трехнервная Aster trinervius Roxb. Астра шероховатая Aster scaber Thunb. Астрагал перепончатый Astragalus membranaceus Fisch.
Багульник болотный Ledum palustre L. Барбарис амурский Berberis amurcnsis Max. Бархат см. Бархатное дерево Бархатное дерево Phsllodendron amurense Rupr. Берёза белая Betula manshurica (Rgl.) Nakai Берёза кустарниковая Betula ovalifolia Rupr. Берёза торфяниковая см. Берёза кустарниковая Берёза чёрная Betula dahurica Pall. Берёза Эрмана Betula Ermani Cham. Бересклет широколистный Euonymus macroptera Rupr. Борец Фишера Aconitum Fischeri Rchnb. Боярышник Максимовича Crataegus Max'moviczii С. Schn, Брусника Vaccinium vitis idaea L. Белокопытник дланевидный Petasites palmata Asa Gray Вероника крупная Veronica grandis Fisch. Вика уссурийская Vicia ussuriensis Oett. Виноградник см. Виноград амурский Виноград амурский Vitis amurensis Rupr. Володушка длиннолучевая Bupleurum longiradiatum Turcz. Вяз см. Ильм белокор
Герань Власова Geranium Wlasovianum Fisch, Гнездовка настоящая Neottia nidus avis Rich. Голубика Vaccinium uliginosum L. Горечавка крупнолистная Gentiana macrophylla Pall. Горец раскидистый Polygonum divaricatum L. Горошек полевой см. Вика уссурийская Гречишник раскидистый см. Горец раскидистый Груша уссурийская Pirus ussuriensis Max.
Дёрен канадский Cornus canadensis L. Диоскорея Жиральди Dioscorea Giraldii R. Kunth. Донтостемон шершавый Dontostemon hispidus Max. Дуб монгольский Quercus mongolica Fisch.
Ель аянская Picea ajanensis Fisch.
Жасмин тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. et Max. Живокость Маака Delphinium Maacklanum Rgl. Жимолость съедобная Lonicera edulis Turcz. Журавельник волосистый см. Герань Власова
Заячье ушко см. Володушка длиннолучевая Звездчатка водяная см. Звездчатка лучистая Звездчатка лучистая Stellaria radians L.
Ива корзиночная Salix viminalis L. Ива пирамидальная см. Ива росистая Ива росистая Salix rorida Laksch. Ильм белокорый Ulmus japonica Sarg. Ильм горный Ulmus montana Wither v. heterophylla Max. Ирис-касатик см. Касатик гладкий
Калина даурская см. Калина Саржента Калина Саржента Viburnum Sargenti Koehne Касатик гладкий Iris laevigata Fisch. Кедр корейский Pinus koraiensis S. et Z. Кислица заячья см. Кислица обыкновенная Кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. Клён жёлтый Aser ukurunduense Tr. et Mey. Клён кустарниковый см. Клён приречный Клён мелколистный Acer mono Max. Клён приречный Acer ginnala Max. Клинтония удская Clintonia udensis Tr. et Mey. Княжник охотский Atragene ochotensis Pall. Козелец белостебельный Scorzonera albicaulis Bge. Кровохлёбка аптечная Sanguisorba officinalis L. Колокольчик см. Платикодон крупноцветный Крыжовник буреинский Ribes burejense Fr. Schmidt Крыжовник колючий см. Крыжовник буреинский Крыжовник оригинальный см. Смородина ощетиненная Курильский чай Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
Лапчатка см. Курильский чай Леспедеца двухцветная Lespedeza bicolor Turcz. Лещина колючая см. Лещина маньчжурская Лещина разнолистная Corylus heterophylia Fisch. Лещина маньчжурская Corylus manshurica Max. Липа Такета Tilia Taqetii C. Schn. Лиственница даурская Larix dahurica Turcz. Лимонник китайский Schizandra chinensis Baill. Ломонос маньчжурский Clematis manshurica Rupr. Любка зеленоцветная Platanthera chlorantha Custor. Любка ятрышниковая см. Любка зеленоцветная
Маакия амурская Maackia amurensis Rupr. et Max. Майник камчатский Majanthemum kamtschaticum (Gmel.) Kom. Можжевельник даурский Juniperus dahurica Pall. Морошка Rubus chamaemorus L.
Ольха кустарниковая Alnus fruticosa Rupr. v. manshurica Call. Ольха пушистая Alnus hirsuta Turcz. Орляк Pteridium aquilinum Kuhn. Орех маньчжурский Juglans manshurica Max. Орешник см. Лещина Осина Populus tremula L. v. Davidiana Осока лесная (волосистая) Schn. Осокорь Carex pilosa Scop. см. Тополь
Папоротник кочедыжник женский Athyrium filix femina (L.) Roth. Папоротник игольчатый Athyrium spinulosum (Max.) Milde Папоротник широкий Dryopteris dilatata A. Gray Пихта белокорая Abies nephrolepis Max. Платикодон крупноцветный Platycodon grandiflorus A. DC. Подбел см. Белокопытник Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. Полынь каменная см. Полынь Кёйске Полынь Кейске Artemisia Keiskeana Miq. Плаун кольчатый Lycopodium annotinum L. Пробковое дерево см. Бархатное дерево Пушица широколистная Eriophorum latifolium Hoppe
Рододендрон даурский Rhododendron dahuricum L. Роза даурская Rosa dahurica Pall. Роза иглистая Rosa acicularis Lindl. Рябина двухцветная Sorbus discolor Max. Рябина кустарниковая см. Рябина бузинолистная Рябина бузинолистная Sorbus sambucifolia Tr. Рябина обыкновенная см. Рябина двухцветная Рябинолистник обыкновенный Sorbaria sorbifolia A. Br.
Сабельник болотный Comarum palustre L. Сирень амурская Syringa amurensis Rupr. Смолёвка листовая Silene foliosa Max. Смородина ощетиненная Ribes hcrridum Rupr. Соссюрея Максимовича Saussurea Maximowiczii Herder Стланец кедровый Pinus pumila Rgl. Схизопепон Schizopepon bryoniifolius Max.
Таволга иволистная Spiraea salicifolia L. Таволожник см. Рябинолистник обыкновенный Таволожка иволистная см. Таволга иволистная Тимьян боровой Thymus serpyllum L. Тис Taxus cuspidata S. et Z. Тополь душистый Populus suaveolens Fisch. Тростник обыкновенный Phragmites communis Trin.
Хохлатка охотская Corydalis ochotensis Turcz. Хмель охотский см. Княжник охотский
Чемерица зелёная Veratrum Lobelianum Bernh. Черёмуха Маака padus Maackii Rupr. Чина болотная Lathyrus palustris L. v. pilosus Ldb. Чёртово дерево см. Аралия маньчжурская
Шиповник даурский см. Роза даурская Шиповник красноветвистый см. Роза иглистая Шикша Empetrum nigrum L.
Ясень китайский см. Ясень носолистный Ясень маньчжурский Fraxinus manshurica Rupr. Ясень обыкновенный см. Ясень маньчжурский Ясень носолистный Fraxinus rhynchophylla Hance
б) Зоологические названия
Бурундук Eutami. ir sibincus orientalis Bonh. Бычок-подкаменщик Coitus poecilupus Heckel Белка Sciurus villains iiiaiitcliiiricus Thos. Береговичок Littorina littureaВорона большеклювая Corvus levaillanli iiiniulsliiinciis But. Волк красный Cyon alpinus I'all. Выдра Lutra lutra L.
Глухарь Tetrao urogalioides Midd. Гольян Phoxinus lagowskii Dyb. Горбуша Oncorhynchus gorbuschn W. Гриф Aegipius monachus L.
Дикуша Falcipennis falcipcmiis (llartl.) Дрозд каменный Monticola solitarius magnus l. а Toiiche Дрозд краснобрюхий Turdus naumanni Топни.? Дятел пёстрый уссурийский Dryobates japonicus tsdierskii (But.) Дятел седоголовый Picus canus jessocnsis Sk'jn. Дятел зелёный Picus viridis viridis L. weIIHa Dryocopus martins martins (L.)
Изюбр Cervus elaphus xanthopigus M. E.
Кабан Sus scrofa continentalis Nehr. Кабарга Moschus moschiferus parvipes Holl. Касатка-мухоловка Muscicapa sibirica Gmelin Камнешарка Arenaria interpres L. Каменушка Clangula histrionica pacifica (Brooks) Кета Oncorhynchus keta Walb. Кит-полосатик Balaenoptera sp.? Клёст Loxia sp.? Коза дикая Capreolus capreolus bedfordi Thos. Колюшка Pygosteus sinensis Guich. Королёк японский Regulus regulus japonensis Blak. Кошка дикая Felis euptilura Elliot Краб Hemigrapsus penicillatus (de Haan) Краснопёрка Leuciscus brandti (Dyb.) Крохаль белый Mergus sp.? Кулик-песочник Erolia sp.? Кулик-сорока Haematopus ostralegus osculans Sw. Кунжа Salvelinus leucomaenis (Pall.) Куница (харза) Martes flavigula Bodd.
Ленок Brachymystax lenok (Pall.) Летяга Pteromys volans arsenjevi Og. Лисица Vulpes vulpes L. Лось Alces alces bedfordi Lyd.
Мальма Salvelinus alpinus malma (Walb.) Махаон Papilio maacki Men. Медведь белогрудый Ursus tibetanus ussuricus Heude Медведь-бурый Ursus arctos L.
Налим Lota lota (L.) Нерпа Phosa hispida Schr.? Овсянка белоголовая Emberiza sp.?
Огуречник Osmerus eperlanus dentex Stn. Олень пятнистый Cervus nippon hortulorum Swinhoe Ореховка Nucifraga caryocatactes macro rhynchos Brehm
Пантера Felis pardus orientalis Schleg. Поползень Sitta europaea amurensis Sw. Протомоллюск Cryptochiton stelleri?
Ронжа Cractes infaustus maritiraus But. Росомаха Gulo gulo L. Рысь Felis lynx L. Рябчик Tetrastes bonasia ussuriensis But.
Саджа Syrrhaptes paradoxus (Pall.) Сазан Cyprinus carpio Сизоворонка Eurystomus orientalis calonyx Sharpe Сокол-сапсан Falco peregrinus brevirostris Menz. Сорокопут Lanius sp.? Соболь Martes zibellina arsenjevi В. Кигп. Синица белобрюхая Parus sp.? Сивуч Eumetopias jubatus Schr. Скворец серый Spodiorsar cineraceus Temm. Com Parasilurus asotus (L.) Сорока Pica pica jankowskii Steg. Сойка рыжая Garrulus glandarius brandtii Ev. Снегирь Pyrrhula pyrrhula griseiventris Laf. Стриж иглохвостый Hirundapus caudacutus (Lath.) Сеноставец-пищуха Ochotona hyperborea Pall.
Таймень морской Salvelinus perryi Brev. Тигр Felis tigris longipillis Fitz. Толпыга Hypophthalmichthys molitrix (Val.)
Улит Tringa sp.? Утка серая Anas platyrhyncha L.?
Фазан Phasianus mongolicus Pall.
Хариус Thymallus arcticus grubel Dyb Хорёк Mustela sibirica Pall.
Чайка белая Pagophila eburnea (Phipps)? Чайка сизая Larus canus major Midd? Чечётка Acanthis flammea L. Чирок-клоктун Querquedula formosa (Georg.)
Щука Esox reicherti Dyb.
Ястреб Accipiter virgatus gularis (Temm et Schleg.).
В горах Сихотэ-Алиня

От автора
В 1908 году Приамурский отдел Русского Географического общества снарядил экспедицию для обследования части Дальнего Востока, заключенной в границах: нижний Амур — на западе, пролив Невельского (Татарский) — на востоке, реки Хор и Самарга — на юге. Цель экспедиции — естественно-историческая, продолжительность — 19 месяцев (с 24 июня 1908 года по 20 января 1910 года). В состав экспедиционного отряда вошли следующие лица: начальник экспедиции, автор настоящей книги, В. К. Арсеньев, и его сотрудники: помощник по хозяйственной и организационной части Т. А. Николаев, известный флорист Н. А. Десулави, естественник-геолог С. Ф. Гусев и большой знаток охотничьего дела, сотрудник журнала «Наша охота» И. А. Дзюль. Кроме того, в экспедицию были назначены семь человек стрелков — от 23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка: Петр Вихров, Станислав Глегола, Михаил Марунич и Иван Туртыгин, от 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка: Михаил Курашев, Илья Рожков и Павел Ноздрин и от Уссурийского казачьего дивизиона казаки: Григорий Димов и Иван Крылов. В начале июня Т. А. Николаев получил задание отправиться морем в Императорскую (ныне Советскую) гавань и устроить три питательные базы: 1) при устье реки Самарги, 2) при реке Ботчи и 3) в бухте Андреева. По прибытии в Императорскую гавань ему надлежало повидать орочских старшин и узнать, в бассейн какой реки выйдет экспедиция после перевала через Сихотэ-Алинь, и тогда по этой реке с запасами продовольствия итти ей навстречу. С Т. А. Николаевым отправились все стрелки, а с автором пошли: Н. А. Десулави, С. Ф. Гусев, И. А. Дзюль, Чжан-Бао и оба казака, Иван Крылов и Григорий Димов. Все участники экспедиции были одеты однообразно. Летняя одежда состояла из рубах защитного цвета, таких же штанов, поясного ремня, фуражки и трех смен белья. Для защиты от паразитов была заготовлена одна пара дегтярного белья, которая надевалась по очереди, когда это было нужно. Обувь была сшита в Хабаровске по форме орочских унтов. Автор рассчитывал также приобрести их у местного туземного населения. Кроме того, все имели для защиты от комаров: сетки на головы, нарукавники и нитяные перчатки. Зимняя одежда состояла из меховых шапок с наушниками, полушубков, теплого белья, суконных шаровар, шерстяных перчаток и той же туземной обуви, но только большего размера. Для ног каждый участник экспедиции имел по паре суконных обмоток. Они хорошо защищают голени от ушибов и гораздо удобнее кожаных голенищ. Летние палатки, как и во время путешествия 1906–1907 годов, отсутствовали. Взамен их были взяты комарники. Зимой путешественники были лучше обставлены. Прежде всего, имелся большой суконный шатер, в котором свободно могло разместиться до двадцати человек. Он имел вид шестиугольной призмы, покрытой шестиугольной же пирамидой, и держался на одном колу, поставленном посредине. К углам его были прочно пришиты кольца с длинными веревками, при помощи которых шатер и растягивался во все стороны. Свет во внутренность его проникал через два небольших окна с толстыми стеклами. Обстановка зимней палатки состояла из коллекционных ящиков, складного столика со свертывающейся доской и обрезков древесных стволов, заменяющих Стулья. Чугунная печка с вращающимся флюгером на трубе давала тепла больше, чем нужно. На ней варили чай и кипятили воду для стирки белья. Обед и ужин варились снаружи. Пол в шатре прикрывался еловыми ветками и сухой травой. Все спали вместе, плотно прижавшись друг к другу и прикрывшись сверху шерстяными одеялами и полушубками. Начальник экспедиции и его спутники были вооружены винтовками системы Маузера и Винчестера и дробовыми ружьями Зауэра и Ремингтона с достаточным запасом пороха и дроби. Стрелки имели трехлинейные винтовки без штыков, патронташи и по триста патронов на человека. Бивуачное снаряжение состояло из поперечной пилы, двух лопат, нескольких топоров, котелков с дужками разной величины, входящих друг в друга, сковороды, поварешки, эмалированных чашек для еды, кружек и пр. Необходимой принадлежностью всякой продолжительной экспедиции является комплект плотничных и слесарных инструментов. Не забыта была также походная аптечка с достаточным запасом перевязочного материала. Особое внимание было уделено научному снаряжению экспедиции. Всем успехом своего предприятия автор обязан самоотверженной и бескорыстной службе своих младших сотрудников. Несмотря на то, что их сверстники были уволены в запас армии, несмотря на полную возможность уехать из Императорской гавани во Владивосток на пароходе, они, понимая, что уход даже одного человека из отряда был бы очень чувствителен, добровольно остались до конца экспедиции. Едва ли когда стрелкам и казакам приходилось переносить большие лишения, чем вынесли эти скромные труженики. Несмотря на постоянное переутомление и физические страдания от холода и голода, которых невозможно передать словами, они мужественно боролись с природой и не жаловались на свою судьбу. Многие из них погибли во время империалистической войны. Какая судьба постигла остальных — не знаю. Рассматривая карту Дальневосточного края, мы замечаем, что некоторые пути обследования его были особенно излюблены. Одни ученые за другими идут по проторенным дорожкам. Большинство совпадающих маршрутов мы видим: 1) в районе реки Суйфуна и около города Никольска-Уссурийского,[263] 2) по восточному берегу озера Ханка, по реке Сунгаче и по реке Уссури, 3) по рекам Даубихе, Улахе, Фудзину и далее через Сихотэ-Алинь к морю, 4) по нижнему течению рек Бикина, Имана и Баку. Меньше всего исследований производилось в прибрежном районе к северу от залива Ольги и в центральной части горной области Сихотэ-Алиня. Самым первым исследователем Нижнего Амура является казачий старшина Василий Поярков, который в 1643 году со 132 казаками, будучи послан якутским воеводой Петром Головиным, прошел в Амурский край таким путем, который после него никто не повторил. Поярков поднялся из Якутска по рекам Алдану, Учуру и Гонаму и, перевалив через Становой хребет, спустился по рекам Брянте и Зее к Амуру, а по нему проплыл до устья и вышел в Охотское море. В 1646 году Поярков благополучно вернулся в Якутск после четырехлетнего путешествия, сопряженного с большими лишениями, потеряв половину своего отряда, частью в битвах с даурами, частью от голода и болезней.[264] Следом за ним в 1647 году казак Семен Щелковников спустился по реке Амуру и, войдя в лиман, направился на север к устью реки Охоты. Приблизительно через полтораста лет после Пояркова на Амуре появляются два японских путешественника: Могами Токнай в 1785 году и Мамия Ринзо в 1808 году. Ссыльный Васильев трижды плавал до устья реки Амура (1815–1826 гг.), но всякий раз маньчжуры задерживали его на возвратном пути и выдавали нашему правительству. При допросе он дал подробные сведения о климате, природе и богатстве недр края, проверенные потом Ладыженским в 1832 году. В 1845 году французский миссионер де ла Брюньер по поручению китайского императора Кханси предпринял путешествие на реку Амур. 16 июля он отправился из города Сансина на восток по узкой тропе и, пройдя 120 миль, 19 сентября достиг реки Амура, где и зазимовал в гольдской деревне Фурме.[265] 5 апреля 1846 года он поплыл к устью реки Амура и близ деревни Гутонг был зверски убит туземцами. Они вырвали у него глаза, выбили зубы и оставили тело на берегу, где оно лежало до тех пор, пока волны Амура не унесли его в море.[266] Другой миссионер Рено, посланный викарием Маньчжурии Веролем для расследования участи де ла Брюньера, в 1850 году спустился по реке Амуру почти до деревни Ху-Дунь, расположенной около озера Кизи. Экспедиция. Рено не дала никаких результатов, кроме печального повествования о гибели де ла Брюньера, 1849 год является знаменательным на Дальнем Востоке. Г. И. Невельской при обследовании Амурского лимана установил, что Сахалин есть остров, а не полуостров, как думали раньше. Г. И. Невельской, узнав, что владычество сынов Поднебесной империи не распространяется так далеко на восток, превысил данную ему инструкцию, вошел в реку Амур, основал Николаевский пост, обращенный впоследствии в город Николаевск, и проплыл по реке около ста километров до озера Кизи. 1 августа 1850 года он поднял русский флаг и салютовал ему из орудия.[267] Лейтенант И. Бошняк в 1852 году тоже достиг озера Кизи и оттуда сухопутьем прошел в залив Де-Кастри. Ему принадлежит честь открытия залива Хади, который он окрестил Императорской гаванью.[268] С открытием навигации в 1854 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев с отрядом забайкальских казаков и частей 13-го и 14-го линейных батальонов спустился на баржах и плотах по реке Амуру от Усть-Стрелочного караула до поста Мариинского, основанного им у входа в озеро Кизи.[269] В августе того же года от устья реки Амура к Усть-Стрелочному караулу на пароходе «Надежда» пришел, адмирал Путятин и с ним Посьет, впоследствии министр путей сообщения. Последний был в кругосветном плавании на фрегате «Диана», после крушения которого доставил экипаж в город Петропавловск-на-Камчатке, а оттуда проездом через Амур отправился в Иркутск и далее в Петербург.[270] Следующим исследователем в хронологическом порядке будет академик Л. Шренк, совершивший в 1854–1856 годах путешествие по Амуру до его устья и по Уссури до реки Нор. Его этнографические исследования касаются главным образом гольдов, ольчей и гиляков.[271] Весной 1856 года путь по Амуру от Усть-Стрелочного караула до поста Николаевского совершил чиновник Департамента уделов Г. Пермыкин.[272] В 1856 году 13-й линейный батальон на лодках был отправлен из поста Мариинского обратно в Забайкальскую область. Суровая зима застала солдат в походе. На несчастье баржа с хлебом, посланная им навстречу, села на мель где-то в верховьях Амура. Этот беспримерный поход плохо одетых и голодных солдат мало кому известен. Весь путь 13-го линейного батальона cо времени ледостава был усеян трупами. Люди кормились мясом мертвецов, но это не спасло их от гибели. Плохо одетые и почти босые, они замерзали на привалах, не имея сил подняться, чтобы поддержать огонь угасающего костра. Как только возникли переговоры русского правительства с Китаем в 1857 году, граф Муравьев-Амурский послал в Уссурийский край геодезиста Усольцева, который проплыл по рекам Уссури и Сунгаче до озера Ханка. Затем он поднялся по реке Лефу, но не дошел до ее истоков и приблизительно с половины пути повернул к юго-западу, вышел на реку Суйфун и спустился по ней до Амурского залива, названного так потому, что устье Суйфуна в то время принималось за устье Амура. Усольцев разъяснил это заблуждение.[273] Горный инженер Н. П. Аносов в том же 1857 году проплыл по Амуру до его устья, а в следующем, 1858 году поднялся по реке Уссури до Имана и по этой последней реке до местности Картун. Затем он прошел по реке Сунгаче и по восточному и южному берегам озера Ханка до реки Мо. Последний маршрут Аносов сделал по реке Даубихе почти до ее истоков.[274] Честь сделать первое пересечение через Сихотэ-Алинь принадлежит М. И. Венюкову. В 1857 году по поручению графа. Муравьева-Амурского он отправился по реке Уссури, потом по ее притоку Улахе и по реке Фудзину, затем перевалил через хребет Сихотэ-Алинь и вышел на реку Тадушу. Венюков хотел было пройти к заливу Владимира, но собравшиеся в большом количестве вооруженные китайцы преградили ему дорогу и потребовали, чтобы он возвратился. Тогда Венюков на берегу моря, при устье реки Тадушу, воздвигнул деревянный крест, на котором вырезал надпись: «Я был здесь в 1858 г. М. Венюков». Восемнадцатого июня он повернул назад и через двадцать два дня той же дорогой вернулся на Уссури.[275] 1859 год был особенно богат исследованиями. Одна экспедиция следует за другой. Это был период ознакомления с правыми притоками Уссури и землями на юг к границам Кореи. Астроном Гамов производит ряд геодезических работ по Амуру и Уссури. Им были определены крайние географические координаты на реке Улахе (между устьями рек Фудзин и Ното), затем он прошел по реке Сунгаче до озера Ханка и вернулся той же дорогой. Один из мысов в заливе Посьет назван его именем.[276] В том же 1859 году Уссурийский край посетил академик К. И. Максимович. Он поднялся по долине Уссури, затем по реке Улахе до устья Фудзина, прошел по долине этой последней до истоков, перевалил через водораздельный хребет Сихотэ-Алинь и спустился по реке Вай-Фуд-зину (Аввакумовке) к заливу Ольги. Результатом его исследований было обширное ботаническое сочинение, за которое он получил премию имени П. Н. Демидова. Насколько ценны работы К. И. Максимовича, говорить не приходится. Это известно каждому, кто хоть мало-мальски знакомился с литературой местной флоры. Он первый установил, что флора Уссурийского края есть флора маньчжурская. Множество растений названо именем этого исследователя.[277] Министерство государственных имуществ для исследования лесов в Уссурийском крае командировало корпуса лесничих капитана Будищева и топографов Корзуна, Лубенского и Петровича. Экспедиция Будищева работала с 1867 года. Эти труженики ознакомили нас с географией южной части Сихотэ-Алиня. Прибрежный район к востоку от водораздельного хребта они назвали Зауссурийским краем.[278] Сам Будищев осмотрел долину Уссури, реки Даубихе и Лефу, озеро Ханка, затем спустился вдоль государственной границы до реки Суйфуна, описал леса в окрестностях селений Барабаша, Никольского, Новокиевского, на полуострове Муравьева-Амурского, был на Улахе, Фудзине и через Сихотэ-Алинь по Вай-Фудзину (ныне Аввакумовка) спустился к морю. Топограф Корзун поднялся более чем до половины по Иману и Ваку и по реке Бикину до верхнего его притока Бягаму, но дойти до Сихотэ-Алиня ему не удалось. Недостаток продовольствия принудил его вернуться на Уссури. Третий спутник Будищева, Петрович, обследовал болотистые низины и леса по правому берегу Амура от устья реки Анюя (Дондон) до озера Кизи. Потом мы узнаем о его маршруте к заливу Де-Кастри и далее по берегу моря до реки Хои, откуда Петрович проник на реку Тумнин и спустился по ней до устья. Наконец, Лубенский описал леса по долине реки Амура от Хабаровска до поста Николаевского. Одновременно с Будищевым Уссурийский край посетил известный натуралист Р. Маак. Совместно с Этнографом Брылкиным в начале июня 1869 года он прибыл к устью Уссури и поднялся по ней до реки Сунгачи. По этой последней он проплыл до озера Ханка и обошел его с восточной, южной и западной сторон. После неудачной попытки подняться далее вверх по реке Уссури Маак возвратился на Амур. Исследования этого ученого поражают тонкостью наблюдений и громадным количеством собранного материала. Множество видов насекомых и растений названо его именем.[279] Третий французский миссионер Жербильон отправился для обследования Амура в 1861 году. Недалеко от устья реки Сунгари он встретил русских и охотно принял их предложение доехать с ними до поста Николаевского. В том же году Жербильон возвратился.[280] Вслед за Мааком в 1860 году в течение трех лет обследованием края занимается выдающийся геолог и палеонтолог Ф. Б. Шмидт. С ранней весны 1860 года он занимался исследованиями берегов Амура от устья реки Сунгари до поста Николаевского с заходом в озеро Кизи и залив Де-Кастри. После работ на острове Сахалине Ф. Б. Шмидт в июне 1861 года переехал морем во Владивосток. Отсюда он совершил две поездки: первую — от залива Посьет к устью Суйфуна и озеру Ханка, а вторую — по рекам Сунгаче и Уссури до селения Хабаровки.[281] В 1867–1869 годах вновь приобретенную страну посещает знаменитый впоследствии путешественник Н. М. Пржевальский. Маршруты его были те же, что и у Усольцева, Будищева и Венюкова. Он поднимается по рекам Уссури и Сунгаче, работает около озера Ханка, затем идет на реку Лефу и оттуда к городу Владивостоку. Из Владивостока Н. М. Пржевальский пошел по побережью моря на реку Сучан, реку Судзухе и далее к посту Ольги и к заливу Владимира. Свои исследования он закончил маршрутом через Сихотэ-Алинь на Фудзин, Улахе и Уссури.[282] Еще через год (в 1870 году) горный инженер И. Боголюбский в поисках рудных месторождений пошел по реке Уссури к Владивостоку, оттуда тропой на реку Сучан и на реку Ванчин и побывал в заливе Ольги, Собрав сведения о землях прибрежного района к северу от Ольгинского поста, он в сопровождении китайцев сделал попытку проникнуть на реку Тетюхе, но его проводник-китаец умышленно или нечаянно заблудился, и он; не дойдя до намеченного пункта семи километров, повернул назад.[283] В 1871 году Уссурийский край навещает лучший синолог того времени — архимандрит Палладий. Мы обязаны ему замечательными открытиями по археологии и истории края. Он проехал по рекам Уссури и Сунгаче, был на озере Ханка, откуда перешел на реку Суйфун, посетил село Никольское и прибыл в пост Владивосток. К сожалению, из трудов этого ученого сохранились только отрывочные письма. Архимандрит Палладий умер по дороге в Россию в 1872 году.[284] Еще через три года партия топографов под начальством Л. Л. Большева производит инструментальную съемку прибрежной полосы Зауссурийского края (шириною от одного до пяти километров) от залива Рында к северу до залива Де-Кастри. Тяжелые условия, при которых пришлось работать топографам на пустынном в то время берегу, дали С. В. Максимову богатый материал для его рассказов.[285] Следующим в хронологическом порядке исследователем Уссурийского края является И. П. Надаров. В 1882 году он поднялся по Бикину до местности Цамо-Дынза и по Иману до устья реки Тайцзибери. Другой раз с реки Ваку он прошел на реку Улахе, поднялся по ней до половины и, повернув назад, вышел к урочищу Анучино и оттуда к Уссурийской железной дороге. И. П. Надаров дал много сведений по географии края и написал очерки из жизни уссурийских манз.[286] Археологические и этнографические исследования Ив. Полякова относятся главным образом к острову Сахалину, но он также работал и в Южно-Уссурийском крае. В июле 1882 года он высадился во Владивостоке и направился по долине реки Суйфуна к селению Никольскому (впоследствии город Никольск-Уссурийский).[287] Продолжателем работ Палладия является основатель Общества изучения Амурского края Ф. Ф. Буссе. Работы его относятся к 1883–1889 годам. Разъезжая по области в качестве заведующего переселенческим делом, Буссе обратил внимание на древние городища, оставленные в стране ее первоначальным населением, и описал некоторые из них.[288] Работы Буссе впоследствии продолжил князь П. А. Кропоткин. Гидрографическая экспедиция Великого океана не ограничивает свои работы Амурским лиманом, но распространяет их и на самую реку Амур. В 1886 году две шлюпки с лодки «Горностай» прошли с промером вверх по реке около 1 175 километров до устья Сунгари.[289] С 1888 по 1894 год горный инженер Д. Л. Иванов производил ряд геологических изысканий в Новокиевском и Барабашском районах и по рекам Суйфуну, Супутинке, Майхе, Сучану и Судзухе. Потом он пошел по реке Лефу на Улахе и далее через Сихотэ-Алинь к посту Ольги. Остается упомянуть еще об одном его маршруте — именно вдоль морского побережья от села Шкотово, по рекам Таудими, Сучану, Судзухе и Таухе. Период с 1894 по 1897 год является наиболее богатым исследованиями. В 1894 году капитан Генерального штаба С. Леонтович производит съемку реки Тумнина и составляет орочско-русский словарь.[290] В том же 1894 году и следующем, 1895 году геолог Д. В. Иванов совершает четыре маршрута. Первый — по Амуру от города Хабаровска до озера Кизи и затем по реке Хоюлю через хребет Сихотэ-Алинь к Императорской гавани. Второй — по рекам Анюю, Гобилли, Буту, Хуту на реку Тумнин. Третий — по реке Самарге через Сихотэ-Алинь на реку Сукпай и по этой последней на реку Хор к Уссурийской железной дороге. Четвертый — вдоль берега моря частью на лодке, частью на паровой шхуне «Сторож» от залива Ольги до Императорской гавани.[291] В том же году для обследования центральной части Уссурийского края посылаются охотничьи команды 10-го линейного батальона и 2-й стрелковой бригады. Маршруты охотничьих команд были распределены таким образом, что пути их должны были пересекаться. Одни команды должны были проникнуть как можно дальше в глубь страны, а другие нести службу связи и доставлять им продовольствие, но согласовать движение их в тайге было невозможно, и потому каждая из охотничьих команд действовала самостоятельно, вследствие чего перевалить через Сихотэ-Алинь и выйти к морю им не удалось, и после неимоверных лишений, до человеческих жертв включительно, они возвратились.[292] В период между 1895 и 1897 годами Южно-Уссурийский край посетил известный ботаник В. Л. Комаров. Он работал к западу от Никольска-Уссурийского в бассейне реки Суйфуна, затем углубился в Маньчжурию и на юг, прошел до урочища Новокиевского.[293] В области этнографической литературы мы встречаем имя С. Брайловского, объехавшего в 1896 году долины рек Сучана и Судзухе, а в следующем, 1897 году — по поручению губернатора Приморской области занимавшегося переписью туземного населения по побережью Татарского пролива от бухты Терней к югу до залива Ольги. Этот переезд С. Брайловский совершил на лодках и частью на пароходе.[294] С 1898 по 1900 год ряд теологических изысканий производит горный инженер М. М. Иванов, однофамилец горных инженеров, ранее работавших в Южно-Уссурийском крае. Он обследовал реку Бикин до местности Цамо-Дынза и Иман до Картуна с ходом в сторону между реками Нэйцухе и Баку. Затем он поднялся по Уссури и Улахе до Ното-Хойза. Другой его маршрут был от места слияния Уссури с рекой Сунгачей к югу вдоль Уссурийской железной дороги до города Никольска-Уссурийского и затем круговой маршрут к озеру Ханка и к Китайской Восточной железной дороге.[295] Работы геолога П. И. Яворского относятся к Амгунскому бассейну, граничащему с Уссурийским краем, и потому мы отметим один только его маршрут в 1903 году по Амуру от города Хабаровска до озера Удыль.[296] Этот перечень исследователей края был бы неполным, если бы мы не упомянули еще двух пионеров, прибывших в край в то время, когда по Владивостокской бухте еще плавали лебеди, а в горах бродили тигры. Я говорю о М. И. Янковском и М. Г. Шевелеве. Первый много работал по орнитологии и энтомологии в Северной Корее и в Посьетском районе.[297] Второй был кабинетным работником и жил большей частью в бухте Кангауз. Имя его тесно связано с изучением истории края. Он владел китайским языком и совершенно свободно разбирался в иероглифах. В его распоряжении было много древних рукописей. В вину ему можно поставить только то, что он своевременно не позаботился опубликовать свои знания и унес их с собой в могилу. До нас дошли только кое-какие обрывки его работ, но и те оказались весьма ценными. Они в значительной степени способствовали установлению, что Бохайское царство (VII–XII века) было на берегах Великого океана в Восточной Маньчжурии, Северной Корее и в Уссурийском крае. В заключение отметим работы военных топографов, заснявших в 1888 году в одноверстном и двухверстном масштабах весь Южно-Уссурийский край от Китайской границы (Посьет — озеро Ханка) к востоку до рек Улахе и Судзухе включительно. Планшеты их также тянутся по долине реки Уссури до Амура, расширяясь в бассейне Бикина до 60 и суживаясь около Лончакова до 20 километров. Параллельно с военными топографами съемочные работы производили землемеры Уссурийской межевой партии. Теперь попробуем нанести на карту Уссурийского края памятники старины, оставленные маньчжурскими племенами в период между VII и XIII столетиями, отметим на ней места, которые занимали китайцы-земледельцы до прихода казаков, и, наконец, нанесем на ту же карту русские поселки. Мы увидим, что все три площади совпадут. Три народа, один после другого, селятся на одних и тех же местах. Доступными для культуры будут: долины рек Амура и Уссури, нижнее течение их правых притоков, бассейны рек Даубихе и Улахе, Южно-Уссурийский край и узкая полоса прибрежного района до Императорской гавани, а вся центральная и северная часть горной области Сихотэ-Алинь как раньше была пустыней, такой она есть и теперь. Дикость тайги, бездорожье и полное отсутствие жилых мест были главными причинами, почему Сихотэ-Алинь и земли к востоку от него оставались так долго неизвестными. Для исследования этой нетронутой части Уссурийского края Я и предпринял свои экспедиции. Настоящий труд заключает в себе повествование о третьем моем путешествии, совершенном в 1908–1910 годах.
Глава первая Амур в нижнем течении
В полдень 23 июня 1908 года наш небольшой отряд перебрался на пароход. Легко и отрадно стало на душе. Все городские недомогания сброшены, беганье по канцелярии кончено. Завтра в путь. В сумерки мои спутники отправились в город в последний раз навестить своих знакомых, а я с друзьями, пришедшими проводить меня, остался на пароходе. Мы сели на палубе и стали любоваться вечерним закатом, зарево которого отражалось на обширной водной поверхности при слиянии Амура с Уссури. Был тихий летний вечер. Янтарное солнце только что скрылось за горизонтом и своими догорающими лучами золотило края облаков в небе. Сияние его отражалось в воздухе, в воде и в окнах домов какого-то отдаленного поселка, предвещая на завтра хорошую погоду. Против Хабаровска левый берег Амура низменный. Бесчисленное множество проток, слепых рукавов и озерков создают такой лабиринт, из которого без опытного провожатого выбраться трудно. Когда-то все пространство, где Амур течет в широтном направлении, от станицы Екатерино-Никольской до озера Болон-Оджал на протяжении около 500 и шириною в 150 километров, представляло собой громадную впадину, заполненную водой. Высоты у слияния реки Уссури с Амуром являются древним, берегом этого обширного водоема. Город Хабаровск основан графом Муравьевым-Амурским 31 мая 1858 года на месте небольшой гольдской[298] деревушки Бури. Отсюда получилось искаженное китайское название «Воли», удержавшееся в Маньчжурии до сих пор. Первым разместился здесь 13-й линейный батальон, который расположился как военный пост. В 1880 году сюда переведены были из Николаевска все административные учреждения, и деревушка Хабаровка переименована в город Хабаровск. Тогда это было глухое и неустроенное поселение среди тайги, остатки которой долго еще были видны в самом центре города. Единственным путем сообщения был Амур. Осенью и весною во время ледостава и при вскрытии реки Хабаровск оказывался отрезанным от других городов на несколько месяцев. Эта изоляция называлась «почтовым стоянием». На палубе парохода было тихо и пусто. Только со стороны города доносился неясный шум, которого обычно не слышно днем. Можно подумать, что с наступлением тьмы воздух делается звукопроницаемее. На западе медленно угасала заря, а с другой стороны надвигалась теплая июньская ночь. Над обширным водным пространством Амура уже витал легкий сумрак: облака на горизонте потускнели, и в небе показались первые трепещущие звезды. В это время шум весел привлек мое внимание. Из-за кормы парохода вынырнула небольшая лодка с двумя гребцами. Молодой гольд работал веслами, а старик сидел на корме и направлял свою утлую ладью к устью Уссури. Он что-то говорил своему юному спутнику и, протянув руку по направлению к югу, дважды повторил слово «Хехцир». Машинально я перенес свой взор на величественный горный хребет, протянувшийся в широтном направлении от озера Петропавловского до реки Уссури и носящий название, которое только что упомянул старик-гольд. Хехцир имеет наибольшую высоту в 860 метров. Железная дорога пересекает его в самом низком месте в 34 километрах от Хабаровска. В исторической литературе этот хребет называется Хохцским, также Хехцир,[299] а в китайской географии Шуй-дао-тиган имеется глава об Уссури, переведенная академиком Васильевым, в которой означенные горы названы Хухгир (Хурчин).[300] На западном склоне хребта Хехцир у самой реки Уссури расположилась казачья станица Казакевичево, а раньше здесь была небольшая ходзенская деревушка Фурме (Турме), состоявшая из четырех фанз.[301] В 1859 году Р. Маак застал здесь уже русских. От гольдской деревни не было и. следа, но у туземцев о ней сохранились воспоминания. Давным-давно в одинокой фанзе жил гольд Хээкчир Фаеигуни. Он был хороший охотник и всегда имел достаточный запас юколы для своих собак. Хээкчир был однажды вСансине на реке Сунгари и вывез оттуда белого петуха. После этого он начал тяготиться своим одиночеством, потерял сон и стал плохо есть. Как-то раз ночью Хээкчир Фаенгуни вышел на улицу и сел у крыльца своего дома. Вдруг он услышал слова: — Хозяин, закрой окна, перед светом будет гроза. Хээкчир обернулся и увидел, что это петух говорил ему человеческим голосом. Тогда он пошел на берег реки, но тут услышал шопот над своей головой. Это говорили между собой деревья. Старый дуб шелестел листьями и рассказывал молодому ясеню о том, чему довелось ему быть свидетелем за двести с лишним лет. Хээкчир испугался. Он вернулся в свою фанзу, лег на кан, но, как только начал дремать, опять услышал шорох и голоса. Это говорили камни, из которых был сложен очаг. Они собирались треснуть, если их еще раз так накалят. Тогда Хээкчир понял, что он призван быть шаманом. Он отправился на реку Нор, и там маньчжурский шаман вселил в него духа Тыэнку. Хээкчир скоро прославился — он исцелял недуги, находил пропажи и отводил души усопших в «загробный мир». Слава о нем пошла по всей долине Уссури, Амуру и реке Сунгари. Вскоре около его фанзы появились другие домики. Так образовалась деревня Фурме. Потом пришли русские и потеснили ходзенов. Последние должны были оставить насиженные места и уйти от неспокойных «лоца» вверх по реке Уссури. Деревня Фурме исчезла, а название Хээкчир превратилось в Хехцир. Впоследствии казаки этим именем стали называть не только то место, где раньше была ходзенская деревня, но и весь горный хребет. В этом сказании чувствуется влияние юга. Как попало оно на Амур к гольдам из Маньчжурии? За разговорами незаметно прошло время. Я проводил своих друзей на берег и вернулся на пароход. Было уже поздно. Последние отблески вечерней зари погасли совсем, и темная ночь спустилась на землю. Где-то внизу слышались меланхолические всплески волн, пахло сыростью и машинным маслом. Я ушел в свою каюту и вскоре погрузился в глубокий сон. На другой день рано утром мы оставили Хабаровск. С момента отхода от пристани все на пароходе начали жить судовой жизнью. Вместе с нами ехала публика самая разнообразная: чиновники, играющие в вист «по маленькой», коммерсанты, говорящие о своих торговых оборотах, и крестьяне, возвращающиеся из города с покупками. Кто читал, кто так сидел и смотрел вдаль, а кто просто забился в каюту и под ритм машины уснул как убитый. В третьем классе очень людно — там пассажиры вплотную лежат на нарах и не встают, чтобы не потерять место, добытое с такими усилиями при посадке. Все дальше и дальше позади остается Хабаровск. Широкою полосою расстилается Амур, и кажется он большим озером и вовсе не похож на реку. О происхождении названия Амура существуют различные показания. Его производят от слова «Амор», что по-тунгусски означает «Добрый мир», от маленькой речки «Емур», впадающей с правой стороны около Албазина,[302] и от гиляцкого слова «Гамур», «Ямур», что значит «Большая вода». Историк Миллер Мамуром называет реку, на которой живут натканы (натки). Маньчжуры называли Амур «Сахалян ула» (река черной воды), а китайцы — «Хуньтун-цзын», после соединения с рекой Сунгари[303] — также «Гелонг-кианг» (река черного дракона) и Хей-шуй, что значит «Черная вода»,[304] а по-якутски «Кара туган» (Черная река). Современное туземное население называет его Дай Мангу, а ольчей — мангунами. Общее направление течения нижнего Амура северо-восточное. С левой стороны в него впадают реки Тунгуска, Дарги, Гай и Галка, а с правой — протока из озера Петропавловского. Последнее длиною около 20 и шириною около 8 километров. В недавнем прошлом оно было значительно больше и простиралось на юг и юго-запад до предгорьев Хехцира. Сита была небольшой речкой, и Обор впадал в озеро самостоятельно. Возвышенность, где ныне расположено селение Волконское, представляет собой древний берег большого озера, а обширные болота с западной стороны указывают места, которые совсем недавно освободились от воды. Процесс дренажирования еще не закончен. Нынешнее озеро Петропавловское быстро мельчает, и недалеко время, когда оно тоже превратится в болото. Широкая долина Амура наполняется наносами его притоков — ила и песка, обычных спутников наводнений. В местах обвалов у подмытых берегов видно, как располагаются они в последовательном порядке. В самом низу лежит песчано-галечниковый слой, над ним нижнеаллювиальная глина, а выше слои песка, потом опять глина и поверх нее почвенно-перегнойный (гумусовый) слой, поросший высоким вейником и тростником, длинные корни которых в белых и фиолетовых чехликах прорезывают всю толщу наносов. Около протоки из озера Петропавловского находится много песчано-илистых островов. Некоторые из них едва выступают из воды, другие имеют вид плоских релок, поросших травой и кустами лозняка. Пески перемещаются летом водою, а зимой — ветрами. Иногда зимой можно видеть поверх снега слой песку, который при вскрытии реки переносится вместе со льдом на значительные расстояния. К вечеру наш пароход дошел до селения Вятского,[305] расположенного на правом, нагорном берегу Амура. Здесь на несколько часов была сделана остановка для погрузки дров. Я тотчас сошел на берег, чтобы осмотреть селение. Невеселый вид имело оно. Прежде всего мне бросились в глаза бесчисленные штабели дров, за ними выше на берегу виднелись жилые дома и дворовые постройки, сделанные основательно и прочно, даже заборы были сложены из бревен. Все указывало на достатки населения, и вместе с тем в глаза била неряшливость, на дворах развал, груды конского навоза и непролазная грязь. Вдоль деревни идет одна улица. Две тощие гнедые лошади лениво плелись по дороге, они часто останавливались, хлопали губами, подбирая травинки, и подымали пыль. Следом за ними шел пожилой человек. Он ругал лошадей, кричал на них и размахивал руками. Амурские жители не имеют телег и ездят по Амуру летом на лодках, а зимой по льду на санях. Вот почему в каждом дворе было по две-три пары саней. На возвратном пути я опять увидел того же крестьянина. Он сидел на скамейке у ворот одного из домов и с кем-то переговаривался через дорогу. Нехотя ответил он на мое приветствие и спросил меня, не я ли буду новый учитель. Мой отрицательный ответ, видимо, его успокоил. Он подвинулся на скамейке и предложил мне присесть. От него я узнал, что крестьяне переселились сюда из Вятской губернии около полу-столетия назад. Живут они с достатком и занимаются зимним извозом и доставкой дров на пароходы. Земледелие не в почете потому, что нигде поблизости нет хорошей земли, а также потому, что есть другие, более выгодные заработки. И в самом деле! Один пуд осетровой рыбы продавался по 40 рублей, а пуд черной икры — по 320. Если ход кеты был удачный, то средняя семья из четырех взрослых душ могла поймать столько рыбы, что, продав ее в посоленном виде, за вычетом всех расходов на соль, бочки, фрахт и пр., она не только вполне обеспечивала себя до нового улова, но даже откладывала значительную сумму денег на черный день. Поговорив немного с вятским старожилом, я пошел к берегу. Пароход, казалось, был насыщен электричеством. Ослепительные лучи его вырывались из всех дверей, люков и иллюминаторов и отражались в черной воде. По сходням взад и вперед ходили корейцы, носильщики дров. Я отправился было к себе в каюту с намерением уснуть, но сильный шум на палубе принудил меня одеться и снова выйти наверх. Был второй час ночи. По небу плыла полная луна, серебрившая своим трепетным светом широкий плес Амура. Впереди неясно вырисовывались контуры какого-то мыса. Селение Вятское отходило на покой, кое-где в избах еще светились огни… И вот в эти ночные часы из воды вышло и поднялось на воздух бесчисленное множество эфемерид. В простонародье их называют «поденками». Их личинки живут в воде и ведут хищнический образ жизни. Но потом вдруг все разом они подымаются на поверхность воды и превращаются в изящные крылатые создания бледноголубого цвета с прозрачными крылышками и тремя хвостовыми щетинками. Поденок было так много, что если бы не теплая летняя ночь и не душный запах рано скошенной где-то сухой травы, их можно было принять за снег. Их было тысячи тысяч, миллионы. Они буквально наполняли весь воздух, бились в освещенные окна кают, засыпали палубу и плавали по воде. Эфемериды торопились жить. Их век короток, всего лишь 24 часа. Из темной пучины вод они поднялись на воздух для того, чтобы произвести себе подобных и умереть. Я не мог долго быть на палубе. Насекомые буквально облепили меня. Они хлестали по лицу, заползали в рукава, набивались в волосы, лезли в уши. Я пробовал отмахиваться от них; это оказалось совершенно бесполезным занятием. В каюте было жарко и душно, но нельзя было открыть окон из-за тех же самых прелестных эфемерид. Долго я ворочался с боку на бок и только перед рассветом немного забылся сном. Когда на другой день я проснулся, пароход уже был в пути. Между озером Катар и селением Вятским Амур некоторое время течет в широтном направлении, но затем вновь поворачивает на северо-восток. Здесь правый берег состоит из ряда плоских возвышенностей, изрезанных глубокими оврагами. Он слагается из базальтовой лавы и древнейших горных пород. Около селения Елабужского возвышенности отходят от Амура в глубь страны и вновь появляются после Гасинской протоки, вытекающей из озера того же наименования. По показаниям Пояркова, от устья Уссури вниз по Амуру на четыре дня плавания жили дючерны, а далее натки.[306] Такого самоназвания туземцев в указанных местах мы теперь нигде не находим. Позднейшие писатели говорят о ходзенах и гольдах. Наиболее крупные гольдские селения по правому берегу Амура от Хабаровска до села Троицкого расположились в следующем порядке: Чепчики, Хованда, Сакачи-Алян, Люмоми, Хоухолю, Муху, Гаси, Дады, Дыэрга, Найхин, Джагри. Около Сакачи-Аляна на берегу Амура есть писаные камни, затопляемые во время половодья. На одном камне схематически изображено человеческое лицо. Можно ясно различить глаза, нос, брови, рот и щеки. На другом камне — два человеческих лица: глаза, рот и даже нос сделаны концентрическими кругами, а на лбу ряд волнообразных линий, отчего получилось выражение удивления, как бы с поднятыми бровями. Рядом профиль какого-то фантастического животного с длинным хвостом и семью ногами. Оно изображено при помощи четырех концентрических кругов, из которых задний наибольший, потом два малых и на месте головы — круг среднего размера. Линия, объемлющая круги, частью ломаная, частью кривая, изображает контур животного. На последнем камне довольно верное изображение в профиль оленя. Круп животного тоже разрисован концентрическими кругами. На боках видны ребра в виде кривых линий, а на шее и спине ближе к холке какие-то непонятные завитки. Часам к десяти утра пароход дошел до села Троицкого, расположенного также на правом берегу Амура. От Вятского оно отличалось разве только размерами. Общий колорит старожильческий. В давние времена здесь было гольдское селение Толчека. Несмотря на то, что пароходы ходят по Амуру довольно часто, для амурских крестьян это всегда событие. Заслышав свистки, все население бросает дома и устремляется к берегу для того, чтобы принять доставленное из Хабаровска продовольствие, посмотреть, не едет ли кто из знакомых, а то и просто посмотреть на публику. Так было и на этот раз. В толпе на берегу я узнал Косякова, приехавшего из селения Найхин на двух гольдских лодках, для того чтобы встретить нас и в последний раз сделать кое-какие закупки. Покончив с делами, мы забрали свой багаж и отправились к лодкам. Около них на прибрежной гальке сидело пять человек гольдов. Все они были среднего роста и хорошо сложены. Они имели овальные лица, слегка выдающиеся скулы, небольшие носы и темно-карие глаза. Длинные черные волосы их были заплетены в косы по маньчжурскому образцу. Костюм наших новых знакомых состоял из короткой тельной рубашки белого цвета и одного или двух пестрых халатов длиною до колен, полы которых запахивались одна на другую и застегивались сбоку на маленькие металлические пуговицы, похожие на бубенчики. Рукава около кистей рук были стянуты нарукавниками. На ногах гольды носили короткие штаны, сшитые из синей дабы, наколенники, привязываемые к поясу ремешками, и мягкую обувь в виде олочей из толстой замшевой кожи. Ни одна из народностей на Амуре не любит так украшать себя, как гольды. Вся одежда их от головы до пяток орнаментирована красивыми нашивками. Добавьте к этому тяжелые браслеты на руках и несколько колец на пальцах, и вы получите представление о внешнем виде молодых гольдов, щеголяющих в своих нарядных костюмах в праздничные дни и в будни. Когда принесли наш багаж, гольды принялись укладывать лодки и размещать пассажиров. Гольдская лодка состоит из трех досок: одной донной и двух бортовых. Корма имеет фигуру трапеции. Донная доска выгнута; она длиннее других и значительно выдается. Нос прикрыт двумя короткими досками под углом в шестьдесят градусов. При таком устройстве встречная волна не может захлестнуть лодку, но зато бортами она сидит глубоко в воде. Гребцы помещаются впереди на маленьких скамеечках. Грузы в лодке располагаются посредине, а кормчий с веслом находится позади. Часов в одиннадцать утра мы оставили село Троицкое и поплыли вверх по протоке Дырен к гольдскому селению Найхин. Был один из тех знойных и душных дней, которые характеризуются штилем, ясным, безоблачным небом и зеркально гладкой поверхностью воды. Солнечные лучи, отраженные от воды, слепили глаза и утомляли зрение, а долгое сидение в лодке в неподвижной позе вызывало дремоту. Часа через два плавания гольды причалили к берегу, чтобы отдохнуть и покурить. Воспользовавшись остановкой, я решил размять немного ноги и пошел прогуляться по берегу. Слева тянулись обширные луга, поросшие высокой травой. Главную массу поемной растительности составлял все тот же вейник до полутора метров высотою с недеревенеющими стеблями в виде соломы. Он растет чрезвычайно обильно почти без примеси других трав, занимая обширные пространства. Места посуше были заняты обыкновенной полынью с перистыми листьями, издающими приятный запах, если их потереть между пальцами, и тростниками, вполне оправдывающими свое видовое название и вытеснившими почти всякую растительность. Оригинальный вид имеют заросли тростников с длинными листьями, легко вращающимися в ту сторону, куда дует ветер. Точно их кто-нибудь нарочно расчесывает и расправляет. Дальше виднелась какая-то полудревесная, полукустарниковая растительность. Я направил туда свои шаги. Это оказались тальники и ольшаники, словно бордюром окаймляющие берега проток и озерков со стоячей водой. Луга, поросшие столь буйной растительностью, довольно богато населены пернатыми. В этот знойный день большая часть их попряталась в траве, но все же некоторых, наиболее прожорливых, голод заставлял быть деятельными. Прежде всего я заметил восточную черную ворону, всеядную, полуоседлую общественную птицу. От своей европейской товарки она отличается оперением черного цвета с фиолетово-синим оттенком. Ворона сидела на земле и кого-то караулила — должно быть, мышь. При моем приближении она испугалась, снялась с места и торопливо полетела к кустам лозняка. Тут же поблизости на жиденькой ольхе сидела сорока. Она вела себя неспокойно, все время вертелась, задирая хвост кверху, прыгала с одной ветки на другую и вдруг совершенно неожиданно камнем упала в траву, но вскоре опять появилась на одной из нижних ветвей дерева. При моем приближении трусливая птица бросилась наутек и, оглашая воздух сухими и резкими криками, полетела вслед за вороной. Затем я увидел большого восточного веретенника, типичного обитателя сырых лугов. Веретенник неожиданно вынырнул из тростников, подлетел ко мне вплотную, затем быстро свернул в сторону и вновь спрятался в траву. Это, вероятно, был самец, старавшийся отвлечь все внимание от того места, где самка высиживала яйца. На обратном пути я еще вспугнул зеленую овсянку — небольшую птичку, ведущую одиночный образ жизни среди болот и глухих проток. Она села на куст, очень близко от меня, и совершенно не выражала беспокойства. К сумеркам лодки наши дошли до гольдского селения Найхин, расположенного около самого устья Анюя. На ночь мы устроились в туземной школе. После ужина казаки принесли свежей травы. Мы легли на полу с намерением соснуть, но комары никому не дали сомкнуть глаз до рассвета. Часов в девять утра мы с Косяковым пошли осматривать гольдское селение Найхин. Прежде всего мне бросился в глаза целый лес жердей, увешанных сетями, и сушила для рыбы. Немного в стороне высились бревенчатые амбары на сваях, в которых хранится все ценное имущество гольдов. Чтобы мыши не могли проникнуть в амбар, на каждую сваю надевается кверху дном старый испорченный эмалированный тазик. На берегу протоки лежало множество лодок. Те, которые находились в употреблении, были просто вытащены на песок и во всякое время могли быть снова спущены в воду, другие были опрокинуты кверху дном и, видимо, давно уже покоились на катках. Сотни собак встретили нас злобным лаем. Гольды пригрозили им палками, и собаки с неохотой снова улеглись на прежние места. Спасаясь от мошек и комаров, они зарывались в землю. Песок сыпался им на голову. Собаки терли свои морды лапами так сильно, что совершенно выскоблили шерсть вокруг глаз, отчего получилось впечатление, будто на их головы надели очки. Гольдское селение Найхин тогда состояло из 18 фанз, в которых проживало 136 человек — мужчин и женщин.[307] В конце его из одной фанзы вышел нам навстречу Николай Бельды, мужчина лет тридцати, с которым я впоследствии подружился. Он приветствовал нас по-своему и предложил войти в его дом. Гольдская фанза по внешнему виду похожа на китайскую. Это четырехугольная постройка с двускатной крышей. Остов ее состоит из столбов, пространство между ними, кроме тех мест, которые предназначены для окон и дверей, заполнено ивовыми прутьями и с обеих сторон обмазано глиной. Крыша тростниковая, а чтобы траву не сорвало ветром, нижние слои ее также обмазаны глиной, верхние прижаты жердями. Перешагнув через порог, мы попали в довольно просторное помещение. Вдоль стен с трех сторон тянулись каны, сложенные из камней. Они имели ширину в рост человека и покрыты были чистыми цыновками, сплетенными из тростника. Свет в жилища проникал через три окна с одинарными рамами и с частыми решетинами, оклеенными тонкой китайской бумагой. Потолка в фанзе нет вовсе: крыша поставлена прямо на стены, а вверху над самым коньком сделано небольшое отверстие для выхода дыма. Зимой его затыкают тряпицей или сухой травой. Пол земляной, плотно утрамбованный. Очагов два. Один находится у самых дверей, другой — у противоположной стены, где кончается кан. Что такое очаг? Это низкая печка, сложенная из дикого камня, в которую сверху вмазан довольно большой котел. Дымовые ходы проложены под канами и выведены наружу в трубу, сделанную из дуплистого дерева и стоящую несколько поодаль от фанзы. Обыкновенно топится та печь, которая находится ближе к дверям. Вторую печь топят только зимой, во время больших морозов. Естественно, что каны ближе к топке нагреваются сильнее, чем те места, где дымоход выходит наружу. Иногда каны нагреваются так сильно, что без достаточных подстилок спать на них невозможно. Около очагов имеются полочки, на которых всегда можно увидеть одну или две бутылки, деревянные корытца, берестяную посуду, поварешку, кухонный нож и коробку с палочками для еды. Немного в стороне, прямо на полу, стоит большой глиняный сосуд для воды. Он высотою в метр и вместимостью ведер на двадцать. Эту глазированную и хорошо обожженную посуду раньше гольды приобретали в Маньчжурии. Посредине фанзы устроены на стойках в два ряда полки, на которых сложены разные охотничьи принадлежности, как то: рыболовные крючки, остроги, копья, луки и стрелы. На жердях, протянутых через всю фанзу, над канами лежат лыжи, весла от лодок, большие куски бересты и свертки рыбьей кожи. Вследствие того, что дымовые ходы очень длинны и расположены горизонтально под канами, тяга в них не всегда равномерна и печи часто дымят. Поэтому все предметы, находящиеся в фанзе выше роста человека, так закопчены, что не всегда удается узнать, что именно находится под слоем копоти. Неосторожный человек при малейшем прикосновении к ним осыпается в изобилии серой пудрой. Почетным местом считается средняя часть кана. Иногда здесь можно видеть одну или две цветные подушки в виде валиков и перед ними резные столбики в 30 сантиметров высотою и с отверстиями в верхних частях, в которые вставлены курительные трубки. Здесь, по повериям гольдов, место обитания душ усопших родственников, ожидающих, когда шаман отведет их в загробный мир. В углу прислонен к стене большой деревянный идол, грубо изображающий худотелого человека на длинных согнутых ногах, без рук и с редькообразной головой. Это Калгама — дух, охраняющий жилище от «злых духов». Две маленькие скамеечки, небольшой столик на низеньких ножках, нечто вроде шкафа или комода в углу на кане и сундук, ярко окрашенный, с медным замком, дополняют убранство гольдской фанзы. Наблюдателя поражает обилие орнаментов не только снаружи, но и внутри жилища. Все вещи, большие и малые, покрыты резьбой. Стойки фанзы, деревянные корытца, оружие, весла, ложки, палочки для еды и в особенности берестяные изделия, коробки, миски, подносики и пр. — словом, решительно все украшается при помощи красок и ножа. В фанзе мы застали двух женщин и старика. Одна женщина, которая была помоложе, варила обед, а другая, постарше, сидела на кане и что-то шила. Около нее стояла детская зыбка, в ней спал будущий рыболов и охотник. Гольдская зыбка состоит из двух половинок, сложенных под углом в сто двадцать градусов, так что ребенок находится в ней в полулежачем положении. К накладной стенке зыбки привешиваются в качестве побрякушек бусы, пустые ружейные гильзы, копытца кабарги и кости рыси, тоже охраняющие мальчика от посягательства злого духа. Насколько гольды-мужчины удаляются от монгольского типа (среди них можно нередко встретить овальные лица без выдающихся скул и с правильными прямыми носами), настолько женщины сохраняют его. Лица обеих женщин были типично монгольские, которые характеризуются плоским скуластым лицом, вдавленной переносицей и узкими глазными щелями с явно выраженной монгольской складкой век. Все гольдячки невысокого роста и имеют маленькие руки и ноги. Женский костюм отличался от мужского только длиною халатов и обилием вышивок и украшений. Кроме того, халаты их по подолу еще обшиваются медными бляшками. Кроме браслетов и колец на руках, они имели в ушах серьги с халцедоновыми и стеклянными бусами. Особенного же внимания заслуживают серьги в носу. Молодая женщина носила одну серьгу, продетую сквозь носовую перегородку так, что бляшка серьги, свернутая спиралью из тонкой серебряной проволоки, лежала на верхней губе. Старая женщина имела две такие серьги, продетые по сторонам в крылья носа. Хозяин усадил нас на почетное место и велел подать угощение. Та женщина, которая шила около ребенка, постелила на кан суконное одеяло с неудачно разрисованным на нем тигром и поставила низенький резной столик на маленьких ножках, а другая женщина принесла на берестяном подносе сухую рыбу, пресные мучные лепешки, рыбий жир с кабаньим салом и ягоды, граненые стаканы из толстого стекла и чайник с дешевым кирпичным чаем. Тотчас в фанзу стали собираться и другие гольды. Они расселись на канах и молча стали ждать конца нашей трапезы, чтобы принять участие в разговорах. Я обратил внимание на старика, седого как лунь и сгорбленного годами. От него я узнал, что реки Дондона нет вовсе, Дондон — это название острова, селения на нем и смежной с ним протоки, а та река, по которой нам следовало итти, называется Онюй. Орочи называют ее Найхин — по имени гольдского селения при устье. Что значит Онюй? Гольды к названиям правых притоков Амура прибавляют слово Анэй, например: Анэй Хунгуры, Анэй Бира, Анюй, Анэй Пихца и т. д. Этимологию этого слова выяснить мне не удалось. Любопытно, что и на севере, именно в Колымском крае, мы встречаем два притока Колымы с тем же названием — Большой Анюй и Малый Анюй. Удэхейцы Дондон называют Уни. Возможно, отсюда произошло Онюй («у» легко переходит в «о»), искаженное впоследствии в Анюй. Когда гольды узнали, что мы хотим итти по Анюю, они начали рассказывать про реку всякие страхи. Говорили о том, что плавание по ней весьма опасно вследствие быстроты течения и множества завалов. Итти к истокам они отказались наотрез, и даже такие подарки, как ружье с патронами, не могли соблазнить их на это рискованное предприятие. Далее из расспросов выяснилось, что в нижнем течении Анюя живут гольды, а выше — удэхейцы. Видно было, что амурские гольды боятся Анюя. Оно и понятно. Лодки их, приспособленные для плавания по спокойным протокам Амура, совершенно не пригодны для быстрых горных речек. Уговаривать их на эту поездку я не стал (это было бы и бесполезно), но мы условились, что они доставят нас до ближайшей фанзы Дуляля, а оттуда мы найдем новых проводников. Так и будем передвигаться — от стойбища к стойбищу. После этого Николай Бельды велел назначенным для сопровождения нас гольдам расходиться по домам и готовиться к походу. Посидев еще немного, мы начали прощаться с хозяином. Он взял с нас слово, что вечером мы придем к нему еще раз. На самом краю между школой и селением находилась одна развалившаяся фанза. Глинобитные стены ее обрушились, и соломенная крыша, почерневшая от времени, лежала на земле. Вся местность вокруг фанзы заросла высокой сорной травой. Вышло как-то так, что я ушел вперед, а Косяков отстал немного. Проходя мимо фанзы, я вдруг услышал жалобный писк котенка. Сначала я не обратил на него внимания, но, когда я подходил ближе к фанзе, до слуха моего донеслось опять то же жалобное мяуканье, в котором слышались нотки страха. Полагая, что котенок куда-то завалился и не может выбраться навepx без посторонней помощи, я свернул с тропы и сквозь бурьян направился прямо к развалинам фанзы. По мяуканью я скоро обнаружил котенка. Он был обычного серого цвета с белой мордочкой и белыми передними лапами. Котенок был чем-то напуган. Он изогнул спину дугой, поднял кверху свой хвостик и весь ощетинился. Сперва я не мог найти причину его страха. Тут были груды мусора, из которого торчало много палок. Как я ни напрягал зрение, я ничего не видел. В это время котенок опять пискливо замяукал и прыгнул вправо. Тотчас одна из палок качнулась вправо. Котенок метнулся влево, палка тоже двинулась влево, и так несколько раз. Я осторожно приблизился к котенку и увидел большую рыжую змею. Судя по той части ее тела, которая была приподнята от земли, пресмыкающееся было длиною метра полтора и толщиною около пяти сантиметров. Голова змеи была обращена к котенку, и изо рта высовывался черный вилообразный язычок. Котенок казался парализованным, и вместо того, чтобы спасаться бегством, он пищал и в испуге делал прыжки, а змея, не спуская с него глаз, раскачивалась вправо и влево, постепенно приближаясь к своей жертве. Как раз в это время проходил мимо Косяков. Я стал делать ему знаки рукой. Увидев, в чем дело, он схватил палку и с силой ударил змею. Последняя метнулась в заросли, как раз по направлению к крыше. В траве послышалось шипение и шорох убегающего пресмыкающегося, а затем все стихло. Я взял на руки котенка и стал его гладить. Он все еще продолжал жалобно мяукать и дрожал как в лихорадке. Случайно мимо развалившейся фанзы проходили две гольдские девушки. Косяков крикнул им, чтобы они позвали людей, а сам принялся разбрасывать крышу и поднял большую пыль. Одна девушка взяла у меня котенка, а другая побежала в деревню. Через несколько минут из Найхина пришло четверо гольдов с лопатами и топорами. Они перевернули всю развалившуюся фанзу, не оставив на земле ни одного камня, но змеи не нашли. Меня несколько удивила настойчивость, с которой гольды искали змею, удивила также неприязнь, которую они питали к ней. Это было тем более странно, что к другим змеям они относились довольно равнодушно. Признаться, и на меня рыжая змея произвела очень неприятное впечатление. Такого большого пресмыкающегося на Амуре я нигде не видывал. Известно, что полозы глотают мышей, бурундуков и разных птиц, но никогда еще не было случая нападения их на щенка или котенка. Когда выяснилось, что змея ускользнула и надежды найти ее нет никакой, гольды забрали свои лопаты и через бурьян пошли на берег. Они сели на опрокинутые вверх дном лодки и стали курить. По выражению их лиц я видел, что они чем-то встревожены. На мой вопрос, что случилось, один из гольдов ответил, что это была не простая змея, а шаманка, которая служит чорту, и теперь надо в селении ждать какого-нибудь несчастья. Я сразу понял, что появление рыжего полоза связано с каким-то событием, и решил вечером расспросить гольдов подробно. Докурив трубки, гольды пошли в селение, а мы с Косяковым направились в школу, в которой остановились. Когда начало темнеть, я вместе с Косяковым отправился в дом старшины. Гольды только что кончили ужинать. Женщины выгребли жар из печки и перенесли горящие уголья в жаровню. Мы подсели к огню и стали пить чай. Разговор начался о родах. Говорил наш хозяин, а старик внимательно слушал и время от времени вставлял свои замечания. Все гольдские роды территориальные, и названия их в большинстве случаев указывают место, где тот или иной род обитал исстари. Так, род Дэонка родился на ключике того же имени, впадающем в реку Эльбин, Перминка получил свое название от местности Пермин, Актенка — с реки Мухеня, Соянка — от местности Соян (ниже села Троицкого), Кофынка — от местности Кофынь, Марянка — из Маря, что на левом берегу Амура против села Сарапульского. На месте последнего было стойбище Уксяма. Отсюда и произошел род Уксаменка. Люди Оджал родились и жили на берегах озера Болона, где в давние времена добывалась серебро-свинцовая руда. Утес с рудой назывался Оджал-Хонкони, а озеро Болон-Оджал. Род Ходзяр повел свое начало от протоки Атуа — немного выше «серебряного» утеса, Цзахоури — из местности того же имени, а Удынка и Юкомика жили на реке Тунгуске. До русских гольды платили ясак маньчжурам, причем разные роды вносили его в разное время, вследствие чего в самом выгодном положении оказался род Бельды, а в наиболее тяжелом — род Дэонка. Тогда очень многие гольды из родов Дэонка, Перминка, Актенка, Соянка, Цоляцанка и Кофынка при опросе их маньчжурами назвались Бельды. Остальные роды — Марян, Посар, Оджал, Ходзяр, Моляр, Цзахсур и Юкомика — остались с прежними названиями. Самыми старыми селениями на Амуре были Найхин, Дырен и Баоца. До прихода русских гольды имели торговые сношения с маньчжурами. Последние на больших лодках спускались по течению реки один или два раза в год, привозили с собой разные товары и выменивали их на пушнину. Тогда все было дорого, в особенности железные котлы и огнестрельное оружие. Старик рассказывал, что, когда он был еще мальчиком, на всем Амуре гольды имели только два фитильных ружья, за которые было заплачено 100 отборных соболей. Котел стоил около 10 соболей, а фунт пороху — 4 соболя. Достойно удивления, что чай пить гольды научились не от маньчжуров, а от русских. Раньше у них было значительно больше спирта, чем теперь. Доставляли его китайцы из Сансина. Затем старик рассказал о первом появлении русских на Амуре. Весть о страшных белоглазых лоца, которых боялись даже маньчжуры, принес им шаман из селения Баоца. От них так сильно пахло мылом и прогорклым салом, что с людьми делалось дурно. Тогда все окрестные шаманы собрались на совещание в селении Найхин и решили, что лоца — черти и отогнать их можно только камланием. Было приказано по всем стойбищам в первую же новолунную полночь погасить в фанзах огни и камлать. Так и поступили, а наутро увидели на реке пароход, буксирующий две баржи. Гольды испугались и, побросав свои жилища, убежали, кто куда мог. Найхинские гольды на лодках ушли вверх по Анюю. Хозяин фанзы сообщил, что от старых людей он слышал, будто бы русские в первый раз пришли со стороны моря, и никто не знал, какие это люди и зачем они пришли на Амур, а на другой год лоца приплыли сверху и остановились около озера Кизи. Некоторые гольды, ушедшие вверх по Анюю, остались там жить навсегда. Так образовались стойбища: Дуляля, Сира и Тахсале. Другие гольды ушли на озеро Болон-Оджал и тоже не вернулись. С той поры на Амуре гольдов стало меньше, а русские все увеличивались в числе, и остановить движение их было невозможно. Лет пятьдесят назад (1883 год) селение Найхин выгорело от пожара во время грозы. Гольды не особенно горевали, потому что по их представлению гром всегда бьетв то место, где долго сидит чорт. Иногда молния поражает чорта, скрывшегося в человеке. Если бы не случилось пожара от грозы, чорт своими кознями погубил бы много людей. Обсудив этот вопрос, старики сказали, что пожар от грозы принес им избавление от несчастий, и все остались довольны. Деревня была выстроена вновь на том же месте. Старик замолк и, уставившись глазами в одну точку, погрузился в воспоминания о временах, давно прошедших. Тогда я обратился к старшине с просьбой рассказать мне о рыжей змее, которую связывают с именем какой-то шаманки. Сначала он отмалчивался, но потом разговорился и рассказал мне следующее. Лет шестьдесят назад в большом гольдском селении Ховын на берегу озера Гаси родилась девочка с рыжими волосами. Уже это одно обстоятельство встревожило туземцев. Еще в детском возрасте она стала проявлять свой скверный характер: не хотела работать, выказывала старшим явное неповиновение и всегда дралась с другими ребятишками, пуская в дело ногти и зубы. Когда она достигла совершеннолетия, с ней стали делаться припадки, которые кончились буйным помешательством. Она бегала по деревням, бросалась на людей, била окна в фанзах, рвала рыболовные сети и отнимала у собак пищу. Неоднократно гольды связывали ее, но она всегда находила возможность освободиться от ремней и тогда бесчинствовала еще больше. Напрасно приглашали шаманов, напрасно они камлали и изгоняли злого духа. Ничего не помогало. Тогда гольды решили отвезти ее подальше в лес и там привязать к дереву. Так и сделали. Через несколько суток они пошли посмотреть, не умерла ли рыжая девка с голоду или не съел ли ее какой-нибудь дикий зверь. Но велико было их удивление, когда они увидели, что женщина исчезла, а веревки, которыми она была привязана, остались на месте и все узлы были целы. Как раз на том месте, где стояла она, на земле лежала шкурка большой змеи. Тогда все люди поняли, что женщину с рыжими волосами взял чорт. Вскоре после этого в селение Гаси стали один за другим умирать люди. Через год из ста домов осталось только сорок, потом двадцать. Напуганные гольды стали разбегаться по другим селеньям. На Гаси остались только два старика, но и они поплатились жизнью. В один прекрасный день их обоих нашли мертвыми. С той поры это место было заброшено, и на нем никто не решался селиться вновь. Тогда мертвая шаманка стала бродить по другим селениям, появляясь то красным волком, то какой-нибудь невиданной птицей, странной рыбой в неестественно яркой окраске, то рыжей змеей, и каждый раз появление ее приносило какое-нибудь несчастье. В это время заплакал ребенок. Я взглянул на часы. Была уже полночь. Все обитатели фанзы и кое-кто из гостей спали на канах. Старшина окликнул свою жену. Она поднялась, зевнула, почесала себе голову и полусонная стала кормить грудью ребенка. Попрощавшись с хозяином, я надел шляпу и вышел на улицу. Собиралась всходить луна, и от этого на небе было светлее, чем на земле. Неподвижно-теплый и влажный воздух был наполнен поденками и комарами. Где-то очень далеко, должно быть на другом берегу Амура, виднелся огонь. Темная вода в протоке блестела холодным блеском стали. Отдаленный собачий лай, крик какой-то птицы в лесу и шорохи зайцев в траве будили чуткую тишину ночи. В школе мои спутники давно уже спали. Я пробрался на свое место, но не мог уснуть. Меня беспокоили сведения, сообщенные гольдами. Они знали только стойбища своих сородичей и ничего не могли сообщить об удэхейцах, а также не знали, в бассейн какой реки мы попадем после перевала через Сихотэ-Алинь и скоро ли найдем туземцев по ту сторону водораздела. Наконец усталость начала брать свое, мысли стали путаться, и я незаметно погрузился в сон. Двадцать девятого утром явились гольды. Утренний чай не отнял у нас много времени. Собрав все имущество, мы перешли на берег и разместились в лодках. Когда имущество было уложено и все пассажиры сели на свои места, лодки отчалили от берега. Река Анюй в устье разбивается на шесть рукавов, образуя дельту, причем чистая его вода с такой силой входит в протоку Дырен, что прижимает мутную амурскую воду к противоположному берегу. Протока Дырен мелководна. Во многих местах на отмелях виднелись стволы деревьев с обломанными ветвями, принесенные сюда Анюем во время наводнения. Берега Амура и островов его состоят из чередующихся слоев песка и ила, но от села Пайхин вплоть до Троицкого в основе строения берегов и на дне Дыренской протоки лежат мощные слои окатанной гальки, нанесенной Анюем. Этой галькой заполнено также все низменное пространство правого берега в глубину километров на пять вплоть до возвышенностей Мыныму. Раньше Анюй впадал около села Троицкого. От устья Мыныму он поворачивал к северо-востоку и некоторое время тек вдоль хребта того же имени. Здесь можно видеть многочисленные его старицы, расположенные параллельными рядами и перпендикулярно к протоке Дырен. Между старицами также параллельными рядами расположились длинные релки, поросшие редколесьем из ильма. По ним видно, как Анюй постепенно отодвигался к юго-западу, пока не дошел до возвышенности пайхинского берега. Тогда началось заполнение Дыренской протоки. Недалеко то время, когда она совсем заполнится галькой. Бесчисленные множества отмелей и кос, выступающих на поверхность воды, уже налицо. Тогда Анюй пойдет по протоке к селению Торгон и будет впадать в Амур где-нибудь около острова Дондона. Едва мы отчалили от берега, как вдруг откуда-то сбоку из-под кустов вынырнула оморочка. В ней стояла женщина с острогой в руках. Мои спутники окликнули ее. Женщина быстро оглянулась и, узнав своих, положила острогу в лодку. Затем она села на дно лодки и, взяв в руки двухлопастное весло, подошла к берегу и стала нас поджидать. Через минуту мы подъехали к ней. Читатель, пожалуй, и не знает, что такое оморочка. Это маленькая лодочка, выдолбленная из тополя или тальника. Русское название «оморочка» она получила от двух слов — омо (один) и ороч (человек). Буквальный перевод, значит, будет «одночеловечка». Кроме того, русские иногда в шутку называют ее «душегубкой». Она очень неустойчива. От одного неосторожного движения она перевертывается, и неопытный человек попадает в воду. Нашей новой знакомой было лет сорок пять. Она принадлежала к роду Камедига. Немного скуластое, смуглое, загорелое лицо, темнокарие, почти черные, глаза и такие же черные волосы, заплетенные в две косы, острый подбородок, прямой нос с низкой переносицей — таков был ее облик. Движения ее были спокойны. Она держала себя с достоинством и на вопросы отвечала коротко. Одета она была, как и все другие женщины ее племени, но без украшений. От своих спутников я узнал, что она была вдова и имела двух взрослых сыновей, из которых один пошел по делам на Хор, а другой отправился на охоту за сохатым. Узнав, кто я такой, она только мельком взглянула на меня и не проявила ни малейшего любопытства. Поговорив немного, гольды взялись за шесты и пошли дальше. Женщина тоже оттолкнула свою оморочку от берега и затем встала на ноги. Легкое суденышко качалось и прыгало на волнах. Вдруг женщина подняла свой трезубец, метнула им в воду и тотчас подняла на воздух большую рыбину. Она сбросила ее в лодку и снова уперлась острогой в дно реки. Еще удар, и вторая рыбина запрыгала в лодке, а за ней последовала третья, четвертая… «Вот так женщина! — подумал я, любуясь ловкостью ее движений. — Плыть через перекаты реки, стоя в оморочке, да еще бить острогой рыбу — на это не всякий и мужчина способен. Видимо, эта женщина прошла суровую жизненную школу». За это время лодки разделились. Мы перешли к правому берегу, а женщина свернула в одну из проток. К сумеркам мы достигли устья реки Люундани, по соседству с которой, немного выше, стояли две юрты. Дальше мы не пошли и тотчас стали устраивать бивак. Было уже совсем темно. Мы сидели в односкатной палатке и смотрели на огонь, который весело пожирал сухие дрова. В это время на реке послышались тихие всплески, и вслед за тем из темноты вынырнула женщина на оморочке. Она пристала к берегу и втащила оморочку на берег. Подойдя к огню, она подала мне две большие рыбины и пару уток, которых тоже заколола острогою. Я поблагодарил ее и обещал дать ее сыновьям ружейных патронов, в которых, как я узнал, они очень нуждались. Женщина покурила у нашего огня, потом пошла к своей лодке и скрылась в темноте. С минуту слышны были всплески двухлопастного весла.Глава вторая Вверх по Анюю
Мы плыли по таким узким протокам, что лодку в них нельзя было повернуть обратно. Они пересекали одна другую и делали длинные петли. Скоро я потерял ориентировку, так что мне уже не помогал и компас. Наконец протоки кончились, и мы вошли в реку как-то сбоку, с южной стороны. Здесь течение было настолько быстрое, что о продвижении на веслах нечего было и думать. Гольды взялись за шесты. Такой способ передвижения — тяжелый труд. Работать приходится стоя. Для этого нужны сила, выносливость и уменье. Положение лодки очень неустойчивое: она все время качается, надо соблюдать равновесие и внимательно смотреть вперед. С непривычки у новичка кружится голова, и всякое неосторожное движение может вызвать катастрофу. Поэтому гольды просили нас сидеть спокойно и не мешать им работать. Трудно сказать, какой здесь ширины Анюй, потому что он разбивается на протоки, отходящие в сторону, иногда километров на десять. Там, где несколько рукавов сливалось вместе, ширина реки была от двухсот до трехсот метров при быстроте течения около шести километров в час. Как и у всех горных рек, фарватер проходитто у одного берега, то у другого, вследствие чего и отмели располагаются по сторонам реки в шахматном порядке. Древесная и кустарниковая растительность нижнего Анюя не может похвастаться разнообразием. По обе стороны реки расстилаются поемные луга с одиночными деревьями и высокими кустами по берегам проток. Н. А. Десулави отметил в своем дневнике амурскую липу с дуплистым корявым стволом, с узловатыми ветвями и с цветами, издающими довольно сильный аромат, затем — пробковое дерево с серой морщинистой корой, бархатистой на ощупь. Оно имеет ярко-желтую заболонь и листву, по внешнему виду похожую на ивовую. Там и сям виднелась амурская сирень, растущая кустарником, но такой величины, что каждую ветвь, выходящую из земли, можно было бы назвать деревом. Сирень имела темную с белесоватыми пятнами гладкую кору и сильно пахучие белые цветочные кисти. Рядом с сиренью на солнцепеках росла калина, имеющая вид развесистого куста с крупными черешковыми листьями и цветами двух сортов: чашеобразные плодонесущие в середине и снежнобелые бесплодные по краям. Здесь также много было дикого винограда, цепляющегося за другие растения. Иногда он так разрастался, что под ним совершенно скрывалась листва того дерева, которое он избрал своей опорой. Наши гольды все время лавировали от одного берега к другому, выбирая, где было не так глубоко и течение слабее. Когда лодка у поворота попадала в струю быстро идущей воды, где шесты не доставали дна, они брались за весла и гребли что есть силы. Течение сносило лодку назад к другому берегу. Тогда гольды на шестах опять выбирались против воды до следующего поворота и опять переплывали реку. Время от времени они приставали к отмелям, чтобы отдохнуть и покурить трубки. В этот день мы прошли только восемь километров и рано расположились биваком около протоки реки Сырэн Катаии. Со стороны леса все время неслись какие-то протяжные звуки, похожие, на крики коростеля, только более мелодичные. Я спросил гольдов, не знают ли они, кто их издает. Они ответили, что это кричит Мики, т. е. змея. Судя по описаниям их, это должен быть полоз. Они говорили с такой уверенностью, что я решил пойти по направлению услышанных звуков. Шагов через сотню я вышел на какую-то небольшую полянку. Звуки неслись как раз отсюда. Однако живое существо, издававшее их, было очень строгим и обладало хорошим слухом. Оно замирало или понижало крики и, видимо, прислушивалось к моим шагам. Это заставляло меня часто останавливаться и двигаться с большой осторожностью. Наконец я подошел к самым камышам и увидел, что внизу на земле толстым слоем лежала прошлогодняя трава. Как раз такие места любят большие полозы. И я и змея были настороже, оба прислушивались. Мики замерла совсем, но я вооружился терпением и долго стоял на одном месте, не делая никакого движения. Вдруг совсем близко, справа от себя, я услышал шорох и действительно увидел какое-то большое пресмыкающееся. Оно ползло под сухой травой, и только иногда части его тела показывались наружу. И тотчас немного впереди опять раздался тот же звонкий звук, похожий на певучее хрипение. Затем все стихло. Долго я стоял, но криков более не повторилось. Я вернулся назад. Уже смеркалось совсем. Ночь обещала быть ясной и тихой. По небу плыли редкие облачка, и казалось, будто луна им двигалась навстречу. Со стороны высохшего водоема по-прежнему неслись те же тоскливые мелодичные крики, а на другом берегу дружным хором им вторили лягушки. Пока варился ужин, я успел вычертить свой маршрут. Когда стемнело, Крылов, Чжан-Бао и Косяков пошли ловить рыбу. Небольшим неводком они поймали одного тайменя и одного сазана. Сопровождавшие нас гольды сообщили, что таймень в Анюе вообще попадается редко, а сазан довольно обычен в нижнем течении реки. Около устья в тихих заводях держатся щуки крупных размеров и сомы. Из лососевых по Анюю в массе идет только кета, горбуши нет вовсе. Когда мы вернулись с рыбацкой ловли, было уже темно. На биваке горел большой костер. Ярким трепещущим светом были освещены стволы и кроны деревьев. За день мы все устали и потому рано легли спать. Окарауливали нас собаки. На другой день гольды подняли всех на ноги при первых признаках приближающегося утра. Они торопили нас и говорили, что будет непогода. Действительно, по небу бежали большие кучевые облака с разорванными краями. Надо было ждать дождя. В низовьях на протяжении тридцати километров Анюй течет с юго-востока к северо-западу; потом он делает большую петлю и поворачивает на запад, каковое направление и сохраняет до впадения своего в Амур. На этом участке в последовательном порядке от устья вверх по реке можно отметить следующие протоки и ориентировочные пункты. С правой стороны реки по течению река Мулому и недалеко от нее река Мыныму, затем протока Перегдыма и местность Хохтоасо, а с левой стороны — небольшие протоки Далеко и Кутэ, затем протоки Сырэн Катани и Яука и местность Суарэн с пустым балаганом и протокой Хоулосу. В том месте, где Анюй делает поворот с востока к северо-западу, местность называется Баган (по-русски «Балаган»). Восточнее ее находится устье протоки Кан. Гольды хорошо знали реку и, где можно, сокращали путь, пользуясь протоками, иногда же, наоборот, предпочитали итти старицей, хотя она и была длиннее нового русла, но зато течение в ней было спокойнее. Туземцы не пропускали ни одной галечниковой отмели, которые они называли «песками», и вели им счет до фанзы Дуляля, конечного пункта их плавания по Анюю. Низовья Анюя считаются самым мошкариным местом на Амуре. И действительно, этих крылатых кровопийц здесь было так много, что решительно нельзя было смотреть и дышать. Они лезли в глаза, в рот, набивались в уши. Без предохранительных сеток на лице и без нарукавников и перчаток работать на открытом воздухе решительно невозможно. Мошка принадлежит к двукрылым. Она имеет вид маленькой мухи, но с более длинными крыльями, чем у последней. Кроме того, головогрудь у нее явственно отделяется от брюшка, отчего она имеет некоторое сходство с осою. По-видимому, мошка сгрызает эпидерму с кожи и пьет выступающую наружу кровь, чем и объясняется сильнейший зуд в пораженных местах. Приблизительно через час плавания мы достигли фанзы Дуляля. Она ничем не отличалась от других гольдских фанз Найхина, разве только меньшими размерами и более замысловатой резьбою. Когда лодки причалили к берегу, из дверей фанзы выбежали двое ребятишек пяти-шести лет. Они были в расстегнутых рубашках, без штанов и босиком. Трудно сказать, отчего их кожа имела такой смуглый оттенок: от загара, от копоти, от грязи или это была ее естественная пигментация. Узнав, что в лодках сидят лоца, мальчишки вдруг сделали испуганные лица и убежали назад. Через минуту появился сам хозяин. Он протянул мне руку и помог выйти на берег. В фанзе обитало трое мужчин, две женщины и трое детей. Опять началось угощение чаем и сухой юколой. Гольды говорили, что назавтра надо ждать ненастья, потому что появилось много мошки и она больно кусалась. Они заметили также, что рыба в протоках всплывала на поверхность воды и хватала ртом воздух. Уже после полудня небо стало затягиваться паутиной слоистых облаков. Когда стемнело, небо было совсем заволочено тучами. Пошел дождь, который не прекращался подряд двое суток. Видя, что ненастье принимает затяжной характер, я решил итти дальше, невзирая на непогоду. Отсюда амурские гольды возвратились назад, а на смену им взялись провожать меня обитатели фанзы Дуляля. Они говорили, что вода в реке может прибывать и тогда плавание на лодках станет совсем невозможным. Это были убедительные доводы. Узнав о нашем решении, гольды тотчас стали coбираться. Но тут произошло курьезное событие. Хозяин фанзы, дотоле веселый и разговорчивый, вдруг рассердился. Он достал унты, которые вчера надел только один раз, и на подошве их уже оказались дырки. Он начал ругаться, потом схватил обувь и швырнул ее в угол. Скоро все разъяснилось. Унты бывают различной прочности. Обычно летом они носятся неделю-две, но эти проносились в один день. Плохая примета! Унты разбираются в людях. Если человек, надевший их, пришелся им по душе, они будут носиться долго, если же нет — скоро сносятся. Хозяин фанзы был вне себя. Жена подала ему новые унты и затем с серьезным видом подняла на палку продырявленную обувь, вынесла ее из фанзы и бросила с руганью в сторону собак. Наконец, все было улажено. Как будто и дождь начал стихать. Гольды уложили грузы в лодки, указали места пассажирам, разобрали весла, шесты и тронулись в путь. Но погода нас обманула. После короткой передышки снова пошел дождь, и в завершение несчастья случилась авария. В одной из проток гольды подошли к плавнику и как-то по неосторожности поставили лодку боком против течения. Вода тотчас хлынула через борт и в одно мгновение наполнила лодку до краев. К счастью, тут было мелко. Мы выскочили из лодки, на руках подтащили ее к берегу. От этой аварии особого несчастья не случилось, но весь груз наш промок, что вынудило нас раньше времени стать на бивак и просушивать на огне всю одежду. Пройдя протоки Ерга и Кауаса, гольды причалили к берегу. Они стали оправлять лодки и распределять запасные шесты и весла так, чтобы они всегда были под рукой. Гольды были чем-то озабочены. Когда мы поплыли дальше, один из гольдов, находившийся впереди лодки, часто вставал и подолгу всматривался вперед. Я спросил его, в чем дело. В ответ на это он сделал мне знак, чтобы я молчал. Я стал вслушиваться, и тотчас же ухо мое уловило какой-то шум. Он становился явственнее и определеннее. В это время гольд, стоявший в носовой части лодки, протянул вперед руку и произнес одно только слово «Иока». Я тоже поднялся на ноги и увидел огромный сулой в том месте, где две протоки сливались вместе. Сулой Иока имел вид большого водяного бугра, высотою до полутора метров и в диаметре около восьми метров. Здесь сталкивались два течения, идущие друг другу навстречу. Громадное количество воды, выносимое обоими протоками, не могло вместиться в русло реки. Ее вздымало кверху большим пузырем, который все время перемещался и подходил то к одному, то к другому берегу реки. Вода точно кипела и находилась в быстром вращательном движении, разбрасывая по сторонам белую пену. На вершине водяного бугра время от времени образовывалась громадная воронка. Она появлялась сразу, быстро увеличивалась в размерах, производила всасывающий звук и затем так же неожиданно исчезала. Гольды причалили к берегу и начали разгружать лодки. Часть гольдов принялась переносить грузы, а другая пошла осматривать и исправлять просеку, устроенную для переволока. Старые порубки и сильно потертый на земле колодник указывали, что переволок этот существует давно и не мы первые и последние пользуемся им, чтобы обойти опасный сулой стороной. У гольдов были две охотничьи собаки. Мы заняли их места в лодках, и четвероногие пассажиры должны были теперь бежать по берегу и часто переплывать протоки. Первая встреча гольдских лаек с нашими собаками носила враждебный характер. Они недружелюбно поглядывали друг на друга, скалили зубы, но потом подружились и побежали вместе догонять лодки, успевшие уйти уже далеко вперед. Лайки бежали впереди, а наши собаки — сзади. Последний раз мы видели всех их на левом берегу Анюя и рассчитывали, что они прибегут после переволока. Но когда мы принялись перетаскивать лодки в обход сулоя, собаки появились на другой стороне. Лайки и две наши собаки побежали дальше, а одна легавая поплыла прямо через Анюй. Напрасно казаки гнали ее прочь и бросали камнями. Она не замечала опасности и едва отделилась от берега, как сильная струя воды подхватила ее и понесла к сулою. Несчастное животное попало в водоворот и на наших глазах утонуло. В этот день мы прошли только восемь километров и заночевали в стойбище Котофу Датани, состоявшем из трех юрт, в которых жило шесть мужчин, пять женщин и двое детей. Перед сумерками я хотел было пройтись вдоль берега с ружьем, но обилие мошкары принудило меня вернуться в фанзу. Рассчитывали мы отдохнуть и подкрепиться сном, но подверглись нападению несметного количества блох, не давших ни на минуту сомкнуть глаз. Когда стало светать, я оделся и вышел из фанзы. Было холодно и сыро. Серое небо моросило дождем. В сухой протоке (позади гольдского жилища), которую я вчера перешел, не замочив ног, появилась вода. Значит, Анюй начал выходить из берегов. Я вернулся назад и стал будить гольдов. Часа через полтора мы покинули стойбище Котофу Датани и опять пошли на шестах против воды. В этих местах Анюй имеет широтное течение с легким склонением к северу. С левой стороны находятся два урочища, а выше их протока Колдони. Около устья последней приютилась еще одна гольдская фанзочка Сира. Я думал, что мы пройдем дальше, но усиливавшееся ненастье позволило дойти лишь до последней гольдской фанзы Тахсале. Спустя часа полтора после нашего прибытия, когда мы сидели на канах и пили чай, в помещение вошла женщина и сообщила, что вода в реке прибывает так быстро, что может унести все лодки. Гольды немедленно вытащили их подальше на берег. Однако этого оказалось недостаточно. Поздно вечером и ночью еще дважды оттаскивали лодки. Вода заполнила все протоки, все старицы реки и грозила самому жилищу. Это наводнение принудило нас просидеть на одном месте целую неделю. Томительно долго тянулось время. Я занимался этнографией и собирал сведения о гольдах и соседях их удэхейцах. Между прочим, здесь я узнал, что Анюй в верховьях течет некоторое время вдоль западного склона Сихотэ-Алиня, охватывая истоки Хора, а после принятия в себя притока Гобилли, текущего ему навстречу, поворачивает на запад, уклоняясь то немного к северу, то к югу, и впадает в протоку Дырен. От гольдов я также узнал, что сородичи их живут только по нижнему течению реки, а удэхейцы — выше, до местности Улема, а в верхней половине Анюй совершенно необитаем. Далее те же гольды сообщили, что для того, чтобы достигнуть моря, нам потребуется времени по крайней мере суток тридцать. Впоследствии я узнал, что не только наводнение являлось причиной нашей задержки, но были и другие обстоятельства. Дело в том, что гольды боятся Анюя и выше фанзы Тахсале никогда не заходят. Им было известно, что удэхейцы собирались спускаться на ботах вниз по реке, и они решили здесь ждать их в Тахсале, чтобы передать нас, а самим ехать домой. Они не ошиблись в расчетах. Действительно, 9 июля сверху пришли удэхейцы на двух лодках. В тот же день утром мы попрощались с гольдами и вручили судьбу свою в руки настоящих лесных людей, тогда еще мало затронутых цивилизацией. Наши новые знакомые принадлежали к роду Кялондига. Старший из них был сорока лет, а другим было от двадцати до двадцати пяти лет. Лица их были настолько загорелы, что имели даже несколько оливково-красный оттенок. Удэхе носили по две короткие косы, туго обмотанные красными шнурами и украшенные золочеными пуговицами. Пожилой удэхеец имел в левом ухе небольшую серебряную серьгу. Головных уборов ни у кого не было. Одежда их состояла из длинных рубах, сшитых из китайской синей дабы с застежками сбоку и подпоясанных тонкими ремешками с напуском по талии. На ногах у них были надеты короткие узкие штаны и наколенники из той же дабы. В общем костюмы удэхейцев, орнаментированные спиральными и волнистыми линиями, напоминающими рога оленей, имели вид красивый и элегантный. Лодка лесного жителя представляет собой нечто вроде длинного долбленого корыта с плоским дном, скошенной кормой и прямой стенкой на носу. От этой стенки, составляющей одно общее с днищем, выдается вперед нос в виде большой деревянной лопаты. Он имеет несколько овальную форму и от воды подымается кверху так, что конец его приходится на уровне с бортами лодки. Такая лодка называется «улимагда» и долбится из тополя. Она легка, удобоуправляема и сконструирована так, что не режет, а взбирается на воду и может проходить через самые мелкие перекаты. Длина улимагды среднего размера — 5–6 метров, высота 50–60 сантиметров и грузоподъемность при двух пассажирах около 30–35 пудов. Кладь распределяется равномерно по всей длине лодки. Пассажиры садятся на берестяную подстилку, положенную прямо на дно. Чтобы борта не распирало, они в нескольких местах скреплены поперечинами. Удэхейцы помещаются на носу и на корме. Грозный вид имела теперь река: все острова и мели были покрыты водою, течение усилилось до десяти километров в час. После столь длительного ненастья как будто установилась хорошая погода. Теплые солнечные лучи оживили природу. На листве деревьев и в траве искрились капли дождевой воды, которую еще не успел стряхнуть ветер; насекомые носились по воздуху, и прекрасные бабочки с нежно-фиолетовой окраской реяли над цветами. Казалось, они совершенно забыли о вчерашнем ненастье, вынудившем их, как и нас, к бездействию в течение семи долгих суток. Удэхейцы работали шестами сильно и, насколько позволяла большая вода, довольно скоро подвигались вперед. После фанзы Тахсале с правой стороны (по течению) реки будут лесистые местности Конко и Ади, немного выше небольшая протока Дуйдальдо и против нее речка Хаскандяони с урочищем Мазампо. В полдень мы сделали большой привал. Хорошая погода, красивая река, встреча с удэхейцами подняли настроение моих спутников. Вчерашние невзгоды были забыты. В ожидании, когда сварится обед, я немного углубился в тайгу, чтобы ознакомиться с растительностью. Прежде всего мне в глаза бросился маньчжурский ясень, ствол которого легко узнать по правильно расположенной вдоль коры трещиноватости и по ланцетовидным остроконечным листьям. Тут же рос вяз с характерной светло-синеватой корой. Древесина вяза содержит в себе, по-видимому, много воды. Пуля ружья, пробивающая два-три сухих дерева насквозь, редко пройдет сквозь один вяз, если он имеет полтора-два обхвата в окружности. Потом я увидел амурскую липу. Я узнал ее по толстому приземистому стволу, большим угловатым сучьям и блестящей темной листве. Несколько в стороне от нее виднелся прямой ствол маньчжурского ореха. Крупные листья его расположены розетками по концам ветвей, отчего каждая из них похожа на пальму. Вероятно, здесь росли и другие представители маньчжурских широколиственных пород, но я вынужден был прекратить свою ботаническую экскурсию, побуждаемый к тому окриками моих спутников, приглашавших меня вернуться на бивак поскорее. Подлесок здешней тайги состоял из сорбарии. Она только что начинала цвести. В тех местах, куда проникали солнечные лучи, произрастала сибирская вероника с шестью сидячими (розеткой) продолговато-ланцетовидными листьями и бледно-фиолетово-синими цветами, вроде остроконечных султанчиков. Я торопился и замечал только то, что случайно мне бросалось в глаза. В одном месте я заметил какую-то крупную чемерицу с большими остроконечными плойчатыми листьями и темными цветами. В стороне мелькнули папоротники с вайями, весьма похожими на страусовые перья, и всюду в изобилии рос амурский виноград с шелушащейся корой коричневого цвета. Он окутывал кустарники и взбирался на деревья повыше к солнцу. На привале все уже было готово, задержка была только за мной. Наскоро я выпил кружку полугорячего чая и велел укладывать вещи в лодки. Удэхейцы шли больше протоками и избегали главного фарватера. Иногда они проводили лодки через такие узкие места в колоднике, что лодки задевали сразу обоими бортами. Я любовался их находчивостью и проворством. Они часто пускали в ход топоры, прорубали в плавнике узкую лазеечку и неожиданно выходили снова на Анюй. По словам наших проводников, река часто выходит из берегов и затопляет лес. Тогда удэхейцы бросают свои юрты и стараются спуститься к Амуру. Случается, что в течение целого дня они не могут найти сухого места, чтобы развести огонь. Спать и варить пищу приходится в лодках. Вскоре мы миновали речку Моди и местность Хельдиони, потом прошли протоки Сюада, Кузыгзе и Чугудуони и засветло прибыли в стойбище Хонко, расположенное около сопки, носящей то же название. Пользуясь свободным временем, я оставил своих спутников устраивать бивак, а сам поднялся на гору. Я шел по прекрасному смешанному лесу с примесью кедра. Вершина сопки Хонко казалась плоской. Это вынудило меня взобраться на дерево. Прежде всего я увидел, что гора Хонко была конечной вершиной длинной гряды, которая шла к юго-западу и, по-видимому, служила водоразделом между рекой Хор и бассейном части нижнего Амура (от Хабаровска до Анюя). С этой стороны в поле моего зрения была небольшая долина реки Моди с притоком Чу. От горы Хонко Анюй сильно забирает к северо-востоку и подмывает правый край этой долины. К западу, насколько хватает глаз, расстилалось море лесов. Кое-где между деревьями блистала вода. Внизу у подножья сопки приютился наш отряд. Лодки были вытащены подальше на отмель, чтобы ночью не унесло их водою. На биваке горел костер. От него тонкой струйкой кверху поднимался дымок. Я спустился с дерева и хотел было итти назад, как вдруг увидел какую-то большую птицу и тотчас узнал в ней скопу. Она была белого цвета с черными концами крыльев и темными пятнами по всему телу. Скопа держала в лапах рыбину и летела к сухостойному дереву, на вершине которого было ее гнездо. Желая получше рассмотреть птицу, я стал осторожно продвигаться вперед, но птица бросила свою добычу и полетела прочь. Рыба стала падать с ветки на ветку и застряла на одном сучке. Когда я подошел к дереву, то увидел, что корни его сильно запачканы птичьими экскрементами и на земле валялись еще четыре дохлые рыбы, издававшие зловоние. Как я ни старался разглядеть молодых скоп, они не показывались. Птенцы видели испуг матери и притаились. Потом я заметил большого ворона. Наподобие хищной птицы, он парил в воздухе. Я узнал его по мелодичному карканью. Ворон описывал спиральные круги и поднимался все выше и выше. Скоро ветви деревьев заслонили небо, и я совсем потерял его из виду. Около небольшой проточки из зарослей вылетели два рябчика. С характерным шумом поднялись они с земли и, спрятавшись в чаще, стали перекликаться между собой. Скоро я нашел одного рябчика. Он медленно ходил по ветке ясеня, вытягивал шейку, прислушивался и начинал свистеть. Я спугнул рябчика неосторожным движением, и он улетел дальше — в чащу леса. Когда я подходил к реке, то вдруг увидел что-то яркое и синее, мелькнувшее около самой воды. Это оказался зимородок. Отлетев немного, он опять уселся в лозняке. Здесь я мог его хорошо рассмотреть. Небольшая птичка, казалось, сгорбилась и как будто спрятала голову в плечи, выставив вперед только длинный клюв. Общая окраска ее была буровато-красная с синевой по бокам. Я сделал еще два шага и спугнул птичку. В воздухе опять мелькнула изумрудно-синяя спинка. Зимородок издал слабый крик и исчез в прибрежных кустах. Когда я подходил к биваку, солнце только что скрылось за горизонтом. За горами его не было видно, уже чувствовалось приближение сумерек. Мои спутники были все в сборе. После ужина меня стало клонить ко сну. Завернувшись в одеяло, я лег около огня и сквозь дремоту слышал, как Чжан-Бао рассказывал казакам о Великой китайской стене, которая тянется на 7 000 ли[308] и которой нет равной во всем мире. По ассоциации я вспомнил вал Чакири Мудун, который начинается где-то около Даубихе в Уссурийском крае и на многие десятки километров тянется сквозь тайгу с востока на запад. Вот он поднимается на гору, дальше контуры его становятся расплывчатыми, неясными, и, наконец, он совсем теряется в туманной мгле… Наутро я проснулся раньше других. Костер погас. Казаки спали вповалку, прикрывшись одним полотнищем палатки. Удэхейцы устроились на ночь под лодками. Часа через полтора мы снова плыли вверх по Анюю. Теперь горы подошли к реке с правой стороны. Здесь находится перевал в долину реки Мыныму, о котором говорилось выше. С другой стороны тянется длинная и живописная протока Пунчи. В нее впадает речка Ачжю, против устья которой находится небольшое стойбище удэхейцев того же названия. Пунчи местами разбивается на несколько мелких рукавов, заваленных колодником и весьма опасных во время наводнения. Левый берег протоки скалистый. У подножья береговых обрывов в глубоких водоемах держится много рыбы, преимущественно ленков. Двадцать четвертого июля мы достигли местности Улема, где были расположены пять юрт. Здесь от удэхейцев я узнал, что с Анюя на реку Хади попасть нельзя, что верховья первой соприкасаются на севере с бассейном Хуту, а на юге с реками Копи и Самаргой. Хади же — небольшая речка, по которой никто не передвигается ни летом, ни зимою. Передо мной встал вопрос: итти на Копи или же на Хуту? Я выбрал последнее. На другой день я хотел было итти дальше, но в это время с одним из наших проводников сделался припадок. Он валялся на земле и кричал «Анана! Анана!» (т. е. больно, больно). Все остальные удэхейцы отнеслись к больному очень сочувственно и всячески старались облегчить его страдания. Тотчас на Ачжю были посланы два человека. В сумерки они вернулись и привезли с собою шамана из рода Кимунка. Это был мужчина среднего роста, лет пятидесяти от роду, весьма молчаливый. Загорелое лицо его, смуглое с красноватым оттенком, было лишено усов и бороды. Он носил длинные волосы, заплетенные в одну косу, и был одет в свой национальный костюм, лишенный вышивок и каких бы то ни было украшений. Женщины встретили старика на берегу и отнесли в юрту его вещи. Войдя в помещение, шаман сел на цыновку и закурил трубку. Удэхейцы стали ему рассказывать о больном. Он слушал их с бесстрастным лицом и только изредка задавал вопросы. Потом он велел женщинам принести несколько камней, а сам пошел тихонько вдоль берега. Я стал следить за ним глазами. Шаман часто останавливался, как будто что-то искал на земле, всматривался в воду и озирался по сторонам. Первое живое существо, какое он заметит, должно быть севоном (изображением духа), который может бороться с недугом. Спустя несколько минут он воротился и сообщил, что видел «соксоки» (коршуна). Затем он взял принесенные камни и высыпал их на землю раз-другой и смотрел, как они располагаются по отношению к юрте, где находился больной, и по отношению друг к другу. Это был своего рода гороскоп. Выбрав один из камней, он перевязал его жильной ниткой, конец которой взял в правую руку. Потом шаман сел на землю, скрестив ноги. Один из удэхейцев накрыл ему голову какой-то тряпицей. Шаман поднял камень с земли и дал ему «успокоиться». Долго он сидел в неподвижной позе и, казалось, задремал. Впоследствии я узнал, что в это время он мысленно перебирал всех известных ему севонов, в образе которых злой дух мог вселиться в человека. При упоминании виновного севона камень должен притти в движение. Прошло несколько минут, и вот камень в опытной руке шамана пошевельнулся. Шаман так ловко устраивал свои фокусы, что камень стал медленно поворачиваться сначала в одну, потом в другую сторону. Севон «злого духа» был найден. Это лисица — «чигали». Шаман встал и направился к юрте больного. Когда последний увидел приближающихся людей, он стал еще более метаться и кричать. Началось камланье. Старик надел на себя пояс с позвонками, в левую руку взял большой бубен, а в правую колотушку, имеющую вид выгнутой пластинки, обтянутой мехом выдры и оканчивающейся ручкой, украшенной на конце резной головой медведя. Шаман стал петь свои заклинания сначала тихо, а потом все громче и громче. Он неистово бил в бубен и потрясал позвонками. Больной пришел в сильное волнение. Несколько человек держали его за ноги и за руки. В это время один из удэхейцев принес в юрту грубое изображение лисы, сделанное из травы, и поставил его около огня. Шаман с пляской подошел к больному. Он наклонился к нему и стал колотушкой как бы снимать со своего пациента болезнь и переносить ее на травяное чучело, а затем вдруг закричал громко и протяжно «эхе-хе-э». Тогда «чигали» вынесли из юрты и спрятали где-то в лесу, а около больного воткнули в землю палочку, к концу которой было привязано изображение коршуна, вырезанное из бересты. Минут через двадцать больной, очевидно ослабевший после острого нервного возбуждения, стал успокаиваться и скоро погрузился в сон. На другой день 6н был так слаб, что не мог нам сопутствовать. Нечего делать, пришлось продневать еще один день. Тогда я решил отправиться на экскурсию по правому берегу реки. Отойдя от стойбища шагов триста, я вышел на отмель, занесенную песком. Здесь мое внимание привлекли к себе небольшие жуки светло-шоколадной окраски с белыми пятнышками на надкрыльях. Они хорошо летали, проворно бегали по песку и ловко прыгали. Жуки были все время настороже. При каждой моей попытке приблизиться к ним они поднимались на воздух и, отлетев немного в сторону, снова садились на песок. Тогда я решил не двигаться и ждать, когда они сами приблизятся ко мне. Так и случилось. Жуки двигались порывами, останавливались и делали неожиданные прыжки в стороны. Они охотились за насекомыми, которых тут же и пожирали. Вдруг около моих ног кто-то с размаху ударился о землю. Большая оса-охотница напала на паута. Повалив его на землю, она подогнула брюшко и дважды уколола его своим жалом. Мгновенно паут был парализован. Затем оса схватила свою жертву челюстями и, придерживая ее лапками, поднялась на воздух. Парализованный паут предназначался на корм личинке. Около самой воды над какой-то грязью во множестве держались бабочки средней величины кирпично-красного цвета с темными пятнышками на крыльях. Они все время то раскрывали, то закрывали крылышки, и тогда чешуйки на них переливались синими и лиловыми тонами. Иногда над рекой пролетали дивной красоты махаоны с черно-синими передними и изумрудно-синими с металлическим блеском задними крыльями. Последние имели длинные отростки на концах. Все же здесь на Анюе они не достигали таких размеров, как в Южно-Уссурийском крае. Из царства пернатых я заметил крохалей. Было как раз время линьки. Испуганные птицы не могли подняться на воздух. Несмотря на быстроту течения реки, они удивительно скоро перебегали вверх по воде, помогая себе крыльями, как веслами. Случайно я поднял глаза к небу и увидел двух орлов: они плавно описывали большие круги, поднимаясь все выше и выше, пока не превратились в маленькие точки. Трудно допустить, чтобы они совершали такие заоблачные полеты в поисках корма, трудно допустить, чтобы оттуда они могли разглядеть добычу на земле. По-видимому, такие полеты являются их органической потребностью. На обратном пути я увидел трясогузку. Миловидная птичка стояла на камешке около самой воды и грациозно помахивала своим хвостиком. Вдруг она поднялась на воздух и как-то странно стала летать, то бросаясь вперед, то держась на одном месте и трепеща крыльями. Трясогузка ловила какое-то насекомое. Видно было, как она старалась схватить его и как будто клевала воздух. По-видимому, трясогузка или поймала насекомое, или испугалась меня, потому что вдруг бросилась в сторону и полетела вдоль берега, то снижаясь к воде, то снова поднимаясь кверху. Около полудня я возвратился на бивак и занялся вычерчиванием съемки. Выйдя из палатки, я увидел, что Чжан-Бао и удэхеец Маха куда-то собираются. Они выбрали лодку поменьше и вынесли из нее на берег все вещи, затем положили на дно ее корье и охапку свеженарезанной травы. На вопрос мой, куда они идут, Чжан-Бао ответил: — Фан-чан Да-лу (оленя стрелять). Я высказал желание присоединиться к ним. Он передал мою просьбу удэхейцу, тот мотнул головой и молча указал мне место в середине лодки. Через минуту мы уже плыли вверх по Анюю, придерживаясь правого берега реки. Смеркалось… На западе догорала последняя заря. За лесом ее не было видно, но всюду в небе и на земле чувствовалась борьба света с тьмою. Ночные тени неслышными волнами уже успели прокрасться в лес и окутали в сумрак высокие кроны деревьев. Между ветвями деревьев виднелись звезды и острые рога полумесяца. Через полчаса мы достигли протоки Ачжю. Здесь мои спутники остановились, чтобы отдохнуть и покурить трубки. Удэхеец что-то тихонько стал говорить китайцу, указывая на протоку, и дважды повторил одно и то же слово: «Кя(н)га». Я уже начинал понемногу овладевать языком удэхейцев, обитающих в Уссурийском крае, и потому без помощи переводчика понял, что дело идет об охоте на изюбра, который почему-то должен был находиться в воде. За разъяснениями я обратился к Чжан-Бао. Он сказал, что в это время года изюбры спускаются с гор к рекам, чтобы полакомиться особой травой, которая растет в воде по краям тихих лесных проток. Я попросил показать мне эту траву. Удэхеец вылез из лодки и пошел искать ее по берегу. Через минуту он вернулся и на палке принес довольно невзрачное растение с мелкими листочками. Это оказался водяной лютик. Покурив трубку, Чжан-Бао и Маха нарезали ножами древесных веток и принялись укреплять их по бортам лодки, оставляя открытыми только нос и корму. Когда они кончили эту работу, последние отблески вечерней зари погасли совсем; воздух заметно потемнел, и на землю стала быстро спускаться темная ночь. — Капитан, — обратился ко мне Чжан-Бао, — твоя сиди тихо, говори не надо. Затем мы разместились так: сам он сел впереди с ружьем, я посредине, а удэхеец — на корме с веслом в руках. Шесты были положены по сторонам, чтобы они во всякую минуту были под руками. Когда все было готово, Маха подал знак и оттолкнул веслом челнок от берега. Лодка плавно скользнула по воде. Еще мгновение, и она вошла под темные своды деревьев, росших вперемешку с кустарниками по обеим сторонам протоки. Удэхеец два раза гребнул веслом и затем предоставил нашу утлую ладью течению. Не вынимая весла из воды, он легким, чуть заметным движением руки направлял ее так, чтобы она не задевала за коряжины и ветви деревьев, низко склонившихся над протокой. Сначала мне показалось, что лодка стоит на месте, но вскоре я заметил, что берег медленно двигается нам навстречу. Темные силуэты кустов и бурелом, нанесенный бог знает откуда водою, один за другим появлялись из темноты и бесшумно, словно привидения, проходили, скрываясь снова за поворотом протоки. Ночь была необычайно тихая. В великом безмолвии чувствовалось какое-то напряжение. Чжан-Бао весь превратился в слух и внимание; я сидел неподвижно, боясь пошевельнуться, удэхейца совсем не было слышно, хотя он и работал веслом. Лодка толчками продвигалась вперед и легонько покачивалась на воде. Впереди ничего не было видно, и в тех случаях, когда мне казалось, что протока поворачивает направо, удэхеец направлял лодку в противоположную сторону или шел прямо в кусты. Удэхеец хорошо знал эти места и вел лодку по памяти. Один раз Чжан-Бао сделал мне какой-то знак, но я не понял его. Вслед за тем Маха положил мне весло на голову и слегка надавил им. Я тогда сообразил, в чем дело, и едва успел пригнуться, как совсем близко надо мною пронесся сук большого дерева, растущего, в сильно наклоненном положении. Лодка нырнула в темный коридор, одна ветка больно хлестнула меня по лицу. Я закрыл глаза; кругом слышался шум волн, и вдруг все сразу стихло. Я оглянулся назад и среди зарослей во мраке не мог найти того места, откуда мы только что вышли на широкий спокойный плес. Он показался мне сначала озером, но потом я ясно различил оба берега, покрытые лесом. В это время Чжан-Бао легонько толкнул челнок рукою в правый борт; удэхеец понял этот условный знак и тотчас повернул лодку к берегу. Через минуту она тихонько скрипнула дном по песку. Я хотел было спросить, в чем дело, но, заметив, что мои спутники молчат, не решился говорить и только осторожно поправил свое сиденье. Берег, к которому мы пристали, был покрыт высокими травами. Среди них виднелись какие-то крупные белые цветы, должно быть пионы. За травой поднимались кустарники, а за ними — таинственный и молчаливый лес. Вдруг направо от нас раздался шорох, настолько явственный, что мы все трое сразу повернули головы. На минуту шум затих, затем опять повторился, на этот раз еще явственнее. Я даже заметил, как колыхалась трава, словно кто шел по чаще, раздвигая густые заросли. При той тишине, которая царила кругом, шум этот показался мне очень сильным. Чжан-Бао приготовил ружье и караулил момент, когда животное покажется из травы, но удэхеец не стал дожидаться появления непрошенного гостя: он проворно опустил весло в воду и, упершись им в песчаное дно, плавным, но сильным движением оттолкнул лодку на середину протоки. Течение тотчас подхватило ее и понесло снова вдоль берега. Отойдя метров двести от места первого причала, мы опять подошли к зарослям. Только что лодка успела носом коснуться берега, как опять послышался шорох в траве. Тогда Чжан-Бао два раза надавил на левый борт лодки. По этому сигналу удэхеец, отведя немного лодку от берега, стал бесшумно сдерживать ее веслом против воды, время от времени отдаваясь на велю течения. Шум по берегу в зарослях следовал параллельно нам. Стало ясно, что таинственный зверь следил за нашей лодкой. Потом он стал смелее, иногда забегал вперед, останавливался и поджидал, когда неизвестный предмет, похожий на плавник с зелеными ветвями, поровняется с ним, и в то же время он чувствовал, быть может и видел, что на этом плывущем дереве есть живые существа. Я не спускал глаз с берега и по колыхающейся траве старался определить местонахождение зверя. Один раз мне показалось, что я вижу какую-то длинную тень, но я не уверен, что это действительно было животное. Вдруг Чжан-Бао шевельнулся и стал готовиться к выстрелу. Впереди, шагах в двухстах от нас, кто-то фыркал и плескался в реке. Широкая протока здесь делала поворот, и потому на фоне звездного неба, отраженного в воде, можно было кое-что рассмотреть. Китаец быстро поднял вверх руку, и удэхеец сразу поставил лодку в такое положение, чтобы удобно было стрелять. В это мгновение я увидел изюбра. Благородный олень стоял в воде и время от времени в холодную темную влагу погружал свою морду, добывая со дна водяной лютик. Лодка, влекомая тихим течением, медленно приближалась к животному. Но вот изюбр насторожился, поднял голову и замер в неподвижной позе. Слышно было, как с морды его капала вода. Вдруг в кустах, как раз против нашей лодки, раздался сильный шум. Таинственное животное, все время следившее за нами, бросилось в чащу. Испугалось ли оно, увидев людей, или почуяло оленя, не знаю. Изюбр шарахнулся из воды, и в это время Чжан-Бао спустил курок ружья. Грохот выстрела покрыл все другие звуки, и сквозь отголосок эха мы все трое ясно услышали тоскливый крик оленя, чей-то яростный храп и удаляющийся треск сучьев. С песчаной отмели сорвались кулички и с жалобным писком стали летать над протокой. Когда все смолкло, Маха направил лодку к тому месту, где был изюбр, но там оказалось мелко. Пришлось спуститься еще на несколько метров, и только тогда явилась возможность пристать к берегу. Оба охотника тотчас пошли за берестой, а я остался около лодки. Прошло несколько минут, а они все еще не возвращались. Вдруг влево от меня зашевелилась трава. Мне стало жутко, но в это время послышались голоса. Я поборол чувство страха и пошел навстречу своим спутникам. Из принесенного березового корья удэхеец сделал факел. Разжегши его, мы пошли посмотреть, нет ли крови на оленьих следах. Крови не оказалось: значит, Чжан-Бао промахнулся. Придя назад к берегу, Маха положил факел на землю и бросил на него охапку сухих веток. Тотчас вспыхнуло яркое пламя, и тогда все, что было в непосредственной близости, озарилось колеблющимся красным сиянием. Чжан-Бао и удэхеец набили свои трубки и принялись обсуждать происшедшее. Оба были того мнения, что зверь, следовавший по берегу за лодкой, был тигр. Китаец называл его «Ломаза», а удэхеец — «Куты-Мафа». Благодаря ему изюбр сорвался с места, прежде чем Чжан-Бао выследил его как следует, потому и пришлось стрелять раньше времени. Он был недоволен, ругал тигра и всердцах сплевывал на огонь. Удэхеец волновался, но не потому, что охота была неудачной, а по другой причине. Ругань по адресу тигра и плевки в огонь казались ему двойным святотатством. — А та тэ-э, манга мангала би (т. е. «Ай, ай, совсем плохо»), — говорил он не то со страхом, не то с сожалением, поправляя огонь и как бы своим вниманием к нему стараясь парализовать оскорбление, нанесенное плевками китайца. Чжан-Бао не унимался, а удэхеец был не на шутку встревожен поведением своего товарища. Я увидел, что пришло время вмешаться в разговор. — Ничего, — сказал я Чжан-Бао, — не надо сердиться. На этот раз неудача, зато в другой раз будет успех. Не убили изюбра, зато если не видели, то слышали близкое присутствие тигра. Мои слова, видимо, успокоили китайца. Он перестал ругаться и начал шутить; развеселился и Маха. Через полчаса мы стали собираться домой. Удэхеец охапкою мокрой травы прикрыл тлеющие уголья, а сверху засыпал их песком. Затем мы сели в лодку. Маха оттолкнул ее от берега и на ходу сел на свое место. Мои спутники взялись за весла. Теперь мы плыли скоро и громко разговаривали между собою. Я оглянулся назад: тонкая струйка беловатого дыма от притушенного костра поднималась еще кверху. На гладкой и спокойной поверхности воды виднелись след от лодки и круги, оставленные испуганными рыбами. Большая ночная птица бесшумно летела вдоль протоки, но, догнав лодку, метнулась в сторону и через мгновенье скрылась в тени прибрежных кустарников. Приблизительно с километр мы еще плыли широким плесом. Затем течение сделалось быстрее, протока стала суживаться и, наконец, разбилась на два рукава: один — большой — поворачивал направо, другой — меньший — шел прямо в лес. Лодка, направляемая опытной рукой Маха, нырнула в заросли, и мы сразу очутились в глубокой тьме. Впереди слышался шум воды на перекатах. — Анюй, — лаконически сказал удэхеец. И действительно, мы вдруг совершенно неожиданно вышли на реку. Теперь нам предстояло подняться против воды. Мои спутники оставили весла и взялись за шесты. Несмотря на неудачу, я был очень доволен поездкой. Скоро мы миновали какие-то утесы, обогнули галечниковую отмель, а за ней опять подошли к берегу, заросшему, низкорослыми ивняками. Дальше за кустами на фоне темного неба, усеянного миллионами звезд, вырисовывались кроны больших деревьев с узловатыми ветвями: тополь, клен, осокорь, липа, все они стали теперь похожи друг на друга, все приняли однотонную, не то черную, не то буро-зеленую окраску. На правом берегу показался громадный кедр. Он был единственным в этой местности и, словно гигантский часовой, охранял «порядок» в лесу. Кедр смотрел величаво и угрюмо, точноон был недоволен сообществом лиственных деревьев и через вершины их всматривался в даль, где были его сверстники и собратья. Наконец показался огонь — это был наш бивак. Он то скрывался в чаще леса, то появлялся вновь и как будто перемещался вдоль берега. Еще один поворот; и от огня по воде навстречу нам побежала длинная колеблющаяся полоса света — верный признак, что бивак был недалеко. Минут через пятнадцать мы причалили к берегу. На биваке все уже спали, и покой уснувших людей охраняли собаки. Моя Альпа лежала свернувшись недалеко от костра. Она узнала нас по голосам, но все же для вида, не подымая головы, лениво тявкнула два раза. Я погладил ее, подбросил дров в огонь, прошел в свою палатку и, завернувшись в одеяло, крепко уснул. На другой день мы выступили очень рано. Погода опять испортилась. Небо заволокло тучами, появился густой туман. По обилию влаги он не уступал дождю и так же был докучлив. Чем выше мы поднимались по реке, чем больше углублялись в горы, тем сильнее становилось течение. Шум воды на перекатах был слышен издалека. В таких случаях удэхейцы приставали к берегу, чтобы посоветоваться и собраться с силами. Они заранее уславливались, как итти, и напрягали все силы, чтобы удержать лодку против воды: шесты гнулись, дрожали и выбивали барабанную дробь о борта лодок. Каждый раз, пройдя через порог, я видел по лицам спутников-удэхейцев, что мы пережили несколько опасных минут. За эти две недели мои спутники привыкли к лодкам и там, где было не так опасно, помогали удэхейцам проталкиваться на шестах. С непривычки у них на руках образовались водяные пузыри и болели суставы. По ночам слышно было, как стонали мои соседи, оттого что неосторожно повернулись и придавили больной локоть или плечо. Высоко в небе парит орел, плавно описывая круги. Ему все видно. Он зорко смотрит вниз и выискивает добычу. Последняя протока кончилась около сопки Уба. На отмели с левой стороны Анюя расположились люди на отдых. Рядом горит костер. Минут через тридцать люди зашевелились. Одни разбирают шесты, другие несут чайники, посуду и всякий скарб. Потом они сели в лодки и поплыли дальше. Едва ушли люди, как тотчас явились вороны. Озираясь по сторонам, они начали подбирать остатки и ссориться из-за всякого пустяка. Вдруг все вороны разом поднялись на воздух и расселись по соседним деревьям. Их напугала енотовидная собака — небольшое лохматое животное. Она двигалась вразвалку, суетливо обнюхивала землю и подбирала то, что не успели утащить вороны. Орел увидел еще большую тучу, надвигающуюся с запада, и поднялся выше. Туча быстро неслась по небу, разрастаясь вглубь и вширь. Люди тоже заметили приближающуюся грозу и торопятся спрятаться под навесом скалы, прикрываясь полотнищами палаток, шинелями и чем попало. Вот упали первые дождевые капли, сверкнула молния, и загремел гром. От сотрясения воздуха хлынул ливень, затем послышался еще какой-то шум. Это шел по лесу крупный град, маленькие кусочки льда отскакивали от камней и прыгали по земле. На воде появилось бесчисленное множество воздушных пузырьков. С деревьев сыпалась листва, никла трава, как подкошенная. Какая-то бабочка, застигнутая врасплох грозою, искала защиты под листком клена, но ледяшка ударила как раз в ее убежище и раздробила ей одно крыло. Бабочка сделала попытку спрятаться в траве, но порывом ветра ее отнесло к реке. Мутная вода подхватила изуродованное насекомое и понесла его на пороги, где всего более пенилась вода. Как быстро нашла гроза, так же быстро она и рассеялась. Дождь перестал, выглянуло солнце, и появилась роскошная радуга. Земной мир снова принял ликующий вид. На ветвях деревьев и на каждой былинке дрожали капли дождевой воды, превращаемой лучами солнца в искрящиеся алмазы. На лодках тоже заметно движение. Люди снимают с себя намокшие покрывала, разбирают шесты и снова идут вперед вверх по Анюю. После Улема к широколиственным породам понемногу стали примешиваться кедровники. Одни тальники имели вид пирамидальных тополей, другие росли кустарниками на галечниковых островках. Пучки сухой травы и всякий мусор, застрявший на них, свидетельствовали о том, что места эти ежегодно затопляются водою. Первым большим притоком Анюя будет Тормасунь, или Тонмасу, как его называют удэхейцы. По их словам, это будет самая быстрая река Анюйского бассейна. По ней можно подниматься только в малую воду. Тормасунь течет под острым углом по отношению к своей главной реке. В истоках ее находится низкий перевал на реку Хор, через который перетаскивают лодки на руках. После Тормасуня Анюй течет одним руслом. Кое-где посредине реки встречаются небольшие островки, еще не успевшие покрыться растительностью. Эта часть Анюя очень живописна. Горные хребты, окаймляющие долину, увенчаны причудливыми скалами, издали похожими на руины древних замков с башнями и бойницами. Местные жители называют их шаманскими камнями и говорят, что в давние времена здесь жили крылатые люди. 11 июля наш маленький отряд достиг реки Гобилли, впадающей в Анюй с правой стороны, как раз в том месте, где он меняет свое направление. Непрекращающиеся дожди и постоянная прибыль воды в реке весьма беспокоили удэхейцев. Они опасались за своих жен и детей и начали проситься домой. Я обещал не задерживать их и отпустить тотчас, как только они доставят нас к подножью Сихотэ-Алиня. Около устья Гобилли мы устроились биваком в тальниковой роще. Незадолго до сумерек тяжелая пелена туч, покрывавшая небо, разорвалась. Сквозь них пробился луч заходяшего солнца. Воздух, находившийся до сих пор в состоянии покоя, вдруг пришел в движение. Лес зашумел, деревья ожили и закачались, стряхивая на землю дождевые капли. Тогда я кликнул свою собаку и пошел по берегу реки Гобилли, покрытому высокими тополями и ясенями. За ними ближе к горам виднелись кедровники, а еще выше лиственица, ель и пихта. Подлесье из жасмина, калины, смородины, сорбарии и элеутерококкуса, переплетенных актинидиями и виноградником, образовало непролазную чащу, в которой зверье протоптало хорошую тропу. Я шел осторожно, иногда останавливался и прислушивался; собака моя плелась сзади. Тропа стала забирать вправо, и я думал, что она заведет меня в горы, но вот впереди показался просвет. Раздвинув заросли, я увидел быстро бегущую воду в реке, по которой стремительно неслись клочья пены и всякий мусор. Дождь перестал совсем, температура воздуха понизилась, и от воды стал подниматься туман. В это время на тропе я увидел медвежий след, весьма похожий на человеческий. Альпа ощетинилась и заворчала, и вслед за тем кто-то стремительно бросился в сторону, ломая кусты. Однако зверь не убежал, он остановился вблизи и замер в ожидательной позе. Так простояли мы несколько минут. Наконец я не выдержал и повернулся с намерением отступить. Альпа плотно прижалась к моим ногам. Едва я шевельнулся, как неизвестный зверь тоже отбежал на несколько метров и снова притаился. Напрасно я всматривался в лес, стараясь узнать, с кем имею дело, но чаща была так непроницаема и туман так густ, что даже стволов больших деревьев не было видно. Тогда я нагнулся, поднял камень и бросил его в ту сторону, где стоял неведомый зверь. В это время случилось то, чего я вовсе не ожидал. Я услышал хлопанье крыльев. Из тумана выплыла какая-то большая темная масса и полетела над рекой. Через мгновение она скрылась в густых испарениях, которые все выше поднимались от земли. Собака выражала явный страх и все время жалась к моим ногам. Меня окружала таинственная обстановка, какое-то странное сочетание лесной тишины, неумолчного шума воды в реке, всплесков испуганных рыб, шороха травы, колеблемой ветром. В это время с другой стороны послышались крики, похожие на вопли женщины. Так кричит сова в раздраженном состоянии. Не медля больше, я ободрил собаку и пошел назад по тропинке. Ночь быстро надвигалась на землю, туман сгущался все больше и больше, но я не боялся заблудиться. Берег реки, зверовая тропа и собака скоро привели меня к биваку. Как раз к этому времени вернулись с охоты удэхейцы. Вечером после ужина я рассказал удэхейцам о том, что видел в тайге. Они принялись очень оживленно говорить о том, что в здешних местах живет человек, который может летать по воздуху. Охотники часто видят его следы, которые вдруг неожиданно появляются на земле и так же неожиданно исчезают, что возможно только при условии, если человек опускается сверху на землю и опять поднимается на воздух. Удэхейцы пробовали за ним следить, но он каждый раз пугал людей шумом и криками, такими же точно, какие я слышал сегодня. Удэхейцы замолчали, но в это время вмешался в разговор Чжан-Бао. Он сказал, что в Китае тоже встречаются летающие люди. Их называют «Ли-чжен-цзы». Они живут в горах, вдали от людей, не едят ни хлеба, ни мяса, а питаются только растением «Ли-чжен-цау», которое можно узнать только в лунные ночи по тому, как на нем располагаются капли росы. Чжан-Бао даже сам видел такого человека. Дело было давно, когда он был еще мальчиком. Однажды зимой к ним в фанзу пришел китаец, очень легко одетый. Он сел на кан и отказывался от пищи, которую ему предлагали. Когда перед сном все стали раздеваться, пришедший человек снял с себя куртку и накрыл ею спину. Он старался занять такое положение, чтобы никто не видел его плеч. Потом он вышел из фанзы и долго не возвращался. Опасаясь, как бы он не простудился, кто-то пошел за ним и стал его окликать, но на дворе никто не отзывался. Тогда мужчины оделись, взяли фонари и пошли искать этого человека. Следы по снегу привели к забору и здесь пропали. На другой день узнали, что к утру его видели в расстоянии 200 ли от поселка в другой фанзе, где он неожиданно появился и так же таинственно исчез. Ли-чжен-цзы — сын молнии и грома, он младенцем падает на землю во время грозы. Это сильный, божественный человек, заступник обиженных, герой. Посещение им людей приносит удачу в промыслах и в тяжбах при решении спорных вопросов. По мнению Чжан-Бао, летающий человек на реке Гобилли был один из Ли-чжен-цзы, китаец и уж никак не удэхеец. Из этого я вывел заключение, что сказание удэхейцев о людях с крыльями позаимствовано ими от китайцев в древние времена. На другой день удэхейцы встали рано. Они хотели поскорее доставить нас на условленное место. Я понимал их торопливость и шел им навстречу. С восходом солнца туман стал рассеиваться и подниматься кверху. Это был хороший признак, обещавший хорошую погоду. Не медля ни мало, мы тронулись в путь. Удэхейцы оказались правы. Они нисколько не сгустили красок, а, наоборот, даже недостаточно ярко изобразили все трудности плавания по реке Гобилли. Выражение «поплыли», пожалуй, будет неподходящим, правильнее было бы сказать — мы стали карабкаться по порогам и каскадам. Несколько раз лодки наши попадали в весьма опасное положение, из которого выходили только благодаря ловкости и находчивости удэхейцев. Пусть читатель представит себе узкий коридор с совершенно отвесными стенками, по которому вода идет с головокружительной быстротой, шесты не достают дна, и упираться надо в выступы скал или подтягиваться на руках, хватаясь за расщелины камней. В другом месте путь нам преградил во всю ширину реки водопад в метр вышиною. Посредине его была лазейка, через которую по наклонной плоскости стремительно сбегала вода. Когда лодка стала входить в нее, вода фонтаном взвилась кверху. Тогда я оценил лопатообразный нос улимагды. Без него лодка была бы мгновенно залита водою. На второй день пути по Гобилли мы, наконец, достигли конечного пункта нашего плаванья — небольшой горной речки, которую впоследствии удэхейцы назвали Чжанге Уоляни, что значит «Ключик на перевал, по которому прошел Чжанге». Так называли они меня в 1908 году. Вечером у огня я расспрашивал удэхейцев о Гобилли и местности в верховьях реки Хуту по ту сторону водораздела. Один из них начертил мне даже план на бересте, из которого я понял, что река Гобилли течет вдоль хребта Сихотэ-Алинь и несколько под углом к нему. Все правые нижние притоки ее имеют перевалы на Анюй, а верхние — на Хунгари. В самых верховьях Гобилли никто из удэхейцев не бывал. Как всегда в таких случаях, про истоки ее ходят нехорошие слухи. Там темно, всегда идут дожди, дуют холодные ветры. Там царство голода и смерти. Потом они говорили, что до Сихотэ-Алиня мы дойдем в двое суток, а через семь или восемь дней доберемся до реки Хуту, где, наверно, найдем людей.Глава третья Перевал
Нa следующий день мы расстались. Удэхейцы вошли в лодки и, пожелав нам счастливого пути, отчалили от берега. Когда обе улимагды достигли порога, удэхейцы еще раз послали нам приветствия руками и скрылись в каменных ловушках. Мы остались одни и сразу почувствовали себя отрезанными от мира, населенного людьми. Теперь нам предстояло выполнить самую трудную часть пути. Я не хотел тратить напрасно время и предложил моим спутникам собираться в дорогу. Наладив тяжелые котомки, мы пошли по ключику Чжанге Уоляни, представляющему собой горный ручей километров в двадцать длиной и протекающему по распадку между двумя отрогами главного водораздела. Западный склон Сихотэ-Алиня, обращенный к реке Гобилли, покрыт смешанным лесом, носившим на себе следы огня. На местах пожарищ выросли тонкоствольные березняки в возрасте от пятнадцати до двадцати лет. Деревья росли как-то странно, в сильно наклонном положении, иные вершинами совсем пригнулись к земле, что, вероятно, можно объяснить обледенением их зимой. В самых истоках речка разбилась на три небольших ручейка. Памятуя указание, данное удэхейцами, мы пошли вправо. Подъем на гребень Сихотэ-Алиня был настолько крут, что вынуждал нас двигаться зигзагами и карабкаться на четвереньках, хватаясь руками за корни деревьев. Самый перевал представлял собой седловину высотою 1 200 метров над уровнем моря, покрытую лесом, состоящим из ели, пихты, березы и лиственицы. Добравшись до вершины, мы сели отдыхать. Чжан-Бао лег на землю и тотчас же поднялся. — Суй ню (вода есть), — сказал он уверенно. Мы стали прислушиваться, и, действительно, где-то неглубоко под землей тоненькой струйкой лилась вода. Мы поспешно стали разбрасывать камни и через несколько минут открыли источник с чистейшей ледяной водой. Здесь мы и заночевали. На другое утро все встали раньше солнца и разделились на три части. Я и Чжан-Бао пошли на юг по водоразделу. Сихотэ-Алинь представляет собой высокую гряду, которая тянется по направлению от северо-востока к юго-западу и слагается из ряда плоских вершин, покрытых осыпями. Обломки каменной породы лежат так ровно и плотно, что можно подумать, как будто нарочно их кто-нибудь пригонял друг к другу. На гребне водораздела леса нет, лишь по обширным ягельным тундрам разбросаны одиночные кусты багульника и кедрового стланца. Я ожидал, что после дождей атмосфера очистится, но сверх всякого ожидания воздух был наполнен мглою. В ней тонули не только дальние сопки, но и те, что были в непосредственной близости. По небу проходили большие облака и то открывали, то закрывали солнце, отчего панорама принимала то веселый, то мрачный вид, сообразно с этим вселяя в нас то надежду, то сомнение. Я сел на камень и стал зарисовывать профили виднеющихся вдали горных цепей. Некоторое время, я сидел неподвижно и смотрел на планшет. Когда я поднял голову, то вдруг увидел — на соседней вершине животное аспидно-бурого цвета со странной удлиненной головой и большими ветвистыми рогами. Это был северный олень. Он, видимо, учуял меня и пустился наутек. Через минуту животное скрылось в лощине, заросшей кедровым стланцем. Кстати, два слова о северном олене. Южная граница его распространения в Уссурийском крае проходит от реки Саласу через верхнее течение Хунгари, потом Анюя, верховья Копи и выклинивается у моря около мыса Успения. Но и в этих местах он немногочисленен и держится на гольцах по вершинам гор, где есть достаточно корма. Орочи называют его Ию и убивают его только тогда, когда он случайно попадает под выстрел. В пятницу 27 июля мы начали спуск с водораздела. На следующий день я определил поправку хронометра, а в полдень взял высоту солнца. Тишина в лесу, гулкое эхо и хмурое небо предвещали непогоду. Когда мы выступили с бивака, начал накрапывать дождь. Несмотря на ненастье, все были бодро настроены. Сознание, что мы перешли Сихотэ-Алинь и теперь спускались по воде, бегущей к морю, радовало моих спутников. Но радость их была преждевременной, потому что успех нашего предприятия зависел от многих причин и главным образом от того, как скоро удастся найти орочей на реке Хуту. Восточный склон Сихотэ-Алиня более полог, чем западный, и слагается как бы из нескольких больших террас. Горный ручей, служивший нам путеводной нитью, то низвергался вниз мелкими каскадами, то просачивался подо мхом, заболачивая почву, иногда на значительном протяжении. 2 августа наш маленький отряд достиг места, где Партами впадает в Буту. Перед нами открылась большая болотистая котловина, со всех сторон обставленная невысокими сопками, имеющими вид размытых холмов. Такой ландшафт типичен для предгорьев Сихотэ-Алиня. Широкая, слабо всхолмленная равнина была покрыта сфагновым мхом и редкою лиственицей. Здесь не было видно ни зверей, ни птиц, ни насекомых. Свист ветра, пробегающего по вершинам полузасохших деревьев, еще более усугублял впечатление лесной пустыни. Переходя болото, я как-то отделился от отряда и, взглянув со стороны на своих спутников, увидел, что каждый из них окружен как бы облаком легкого тумана. Это вились над ними мошки и комары. К вечеру мы достигли устья реки Паргами. После дождей она разлилась и во многих местах затопила болото. Километров через пять мало-помалу начал вновь вырисовываться характер горной страны; сделалось суше, но зато стали встречаться непропуски. Читатель, пожалуй, не знает, что значит «непропуск». Это горный отрог, подходящий к реке вплотную. У подножья его образовались глубокие водоемы, и потому обойти его со стороны реки нельзя. Надо с тяжелыми котомками взбираться на кручи. Чтобы взять один непропуск, иной раз уходит, полдня времени и много сил. Этот переход показался всем очень утомительным, в особенности он трудно дался С. Ф. Гусеву, попавшему в тайгу впервые. Почтенный геолог совершенно не обладал чувством ориентировки, часто отставал, терял наши следы и уходил в сторону. Каждый раз надо было разыскивать его и напрасно терять дорогое время. Близорукий, он плохо видел без очков, да и очки терял, и тогда он уже совершенно ничего не видел. Сухую ель Гусев принимал за утес, разговаривал с пнем и прыгал через канаву там, где ее не было вовсе. Самым же большим недостатком его была полная беспомощность. Есть такие люди, с которыми случаются всякие неприятные истории. Палатка обвалится ни на кого другого, а именно на него. Однажды он попал босой ногой в котел с кашей, другой раз уронил мыло в реку, а, потянувшись за ним, сам упал в воду. Не замечая, что одна лямка вытянулась, Гусев долгое время нес котомку на одном плече, отчего страдал физически. Однажды мы дали ему нести алюминиевый котелок. Гусев привязал его так, что крышка болталась и звенела. Я рассчитывал убить какого-нибудь зверя в пути, но Гусев своим звоном мешал охоте. Он шел впереди, а я производил съемку и немного отстал. Я попросил казака догнать Гусева и привязать его котелок, как следует. — Не надо, — ответил казак. — Пусть идет так. Если он потеряется, легче найти его будет в лесу. По рассеянности Гусев, собираясь в путешествие, захватил с собой неравные комплекты белья: трое кальсон и одну старенькую рубашку, которая скоро изорвалась. Тогда он проявил инициативу и ухитрился надеть на себя кальсоны вместо рубашки. На груди у него получился косой крест с пуговицами, а сзади пузырь, надуваемый ветром. Штрипки белых панталон он разрезал и завязал около кистей рук, вследствие чего получились рукава с буфами. В этом странном одеянии Гусев походил на ландскнехта. Сначала мы все помирали со смеху, но потом привыкли к его наряду. Пусть читатель не подумает, что Гусев был посмешищем моих спутников. Мы все относились к нему с уважением, сочувствовали его неприспособленности и всячески старались ему помочь. Больше всего был виноват я сам, потому что взял с собой человека, мало приспособленного к странствованиям по тайге. 5 августа мы дошли до впадения реки Аделами в Буту. Отсюда уже можно было плыть на лодках. Мы решили долбить две улимагды. Нашли подходящие деревья, свалили их и оголили от коры. На изготовление лодок ушло четверо суток. По тому, как начался рассвет, по тишине в лесу и по быстро бегущим облакам на небе видно было, что опять собирается ненастье. И действительно, часов в восемь утра первые дождевые капли упали на землю. Недостаток продовольствия заставлял нас торопиться. Вода в реке была мутная и стояла на прибыли, а лодки были сделаны недостаточно умело, тяжелые, неповоротливые. В первый же день малая улимагда разбилась о камни. Люди успели выбраться на бурелом, а палатки, фотографический аппарат и значительная часть продовольствия погибли. Тогда мы разделились на две группы: одна с грузами следовала на лодке, а другая шла пешком. К вечеру 11 августа мы дошли до какой-то высокой скалистой сопки. Казаки принялись устраивать бивак, и я пошел на гору, чтобы посмотреть, нет ли где дыма, указывающего на присутствие людей. Сверху мне хорошо была видна долина реки Буту. Около левого скалистого берега на камнях пенилась вода. Правый низменный берег выступал вперед мысом. Здесь река делала поворот. На самом конце низменного берега, наклонившись, росла большая старая ель. Возвратившись на бивак, я сказал Крылову, чтобы завтра он держал лодку поближе к старой ели и подальше от левого берега, где много опасных камней. Надо сказать, что путешествие по Уссурийскому краю, и в особенности плавание по горнотаежным рекам, сопряжено с такими неожиданностями, что заранее быть уверенным в выполнении намеченного маршрута невозможно. Так случилось и с нами. Ночью старая — «натулившаяся» ель упала в воду и вершиной застряла на камнях у левого берега, а мы, ничего не подозревая, сели в лодку и поплыли вниз по течению реки, стараясь держаться правого берега. На повороте улимагду подхватила сильная струя воды, и в это время я увидел злополучную ель. Комель ее лежал на берегу, а ствол почти касался воды; сучья были загнуты по течению. Не успели мы схватиться за шесты, как ель со скоростью быстро бегущего поезда сразу надвинулась на нас. Дальше случилось что-то такое, в чем я совершенно не мог отдать себе отчета. Помню воду кругом себя, затем пошли какие-то зеленые полосы и камни, точно бочки, поставленные друг на друга. Что-то зацепило меня за рубашку, но вскоре отпустило. Потом я всплыл на поверхность и вздохнул полной грудью. Впереди из воды показался обломленный нос лодки, рядом плыли шесты и еще какие-то вещи. Я сообразил, что надо плыть по течению, направляясь к берегу. Скоро руки мои коснулись дна, и я встал на ноги. Авария обошлась без человеческих жертв. С большим трудом мы вытащили лодку из-под плавника. Она была пуста и так изломана, что не годилась для плавания. Все имущество погибло: ружья, продовольствие, походное снаряжение, запасная одежда. Осталось только то, что было на себе; у меня — поясной нож, карандаш, записная книжка и засмоленная баночка со спичками. Весь день употребили на поиски утонувшего имущества, но ничего не нашли. Печальную картину представлял собой наш бивак. Все понимали серьезность положения: обратный путь отрезан; на Гобилли не было ни лодок, ни людей. Оставалось одно — итти вперед без всякой надежды найти помощь. Надо было решить, какой стороны реки держаться. Несомненно, дальше река сделается шире и многоводнее, и переправа будет затруднительной. Почему-то всем казалось, что удобнее итти левым берегом. В одном месте Буту разбилась на два рукава, заваленных плавником, по которому мы и перешли на другую сторону реки. Это была ошибка, как выяснилось несколько дней спустя. Левый берег оказался гористым, частые непропуски вынуждали нас взбираться на кручи и тратить последние силы. Трудно передать на словах чувство голода. По пути собирали грибы, от которых тошнило. Мои спутники осунулись и ослабели. Первым стал отставать Гусев. Один раз он долго не приходил. Вернувшись, я нашел его лежащим под большим деревом. Он сказал, что решил остаться здесь на волю судьбы. Я уговорил Гусева итти дальше, но километра через полтора он снова отстал. Тогда я решил, чтобы он шел между казаками, которые за ним следили и постоянно подбадривали. На третий день к вечеру Чжан-Бао нашел дохлую скверно пахнущую рыбу. Люди бросились к ней, но собаки опередили их и в мгновение ока сожрали падаль. Измученные, голодные люди уныло, и молча шли друг за другом. Только добраться бы до реки Хуту. В ней мы видели свое спасение. Мы все ужасно страдали от мошки, ее особенно много появлялось во вторую половину дня, когда солнце начинало склоняться к горизонту. С радостью мы встречали вечерний закат; сумерки и ночная тьма давали отдых от ужасного «гнуса».[309] На четвертые сутки мы дошли до топкого болота, пришлось опять взбираться на кручи. В это время Альпа поймала молодого рябчика и стала его торопливо есть. Я бросился к ней, чтобы отнять добычу. Собака отбегала и старалась скорее съесть рябчика. Я крикнул на нее, отнял изжеванную птицу и первый раз в жизни толкнул свою Альпу ногой. Она отошла в сторону и нехорошо посмотрела на меня. В этот же день вечером мы убили ее и мясо разделили на части. Бедная Альпа! Восемь лет она делила со мной все невзгоды походной жизни. Своею смертью она спасла меня и моих спутников. Между тем с Гусевым стало твориться что-то неладное. То он впадал в апатию и подолгу молчал, то вдруг начинал бредить с открытыми глазами. Дважды Гусев уходил, казаки догоняли его и силой приводили назад. Цынги я не боялся, потому что мы ели стебли подбела и черемуху, тифозных бактерий тоже не было в тайге, но от истощения люди могли обессилеть и свалиться с ног. Я заметил, что привалы делались все чаще и чаще. Казаки не садились, а просто падали на землю и лежали подолгу, закрыв лицо руками. Наконец 16 августа мы дошли до места слияния рек Хуту и Буту. Ни через ту, ни через другую переправиться было нельзя: у нас не было ни топоров, ни веревок, чтобы сделать плот, не было сил, чтобы переплыть на другую сторону реки. Один раз понадобилось перебросить через маленькую проточку жердь длиною в 7 метров и толщиною в обыкновенную пивную бутылку. Вшестером мы не в силах были перенести ее на расстояние шестидесяти шагов. Она выскальзывала из рук и казалась невероятно тяжелой. 17 августа поднялись на ноги только я, Чжан-Бао и Дзюль. Мои спутники находились в каком-то странном состоянии: сделались суеверны, начали верить снам, приметам и ссориться из-за всякого пустяка. Все мы были как нервнобольные. Какая-то ворона летела над рекой и, увидев на берегу лежащих людей, села на соседнее дерево и каркнула два раза. Вдруг Гусев сорвался с места. — Ворона, ворона! — дико закричал он и бросился в лес за птицей. Следом за ним вскочили Косяков и Димов и с теми же криками «ворона, ворона» побежали вдогонку за Гусевым. Я тоже было побежал, но вдруг опомнился. — Стойте, сумасшедшие! — закричал я что было силы. — Куда вы бежите?! Косяков остановился и стал звать Димова. Мало-помалу все успокоились и пошли искать Гусева. Они нашли его в кустах среди бурелома. Он лежал на земле ничком и что-то шептал. На глазах его были слезы. Гусев не сопротивлялся и дал привести себя обратно на бивак. Прошло еще трое суток. На людей было страшно смотреть. Они сильно исхудали и походили на тяжелых тифознобольных. Лица стали землистого цвета, сквозь кожу явственно выступали очертания черепа. Мошка тучами вилась над не встававшими с земли людьми. Я и Дзюль старались поддерживать огонь, раскладывая дымокуры с наветренной стороны. Наконец свалился с ног Чжан-Бао. Я тоже чувствовал упадок сил; ноги так дрожали в коленях, что я не мог перешагнуть через валежину и должен был обходить стороною. На берегу рос старый тополь. Я оголил его от коры и на самом видном месте ножом вырезал стрелку, указывающую на дупло, а в дупло вложил записную книжку, в которую вписал все наши имена, фамилии и адреса. Теперь все было сделано. Мы приготовились умирать. Было начало сентября. Осень властно вступила в свои права. Ночи стали холоднее. Днем мы страдали от мошки, а ночью от холода. Одежда наша износилась до последней степени, а обувь была в еще более печальном состоянии. В ночь на 4 сентября никто не спал, все мучились животами. Оттого, что мы ели все, что попадало под руки, желудки отказывались работать, появлялась тошнота и острые боли в кишечнике. Можно было подумать, что на отмели устроен перевязочный пункт, где лежали раненые, оглашая тайгу своими стонами. Я перемогал себя, но чувствовал, что делаю последние усилия. Вдруг где-то далеко внизу по реке раздался выстрел, за ним другой, потом третий, четвертый. Все заволновались и начали спорить. Одни настаивали на необходимости как-нибудь дать знать людям, стреляющим из ружей, о нашем бедственном положении; другие говорили, что надо во что бы то ни стало переплыть реку и итти навстречу охотникам; третьи советовали развести большой огонь. Но выстрелы больше не повторялись. Ночь была очень холодная, и никто не смыкал глаз. Я смотрел на огонь и думал. Если стреляли удэхейцы, то, вероятно, они били медведя, а присутствие медведя на берегу реки указывает на начавшийся ход рыбы. Если охота туземцев была удачной, они вернутся назад, и мы погибли; если нет, они пойдут дальше вперед по реке, и мы спасены. Потом я вспомнил про Альпу, и мне стало жаль ее. С этими мыслями, сидя на валежине, я задремал. Мне грезился какой-то бал, где было много людей. Танцующие пары вертелись у меня перед глазами и постоянно закрывали собой огонь. Вместо музыки слышалось какое-то пение, похожее на стоны. В зале открыты окна, и оттого было так холодно. Вдруг среди пляшущих людей появилась ворона, она прыгала по земле, воровски озираясь по сторонам. Я потянулся, чтобы схватить ее, качнулся, чуть было не упал и открыл глаза. Светало. Костер догорал. Над рекой повис густой туман. Сквозь него неясно были видны горы по ту сторону Хуту. В это время на самой середине реки появился какой-то темный предмет. Это была улимагда и в ней два туземца. Не спуская глаз с лодки, я протянул руку и тронул спящего рядом со мной человека, думая, что это Дзюль, но это оказался Гусев. Он вскочил на ноги и дико закричал. Тогда поднялись все остальные и тоже принялись кричать. Я видел, как туземцы задержали лодку, проворно повернули ее назад и скрылись в тумане. Возбуждение моих спутников сменилось отчаянием. Они стали кричать и в одиночку, и все разом, спорили и укоряли друг друга. Только Дзюль и Чжан-Бао сохранили самообладание. Минут через двадцать туман стал подниматься кверху. Река была совершенно пустынна. Я просил моих спутников успокоиться и подождать восхода солнца. Была слабая надежда, что лодка, может быть, еще вернется. Прошел час, другой, я уже начал терять надежду. Вдруг Крылов сделал мне какой-то знак. Я не сразу его понял. Казак пригибался к земле, стараясь возможно больше скрыть свое присутствие, и шопотом повторял одно слово: — Собака! Я взглянул в указанном направлении и, действительно, увидел собаку. Она сидела на противоположном берегу и, насторожив уши, внимательно смотрела на нас. На душе у меня сразу отлегло. Значит, туземцы не ушли, а спрятались где-то в кустах. Тогда я вышел на берег и закричал: — Би Чжанге, нюгу лоца, агдэ ини бу цзяпты маймакэ (т. е. «Я Чжанге, шесть русских, много дней ничего не ели»). Через несколько минут из зарослей поднялся человек. Я сразу узнал в нем ороча. Мы стали переговариваться. Выслушав меня, он сказал, что их лодка находится ниже по течению, что он отправится назад к своему товарищу и вместе с ним придет к нам на помощь. Ороч скрылся, собака тоже побежала за ним, а мы уселись на берегу и с нетерпением стали отсчитывать минуты. — Идут, — вдруг сказал Дзюль. Действительно, одна лодка показалась из-за поворота. — Еще лодка, — заметил Крылов. — Третья, — крикнул Косяков. — Люди много ходили, — сказал, поднимаясь на ноги, Чжан-Бао. Действительно, плыли три лодки, на которых люди усиленно работали шестами. Через четверть часа они подошли к нашему биваку. Это был встречный отряд Николаева. Тогда случилось то, чего я вовсе не ожидал. Меня, Дзюля и Крылова оставили силы, и мы опустились на землю, а те, кто лежал, не вставая, уже несколько дней на гальке, поднялись на ноги. Наши спасители привезли с собой жидкий отварной рис. Мы с жадностью набросились на пищу, но с первых же глотков почувствовали себя дурно. Началась сильная рвота. Несколько раз мы принимались за еду и каждый раз с тем же результатом. Из расспросов выяснилось, что Николаев по прибытии отправился на поиски нас вверх по реке Хади, поднялся по ней километров на сто и, не найдя наших следов, возвратился к морю. Спустя две недели он возвратился с орочем с реки Тумнина. Старшина селения Хуту-Дата Федор Бутунгари, прослышав, что я пошел к Анюю и что Николаев ищет нас на реке Хади, послал к нему гонцов с извещением, что надо итти вверх по Хуту, Буту и Паргами. — Судя по времени, — говорили орочи, — Чжанге должен был давно уже выйти к морю, значит случилось какое-то несчастье и потому надо торопиться. Мой помощник тотчас выступил в путь. Федор Бутунгари подробно рассказал ему, где и как нас искать, и дал переводчиков. Николаев поднимался по реке Хуту очень быстро, сокращая ночевки и время на отдыхах. Последняя ночь застала его в пути, километрах в трех от нашего бивака. Случайно впереди него шла еще одна улимагда с двумя орочами-охотниками, которые ничего не знали о нашем путешествии. Каждый вечер Николаев делал в воздух три-четыре выстрела. Их-то мы и слышали, а на рассвете увидели орочей, которые приняли нас за чалдонов (бродяг) и спрятались в прибрежных зарослях. После такого сильного нервного напряжения появилась необычайная слабость. Едва я вошел в лодку и лег на приготовленное мне место, как почувствовал, что веки мои слипаются сами собой. Мне стало трудно говорить и ни о чем не хотелось думать. Когда лодки отходили от берега, я в последний раз взглянул на бивак, который едва не стал нашей могилой. Дуплистое дерево с затеской, примятая трава и груда золы на месте угасшего костра — все это так запечатлелось в моей памяти, что потом, хотя прошли многие годы, никакие другие образы не могли заслонить собою воспоминаний об этом случае. Река Хуту течет сначала с севера на юг, а после принятия в себя реки Буту круто поворачивает на северо-восток. Наш голодный бивак, как помнит читатель, находился у слияния обеих рек. Каждая из них близ устья принимает в себя по большому притоку — Содолинго и Аделами. Местность эта называется Чжауса. Отсюда на значительном протяжении правый берег Хуту высокий нагорный и слагается из пород массивно-кристаллических. С левой же стороны выступают речные террасы новейшего образования, состоящие из обломков горных пород, перемешанных с глиной, песком и илом. Лодки, управляемые опытными руками орочей, быстро плыли вниз по течению. Туман рассеялся окончательно. Было тепло и светло. Порой я приходил в себя, открывал глаза и видел красивые горы, чистые плесы реки и лес по берегам ее. Какие-то пестрые птицы порхали и, вытянув длинные шеи, торопливо проносились над лодкой. Гусев каждый раз пугался их, принимая за ворон. В самой долине леса состоят из пород широколиственных — мельком я видел маньчжурский ясень, тополь Максимовича, белую березу и какие-то высокоствольные тальники. Лиственицы взбирались на более возвышенные места, постоянно смешиваясь с елью и пихтой, которые по вершинам горных хребтов царили безраздельно и в своём сообществе терпели только каменную березу. Река Хуту и все ее притоки по справедливости считаются богато населенными зверем. В верховьях Буту держатся лось, кабарга, соболь и росомаха. По среднему течению в горах с левой стороны обитают северные олени. По правым притокам орочи иногда видят изюбров, кабанов и изредка тигров. Когда начало смеркаться, мы пристали к острову в местности Лелю. Одеяние Гусева и странное поведение его обратило на себя внимание орочей. Они долго смотрели на него и затем спросили, таким ли он был на Анюе. По их словам, местность, где мы долбили лодки, считается «нечистой». Орочи боятся туда ходить и всегда рассчитывают свой маршрут так, чтобы ночевать выше или ниже. Там неоднократно были случаи, когда люди вдруг беспричинно чего-нибудь пугались и после этого становились душевнобольными. То же случилось, по их мнению, и с Гусевым. Вот почему он и блуждал по лесу, а мы потерпели аварию и чуть не погибли от голода. Нам все время хотелось есть, и мы жадно набрасывались на пищу, но каждый раз после еды появлялось головокружение и тошнота. Всю ночь напролет мы лежали у огня, страдая приступами болезни. Когда рассвело, я не узнал своих спутников. У всех нас оказались распухшие лица и ноги. Пересилив себя, я еле добрался до лодки. Солнечный восход застал нас уже в дороге. Красивая и спокойная в верхнем течении река Хуту становится бурливой и быстрой около устья. Здесь она разбивается на несколько проток, иногда таких узких, что в них едва могли повернуться лодки, иногда очень широких, порожистых и заваленных валежником. — Тумни ходи есть, — сказал один из орочей и указал на горы, расположенные под прямым углом к реке Хуту. Протока, по которой мы плыли, стала забирать вправо, а слева подошла еще какая-то другая большая протока. Солнце стояло высоко на небе и светило ярко, по-осеннему. Вода в реке казалась неподвижно гладкой и блестела, как серебро. Несколько длинноносых куликов ходили по песку. Они не выражали ни малейшего страха даже тогда, когда лодки проходили совсем близко. Белая, как первый снег, одинокая чайка мелькала в синеве неба. С одного из островков, тяжело махая крыльями, снялась серая цапля и с хриплыми криками полетела вдоль протоки и спустилась в соседнее болото. Орочи взялись за весла, направляя лодку к тому берегу, где течение было быстрее. Протоки становились шире, многоводнее и казались длинными озерами. Но вот и сам Тумнин! Удэхейцы называют его Томди, а орочи — Тумни (к последнему названию прибавили букву «н»). Большая величественная река спокойно текла к морю. Левый берег ее нагорный, правый — частью низменный и поемный и слагается из невысоких террас. Кое-где виднелись небольшие островки, поросшие древесной растительностью. Они отражались в воде, как в зеркале, до мельчайших подробностей, словно там, под водою, был другой мир, такой же реальный, как и тот, в котором мы обитали. Солнечное сияние, широкий водный простор, даль, открывающаяся на необозримое пространство, и душевное равновесие после пережитых страданий благотворно действовали на истомленный организм и вызывали дремоту. Проехав километра три по Тумнину, орочи свернули в одну из правых проток, на берегу которой расположилось селение Хуту-Дата. Несколько ребятишек сновало по воде в разных направлениях. Это орочские дети забавлялись в лодках. Веселые крики и смех оглашали воздух. Мальчики с острогами в руках приучались колоть рыбу. Самые маленькие ребятишки, полуодетые, стояли по колено в грязи и что-то доставали из воды. Завидев нас, они пустились бежать к селению. Через минуту из домиков вышли взрослые люди. Некоторое время они стояли неподвижно, но потом, узнав сородичей, не торопясь, пошли к берегу. — Ну, здравствуй, — говорили орочи, протягивая нам руки. Как при первом свидании на Хуту, так и теперь, когда я ближе присмотрелся к ним, я не нашел их однотипными. Одни из них имели овальные лица без усов и бороды, небольшой нос, смуглую кожу и правильный разрез глаз. У других было плоское скуластое лицо, обросшее черной бородой, широкий выгнутый нос и глаза с монгольской складкой век. Первые были небольшого роста с поразительно маленькими руками и ногами, вторые роста выше среднего, широкие в костях и с хорошо развитыми конечностями. Все орочи были одеты в костюмы, представляющие собой точные копии удэхейских, только без вышивок. Мужчины носили волосы, заплетенные в одну косу, а женщины — в две косы. Прибавьте к этому браслеты и кольца на руках и большие серебряные серьги в ушах, и вы получите ясное представление об орочском прекрасном поле. Только старые женщины имели в носу маленькие сережки (тэматыни). Орочский старшина Федор Бутунгари принадлежал ко второй антропологической группе. Это был крупный человек, лет сорока, с черной окладистой бородой. Наделенный от природы живым и проницательным умом, он имел большое влияние на всех тумнинских жителей. Я поблагодарил его за оказанную мне помощь. — Спасибо не надо! Спасибо не надо! — ответил Бутунгари смущенно и тотчас распорядился отнести наши вещи к себе в дом. Пока разгружались лодки, я стал осматривать деревушку. Селение Хуту-Дата (что в переводе значит «Устье реки Хуту») расположено по обе стороны Тумнинской протоки и состояло из бревенчатых домиков и нескольких юрт. Орочские домики имеют вид русских построек, но плохо сколочены, с маленькими окнами и досчатыми дверцами. Они расположены как попало, без всякого порядка. За домиками, ближе к лесу, стояли амбары на высоких сваях. Несколько лодок валялось на берегу. Собаки были на привязи. Тучи мошкары, словно серый туман, вились над ними. Чтобы укрыться от гнуса, собаки вырыли глубокие норы в земле и залезли в них так, что снаружи остались видными только хвосты. У большинства их гноились глаза. Скоро все селение приняло свой обычный вид. Люди разошлись по домам, собаки забились в ямы еще глубже, а ребятишки снова побежали на берег. Глядя на этих малышей, я невольно поражался умению и ловкости, с которой они плавали на оморочках и бросали острогами в небольшие кусочки дерева, которые должны были изображать рыб. Если бы наши дети очутились в лодке на середине реки, какой переполох подняли бы матери, а здесь орочки спокойно поглядывали на своих ребят. Одна женщина закричала своему сыну, чтобы он съездил зачем-то на другую сторону реки. Тут же я видел маленьких девочек, которые носили на спине большие связки хвороста, значительно превосходящие их размерами. Бутунгари пригласил нас к себе. Его дом состоял из одной большой комнаты с дверьми, отворяющимися прямо на улицу, и с двумяокнами, обращенными на реку. В одном углу стояла небольшая железная печка с коленчатыми трубами. У двух других стен тянулись деревянные нары, на которых вместо подстилок лежали кожи сохатых и шкуры медведей. Около окон стояли скамья и стол с двумя табуретками. Простая лампа с закопченным стеклом, четыре старые фотографии неизвестных лиц, сундучки, берестяные коробки, лучки, стрелы, два ружья, копье и шаманский бубен дополняли убранство помещения. Пол и потолок были сколочены плохо. Множество комаров, мух и слепней с жужжанием билось в стекла. Тотчас женщины поставили на стол закопченный чайник, стаканы из толстого стекла, белые блюдца и купленный хлеб. Ожидался ход рыбы. Весенний ход кеты был очень слабый и на несчастье совпадал с большой водой. — Наша шибко боится, — говорил Бутунгари. — Рыба нету — собака пропади, собака пропади — охота ходи не могу, охота ходи нету — чего-чего купи не могу. Вечером я опять почувствовал себя плохо и вышел из дома пройтись по берегу реки. На небе не было ни звезд, ни луны, дул ветер с моря, начинал накрапывать дождь. На той стороне реки горел костер, и свет его ярко отражался в черной, как смоль, воде. Вдруг я увидел какую-то фигуру, приближающуюся ко мне быстрыми шагами, без головного убора, завернутую в одеяло и с палкой в руках. Это был Гусев. Он остановился, посмотрел на огонь и, протянув вперед руку, медленно сказал: — Так вот оно что! Я окликнул его. Гусев вздрогнул и мелкими шажками подбежал ко мне. — Знаете, куда мы попали, — заговорил он скороговоркой. — Мы снова пришли на Анюй. Я узнаю это место. Вот и река, вот и остров, и сопка знакомая… Я стал его уговаривать итти спать. — Куда? — спросил он. — Где наш бивак? Он на той стороне. Видите огонь. Как мы теперь туда попадем, — бормотал он в беспамятстве. Я взял его под руку и привел к дому Бутунгари. Когда Гусев успокоился, я снова вышел на берег реки и долго сидел на опрокинутой вверх дном лодке. Сырость, проникшая под складки одежды, давала себя чувствовать. Я вернулся домой и лег на кан, но сон бежал от моих глаз. Меня беспокоило душевное состояние Гусева. Я решил как следует одеть его в Императорской гавани и на пароходе отправить во Владивосток. Снаружи слышался какой-то шорох. Словно крадучись, накрапывал дождь. Капли его били в стекла окон. По соседству ворчали не поладившие между собою собаки, и кто-то бредил во сне. На другой день, несмотря на ненастье, мы распрощались с Бутунгари и отправились к морю на двух лодках. Ветер дул нам навстречу, и потому орочи шли на шестах, придерживаясь мелководья. До устья реки было километров сорок пять. После принятия реки Хуту Тумнин разливается на несколько рукавов. С левой стороны главного русла тянутся обширные торфяные мари, поросшие редкостойной лиственицей, а за ними виднеется большая гора Иода с магнитной аномалией на шестнадцать градусов. Самые низовья Тумнина представляют собой обширную заводь. Раньше это был залив, глубоко вдающийся в сушу. Потом он отделился от моря широкою песчаной косою и превратился в лагуну, постепенно заполняемую выносами рек. Современная лагуна — наиболее глубокое место залива. Многочисленные острова в устье реки совсем недавнего образования. Они еще не успели покрыться растительностью. Границами древнего залива является базальтовая гряда, которая в настоящее время образует правый край лагуны, а слева такой же длинный базальтовый язык около реки Улике. Последняя раньше непосредственно вливалась в море, а теперь впадает в лагуну около теперешнего устья Тумнина. Уже смеркалось, когда мы достигли селения Дата. В нем была полная тишина. Ночные тени неслышными волнами обволакивали горы, лес и орочские домики. Точно серые, невзрачные зверьки, испугавшиеся чего-то, они сбились в кучу и притаились около высокого утеса. В неподвижной и зеркально гладкой воде лагуны отражались отблески вечернего заката. Слышался запах моря. Вот и Улике! Орочи повернули лодки. Учуяв наше приближение, собаки начали выть все разом. Из ближайшей юрты вышел мужчина. Это был ороч Антон Сагды, с которым впоследствии я подружился. Он позвал свою жену и велел ей помочь нам переносить вещи. Здесь мы узнали, что все мужское население ушло на охоту за морским зверем и дома остались старики, женщины и дети. Через несколько минут мы сидели в юрте по обе стороны огня и пили горячий чай. Первый маршрут от Амура к морю был окончен. После ужина ороч и его жена ушли к соседям, предоставив в наше распоряжение всю юрту. Вследствие болезненного состояния я опять не мог спать. Я лежал на жестком ложе с открытыми глазами и ни о чем не хотел думать. Слышно было, как снаружи доносился шум морского прибоя; слышно было, как квакали лягушки в воде и стрекотали ночные кузнечики. На рассвете в юрту вошел А. Сагды и объявил, что море разбушевалось, ехать нельзя и потому вставать не надо. Я воспользовался его советом и, повернувшись на другой бок, уснул тяжелым сном. Когда я проснулся, было уже поздно. При дневном освещении селение Дата имело совсем иной вид. Семь бревенчатых домиков и десять юрт из корья растянулись вдоль берега Улике. Юрты орочей больше размерами, чем у родственных им удэхе. Кроме крыш, они имеют еще боковые стенки. Люди помещаются на полу по обе стороны огня, женщины ближе к дверям. Тут же на полках, связанных лыком, помещалась деревянная и берестяная посуда, среди которой я заметил несколько белых тарелок. Орочские женщины трудолюбивы и молчаливы. Весь день они работают: носят дрова, скоблят шкуры зверей или мнут рыбью кожу, варят обед или шьют обувь и починяют одежду. Они много курят и как будто совершенно не замечают посторонних людей у себя в доме. В глазах их нельзя прочесть ни испуга, ни гнева, ни любопытства, ни радости. Орочи любят держать около своих домов разных птиц и животных. В селении Дата был настоящий зверинец. Близ юрты А. Сагды в особом помещении, сложенном из толстых бревен, сидел медведь. Его убьют на празднике, когда он достигнет полного возраста, как это делают гиляки и айны. Медведь был злой и сквозь щели в бревнах старался лапой хватить любопытных, заглядывающих в его темницу. В другом домике я увидел молодую лису. В движениях ее было что-то порывистое, собачье и что-то грациозное, кошачье. По соседству на сушилках, привязанный за ногу, сидел орел. Он успел уже свыкнуться со своей неволей, равнодушно поглядывал по сторонам и только время от времени клювом перебирал перья у себя на груди. Около крайнего дома в деревянном ящике сидели только что пойманные две молодые уточки. Они пищали и просовывали свои неуклюжие головы между решетинами клетки. Тут же внутри юрты по полу прыгала привязанная за ногу озорница-сойка. Она издавала резкие крики и, согнув на бок голову, поглядывала в дымовое отверстие в крыше, где виднелось небо и солнце. После осмотра селения я хотел перебраться на другую сторону реки Улике. Антон Сагды охотно взялся проводить меня к морю. Мы сели с ним в лодку и переехали через реку. Коса, отделяющая ее от моря, оказалась шире, чем я предполагал. Она заросла лиственицей в возрасте от ста до ста пятидесяти лет. За перелеском широкой полосой тянулись пески, на которых во множестве валялись створки раковин. Самое устье Тумнина узкое. Огромное количество воды, выносимое рекою, не может вместиться в него. С берега видно, как сильная струя пресной воды далеко врезается в море, и кажется, будто там еще течет Тумнин. Навстречу ему идут волны, темные, с острыми гребнями. Они вздымаются все выше и выше, но, столкнувшись со стремительным течением реки, сразу превращаются в пенистые буруны. И вот в такую-то ветреную погоду орочи селения Дата выходят в море на охоту за нерпами. Я сел на берегу и стал любоваться прибоем, а мой спутник закурил трубку и рассказал, как однажды семнадцать человек орочей на трех больших лодках отправились за морским зверем. Дело было весной, в марте. Надо было дойти до сплошного льда, где они рассчитывали найти много тюленей. Погода была хорошая, море тихое. Мыс, где ныне стоит Николаевский маяк, чуть виднелся на горизонте. После полудня орочи заметили лед и на нем много нерп. Они принялись за охоту с увлечением. В короткий срок они убили девяносто одно животное. Вдруг с северо-восточной стороны надвинулся холодный туман и пошел снег. Старики уговаривали молодых орочей бросить убитых животных и спешно итти назад к берегу, которого теперь уже не было видно. Тяжело нагруженные лодки не могли скоро двигаться. Небо все больше и больше заволакивало тучами. Орочи потеряли ориентировку и гребли наугад до самых сумерек, а ветром их относило в сторону. Так промаялись они всю ночь, а наутро, когда стало светать, опять увидели перед собой ледяное поле и на нем трупы убитых ими тюленей. Тогда они вытащили на лед лодки, укрепили на веслах палатки и стали выжидать конца бури. Двое суток бушевало море. Опасаясь, что волнением может взломать лед, старики велели держаться около лодок. За неимением дров они жгли в котлах нерпичье сало, на растопку шли палки и доски от сидений. Огонь раскладывали только тогда; когда надо было согреть воду. На третий день ветер начал стихать, море понемногу стало успокаиваться. Когда туман рассеялся, они увидели землю. По очертаниям гор старики узнали, что находятся против устья реки Копи. Уезжая со льдины, они побросали всех тюленей в воду, отдав их в жертву хозяину морей Тэму, в глубоком убеждении, что это он наказал их за убой такого большого количества своих собак. Орочи дали обет на будущее время бить зверя ровно столько, сколько надо для прокормления. Велика была радость женщин селения Дата, увидевших своих мужей и братьев, которых они считали погибшими.Глава четвёртая Смотритель маяка
В ночь с 11 на 12 сентября ветер начал стихать. Антон Сагды несколько раз ходил на берег моря, смотрел вдаль и по движению облаков старался угадать погоду. Глядя на него, можно было подумать, что обстоятельства складываются неблагоприятно. Я уже хотел было итти на экскурсию к горе Иодо, как вдруг орочи засуетились и стали готовить лодки. Нам с читателем придется совершить длинное путешествие вдоль берега моря, и потому необходимо познакомиться с конструкцией орочской мореходной лодки (тамтыга). Она очень легка и сшивается из тонких досок. Вместо железных гвоздей орочи употребляют деревянные (лиственичные) колышки. Будучи плоскодонной, тамтыга сидит в воде главным образом своей средней частью, имея нос и корму приподнятыми. Такая конструкция делает ее очень удобной и позволяет приставать к берегу в любом месте, лишь бы не было острых камней. Грузы в лодке распределяются так: две трети — в корме между гребцами и рулевым и одна треть — в носу. Так как дно лодки выгнуто, то вся вода, просачивающаяся сквозь щели, стекает к середине и легко выкачивается за борт берестяными ковшиками. Гребное весло состоит из рычага с рукояткой, отверстием для уключины и лопастью, дискообразной у основания и суживающейся к концу. Уключины делаются из еловых сучков, которые привязываются лыками к бортам лодки в вертикальном положении. Вместо паруса употребляется четырехугольное полотнище палатки, прикрепленное к нему жердями, косокрестообразно привязанными к одной из скамеек. Мореходная орочская лодка среднего размера при четырех гребцах, одном рулевом и двух пассажирах может поднять до 30–40 пудов полезного груза. Часов в десять утра мы вошли в лодки и тронулись в путь. Главным старшиной и руководителем был Антон Сагды. Я удивился той дисциплине, которая царила в отряде. Все его распоряжения молодые орочи исполняли быстро; они работали молча, проворно, не было ни споров, ни пререканий. Таков закон у всех мореходов. Только при соблюдении строжайшей дисциплины можно успешно бороться с водной стихией. Сухопутные люди не всегда это понимают. Когда мы вышли из реки Улике, течение подхватило нашу лодку и понесло ее в море. Навстречу шли большие волны, увенчанные белыми гребнями: одна другой выше, одна другой страшнее. Антон Сагды велел гребцам сдерживать лодку на веслах, а сам встал на корму и пытливо всматривался вперед. Казалось, он выжидал удобного момента. Улучив минуту, он крикнул: — Га! Орочи дружно навалились на весла. Как только лодка поравнялась с внешним краем песчаной косы, Антон Сагды круто повернул ее вправо. Тотчас слева выросла громадная волна. Она неслась прямо на нас, всплескивалась, пенилась и шипела. Повинуясь кормовому веслу рулевого, лодка пошла ей навстречу и немного наискось. Вслед за тем она взметнулась кверху и накренилась на правый борт. Волна прошла: гребцы сильнее налегли на весла. Опять волна и опять тот же маневр. На мгновение тамтыга очутилась в водяной котловине, потом сразу взлетела на гребень, грузно осела кормой и вслед за тем зарылась носом в белой пене. Это был девятый вал. Потом лодка выправилась: бар и прибойное волнение остались сзади. Тогда Антон Сагды дождался второй лодки, дал несколько советов рулевому и велел грести. Все пространство между реками Хуту, Тумнином и Копи заполнено базальтом. Этот лавовый поток двигался с запада к востоку и вклинился в море длинными языками, благодаря чему здесь образовалось много полуостровов, бухт и заливов. Императорская гавань представляла собой глубокий провал. Берега ее тоже слагаются из базальтов. Лес, состоящий из лиственицы, аянской ели и белокорой пихты, густо покрывает все мысы и по распадкам спускается до самого моря. Я сидел рядом с Антоном Сагды и старался запомнить все, что он говорил. Первая бухточка называлась Намшука (искаженное «Намука» от слова «Наму», что означает море). За ней дальше на юг между мысами Шинаку и Чжуанка вытянулась большая бухта Силантьева. В нее впадает небольшая речка Чжуанка, которая получила свое имя от слова «Чжу», что значит домик. «Чжуанка» в переводе на русский язык будет «деревушка». И действительно, в глубине самой бухты приютилось небольшое орочское селение. Затем следует бухта Тона с мысом Тона и с рекой Тона, а за ними небольшая, но уютная бухточка Сякта с безыменной речкой. На ней есть водопад Сыдю, около которого живет чорт. Там часто трясется земля, кто-то ходит по лесу, кричит, свистит и не дает людям спать. Еще отметим выдающийся мыс Ая (слово это значит «хорошо»). Такое странное название он получил потому, что сейчас же за ним находится большая бухта Ванина. Если во время непогоды орочам удается на лодках достигнуть этого мыса, они кричат: Ая, Ая!.. Антон Сагды тоже издал это традиционное восклицание, налег на кормовое весло и свернул в бухту Ванина. Высокие скалистые берега ее, темная неподвижная вода и никем не нарушаемая тишина создавали обстановку неприветливую, угрюмую. В глыбах камней, хаотически нагроможденных на берегу, в покачнувшихся старых деревьях и в мрачных утесах чувствовалась какая-то настороженность. Точно кто-то неведомый, страшный прятался в лесу и наблюдал за нашими лодками. В глубине бухты впадала небольшая речка Уй, около устья которой находился один орочский домик. Присутствие людей несколько смягчало суровую красоту бухты Ванина, и жуткое чувство, навеянное столь странной обстановкой, понемногу стало рассеиваться. Когда орочи пристали к берегу, они пошли по своим делам. Мне наскучило сидеть в лодке на одном месте, и я пошел пройтись по наплывной полосе прибоя. Она суживалась все более и более и, наконец, сошла на нет. Я обратил внимание на большую глубину бухты. Слева была высокая стена, а справа — вода. Если бы море вдруг отступило, я почувствовал бы себя на карнизе, повисшем над пропастью. Дойдя до конца тропы, я сел на один из камней и стал осматриваться. Взор мои остановился на медузе. Она то развертывала свою мантию, то быстро сжимала ее, выталкивала воду и толчками подвигалась вперед. Вдруг несколько в стороне на воде появились круги, и вслед за тем над поверхностью ее показалась большая голова какого-то страшилища буро-серого цвета, с маленькими ушами, черным носом и щетинистыми усами; голова была больше человеческой раза в четыре. Животное глубоко вздохнуло и потом раскрыло свою пасть, показав большие зубы. Вслед за тем оно повернуло голову и уставилось на меня своими черными выпуклыми глазами. Если бы оно вздумало вылезть на низкую намывную полосу прибоя, то отрезало бы мне путь назад, и я очутился бы прижатым к береговому обрыву. Тогда я решил опередить его и спрыгнул с камня, но зверь сам меня испугался. Он еще раз шумно вздохнул и скрылся под водою. Вернувшись назад, я рассказал орочам, что, по-видимому, видел сивуча. Этот крупный представитель ушастых тюленей в недавнем прошлом был весьма распространен, но вследствие постоянного преследования человеком он почти совсем исчез около Императорской гавани. Ныне сивучи встречаются южнее мыса Туманного. Орочи считают сивуча морским медведем, находящимся в антагонизме с его наземным братом. Появление его в бухте Ванина означает, что он был или ранен или напуган касаткой-гладиатором (Тэму). Орочи также сообщили мне один из их многочисленных предрассудков, а именно: ножом, которым хоть раз пришлось снимать шкуру с сивуча, нельзя резать мясо медведя и вообще брать его с собой на охоту не следует. Лучше всего такой нож бросить в море. Через полчаса мы поплыли дальше. Между тем погода опять испортилась: юго-восточный ветер принес туман, и море взволновалось. К счастью, до Императорской гавани было недалеко. Обогнув мыс Туманный, лодки вошли в открытую бухту Безымянную. Слева был большой остров Меньшикова, недавно соединившийся узкою песчаной косой с материком. Орочи перетащили лодки через косу и сразу попали в бухту Уая (Северную), составляющую часть Императорской гавани. Последняя длиной 11 и шириной до 3 километров и отделена от моря высоким горным хребтом Доко, слагающимся из массивно-кристаллических пород. Императорская гавань расположена в направлении с юго-запада к северо-востоку и, в свою очередь, имеет несколько заливов и бухт с орочскими названиями, которые впоследствии были вытеснены русскими. Если итти от входа в гавань по восточному берегу и, обогнув в конце, продолжать путь по западному — к полуострову Меньшикова, то эти бухточки располагаются в следующем порядке: первая — Цаапкой (Маячная). Здесь выгружаются грузы, предназначаемые для маяка. Следующая бухточка Даянькая (Японская). В глубине ее приютилось несколько домиков русских рыбопромышленников. Далее две бухточки рядом: Чабакая и Окача. Тут были постройки Австралийской лесопромышленной компании. Как раз напротив них находится мелководная бухта Хади, в которую впадает река того же имени. По соседству с ней и севернее — бухта Баудя (Костарева) и далее к северо-востоку Аггэ (залив Константиновский), о котором речь будет ниже, и, наконец, Уая, в которую мы попали через переволок из бухты Безымянной. Против Маячной бухты есть небольшой островок Сеогобяцани, ныне называемый Коврижкой. В сумерки мы дошли до концессии и стали биваком на самом берегу моря около обильного водою источника. Наш истомленный вид и наши изношенные костюмы привлекли общее внимание. Вести о маршруте экспедиции и тяжелой голодовке разнеслись по всем окрестностям. Служащие концессии приходили к нам расспрашивать о том, как мы шли, и приглашали к себе на чашку чая. Это было весьма стеснительно, но ничего нельзя было поделать и приходилось отдавать дань популярности, приобретенной такой тяжелой ценою. От новых знакомых я узнал, что в конторе концессии имеются для нас письма и деньги, а в складах хранятся ящики с одеждой, продовольствием и научным снаряжением, высланным из Владивостока. Следующий день был воскресный, но, несмотря на это, для нас открыли склады и выдали все, в чем мы нуждались. Мы вымылись в бане, сбросили с себя лохмотья и надели новые костюмы и чистое белье. Через неделю прибыл пароход, на котором я отправил Гусева. Он тоже отдохнул, и душевное равновесие его стало восстанавливаться, чему мы все были очень рады. Впоследствии я узнал, что он выздоровел совершенно. Первую экскурсию я совершил в залив Константиновский. Пусть читатель представит себе изломанную трещину в восемь километров длиною, заполненную водой. В самом конце залива впадает небольшая речка Ма. Высокие скалистые берега, покрытые густым хвойным лесом, очень живописны и выступают то с одной стороны, то с другой, как кулисы в театре. Первый мыс на северном берегу носит название «Сигнальный», за ним расположилась красивая бухточка Путаки (Постовая), глубиною в 30 метров. Здесь был потоплен фрегат «Паллада». В 1854–1855 годах во время Севастопольской кампании, когда военные суда были уведены к Николаевску-на-Амуре, фрегат «Паллада», вследствие своей глубокой осадки, не мог пройти через бар Амура и остался в Императорской гавани. Я велел пристать к берегу. До сумерек было еще далеко, и потому, предоставив своим спутникам устраивать бивак, я взял ружье и пошел осматривать местность, которая на картах носит название поста Константиновского. Здесь мечтали построить город Константиновск, и все это рухнуло как-то сразу. Большой корабль погребен на дне бухты, над ним стоит неподвижная и черная, как смоль, вода, на берегу кладбище с развалившимися могилами, истлевшими изгородями и упавшими крестами, на которых кое-где сохранились надписи. От казарм и цейхгаузов следов не осталось. От батарей, спешно выстроенных тогда же в 1855 году, сохранились валы, разрушенные временем и размытые водой. На опушке леса на самом краю берегового обрыва, стоит покачнувшийся чугунный памятник, на котором сделана следующая надпись: «Погибшим от цынги в 1853 году транспорта Иртыш штурману Чудинову и 12 матросам с ним и Российско-американской компании 4 матросам и 2 рядовым». Над бухтой и в лесу над кладбищем царила мертвящая тишина. Погибли люди, погибли надежды, погибло все — только смерть оставила свои следы. Я задумался над бренностью людского существования. Как бы в подтверждение моих слов, один крест, стоявший в наклонном положении и, видимо, подгнивший у самого основания, с глухим шумом упал на землю. Испуганный паучок, прятавшийся за дощечкой, на которой когда-то было написано имя погребенного, пробежал по дереву и проворно скрылся в траве. У основания креста копошились муравьи. Грустное чувство навеяли на меня развалины поста. Мне захотелось к людям. Я забросил ружье на плечо и медленно пошел к биваку. День клонился к вечеру. Солнце только что скрылось за горами и посылало кверху свои золотисто-розовые лучи. На небе в самом зените серебрились мелкие барашковые облака. В спокойной воде отражались лесистые берега. Внизу у ручейка белели две палатки, и около них горел костер. Опаловый дым тонкой струйкой поднимался кверху и незаметно таял в чистом и прохладном воздухе. На биваке я застал своих спутников в сборе. На другой день мы рано вернулись в концессию. Через два дня я отправился на маяк Николая, где намеревался привязать свои съемки к астрономическому пункту и произвести поправки хронометра. Путь от концессии идет лесом вдоль восточного берега Императорской гавани. Эта конная тропа очень грязная, и ею можно пользоваться только при дневном свете. Километров через шесть она выходит на дорогу, проложенную от Маячной бухты по всхолмленной местности, и пересекает несколько горных ручьев. По сторонам ее на местах старых пожарищ тянутся пустыри, поросшие молодой лиственицей и белой березой. Самый маяк построен в 1897 году на оконечности хребта Доко, слагающегося из гранита и имеющего несвойственную ему столбчатую отдельность. Орочи в торчащих из земли утесах видели окаменевших людей и боялись туда ходить. В дальнейшем при постройке маяка эти страхи рассеялись. Смотрителем маяка был старый боцман парусного флота Майданов. Он встретил меня на крыльце и протянул руку. Я увидел перед собою полного человека лет сорока с лысиной на голове, с крупными чертами лица и слабой растительностью на верхней губе. Он был одет в черную флотскую тужурку с медными пуговицами, такие же черные штаны и высокие сапоги. Старые моряки имеют особую походку. Так и Майданов при ходьбе покачивал корпусом и как-то странно держал руки, точно хотел схватиться за что-нибудь. Он постоянно улыбался, и серьезная мина совсем не шла к его лицу. Это был весьма добродушный человек и исправный служака. Надо отдать ему справедливость, маяк он содержал в образцовом порядке: всюду была видна рука заботливого хозяина и чистота такая, какую можно встретить только на военном судне. Полы были вылощены и блестели, как полированные; стены, выкрашенные масляной краской, спорили в чистоте с печами, которые не только красились, но еще и мылись еженедельно. Все металлические части были вычищены, стекла протерты мелом. Приятно было видеть весь этот порядок, и я не мог отказать себе в удовольствии пробыть на маяке трое суток. Перед сумерками мы с Майдановым сели за стол, в это время в помещение вошел матрос и доложил, что с моря идет густой туман. — Заведи граммофон, — сказал ему смотритель маяка. — Есть! — ответил матрос и удалился. Через десять минут страшный рев всколыхнул пропитанный морскими испарениями тяжелый воздух. Звук был настолько силен, что от него зазвенели стекла в окнах. От неожиданности я даже вскочил с места. — Что это такое? — спросил я своего собеседника. — Граммофон! — ответил он мне. — Какой граммофон? — вновь спросил я его в недоумении. — А сирена, — сказал он простодушно. Через две минуты звук повторился еще и еще и так весь вечер, всю ночь и весь следующий день до вечера. Скоро ухо мое привыкло. Я перестал замечать ритмический рев сирены. Она не мешала мне не только работать, но даже и спать. На другое утро Майданов разбудил меня и объявил, что погода туманная и дождливая. Это подтверждала и сирена, которая гудела, не переставая, посылая мощные звуковые волны в туманную даль. Первую половину дня я провел за своими путевыми дневниками. Покончив с работой, я спросил смотрителя маяка, нет ли у него какой-нибудь книжки. — Нет, — ответил он. — Этого у нас не водится. Я выразил удивление, что на маяке, где от скуки, казалось бы, умереть можно, нет книг. — Нам некогда читать, — ответил Майданов, — днем и ночью работы много. Я посоветовал ему выписать несколько книг и обещал дать их список, но Майданов предупредил меня. Он списал заглавия всех тех книг, которые я имел с собою. Впоследствии мне рассказывали, что книги эти он получил и поставил их на видном месте. Каждому посетителю он показывал их и говорил, что это я посоветовал ему приобресть их для чтения гостям, которых судьба случайно закинет на маяк… В сумерки мы поднялись с ним на башню для осмотра фонаря. Когда я вышел на мостик с перилами, окружающими фонарь, я поражен был громадным количеством ночниц, налетевших на свет, и тотчас же стал собирать их в морилку с цианистым калием. Вечером я укладывал насекомых в конвертики и делал надписи на них. Часов в восемь с половиной Майданов, сидя за столом, стал дремать. — Идите спать, — сказал я ему. — Нельзя, — ответил он. — Почему? — спросил я опять. — Надо в девять часов произвести метеорологические наблюдения. Он зажег фонарик, снова сел на свое место и стал поглядывать на часы. Когда было без пяти минут девять, я сказал, что теперь можно производить наблюдения. — Нет, — отвечал он, — надо минута в минуту. Затем он оделся и вышел во двор. Я видел через окно, как он остановился перед метеорологической будкой с часами в руках и ждал, когда минутная и секундная стрелки укажут ровно девять. У него был вид человека, который исполняет чрезвычайно важное и ответственное дело, в котором ничтожное нарушение во времени может привести к весьма серьезным последствиям. Покончив с наблюдениями, смотритель маяка лег спать, но зачем-то позвал меня к себе. Войдя в его «каюту», как он называл свою комнату, я увидел, что она действительно обставлена, как каюта. В заделанное окно был вставлен иллюминатор. Графин с водой и стакан стояли в гнездах, как на кораблях. Кровать имела наружный борт, стол и стулья тоже были прикреплены к полу, тут же висел барометр и несколько морских карт. Майданов лежал в кровати одетый в сапогах. — Почему вы не разденетесь? — спросил я его. — Что вы! Что вы! — отвечал он торопливо, как бы испугавшись чего-то. — Нельзя! Никак нельзя! — Почему? — спросил я. — А вдруг судно покажется, — ответил он, садясь в койке. — Ну, так что же, — сказал я ему. — Пусть себе идет мимо. — Нет, нельзя, — ответил Майданов. — Если раздеваться, то какая же это служба будет. У нас бывало на корвете только ляжешь и закроешь глаза, как кричат: «Боцмана наверх». Где тут раздеваться и одеваться! Я понял, ему непременно хотелось придать своей службе серьезное значение. Он считал себя часовым на посту. В этом был весь смысл его жизни. Это сознание важности дела наполняло его всего, одухотворяло его и делало жизнь прекрасной. Разве можно разбивать иллюзии в таких случаях? На другой день я встал чуть свет. Майданов лежал на кровати одетый и мирно спал. Потом я узнал, что ночью он дважды подымался к фонарю, ходил к сирене, был на берегу и долго смотрел в море. Под утро он заснул. В это время в «каюту» вошел матрос. Я хотел было сказать ему, чтобы он не будил смотрителя, но тот предупредил меня и громко доложил: — На траверсе судно! Майданов мгновенно вскочил на ноги. Он принял важный вид, надел головной убор и вышел на берег моря. Я последовал за ним. Ветер переменился и дул уже с материка. Внизу над водой держался туман отдельными клочьями. Было такое впечатление, будто мы находились высоко в горах, а там внизу проходят облака. За дальностью расстояния волн не было видно, и только по белой кайме у берега можно было догадаться, что море неспокойно. Майданов поднял бинокль к глазам и долго смотрел на горизонт. Затем он вернулся в свою каюту и все с тем же важным видом в простой ученической тетради с клеенчатым переплетом, которую он важно называл «вахтенным журналом», отметил день, час и минуты, когда судно, чуть заметное на горизонте, прошло мимо его маяка. — Разве это надо записывать? — спросил я его. — А как же! — ответил он. — В вахтенном журнале все записывается: и погода, и все, что делается на судне, и какие другие суда встречаются на пути, и какой курс они держат. Я проникся уважением к этому старому боцману. Когда атмосфера совсем очистилась, я привязал свои съемки к астрономическому пункту, определенному М. Е. Жданко в 1902 году (48° 58' 33,6'' северной широты и 140° 25' 9,5'' восточной долготы от Гринвича), и сделал поправки своего хронометра. Часов в восемь вечера я стал собираться «домой». Майданов засуетился и проводил меня до первого ручейка. Двумя руками он пожал мою руку и очень просил следующий раз, как только я приду в Императорскую гавань, непременно остановиться у него на маяке. Мы расстались. Было уже поздно. На небе взошла луна и бледным сиянием своим осветила безбрежное море. Кругом царила абсолютная тишина. Ни малейшего движения в воздухе, ни единого облачка на небе. Все в природе замерло и погрузилось в дремотное состояние. Листва на деревьях, мох на ветвях старых елей, сухая трава и паутина, унизанная жемчужными каплями вечерней росы, — все было так неподвижно, как в сказке о спящей царевне и семи богатырях. Минут двадцать пять я шел целиною, но потом действительно нашел тропу, которая, по-видимому, шла на лесную концессию. Около тропы лежала большая плоская базальтовая глыба. Я сел на нее и стал любоваться природой. Ночь была так великолепна, что я хотел запечатлеть ее в своей памяти на всю жизнь. На фоне неба, озаренного мягким сияньем луны, отчетливо выделялся каждый древесный сучок, каждая веточка и былинка. Полный месяц с небесной высоты задумчиво смотрел на уснувшую землю и тихим густым светом озарял мохнатые ели, белые стволы берез и большие глыбы лавы, которые издали можно было принять за гигантских жаб или окаменевших допотопных чудовищ. Воздух был чист и прозрачен: кусты, цветковые растения, песок на тропе, сухую хвою на земле, словом, все мелкие предметы можно было так же хорошо рассмотреть, как и днем. Поблизости от меня рос колючий кустарник даурского шиповника, а рядом с ним поросль рябины, за ней ольховник и кедровый стланец, а дальше жимолость и сорбария. Еще не успевшая остыть от дневного зноя земля излучала в воздух тепло, и от этого было немного душно. Эта благодатная тишь, эта светлая лунная ночь как-то особенно успокоительно действовали на душу. Я вдыхал теплый ночной воздух, напоенный ароматом смолистых хвойных деревьев, и любовался природой. Какой-то жук, должно быть навозный, с размаху больно ударил меня в лицо и упал на землю. Слышно было, как он шевелился в траве, видно стараясь выбраться на чистое место. Это ему удалось. Он с гудением поднялся на воздух и полетел куда-то в сторону. Я встал и пошел своей дорогой. Примерно через полчаса сплошной лес кончился, и я вышел на пригорок. Впереди передо мной расстилался широкий и пологий скат, покрытый редколесьем, состоящим из березы, ели, осины и лиственицы. Тут росли кустарники и высокие травы, среди которых было много зонтичных. Справа была какая-то поляна, быть может гарь, а слева стеной стоял зачарованный и молчаливый лес. На минуту я остановился и в это время увидел впереди себя какой-то странный свет. Кто-то навстречу мне шел с фонарем. «Вот чудак, — подумал я. — В такую светлую ночь кто-то идет с огнем». Через несколько шагов я увидел, что фонарь был круглый и матовый. «Вот диво, — снова подумал я. — Кому в голову могла притти мысль итти по тайге при свете луны с бумажным фонарем». В это время я заметил, что светлый предмет был довольно высоко над землей, значительно превышал рост человека. «Еще недоставало, — сказал я почти вслух. — Кто-то несет фонарь на палке». Странный свет приближался. Так как местность была неровная и тропа то поднималась немного, то опускалась в выбоину, то и фонарь, согласуясь, как мне казалось, с движениями таинственного пешехода, то принижался к земле, то подымался кверху. Я остановился и стал прислушиваться. Быть может шел не один человек, а двое. Они, несомненно, должны разговаривать между собою… Но тишина была полная: ни голосов, ни шума шагов, ни покашливания — ничего не было слышно. Не желая пугать приближающихся ко мне людей, я умышленно громко кашлянул, затем стал напевать какую-то мелодию, потом снова прислушался. Абсолютная тишина наполняла сонный воздух. Тогда я оглянулся и спросил: кто идет? Мне никто не ответил. И вдруг я увидел, что фонарь двигается не по тропе, а в стороне, влево от меня кустарниковой зарослью. Мне стало страшно оттого, что я не мог объяснить, с кем или с чем имею дело. Это был какой-то светящийся шар величиной в два кулака, матового белого цвета. Он медленно плыл по воздуху, приноравливаясь к топографии места, то опускаясь там, где были на земле углубления и где ниже была растительность, то поднимаясь кверху там, где повышалась почва и выше росли кустарники, и в то же время он всячески избегал соприкосновения с ветвями деревьев, с травой и старательно обходил каждый сучок, каждую веточку и былинку. Когда светящийся шар поравнялся со мной, он был от меня шагах в десяти, не более, и потому я мог хорошо его рассмотреть. Раза два его внешняя оболочка как бы лопалась, и тогда внутри его был виден яркий бело-синий свет. Листки, трава и ветви деревьев, мимо которых близко проходил шар, тускло освещались его бледным светом и как будто приходили в движение. От молниеносного шара тянулся тонкий, как нить, огненный хвостик, который по временам в разных местах давал мельчайшие вспышки. Я понял, что имею дело с шаровой молнией, при абсолютно чистом небе и при полном штиле. Должно быть каждая из травинок была заряжена тем же электричеством, что и молниеносный шар. Вот почему он избегал с ними соприкосновения. Я хотел было стрелять в него, но побоялся. Выстрел, несомненно, всколыхнул бы воздух, который увлек бы за собой шаровую молнию. От соприкосновения с каким-либо предметом она могла беззвучно исчезнуть, но могла и разорваться. Я стоял, как прикованный, и не смел пошевельнуться. Светящийся шар неуклонно двигался все в одном направлении. Он наискось пересек мою тропу и стал взбираться на пригорок. По пути он поднялся довольно высоко и прошел над кустом, потом стал опускаться к земле и вслед затем скрылся за возвышенностью. Странное чувство овладело мною: я и испугался и заинтересовался этим явлением. Очень быстро чувство страха сменилось любопытством… Я быстро пошел назад, взошел на пригорок и пробрался к тому кусту, где последний раз видел свет. Шаровая молния пропала. Долго я искал ее глазами и нигде не мог найти. Она словно в воду канула. Тогда я вернулся на тропу и пошел своей дорогой. Луна немного переместилась. Длинные черные тени деревьев, словно гигантские стрелки, показывали, что месяц передвинулся по небу к той точке, в которой ему надлежит быть в девять часов вечера. Кругом все спало. Сквозь ветви деревьев на тропу ложились кружевные тени листвы, я ступал на них, и они тотчас взбирались ко мне на обувь и на одежду. Впереди меня мелькнуло что-то темное, и невозможно было разобрать, что это: зверь или птица. Я весь находился под впечатлением виденного. Все время мне представлялась шаровая молния, и я очень сожалел, что не пошел за нею следом и не проследил до момента ее исчезновения. Через час пути я вышел на проселочную дорогу. Она привела меня прямо к концессии. Озаряемые сияньем луны, палатки нашего бивака казались иссиня-белыми. Около них чуть теплился огонь. Мои спутники уже спали: из палатки доносился дружный храп. Кто-то бредил во сне. Я тихонько пробрался на свое место и скоро заснул крепким сном.Глава пятая Орочи
Когда на другой день утром я вышел из палатки, то увидел трех орочей с реки Хади. Они явились с приглашением приехать к ним в селение Дакты-Боочани. Старшим среди них был Чочо Бизанка. Это был удалый охотник, смелый мореход и кузнец наславу. Только он один умел починять замки у ружей. Когда он был юношей, какой-то проезжий миссионер крестил его и назвал Иваном. В молодые годы он был известен под именем Ваньки Кузнецова, когда же Чочо перевалило за тридцать лет, его стали опять звать Иваном. Крестным отцом его был тоже какой-то случайный русский Михаил. Годы шли, в волосах Чочо заблестели серебряные нити, и с тех пор его начали величать Иваном Михайловичем Бизанка. Мы будем по-прежнему называть его орочским именем Чочо. Старику было около семидесяти лет, но на вид ему нельзя было дать этого возраста. Он был невысокого роста, круглая его голова с жиденькой косичкой поседевших волос, мелкие черты лица, но без глубоких морщин, смуглая кожа, небольшая темная растительность на верхней губе и подбородке, маленькие руки и ноги дадут читателю некоторое представление о человеке, с которым впоследствии мне суждено было очень сдружиться. Тембр голоса его был выше обыкновенного, с хриплыми нотками, Нельзя сказать, чтобы он был речист, но говорил он охотно и немного подшучивал над неудачами молодых охотников. Тем не менее они любили и уважали старика. Я велел казакам угостить орочей чаем и выдать им сухарей, которые они считали большим лакомством. Вечером я пригласил к себе в палатку Чочо и узнал от него, много интересного. На другой день утром я написал письма в концессию с просьбой отправить их во Владивосток с ближайшей оказией и затем поехал с орочами на реку Хади. Как и надо было ожидать, при устье река разбивается на несколько мелководных рукавов, разделенных наносными островами недавнего образования и еще не успевших покрыться растительностью. Селение Дакты-Боочани находится в лесу на правом берегу реки, в пяти километрах от моря. Тогда было здесь шесть юрт, в которых мы застали всех орочей, съехавшихся сюда с рек Ма, Уй, Хади и Тутто. Юрты из корья, амбары на сваях, сушила для рыбы, опрокинутые вверх дном лодки, собаки и разные животные и птицы на привязи — все было уже знакомо мне и напоминало селение Дата при устье реки Тумнина. Чочо пригласил меня в свою юрту. Она была больше и опрятнее других. Сюда пришли и другие орочи. Мы сели по обе стороны огня. Тотчас на маленьких столиках появилась сухая рыба, черемуха и чай с мучными лепешками, испеченными у костра. У этих обездоленных судьбою людей свои нужды. Они просили меня помочь им советами. Я объяснил орочам также, зачем я пришел сюда, куда иду и какие цели преследует экспедиция, рассказал им о своем маршруте с Анюя на Хату, о крушении лодок и о том, как мы все едва не погибли с голода. Среди орочей было несколько стариков. Поджав под себя ноги, они сидели на корье и слушали с большим вниманием. Потом я, в свою очередь, стал расспрашивать их о том, как жили они раньше, когда были еще детьми. Старики оживились, начали вспоминать свою молодость — время, давно прошедшее, почти забытое, былое… Вот что они рассказывали. Раньше орочей было очень много. По всему побережью моря, от мыса Хой, что южнее залива Де-Кастри, до Аку, который теперь называется мысом Успения, всюду виднелись их юрты. Те, что жили на берегу Татарского пролива к северу от Тумнина, назывались Пяка (Фяка). В 1903 году от этих Пяка оставалось только три человека: Пингау и Цатю из рода Огомунка и Тончи из рода Бочинка. Первые двое умерли в том же году, последний представитель Пяка еще жив и поселился на реке Хунгари. Орочи Императорской гавани туземцев, живших южнее мыса Аку (на реках Ботчи и Самарге), называли Кяка. В давние времена несколько орочей отправилось за нерпами, но лед, на котором они охотились, оторвало от берега и унесло в море. Родные считали их погибшими, но судьба распорядилась их жизнью иначе. Лед прибило, к острову Сахалину. Орочи высадились на берег и поселились на реке Куй-ни. По другим версиям, люди эти были на лодке, но во время тумана заблудились в море и попали на остров Сахалин, где остались навсегда. Тогда же, с того же острова Сахалина бурей принесло в лодке семь человек каких-то людей с женщинами. Эти невольные переселенцы высадились в бухте Биза, которая находится рядом и немного севернее Маячного мыса и ныне называется Фальшивой. Тут они жили долго. Потом часть их поселилась на острове Сеочо. Так получился род Сеоченка и Бизанка, которые впоследствии выделили из себя еще два рода: Асэнка и Няннянку. Так, по мнению орочей, Бо-Эндули (высшее божеское существо) менял людей. Орочей он послал на Сахалин, а оттуда прислал других людей. По словам орочей, все Пяка были бородатые. Средитумнин-ских орочей я тоже видел некоторых людей с большими бородами. Несомненно, здесь была примесь айнской крови. Раньше орочи слышали, что где-то за морем и за горами есть другая земля и другие люди. Очевидно речь шла о японцах, об айнах на острове Сахалине и маньчжурах на Амуре. Эти другие земли казались. им так далеко, что добраться до них простому смертному невозможно. Орочи ловили рыбу, охотились со стрелами, зимой на лыжах догоняли зверей и кололи их копьями. Одевались они в звериные шкуры и шили одежду из рыбьей кожи. Самые старые селения были на реке Хади и на реке Тумнине (Хату-Дата и Дата). В те времена в Императорской гавани, которая также называлась Хади, царила полная тишина, изредка нарушаемая только печальными криками гагары. Тогда не было слышно ни шума лесопилок, ни свистков пароходов, ни топоров дровосеков. Порой только одинокая лодка охотника мелькнет где-нибудь у берега и снова скроется за мысом. Орочи знали о существовании гиляков и видели ольчей. С последними иногда они вступали в сношения и через них получали железные котлы, которые ценили чрезвычайно дорого. Так жили орочи до тех пор, пока эти чужие люди не пришли к ним сами. Первыми появились маньчжуры. Они привезли с собой ханшин (спирт, выгнанный из кукурузы), но им не торговали, а только угощали орочей. Прибытие маньчжуров наделало много шума. Весть об этом разнеслась по всему побережью. Орочи приезжали, чтобы посмотреть на новых, до сего времени не виданных людей. С тех пор у них появились фитильные ружья. Маньчжуры жадно набрасывались на соболей. Орочи не считали их мех дорогим и ценили больше росомаху. Прошло много лет. Они привыкли к маньчжурам, привыкли ждать их ежегодно зимою и даже начали брать у них в кредит порох, свинец, котлы, топоры, бусы, пуговицы, иголки и пр. Но вот однажды с берега прибежал испуганный человек и сообщил, что в море что-то неладно. Это было рано утром. Орочи вышли на прибрежный песок и увидели что-то странное, большое, не то рыбу, не то птицу, не то морское животное. Оно прошло мимо и скрылось за мысом Гыджу. Всю ночь орочи шаманили и отгоняли злого духа. На другой день повторилось то же самое, а на третий день орочи с ужасом увидели, что крылатое чудовище идет прямо к берегу. Это был корабль — первые русские моряки. Орочи видели, как от корабля отделилась маленькая лодка, в которой сидело шесть человек. Орочи испугались и убежали в лес и тогда только вернулись назад, когда убедились, что это не выходцы с того света, а люди такие же, как и они, но только из другой земли и говорящие на неизвестном языке. Новые люди объяснили орочам, что хотят взять рыбу. Орочи дали им несколько штук кеты, а русские; в свою очередь, дали им деньги. Не имея понятия, что такое монеты, орочи повертели их в руках и дали играть ребятишкам. Тогда русские дали им несколько кусков цветного мыла. Орочи попробовали его есть, но, видя, что оно невкусное, побросали собакам; те понюхали и тоже отошли прочь. Между тем в море разыгралась буря. Парусное судно ушло в Императорскую гавань, а высадившиеся на берегу русские остались ночевать. Орочи не спали всю ночь и караулили страшных «лоца» (так они называли русских). Утром буря стала стихать. Корабль вернулся. Моряки забрали у орочей еще рыбы и совсем ушли в море. Вскоре в Императорскую гавань пришло сразу три корабля: один большой (фрегат «Паллада») и два поменьше, и долго стояли в заливе Агу (Константиновском). Потом что-то случилось, русские взволновались. Они стали рыть длинные канавы (окопы) и насыпать валы (береговые батареи). Два судна ушли, а большое осталось. Далее они рассказывали о том, как русские потопили свое судно. Рассказы эти полны интересных подробностей. Это было зимой. Сперва вокруг корабля был взломан лед. Пушки, которые они называли «сагды чикта мяоцани» (большое медное ружье), и все ценное русские закопали в землю, но где — никто не знает. Затем на корабле был пожар, и корабль, объятый пламенем, пошел ко дну. Будучи народом, совершенно чуждым войне, орочи никак не могли понять, зачем это русские ломают, жгут и топят свое судно. Моряки ушли, а на том месте, где раньше красовался корабль, виднелась только большая промоина, на ней плавал лед и обгоревшие куски дерева. Весной пришло сразу одиннадцать кораблей. Это были опять другие люди, иначе одетые и говорили совсем на другом языке (соединенная англо-французская эскадра). Они сожгли русские постройки в заливе Константиновском и пустили большой пал, отчего сгорело много леса. Спустя несколько лет в Императорской гавани снова появились русские. На месте разрушенного поста были построены две казармы и два склада. Зимой у русских нехватало продовольствия, и многие из них умерли. С той поры «лоца» оставили залив Константиновский навсегда. Время шло незаметно, часы летели за часами, а старики все вспоминали былое и как бы снова переживали свою молодость. Голос их стал звучнее и вид моложавее. В это время в юрту вошел молодой ороч и сообщил, что подходит лодка с русскими рабочими, которые с пилами и топорами шли вверх по реке Хади рубить и плавить лес. Старики оживились, поднялись со своих мест и потихоньку стали расходиться по домам. Я оделся и вышел наружу. Туманная, темная ночь повисла над землею. Из отверстия в крыше юрты вместе с дымом, освещенным огнем, вылетали искры. На реке были слышны русская речь и брань. Ветер с моря донес протяжные низкие звуки — это гудел какой-то пароход. Когда я вернулся в юрту, в ней уже все спали. Мне была постлана медвежья шкура. Я снял обувь, положил под голову тужурку и, прикрывшись одеялом, заснул.Глава шестая Вдоль берега моря на лодках
C 10 сентября мы стали собираться: собранные коллекции этикетировались и укладывались в ящики для хранения их на зиму, отбиралось необходимое для осеннего пути морем, люди шили палатки, снаряжали обувь, переводчик пошел нанимать у орочей лодки. День выступления был назначен семнадцатого числа, независимо от погоды. Дня за два до выступления к нам на бивак явился ороч. Вошел он тихо в палатку и попросил разрешения сесть. На вид ему было лет сорок. Он был невысокого роста, коренаст и хорошо сложен. Круглая голова с плоским теменем и широким затылком, высокий лоб, немного выдающиеся скулы и редкая растительность на лице — вот первое, что мне бросилось в глаза. Головного убора он не носил; густые, как смоль, черные волосы, заплетенные в толстую косу, служили ему шапкой и прикрывали голову и от дождя и от солнца. Он постоянно прищуривал один глаз — это была привычка, приобретенная им с детства. Одет он был так же, как и все другие орочи, и потому останавливаться на описании его костюма не стоит. На задаваемые вопросы пришедший отвечал тихо, не торопясь, и часто короткими «да» и «нет». Из его слов я узнал, что он живет на реке Копи и в Императорскую гавань пришел нарочно, когда услышал о нашем прибытии и узнал, что на реке Хади Чочо Бизанка собирает всех людей, но опоздал. Теперь он шел обратно на Копи и предложил свои услуги в качестве проводника. Дело в том, что я имел только одну лодку и вторую должен был найти где-нибудь по пути. Мой собеседник посоветовал мне лодку с грузами послать морем, а самим итти на реку Копи пешком через горы. Он сказал, что дома у него есть одна лишняя лодка, которую он может уступить. — Как тебя зовут? — спросил я его. — Карпушка, — отвечал он, еще более прищуривая глаз. Так вот это кто! Это тот самый Карпушка, который слывет лучшим мореходом, лучшим ходоком на лыжах. Никто лучше его не знает побережья моря до самой реки Самарги, никто лучше его не умеет ходить под парусами на утлых «тамтыга». Он знает, где можно приставать лодкам, где есть опасные камни, где есть бухты, удобные для ночевок, и где можно наколоть острогой рыбу. У Карпушки своя метеорология — свои приметы. Он знает, какая завтра будет погода, какое будет волнение, какой подует ветер и можно ли выходить в море. Среди орочей Карпушка слыл и самым искусным каюром. У другого собаки бегут сперва хорошо, а во второй половине пути еле волочат ноги, у него же они всю дорогу бегут ровно. Он как-то умеет влиять на собак, и они сразу привыкают к нему и не грызутся между собою, точно понимают, что ими правит каюр Карпушка. 27 сентября мы оставили Императорскую гавань. День был серый, пасмурный, собирался дождь. Еще с вечера туман, лежавший доселе неподвижно над мысами, вдруг стал подыматься кверху и собираться в тучи. Они шли низко над землей, скрывая сопки более чем наполовину; барометр падал. — Однако худо будет, — говорил Карпушка. — Может быть, остаться и переждать ненастье? — спросил я его. — Нет, — отвечал он. — Лодку надо послать в бухту Мафаца. Пусть там нас дожидает. Я понял его: он хотел воспользоваться затишьем и сколько можно продвинуться с грузами на юг по воде. Надо сказать, что в прибрежном районе к востоку от Сихотэ-Алиня осень всегда длинная. В то время как в бассейне правых притоков Уссури выпадают снега и начинаются морозы, в прибрежном районе вода еще не замерзает. Днем бывает настолько тепло, что можно итти в одной рубашке, но как только солнце скроется за горизонтом, роса превращается в иней и лужи покрываются тонким слоем льда. Вскоре после равноденствия летний муссон начинает сменяться северо-западным ветром. Так как он дует с материка, то под защитой береговых обрывов море сравнительно спокойно, но зато около устьев рек, там, где долины совпадают с направлением ветра, порывы его бывают так сильны, что приходится выжидать затишья иногда двое и трое суток подряд. В таких случаях плыть на лодке очень опасно. Советы Карпушки я принял к сведению и решил итти, соблюдая все меры предосторожности. Путевой нитью нам служила тропа. Итти по ней тяжело: угловатые камни, грязь и ямы с водою делают дорогу эту тернистым путем. Навстречу нам попались двое полесовщиков с тремя худотелыми конями. Их лошади то и дело оступались, падали на передние колени, тяжело вздыхали, с трудом вытаскивали ноги из решетин между корнями и, спотыкаясь, шли дальше. Если подняться на мыс Николая и посмотреть по направлению к реке Тумнину и затем перенести свой взор на юг, то Наблюдателю бросится в глаза разница в строении берега. К северу от гавани он слагается из базальтов. Один за другим мысы наподобие длинных языков вытягиваются в море. Отсюда они кажутся низкими и столовообразными. Там береговая линия развита хорошо, между мысами образовались весьма удобные бухточки и заливы. К югу рисуется другая картина. Большой гранитный хребет Доко тянется параллельно берегу и местами омыт вдоль оси своего простирания. Границей, где базальтовый покров соприкасается с гранитным хребтом, является бухта Труженик. Сверху, насколько позволяет прозрачность воды, видно, что широкая подводная терраса тоже состоит из гранита. Белесоватый цвет массивно-кристаллической породы и на поверхности суши и в воде настолько характерен, что ошибиться нельзя. Растительный слой земли по склонам хребта Доко незначителен. Тощая, чахлая растительность едва находит в земле себе пищу. Корни деревьев стелются поверху, оголяются и подсыхают. Ветры раскачивают деревья, отчего они рано гибнут и в таком виде остаются стоять, венчая прибрежную опушку широкой полосой сухостоя. Тотчас за Маячным мысом имеется небольшой изгиб береговой линии, образующий нечто вроде бухты, названной Базарной. Здесь в обрывах над гранитами залегает большой пласт конгломератов, а над ним тонкий, но плотный слой базальтовой лавы, не насыщенной газами. Тропа шла среди хвойного леса. Я обратил внимание, что ветви елей росли не горизонтально, а под острым углом по отношению к стволу, и спросил Карпушку, отчего они так свесились. — Когда дует суала (северо-восточный ветер), падает много мокрого снега, потом он замерзает и давит ветку вниз, так постоянно, каждый год, — отвечал ороч. Объяснение было верное и простое. Часам к пяти пополудни мы дошли до зимовья. Оно было старое, полуразрушенное, грязное и сырое. Отсюда тропа поворачивала на запад, а нам следовало держаться морского берега и итти к югу. С наступлением сумерек пошел дождь. Плохо сколоченная из накатника крыша зимовья протекала всюду. Мы не спали всю ночь, переходили с одного места на другое и искали, где посуше, но всюду было одинаково сыро. Так мы промаялись до утра и рады были, когда явилась возможность снова тронуться в путь. Погода была ненастная и туманная. Карпушка шел впереди и с легкостью лесного человека прыгал с одной валежины на другую. Вода по его черным волосам сбегала на спину и плечи, но он мало обращал на это внимания. Чем выше мы поднимались, тем сильнее дул ветер. За перевалом начался спуск по крутому косогору. С левой стороны сквозь туман стал доноситься шум морского прибоя. С каждым шагом он становился явственнее и громче. Хватаясь руками за кусты и стволы деревьев, мы с трудом спустились в какой-то ключик и по нему вышли к устью речки Мафаца, что значит «Почтенный старичок». Грозный вид имел взбудораженный океан. Огромные волны с ревом бросались на берег, усеянный створками раковин и обрывками ламинарий. Вода захлестывала до самого верхнего края намывной полосы прибоя. Следующая волна, встреченная отливным течением первой, вспенивалась, как кипяток, и с еще большим озлоблением бросалась на берег. На мгновение наступала тишина, но когда морская вода начинала скатываться вниз, камни громким ропотом снова выражали свой протест. И так из года в год, из века в век… Орочи вытащили лодку подальше на берег; из весел и жердей они сделали остов двускатной палатки и покрыли его парусами. Мокрый плавник горел плохо и сильно дымил. Собаки забились под лодку и, свернувшись, старались согреть себя дыханием. В такую погоду ночь кажется темнее, дождь сильнее и шум прибоя еще более грозным. Во вторую половину ночи ветер стал немного стихать, но дождь пошел с удвоенной силой. Сквозь сон я слышал, как он барабанил в туго натянутые полотнища палаток. Орочи не спали и все время по очереди подкладывали дрова в костер. На другой день дождь перестал, но опять задул свежий ветер. По морю снова заходили беляки. На грех мы забыли в концессии походную аптеку и весь формалин, столь необходимый для зоологических сборов. Что делать? Выручить нас взялся Карпушка. Невзирая на непогоду, он решил отправиться в гавань морем на лодке. Два ороча, которых он пригласил с собою, тотчас стали собираться. Вместе с ними поехал и Вихров. Меня беспокоил вопрос, как они отойдут от берега во время столь сильного прибоя. Прежде всего Карпушка велел орочам принести десяток крупных камней, но не окатанных, а угловатых, а сам принялся собирать плавник и очищать его топором от сучков. Когда все было готово, он стал укладывать камни на дно лодки возможно плотнее. Потом он разложил на берегу плавник, посадил гребцов на свои места, а сам остался на берегу. Выждав момент, когда самый большой вал с грохотом обрушился на намывную полосу прибоя, и вслед за тем наступило короткое затишье, он сразу ослабил канат. Вследствие своей тяжести лодка быстро покатилась по валькам к воде. В момент, когда она готова была совсем отделиться от берега, он уперся веслом в песок и прыгнул на ее корму. Но в это время нашла вторая большая волна. Лодка взметнулась носом кверху и приняла положение более чем на сорок пять градусов. Ничего! Руль был в опытных руках! Несмотря на сильный толчок, Карпушка удержался на ногах. Ветер трепал его длинные волосы, брызги и пена слепили ему глаза, а он как будто не замечал их. Опять нос лодки поднялся кверху, потом поднялась корма. Фигура Карпушки то появлялась на гребнях волн, то совсем скрывалась в воде. Он махнул нам рукой и что-то стал говорить гребцам. Один из орочей начал выбрасывать из лодки камни, а другой налаживать парус. Лодка стала быстро удаляться. Мы долго следили за ней глазами. Минут через пять она сделалась едва заметной точкой и затем совсем пропала в волнах. Накрапывающий дождь заставил меня вернуться в палатку. К вечеру опять разыгралась буря. Опять пошел сильный дождь. Успел ли Карпушка обогнуть Маячный мыс? Море бушевало всю ночь… Дня через два орочи вернулись благополучно и привезли аптеку, свежего хлеба и целый ящик с овощами. 20 сентября мы распрощались с рекой Мафаца и, пользуясь легким попутным ветром, направились к бухте Андрея, в которую впадает река Копи. От устья реки Мафаца берег делает поворот к юго-востоку и тянется в этом направлении до мыса Песчаного. На этом протяжении массивно-кристаллические породы уступают туфам. Слои их большей частью лежат горизонтально и только местами делают небольшие уклоны в ту и другую сторону. Они резко окрашены и хорошо видны, в особенности если немного отойти от берега. На половине пути между Императорской гаванью и озером Гыджу выделяется гора Охровая, также состоящая из гранита. Несмотря на прочность пород, составляющих этот берег, он все-таки разрушается, о чем свидетельствуют береговые ворота недавнего образования. Их трое: двое — близ реки Мафаца и третьи — недалеко от горы Охровой. Около реки Гыджу было много птиц. Шла рыба. Большие морские чайки и тихоокеанские клуши стаями сопровождали ее. Они поднимались все разом с криками, кружились некоторое время в воздухе, потом опять опускались на воду и то и дело перелетали друг через друга. Их было так много, что поверхность моря казалась запорошенной снегом. Чайки — удивительно стройные птицы. С изумительной легкостью они садятся на воду и так же легко поднимаются на воздух. Они превосходно летают и, подобно хищникам, могут парить, не производя движений крыльями. Они плавают кокетливо и мелко сидят на воде, чуть только брюшком касаясь поверхности моря, и не менее они изящны, когда на своих стройных ножках стоят на камнях и равнодушно поглядывают на проходящие мимо лодки. Какой-то большой ястреб гнался за одной из чаек. Как только она садилась на воду, он не трогал ее и начинал парить, но лишь только чайка поднималась на воздух, он опять бросался вслед за нею. Тогда чайка опять опускалась на воду, и ястреб снова принимался описывать круги. Почему он не трогал ее, когда она сидела на воде, и, наконец, почему все прочие чайки не выражали испуга? Очевидно пернатый хищник боялся воды, но тогда почему он преследовал только одну чайку, тогда как другие свободно перелетали по воздуху, не обращая на него никакого внимания? Мартыны-рыболовы держались несколько поодаль. Они сидели спокойно и, по-видимому, мало интересовались рыбой. Мартын кажется птицей средней величины, и только когда убьешь его и возьмешь в руки, то поражаешься его размерам. Среди чаек я заметил и буревестников. С удивительной легкостью они держались в воздухе и при полетах постоянно поворачивали свои красивые головы то в одну, то в другую сторону. Для этих длиннокрылых, казалось, и встречный ветер не мог явиться помехой. Буревестников что-то влекло к югу. В течение целого дня летели только в одном этом направлении, и не было ни одного, который шел бы им навстречу. После полудня ветер переменился и задул нам навстречу. Он стал крепчать и развил большую волну. Тогда мы подошли к берегу и высадились около речки Гыджу. Непогода вынудила нас продневать еще один день. Во время солнечного заката Карпушка взобрался на прибрежные утесы и долго смотрел на горизонт и небо. Когда совсем стемнело, он вернулся назад и сказал, что завтра с рассветом можно будет ехать дальше, а поэтому надо раньше ложиться спать. После ужина я лег на козью шкурку, заменявшую мне постель, и прикрылся одеялом. Снаружи доносился неумолчно ритмический шум прибоя; слышно было, как горели дрова в костре. Карпушка рассказывал о землетрясении, которое произошло три года назад. Оно ощущалось и на реке Тумнине, и в Императорской гавани, и на реке Копи. Сначала послышался подземный гул, потом закачалась земля так, что вода расплескалась из котлов. Во многих местах на берегу моря произошли обвалы. Потом он еще рассказывал что-то интересное, но я не мог преодолеть свой сон. Глаза закрывались сами собой. Храп моего соседа заразительно повлиял и на других людей. Через несколько минут на биваке водворилась тишина, собаки тоже уснули, костры угасли совсем… На другой день Карпушка, действительно, разбудил нас очень рано. Еще не рассветало, но уже по звездам было видно, что солнце приближается к горизонту. За ночь море заметно успокоилось. Волны ласково всплескивались на камни и почти бесшумно скатывались назад. После чая мои спутники проворно стали укладывать лодки и охотно взялись за весла, а я плотнее завернулся в одеяло и стал наблюдать, как просыпается жизнь на море. Справа от лодок был высокий скалистый берег, состоящий все из тех же цветных туфов и лав, а слева — сонный океан. Он дышал могучей грудью и на мертвой зыби легонько подымал и опускал наши лодки. Около реки Гыджу пласты туфов приняли наклонное положение. С некоторого отдаления можно проследить синклинали и ясно представить себе воздушные седла антиклиналей. Огибая мыс Чумаки, наша лодка подошла ближе к берегу. Теперь можно было рассмотреть и детали. Под влиянием атмосферных явлений в песчанике образовалось множество глубоких каверн, разделенных тонкими перегородками. В них ютились морские птицы, преимущественно чистики и топорки. Ниже произошли разрушения другого порядка. Волны выбили в горной породе нечто вроде пещеры и исполиновых котлов. Вода сгладила острые грани камней и придала им разные причудливые очертания, давшие столь богатый материал фантазии туземцев. После мыса Чумаки прибрежные сопки принимают характер широких и пологих увалов, состоящих из кварцевого порфира. Я хотел сфотографировать берег и велел вынуть весла из воды. Минут десять я провозился, пока наладил аппарат. Несмотря на то, что мы не гребли, лодки наши продолжали двигаться вдоль берега. Нас несло течением. Было ли оно ветвью общего кругового течения в Японском море или следствием муссона, нагонявшего морскую воду в бухты, откуда она направлялась на юг вдоль берега моря, я так и не понял. После полудня мы достигли бухты Иннокентия и сделали в ней большой привал. При высадке на берег Вихров нашел протомоллюска. Он имел вид как бы половинки удлиненно-овального плода величиной в детскую руку. Карпушка назвал его «Помо» и сказал, что его можно есть сырым. Вслед за тем он вырезал ножом брюхо-ногу хитона, имеющую вид розовато-белого длинного тельца, и с аппетитом стал ее жевать. Спинка животного состоит из нескольких плоских косточек, надвигающихся одна на другую и сверху прикрытых шершавой кожицей. По словам нашего проводника, эти косточки очень остры и ими очень легко порезать руку, в чем я имел случай тут же лично на себе убедиться. Отдыхать нам пришлось недолго. Северо-восточная часть моря начала темнеть, шел ветер «Нунэла», который в это время года всегда бывает очень резким. По совету Карпушки мы не стали дожидаться, когда закипит вода в чайнике, вылили ее на землю и направились к лодкам. От бухты Иннокентия до Копи — не более 7 километров. Это расстояние мы прошли под парусами очень скоро. Издали устья реки Копи не видно — оно хорошо маскируется лесом, только прибой на баре указывает место, где пресная вода вливается в море. Копи со стороны бухты Андреева (если можно назвать бухтой небольшое углубление береговой линии) кажется пустынной. Около моря орочи живут только летом во время хода рыбы, а осенью с наступлением холодов они уходят вверх по реке.[310] Там у них есть зимние жилища, там они занимаются охотой и соболеванием. К сумеркам ветром нагнало туман, опять стал моросить дождь. Непогода заставила нас простоять двое суток. За это время я совершил две небольшие экскурсии. Время года было переменное, уходить от моря далеко не рекомендовалось: надо было караулить погоду, и для продвижения вперед на лодках надо было пользоваться всяким затишьем. В первый день я пошел по берегу моря вместе с Карпушкой и Чжан-Бао. Около устья реки Копи береговые валы состоят из мелкого и сыпучего песка, приходящего в движение при небольшом ветре. Там, куда всплески волн не достигают, выросли грубая осока и кусты шиповника, а выше — низкорослые лиственицы. Под сенью их стоят два столба с иероглифическими письменами. Это могилы японских рыбаков, умерших на чужбине. Уродливо выродившиеся деревья, листопад, засыхающая, трава и пасмурное небо, грозившее дождем, навевали грустные мысли. Мы не стали здесь задерживаться и вышли прямо на намывную полосу прибоя. Первое, что мне бросилось в Глаза, — многочисленные створки ракушника. Мелкие ракообразные очистили их от моллюсков, а ветер, солнце и дождь постарались выбелить. Внутренний, перламутровый, слой сохранился хорошо, но внешний, роговой, начал шелушиться. Вперемешку с этими раковинами встречались створки большого гребешка величиной с малую тарелку. Между ними попадались крышечки другого гребешка, более мелкие, но с нежной розовой окраской. В одном месте Чжан-Бао нашел две раковины, в просторечии известные под названием морских кубышек; они имели бело-серо-зеленоватый цвет и снаружи поросли мелкими водорослями. Тут же на отмели валялся плавник, вынесенный рекою в море и выброшенный обратно волнением на берег. Некоторые древесные обломки лежали на поверхности, другие были занесены песком вперемешку с морской травой. Один из обломков привлек наше общее внимание. В нем было больше отверстий, чем древесины. Я узнал ажурную работу древоточца. Это была красивая и оригинальная вещица, достойная быть помещенной в музей. Среди плавника попадались и кости кита: огромные челюсти, ребра и массивные позвонки весом по 15–16 килограммов каждый. Чжан-Бао взял один из обломков в руку. К нему поспешно подошел Карпушка и стал просить не трогать костей на песке. Не понимая, в чем дело, китаец бросил ребро в сторону. Ороч поспешно поднял его и бережно положил на прежнее место, старательно придав ему то положение, в котором оно находилось ранее. — Почему не следует трогать костей кита? — спросил я ороча. — Ими нельзя играть, — отвечал Карпушка, — нельзя даже трогать, потому что рассердится море. Оно будет бушевать долго и если не теперь, то потом непременно накажет виновного. Чжан-Бао отошел в сторону и сел на камень. По выражению лица его я понял, что он недоволен, и мне немало стоило труда уговорить его не сердиться на Карпушку. На обратном пути мы разговорились о страшных бурях на море, которые северные китайцы называют «Дафын», а южные — «Тайфун». Обыкновенно они зарождаются в Южно-Китайском море, идут по кривой через южные Японские острова, иногда захватывают Корею и Владивосток и редко заходят к острову Сахалину и в Охотское море. Ураганы эти ужасны: они разрушают города, топят суда и всегда сопровождаются человеческими жертвами. Причиной этих бурь, по мнению китайца, являются вовсе не киты, а черепахи. Черепахи есть маленькие и большие. Первые живут двести — триста лет и вызывают только ненастье, вторые живут тысячелетиями и являются причинами бурь. Где-то на юге обитает громадная черепаха, возраст которой определяется более чем в сто тысяч лет. Она-то и вызывает тайфуны. Вот почему черепахой нельзя играть, нельзя ее перевертывать на спину. Люди примечали, что каждый раз, как только кто-нибудь позволял фамильярное отношение к черепахам, непременно налетала буря, и виновный так или иначе был наказан. К вечеру ветер усилился до шторма. Небо опять покрылось тучами, и пошел дождь. Юрта Карпушки была построена довольно прочно и нигде не протекала. Снаружи завывала буря, дождь, по-видимому, шел полосами и хлестал по стенам примитивного жилища. Я хотел было еще расспросить Карпушку о дороге вдоль берега моря, но он рано завалился спать, его примеру последовали и мои спутники. Рассвет застал меня в состоянии бодрствования. Месяц был на исходе. Все мелкие звезды, точно опасаясь, что солнечные лучи могут их застать на небе, торопливо гасли. На землю падала холодная роса, смочив, как дождем, пожелтевшую траву, опавшую листву, камни и плавник на берегу моря. Мои спутники еще спали тем сладким утренним сном, который всегда особенно крепок и с которым так не хочется расставаться. Огонь давно уже погас. Спящие жались друг к другу и плотнее завертывались в одеяла. На крайнем восточном горизонте появилась багрово-красная полоска зари. Она все увеличивалась в размерах, словно зарево отдаленного пожара отражалось в облаках. Первые живые существа, которые я увидел, были каменушки. Они копошились в воде около берега, постоянно ныряли и доставали что-то со дна реки. На стрежне плескалась рыба. С дальней сухой лиственицы снялся белохвостый орлан. Широко распластав свои могучие крылья, он медленно полетел над рекой в поисках Добычи. Откуда-то взялась черная трясогузка. Она прыгала с камня на камень и все время покачивала своим длинным хвостиком. В юрте первым проснулся Карпушка. Стряхнув со своего халата налетевший от костра пепел, он наскоро обулся и, ежась от холода, стал усиленно раздувать уголья и подкладывать дрова в костер. Тотчас появился дымок, а вслед за ним и огонь. Ороч повесил над костром чайник и стал будить моих спутников. Услышав шум и заметив людей, уточки перестали нырять. Оглядываясь назад, они торопливо переплыли на другую сторону реки, где опять занялись купаньем, но уже не так беззаботно, как раньше. Вынырнув из воды, они каждый раз встряхивались и с беспокойством озирались по сторонам. В других юртах тоже проснулись. Из дымовых отверстий в крышах появились дымки. Около соседнего балагана орочская женщина, сидя на корточках, чистила на весле рыбу. Две молодые собаки сидели против нее и, наклонив на бок свои востроухие головы, внимательно следили за движением ее рук и ловко подхватывали на лету брошенные им подачки. После чая мы принялись укладывать лодки. Дальше Карпушка с нами не поехал, а послал вместо себя ороча Савушку — человека лет тридцати пяти, молчаливого и тихого. Когда солнце взошло, мы были уже далеко от реки Копи. Не подходя к берегу, Савушка дал людям короткий отдых. Широкая мертвая зыбь чуть заметно колебала спокойную поверхность океана и так же тихо подымала и опускала лодки на одном месте. Стрелки и казаки стали закуривать, передвигать сиденья, перекладывать поудобнее грузы и меняться веслами. Побережье, освещенное лучами только что взошедшего солнца, было очень красиво. Между устьем реки Копи и мысом Сандома тянется высокий скалистый берег, слагающийся из глинистых сланцев. За ним километра на полтора выступает в море другой тип берега — плоский с двумя пресными озерами, из которых северное более южного. Он оканчивается мысом Песчаным и затем делает поворот к юго-западу. Еще одна маленькая географическая подробность: сейчас же за мысом с левой стороны устья реки Чалгиенса на дневную поверхность выступают прослойки горючей серы. Около берега кое-где еще держался туман — он таял и прятался в распадках между гор. Савушка мало обращал внимания на красоты природы. Он давно уже привык к ним. Его занимало другое явление — темная полоска на горизонте — это ветер и волнение. Около полудня мы прошли мыс Аку. До следующего мыса Успения — конечного пункта сегодняшнего нашего плавания — недалеко, но надо было торопиться. Темная полоска захватывала все большее и большее пространство. Гребцы налегли на весла, и лодки пошли быстрее. Через полчаса ветер слегка пахнул в лицо, нос лодки начал хлюпать по воде, и тотчас по сторонам стали подниматься волны. Встречный ветер начал крепчать, и грести становилось труднее. Вскоре волны украсились белыми гребнями и начали захлестывать лодку. Вот и мыс Успения. Еще двести шагов — и мы в безопасности. Люди употребляли все усилия, чтобы скорее пройти это небольшое расстояние. Отбойные волны от берега и волны, идущие с моря, сталкивались и образовывали толчею. Я взглянул на Савушку, но на лице его не прочесть ни беспокойства, ни тревоги. Наконец мы поравнялись с мысом, и вдруг глазам нашим представилось удивительное зрелище. Большой разбитый пароход был около самого берега. Еще несколько минут, еще несколько ударов веслами, и лодки подошли к погибшему судну «Хедвинг» и стали под его прикрытием с подветренной стороны. Пароход стоял носом к северо-востоку, несколько под углом к берегу. Под защитой его мы спокойно высадились на берег. «Хедвинг» разбился лет пятнадцать назад. Это был норвежский пароход, совершавший свой первый рейс и только что прибывший в дальневосточные воды. Зафрахтованный торговой фирмой Чурин и компания, он с разными грузами шел из Владивостока в город Николаевск. Во время густого тумана с ветром он сбился с пути и врезался в берег около мыса Успения. Попытки снять судно с камней не привели ни к чему. С той поры оно и осталось на том месте, где потерпело аварию. Пока мы осматривали «Хедвинг», кто-то из стрелков успел сварить обед. Это было очень кстати, так как мы проголодались и с аппетитом поели каши, а затем стали греть чай. День выпал на редкость теплый. Нагретая солнцем земля излучала теплоту настолько сильно, что даже в непосредственной близости можно было видеть, как реял горячий воздух над камнями. Мои спутники старались укрыться куда-нибудь в тень: кто залез в кусты шиповника, кто спрятался за камни, а Вихров, пристроился за пароходной трубой. Один Марунич долго не мог найти себе места. Он слонялся по берегу, садился то здесь, то там и наконец решил залезть в самую трубу. Там он лег на бок и, держа в руке кружку, приготовился пить чай. В это время случилось событие, которое развеселило стрелков на весь день. Оттого ли, что Вихров толкнул трубу, или сам Марунич неосторожным движением качнул ее, но только труба вдруг повернулась вдоль своей продольной оси и затем покатилась по намывной полосе прибоя, сначала тихо, а потом все скорее и скорее. С грохотом она запрыгала по камням; с того и другого конца ее появились клубы ржавой пыли. Когда труба достигла моря, ее встретила прибойная волна и обдала брызгами и пеной. В это время из нее вылез Марунич. Взрыв оглушительного хохота встретил его появление. Надо было видеть его мокрую одежду и испуганную физиономию, вымазанную ржавчиной. По его растерянному взгляду видно было, что он сам не мог отдать себе отчета в том, что случилось и как он очутился в воде. Марунич сердито посмотрел на пароходную трубу и толкнул ее ногой, но в. это время другая, более сильная волна швырнула трубу обратно на намывную полосу прибоя. Марунич испугался и отбежал в сторону. Он не знал, что физиономия его выпачкана ржавчиной, и сердито молчал. Затем он разделся, выполоскал свою одежду в пресной воде и разложил ее на гальке, чтобы она просохла. Вечером мы вспоминали подробности этого приключения и подтрунивали над Маруничем. Около мыса Успения есть небольшое озерко с топкими и болотистыми берегами. Орочи называют его Аку. Оно, отделенное от моря узкою косою, имеет не более одного километра в окружности. Две маленькие речки впадают в дальнем его углу. В озере держится кета и кунжа; обилие морской птицы, убой морского зверя, соболевание и охота на лосей издавна привлекают сюда орочей с реки Хади. На Аку мы застали одну семью орочей. Они тоже недавно прибыли с Копи и жили в палатке. Когда выяснилось, что дальше нам плыть не удастся, я позвал Савушку и вместе с ним отправился к орочскому жилищу. Привязанные на цепь собаки встретили нас злобным лаем. Из палатки поспешно выбежал человек. Это был пожилой мужчина с окладистой бородой. Узнав Савушку, он прикрикнул на собак и, приподняв полу палатки, предложил нам войти в нее. Я нагнулся и прошел вперед. Посредине палатки горел огонь. Дым не успевал выйти через отверстие в крыше, ел глаза и принудил меня лечь на землю. В котле, подвешенном на сучковатой палке, варилась рыба. Вся семья ороча Игнатия (так звали нашего нового знакомого) состояла из него самого, его сына и двух женщин, из которых одна приходилась ему женою, а другая невесткой. У последней, на руках была маленькая собачонка японской породы с уродливой головой. Она выходила из себя, лаяла, хрипела и старалась схватить зубами край моей одежды. От Савушки я узнал, что мыс Успения является южной границей распространения орочей на берегу моря и что дальше на юг живут кяка, которые сами себя называют «удэхэ». В это время пришли стрелки и стали проситься на охоту. Ороч Игнатий не советовал им итти на речку, потому что там у него поставлены самострелы на медведей, которые каждую ночь выходят к озеру лакомиться «сненкой» (мертвой рыбой). Тогда стрелки решили заняться охотой на птицу. На озере держалось два табуна уток. Они все время перелетали с одного места на другое. То они уносились так далеко, что, казалось, не возвратятся вовсе, то вдруг снова неожиданно появлялись откуда-нибудь сбоку и с шумом все разом опускались на воду. Это подзадорило стрелков. Они взяли у орочей лодку и поехали на охоту, но утки не подпускали близко. Едва лодка подходила к ним на расстояние ружейного выстрела, как они снимались все разом и, отлетев в сторону, садились на воду у противоположного берега. Охотники выпускали заряды в воздух, и чем больше они горячились, тем меньше шансов имели на успех. Все же одна из уток была ранена. Она поднялась было и хотела лететь к морю, но тотчас должна была опуститься вновь на воду. Бросив остальную стаю, стрелки поплыли за ней; тогда утка стала нырять. Неизвестно, долго ли продолжалась бы эта погоня за подранком, если бы на выручку не пришел Игнатий. Заметив, куда плывет утка, он схватил острогу и через кусты побежал к протоке. Как только утка ныряла, он подвигался вперед; как только она всплывала на поверхность воды, он припадал на одно колено, ждал и не шевелился. Раненая птица направлялась в протоку, намереваясь войти в море. Тут-то ее и ждал Игнатий. Заметив врага, утка нырнула в последний раз и быстро пошла по течению. Сверху с крутого берега сквозь чистую, прозрачную воду хорошо было видно, как она, вытянув шею и сложив крылья вдоль тела, торопилась проскочить опасное место. Она думала, что под водой ей удастся скрыться от человека. В это мгновенье ороч поднял острогу и с силой бросил ее в воду. Мелкие пузыри вспенились на поверхности протоки. Через несколько минут острога всплыла, и на острие ее беспомощно билась птица. Моим спутникам пришлось довольствоваться рыбой, благо в ней не было недостатка. Я думал, что на другой день мы рано поедем дальше. Однако Игнатий советовал обождать восхода солнца. Приметы были какие-то неопределенные: одни облака шли на восток, другие — им навстречу, иные казались неподвижными; по морю кое-где кружились вихри. Ничего нет хуже, когда приготовишься к отъезду, снимешь палатки, уложишь вещи, и вдруг надо чего-то ждать. Время тянется удивительно долго. Мои спутники высказывали разные догадки и в десятый раз спрашивали орочей о причинах задержки. Поэтому можно себе представить, с какой радостью они приняли заявление, что к вечеру море будет тихое, но придется плыть ночью, потому что неизвестно, какая завтра будет погода. Около пяти часов пополудни мы оставили Аку. Море было сравнительно спокойно, только короткие порывы ветра неожиданно набегали то спереди, то сзади и мешали грести. Здесь мы впервые встретили нерп. Выставив на поверхность воды свои мокрые блестящие головы, они с любопытством разглядывали лодки, плыли сзади, ныряли и вновь появлялись иногда очень близко. Одна из нерп вынырнула так близко от лодки, что гребцы едва не задели ее веслом по голове. Она сильно испугалась и поспешно погрузилась в воду. Глегола схватил ружье и выстрелил в то место, где только что была голова животного. Пуля булькнула и вспенила воду. Через минуты две-три нерпа снова появилась, но уже дальше от лодки. Она с недоумением глядела в нашу сторону и, казалось, не понимала, в чем дело. Снова выстрел и снова промах. На этот раз нерпа исчезла совсем. Она поняла об угрожающей ей опасности. Кстати, два слова об этом животном. Встречающаяся у берегов нерпа (по-орочски «хоота», причем первая буква «о» произносится с явственным оттенком буквы «ы») относится к семейству так называемых ушастых тюленей. Пусть читатель не подумает, что нерпа имеет большие уши: наоборот, они маленькие и едва выдаются в виде двух кожаных придатков. Взрослое животное весит от 50 до 80 килограммов и имеет длину 1,5–2 метра. Тело молодых нерп покрыто густой мягкой шерстью серебристо-белого цвета. Через полгода после появления на свет детеныша под кожей его появляется жир, предохраняющий тело от холода. Тогда белая шерсть выпадает, и на месте ее вырастают грубые, жесткие редкие волосы. Обычно нерпы держатся около устьев рек. В погоне за рыбой они входят в большие реки и поднимаются по ним очень высоко. Тело животного приспособлено к жизни в морской воде. Вес его немногим больше вытесняемой жидкости, вследствие чего оно находится в родной ему стихии как бы во взвешенном состоянии. Когда нерпа убита в морской воде, если в легких ее находится некоторое количество воздуха, она плавает на поверхности. В пресной воде нерпа тяжелее такого же объема воды, и потому в реке она должна все время употреблять некоторое усилие, чтобы не опуститься на дно. Вот почему нерпа, убитая в пресной воде, всегда тонет. Орочи знают это и потому, если им случается охотиться за нерпой около устья реки, они стараются загнать ее на мелкое место. Убитое животное поднимается со дна острогою. Жир нерпы идет в пищу. Мясо орочи едят только в том случае, если нет другого. Орочи употребляют кожи на торбаза, шаманские юбки, чехлы для ружей и пр. К закату солнца мы успели уйти далеко от мыса Успения. Приближались сумерки. В атмосфере установилось равновесие. Море дремало. Дальние мысы, подернутые синеватою мглою, как будто повисли в воздухе. Казалось, будто небо узкою полосою вклинилось между ними и поверхностью воды. Это явление рефракции весьма обычно здесь в сухое время года. Пологий берег к. юго-западу от мыса Аку слагается из невысоких холмов, спускающихся широкими и пологими скатами к морю и местами переходящих даже в равнины. На этом протяжений в море впадают небольшие речки: Нагача, Ичача, Ича, Уо и река Спасения. К югу от Ича в море выдвигается небольшой мыс из авгитового андезита с тем же названием, а между реками Уо и Спасения — мыс Пещерный, получивший свое название по обилию пещер и исполиновых котлов, выбитых в нем морским волнением. Стало вечереть. От прибрежных утесов потянулись по воде длинные тени. Температура воздуха начала быстро снижаться. Морские птицы так же рано засыпают, как и лесные пернатые. Первымиуспокоились чистики и каменушки. Как-то вдруг их не стало видно. Они залезли в трещины скал и завтра на заре проснутся первыми. Затем перестали летать бакланы. Местами отдохновения и сна они избрали камни, одиноко торчащие из воды, и такие карнизы, куда не могут забраться хорьки. Эти птицы имеют издали вид узкогорлых кувшинов. Их так много, что кажется, будто кто-то нарочно увенчал ими прибрежные камни. Тут же, среди бакланов, можно было заметить и чаек. Своей белизной они резко выделялись среди черных карморанов. Бакланы их не трогали и как будто совсем не замечали присутствия посторонних птиц. Одни только стрижи с криками носились около берега, и чем ниже спускалось солнце, тем выше они поднимались на воздух. Был один из тех чудных осенних вечеров, которые в прибрежном районе обычно следуют друг за другом подряд несколько суток. Часов в восемь вечера мы сделали второй привал. Через минуту вспыхнуло веселое пламя и разом осветило лица людей, собак и нос лодки, вытащенной на берег. Едва чаепитие было окончено, как приказано было снова укладываться. Люди, ослепленные резким переходом от света к темноте, идут, вытянув вперед руки и ощупывая ногами землю, чтобы не наткнуться на камень или не оступиться в воду. Через несколько минут лодки стали отходить от берега. Некоторое время слышны были разговоры, шум разбираемых весел, а затем все стихло. На месте костра осталась только красные уголья. Легкий ветерок на мгновенье раздул было пламя и понес искры к морю. Лодки зашли за мысок, и огня не стало видно. Савушка не хотел приближаться к берегу, чтобы не наткнуться на камни, но в то же время не решался и уходить далеко в море, чтобы не заблудиться. Морской берег ночью! Темные силуэты скал слабо проектируются на фоне звездного неба. Прибрежные утесы, деревья на них, большие камни около самой воды — все приняло одну неопределенную темную окраску. Вода черная, как смоль, кажется глубокой бездной. Горизонт исчез — в нескольких шагах от лодки море сливается с небом. Звезды разом отражаются в воде, колеблются, уходят вглубь и как будто снова всплывают на поверхность. В воздухе вспыхивают едва уловимые зарницы. При такой обстановке все кажется таинственным. Лица Савушки не видно. Как мраморное изваяние, он стоял на корме лодки, «вперив глаза во тьму ночи», и, казалось, совсем не замечал того, что вокруг него происходило. Фигура ороча с веслом в руке, лодка с людьми среди мрака напоминали мне картину Доре из мифологии греков, на которой был изображен Харон, перевозящий на лодке умерших через подземную реку Стикс. В такие тихие ночи можно наблюдать свечение моря. Как клубы пара, бежала вода от весел; позади лодки тоже тянулась длинная млечная полоса. В тех местах, где вода приходила во вращательное движение, фосфоресценция делалась интенсивнее. Точно светящиеся насекомые, яркие голубые искры кружились с непонятной быстротой, замирали и вдруг снова появлялись где-нибудь в стороне, разгораясь с еще большей силой. Все очарованы этой картиной, у каждого свои мысли. К югу от реки Спасения на протяжении 12 километров берег опять становится возвышенным и состоит главным образом из роговообманкового андезита и мелкозернистой базальтовой лавы. По распадкам между отрогами сбегает к морю несколько горных ручьев; наибольший из них называется Тахала. Река Ботчи была недалеко. Там, где она впадает в море, береговая линия немного вдается в сушу, и если бы не мыс Крестовоздвиженский, то никакой здесь бухты не было бы совсем. Это небольшое углубление берега носит название бухты Гроссевича. Так вот это то самое место, с которым связана трагическая судьба молодого топографа Гроссевича! История этого дела такова.[311] В 1870 году в город Иркутск, где было сосредоточено все управление Восточной Сибирью, прибыли из Петербурга два топографа, только что выпущенные со школьной скамьи. Один из них был Гроссевич. Надо представить себе юношу девятнадцати лет, который первый раз в жизни уехал так далеко от родительского дома. По прибытии в Иркутск Гроссевич узнал, что весной он должен отправитьея на Амур, затем подняться вверх по Уссури до озера Ханка, а оттуда в пост Владивосток и явиться на шхуну «Восток», которой тогда командовал штурман Бабкин. Он узнал также, что на него возлагается производство съемки по берегу Японского моря между мысами Туманным и Успения. Этот берег впервые наносился на карту. Как только солнце пригрело землю и деревья стали одеваться листвой, молодой Гроссевич, запасшись всем необходимым, отбыл в командировку. Путешествие до поста Владивостока он совершил благополучно. Во Владивостоке местное начальство назначило в его распоряжение двух солдат от местной команды. Тут Гроссевич узнал, что вдоль берега ему придется итти пешком, а все имущество его и продовольствие будут перевозить на лодке, которую он должен был раздобыть сам. Ему повезло, и он, действительно, нашел у кого-то из жителей старую килевую лодку, которую и купил за довольно большие деньги. Лицо, продавшее лодку, обязалось до отплытия шхуны привести ее в исправный вид и приготовить весла и все необходимое для путешествия. В начале июня шхуна «Восток» снялась с якоря и направилась вдоль берега моря. Одного топографа, тоже с двумя солдатами, Бабкин высадил в заливе Рьшда, а другого, Гроссевича, — севернее реки Самарги, у мыса Туманного. Матросы спустили лодку в воду. Гроссевич погрузил в нее свои вещи и сел сам. В октябре Бабкин должен был опять притти на побережье, взять обоих топографов и доставить их обратно во Владивосток. Первые дни работ для Гроссевича были благоприятные. Он довольно быстро подвигался вперед. Местами съемка его выражалась, только одной линией — там, где был обрывистый и скалистый берег, но там, где открывалась долина, он углублялся в нее на несколько километров и вновь возвращался к морю. Но вот однажды случилась буря. Море разбушевалось. Непогода застала его на лодке. Долго пришлось искать какого-нибудь укрытия в виде бухточки или речки, но ни того, ни другого не было. Высокий скалистый берег тянулся на много километров вперед. Тогда Гроссевич решил пристать к намывной полосе прибоя, потому что дальше в море держаться было невозможно. Вот тут-то и сказалась неудачная конструкция его лодки с килем. Лишь только они дошли до полосы мелководья и лодка царапнула килем по придонным камням, как нашедшая волна в мгновение ока перевернула их и выбросила на берег. К счастью, все кончилось благополучно, путешественники ничего не потеряли, но все решительно, в том числе и спички, промокло насквозь. Как ни старались они разжечь огонь, им это не удавалось. Всю ночь они просидели на берегу и очень страдали от холода. К утру туман рассеялся, небо очистилось. Они приветствовали рассвет с такой же радостью, как это делали первобытные люди, потерявшие огонь. Когда взошедшее солнце пригрело землю, Гроссевич снял с себя верхнюю одежду и разложил ее на камнях для просушки, а сам остался в одних кальсонах и рубашке. У него было около трехсот рублей денег ассигнациями. Он тоже разложил их на гальке и сверху каждую бумажку придавил еще камешком, чтобы деньги не унесло ветром в море. Затем он сам прилег на камни и как-то сразу уснул. По-видимому, Гроссевич спал долго. Он проснулся оттого, что в лицо моросил дождь. Он поднялся и окликнул своих солдат, но на его зов никто не отозвался. В то же мгновение он заметил, что исчезли лодка, палатка и продовольствие. Кругом было пусто. Деньги исчезли тоже. Гроссевич бросился к берегу и стал кричать, но на его зов отвечали только эхо в прибрежных утесах и волны, с шумом набегавшие на намывную полосу прибоя. Гроссевич вернулся назад, чтобы одеться, и к ужасу своему увидел, что солдаты увезли с собой всю его одежду и даже обувь. Он понял, что погиб, и почти без сознания повалился на берег. Между тем надвигались сумерки, и ночь обещала быть ненастной. Несчастный решил спрятаться в камнях, но скоро он здесь так прозяб, что решил залезть в густую траву. Ужасную ночь провел он под дождем и до самого рассвета не смыкал глаз. Когда стало совсем светло, он решил итти вдоль берега. Но куда? Вперед или назад? Безотчетно, сам не зная почему, он пошел дальше к северо-востоку в том направлении, в каком вел работы. Итти по намывной полосе прибоя и хорошо одетому человеку трудно. У подножья обрывов берег завален глыбами камней с острыми краями: всюду валяется бурелом, заросший осокой и колючими кустами шиповника; между камнями во множестве валяются обломки раковин, которыми легко поранить ноги. Можно себе представить, в каком состоянии был Гроссевич после одного только перехода. В первый же день рубашка и кальсоны разорвались. Он набрал много заноз и сильно изранил ступни ног. К утру у него опухли руки. Перемогая себя, он потащился дальше вдоль берега и ел, что попало: слоевища морской капусты, мелких крабов, мелких моллюсков-береговичков. На третий день он, почти голый, еле-еле передвигал ноги, падал в бессилии, подымался, шел несколько шагов, опять падал и подолгу лежал без движения. Наконец он дошел до того, что стал терять сознание. Он не знает, был ли то сон или состояние бодрствования, он потерял способность мыслить и потерял всякое представление о времени и месте. Иногда на него вдруг находил ужас. Он вскакивал и с криком бросался вперед и бежал до тех пор, пока обессиленный опять не падал на камни. Гроссевич полагает, что он был болен, потому что его мучили кошмары днем и ночью. Мысль, что этот берег будет его могилой, мало его беспокоила. Лишь бы скорее пришло «это» и прекратило его душевные и физические страдания. Он вспомнил свою мать, близких друзей, слезы застилали глаза. Он лег на землю и долго-долго плакал, пока не впал в забытье. Очнулся он оттого, что кто-то приподнимал его голову и вливал в рот воду. Когда Гроссевич открыл глаза, то увидел около себя каких-то сильно загорелых и странно одетых людей. «Дикари», мелькнуло в его мозгу, и он испугался. Это были удэхейцы. Они проезжали мимо на лодке и вдруг увидели человека, лежавшего на камнях. Сначала они полагали, что это труп, выброшенный волнением на берег, и хотели проехать мимо, но в это время Гроссевич шевельнул рукой и простонал. Удэхейцы тотчас причалили к берегу и стали приводить его в чувство. Затем они дали ему кое-что из одежды и помогли добраться до лодки. Незадолго до сумерек они прибыли к устью какой-то реки и под руки дотащили его до своих балаганов. Гроссевич полагал, что он в плену, и не знал, ухудшает или улучшает это его положение. На другой день он был крайне удивлен, что две женщины занялись извлечением заноз из его ног, потом они перевязали ему раны, положив на них мелкие стружки шиповника. Он увидел, что с ним обращаются ласково, дают есть то, что едят сами. Наконец он решил сделать опыт и без ведома своих спасителей поплелся к берегу. Его никто не задерживал, он вернулся в юрту и встретил тот же прием. Убедившись, что он не находится в положении пленника, Гроссевич воспрянул духом и повеселел. Мало-помалу ноги его стали заживать. Пришла пора рыболовства. Удэхейцы отправились на реку, и Гроссевич пошел с ними. Он помогал им ловить кету, вытаскивал из лодки рыбу, помогал ее чистить и вешать на жерди. Женщины добродушно смеялись над его неумением и в свою очередь помогали ему в том случае, когда он попадал впросак. Гроссевич рубил дрова, собирал ягоды и старался всячески помочь своим спасителям. Наконец пришла осень и выпал первый снег. Удэхейцы пошли на соболевание, и он отправился вместе с ними. Между тем два солдата, оставив Гроссевича на произвол судьбы, поплыли назад вдоль берега моря. Они были уверены, что он непременно погибнет и кости его растащат дикие звери. Дня через четыре они наткнулись на отряд другого топографа. На вопрос последнего, где их начальник, они ответили, что он утонул, и в доказательство представили его одежду, документы и даже небольшую часть денег. Топограф прикомандировал их к своему отряду и по окончании работ на шхуне отбыл в пост Владивосток, а оттуда в Иркутск, где и подал рапорт обо всем случившемся. В конце года, незадолго до увольнения в запас армии, оба солдата поссорились из-за денег и один на другого донес. Началось следствие. Солдаты сознались в том, что они бросили Гроссевича, но не могли сказать, где именно. К счастью, сохранилась съемка береговой линии и видно было, где она оборвалась. На следующую весну оба преступника под конвоем были доставлены в город Владивосток. На той же шхуне их повезли вдоль берега с приказанием указать место, где они оставили своего начальника. Может быть, солдаты показывали и правильно, но ни севернее, ни южнее никаких следов Гроссевича найдено не было, и экспедиция ни с чем возвратилась в город Владивосток. Солдаты были осуждены на каторжные работы, а Гроссевич был вычеркнут из списков топографов как пропавший без вести. Ни у начальствующих лиц, ни у родных и знакомых, ни у кого не было сомнения в том, что он погиб. Прошел год. Гроссевич совсем сжился с удэхейцами, стал понимать чужой язык, помогал им в работах и не чувствовал себя тунеядцем. Он увидел, что люди эти живут мирно, тихо и не ссорятся между собой. Его поразил тот патриархально-родовой строй, при котором все заботились о вдове и ее детях, как о своих родных. Он неоднократно видел собрания стариков, на которых они спокойно и терпеливо выслушивали реплики подростков. Он видел, что молодежь в то же время слушалась советов стариков. Его одноплеменники искали его смерти, бросили его на произвол судьбы, а эти люди спасли его, вылечили и одели. Он решил никогда не возвращаться к своим и навсегда остаться с удэхейцами. Между тем через китайцев, скупщиков мехов, стали распространяться слухи о том, что на реке Ботчи у удэхейцев живет один русский. Слухи эти дошли до Владивостока, потом пробрались и в Иркутск, а там решили, что это не кто иной, как Гроссевич, и что он находится в плену у удэхейцев. Весной, когда растаяли снега и реки вскрылись ото льда, была снаряжена вторая экспедиция на той же шхуне «Восток». Но когда она подходила к мысу Крестовоздвиженскому, ее заметил один удэхеец. Он прибежал на Ботчи и сообщил сородичам: «Лоца гуны» (т. е. «русские идут»). Удэхейцы побросали свои юрты и убежали в горы. Вместе с ними убежал и Гроссевич. Начальник десанта нашел балаганы пустыми. Он решил, что удэхейцы увели с собою Гроссевича. Тогда шхуна произвела демонстрацию. Она сделала вид, что уходит совсем, а на самом деле спряталась за одним из мысов, а когда совсем стемнело, высадила на берег вооруженную команду. Матросы прошли несколько километров и перед рассветом напали на стойбище удэхейцев. Когда Гроссевич увидел, что матросы арестовывают удэхейцев, он вступился за них и пробовал оказать сопротивление. Тогда арестовали и его. Экспедиция с Гроссевичем и двумя пленниками вернулась на судно. Их доставили во Владивосток, где удэхейцев держали под стражей до производства следствия. Вскоре один из них получил скоротечную чахотку и умер в тюрьме, а другой был отпущен на свободу, но долго не мог выехать из Владивостока. Он тоже заболел и на реку Ботчи попал незадолго до своей смерти. Гроссевич был предан суду и отправлен в Иркутск, а оттуда после следствия препровожден в Николаевский военный госпиталь для испытания его умственных способностей. Там его держали около года и признали душевнобольным, что избавило его от суда. Затем он выздоровел и снова стал проситься на службу в Восточную Сибирь. Назначение состоялось. Когда он приехал во Владивосток, он тотчас стал искать случая съездить на реку Ботчи, чтобы навестить своих друзей-удэхейцев. По службе попасть туда он не мог, тогда он взял отпуск и отправился на шхуне «Сторож», которой командовал капитан Гек. Прибыв на место, он поспешил на берег. Вот и тропинка, вот и речка, где они ловили рыбу. Он побежал по дорожке через кусты. Печальное зрелище представилось его глазам. От стойбища остались только развалины. Все люди, взрослые и малые дети, погибли от какой-то эпидемии, занесенной из города. Никто не спасся. Там и сям валялись человеческие кости и предметы домашнего обихода, успевшие уже зарасти травою. Убитый горем, он вернулся в город Владивосток, где снова попал в больницу. Удэхейцы на реке Ботчи вымерли, но среди соседей их на Копи и Самарге долго еще ходили рассказы о том, как «омо лоца» (один русский) попал к удэхейцам и как от него погибло все стойбище. Прошло более пятидесяти лет. Гроссевич умер в города Хабаровске в 1917 году, а бухточка, в которую впадает река Ботчи, сохранила его имя и по сие время. Я погрузился в воспоминания, и предо мною встала согбенная фигура старика Гроссевича, без усов, без бороды, с короткими седыми волосами на голове. Я пришел к нему расспросить о побережье моря, которое намеревался посетить во время своего путешествия. Он достал карту и по ней стал делать описания каждого мыса и каждой бухты в отдельности. Когда Гроссевич дошел до реки. Ботчи, он вдруг поднял руки кверху, затем закрыл глаза и опустил голову на стол. Я услышал судорожные всхлипывания, стал его успокаивать и постарался перевести разговор на другую тему. Я так ушел в эти воспоминания, что не заметил даже, как прошло время. Лодка наша стояла неподвижно. Гребцы, вынув весла из воды, отдыхали. Через минуту к нам подошла вторая лодка. Стрелки стали закуривать и посматривать по сторонам. — Что это там? Я взглянул в указанном направлении и увидел какой-то черный предмет на воде. Он передвигался немного, делал спиральные круги и вновь возвращался на прежнее место. — Что бы это могло быть? — спросил я Савушку. — Нисаа угда (маленькая лодка), — отвечал он равнодушно. Действительно, минут через двадцать ясно можно было рассмотреть оморочку и в ней человека. Вскоре мы поравнялись с ним. Это был ороч с черною бородою. Он сидел в лодке, поджав под себя ноги, и длинною острогой ощупывал дно моря. Савушка окликнул его, он отвечал короткой фразой, которую я не понял. — Что он делает? — спросил я Савушку. — Нерпу ищет, — ответил последний, указывая на большое кровавое пятно на поверхности воды. — Би! би! би! би! — закричал наш новый знакомый, стараясь удержать лодку около остроги, которой он нащупал мертвое животное. Савушка отправился к нему на помощь. Через несколько минут нерпа была поднята из воды. Голова ее оказалась пробитой пулей насквозь. Я предложил охотнику ехать вместе с нами. Он тотчас согласился. У него было одно весло с двумя лопастями. Ороч умело управлял оморочкой. Он переговаривался с нами, но сам зорко следил за волнами, чтобы они не накрыли его с наветренной стороны. Звали его Вандага. Наконец мы подошли к реке. Белая пена отмечала бар, то место, где пресная вода смешивалась с морскою. Ороч на оморочке, немного не доходя устья реки, свернул к берегу. Улучив момент затишья, он быстро поплыл вперед и в мгновение ока вместе с пеной выбросился на прибрежный песок. В тот момент, когда отливное течение хотело утащить его лодку назад, он выскочил из нее и, схватив свое легкое суденышко за носовую часть, оттащил его подальше от воды. Все это было проделано удивительно быстро. Неопытный человек сломал бы оморочку, утопил бы ружье и непременно выкупался бы как следует. Теперь настала наша очередь. Не без труда мы преодолели буруны, правда черпнули воды одним бортом, но все же вошли в реку. Ботчи была первой нашей питательной базой, где были сложены запасы продовольствия, привезенные на пароходе Т. А. Николаевым. Согласно уговору, здесь я обещал отпустить Савушку и взять другого проводника. Поэтому была назначена дневка. Я пошел на ближайшую сопку, чтобы сверху взглянуть на окрестности. Река Ботчи (по-орочски «Икки») длиною около 70 километров и впадает в море на 47°58' северной широты и 139°32' восточной долготы от Гринвича. Северо-западный край бухты Гроссевича образует небольшая сопка Чжаари, с которой я и производил свои наблюдения, а юго-восточный ограничен мысом Крестовоздвиженским. Ботчи в низовьях с правой стороны принимает в себя два притока — реку Масаеву и реку Ихе. Здесь она разбивается на два рукава, образующие узкий остров в 4 километра длиною. По воде на туземной лодке можно подниматься шесть суток, дальше до водораздела надо итти пешком еще один день. В средней части ее течения, в трех днях пути от устья, есть теплый минеральный источник с температурой в 28,6 градуса Цельсия. Зимних путей с реки Ботчи есть два: на реку Копи и на реку Самаргу. Первый идет по речке Мукпа через перевал на реку Тепты (приток Копи). Берегом моря никто не ходит, потому что местность здесь пустынная и очень пересеченная: то надо подыматься несколько раз в гору, то спускаться вниз, что очень утомляет. Второй путь с реки Ботчи идет по правому верхнему притоку ее Дулингья на Исими (верхний левый приток Самарги). На тот и другой путь времени потребуется 3–4 дня, в зависимости от количества собак и состояния дороги. В 1908 году на Ботчи было 6 юрт с населением в 46 человек (15 мужчин, 11 женщин, 12 девочек и 8 мальчиков). Через два года туда переселился старовер Долганов; его примеру последовали другие старообрядцы. Так образовалась деревня, сохранившая название Гроссевичи. В 1927 году в ней было до 150 человек обоего пола. Горы, окаймляющие нижнюю часть долины реки Ботчи, покрыты густым хвойным лесом. Места эти являются, по-видимому, северной границей распространения монгольского дуба, который, как и кедр, встречается здесь весьма редко. Недалеко от устья реки Ботчи за первой протокой жил наш новый знакомый ороч Вандага, у него-то и хранились ящики с экспедиционным имуществом. Все орочи ушли на соболевание. Один Вандага задержался. Он знал, что мы приедем осенью, и решил дождаться нас. Это был мужчина среднего роста, лет сорока, с густой черной бородой, что указывало на родство его с сахалинскими туземцами. Одет он был, как и все орочи, но прическу носил удэхейскую. В палатке Вандага были кое-какие японские вещи. Из расспросов выяснилось, что дед его, действительно, родился на Сахалине. Отец жил одно время в заливе Де-Кастри, потом в бухте Чжуанка, а сам он перекочевал на реку Ботчи еще в молодые годы. Утром следующего дня орочи мне сказали, что у одной из наших лодок треснуло дно. Надо было хорошенько ее починить и проконопатить. Часам к двум дня все было в порядке. Дальше вместо Савушки поехал с нами Вандага со своим братом. На вопросы, не пора ли в путь, они отрицательно качали головами. Я уже хотел было готовиться ко второй ночевке, как вдруг оба ороча сорвались с места и побежали к лодкам. Они велели стрелкам спускать их на воду и торопили скорее садиться. Такой переход от мысли к делу весьма обычен у орочей: то они откладывают работу на неопределенный срок, то начинают беспричинно торопиться. С Вандага никто не стал спорить. Через четверть часа мы уже плыли к морю. Обогнув мыс Крестовоздвиженский, лодки опять взяли курс на юго-запад. Здесь береговая линия развита слабо. Мысов много, но они мало выдаются в море. Намывная полоса прибоя завалена глыбами, свалившимися сверху. Они так велики, что в щелях между ними свободно может укрыться крупное животное. Такое разрушение берегов происходит от действия пресной воды. Ручьи, стекающие сверху в виде маленьких каскадов с высоты в 60 и 80 метров, не достигая подошвы обрывов, превращаются в дождь, развеваемый ветром. Первый мыс — Бохамуони — слагается из базальтов с характерным для них столбчатым распадением. Некоторые столбы стоят прямо, другие изогнуты, третьи приняли совсем наклонное положение. Через полчаса мы достигли горного ручья Афа и мыса Бакланьего (по-орочски Хои, что значит «морской таймень»). Бакланий мыс вполне оправдывает свое название. Этих птиц здесь очень много. От их помета белела вся скала, точно ее вымазали известью. Грузные черно-серые гагары и длинношеие с синеватым металлическим отливом морские бакланы сидели по карнизам всюду, где можно было поставить ноги. Они были настороже и, подавшись вперед, готовы были слететь при первом намеке на опасность. Когда мы поровнялись со скалой, бакланы сидели, но когда лодка прошла мимо, они вдруг все разом ринулись вниз и полетели в море. Первого октября мы дошли до небольшой горной речки Кольма, берущей начало с возвышенностей, слагающихся из известкового песчаника и из каких-то древних, сильно метаморфизованных осадочных пород. Южнее Бакланьего утеса выступает острый мыс. Сядуони, а за ним в одну линию тянутся четыре конические сопки, покрытые осыпями. Между речками Ящу и Кольма берег рисуется в виде невысокого горного кряжа, омытого вдоль оси простирания. Река Кольма тоже невелика, большая часть ее воды просачивается под прибрежной галькой. Когда лодки подходили к берегу, на гребне одной из сопок появилось большое животное. Я думал, что это лось, но Вандага отрицательно покачал головой и назвал его «богиду» (северный олень). По-видимому, животное заметило нас, потому что бросилось бежать и быстро скрылось за гребнем. По словам орочей, в Уссурийском крае обитают два вида северных оленей. Один — маленький, с большими рогами, темной спиной, белым брюхом и темными ногами. Другой вид более крупный, буро-серой окраски, с белесоватыми боками и небольшими, маловетвистыми рогами. Это и есть богиду; удэхеицы называют его «игдака». Первый обитает к северу от Императорской гавани, второй — южнее и спускается до реки Ботчи. Этот олень не боится снежных сугробов. Он протаптывает хорошие дороги, которыми пользуются и другие животные. На Ботчи северный олень заходит только поздней осенью и зимой, а весной, как только начинают таять снега, он отодвигается к северу. Здешний олень — животное альпийское. В поисках за кормом он взбирается на высокие горы. В жаркие дни он держится в самых истоках рек, где всегда сыро и прохладно. Питается он не только ягелем, но и листьями брусники. Северный олень в большинстве случаев ходит в одиночку и никогда не собирается в табун. Орочи не охотятся за ним, но стреляют, если зверь случайно попадет под ружье. Бьют они его для получения кожи, мясо обычно бросают, потому что оно чем-то пахнет. Надо сказать, что в пище орочи очень разборчивы. Многие из них брезгают мясом скота, зато с наслаждением едят мясо барсука, филина и выдры. На этот раз бивак был устроен неудачно. Резкий, холодный ветер дул с материка и забивал дым в палатку. Я всю ночь не спал и с нетерпением ждал рассвета. Наконец ночная тьма стала редеть. Я поспешно оделся и вышел из палатки. От воды в море поднимался пар, словно его подогревали снизу. Кругом было тихо. Занималась кроваво-красная заря. Сегодня мы имели случай наблюдать деформированное солнце. Сначала показался из воды только краешек его, багрово-красный и сильно растянутый. Поднявшись над горизонтом, оно приняло четырехугольную форму с закругленными углами. Потом нижняя часть его стала суживаться, а само оно приняло эллипсоидальную форму, отчего стало похоже на гриб. Ножка этого гриба, сначала короткая и толстая, начала утоньшаться, одновременно с тем у основания ее появилась короткая светлозолотистая полоса. Теперь солнце стало походить на печать. Еще мгновение, и рукоять печати оторвалась и стала подниматься кверху. Ножка тоже стала сокращаться и вся ушла в светлую полоску на горизонте и затем вместе с нею яркой полосой, все разрастаясь вширь, побежало по воде к нам навстречу. Вслед за тем эллипсоидальная форма солнца начала выправляться в круглый диск. Вместе с тем стало теплее. Около берега еще кое-где держались обрывки тумана, они прятались в теневатых распадках между гор, но солнечные лучи находили их всюду и уничтожали без остатка. Вдали виднелся высокий мыс Туманный. Казалось, он отделился от воды и повис над морем. Этот мыс был конечным пунктом нашего путешествия. Вернувшись в палатку, я стал поднимать моих спутников, что было нетрудно, потому что они зябли и, завернувшись в одеяла, ждали только сигнала. После чая туземцы проворно уложили лодки. Холод подбадривал людей и заставлял их энергичнее работать веслами. С восходом солнца воздух немного согрелся. От реки Кольмы берег меняет юго-западное направление на южное. От прибрежного хребта отходит к морю множество отрогов. Распадки между ними послужили путями для стока воды. Так образовались мелкие речки: Кольги, Бигиси и Гинугу. Кольма длиною около 10 километров. По ней идет в большом количестве горбуша. Вот почему места эти охотно навещаются орочами с реки Ботчи. Заготовив здесь запасы юколы на год, они складывают ее в амбары и оставляют в тайге до соболевания. От Ботчи к югу горные породы, собранные мною в последовательном порядке, распределяются так: сперва идет андезитовая лава с кальцитом, затем диабазовый туф и туф кварцевого порфира, за ним опять туф дацитовый и выветренная пузыристая лава и, наконец, базальт. Во время привала я поднимался на одну из сопок, покрытых растительностью, состоящей главным образом из ели и пихты. Здесь на солнцепеках произрастают дуб, даурская (черная) береза и изредка кедр. Долинные места были заняты лиственицей и белой березой, а на каменистых местах, около моря, в массе разрослись шиповник и низкорослая рябина с безвкусными водянистыми ягодами. Километрах в семи от реки Гинугу на самом берегу моря стоит коническая сопка, своим внешним видом напоминающая сахарную голову. С правой стороны ее есть небольшой красивый водопад, а слева — широкая полоса прибоя, заваленная каменными глыбами. Некоторые из них скатились в море, образовав нечто вроде маленькой бухточки, защищенной от волнения. Мы воспользовались ею и высадились на берег. Вандага велел вытащить лодки подальше от воды на гальку. Здесь мы стали устраивать бивак. Устанавливая походную метеорологическую станцию, я обратил внимание на быстрое падение барометра. Надо было ожидать сильного шквала, признаки которого были уже налицо. Тучи спустились совсем низко и, казалось, бежали над самой водой. Горизонт исчез, море приняло грязножелтую окраску, волны пенились и неистово бились о берег, вздымая водяную пыль. Вдруг завеса туч разом разорвалась. На короткое время показался неясный диск солнца. Через минуту — две налетел сильный ветер. В одно мгновение он сорвал нашу палатку. За ней бросились вдогонку. В это время меня так больно стегнуло песком по лицу, что я закрыл глаза рукою и повернулся спиной к ветру. Подхваченные с камней слоевища морской капусты, мелкие ветки и сухая листва — все это неслось куда-то с сумасшедшей быстротой. Какая-то чайка тщетно пыталась лететь к югу. Ее сначала подняло кверху, потом кинуло в сторону. Она хотела было лететь назад, но не смогла сохранить равновесия и упала в кусты. В это время раздались крики: — Лодки! Лодки! Держите лодки!! Я открыл глаза и увидел, что ветер опрокинул одну из лодок и грозил сбросить ее в море. За борт ее держались Вандага и Чжан-Бао. — Веревки! Давайте веревки поскорей! Кладите камни. Люди бегут, падают, опять бегут и стараются собрать веревки. Наконец лодки привязаны, палатка поймана. В это время с моря нашла только одна большая волна. С ревом она рванулась на берег, загроможденный камнями. Вода прорвалась сквозь щели и большими фонтанами взвилась кверху. Одновременно сверху посыпались камни. Они прыгали, словно живые, перегоняли друг друга и, ударившись о гальку, рассыпались впрах. На местах падения их, как от взрывов, образовывались облачка пыли, относимые ветром в сторону. К сумеркам буря стихла совсем. Равновесие воздушной стихии восстановилось. Я вспомнил деформированное солнце утром. Около Сахарной головы надо было произвести астрономические наблюдения и вычислить ход хронометра. Чтобы не задерживать лодку, я отправил ее вперед, а сам с несколькими спутниками остался для работ. Мы условились, что все сойдемся на реке Нельме. Для поправок хронометра я взял абсолютные высоты солнца над горизонтом и в час дня вычислил широту места. Затем мы собрали свои котомки и пошли по намывной полосе прибоя. Тропа, до сих пор придерживавшаяся берега, вдруг круто повернула в сторону и по одному из распадков стала взбираться в горы. Мы остановились в недоумении. Куда итти? Держаться ли намывной полосы прибоя или следовать за тропою? В это время подошел Вандага и сказал, что надо итти по тропе, потому что здесь ходят люди. Мы послушались его совета и, нимало не смутясь, стали карабкаться на кручу. Тропа шла зигзагами, но, несмотря на то, что проложена она была весьма искусно, все же подъем на гору был длинный и утомительный. Мы с орочем взобрались на вершину прибрежного хребта, а шедшие со мной стрелки немного отстали. Ороч присел на землю, чтобы поправить обувь, а я стал осматриваться. Мы находились в хвойном лесу, состоявшем из ели и пихты с примесью лиственицы и каменной березы. Лес был старый, деревья тонкоствольные, со множеством сухих веток, густо украшенные седыми прядями бородатого лишайника. Был прохладный осенний день. Вверху между остроконечными хвойными вершинами виднелось безоблачное голубое небо. Солнце посылало ослепительные лучи свои и как будто хотело воскресить растительность на земле. В лесу стояла такая глубокая тишина, что всякий шум, производимый человеком, казался святотатством. Я окликнул стрелков, но эхо тотчас вернуло мой возглас обратно. Случайно я перевел глаза на моего спутника и увидел, что он замер в неподвижной позе. Вандага имел вид человека, который заметил что-то важное и тревожное. — Что случилось? — спросил я его и оглянулся, но в лесу было по-прежнему спокойно. Тогда я повторил свой вопрос. Ороч сделал мне знак, чтобы я молчал, потом тихонько поднял руку и указал на соседнюю пихту. А так как я все-таки ничего не видел на ней, то он осторожно придвинулся ко мне и, указав прутиком на лишайник, шопотом сказал: — Его живой! Я удвоил внимание и тогда заметил, что некоторые из лишайников, вследствие своей необычайной легкости и чувствительности ко всякому ничтожному движению воздуха, то поднимались, то снова медленно опускались книзу. — Слушай! — сказал мне ороч шопотом. Я напряг слух и, как мне показалось, действительно услышал тихие, едва уловимые ухом звуки, похожие на заглушённые крики зайца, только тоном выше и много слабее. Откуда исходили они? Сверху, с деревьев, или снизу, с земли. В лесу всегда можно слышать их в самых разнообразных сочетаниях: шопота, подавленного стона, глубокого затаенного вздоха и т. д. — Его говори, — сказал ороч, указывая снова на лишайник, — только люди понимай нету. Не знаю, хорошо это или худо. Я понял, что от моего ответа зависит успех нашего предприятия, и потому сказал, что погода нам благоприятствует, что наиболее трудную часть пути мы уже прошли и теперь остается только начать спуск в долину. Слова мои как бы убедили его. Как раз в это время подошли стрелки. Ороч поднялся с земли и нехотя пошел вперед. Наша тропа шла некоторое время по хребту. Она все время кружила, обходя колодник то с одной, то с другой стороны. Мы иногда теряли ее, но потом снова находили там, где меньше было травы. Мы шли молча, Вандага впереди, за ним я, за мною стрелки Ноздрин и Глегола. Вдруг одна из старых елей, стоящих впереди, покачнулась, стала клониться к земле, сначала медленно, а потом быстрее, и с сильным шумом упала поперек тропы. Наш провожатый остановился, как вкопанный, затем медленно повернулся ко мне и тоном, не допускающим возражения, сказал: — Дальше ходи не могу. Дорогу закрывай! Напрасно мы уговаривали его сообща. Он стоял на своем и приводил следующие доводы: первое предостережение было от лишайников, которое никто из нас не понял. Теперь упала ель, которую в таких случаях нельзя ни перерубить, ни обходить. Итти дальше значит подвергнуться явной опасности. Ноздрин стал над ним подтрунивать. Тогда Вандага рассердился и сказал: — Ваша сам дорогу смотри, моя надо назад ходи! Вслед за тем он повернулся и быстро пошел по тропе обратно. Задерживать его было бесполезно. Некоторое время между деревьями мелькала его фигура, дальше тропа снижалась за гребень. Через минуту он скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать наш путь без проводника, но к великой нашей досаде мы совсем потеряли тропу и не могли ее найти вторично. Тогда, чтобы не заблудиться, мы направились к морю, но тут попали в глубокие овраги с очень крутыми склонами. Один раз Глегола чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя ухватился за корни старой ели. Значит, надо было держаться от берега в таком расстоянии, чтобы резать овраги в самых их верховьях, но так как они были разной величины, то на обход их тратилось много времени. В довершение несчастья мы попали в такой бурелом, из которого еле-еле выбрались, сделав значительный крюк назад. Взвесив все за и против, мы решили тогда итти прямо к морю и продолжать путь по намывной полосе прибоя. Когда мы вышли на берег, солнце было совсем уже низко над горизонтом. Температура воздуха быстро понижалась. Почему-то нам казалось, что река Нельма находится за мысом, который имел вид человеческой головы в профиль, погрузившейся в воду до самого рта. Мы передохнули немного, затем надели свои котомки и пошли по самому берегу, имея с правой стороны скалистые обрывы высотою до 300 и 400 метров и слева море. Намывная полоса прибоя была завалена каменными глыбами величиной с человеческий рост. Я полагал, что эти груды камней занимают небольшое пространство и за следующей кулисой мы вновь выйдем на морскую гальку. Через час мы дошли до мыса Омодуони. Надежда, что за ним мы увидим наш бивак, придавала энергию. Еще сотни две шагов, и мы взобрались на скалу. Впереди был все тот же пустынный берег, те же камни, а дальше — еще какой-то высокий мыс. Между тем стало смеркаться. Пора было остановиться на ночлег. Но где? Для бивака нужны дрова и пресная вода, но здесь, среди камней, ни того, ни другого не было. Летом, в теплую погоду, можно как-нибудь скоротать ночь и без огня, но теперь, поздней осенью, когда к утру вода покрывается льдом, без теплой одежды и с мокрыми ногами это было опасно. Обыкновенно на берегу моря вблизи рек всегда можно найти сухой плавник, но здесь, как на грех, не было дров вовсе, одни только голые камни. Мои спутники стали уставать, и я сам почувствовал себя очень утомленным. Мы пробовали садиться, но холод и сырость вынуждали нас итти дальше. Через час мы добрались до второй кулисы. За ней были опять скалы, все тот же едва заметный изгиб берега и все та же пустынная полоса прибоя, заваленная камнями. Недалеко от берега на большом плоском камне сидело несколько гагар. Птицы собрались на ночлег, но, услышав людские голоса, повернули головы в нашу сторону. Теперь они плохо видели и потому еще более насторожились. Наконец, одна гагара не выдержала. Тяжело взмахнув крыльями, она поднялась в воздух. Тотчас вслед за нею снялись все остальные птицы и низко над водой полетели к тому мысу, который остался у нас позади. Чем больше сгущались сумерки, тем труднее становилось итти. В темноте невозможно было отличить ребро камня от щели. Мы все чаще оступались и падали. Береговые обрывы, лишенные растительности, быстро излучали теплоту. Стоячая вода в лужах покрылась тонким слоем льда, мокрые водоросли замерзли и начали хрустеть под ногами. К ночи море совершенно успокоилось. Ни малейшего волнения, ни малейшего всплеска у берега. Мертвящая тишина вместе с мраком неслышными волнами обволакивала землю. Незаметно ночь вступила в свои права. Земля и море погрузились в глубокий мрак, так что в нескольких шагах нельзя было увидеть рядом идущего человека. Яркие звезды мерцали на небе всеми цветами радуги, а мы все еще карабкались через камни, ощупывали их руками, куда-то лезли, падали, теряли друг друга и после невероятных усилий взобрались, наконец, на высокий мыс. Но здесь непропуск совершенно преградил нам дорогу. Пусть читатель представит себе теснину, ограниченную с одной стороны морем, а спереди и с другой стороны — высокими отвесными скалами. Что делать? Я собрал маленький совет. Нам предстояло решить вопрос: возвращаться ли к Сахарной голове или попытаться обойти непропуск вброд по воде и потом продолжать свой маршрут дальше. У всех нас болели ноги, руки были покрыты ссадинами, колени побиты. А что если по ту сторону мыса мы опять не найдем дров, если до бивака еще далеко, если нам всю ночь придется карабкаться через камни? Да мы не выдержим! Усталость возьмет свое, тогда можно жестоко прозябнуть и опасно заболеть. Неизвестность того, что находится по ту сторону непропуска, и надежда на счастье решили в пользу последнего предположения. Мы решили итти на риск и стали раздеваться. Чтобы сохранить одежду сухою, мы привязали ее на плечи позади головы. Прибрежные камни слегка обледенели. В темноте не видно, насколько было глубоко. С опаской я вошел в воду по колено. Кости заныли от холода и боли. Придерживаясь за выступы скал, медленно и осторожно я подвигался вперед, за мною шел Ноздрин, а за ним Глегола. У подножья непропуска на дне были такие же большие камни и с такими же острыми ребрами, такие же щели и провалы, как и на берегу. Темная, как чернила, вода казалась страшною. В одном месте была глубокая выбоина. Нам удалось обойти ее после долгого ощупывания дна ногами. По мере того как мы подвигались вперед, становилось глубже. Вот вода уже поднялась выше пояса. Еще шагов десять, и непропуск обойден. Впереди в темноте виднелись два больших камня, как бы положенных один на другой, дальше — острый кекур, а за ним — плоский берег. Вдруг один из камней, верхний, шевельнулся и с сильным шумом рухнул в воду. От него пошла большая волна, которая окатила меня с головой и промочила одежду. Это оказался огромный сивуч (морской лев). Он спал на камне, но, разбуженный приближением людей, бросился в воду. В это время я почувствовал под ногами ровное дно и быстро пошел к берегу. Тело горело, но мокрая одежда смерзлась в комок и не расправлялась. Я дрожал, как в лихорадке, и слышал в темноте, как стрелки щелкали зубами. В это время Ноздрин оступился и упал. Руками он нащупал на земле сухой мелкий плавник. — Дрова есть, — закричал он радостным голосом, — давайте скорее спички! Читатель помнит, что я имел при себе спички в засмоленной баночке. Через несколько минут мы стояли около большого костра и сушили одежды. В это время Глегола зачем-то отошел в сторону. — Огонь! — крикнул он из темноты. — Вон наш бивак. Действительно, на юге, недалеко, как маленькая звездочка, мелькал огонек. Судя по расстоянию, на котором, мы увидели огонь, до рекиНимми было еще около 5 километров. Поэтому я решил остаться на том месте, где нашли дрова. Здесь море наметало так много плавникового леса, что мы могли его жечь до утра сколько угодно. Стрелки из одного костра разложили три, а сами поместились посредине между ними. Они то и дело подбрасывали в костры охапки хвороста. Пламя весело прыгало по сухому валежнику и освещало усталые лица людей, одежду, развешанную для просушки, завалы морской травы и в беспорядке нагроможденные камни. Мои спутники стояли у костров и, отвернувши в сторону свои лица, сушили белье на руках и делились впечатлениями пройденного пути. Вспомнили мы и выругали Вандагу, покинувшего нас в трудную минуту, досталось и сивучу, вымочившему маши одежды. Спать было негде. Всю ночь мы просидели у камней и клевали носами до самого рассвета. Не дожидаясь восхода солнца, мы обулись как следует и пошли дальше. Заря занималась во мгле. Ночью был крепкий мороз. На поверхности земли все заиндевело. Вода, скопившаяся в трещинах между камней, промерзла насквозь. Берег моря, заваленный камнями, показался еще более пустынным. Я чувствовал себя еще более разбитым и усталым, чем вчера: кружилась голова, болели ноги, ломило спину. Однако утренний мороз подбадривал нас и заставлял двигаться скорее. Недалеко от Нимми мы видели одну кабаргу. По чрезвычайно крутому оврагу она спускалась на берег моря. Земля ехала у нее под ногами и дождем сыпалась вниз. Глядя на нее, я невольно подумал, до какой степени животные эти приспособились и не теряют равновесия. И делается это легко, непринужденно, без всякого страха, как будто обрывы и осыпи в горах являются ее родной стихией. Услышав посторонний шум, кабарга остановилась в ожидательной позе, но затем вдруг повернула назад и сильными прыжками стала подниматься назад в гору. Достигнув вершины, она опять остановилась, еще раз посмотрела вниз, два раза крикнула пронзительно и скрылась в лесу. Ноздрин хотел было стрелять, но я остановил его. Правда, у нас не было мяса, но убитую кабаргу пришлось бы нести на себе, а мы сами еле тащили ноги. К восьми часам утра мы перебрались через последний мыс и подошли к реке Нельме. На другой ее стороне стояла юрта. Из отверстия в ее крыше выходил дым; рядом с юртой на песке лежали опрокинутые вверх дном лодки, а на самом берегу моря догорал костер, очевидно он был разложен специально для нас. Его-то мы и видели ночью. Из юрты вышел человек и направился к реке. В левой руке он держал за жабры большую рыбину, а в правой — нож. Я окликнул его. Человек остановился, посмотрел в нашу сторону, затем бросил рыбу и побежал в юрту. Через минуту из нее вышли два туземца и подали нам лодку. В юрте было тепло. Я с наслаждением переоделся, умылся, напился чаю и лег спать. Все невзгоды ночного маршрута, холод, купанье в морской воде, испугавший нас сивуч — все это осталось теперь только в воспоминаниях. Ночью небо заволокло тучами и пошел сильный дождь, а к утру ударил мороз. Вода, выпавшая на землю, тотчас замерзла. Плавник и камни на берегу моря, трава на лугах и сухая листва в лесу — все покрылось ледяною корою. Люди сбились в юрту и грелись у огня. Ветер был неровный, порывистый. Он срывал корье с крыши и завевал дым обратно в помещение. У меня и моих спутников разболелись глаза. К утру дождь перестал. Тяжелая завеса туч разорвалась. Живительные солнечные лучи осветили обледенелую землю. Людям надоело сидеть в дымной юрте, все вышли наружу и стали шумно выражать свою радость. — А та тэ! — закричал один из туземцев, указывая на запад. — Ни бязи доони согды уо имана агдэ би (т. е. в вершинах этой реки в больших горах выпало много снега). Интересное явление: в то время как кругом небо имело густую синюю окраску, на западе оно было бледно-зеленым и точно светилось. Я понял. Там, в горах, выпал снег. Отраженные от него солнечные лучи освещали небо. Этот снег на Сихотэ-Алине уже не растает до весны, он будет снижать температуру и захватывать все большее и большее пространство. На реке Нельме у нас опять вышла дневка. На этот раз виною были лодки. Старенькие и слабые от частого вытаскивания их на камни, они разошлись по швам и дали во многих местах течь. С утра туземцы занялись их починкой, а я вместе с Чжан-Бао пошел в экскурсию вверх по реке. Нельма длиною около 4 километров и принимает в себя три притока с правой стороны и один с левой; ближайшим к морю будет река Ульгодоони. Истоки Нельмы охватываются с одной стороны притоками Самарги, с другой — Ботчи. По правым ее притокам в один день можно дойти до перевалов на реках Чафи, Чжалу и Агза, впадающих в Самаргу в 10–25 километрах от моря. Левый приток реки Меу приведет на Ботчи в 30 километрах от моря. На туземных лодках по Нельме можно подниматься на 8 километров. Около устья река разбивается на несколько мелких проток и образует много заводей и слепых рукавов. Бара нет, и вход в реку вполне доступен: течение тихое и спокойное. Острова между протоками поросли березой, ольхой и лиственицей. На одном из них каким-то шаманом поставлено фигурное дерево (Тун). И ствол и сучья его были украшены резьбою. Туземцы ни за что не хотели туда итти. После длительных уговоров они высадили на остров нас обоих, а сами отошли к противоположному берегу, заявив, что подадут лодки снова, когда будет нужно. Пробираясь через заросли, Чжан-Бао спугнул сову; она вылетела из-под самых его ног, села на фигурное дерево и издала резкий крик. Чжан-Бао остановился и посмотрел на меня с таким видом, как будто говорил: вот так неприятный сюрприз! — В чем дело? — спросил я его. — Е-мао-цза (т. е. ночная кошка), — ответил он с досадой. В это время сова, услышав наши голоса, испуганно снялась. — Пу-хоу, пу-хоу (худо, худо), — говорил Чжан-Бао, делая нетерпеливые жесты рукой. Вслед затем он повернул назад к реке, сказав, что удачи нам сегодня не будет и поэтому не стоит напрасно тратить время. Я уступил. На обратном пути я спросил его, почему он так странно назвал сову. На это Чжан-Бао ответил, что птицы делятся так же, как и четвероногие животные, на диких и домашних, наземных и водяных, дневных и ночных, хищных и некровожадных, причем каждому четвероногому соответствует птица. Например, собаке — ворона, кошке — сова. Сова имеет такую же голову, как кошка, так же хорошо видит ночью, летает бесшумно, как бесшумно ходит кошка, ловит мышей, и крик ее похож на кошачье мяуканье. Сова плохая птица: встреча с ней всегда предвещает ссору, вражду. Так рассуждая, мы незаметно подошли к реке. У другого ее берега в лодке сидели удэхейцы. Чжан-Бао окликнул их. Они тотчас подали улимагду. Через десять минут мы были на биваке. На следующий день мы расстались с рекой Нельмой. Холодный западный ветер, дувший всю ночь с материка в море, не прекратился. Он налетал порывами, срывая с гребней волн воду, и сеял ею, как дождем. Из опасения, что ветром может унести наши лодки в открытое море, удэхейцы старались держаться под защитой береговых обрывов. Около устьев горных речек, там, где скалистый берег прерывался, ветер дул с еще большею силой, и нам стоило многих трудов пройти от одного края долины до другого. Пока речки были маленькие, мы плыли довольно благополучно, но когда достигли реки Сонье, это стало небезопасно. Два раза мы пытались пройти мимо ее устья и дважды вынуждены были возвращаться под прикрытие скалистого берега, состоящего из андезита. Левый край реки Сонье крутой, правый — пологий. Однообразно желтый ковер кислых трав и тощие одинокие лиственицы свидетельствуют о заболоченности почвы. Здесь, около устья реки, мы просидели до полудня. Наконец нам показалось, что ветер немного стих. Последнее время мы тащились крайне медленно, перспектива дневать на реке Сонье не улыбалась никому, и мы решили в третий раз попытать счастья. Едва наши лодки вышли из-за своего укрытия, как сильным порывом ветра их накренило на один бок. Вода, вздымаемая при гребле веслами, как душем обдавала людей с ног до головы. Скоро я заметил, что мы не столько плывем вдоль берега, сколько удаляемся от него. Мои спутники поняли, что если нам не удастся пересилить ветер, то мы погибли. Никто не сидел сложа руки, все гребли: кто лопатой, кто доской, кто сломанным веслом и всем, что попало в руки. Так продержались мы два часа. Наконец люди стали уставать. Меньше всех растерялся наш удэхеец-проводник. — Оды би, наму то ая! (т. е. ветер есть, но море тихое), — сказал он. Его спокойствие передалось нам. Удэхеец указал рукой сначала на восток, а потом на мыс Туманный. Действительно, лодка перестала удаляться в море и двигалась теперь вдоль берега, хотя и в значительном от него расстоянии. Причина этого явления скоро разъяснилась. Ветер, пробегающий по долине реки Сонье, сжатый с боков горами, дул с большой силой. В эту струю и попали наши лодки. Но как только мы отошли от берега в море, где больше было простора, ветер подул спокойнее и ровнее. Это заметили удэхейцы, но умышленно ничего не сказали стрелкам и казакам, чтобы они гребли энергичнее и чтобы нас не несло далеко в море. Мало-помалу лодки начали приближаться к берегу и через полчаса подошли к мысу, представляющему собой прекрасные образцы столбчатого распадения базальтов. В Уссурийском крае самые большие обнажения можно наблюдать на берегу моря. Здесь прибрежные горные хребты часто отмыты вдоль оси, а отроги поперек их простираний и раскрывают перед наблюдателем тайны своего строения. У Безымянного базальтового мыса трое береговых ворот. Самые большие из них южные. Они стоят не в воде, а на намывной полосе прибоя. Раньше это был мыс, прорезанный вдоль жилой из весьма плотной изверженной породы. Со временем туфы с обеих сторон жилы обрушились, а сама она осталась. Потом в наиболее слабом ее месте волнением пробило брешь, произошел внутренний обвал, и образовались ворота. Впоследствии море к подножью их наметало песок и гальку, и ворота очутились в стороне от воды. Дальше опять тянутся базальты. Около реки Ниме они видны в двух ярусах. Их столбчатая отдельность распространяется и на средний пласт, состоящий из песчаника. Я хотел было итти до самого вечера, но наши проводники сказали, что здесь надо ночевать непременно, потому что дальше два больших мыса далеко выдвигаются в море и на протяжении 30 километров приставать негде, и ночь застанет нас раньше, чем мы успеем дойти до реки Адими. Доводы их были убедительны, я не стал противоречить и велел направить лодки к устью реки Ниме. Войдя в реку, мы пристали к правому ее берегу и тотчас принялись устраивать бивак в лесу, состоящем из ели, пихты, березы и лиственицы. Время года было позднее. Вода в лужах покрылась льдом, трава и опавшая с деревьев листва, смоченные дождем, замерзли, и мох хрустел под ногами. Натаскали много дров и развели большой костер. Наши туземцы долго ходили по берегу реки и часто нагибались к земле. Спустя некоторое время они пришли на бивак и сообщили, что на Ниме есть удэхейцы и среди них одна женщина. Несмотря на позднее время, они решили итти на розыски своих земляков. Я не стал их задерживать и просил только завтра притти пораньше. Туземцы ушли, а мы принялись устраиваться на ночь. Односкатная палатка была хорошо поставлена, дым от костров ветер относил в сторону, мягкое ложе из сухой травы, кусок холодного мяса, черные сухари и кружка горячего чая заменили нам самую комфортабельную гостиницу и самый изысканный ужин в лучшем городском ресторане. После чая я оделся потеплее и вышел на берег моря. Приближались сумерки, на западе пылала вечерняя заря. К югу от реки Ниме огромною массою поднимался из воды высокий мыс Туманный. Вся природа безмолвствовала. Муаровая поверхность моря, испещренная матовыми и гладкими полосами, казалась совершенно спокойной, и только слабые всплески у берега говорили о том, что оно дышит. В это время я заметил Чжан-Бао. Он шел по окраине леса и, видимо, направлялся на бивак. Я окликнул его и предложил ему подняться со мной на одну из возвышенностей, образующих непропуск на берегу моря. Через несколько минут мы взобрались с ним на вершину ближайшей сопки. По одну сторону ее была река Ниме: там виднелась палатка, двигались люди, горел огонь; по другую — небольшая сухая бухточка. В ней намывная полоса прибоя шла прямо, а береговые обрывы описывали полукруг. У самой воды я заметил какой-то темный предмет, который принял сперва за обгорелый пень. Черный предмет шевельнулся, и я тотчас узнал в нем медведя. Он стоял на задних лапах, а передними делал какие-то странные движения и качал головой. Потом он сел на камень и стал смотреть в море. В движениях зверя было так много человеческого, что я невольно попросил Чжан-Бао не стрелять в него. Медведь, повидимому, услышал мой голос и стремглав бросился наутек. Раза два он останавливался, оглядывался и бежал дальше. Вскоре он скрылся в расщелине между скал. Глядя на медведя, я понял, почему многие народности Сибири очеловечивают его и почему он фигурирует у них в сказках. Эти мысли я высказал своему спутнику. На это Чжан-Бао ответил мне, что не один медведь, а всякое животное хочет сделаться человеком. Некоторым это удается: так, есть люди, в которых можно узнать обезьяну, в других лису, черепаху, какую-нибудь птицу или паука. Такие люди при желании могут принимать свой первоначальный вид и затем опять делаться человеком. Чаще всего они видят себя во сне в зверином образе. Подражание людям у некоторых животных столь велико, что они устраивают себе жилища, мягкие ложа для спанья и делают запасы продовольствия на зиму. Когда мы пришли на бивак, уже смерклось совсем. Наши орочи еще не возвращались: по-видимому, они нашли своих земляков и остались у них ночевать. После ужина, когда стали укладываться на ночь, вдруг из соседних кустов неожиданно вынырнула человеческая фигура, за ней другая, третья и четвертая… Это были удэхейцы, совершенно нам не знакомые. Пришедшие молча подошли к огню и сели на корточки, потом достали свои трубки и стали курить. Я предложил вновь пришедшим чаю и сухарей. Минут через десять вернулись наши проводники и с ними женщина. — Сородэ! Сородэ! — стали они приветствовать друг друга. Оказалось, что удэхейцы разошлись. Услышав звуки топоров и увидев зарево огня на берегу моря, местные удэхейцы пошли на разведку. Подойдя почти вплотную к нам, они стали наблюдать. Убедившись, что они имеют дело с людьми, которые их не обидят, удэхейцы вышли из засады. Вскоре явились и наши провожатые. Они нашли юрту и в ней женщину. Узнав, что мужчины отправились на разведку, они позвали ее с собой и пошли прямо на бивак. Крылов встал и подбросил дров в огонь. Теперь я мог хорошо рассмотреть наших новых знакомых. Все четверо были братья одной и той же семьи из рода Каза: Ландыка, Янгуй, Венза и Неодыга, женщину звали Кимони. Она была женой старшего из них — Ландыка. Удэхейцы сказали мне, что они живут по другую сторону Туманного мыса, на реке Самарге, и сюда пришли только на охоту. Пока варился чай для гостей, наши проводники успели объяснить удэхейцам, кто мы, куда едем и какая от них требуется помощь. Решено было, что дальше с нами пойдет один только Янгуй, а остальные три брата останутся на реке Ниме, чтобы готовиться к соболеванию. На ночь разложили большой костер. Нагретый воздух быстро поднимался кверху и опаливал сухую листву на деревьях. Она вспыхивала и падала на землю в той стороне, куда относил ее легкий ветерок. — Наша так нету, — говорили удэхейцы. — Наша маленький огонь клади. Ночью спи — огонь не надо. Действительно, удэхейцы никогда больших костров не раскладывают и, как бы ни зябли, никогда ночью не встают, не поправляют огня и не подбрасывают дров. Так многие спят и зимою. На ночь удэхейцы устроились в стороне от нас. Они утоптали мох ногами и легли без подстилки, где кому казалось удобнее, прикрывшись только своими халатами. Было еще темно, когда удэхейцы начали будить моих разоспавшихся спутников. Густой туман неподвижно лежал на земле. Ни малейшего движения в воздухе. Дым от костра поднимался спокойно кверху. Море было тихое, как пруд. Пока разбирали вещи на биваке, Чжан-Бао успел согреть воду в чайнике и захватил ее с собою в лодку. После реки Ниме берег тремя высокими мысами — Туманным, Суфрен и Золотым — значительно выдвигается вперед. Вся эта часть побережья оголена от леса пожарами. Серые стволы деревьев, лишенные ветвей, поваленный ветром сухостой и обгорелые пни придают местности чрезвычайно унылый вид. Мы плыли вдоль берега и иногда, опустив весла в воду, отдыхали, любуясь чудной горной панорамой. Вот скалистая сопка, похожая на голову великана, украшенную мохнатой шапкой; дальше каменная баба, как бы оглядывающаяся назад, а за ней из воды торчала верхняя часть головы какого-то животного с большими ушами. Когда мы подъезжали к ним вплотную, иллюзия пропадала: великан, зверь и каменная баба превращались в обыкновенные кекуры и совершенно не были похожи на то, чем казались издали. Во многих местах береговые обрывы были разрушены деятельностью пресной воды, стекающей сверху. Другие факторы, как то: ветры, разность температуры днем и ночью, летом и зимою, морские брызги и прочее, играют второстепенную роль. В дождливое время года здесь происходят большие обвалы, изменяющие физиономию берега до неузнаваемости. Сопровождавшие нас удэхейцы не узнавали многих мест. Там, где раньше была одинокая скала, лежала груда обломков, где был высокий отвесный берег, образовалась расщелина. Вода промыла в ней глубокое ложе и вынесла на намывную полосу прибоя груды щебня. И все это произошло в какие-нибудь десять-двенадцать лет. Удэхейцы объяснили это по-своему. Здесь был Какзаму. Он разбил каменного человека (Кудани) и разрушил берег. Весь день погода была пасмурная. Густой туман наподобие тяжелой скатерти повис над морем и закрывал вершины гор. Наиболее сильная конденсация пара происходит около мыса Туманного, отчего он и получил свое название. Мыс Золотой гораздо ниже его и состоит из эпидотизированного порфирита, который под влиянием атмосферных явлений принимает желтую окраску. Осенью вершина мыса покрывается блестящей золотисто-желтой травой. Вероятно, оба эти обстоятельства и дали повод окрестить его таким поэтическим названием. Мыс Суфрен со стороны моря имеет вид конусообразной башни, прорезанной наискось какой-то цветистой жилой. Море пробило в ней береговые ворота, к которым на лодке из-за множества подводных камней подойти трудно. За этим мысом берег делает крутой изгиб на запад. Отсюда открывается вид на низменный продольный берег, идущий на протяжении 30 километров к юго-западу и вдали оканчивающийся мысом Гиляк. В углу, где скалистые обрывы мыса Суфрен соприкасаются с низменным берегом, впадает небольшая речка Адими. Пройдя от реки Адими еще 2 километра, мы стали биваком на широкой косе, отделяющей длинную Самаргинскую заводь от моря. До сумерек было еще часа два. Я воспользовался этим временем и, пока мои спутники устраивались на бивак, поднялся на ближайшую возвышенность. Сверху мне хорошо был виден весь берег на значительное протяжение. Между морем и горным хребтом Саркатуем располагается широкая и низменная полоса земли. Здесь суша сделала захват у моря. Продукты разрушения гор, выносимые реками Самаргой и Единкой, а также и другими мелкими речками, отлагались между мысами Суфрен и Гиляк, составляющими оконечность хребта Камуран. Море тоже принимало участие в образовании этой полосы земли. В течение многих веков оно наметывало вал за валом и выравнивало берег. Первые валы давно уже заросли лесом, но чем ближе к морю, тем растительность была моложе. Последний вал еще не успел зарасти травою. По одну сторону его было море, по другую — заводь в виде длинных озерков, слепых рукавов с пресною водою. На прибрежной растительности сказалось губительное влияние моря. Деформированные и обезображенные деревья, преимущественно лиственицы, имели ветви загнутыми в одну сторону. Это были своего рода флюгеры, указывающие преобладающее направление ветра. Некоторые из них производили впечатление однобокой метелки с мелкими ветками, растущими густыми пучками, образующими по опушкам непроницаемую чащу. На склонах, обращенных к солнцу, произрастал дуб — нечто среднее между кустом и деревом. Одеяние его, пораженное листоверткой, пожелтело, засохло, но еще плотно держалось на ветвях. Когда-то дуб был вечнозеленым деревом, и потому листва его опадает не от холода, а весной, когда надо уступить место новому наряду. Среди подлеска я заметил багульник. Он рос здесь слабо, листья его были мелкие и запах не так силен, как в других местах, вдали от моря. По берегу виднелись кусты шиповника, но уже лишенные листвы. Не менее интересной является рябина: это даже не куст, а просто прутик, вышиною не более метра с двумя-тремя веточками и безвкусными, водянистыми, хотя и крупными плодами. Днем мне удалось подстрелить трех птиц: китайскую малую крачку в осеннем наряде с желтым клювом и светлосерыми ногами, потом сибирскую темноголовую чайку белого цвета с сизой мантией на спине (у нее были оранжевые ноги, красный клюв и темносиние глаза) и, наконец, савку-морянку. Она уже оделась по-зимнему в пепельно-серые тона, за исключением головы и шеи, украшенных снежно-белыми перьями. Перелетных птиц было мало. Главная масса их направляется по долине реки Уссури. Здесь же, вдоль берега моря, изредка пролетают только казарки и небольшими стайками чирки. Последние держатся по речкам до поздних заморозков. Возвращаясь на бивак по намывной полосе прибоя, я обратил внимание на органические остатки, валявшиеся среди песка и гальки. Это были морские звезды, ракообразные, створки съедобного ракушника и кости панцырнощеких рыб. На следующий день, 28 октября, мы достигли устья реки Самарги. Погода по-прежнему была пасмурная, Дважды принимался итти дождь редкими крупными каплями. До сих пор спокойное море начало волноваться. Опасаясь, что прибой при устье Самарги не позволит нам войти в реку, мы перетащили лодки через косу и продолжали наш путь по заводям реки Самарги. Последние дни плавание вдоль берега моря всех очень утомило, и потому, когда мы увидели удэхейскую юрту на берегу одной из самаргинских проток, все единодушно решили в ней заночевать. Здесь я узнал, что вверх по реке в 5 километрах от моря есть деревянный домик, который называется фанзой Кивета. Выстроил его удэхеец Дондибу, но почему-то не хочет жить в нем и даже в ненастные дни проходит мимо. Я тотчас решил сделать его своей штаб-квартирой. Вечером с юга надвинулся шторм, и море разбушевалось. Я думал о грузе экспедиции. Пароход, на котором Т. А. Николаев вез грузы экспедиции, вследствие непогоды не мог выгрузить их на Самарге и оставил где-то около реки Кузнецовой. Там были: наша зимняя палатка, теплая одежда, обувь и запасы продовольствия. Доставить их сюда вызвались Янгуй и Тимофей Косяков. Они решили не откладывать это дело в долгий ящик и ехать на другой же день, если позволят погода и волнение в море, а я со своими спутниками должен был пешком отправиться к фанзе Кивета. На другой день утро было ясное, морозное. Все заиндевело, вода в лужах покрылась льдом, по синему небу бежали обрывки туч. Западный ветер принес стужу. Проводить нас до фанзы Кивета вызвался удэхеец Вензи. Самаргинская коса представляет собой два, а местами три береговых вала из окатанной гальки и песка, наметанных морским прибоем. Сверху она заросла грубой осокой с некоторой примесью тростника и морского горошка. Вдоль по косе была протоптана еле заметная тропинка, которой мы и не замедлили воспользоваться. Был один из тех приятных прохладных дней, которыми отличается осень в Зауссурийском крае. Светлое, но не жаркое солнце, ясное голубое небо, полупрозрачная синеватая мгла в горах, запах моря и паутины, затканной по буро-желтой траве, — все говорило за то, что уже кончилось лето и приближаются холода, от которых должна будет замерзнуть вода в реках и закоченеть деревья. После вчерашней бури море еще не успокоилось. Большие волны с неумолимой настойчивостью одна за другой двигались к берегу, стройно, бесшумно, словно на приступ, но, достигнув мелководья, вдруг приходили в ярость, вздымались на дыбы и с ревом обрушивались на намывную полосу прибоя, заливая ее белой пеной. Вода тотчас отбегала назад; но новые волны встречали ее и увлекали обратно на берег. С шипением она взбегала еще дальше, чем в первый раз, и, достигнув каймы из буро-зеленых водорослей и мелких древесных обломков, свежевыброшенных прибоем раковин, просачивалась сквозь песок, словно вперегонки, а на ее место набегали новые пенистые языки. В воздухе пахло гарью. Вегетационный период кончился, и чем больше расцвечивались лиственные деревья в яркие осенние тона, тем резче на фоне их выступали ель и пихта своей темно-зеленой хвоей. Лес начинал сквозить и все больше и больше осыпал листву на землю. Мы шли гуськом друг за другом. Справа и слева была вода, а посредине, где мы шли, узкая коса в 30–40 метров шириною, заросшая грубой и жесткой осокой. Когда мы дошли до того места, где заводь дважды прерывается узкими перешейками, Чжан-Бао с собакой отделился от нас и переправился на другую сторону протоки. Он хотел поохотиться на уток, которые держались ближе к лесу. Около последнего озерка, немного не доходя до реки Адими, кончалась коса, и местность становилась возвышенной, густо поросшей различными кустарниками и полынью. Как раз здесь шел пал. Огнем охватило широкую полосу сухой растительности. Желтовато-белый дым клубами поднимался кверху и относился ветром в море на юго-восток. Пал шел нам навстречу и быстро приближался к косе. Нас это мало беспокоило: справа была намывная полоса прибоя, лишенная растительности, которая, правда, дальше суживалась до 3–4 метров и поэтому покрывалась водой каждый раз, когда волна набегала на берег, но все же здесь можно было обойти огонь стороною. Скоро стало ясно, что пал выйдет на косу раньше, чем мы пройдем ее. Уже видно было, как огонь перебегал с одного места на другое, и как по воздуху в клубах дыма летела горящая сухая трава. Вероятно, можно было слышать и треск горящих сучьев, в особенности в тех случаях, когда пал добирался до сухого куста, опутанного ползучими растениями, но шум морского прибоя заглушал все другие звуки. В это время Снамука заметил впереди лису. Она уходила от нас по тропе и, видимо, торопилась добраться до материка, пока еще огонь не вышел из косы. Однако расчет ее не оправдался. Тут были особенно густые травянистые заросли. Как только пал достиг их, сразу взвилось длинное пламя. Вместе с жаром кверху взлетела горящая ветошь, которую забросило в нашу сторону, и тотчас зажгло траву на косе сразу в нескольких местах. Путь лисе был отрезан. Тогда она бросилась к морю в надежде обойти пал по намывной полосе прибоя, но здесь уже стоял удэхеец Дилюнга. Словно сговорившись, мы втроем рассыпались в цепь по всей ширине косы. Заметив наш маневр, лисица побежала влево к озерку с намерением переплыть на другую его сторону, но в это время к берегу подошел Чжан-Бао с собакой. Последняя, увидев лису, бросилась в воду и поплыла к ней навстречу. Таким образом лисица оказалась окруженной со всех четырех сторон. Тогда она вновь вышла на косу. Теперь перед ней была дилемма: или она должна была бежать через огонь и опалить свой пушистый мех, или броситься навстречу охотникам с малым числом шансов уцелеть под обстрелом из трех ружей. Лиса стала метаться, потом вдруг решилась: она быстро погрузилась в воду так, что оставила на поверхности ее только нос, глаза и уши. Собака была от нее уже в нескольких шагах. Тогда, нимало не медля, лиса вылезла вновь на косу и, не отряхиваясь, бросилась в пал, где огонь был слабее. Выбрав момент, она прыгнула через пламя. Я хорошо видел ее, потому что по ту сторону начинался подъем, лишенный растительности. Отбежав от пала шагов двадцать, лиса отряхнулась, оглянулась в нашу сторону и, увидев, что собака выходит из воды на берег, пустилась наутек. Еще мгновение, и она скрылась в чаще леса.Глава седьмая По реке Самарге
Река Самарга около устья разбивается на несколько проток. Острова между ними заросли ольхой и тальником. С правой стороны ее расстилается обширное пространство с хорошей плодородной землей, весьма удобной для земледелия. Сначала идут великолепные луга, ближе к горам видны рощи из вяза, клена, липы, березы и тополя. Река придерживается левой стороны долины. Там, где она подходит к правому ее краю, около устья горного ручья Кынгато, на возвышенном месте стояла фанза Кивета. Это было деревянное здание с полом и потолком, с одними дверями, открывающимися на улицу, с двумя окнами, из которых одно смотрело на реку, а другое — в лес. Против дверей была глухая стена с широкими нарами. Здание отапливалось железной печкой, поставленной в левом углу около дверей. Я нарочно так подробно описал фанзу Кивета потому, что здесь нам пришлось прожить довольно долго в ожидании грузов, без которых мы не могли двинуться в путь. Первые дни я посвятил ознакомлению с ближайшими окрестностями. Прежде всего меня заинтересовал вопрос, откуда получилось такое странное название «Самарга». Китайцы называют реку «Уми-да-гоу» (т. е. Большая долина Уми), удэхейцы — «Дата», что в переводе на русский язык значит «устье» и потому должно быть относимо только к низовьям реки. По Емельянову А. А.[312] река называется Нюигый. К сожалению, он не дает толкования этому слову. Оно весьма похоже на Ненгуй («нг» произносится вместе с носовым звуком), что значит «красный волк», который вовсе не водится в этих местах. В русской литературе об этой реке впервые упоминает Бошняк,[313] а затем Максимов.[314] Первый называет ее «Самальги», второй «Самальга». На реке Чоло (около Большого Хингана в Маньчжурии) есть орочский род «Моргын». Название «Са» — собственное родовое имя. Орочи с реки Чоло называют себя «Са-Моргын». Мы знаем случай, когда семья солонов пришла через Сихотэ-Алинь на реку Тахобе, где я и застал их в 1907 году. Могли также и орочи перекочевать сюда из Маньчжурии и принести с собой свое родовое название, но это только предположение. Во всяком случае происхождение названия Самарга остается загадочным. На Самарге я застал двух стариков, которые еще помнили о том, как появились русские. Первые сведения о «лоца» пришли от гольдов с Амура. Спустя некоторое время они видели в море корабли, которые без дыма под парусами медленно ходили вдали от берега. Туземцы тихонько наблюдали за ними и не зажигали огней. Потом трое лоца пришли к ним с юга; двое ехали на лодке, а третий шел пешком, что-то смотрел и рисовал на бумаге. Не был ли это топограф Гроссевич? Из среды самаргинских удэхейцев выдвинулся Ингану из рода Камедига. Он был пожизненным «Чжанге», т. е. судьею и старшиною, по всему побережью от Ботчи до реки Амагу. Повидимому, это был умный и авторитетный человек, о котором у удэхейцев сохранилось много рассказов. Он умер лет сорок назад и был похоронен на возвышенном левом берегу реки, немного ниже фанзы Кивета.[315] Первые русские скупщики пушнины появились на реке Самарге в 1900 году. Их было три человека; они прибыли из Хабаровска через Сихотэ-Алинь. Один из них в пути отморозил себе ноги. Двое вернулись назад, а больного оставили в юрте удэхейца Бага. Этот русский болел около двух месяцев и умер. Удэхейцы были в большом затруднении, как его хоронить и в какой загробный мир отвести его душу, чтобы она не мешала людям. По-видимому, это им удалось, потому что дух погибшего лоца не проявил себя ничем. Мне нужно было привязаться к какому-нибудь астрономическому пункту. Ближайшим к реке Самарге был пункт на мысе Суфрен. Я решил воспользоваться хорошей погодой и в тот же день после обеда отправился туда, чтобы переночевать на месте работ и на другое утро при восходе солнца произвести поправки хронометра. В помощь себе я взял китайца Чжан-Бао и двух удэхейцев: Вензи и Янгуя из рода Каза. Я плохо рассчитал время и к устью реки Самарги прибыл поздно. Как-то незаметно прошло лето, и осень властно вступила в свои права. Вся растительность поблекла, и земля покрылась опавшей с деревьев листвой. Осень, победившая лето, теперь сама неохотно уступала место зиме. Когда мы подходили к реке Адими, солнце только что скрылось за горизонтом. Лесистые горы, мысы, расположенные один за другим, словно кулисы в театре, и величаво спокойный океан озарились розовым сиянием, отраженным от неба. Все как-то изменилось. Точно это был другой мир — угасающий, мир безмолвия и тишины. Тропа, по которой мы шли, немного не доходя до мыса Суфрен, повернула влево к лесу. Мы оставили ее и направились было прямо к речке Адими. В это время удэхейцы Вензи и Янгуй вдруг заволновались. Они стали замедлять шаг, жаться друг к другу. — Что случилось? — обратился я к Янгую. — Тун, — сказал он и указал рукою на отдельно стоявшее сухое дерево. — Его все равно чорт! — добавил Вензи испуганным шопотом. Я хотел было подойти поближе к страшному дереву, но они стали говорить, что место это худое и ходить туда не следует. Я взглянул на Чжан-Бао. Презрительная улыбка играла на его губах. Он смотрел на удэхейцев как на людей, зараженных глупым суеверием. Я пробовал было настаивать. Тогда Вензи и Янгуй положили на землю свои котомки и заявили, что уйдут назад. Пришлось уступить. Мы вернулись опять на тропу и пошли к лесу. Здесь через речку было переброшено большое дерево. Порубленные сучья и другие признаки указывали, что и до нас кто-то уже пользовался им как мостом. Вышло не худо. Сначала тропа немного углубилась в чащу, но затем начала забирать вправо и подыматься на мыс Суфрен. Мы воспользовались ею, пока она шла в желательном для нас направлении, а затем оставили тропу и прямо целиной подошли к береговым обрывам, где было небольшое место, свободное от древесной и кустарниковой растительности. Приближались сумерки. Огненной рекой разливалась заря по горизонту. Точно там, на западе, произошло страшнее вулканическое извержение и горела земля. Горы в отдалении стали окрашиваться в фиолетовые тона. Океан погружался в дремотное состояние. Как только мы устроились на биваке, я пошел побродить по окрестностям. Провожать меня вызвался Чжан-Бао. Мы пошли сначала старой дорогой, а затем, перейдя речку Адими, направились к дереву, которое так напугало удэхейцев. Толстый коренастый ствол его на грудной высоте разделялся на четыре части. Словно ветви гигантского кактуса, они прямо подымались кверху. Мелких сучков не было вовсе. На вершине одной ветви было прикреплено деревянное изображение птицы, на другой — грубое подобие человека, на третьем — какой-то зверь, вроде толстого крокодила, и на четвертом — что-то вроде жабы. Все дерево было оголено от коры, и, кроме того, по стволу, на равном расстоянии друг от друга, до самой вершины правильными кольцевыми вырезами в два сантиметра глубиной была снята древесина, а на комле, как раз там, где главный ствол разделялся на четыре ветви, были еще вырезаны четыре человеческих лица. Немного в стороне валялись чьи-то кости, судя по размерам, — лося, а может быть и медведя. В это время по воздуху промелькнула какая-то большая тень. Я поднял голову и увидел крупную ночную птицу. Она бесшумно сделала крутой поворот, снизилась к земле и сразу пропала из глаз. Чжан-Бао поспешил к тому месту, где он только что видел эту птицу. — Ю! (есть), — сказал он. Я побежал к нему. Чжан-Бао стоял около другого сухого дерева, имеющего вид толстого пня с двумя наростами. Верхняя часть ствола его лежала на земле. Я тотчас узнал березу Эрмаиа. — Где? — спросил я, думая, что Чжан-Бао поймал птицу. — Здесь! — отвечал он, положив руку на пень. Я думал, что коренастый ствол был дуплистым и птица сидела внутри него, но так как я никакого отверстия в нем не обнаружил, то снова спросил: — Где? — Здесь! — опять ответил китаец и указал на болезненный нарост сбоку пня. — Ничего не понимаю, — сказал я своему приятелю. Он сделал нетерпеливый жест и объяснил мне, что птицу поглотило дерево. Он сам видел, как она мгновенно пропала, едва подлетела к нему вплотную. После этого я окончательно перестал понимать его и засмеялся. Однако Чжан-Бао настаивал на своем. Он говорил, что некоторые деревья с наплывами обладают способностью поглощать зверей и птиц, если только они сядут на них или просто как-нибудь случайно коснутся боком, лапой или крылом. Пропавших птиц и зверей всегда можно найти внутри в древесине. Мне показалось это тем более-забавным, что он, только что относившийся с таким недоверием к предрассудкам удэхейцев, теперь вдруг сам на том же самом месте верил в возможность поглощения ночной птицы сухой старой березой. В ответ на мой смех Чжан-Бао сказал многозначительно: — Цзунья, мин тэ ни канка (хорошо, завтра сам увидишь). Минут через двадцать мы снова взбирались на мыс Суфрен. По пути я стал расспрашивать Чжан-Бао о чудесном дереве. Он шел некоторое время молча, но затем стал говорить о том, что китайцы много знают таких вещей, которые не известны русским. В тоне его речи слышалась убежденность в своем превосходстве над спутником, которому волею судеб не дано этих знаний. Я старался дать понять ему, что прислушиваюсь к его поучениям. Игра на психологии удалась. Чжан-Бао сообщил мне, что такие деревья на земле встречаются крайне редко. Это может быть и живое и сухое дерево, безразлично. Есть опасные деревья, которые поглощают в себя всех животных и птиц. Иногда они вновь отпускают пернатых на волю, а чаще всего задерживают на всю жизнь. Есть и такие деревья, которые, как фотографический аппарат, отпечатывают под корой всех, кто к ним приближается. Человек никогда не подвергается опасности быть поглощенным, но образ его может быть запечатлен в древесине. По мнению китайца, то дерево, которое мы видели сегодня, принадлежит к кат опасных и называется «Сю-чо-ля». Тогда я спросил, что он думает относительно «шаманского» дерева. Чжан-Бао как-то особенно пронзительно плюнул. — Таза совсем дурак, — сказал он, и в голосе его послышалась презрительная ирония. Было поздно. Ночной сумрак уже овладел землей. Мы прибавили шагу. Лес начал редеть, тропа сделалась лучше. Наконец впереди показался свет. Это был наш бивак. После ужина мы опять заговорили о дереве, поглотившем ночную птицу. Вензи и Янгуй еще более укрепились в своем мнении, что всему причиной шаманское дерево и что все это не более, как проделки «злого духа». Я указал им, что с нами ничего худого не случилось. На это у Янгуя опять было по-своему веское возражение. Русские живут в городах и селениях и не бывают в тайге, а поэтому им и не приходится иметь дело с злыми духами, которые сторожат удэхейцев на каждом шагу. Опять ироническая улыбка мелькнула на губах Чжан-Бао. После ужина, все стали устраиваться на ночь, а я взял дневник и сел записывать свои дневные впечатления. Покончив с работой, я встал и по тропе взошел на самый мыс. Величественная картина представилась моим глазам. Поверхность океана была абсолютно спокойной. В зеркальной поверхности воды отражалось небо, усеянное миллионами звезд. Было такое впечатление, будто я нахожусь в центре мироздания, будто солнце удалилось на бесконечно далекое расстояние и затерялось среди бесчисленного множества звезд. Все земные радости и горе показались мне такими мизерными и ничтожными, как предрассудки моих спутников о чудесных деревьях тун около реки Адими. Когда я очнулся от своих грез, было уже поздно, потому что звезды значительно переместились на небе. В той стороне, где стояло сухое дерево, ухал филин-пугач. Возвратившись на бивак, я еще раз подбросил дров в огонь и, завернувшись в одеяло, лег около костра и тотчас все покончил глубоким сном. День чуть только начинал брезжить, когда я разбудил своих разоспавшихся спутников. Пока удэхейцы грели чай, я с Чжан-Бао приготовил все для наблюдений. Скопившиеся на востоке туманы как будто хотели заслонить собою солнце, но, убедившись в бесполезности неравной борьбы, стали быстро таять. Я выждал, когда лучезарное светило немного поднялось по небосклону, и начал инструментом брать абсолютные высоты его над горизонтом. Эта работа отняла времени не более часа, затем мы собрали свои вещи и пошли по старой дороге. Когда мы поравнялись с шаманским деревом, Чжан-Бао снял котомку и достал из нее топор. Он попросил меня подождать немного и направился туда, где вчера мы видели ночную птицу. При дневном свете оба удэхейца не так боялись «чорта», но все же не подходили к дереву вплотную и держались в стороне. Они сели на землю и принялись курить трубки, а я пошел посмотреть, что будет делать китаец. Чжан-Бао разыскал березовый пень и принялся рубить один из его наростов. Работал он хорошо, как столяр: топор в руках его мог заменить наструг. Когда он срубил выпуклую часть нароста, он стал его стесывать начисто. Время от времени, нагибаясь к пню, внимательно рассматривал место порубки, часто повторяя одно и то же восклицание: «Ай-яха…». Затем он обратился ко мне со словами: «Ни канка тэ иоу цзы» (т. е. посмотри, вот ночная птица). Я наклонился к пню и в разрезе древесины увидел такое расположение слоев ее, что при некоторой фантазии, действительно, можно было усмотреть рисунок, напоминающий филина или сову. Рядом с ним был другой, тоже изображавший птицу поменьше, потом похожий на жука и даже на лягушку. По словам китайца, все это были живые существа, поглощенные деревом для того, чтобы больше в живом виде никогда не появляться на земле. Я пожалел, что со мной не было фотографического аппарата, и хотел было зарисовать странные фигуры древесины, но у меня ничего не вышло. Чжан-Бао, полагая, что убедил меня, отошел от дерева с выражением удовлетворения на лице. Всю остальную дорогу мы шли молча и вскоре после полудня прибыли в фанзу Кивета. Ожидание грузов с реки Кузнецовой отняло много времени. Чтобы сократить его, я предпринимал экскурсии в окрестностях нашей штаб-квартиры. Во время этих прогулок я имел возможность наблюдать, как замерзает река. 20 октября появилась первая шуга. Сибиряки называют ее «салом». Это маленькие, тонкие, плывущие по воде кусочки льда. Они увеличивались в количестве и в размерах. 28-го числа шуга пошла особенно густо. С 4 до 10 ноября стояла холодная и ветреная погода. В это время на перекатах стал образовываться донный лед.Как объяснить его появление? Вероятно, в образовании его принимает участие холодный воздух, захватываемый пенящейся водою. Может быть, это была также шуга, застрявшая между камнями. Первоначально смерзшиеся ледяные кристаллики были рыхлые и без труда отделялись ото дна палкой, но потом они сделались тверже. В течение недели на перекатах они так возросли, что образовались настоящие ледяные пороги с водопадами. Мало-помалу донный лед стал распространяться от порогов вниз по течению на более глубокие места. Когда его накопилось много, он начал всплывать и поднимать со дна камни разной величины. Около половины ноября на Самарге начался ледостав. Пловучий лед в массе стал собираться на поворотах реки и образовал торосовые пробки. Лед ломало и грудами нагромождало на берег. Тогда вода пошла по сухим протокам и затопила все низменные острова. Такие протоки в зимнее время значительно облегчают путешествие, позволяя сокращать путь. К 20 ноября Самарга встала на протяжении 25 километров от устья, но выше она была еще свободна ото льда, если не считать заберегов, которые то узкими, то широкими карнизами окаймляли с обеих сторон. При ледоставе вода долго стояла высоко и затем покрылась ледяною корою. Потом уровень ее стал понижаться; тогда лед осел посредине реки, а у берегов выгнулся и местами обломился, образовав значительные пустоты. Мы как-то шли вдвоем с Чжан-Бао по берегу реки и о чем-то разговаривали. Вдруг он остановился и сказал: — Яза! (т. е. утки). — Где? — спросил я его удивленно. — Погоди, слушай, — сказал он. Через минуту-две я, действительно, услышал такие звуки, какие производят утки, когда ищут в воде добычу. — Вот диво! — сказал я вслух. — Утки в декабре, когда все лужи промерзли насквозь. Да где же они? — Здесь! — отвечал Чжан-Бао, указывая на лед. Мы принялись искать птиц. Чжан-Бао ложился на лед и по звукам старался определить их местонахождение. В одном месте была большая дыра во льду. Между нижней ее кромкой и уровнем воды в реке оказалось расстояние около метра. Я подошел к отверстию и увидел двух чирков, мирно проплывших мимо меня. Один из них все что-то искал в воде, а другой задержался рядом, встряхивал хвостиком и издавал звуки, похожие не то на писк, не то на кряканье. Это было любопытное явление. Значит, не все утки улетают осенью, значит, часть их остается зимовать. В пустотах подо льдом они защищены от холода и, по-видимому, находят себе достаточно пищи. Около фанзы Кивета была установлена наша походная метеорологическая будка с инструментами и довольно высокая мачта с длинным вымпелом, который позволял судить о направлении ветра, силе его и направлении движения облаков. Наблюдателем был Вихров. 4 декабря рано утром он вышел из фанзы с записной книжкой в руках, но тотчас вернулся и сообщил, что на небе появились какие-то яркие цвета. Я оделся и тоже поспешил на улицу. Был полный штиль. Термометр показывал -26 °C при барометрическом давлении 750 миллиметров. На небе было два слоя облаков. Нижние лежали большими редкими массами, верхние — тонкие перистые. Когда солнце поднялось над горизонтом градусов на десять, верхние облака приняли чрезвычайно красивую окраску. Края их, обращенные к солнцу, были точно вылиты из расплавленного металла. За ними располагались цвета: бирюзовый, золотисто-желтый, пурпуровый и фиолетовый. Одновременно нижние облака окрасились в оранжевый цвет и стали похожими на дым, освещенный заревом пожара. Явление было не длительным. Оно быстро исчезло, вслед за тем началось падение барометра. На небе появились тучи, и к вечеру пошел снег. Два дня я просидел за приведением в порядок своих записей. На третий день я окончил свою работу, закрыл тетрадь и вышел из дому, чтобы немного пройтись по реке до переката. Около метеорологической будки я увидел стрелка Глеголу. Он стоял нагнувшись и надевал ошейник на Хычу, самую крупную из наших собак; за спиной у него была заброшена винтовка. — Ты куда? — спросил я его. — Хочу на охоту сходить, — ответил он, стягивая ремень потуже. — Пойдем вместе, — сказал я ему и стал спускаться к реке. Глегола был один из тех людей, которым, как говорят, не везет на охоте. Целыми днями он бродил по лесу и всегда возвращался с пустыми руками. Товарищи подсмеивались над ним и в шутку называли «горе-охотником». — Ну, что, видел зверя? — обыкновенно спрашивали они его, когда он голодный и усталый озвращался ни с чем домой. — Плохо! — говорил Глегола. — Ничего не видел. — Уж где тебе добыть зайца, ты хоть тигра убей, и то ладно будет, — иронизировали стрелки. Но Глегола был человек тихий, терпеливый и не обижался на шутки своих товарищей. — Завтра опять пойду, — говорил он им в ответ, смазывая свою винтовку, на которую возлагал большие надежды. Итак, я пошел вперед, а через минуту догнал меня и Глегола. Собака у него была на поводке. Река быстро замерзала. За ночь местами забереги соединились и образовали естественные мосты. Чтобы не провалиться, мы взяли в руки тяжелые дубины и, щупая ими лед впереди себя, благополучно и без труда перебрались на другую сторону Самарги. Стояла холодная погода: земля основательно промерзла, а снегу еще не было. Пасмурное небо, хмурые посиневшие горы вдали, деревья, лишенные листвы, и буро-желтая засохшая трава — все вместе имело унылый вид и нагоняло тоску. Против фанзы Кивета левый берег реки равнинный. Горы здесь уходят далеко в сторону, по крайней мере километров на двадцать. За ними, по словам удэхейцев, будет бассейн небольшой речки Адими. Обширное низменное пространство, о котором здесь идет речь, покрыто редким смешанным лесом плохого качества. Перелески, если смотреть на них с высоты птичьего полета, наподобие ажурных кружев окружали заболоченные низины. Изредка кое-где попадались большие старые деревья: тополь, липа, осокорь и другие в возрасте от полутораста до двухсот лет. Как только мы отошли от берега, мы сразу попали в непролазную чащу: неровная почва, сухие протоки, полосы гальки, рытвины и ямы, заваленные колодником и заросшие буйными, теперь уже засохшими травами; кустарниковая ольха, перепутавшаяся с пригнутыми к земле ветвями черемушника; деревья с отмершими вершинами и мусор, нанесенный водой, — таков поемный лес в долине реки Самарги, куда мы направились с Глеголой на охоту. Дальше бурелома было как будто меньше, но кустарники и молодые деревья, искривленные, тощие и жалкие, как рахитики, росли в удивительном беспорядке и мешали друг другу. Мы шли с Глеголой и разговаривали. Собаку он держал на поводке. Она тащилась сзади и мешала итти: ремень то и дело задевал за сучки. Иногда Хыча обходила дерево справа, в то время как Глегола обходил его слева. Это принуждало его часто останавливаться и перетаскивать собаку на свою сторону или, наоборот, самому итти к собаке. — Пусти ты ее, — сказал я своему спутнику. — В таком лесу едва ли зверь будет. — В самом деле, — ответил Глегола и стал снимать поводок с Хычи. Затем он заткнул его за пояс и пошел со мной рядом. Собака, почувствовав свободу, весело встряхнулась и, перепрыгнув через колодину, скрылась в чаще. Пробравшись через заросли, мы подошли к краю большого оврага, заросшего внизу кустарниками, а по склонам — редким молодняком, состоящим из дуба и белой березы. Тут мы остановились и стали совещаться. Решено было пройти немного по краю оврага, а затем итти к дому, держа направление на приметную сопку, у подножья которой находилась фанза Кивета. Не успели мы пройти и сотни шагов, как вдруг из оврага выскочила дикая козуля. Она хотела было бежать вверх по оврагу, но в это время навстречу ей бросилась собака. Испуганная коза быстро повернула назад и при этом сделала громадный прыжок кверху. Перемахнув кусты, она в мгновение ока очутилась на другом краю оврага и здесь замерла в неподвижной позе. Глегола быстро прицелился и спустил курок, но выстрела не последовало. Поспешно он снова взвел курок и, приладившись, нажал на спуск, но опять у. него ничего не вышло. Увидев приближающуюся собаку, козуля побежала в чащу леса, сильно вскидывая задом. — Осечка, — сказал Глегола и открыл затвор, чтобы вынуть испорченный патрон, но оказалось, что ружье его вовсе не было заряжено. Надо было видеть его досаду. Единственный раз иметь возможность стрелять в стоячего зверя и лишиться такого ценного трофея. И ради чего? Вследствие простой забывчивости. Никогда он не забывал заряжать свое ружье перед выходом на охоту, а тут как на грех такая оплошность. Глегола был готов расплакаться. — Ничего, — сказал я ему. — Имей терпение, брат! И на твоей улице будет праздник. Ничего не делается сразу, ко всему надо приспособиться и присмотреться. Мои слова, видимо, успокоили его. Он зарядил ружье, и мы пошли дальше. За оврагом среди высокой травы довольно часто попадались лежки козуль. — Вот ты теперь знаешь, где надо искать зверя, — обратился я к Глеголе. — Когда подходишь к ним, всегда иди против ветра. При этом я объяснил ему, что всякий зверь не столько боится вида человека, сколько запаха, исходящего от него. Так мы шли и разговаривали. Наконец, я устал и сел отдохнуть на краю оврага. Вдруг, в кустах недалеко от нас послышался визг собаки. Мы бросились туда и там у подножья старой липы увидели следующую картину. Хыча лежала на спине, а над нею стояла большая рысь. Правая лапа ее была приподнята как бы для нанесения удара, а левой она придавила голову собаки к земле. Пригнутые назад уши, свирепые зеленовато-желтые глаза, крупные оскаленные зубы и яростное хрипение делали ее очень страшной. Глегола быстро прицелился и выстрелил. Рысь издала какой-то странный звук, похожий на фырканье, подпрыгнула кверху и свалилась на бок. Некоторое время она, зевая, судорожно вытягивала ноги и, наконец, замерла. Как только собака освободилась, она, поджав хвост, бросилась было бежать, но вскоре одумалась и начала лапами тереть свою морду и встряхивать головою. В это время я увидел там другую рысь, по размерам вдвое меньше первой. Это оказался молодой рысенок. Испуганный собакой, он взобрался на дерево, а мать, защищая его, отважно бросилась на Хычу. Мы оба растерялись от неожиданности. Тем временем рысенок быстро пробежал по ветке, спрыгнул на землю и исчез в кустах. Собака же, испуганная появлением нового зверя, сорвалась с места и бросилась наутек. Глегола было побежал за рысенком, но ничего не нашел и скоро возвратился. — Вот, видишь, — сказал я ему. — Теперь ты вернешься в фанзу Кивета с ценным трофеем. Забирай рысь и идем домой. Глегола взвалил рысь себе на плечи, и мы вместе направились прямо к реке. Когда мы шли редколесьем, мне раза два показалось, что кто-то рядом с нами быстро бежит по кустам. Мертвое животное было довольно тяжелым, и поэтому Глегола часто останавливался и отдыхал. Я предлагал ему вдвоем нести рысь на палке, но он отказался и попросил меня взять только его ружье. Пройдя таким образом еще километра два, мы сели отдохнуть. Глегола стал скручивать папиросу, а я принялся рассматривать убитого зверя и стал гладить рукой по его шерсти. В это время в поле моего зрения попал какой-то посторонний предмет. Я повернул голову и увидел рысенка. Он вышел из травы, внимательно смотрел на меня и, вероятно, недоумевал, почему его мать не может двигаться и позволяет себя трогать. Я не стрелял, но Глегола не мог утерпеть и потянулся за винтовкой. Резкие движения и шум испугали рысенка, и он снова исчез в кустах. На следующем привале мы снова увидели его. Рысенок был на дереве и обнаружил себя только тогда, когда мы подошли к нему вплотную… Так провожал рысенок нас до самой реки, то забегая вперед, то следуя за нами по пятам. Я надеялся поймать и, быть может, даже приручить рысенка. Наконец, лес кончился. Мы вышли на галечниковую отмель реки. Рысенка не было видно, но слышно было, как он мяукал в соседней траве. Вдруг из кустов выскочили сразу три собаки. Среди них была и Хыча, вероятно в качестве проводника. По тому, как они бежали, по их настороженным ушам и разгоревшимся глазам было видно, что они уже учуяли зверя. Я принялся кричать на собак, бросился за ними, но не мог их догнать, запутался в зарослях и упал. Когда я поднялся и добежал до места, где неистовствовали собаки, рысенок был уже мертв. Мне стало жаль погибших животных. Мать защищала детеныша, а детеныш следовал за мертвой матерью. Я хотел было поделиться своими мыслями с Глеголой, но он имел такой ликующий вид, что я воздержался. — Поймали и эту! — воскликнул он весело. — Ну, слава богу. Вот фарт![316] Завтра я опять пойду на охоту и возьму с собой всех трех собак. Минут десять мы просидели на берегу. У каждого были свои думы. — Пойдем, брат, — сказал я своему спутнику. Мы поднялись с земли. По небу ползли тяжелые черные тучи: в горах шел снег. От фанзы Кивета поднималась кверху беловатая струйка дыма. Там кто-то рубил дрова, и звук топора звонко доносился на эту сторону реки. Когда мы подошли к дому, стрелки обступили Глеголу. Он начал им рассказывать, как все случилось, а я пошел прямо к себе, разделся и сел за работу.Глава восьмая Тревога
На другой день стрелок Марунич объявил о своем намерении итти на охоту. Заявление это было встречено дружным смехом. Ему было поручено заведывание хозяйством, и эту должность он исполнял все время, пока мы плыли вдоль берега моря на лодках, и пока стояли в фанзе Кивета на реке Самарге. Весь день он был занят хлопотами по хозяйству: утром он кашеварил, в полдень варил обед, вечером готовил ужин, потом опять варил чай. В то время как другие могли ходить на охоту, Марунич был привязан к кухне. Но сегодня он объявил, что ему надоело сидеть без мяса и потому он забирает всех собак и идет на охоту. Мы сначала приняли это за шутку, но потом убедились, что он, действительно, решил уйти на целый день. Марунич уговорил остаться за себя Глеголу, а сам начал собираться: надел полушубок, валенки, большую косматую папаху и рукавицы. Затем он собрал всех ездовых собак на один длинный ремень и с ружьем в руках отправился в лес. Собаки бежали вразброд, путаясь между деревьями, и мешали ему итти. Сопровождаемый остротами и ироническими советами, он скоро скрылся в лесу. Ночью выпал мелкий снежок и тонким слоем покрыл землю. К утру небо немного очистилось, и кое-где образовались просветы. Солнечные лучи, прорвавшись сквозь облака, озарили мягкие очертания отдаленных гор, побелевших от снегов, и лес около фанзы Кивета. Придя домой, я сел за работу: надо было записи путевого дневника сличить с вычерченным маршрутом и произвести барометрическую нивелировку, кое-кто из стрелков остался снаружи. Прошло с полчаса. Вдруг в фанзу как сумасшедший вбежал Рожков. Схватив винтовку, висевшую на стене, он стремглав выбежал из дома. Следом за ним вбежал другой стрелок, потом третий, потом все начали хватать ружья и бежали куда-то, сталкиваясь в дверях и мешая друг другу. На мои вопросы, что случилось, они не отвечали, но по лицам их я увидел, что все были чем-то возбуждены и спешили, чтобы не упустить какой-то редкий случай. Поспешно следом за стрелками вышел и я из фанзы и увидел интересное зрелище. С той стороны, куда пошел на охоту Марунич, неслась испуганная козуля; ничего не видя перед собой, она вплотную набежала на стрелков около фанзы. Испугавшись еще более, козуля бросилась к реке с намерением перебраться на другую сторону, но на беду попала на гладкий лед, поскользнулась и упала. Она силилась встать, но копытца ее скользили, ноги разъезжались в разные стороны, и она падала то на один бок, то на другой. Все стрелки, захватив ружья, бежали к козуле, растянувшись в одну линию шагов на двести. Первым прибежал Рожков. Он, не целясь, выстрелил в козулю чуть ли не в упор и, как всегда бывает в таких случаях, промахнулся. Затем стрелял следующий, потом третий, и так все по очереди. Наконец, козуля поднялась и с большим трудом, скользя по зеркальной поверхности запорошенного снегом льда, направилась к другому берегу реки. Стрелки открыли по ней беглый огонь, но так как все торопились, то никто не попал. Козуля благополучно достигла противоположного берега, сделала прыжок и исчезла в кустах. Кто-то побежал следом за ней, а остальные пошли к фанзе. По жестам и интонациям голосов я понимал, что стрелки укоряли друг друга в промахах и больше всех ругали Рожкова, сделавшего первый выстрел. В это время в лесу показались собаки. Они бежали вразброд, связанные по две, по три и в одиночку. Настороженные уши, горящие глаза и порывистое дыхание их указывали на то, что они гнались по следам козули. Собаки пронеслись мимо нас с такой быстротой, что задержать их нам не удалось. Минут через десять пробежал и Марунич, держа в левой руке винтовку, а правой отчаянно жестикулируя. Вид у него был растерянный, папаха сдвинута на глаза, физиономия исцарапана, одежда изорвана. — Где? Где? — кричал он. — Кто? — спрашивали изумленные стрелки. — Да коза! — нетерпеливо отвечал он. — Она в вашу сторону побежала, — и, увидев собак на реке, он бросился за ними. — Постой, погоди, — кричал ему Рожков, — все уже кончено, коза давно ушла. Марунич остановился, испытующе посмотрел на реку, потом махнул рукой и воротился назад. Стрелки окружили его, начали осматривать со всех сторон и засыпать вопросами. — Где ты был? В чем дело? — спрашивали они. Марунич отдышался, поправил папаху и стал рассказывать, и чем больше он говорил, тем громче смеялись его товарищи. А случилось с Маруничем вот что. Собираясь на охоту, он не зарядил ружья, а обойму с патронами сунул за голенище валенка. Двенадцать ездовых собак, которых он взял с собою, все время сильно тянули за поводки. Опасаясь, как бы они не вырвались и не убежали, он, улучив удобную минутку, задержался у какого-то дерева и привязал их к своему поясу. Как на грех, в это время из соседнего распадка выскочила козуля. Вспомнив, что ружье его не заряжено, Марунич стал искать за голенищем патроны, но обойма спустилась так низко, что достать ее рукой он никак не мог. Тогда он сел, снял валенок и вытряхнул обойму. В этот момент собаки, почуяв козулю, бросились под уклон с горы. Марунич рассказывал, что собаки его тащили по земле, как чурбан на веревке. Он кричал, хватался за кусты, камни, за все, что попадалось под руку. Но скоро ему удалось заклиниться между двумя близко растущими деревьями, поводок, наконец-то, лопнул, и собаки уже одни погнались за зверем. Следы, оставленные Маруничем на земле, были еще свежи, и по ним он легко дошел до своего валенка. Тут же рядом лежала винтовка и обойма с патронами. Зарядив ружье, он побежал за собаками в надежде, что они догонят козулю. Людские голоса, стрельба из ружей и собачий лай привели его к фанзе Кивета. Когда Марунич узнал, что козуля ушла, он рассердился: — Сколько времени я с собаками гнал ее, а вы, столько народу, не могли в лежачую попасть, — недовольным тоном говорил он, — не стану я больше ходить для вас на охоту. После этого он принялся вынимать из рук занозы и смазывать иодом ссадины и ушибы, а их было так много, что после этой «операции» кожа его сделалась пестрой, как шкура пантеры. — Полно вам зубоскалить, — огрызнулся Марунич на стрелков, которые продолжали комментировать его приключение и покатывались со смеху, глядя на его разрисованную иодом физиономию. Марунич отправился на кухню и занялся своим делом, а Вихров, собрав всех свободных людей, пошел искать собак. Близился вечер. Усталое небо поблекло, посинел воздух; снег порозовел на вершинах гор, а на темных склонах принял нежно-фиолетовые оттенки. Тишина и сумрак спустились на землю. Совсем в сумерки возвратился Вихров с собаками. Одна из них подошла к Маруничу и начала лаять. — И ты туда же. Уйди, окаянная! — крикнул он сердитым голосом и пустил в нее головешкой.Глава девятая Филин-рыболов
Сидение в фанзе Кивета особенно было тягостно для стрелков и казаков. Они придумывали всякие способы, чтобы развлечься и чаще всего ходили на охоту. Наиболее удачливым был из них Ноздрин. Уходил он в одиночку на целый день и возвращался совеем в темноте. Однажды он поднялся задолго до рассвета. Сквозь сон я слышал, как он собирался и заряжал ружье. Потом я снова заснул и проснулся тогда, когда уже было совсем светло. Открыв глаза, я увидел Ноздрина. Он был недоволен тем, что рано встал, ходил понапрасну, проголодался и разорвал обувь, которую теперь надо было починять. За утренним чаем он рассказал, между прочим, что спугнул с протоки филина, который, по его словам, был в воде. Этот день прошел как-то скучно: все записи в дневниках были сделаны, съемки вычерчены, птицы и мелкие животные препарированы. Словом, все было в порядке, и надо было заняться сбором новых материалов. Весь день мы провели в фанзе и рано вечером завалились спать. Как-то вышло так, что я проснулся ночью и больше уже не мог заснуть. Проворочавшись с боку на бок до самого рассвета, я решил одеться и пойти на рекогносцировку в надежде поохотиться за крохалями и кстати посмотреть, как замерзает река. Когда я выходил из дому, чуть брезжилось. Неясный свет утра боролся с ночным сумраком, еще господствовавшим над землей. От дома шло несколько троп. Я наугад пошел одной из них. Она скоро разделилась на две, а потом на три отдельных следа. Я взял тот, который шел к реке, два других уходили в горы. Протока, сначала широкая, стала быстро суживаться. В одном месте две галечниковые отмели совсем близко подошли друг к другу; только узенькая полоска мелкой воды разделяла их между собой. На краю одной из них находился какой-то темный предмет. Мне показалось, что он шевельнулся. Я остановился, чтобы лучше его рассмотреть, но в это время темный предмет вдруг поднялся на воздух и полетел в лес. Я вспомнил, что вчера вечером Ноздрин говорил о том, что видел филина в воде. Что он мог тут делать? Я спустился вниз и прямо направился к гальке. Долголетние скитания по тайге и уроки туземцев приучили меня разбираться в следах. Вода в протоке была чистой, галька в нескольких местах запачкана экскрементами пернатого хищника, а на свежей пороше по льду — десятка два старых и новых следов больших птичьих лап. Значит, филин прилетал сюда часто. А так как я и Ноздрин видели его на рассвете, то надо полагать, что и впредь его можно будет застать здесь в это же время. Я решил заняться наблюдением и еще раз притти сюда, но пораньше. Так я и сделал. На следующий день я поднялся, когда было еще совсем темно, оделся и, стараясь не шуметь, вышел из фанзы, тихонько прикрыв за собою дверь. Еще и не начинало светать. Высоко на небе почти в самом зените стояла луна, обращенная последнею четвертью к востоку. Она была такая посеребренная и имела такой ликующий вид, словно улыбалась солнцу, которое ей было видно с небесной высоты и которое для обитателей земли еще скрывалось за горизонтом. В стороне от месяца над сопкой, очертания которой в ночной тьме чуть были заметны, ярко блистал Юпитер. Со стороны северо-западной тянуло холодным, резким ветром. Он сначала резал мне лицо, но потом оно обветрилось: неприятное ощущение быстро исчезло, и на смену ему явилось бодрящее чувство. Я пошел по старому следу сначала быстрым шагом, а потом все тише и тише. Мне не хотелось спугивать филина. Но все мои предосторожности оказались излишними. На протоке никого не было. Тогда я спустился на гальку и спрятался за колодник, нанесенный сюда большой водой. Потому ли, что я осмотрелся и глаза мои приспособились к темноте, или потому, что, действительно, начало светать, я мог разглядеть все, что делается около воды: я ясно различал гальку, следы филина на снегу и даже прутик, вмерзший в лед, на другой стороне протоки. Я уже подумал, что напрасно пришел сюда, но для очистки совести решил покараулить еще минут двадцать. И вдруг увидел того, ради которого предпринял утреннюю экскурсию. Большой филин появился неожиданно и совсем не с той стороны, откуда я его ждал. Он спустился на край одной из отмелей и осмотрелся, затем нагнулся вперед и, расправив каждое крыло по очереди, сложил их по сторонам своего тела. Потом он подпрыгнул, вошел в протоку и встал против течения. Тогда он опустил оба крыла в воду и подогнул под себя хвост, образовав, таким образом, запруду во всю ширину проточки между двумя отмелями. В этой позе филин оставался некоторое время неподвижно и внимательно смотрел в воду. Вдруг он быстро клюнул и вытащил небольшую рыбку, которую он проглотил, потом клюнул второй раз, третий и так далее. Вероятно, он поймал около десятка мелкой рыбешки. Удовлетворившись добычей, филин вышел из воды и, сильно встряхнувшись, стал клювом перебирать перья в хвосте. Он не замечал меня и держал себя спокойно. Ночной пернатый хищник уже намеревался было снова залезть в воду, но в это время из лесу неожиданно выскочил хорек. Как сумасшедший, сломя голову он бросился через галечниковую отмель и перепрыгнул через узкую полосу воды. Испуганный филин поднялся на воздух и полетел вдоль протоки. Я видел, как он на лету встряхивался то одним, то другим крылом и вслед за тем скрылся за поворотом. Уже светало. На востоке горизонт окрасился в багрянец, от него кверху поднялось пурпурное сияние, от которого розовели снега на высоких горах, а в долинах дремучий лес еще грезил предрассветным сном. Месяц еще более побледнел, тьма быстро уходила на запад… Теперь больше здесь делать было нечего, и я пошел домой. Когда я подходил к фанзе Кивета, из лесу вышли два удэхейца Вензи и Дилюнга, и мы вместе вошли в дом. Я стал рассказывать своим спутникам о том, что видел, и думал, что сообщаю им что-то новое, оригинальное, но удэхейцы сказали мне, что филин всегда таким образом ловит рыбу. Иногда он так долго сидит в воде, что его хвост и крылья плотно вмерзают в лед, тогда филин погибает. Удэхейцы, высмотрев место, куда он прилетает для рыбной ловли, вмораживают в лед столбик с перекладинкой, на которой укрепляется капкан или просто волосяная петля. Ничего не подозревающий филин, прилетев на место охоты, предпочитает сесть на перекладинку, чем на гладкий лед, и попадает в ловушку. Все амурские туземцы считают мясо филина очень вкусным и с увлечением за ним охотятся. Последние дни мы как-то плохо питались. Утром пустая каша, в полдень чай с сухарем, вечером опять каша. Стрелки стосковались по мясу. Поэтому, заметив на снегу кое-какие следы, мы нарочно пораньше все встали, чтобы пойти на охоту. Когда необходимые бивачные работы были закончены, пять человек пошли искать зверя. Рожков и Глегола отправились на другой берег реки, Чжан-Бао и Ноздрин — вверх по Самарге, а я прямо с бивака стал подыматься на сопку по маленькому ключику, заваленному колодником.Глава десятая Охота
Был один из тех хороших зимних дней, когда в атмосфере надолго устанавливается равновесие. Солнце светило ярко. Синее небо, чистый воздух и земля, покрытая белой пеленой, имели праздничный вид. Лес, молчаливый, засыпанный снегом, словно замер в неподвижной позе и всматривался в даль, где виднелись мягкие очертания каких-то гор, а за ними — белые кучевые облака причудливой формы. Старые мохнатые ели, под тяжестью снега опустив книзу темнозеленые ветви свои, находились в том напряжении, когда бывает достаточно малейшего ветерка, чтобы вывести их из состояния покоя. Иногда случалось, что с верхнего сучка срывался небольшой ком снега. При падении своем снег задевал за другие такие же сучки, и тогда все дерево вдруг оживало. Большие размашистые ветви, сбросив с себя белые капюшоны, сразу распрямлялись и начинали качаться, осыпая все дерево сверху донизу снежной пылью, играющей на солнце тысячами алмазных огней. В такие тихие дни воздух делается особенно звукопроницаемым. Тогда бывают слышны звонкие щелканья озябших деревьев, бег какого-то зверька по колоднику, тихий шум падающего на землю снега и шелест зябликов, лазающих по коре сухостоя. Взобравшись на гребень большого отрога, идущего к реке от главного массива, я остановился передохнуть и в это время услышал внизу голоса. Подойдя к краю обрыва. я увидел Ноздрина и Чжан-Бао, шедших друг за другом по льду реки. Отрог, на котором я стоял, выходил на реку нависшей скалой, имевшей со стороны вид корабельного носа высотою более чем в 100 метров. Взбираясь по отрогу, я дошел до небольшой седловины и решил здесь же еще раз немного отдохнуть, а затем спуститься к реке по другому распадку. Вдруг из лесу выскочила кабарга. Увидев меня, она шарахнулась в сторону и тотчас скрылась в молодом ельнике. Я хотел было итти по ее следам, но в это время внимание мое было привлечено другим животным. По следам кабарги бежала крупная росомаха. Появление ее было так неожиданно, что я не успел даже снять ружье с плеча. Я знал, что кабарга сделает круг по снегу и вернется на свой след и что по этому же кругу за ней погонится и росомаха. Однако мои надежды не оправдались. Прождав напрасно минут двадцать, я решил пойти по их следам. По ним я увидел, что кабарга один раз как будто споткнулась, а росомаха бежала, хотя и неуклюже, но ровными прыжками. Исход этого бегства и погони был очевиден. Скоро, очень скоро кабарга должна будет сдаться. Следы вывели меня опять на седловину, а затем направились по отрогу к реке. Тут я наткнулся на совершенно свежий след молодого лося. Тогда я предоставил кабаргу в распоряжение росомахи, а сам отправился за сохатым. Он, видимо, почуял меня и пошел рысью под гору. Скоро след привел меня к реке. Лось спустился на гальку, покрытую снегом, оттуда перешел на остров, а с острова — на другой берег. Я был уже на середине реки, когда услышал окрики. Оглянувшись, я увидел Ноздрина и Чжан-Бао, стоявших у подножья нависшей над рекой скалы и делавших мне какие-то знаки. Я понял, что они зовут меня к себе. Догнать испуганного лося нечего было и думать, и потому, забросив ружье на плечо, я скорым шагом пошел к своим товарищам. Еще издали я заметил, что они ходили недаром. У Чжан-Бао и Ноздрина был веселый вид; у ног их лежали кабарга и росомаха. Странным показалось мне, что я не слышал их выстрелов, и я спросил об этом Ноздрина. — Наша стреляй нету, — отвечал за него Чжан-Бао, посмеиваясь в усы. — Как так? — спросил я, ничего не понимая. — Они сами сюда пришли, — сказал Ноздрин, закуривая папиросу. Наконец, постепенно из ответов я понял, что случилось. Оказалось, что кабарга, спасаясь от росомахи, случайно попала на утес, нависший над рекой, Чжан-Бао поспешно снял ружье, чтобы стрелять, но вдруг кабарга заметалась. Она поняла опасность, которой подвергалась, и хотела было бежать назад, но путь отступления ей был уже отрезан росомахой. Тогда она стала жаться к краю обрыва, высматривая, куда бы ей спрыгнуть. В это мгновение росомаха бросилась на нее. Кабарга рванулась вперед, и оба животных, потеряв равновесие, полетели в пропасть. Кабарга разбилась насмерть, росомаха еще выказывала признаки жизни. Один раз она хотела было подняться на ноги, но тут же упала на лед. В это время к ней подбежал Ноздрин и ударом палки по голове добил ее окончательно. Убившихся животных никак нельзя было назвать «трофеями». Оба они достались нам случайно. Все трое мы были свидетелями лесной драмы. Я в лесу видел, как она началась, а Ноздрин и Чжан-Бао — как она кончилась. Забрав мертвых животных, мы пошли домой. Западный край неба уже нежился в закатном сиянии, над снежными полями кое-где розовел туман, и теневые склоны гор покрылись мягкими фиолетовыми тонами. Через полчаса мы были на биваке, куда уже собрались все охотники. Рожков принес дикую козулю. Теперь мы были обеспечены мясом, по крайней мере, на трое или четверо суток. Кабарга в тот же день пошла на ужин, а с росомахи сняли шкуру для чучела. Дней через десять я решил предпринять еще одну экскурсию по речке Токто, впадающей в Самаргу с левой стороны, в 24 километрах от устья. Я намеревался выйти на реку Укумига и от нее через второй перевал выйти на реку Адими, впадающую в море около мыса Суфрен. На этот раз со мной пошли Ноздрин, удэхеец Дилюнга и Чжан-Бао. Наше походное и бивачное снаряжение состояло из ружей, топора, двух полотнищ палаток и продовольствия по расчету на пять суток. Первую половину пути мы выполнили успешно и к концу второго дня достигли истоков реки Токто, где и решили заночевать в лесу на краю болота, покрытого большими кочками. Каждая из них была почти в метр величины и имела вид гриба, украшенного сверху длинной осокой. Когда палатка была поставлена, Чжан-Бао и Ноздрин пошли за ельником, а я и Дилюнга — за травой. Подойдя к одной из кочек, я собрал в горсть всю растущую под ней траву, поднял кверху и сказал удэхейцу: — Посмотри, с одной кочки можно срезать травы на постель. — Манга! Неу октонгай дэлини, — закричал Дилюнга (т. е. нельзя трогать болотную голову). Он убеждал меня уйти на другое место, где нет кочек. Из слов Дилюнга я понял, что по обычаю удэхейцев болотные кочки табуированы. Их нельзя дергать и в особенности нельзя растущую на них траву заплетать в косу. С человеком, позволившим себе такие шутки, непременно случится какая-нибудь беда. Не желая нарушать покоя своего проводника, я направился к опушке леса, где среди тальников росло много вейников. Через четверть часа мы вернулись с ним на бивак с большими охапками сухой травы. В это время пришел Ноздрин и сообщил, что он вместе с Чжан-Бао видел лису, которая перебежала им дорогу. Стрелок бросил в нее топором. Она остановилась на мгновение и оскалила зубы, а потом повернула назад и скрылась в траве. Когда все бивачные работы были закончены, мы уселись около огня и стали снимать обувь. Разговор опять коснулся лисы. Оказывается, что в китайских поверьях животному этому отводится большое место. Лисы, больше чем другие звери, стараются войти в общение с человеком и тем ослабить свое животное начало. Это им удается, и они часто появляются в виде оборотней. Лисы хитры и злопамятны. Человеку, обидевшему их, они стараются сделать какую-нибудь неприятность. Они делают так, что человек блуждает около жилища и никак не может попасть домой, во время ненастья залезет в какую-нибудь яму и вымажется нечистотами и т. п. По мнению Чжан-Бао, сегодняшняя встреча с лисой не предвещала ничего доброго. Недолго длилась наша беседа. За день мы сильно устали и поэтому рано легли спать.Глава одиннадцатая Снежная буря
На другой день первое, что мне бросилось в глаза, это серое небо, покрытое слоистыми тучами. Отдаленные горы тонули в туманной мгле. Там шел снег. Опасаясь пурги, мы решили итти домой. Наскоро напившись чаю с сухарями, мы сняли палатки и пошли в направлении на юго-восток. Сперва мы попали в осыпи, где я больно ушиб ногу, потом залезли в ветроломную гарь, причем Чжан-Бао разорвал свои штаны, затем мы вышли на зверовую тропу. — Вот дорога, — сказал я своим спутникам. — Теперь мы пойдем хорошо. — Маманды! Канка ба (т. е. погоди, еще увидим), — заметил китаец многозначительно. Покурив немного, мои спутники пошли дальше в таком порядке: впереди шел Ноздрин, за ним Дилюнга. потом Чжан-Бао. Я замыкал шествие. Не успели мы сделать и полсотни шагов, как вдруг Дилюнга схватил стрелка за пояс и сам быстро вышел вперед, все время к чему-то настороженно присматриваясь. — Что случилось? — спросил я его. — Си исай (т. е. сам посмотри), — ответил он, указывая на стрелу, воткнутую в землю. Это был какой-то знак, но что он означал, мне было неизвестно. Дилюнга обошел стрелу и осторожно двинулся вперед, глядя себе под ноги. Шагов через десять он опять остановился перед заструганной палочкой, лежащей поперек тропы. Это был знак, что отсюда совсем близко насторожен самострел. Действительно, в трех метрах за палочкой виднелась тонкая нить, протянутая через зверовую тропу. — Би (вот), — сказал удэхеец, указывая на лук толщиною в человеческую руку с большой стрелой на крупного зверя. Я понял, какой опасности подвергался Ноздрин. Не обратив внимания на условные знаки, он задел бы нить и был бы убит наповал. От самострела дальше мы пошли целиною. После полудня погода совсем испортилась. Сумрачное небо словно снизилось к земле. Белесоватая мгла надвинулась на нас, и пошел снег. На вопрос, далеко ли до фанзы Кивета, наш проводник отвечал уклончиво и, по-видимому, сам не знал, где мы теперь находимся, но все же, по его соображению, к сумеркам мы должны были выйти на реку Самаргу. Так прошли мы по компасу еще два часа. Казалось, гари не будет конца. То встречались участки, совершенно оголенные от леса, то заросшие молодой березой. Местность была как-то странно пересеченная, мелкие распадки чередовались с подъемами на увалы, с крутыми и пологими склонами. Усилившийся ветер, шум в горах, снег и короткие вихри — все говорило за то, что собирается сильная пурга. Мы прошли уже километров пятнадцать, по моим расчетам, и давно должны были бы выйти на реку Самаргу. Возможно, что мы шли и параллельно ей, но теперь за снегом ничего не было видно. Между тем ветер с юго-востока перешел на восток, а теперь дул с северо-востока. Я ориентировался по закону Бэйо-Балло и понял, что центр циклона шел прямо на нас, а мы ему навстречу. Ветер, дувший теперь с острова Сахалина, то ослабевал на мгновенье, то вдруг, словно зверь, сорвавшийся с цепи, бросался на людей. Он поднимал тучи снега с земли, и тогда казалось, будто в лесу пожар. Мгновенно деревья пропадали из глаз. Порыв ветра уходил, дымовая завеса исчезала и большие древесные стволы, запорошенные снегом, опять появились в непосредственной близости. Наконец, стало смеркаться. Я заметил, что мои спутники начали уставать. В это время мы вступили в густой хвойный лес. Все словно по команде бросили котомки. Чжан-Бао достал смолье, Дилюнга принес бересту, я из сумочки вынул кусочек целлулоида, а Ноздрин собрал большую охапку хвороста. Через минуту вспыхнул огонек, и завилась струйка дыма; ветер отнес ее в сторону. Через несколько минут костер разгорелся как следует. Потом мы поставили две односкатные палатки лицом друг к другу и принялись таскать дрова. Чем больше смеркалось, тем сильнее неистовствовала пурга. Ночь провели без сна, дремали, зябли и с нетерпением ждали утра. Наконец, появились первые признаки рассвета. Небо стало очищаться, но зато ветер еще более усилился. Он зашел с севера и, поднимая снег с земли, его заметал. Собрав котомки, мы снова пошли вперед и не успели сделать и сотни шагов, как сразу вышли на реку Самаргу против самой фанзы Кивета. Это всех одновременно обрадовало и рассердило. В такую погоду ночевать в лесу, рядом с домом! Неудачу свою я приписывал непогоде, Дилюнга — болотным кочкам, а Чжан-Бао — лисе. Китаец и удэхеец считали себя правыми, а мои доводы ошибочными. Через полчаса мы сидели дома, пили чай и рассказывали давно ожидавшим товарищам свои приключения. Около полудня с северной стороны надвинулась черная туча с разлохмаченными краями, и ветер сделался чрезвычайно сильным. Он сломал мачту нашей метеорологической станции до самого основания. К сумеркам стали опасаться за крышу дома и на всякий случай привязали ее к соседним деревьям. Буря свирепствовала всю ночь. Дня через два после этой экскурсии прибыли, наконец, долгожданные грузы с реки Кузнецовой. К этому времени мой санный обоз был готов и собаки собраны.Глава двенадцатая По горным речкам
В организации зимнего путешествия самый важный вопрос составляет собачий корм. Он зависит от количества юколы, заготовленной удэхейцами, что в свою очередь зависит от хода рыбы в этом году. Недолов рыбы заставляет удэхейцев убивать часть своих собак и отказываться от дальнейших выездов на соболевание. 1909 год был средний по ходу рыбы, и это дало мне возможность собрать достаточное количество кормовой юколы. Надо иметь в виду, что всякая собака съедает больше, чем человек, и потому самый громадный груз в наших нартах составлял собачий корм. Поэтому в далекое путешествие мы, к сожалению, не могли взять много собак. Каждую нарту тащит один человек, и в помощь ему впрягается три-четыре собаки. Обоз нашей экспедиции состоял из семи нарт и двадцати восьми собак, приобретенных у самаргинских удэхейцев. 29 декабря мы распрощались с фанзой Кивета и тронулись в далекий путь. На старых картах сорокаверстного масштаба река Самарга названа Беглянкой и показана маленькой горной речкой. На самом деле она имеет около 200 километров в длину и охватывает бассейны рек Нельмы и Ботчи. Самарга течет в верховьях по продольной долине, в меридиональном направлении, в среднем течении она режет горные складки вкрест их простирания и поворачивает сперва на юго-восток, а потом на восток, каковое направление и сохраняет до впадения в море. Во время последней бури ветром намело большие сугробы, а в других местах, наоборот, совершенно очистило реку от снега. Чистый и прозрачный лед был от 40 до 60 сантиметров толщины. Во многих местах в нем находились пустоты беловатого цвета, расположенные друг над другом. Это были пузырьки воздуха, поднимавшиеся со дна и примерзшие ко льду. Верхние пузырьки были маленькие, вторые побольше, средние самые большие, потом они опять уменьшались, и самыми маленькими были последние. Во многих местах лед был смешан с галькой и имел вид конгломерата, в котором роль цемента играла замерзшая вода. Размеры камней во льду были различны и в некоторых случаях (исключительно в чистом льду) величиной чуть ли не в конскую голову. Под ними еще полтора метра глубины, где спокойно текла вода. Очевидно, эти валуны были подняты всплывшим льдом с перекатов и плыли вместе с ними до тех пор, пока река совсем не стала. В первый день мы дошли до местности Путугу, а в следующий — до устья реки Буй (что значит зверь). Отсюда до знакомой нам сопки Дэлахчи Самарга течет в направлении с северо-запада на юго-восток. С правой стороны вплотную к реке подходят горы Чжангда Гуляни, состоящие из зеленокаменного порфирита с большими шлирами красно-бурого цвета, которые входят в толщу основной, породы то горизонтальными клиньями, то вертикальными куполообразными массами. Как раз напротив, с левой стороны реки, располагается обширное низменное пространство, поросшее поемным, хвойным и лиственным лесом и известное под названием Чжангда Мукудуони. Оно прорезается притоком Уйга и является местом,весьма удобным для заселения. На второй день нового года наш маленький отряд достиг первого большого притока Самарги — реки Кукчи. По этой реке через перевал Де лежит путь на реку Сурпак (Сукпай), приток Хора. Местность около Кукчи носит название Мукда. Там я сделал дневку и произвел астрономические наблюдения. Река Самарга от устья реки Кукчи до реки Буй течет почти в меридиональном направлении. Если отсюда итти вниз по течению, то с левой стороны будут слагающиеся из метаморфизованных песчаников возвышенности Уаля Селини, протока Ундека и местности Улени и Си, затем две речки Окчжа и Чжадо. Самарга_ проходит в «щеках» между гор Кабахта, склоны которых состоят из высоких террас, покрытых осыпями. При более близком знакомстве это оказались большие обломки базальтовой лавы. Снаружи метаморфизованная порода принимает буро-красный оттенок. Края обломков под влиянием тех же атмосферных явлений несколько округлены. Камни слабо держатся на своих местах и легко обваливаются в долину. Ниже горы Кабахта Самарга принимает в себя приток Чжору с перевалом на реку Нельму, ниже будет местность Саге Мукудуони и два ключика Яй и Омуге. Около устья последней есть выступающая в долину скала с тем же названием. Возле рек Кукчи и Самарги находится высокая кольцеобразной формы гора Кямо. Она очень похожа на древний разрушенный вулкан. Ниже сопки Кямо с правой стороны Самарги находится местность Лухуну, и после щек в горах Кабахта до речки Курими и ключика Бугу следует обратить внимание на скалы, состоящие из кремнистого сланца. Здесь сохранилась надпись «1885 Д. И.», оставленная геологом Д. Л. Ивановым. Я счел своим долгом подновить ее, насколько это было возможно. После реки Бугу в Самаргу впадают еще два небольших ключика: Умугды и Ульга, затем следует местность Пукдотани около речки Чжаами, впадающей в реку Буй, о которой уже говорилось выше. Географу следует посетить реку Самаргу зимою и посмотреть, как она замерзает. Там он увидит весьма интересные явления. В местности Кабахтэана русло проходит у левого берега и так подмывает его, что образуется нечто вроде нависшего карниза. Здесь вода волнуется, всплескивается на лед и тотчас замерзает. По-видимому, русло реки сжимается с боков и повышается; повышаются и ледяные карнизы по сторонам его. В конце концов получается нечто вроде коридора, по которому с большой стремительностью идет вода. Уровень ее находится на высоте глаза человека. Причиной этому является, может быть, опять-таки донный лед. Мы полюбовались красивым зрелищем и пошли дальше. Если мы проведем условную линию от устья реки Холонку (мыс Сосунова) через среднее течение Самарги, около Кукчи через верхнее течение Анюя и ниже Хунгари, то получим идеальную границу двух флор: маньчжурской и охотской. Одна из них входит в другую клиньями, причем проводниками охотской флоры будут горные хребты, а проводниками маньчжурской — долины. Этим и объясняется наличие хвойных лесов (лиственница, ель, пихта) в нижней части Самарги и широколиственных маньчжурских (пробковое дерево, орех, виноград, даурская береза и актинидия) — около реки Кукчи. В связи с таким распределением растительности находится и распределение животных. Когда стало известным, что около Кукчи встречаются все вышеперечисленные представители маньчжурской флоры, можно было вперед сказать, что там должны обитать тигры, кабаны, изюбры, что и подтвердилось в действительности. Фауна нижнего течения Самарги характеризуется главным образом медведем, лосем, кабаргой, лисой, соболем и росомахой. В день нашего прибытия на реку Кукчи удэхейцы-охотники поблизости от нашего бивака нашли свежие следы большого тигра. Опасаясь за своих собак, я велел их забрать в палатку и всю ночь поддерживать большой огонь. Несмотря на это, перед рассветом, когда костры потухли совсем, собаки всполошились. Они ворчали, скалили зубы и жались к людям. С восходом солнца выяснилось, что другой тигр поменьше, судя по оставленным следам, близко подходил к биваку, но, предупрежденный собачьим лаем и голосами людей, поспешил ретироваться. Выше Кукчи километров на двенадцать Самарга принимает в себя второй большой приток Исими, по которому можно выйти на реку Ботчи. Между этой рекой и маленьким ключиком Джюкда находится сопка Сингачжалегени, а затем еще ключик Уаки. Правый край долины Исими при соединении ее с рекой Самаргой оканчивается сопкой Кохтоа. В 3 километрах от нее мы нашли самое большое удэхейское стойбище Ягуятаули. Еще ниже, но немного выше реки Кукчи. — другое селение Пяфу. Обитатели того и другого жили в юртах из корья; эти удэхейцы сохранили в наибольшей чистоте свой физический тип и все обычаи и нравы лесных людей. С правой стороны Самарги между этими стойбищами мы видим две горы — Юку и Чуганьга, состоящие из порфира, потом ключик Сеели и еще две горы Лендоо и Пяфу, в обнажениях которых виден песчаниковый сланец. В этот день дальше мы не пошли. Вечером я записывал в свой дневник много интересного. От удэхейцев я узнал, что выше есть еще два стойбища, Курнау и Элацзаво, а затем начинается пустынная область. Один из удэхейцев, Ваника Камедичи, ножом на куске бересты начертил мне реку Самаргу со всеми притоками. Когда я впоследствии сличил ее со своими съемками, то был поражен, до какой степени она была верно составлена и как правильно выдержан всюду один и тот же масштаб. В здешних местах главным ориентировочным пунктом будет гора Миле, с которой видны реки Копи и Нахтоху. От Миле река Самарга течет в направлении от северо-северо-запада к юго-юго-востоку. Километрах в пятнадцати от нее находится другая высокая гора Пио. В обнажениях ее на реке выступает андезит. Между этими двумя сопками долина Самарги значительно расширяется и носит название Курнау. Правый край долины образует возвышенности Гула и Цзаа, слагающиеся из хлоритизованного порфирита и известкового песчаника. Ниже долина опять расширяется и образует обширное пространство, покрытое лесом, состоящим из широколиственных пород, и известное под названием Подоляго, Сантола и Актэвуани. Там, где Самарга разделяется на две речки, с запада впадает еще небольшая речка Цзовуани, вследствие чего и местность стала называться Элацзаво, что значит Трехречье. Около устья ее Самарга шириною 100 метров. От моря до Элацзаво удэхейцы поднимаются на лодках десять суток, а обратно по воде спускаются в два с половиной дня. Из этого читатель ясно может представить себе, какова быстрота течения реки Самарги. В среднем течении ее встречаются открытые полыньи, а в лесу, в местах, защищенных от ветра, — незамерзающие протоки. В морозные дни от них подымаются испарения. Около таких проталин на чистом льду можно видеть изящные розетки инея, напоминающие узоры на заиндевелых окнах зимою. Если стереть иней рукой, то оказывается, что в этом месте изо льда торчит травинка или тоненький прутик. Служат ли они объектами, около которых конденсируется пар, или они сами служат проводниками его из воды на поверхность? Вопрос этот может быть выяснен только путем специальных исследований. Чем ближе мы подходили к Сихотэ-Алиню, тем больше было снегу. Собаки не видели перед собой дороги и отказывались итти. Они останавливались и оглядывались назад. Чжан-Бао и один из удэхейцев пошли вперед на лыжах протаптывать дорогу собакам, так как за ночь лыжница заносилась снегом. Десятого января экспедиция наша достигла небольшой речки. За последние дни стрелки и. казаки очень утомились, и потому я решил сделать дневку. По мере того, как мы удалялись от моря, температура воздуха падала все ниже и ниже. Утром она снижалась до -35°, днем термометр показывал -26°, а к вечеру опять доходил до -32 °C. Воспользовавшись дневкой, я на другой день решил отправиться на экскурсию. Сопровождать меня вызвался Чжан-Бао. Мы хотели встать пораньше, но оба проспали. Часов в девять утра, после утреннего завтрака, мы взяли ружья и направились на соседнюю сопку. Подъем на нее не был затруднителен, и минут через сорок пять мы были на ее вершине. Отсюда можно было хорошо проследить реку Самаргу от места нашего бивака до горы Миле, о которой упоминалось выше. На этом участке она течет от западо-северо-запада к востоко-юго-востоку между базальтовыми возвышенностями, которые, быть может, находятся в связи с кольцеобразной сопкой Кямо. От безыменного ключа вниз по течению географические названия в долине Самарги идут в следующем порядке. По левому берегу от Дыровитого утеса (Када Сангани) ряд невысоких сопок, оканчивающихся утесом Хонтоаса, за которым расстилается обширное низменное пространство с речкой Пакту; потом горы опять подходят к речке и на протяжении пяти километров образуют отвесные обрывы. За ними до самой горы Миле — другая большая низина, покрытая горелым лесом. Правый берег более гористый. Сначала идет ряд сопок, разобщенных короткими развилистыми долинами, поросшими хвойно-смешанным лесом. Ниже реки Пакту начинается равнина, прорезанная лавовым потоком. Западная часть ее носит название Тиляни, а восточная — Онго. Затем следует река Фухи, а ниже ее — ключик Тюхе и утес Дукдумогуени и, наконец, местность Ялахчи. Как раз против утеса Полялиги находятся обрывы горы Миле. Полюбовавшись видом долины реки Самарги, мы спустились в долину реки Пакту и пошли вверх по ней. Я стал присматриваться к следам, которых здесь было довольно много. Вот характерный след зайца. Он двигался мелкими прыжками, глодал кору тальника, затем чего-то испугался и проворно убежал в кусты. Тут же неподалеку виднелись следы глухаря. Сначала он шел размеренным шагом, потом остановился (оба следа стали рядом) и поднялся на воздух. При первых взмахах крыльев он испещрил снег веерообразными полосами. Немного дальше изюбр перешел через реку и направился к горам. По пути он тоже глодал кору деревьев и обкусывал кончики мелких веток. Потом попался след соболя, пробиравшегося с колодника на колодник. Так прошли мы километра четыре, но, несмотря на обилие следов, самих зверей мы не встретили. Я хотел уже было повернуть назад, как вдруг Чжан-Бао остановился и сказал: — Хай-ся-цзы (т. е. медведь). Я взглянул в указанном направлении и, действительно, увидел старый, уже занастившиися след медведя средней величины. Очевидно, его кто-то побеспокоил в берлоге, в которую он залез во второй половине октября. Такие медведи-шатуны всегда очень злы, и встреча с ними считается опасной. — Его далеко ходи нету, — сказал Чжан-Бао. — Наша скоро его могу догоняй. Он был прав: зимой медведь не будет долго ходить по снегу и постарается забиться под первый попавшийся колодник. Мы пошли дальше. Следы шли вдоль сопки зигзагами. Медведь подходил к большим деревьям, заглядывал под опрокинутые корневища, копался в осыпях и разбрасывал мерзлый валежник на земле. В одном месте наводнением нанесло много мелких веток, сверху их занесло опавшей листвой и засыпало снегом. Медведь залез под этот мусор, но что-то ему не понравилось. Он пролежал, видимо, только несколько часов и пошел снова к реке. — Пойдем дальше, — сказал я китайцу. Чжан-Бао осмотрел свое ружье и стал продираться сквозь чащу, стараясь как можно меньше шуметь. Минут через десять он остановился и, не говоря ни слова, протянул вперед руку. Интересное зрелище предстало перед нашими глазами. Большой старый кедр лежал на Земле. При падении он разломился на несколько частей. На том месте, где он рос, стоял большой пень, полый внутри и на одну треть открытый с нашей стороны. В середине его сидел медведь. Он разбросал вокруг весь снег и лапами сгреб целый ворох мерзлого мха, которым и обложил себя спереди и с боков до пояса. Большие лепешки мха случайно или преднамеренно лежали у него на плечах и на голове. Сверху мох был украшен еще капюшоном из снега. Зверь сидел неподвижно и, по-видимому, спал. Можно было подумать, что он мертв, если бы не пар, выходивший из ноздрей. Нам предстояло или тихонько ретироваться, или стрелять. Чжан-Бао первый поднял ружье. Два выстрела раздались почти одновременно. Снежный капюшон свалился с головы медведя, он вздрогнул, рванулся было вперед и тут же ткнулся мордой в снег. Наши выстрелы оказались смертельными. Чжан-Бао остался на месте охоты, чтобы снять с медведя шкуру, пока он еще не окоченел. На обратном пути я встретил удэхейца Ваника Камедичи и рассказал ему о случившемся. — Гы байта (худо, грех), — отвечал он мне и при этом добавил, что они никогда такое сонное животное не бьют. Каждый охотник знает, что всякого зверя сперва надо разбудить криком или бросить в него камень и стрелять только тогда, когда он подымется со своей лежки. Это закон, который нельзя нарушать. Человек, не соблюдающий его, рано или поздно поплатится жизнью. В тот же день убитое животное было доставлено на бивак. Часть мяса мы взяли с собою, большую часть отдали удэхейцам, а шкуру отправили к устью реки Самарги для доставки ее весною на пароходе в город Владивосток. Дня через два мы дошли до ключика Сололи, по которому нам надлежало подниматься на Сихотэ-Алинь. Тут был пустой балаган, выстроенный гольдами, которые ежегодно после нового года приходят сюда с Амура и соболюют на землях, принадлежащих самаргинским удэхейцам. Пользуясь своей численностью, они не обращают внимания на протесты последних. Сопровождавшие нас удэхейцы расположились в балагане, а мы — в своем шатре. Мне хотелось определить географические координаты устья ключика Сололи, но так как небо было не совсем чистое, то я решил совершить еще одну экскурсию по реке Самарге. Истоки ее находятся в высоком горном узле, откуда берут начало реки Анюй, Копи, Хор и Самарга, текущие в разные стороны от Сихотэ-Алиня. Таким образом, с Самарги можно выйти на Уссури, Амур и обратно к морю. В верховьях Самарга течет вдоль Сихотэ-Алиня в направлении от северо-северо-востока к юго-юго-западу. От ключика Сололи она начинает отклоняться к югу, потом к юго-востоку. Долина реки Самарги около моря неширокая, но выше Кукчи она значительно расширяется. Небольшие разбросанные сопки, сглаженные контуры, многочисленные мелкие ручьи и общая заболоченность их долин свидетельствуют о постоянных эрозионных процессах и о древнем строении Сихотэ-Алиня, который по существу представляет собой остатки бывших когда-то величественных гор. Подтверждение этому мы находим и в плавниковом лесе, скопившемся большими завалами на поворотах рек и там, где она разбивается на протоки. В нижнем течении Самарги завалов нет вовсе. Самым верхним притоком Самарги будет река Даагды. Удэхейцы говорят, что там часто встречаются кости сохатых, из чего они делают вывод, что лоси уходят туда умирать, — это их место успокоения — «Буниа». Геологический состав горных пород от ключика Сололи до Дыровитого утеса характеризуется главным образом глинистыми сланцами с плитняковой и листовой отдельностью. Кроме того, здесь встречается еще какая-то темная порода, похожая на андезит. В верхнем течении реки интересно отметить наледи. Под этим именем надо понимать воду, идущую поверх льда. Просачиваясь по трещинам в горных породах, она выходит в береговых обнажениях на дневную поверхность и тотчас покрывается тонким слоем льда, который не выдерживает давления ноги человека. Глубина наледей различна: от 1 до 10–15 сантиметров. Издали их можно узнать по заиндевелым деревьям и по клубам пара, который поднимается от воды утром при восходе солнца и вечером, когда температура воздуха понижается. Если воды из береговых обнажений выходит много, она бежит вниз по реке до тех пор, пока не найдет какое-нибудь отверстие во льду. Тогда здесь образуются красивые бирюзового цвета водопады с водоворотами. Если вода по трещинам горной породы выходит на дневную поверхность высоко над рекой, то, стекая вниз по береговым обрывам, она намерзает в виде очень красивых ледяных каскадов, которые все увеличиваются в размерах, и кажется, будто здесь, действительно, был водопад, но замерз. На самом деле воды выходит так мало, что летом можно пройти мимо и не заметить ее вовсе. Мы сделали небольшой опыт над измерением температуры воздуха. Вечером после заката солнца, когда началось излучение тепла от земли, термометр в лесу показывал -24 °C. Тот же термометр на открытом месте, не защищенном древесной растительностью, показывал -28 °C. Вот почему все животные на ночевку забираются в самую глушь тайги. Это делают и люди, находя в чаще леса защиту от холодного ветра. Горы, окаймляющие верхнюю часть долины Самарги, покрыты хвойно-смешанным лесом. Берега реки еще некоторое время дают приют широколиственным древесным породам: ясеню, белой березе, клену, ольхе и тонкоствольным тальникам, но вскоре они начинают уступать свои места лиственице, ели и пихте. Среди пернатого населения верхнее-самаргинских лесов характерны снегири. Добродушные миловидные птички эти имеют очень красивую пурпуровую окраску. У самок преобладают желтые тона. Снегири подпускали нас к себе очень близко. Они пили воду, поднимая кверху свои головки, нимало не смущаясь присутствием людей, и только неосторожное движение кого-нибудь из нас заставляло их с криком подниматься со льда и садиться на ветви ближайших деревьев. Недалеко от гольдского балагана удалось застрелить северного рябчика. Самец выдал себя тонким пронзительным криком и шумом полета, похожим на глухую дробь барабана. Среди тальников я заметил восточного воробьиного сыча с желтыми ногами и желтым клювом. Он подпустил меня к себе очень близко, но все же нахохлился, стал переступать с ноги на ногу и поворачивать голову чуть ли не на все 180 градусов.Глава тринадцатая Обратный перевал через Сихотэ-Алинь
Двадцатого января мы покинули Самаргу и направились к Сихотэ-Алиню, на ключик Сололи, который имеет общее направление от северо-запада к юго-востоку и в нижней своей части протекает по местности совершенно равнинной, среди густого хвойного леса плохого качества. Многие деревья стояли в наклонном положении, имели отмершие вершины и были украшены бородатым лишайником. Километрах в четырех от Самарги начинается подъем, сначала медленный, а потом крутой. На самом перевале, высота которого оказалась равной 910 метрам над уровнем моря, стояла маленькая деревянная кумирня, поставленная, китайскими скупщиками пушнины в честь «старого духа дорог» (Лао ба-тоу). Восточный склон Сихотэ-Алиня со всеми реками, текущими в море, удэхейцы называют Ада-Намузани, а западный склон в бассейне притоков Уссури — Ада-Цазани. Сообразно этой терминологии и туземное население прибрежного района называет себя удэ с Намука, в отличие от людей, обитающих по рекам Иману, Бикину, Хору, Анюю и Хунгари, носящих название удэ с Дэзаха. Западный склон Сихотэ-Алиня значительно положе восточного. Спустившись с перевала, мы вышли на какую-то маленькую речку, которая текла к северо-западу; по сторонам высились небольшие сопки, покрытые исключительно- хвойным лесом. По мере удаления от водораздела горы становились выше. Километрах в восьми от перевала слева подошел еще такой же ручей. Тут мы и заночевали. На другой день километров через десять мы дошли до реки Чуина, которая течет здесь с юга на север. Теперь глинистые сланцы остались сзади, и сначала появился мелкозернистый песчаник, а затем какая-то кварцитовая метаморфизованная порода, относящаяся, по-видимому, к азоической сланцевой группе. Еще на реке Самарге от удэхейцев я слышал, что на реке Чуине есть дерево, которое выросло не на земле, а на другом живом дереве, стоящем на корню. Теперь наш проводник опять повторил то же. Я просил его показать мне это чудо и сам стал внимательно смотреть по сторонам. Долина Чуина покрыта хвойным лесом несравненно лучшим, чем на самом Сихотэ-Алине. Около реки в изобилии росли ольха довольно крупных размеров и тальники, имеющие вид строевых деревьев, но с мелкими ветвями почти от самого корня. Места повыше заняла лиственица, а ель и пихта отступили на самые вершины гор. Наконец-то я увидел то замечательное дерево, о котором так много говорили удэхейцы. Это был осокорь с большим наплывом с северной стороны, метрах в десяти над землей. Сверху в наплыве было естественное углубление, заполненное разным мусором и перегнившей листвою. Случайно в него попало семя, высыпавшееся из еловой шишки. В этом углублении и выросла стройная елочка в метр величиною. Река Чуин некоторое время (около 15 километров) течет параллельно Сихотэ-Алиню по продольной долине, а затем поворачивает на запад. В этом месте она проходит между двух скалистых сопок, образующих как бы ущелье. Дальше долина Чуина приобретает резко выраженный денудационный характер: широкие низины чередуются с отдельными сопками, которые в шахматном порядке подходят к реке то с одной, то с другой стороны. Образцы горных пород, собранных мной по пути следования от истоков к устью реки Чуина, располагаются в таком порядке: сначала идут филлитовый и кремнистый сланцы, потом песчаник, витрофир, друзы мелких кристаллов и роговообманковый порфирит. Последние пять километров река Чуин протекает по лесистой равнине и встречает большую реку Хор. Истоки реки Хора находятся далеко в горах. От Сихотэ-Алиня они отделяются особой горной складкой и верховьями реки Анюя. Хор течет по кривой от северо-востока на запад так, что выпуклая часть его дуги обращена к югу. Из притоков Уссури он занимает самый обширный бассейн, отделяемый от реки Бикина хребтом Синку. Течение его быстрое. Чистая прозрачная хорская вода с такой стремительностью входит в реку Уссури, что мутную воду последней прижимает к противоположному берегу. Устье Хора находится под 47° 49' северной широты и 134° 49' восточной долготы от Гринвича. Самым большим притоком Хора считается река Сук-пай. Она имеет в длину около 200 километров и течет на западо-северо-запад. По ней лежит путь через Сихотэ-Алинь на реку Кукчи, впадающую в Самаргу, о чем уже говорилось выше. Около устья Сукпай исстари живут удэхейцы. Это самое верхнее стойбище, имеющее почтенную давность. Иногда удэхейцы поднимаются по Хору выше и доходят до реки Сор, по которой лежит путь на реку Томпасу, приток Анюя, но долго там не задерживаются и всегда спешат снова вернуться на Сукпай. От устья последнего Хор течет на юго-запад. На этом участке правый берег его гористый. Здесь можно отметить только два ручья — Букгое и Кадаа, а с левой стороны — ручей Тынгтыма и рядом с ним сопку того же имени, затем ключик Танда и небольшую речку Чукку. Далее Хор делает небольшие изгибы. После юрт Чукку, расположенных недалеко от устья речки того же имени, с правой стороны описание местности идет в следующем порядке: небольшая речка Колами, затем долина сужается. Около ключика Чжуача Хор проходит в щеках. До ключика Актога правый берег нагорный и скалистый. Далее на протяжении 25 километров долина Хора значительно сужается и становится изломанной. То с одной, то с другой стороны реку подпирают скалистые сопки. После речки Актога справа впадает ручей Тулами, а в шести километрах от него Хор опять проходит в щеках и делает длинную узкую петлю. Здесь стояли юрты Чжоннига и рядом с ними ключ, носящий то же название. Вниз по течению с правой стороны — скалистая сопка Билли и ключ Кимми. Затем долина вновь расширяется, и река устремляется на юго-запад, принимая в себя еще два ключика — Бионко и Безымянный. Чтобы познакомиться с географией левого берега, читателю необходимо вновь совершить плавание по Хору, начиная от речки Чукка. Справа будут два ключа Сой и Чжульма Адани, затем в начале узкого места долины горный ручей Ясыга, а против реки Кимми — ключ Киколю. В пяти километрах от поворота Хора на юго-запад есть опасный перекат, а ниже — большой камень на самой середине реки. Весь левый край долины гористый, причем гребень хребта, окаймляющего долину с левой стороны, украшен скалами Яагу. Это место, где в Хор впадает река Капан, а против нее — ключик Бионко, о котором говорилось выше. Еще ниже, километрах в десяти, Хор принимает в себя большой приток Катэн. Последний при устье разбивается на два рукава, из которых западный, наиболее длинный, идет параллельно Хору и носит название протоки Хаде. Недалеко от этой протоки с юга подходит небольшая речка Оло. Как бы следуя указанному ею направлению, Хор делает поворот и тоже течет к северу на протяжении 10–12 километров. С крутых левобережных склонов сбегает ключик Пянг Кулукчи. Затем горы далеко отходят в сторону, и здесь правый берег делается гористым, а левый — низменным. Река Хор становится шире, глубже и разбивается на протоки. С правой стороны в Хор впадают ключик Чжоо и речка Дукчи Силини, затем речка Уфа, ключики Имага, Сикин, Самагда и Янгу. Тут же находится протока Юмгма, немного ниже ее — второй опасный порог, а еще ниже — речка Дунгу. Здесь когда-то стояла кумирня и был последний китайский поселок, состоявший из двух фанз. Высокие скалистые сопки Анбан прорезываются руслами ключиков Дальми, Унгуни, Дышьма, Сикчи и Кокуя. Здесь сопки кончаются, Хор выходит на равнину, имея направление течения к северу. Следуя принятому нами правилу, укажем сперва речки, ручьи и названия местностей с правой стороны, а потом — с левой стороны. У горы Анбан от Хора отделяется одна из самых больших проток. Вновь с рекой она соединяется ниже, километрах в двенадцати. Отсюда начинают часто встречаться столбы лесоустроителей с разными знаками и зимовья, сложенные из бревен. Миновав протоки Буо и Чжафкди, Хор делает крутой поворот на запад. Здесь в углу с правой же стороны широко раскинулись 60 корейских фанз, носящих название селения Александро-Михайловского. Здесь же находится и переволок (Табань, Табаньдо) на Кию, которым пользуются удэхейцы, направляющиеся в сторону Хабаровска. Судя по тому, что долина Кии изрезана множеством протоков, стариц, вообще судя по тем следам, которые оставила здесь вода, видно, что эта река еще в недавнем прошлом была руслом Хора. Читателю остается проследить, только левый край долины Хора от того места, где Хор вышел из гор на равнину. Сначала Хор разбивается на две протоки, причем левая называется Чжигдыма, ниже — еще две протоки Большая и Малая Були и юрта Могочжи близ устья реки Мутен. Здесь последний раз к Хору подходят одинокие сопки Нита, Фунеа ниже переволока, представляющие собой остатки более высоких гор, частью размытых, частью потопленных в толщах потретичных образований. После переволока Хор течет на запад, каковое направление и сохраняет до впадения своего в реку Уссури. С высоты птичьего полета бассейн реки Хора представляется лесистой горной окраиной. Наиболее ценной породой является кедр. Он занимает все возвышенные места по среднему течению до Чуина. По теневым склонам гор произрастают ель, пихта и каменная береза, а на солнцепеках — липа, дуб, клен и осокорь. Внизу около самой реки — поемные леса, состоящие из самых разнообразных хвойных и широколиственных пород с преобладанием ясеня, ильма, тополя, черемухи и тальника. Последние образуют густые заросли по галечниковым отмелям и островам. От устья реки Чуина мы пошли вверх по Хору и через какие-нибудь пять-шесть километров подошли к речке Сальму (Сниму), впадающей в него с правой стороны. В этих местах долина Хора неширока и окаймлена сопками, имеющими такое очертание, что сразу можно сказать, что слагаются они из пород, изверженных вулканами. Адресуясь к дневникам, я нашел в них под соответствующими номерами серый гранит. Дальнейший наш путь шел по речке Сальму. Она имеет длину около 35 километров, и ее истоки на перевале между реками Хор и Мухенем, впадающим в Амур. Первые пять километров она течет с севера на юг, потом километров на двадцать в широтном направлении, при этом становится очень извилистой и разбивается на мелкие проточки, совершенно недоступные даже для плоскодонных туземных лодок. Последние десять километров Сальму снова склоняется к югу и впадает в Хор двумя рукавами. Долина Сальму. непомерно широка. Гор за лесом не видно вовсе. Впрочем, раза два они подходят к реке пологими скатами. Лес березовый и лиственный. Ближе к перевалу стали попадаться заболоченные мари, покрытые сухостойной лиственицей. Дня через два мы подошли к перевалу. Речка, служившая нам путеводной нитью, сделалась совсем маленькой. Она завернула направо к северу, потом к северо-западу и стала подниматься. Подъем был все время равномерно пологий и только под самым гребнем сделался крутым. На перевале стояла небольшая кумирня, сложенная из тонких еловых бревен и украшенная красными тряпками с китайскими иероглифическими знаками. На вершине хребта лес был гораздо гуще. Красивый вид имеют густые ели, украшенные белоснежными капюшонами. Надо было немного передохнуть. Пока мои спутники курили, я произвел измерение абсолютной высоты перевала и определил ее в 604 метра. Спуск с водораздела в долину реки Садомабирани оказался гораздо круче, чем подъем с восточной стороны. Дорога, протоптанная соболевщиками и служившая нам нитью, была хорошо накатана, и это в значительно степени облегчило нам продвижение с грузовыми нартами. Для таких новичков, какими являлись стрелки, подъем на лыжах в гору был гораздо легче, чем спуск с нее. Для неопытного спортсмена даже небольшой уклон книзу всегда является причиной падения. Но перед нами был большой и крутой спуск, к тому же собаки имели нарты с грузом, которые напирали сзади и развивали все большую, и большую скорость. Стрелки были в затруднительном положении. Уссурийские казаки подтрунивали над ними и давали советы, как быть. Мои спутники выпрягли собак, сняли лыжи, пустили нарты вперед и, сдерживая их на веревках, стали легонько спускаться вниз. Так сделали все, за исключением Марунича. Он решил спускаться на лыжах, а чтобы собаки не тянули вперед, он привязал их сзади, рассчитывая, что они будут сдерживать нарту, упираясь лапами в снег. Но получилось наоборот. Я в это время находился внизу под перевалом, когда позади себя услышал все приближающийся шум. Я оглянулся и увидел Марунича. Стоя на лыжах и изо всей силы упираясь в дышло своей нарты, он стремглав несся книзу. Собаки, вместо того, чтобы следовать за нартой, обежали ее справа и слева и, напрягая все силы, врастяжку мчались вперед и тем еще более увеличивали скорость движения. Марунич несся вниз все быстрее и быстрее, что-то кричал, и нельзя было разобрать, кричал ли он от испуга, просил ли помощи или предупреждал, чтобы идущие впереди сторонились и давали ему дорогу. Едва я успел отскочить в сторону, как он вихрем пронесся мимо меня, и вслед за тем, точно от взрыва, кверху поднялось большое облако снежной пыли. Марунич с нартой врезался в мелкий ельник, собаки оторвались и побежали дальше. Такой спуск мог кончиться очень плачевно. Казаки бросили свои нарты и, ловко лавируя между деревьями, спешили к Маруничу на выручку. Когда я приблизился к месту катастрофы, то увидел нарту, лежавшую в снегу вверх полозьями, и вылезавшего из-под нее злополучного Марунича. Он весь был в снегу, лицо его выражало крайнее недоумение. Видно было, что он сам не понимал, как попал в такое положение. Он ощупывал свою голову, руки, как бы желая убедиться в их целости. В это время прибежали остальные люди и окружили его. С хохотом они сравнивали себя с товарными поездами, которые становились на запасные пути, чтобы дать дорогу курьерскому поезду. Марунич не отвечал им. Он обтирал рукавом мокрое лицо и пробовал вытащить нарту из снега. В это время собаки его вернулись назад. Считая их главными виновниками своего падения, Марунич схватил палку и бросился было за ними вдогонку, но запутался в постромках и опять упал в сугроб. Стрелки и казаки снова докатились с хохоту. Они помогли ему подняться на ноги, поймали собак и затем пошли за своими нартами, а я, гольд Косяков и Чжан-Бао пошли дальше. За перевалом река Садомабирани начинается маленьким ручейком, текущим в западном направлении на протяжении пяти километров. Тут она сливается с другой такой же горной речкой, бегущей с северо-востока. Как раз у места слияния их мы нашли юрту и около нее семью удэхейцев. Они укладывали нарту и, видимо, собирались куда-то перекочевать совсем. На вопрос, кто они и куда собираются, мужчина ответил, что он с реки Хора, зовут его Миону из рода Кимунку, что живет он на реке Хор и прибыл сюда на соболевание, но тигры потаскали у него почти всех собак. Поэтому он решил уступить им свое место и уйти обратно на реку Хор. Я сказал удэхейцу, что буду здесь ночевать, и просил его остаться с нами для того, чтобы завтра указать нам место, где чаще всего держатся полосатые звери, выжившие его с Садомабирани. Женщина, услышав, что муж ее согласился на мою просьбу, совершенно равнодушно и молча стала разбирать нарту и таскать имущество обратно в юрту. Когда подошли казаки, было как раз время для остановки на бивак. Все дружно взялись за работу: одни ставили палатку и налаживали печь с трубами, другие рубили дрова, третьи резали траву для постелей, Марунич готовил обед. Когда начало смеркаться, я велел всех собак забрать внутрь помещения и всю ночь поддерживать костры на биваке, а сам вместе с Косяковым пошел в юрту удэхейца. Миону был мужчина лет тридцати восьми, невысокого роста, бедно одетый. Обветренное и загорелое лицо его и заскорузлые руки говорили о том, каким тяжелым трудом он добывал себе средства к жизни. В глазах жены — покорность судьбе. Я стал его расспрашивать о реке, на которую мы вышли. Он сообщил мне, что все правые притоки верхнего Мухеня считаются хорошим охотничьим местом. Горы между Нефикцой и Мэка подвергались сильному разрушению, вследствие чего здесь образовалось много скал, имеющих причудливые формы. Это самое тигровое место в крае. Где бы они ни ходили, всегда туда возвращаются. Там они выводят и тигрят. Все охотники знают это, и потому никто не хочет соболевать около запрещенных скал. Тигр, который повадился у него таскать собак, пришел именно оттуда. Это очень дерзкий зверь. Сначала он посещал удэхейца ночью, а теперь повадился ходить и днем. Не позже, как сегодня утром, он унес еще одну собаку — пятую по счету. Когда удэхеец закричал на тигра, он ощетинился, показал зубы, заревел и стал бить себя хвостом по бокам. Из этого удэхеец заключил, что ему с семьей грозит смертельная опасность. Он решил уйти обратно на Хор, оставив щенка в распоряжение царственного зверя. Были сумерки, когда я вышел из юрты и направился к своему биваку. После ужина я снова вернулся в юрту удэхейца. Ребятишки его уже спали, жена его готовила ужин, а сам он исправлял ремни у лыж. Я подсел к огню и стал расспрашивать его о страшных утесах Мэка. Миону некоторое время молчал, и я думал, что он не хочет говорить на эту тему, полагая, что я хочу взять его в проводники. — Место совсем худое. Наши люди никогда туда ходи нету, — наконец ответил он. С этого начался разговор. Скалы Мэка считаются недосягаемыми. Это пристанище чорта Онку. Там всегда завывает ветер. Проходящие мимо люди постоянно слышат, как вверху кто-то свистит, иногда слышны голоса, шум лыж, удары топора. Вот почему скалы Мэка называются Онку Чжугдыни, что значит — жилище злого духа Онку, или Амба Чжугдыни, потому что там всегда держалось много тигров. Они в качестве собак служат Онку и исполняют его поручения. И долго еще говорил мне этот человек про лесные страхи, которые все больше и больше разжигали мое любопытство. После ужина жена его тоже легла спать, а мы все еще сидели у огня и вели дружескую беседу. Незаметно разговор перешел на другие темы: Миону спрашивал меня о том, как живут удэхейцы на берегу моря, и вспоминал кое-кого из своих старых знакомых. Затем мы как-то оба замолчали. Я перенесся мыслями в прошлое и вспомнил свое длинное путешествие через Сибирь, когда ехал на Дальний Восток. Миону тоже о чем-то задумался и молча смотрел на огонь. Вдруг он вздрогнул, на лице его выразился испуг. Я видел, как он побледнел и приложил дрожащую руку ко лбу. — Что случилось? — спросил я его в тревоге. — Куты-Мафа (тигр) близко ходи есть, — прошептал он чуть слышно. Я прислушался, но ухо мое не уловило ни малейшего шороха. Тогда я взял ружье и вышел из юрты. Была светлая ночь. Луна, более полная и яркая, чем накануне, только что скрылась за тучкой, нашедшей на нее с северо-запада. Порой она показывалась на мгновение, и тогда казалось, будто облако стоит на месте, а месяц бежит сквозь него в другом направлении. В кротком сиянии звезд на небе, в чистом морозном воздухе и в беззвучном движении воды в полынье — всюду царило невозмутимое спокойствие. Река казалась широкой белой аллеей, обсаженной по сторонам высокими старыми елями и уходящей в глубь леса. В нашей палатке было темно, из чего я заключил, что там уже все спали. От притухших костров кверху вздымались дымки тонкими струйками, пахло гарью. Я осмотрелся и прислушался, но кругом царило полное безмолвие. Такая тишина кажется подозрительной. По ту сторону реки стеной стоял безмолвный лес, озаренный луной. Как-то даже не верилось, что в природе может быть так тихо. Словно весь мир погрузился в глубокий сон. Я возвратился в юрту и сказал Миону, что не заметил ничего подозрительного. На это он мне ответил, что хотя я и не видел и ничего не слышал, но все-таки тигр был поблизости. Все люди знают, что если человек вдруг испугался без всякой видимой причины, значит страшный зверь подошел к его жилищу. Тогда я сказал, что можно один или два раза выстрелить в воздух или бросить несколько головешек в сторону леса. Он ответил, что это не поможет. Тигр отойдет на время, потом снова явится, и тогда будет еще хуже. На другой день я не хотел рано будить своих спутников, но, когда я стал одеваться, проснулся Глегола и пожелал итти со мною. Стараясь не шуметь, мы взяли свои ружья и тихонько вышли из палатки. День обещал быть солнечным и морозным. По бледному небу протянулись высокие серебристо-белые перистые облака. Казалось, будто от холода воздух уплотнился и приобрел неподвижность. В лесу звонко щелкали озябшие деревья. Дым от костров, точно туман, протянулся полосами и повис над землей. Миону был на ногах. Жена его готовила завтрак, сам он чистил ружье, а ребятишки играли костями рыси. Во время еды он сказал, что проводит нас только до того места, где обыкновенно держатся тигры, а затем вернется и, не дожидаясь нашего возвращения, пойдет на реку Хор. Я знал, что отговаривать его было напрасным трудом, и потому сказал ему, что хорошо помню свое обещание не задерживать его дольше полдня. Когда все было готово, мы надели лыжи и пошли вслед за нашим провожатым. Он направился по протоке вдоль обрывистого берега, поросшего вековым лесом. Во многих местах яр обвалился и обнажил корни деревьев. Одна ель упала. При падении своем она увлекла большой кусок земли. Здесь по снежному сугробу шла хорошо протоптанная тропа. — Ни одного человеческого следа нет — все тигровые, — сказал Миону, указывая на тропу. Видно было, что зверь ходил здесь очень часто. Тропа была хорошо утоптана, и тигровые следы блестели так, как будто они были проложены по мокрому снегу и затем замерзли. Стоило только насторожить здесь ружье или самострел, чтобы нанести зверю тяжелую рану, но удэхеец предпочитал уступить ему не только место, но и всех своих остальных собак. Отсюда мы начали подъем в гору. Снег в лесу не был достаточно глубок, и потому все валежины на земле отмечались тенями, которые то розовели, то синели в зависимости от того, как высоко поднялось солнце над горизонтом. Также синела и тигровая тропа, пока не разбилась на несколько следов. Один был совсем свежий. Удэхеец оказался прав: ночью тигр, действительно, подходил к жилищу. Я обратил внимание на то, что следы были неодинаковой величины. Очевидно, Миону навещал не один зверь, а два, так как следы шли вразброд и часто навстречу один другому, значит тигры охотились за собаками каждый сам по себе. Мы взяли свежий след и прошли по нему с версту. Он направился в гору и завел нас в непролазный бурелом, заросший молодым ельником. Там мы нашли совершенно свежую лежку. Тигр лежал на боку, закинув голову кверху. На снегу получился точный его позитив: голова с ушами, шея, корпус и вытянутые лапы. Лежа, он легонько помахивал хвостом и разбросал снег в стороны. Разбираясь в следах, мы установили, что он вдруг чего-то испугался и, вскочив на ноги, некоторое время стоял неподвижно, потом отбежал немного и опять остановился. Вероятно, мы были причиной его испуга. Как ни осторожно мы шли, но все же шум от лыж в тихом морозном воздухе должен был быть слышен на довольно большом расстоянии. Тут Миону остановился и заявил, что дальше он не пойдет, и посоветовал нам быть осторожными, так как тигр понял, что его выслеживают. После этого он повернул назад, а мы пошли дальше по следу. Тигр сделал большой круг в направлении к реке Садомабирани. Но вот след пересечен один раз, другой. Нам стало ясно, что тигр хочет обороняться и напасть на своих врагов из-за угла. Тогда я решил оставить опасную игру и итти прямо на бивак. Вскоре мы нашли лыжню, принадлежавшую Миону. Он почему-то бросил старую дорогу и пошел под гору целиною. На биваке я застал только одного Марунича. На вопрос, где остальные люди, он ответил, что все пошли на охоту вверх и вниз по реке. Около юрты удэхейцы торопливо укладывали нарту. Я подошел к Миону. Он был не в духе. Из расспросов выяснилось, что он едва не поплатился жизнью за то, что ходил с нами по тигровому следу. На обратном пути как-то вышло так, что «Куты-Мафа», т. е. тигр, путая следы, оказался недалеко от старой лыжни. Услышав приближение удэхейца, он пришел в ярость. Миону видел, как он залег на бурелом и ждал приближения двуногого врага. Тогда удэхеец круто свернул в сторону и очень быстро спустился с горы в долину Садомабирани. Я сказал, что он упустил удобный момент для выстрела, но, по мнению удэхейца, лучший способ отделаться от страшного зверя — это уступить ему дорогу. Когда нарта была уложена, Миону привязал щенка к дереву, запряг двух взрослых собак и пошел по нашей дороге вверх по реке Садомабирани. Жена его стала палкой подталкивать нарту сзади, а ребятишки на лыжах пошли стороной. Щенок, которого Миону отдавал тигру, навострил свои ушки и затем, повернувшись задом, изо всей силы стал тянуться на ремешке, стараясь высвободить голову из петли. Марунич подошел к щенку и, отвязав ремешок, на руках отнес в нашу палатку и накормил его кашей. Щенок как-то сразу освоился с новой обстановкой и через полчаса уже заигрывал с какой-то собакой, но той не нравилась фамильярность молокососа, она долго ворчала и скалила на него зубы. Незадолго до сумерек возвратилисьстрелки и казаки с охоты. Все они видели тигровые следы. Глегола подстрелил одну кабарожку. Это было как раз кстати, потому что каша нам надоела и всем хотелось мясного. К вечеру мороз усилился. В нашей палатке было очень уютно. Докрасна раскаленная печка распространяла кругом тепло. На ней шумел чайник. Казаки поправляли ремешки у лыж и делились свежими впечатлениями, смеялись, вспоминали спуск Марунича с перевала, а я делал записи в путевой дневник. Щенок пробрался в палатку, стрелки гладили его, тормошили за уши, а он шалил, валялся на спине и легонько кусал им руки. Так как место это было опасным, то мы решили установить очередь для окарауливания бивака. Один раз ночью собаки подняли большой шум. Мы забрали их всех в палатку и развели большой костер. Лишь только начало светать, Марунич разбудил меня. Я произвел метеорологические наблюдения и приготовил планшет для съемки, а когда утренний завтрак был готов, мы вдвоем стали будить разоспавшихся стрелков и казаков. Наши утренние сборы заняли времени не больше одного часа. Каждый знал, что ему надо делать: движенья каждого человека были согласованы, и потому уборка палатки и укладка походной печки, увязка нарт и запряжка собак делались всегда без лишней проволочки. Когда собаки были запряжены, курильщики, как всегда, побежали к костру, чтобы закурить на дорогу. Затем, надев на себя лямки и прикрикнув на собак, стрелки и казаки друг за другом гуськом тронулись в путь. Отойдя от бивака шагов полтораста, я оглянулся назад и увидел тонкую струйку дыма, поднимавшуюся от костра кверху. Начало съемки всегда отнимает несколько больше времени, чем производство ее в пути. Надо выверить шагомер, взять обратный азимут на последний отрезок вчерашнего пути, надо взять пеленги на видимые высоты и т. д. Когда я кончил проделывать все манипуляции, я вдруг вспомнил, что забыл на биваке барометр. Ничего не оставалось больше делать, как вернуться. Стрелки и казаки ушли уже порядочно вперед. Я не стал их окликать в надежде, что догоню на первом: же перевале. Когда я подходил к биваку, мне показалось, что что-то большое желтое быстро мелькнуло в кустах. Я остановился и прислушался, но так как ничего подозрительного не видел, то решил, что мне это показалось. Времени нельзя было тратить даром, я подошел к дереву, на котором висел барометр, снял его с дерева и стал надевать себе на шею, для чего снял шапку, но нечаянно выронил ее из рук. Нагибаясь к земле за шапкой, я увидел на снегу отпечатки больших тигровых лап. Сознание своего одиночества в присутствии такого страшного и дерзкого зверя наполнило мое сердце страхом. Я поспешно сунул барометр в боковой карман, надел шапку и, постоянно оглядываясь, пошел по нартовой дороге. Я не бежал, шел спокойно, держа указательный палец на спуске затвора своего ружья. Потом я прибавил шагу и через несколько минут достиг поворота реки. Долина расширялась. Вдали около второго поворота я увидел стрелков и казаков. Чувство страха оставило меня, и я спокойно приступил к съемке. Долина Садомабирани залегает между двух отрогов Хорского хребта, идущих в широтном направлении. В обнажениях виден все тот же гранит, и изредка встречается какой-то плотный песчаник. Долина Садомабирани, пока она течет в горах, покрыта великолепным лесом, состоящим, главным образом, из кедра с небольшой примесью других хвойных деревьев. В верхнем течении Садомабирани разбивается на столь мелкие протоки, что кажется, будто вода прямо идет по лесу и вовсе не имеет русла. Она просачивается между корнями деревьев, исчезает среди каменистых россыпей и потом вновь появляется на дневную поверхность. Как только река выходит из гор, хвойно-смешанные леса кончаются, и на сцену выступают широколиственные леса, состоящие из дуба, березы, осины и прочих пород. Здешняя осина имеет столь светлую кору, что я сначала принимал ее за березу и, только подойдя вплотную, заметил свою ошибку. Ближе к устью лес начинает редеть. Все чаще и чаще появляются заболоченные полянки, число и размеры их все увеличиваются и наконец становятся преобладающими. Самым верхним притоком Мухеня будет речка Алчи. Около устья ее есть выходы бурого угля на дневную поверхность. Алчи осталась у нас правее и сзади. Немного ниже Садомабирани в Мухень впадают с той же стороны (правой) еще две речки — Нефикца и Мэка, что значит «чорт». Последняя получила свое название от скал, находящихся в ее верховьях, служащих, якобы, местом обитания злых духов. Все перечисленные четыре речки заслуженно считаются зверовыми. В вершинах их живут лоси, ниже изюбры и кабаны. Леса в верховьях Мухеня довольно богато населены пернатыми. Я видел ворон, дятлов, поползней и снегирей. Они наполняли лес криками и ударами клювов по стволам сухостойных деревьев. Вороны и ронжи при нашем приближении улетали прочь, дятлы прятались за ветвями и только одним глазом поглядывали на проходящих людей. Только поползни и снегири держали себя независимо и свободно, даже в тех случаях, когда мы подходили к ним совсем близко. После принятия в себя Нефикцы Мухень становится чрезвычайно извилистым. Ничтожный склон долины, медленное течение — все это характеризует старческий возраст реки. С левой стороны против Мэка и Нефикцы расстилаются болота, покрытые сфагновым мхом и поросшие редкой лиственицей. Еще ниже Мухень принимает в себя с левой стороны приток Пунчи и два ключика Дай Холга и Нючь Холга с ржавою болотною водою. Может быть, это обстоятельство и является причиной того, что в Мухень идет мало кеты. Зато он богат частиковой рыбой всевозможных пород, начиная от максунов и кончая карасями. В нижней части Мухень пролегает среди обширных низменных пространств, кочковатых и заболоченных. Древесная растительность встречается только группами по рекам, потом исчезают и одиночные деревья, и на сцену выступают ольховники и тальники, имеющие вид высокоствольных кустарников, которые, как бордюрами, окаймляют берега реки, ее притоков, стариц, заводей и слепых рукавов. Пять дней мы шли по реке Мухеню, следуя всем ее изгибам, которые удлиняли наш путь по крайней мере в два или три раза. Во время пути мы кормили собак два раза в день: немного утром, перед выступлением в поход — сухой рыбой и затем вечером на биваке — жидкой гречневой или чумизной кашей, сваренной с юколой. Сначала они неохотно ели кашицу, и это вынуждало нас прятать от них на деревья наши лыжи, обтянутые кожей, ремни, обувь и прочее имущество, иначе все это было бы сразу съедено. На Мухене у нас пала одна собака. Я велел оттащить ее немного в сторону и бросить в кусты. Вскоре мы стали биваком. Вечером собаки вели себя неспокойно. Они грызлись друг с другом и рвались с привязи. На другой день утром обнаружилось исчезновение двух собак. Я думал, что они убежали совсем, но незадолго перед выступлением в поход обе беглянки вернулись. Они облизывались, и животы их были вздуты. — Где они кормились? — спросил удивленно Крылов. — Собака собаку всегда кушай, — отвечал Чжан-Бао. Желая удостовериться в этом, я надел лыжи и вместе с Крыловым сбегал туда, где была брошена дохлая собака. Действительно, она оказалась съеденной более чем наполовину. На снегу виднелись собачьи следы, они шли от нашего бивака и обратно на бивак. Мы поняли, что на длинные переходы можно брать больше ездовых собак. По мере того как число нарт будет сокращаться вследствие расходования продовольственных грузов, слабых собак можно убивать и кормить наиболее молодых и сильных животных. Река Мухень привела нас к реке Немпту, в которую она впадает с правой стороны. Еще шесть километров, и мы дошли до устья последней. Река Немпту берет начало с Хорского хребта и имеет в длину около 200 километров. В верховьях она захватывает истоки Мухеня и состоит из двух речек, протекающих по узким долинам среди скал. По словам удэхейцев, там много всякого зверья, в том числе и тигров. После слияния Немпту склоняется к северо-востоку. Долина реки завалена большими камнями, промежутки между которыми заполнены вязкой глиной. Километров через двадцать Немпту поворачивает к северу. Это направление она сохраняет очень долго и по пути принимает в себя следующие притоки: с левой стороны — Си, Дайхео, Темсо и Боянсор, а с правой — Анхалга, Юшки, Полян, Осима и Мухень. По выходе из гор река начинает делать меандры и чем дальше, тем больше. В некоторых местах во время большой воды река сама выпрямляет свое русло и входы в старицы заносит илом и песком. Так образовалось множество заводей, слепых рукавов, длинных озерков, которые сопровождают реку с обеих сторон. Не доходя километров пятнадцати до озера, Немпту делает крутой поворот к востоку, затем еще раз меняет направление на северо-восточное, которое и сохраняет до конца. Течение ее медленное, вода тепловатая, ржавого цвета. Немпту впадает в озеро Синдинское и при устье образует множество островов, которые становятся все ниже и ниже, наконец сравниваются с горизонтом воды и превращаются в мели. Само озеро имеет неправильно округленную форму, суженную с севера и расширяющуюся на юге, с небольшим заливом с западной стороны. Древний его берег восточный. В недавнем прошлом (в геологическом смысле)! все пространство, занимаемое реками Немпту (до притока Анхалга) и Мухень (до притока Мэка), представляло собой обширное водное пространство; только плоские возвышенности Аур и Мухенский увал казались островами, покрытыми древесной растительностью. В это древнее озеро впадало множество мелких речек, составляющих ныне притоки Мухеня и Немпту. С течением времени громадный водоем заполнялся выносами рек, в него впадающих. Заболоченная низина, о которой здесь идет речь, не высохла и по сие время. Гумусовый горизонт нарастает чрезвычайно медленно. Берега возвышаются над уровнем воды в реке не более как на 25–75 сантиметров, и потому в дождливое время года все низменные места, все едва заметные для глаза углубления снова заполняются водою. Особенно большие болота располагаются около южной стороны Синдинского озера. Наиболее глубокие места его узкой полосой проходят сначала у восточного, а потом у западного берега. Особенно мелководна юго-западная часть этого исчезающего водоема. Было бы ошибочно думать, что озеро питается водою только из рек Мухеня и Немпту. Повышение уровня воды его зависит и от Амура. И в этом случае наблюдается уже знакомый нам процесс засорения озера песком и илом. В ненастное время года мутная, амурская вода входит в спокойное Синдинское озеро и отдает ему тот материал, который находится в ней во взвешенном состоянии. С Амуром Синдинское озеро соединяется двумя рукавами. Один — наиболее длинный и узкий — направляется на запад к селу Сарапульскому, а другой — короткий и широкий — впадает в так называемую Синдинскую протоку. Кроме Немпту, в озеро впадают еще две маленькие речки: с юго-запада — Бухта и с юго-востока — Тон. Между этой последней и рекой Немпту образовалось еще маленькое озеро Доцен, соединяющееся несколькими протоками как с обеими названными реками, так и непосредственно с озером Синда. День был уже на исходе. На западе пламенела заря, когда мы поровнялись с лысой горой Кадар на правом возвышенном и лесистом берегу озера. Освещенные закатными лучами покрывающие ее снега окрасились в нежно-розовые тона. Место для ловли рыбы, сушилка, составленные лодки на берегу и т. д. — все указывало, что где-то недалеко есть люди. Собаки тоже, как бы почуяв близость человеческого жилья, пошли бодрее. Вот и дорога, вот и свежие следы лыж. Кто-то недавно рубил дрова. И действительно, едва мы вышли на синдинскую протоку, как увидели с правой стороны огоньки. Это было гольдское селение Люмоми. Мужчины все ушли на охоту, дома остались старики, женщины и дети. Выбрав одну из фанз побольше, я постучался в дверь. Из нее вышли две женщины. Узнав, что мы пришли издалека, они пригласили нас к себе и стали помогать распрягать собак. Через час мы сидели на теплых канах, сбросив с себя обувь и верхнюю одежду. Женщины угощали нас чаем, мужчины лепешками с сухой рыбой. Мы решили никуда дальше не итти и отдохнуть в селении Люмоми как следует. Дальнейший наш путь шел к верховью Анюя и по реке Копи к морю. Обычно таяние снегов в бассейне правых притоков Анюя происходит чуть ли не на месяц раньше, чем в прибрежном районе. Уже в конце февраля стало ощущаться влияние весны. Снег сделался мокрым и грязным, в нем появились глубокие каверны. Днем он таял и оседал, а ночью смерзался и покрывался тонкой ледяной корой. Я опасался распутицы: мне казалось, что реки будут в таком состоянии, что я не смогу двигаться ни на лодках, ни с нартами. Но старики-гольды говорили, что Анюй всегда раньше вскрывается в нижнем течении и что в верховьях будет хорошая санная дорога, а по ту сторону водораздела мне придется воду добывать из прорубей. Тогда я вспомнил значение Сихотэ-Алиня, протянувшегося параллельно берегу моря, и, приняв во внимание затяжную весну на восточном его склоне, велел своим спутникам готовиться к походу.Глава четырнадцатая Опять к морю
Двадцать седьмого февраля мы расстались с Люмоми и через двое суток дошли до другого селения — Найхин, расположенного около устья Анюя. Здесь я остановился у старого своего приятеля гольда Николая Бельды. Он сообщил мне, что по Анюю сообщение не сегодня-завтра должно прекратиться, и будет лучше, если я спущусь по Амуру до речки Гяу, затем, пойдя по ней до истоков, перевалю на реку Мыныму, поднимусь по этой последней и через второй небольшой перевал выйду на Анюй около местности Улема. Это — обычный путь запоздавших гольдов-соболевщиков в том случае, когда им надо возвращаться из прибрежного района на Амур. Я мог встретить их на пути и воспользоваться проложенною ими дорогой. Надо заметить, что в Уссурийском крае снега обычно выпадают во второй половине зимы. Совет Николая Бельды был очень разумен, и я решил им воспользоваться. Все пространство между устьем реки Анюя и высотами, на которых расположено село Троицкое, и все острова, прилегающие к этому берегу, в основании своем слагаются из окатанной речной гальки, тогда как все берега Амура состоят из ила и песка; это свидетельствует о том, что весь правый берег Амура, о котором здесь идет речь, намыт рекой Анюем. В недавнем прошлом она имела устье значительно ближе к селу Троицкому, Можно проследить, как Анюй постепенно перемещал русло к юго-западу, пока не дошел до возвышенного берега около гольдского селения Найхин. Ныне он стал заносить галькой и амурскую протоку Дырен. В недалеком будущей она тоже обречена на исчезновение. Тогда Анюй проложит себе новое русло где-нибудь около селения Торгой и, может быть, смоет самый Торгонский остров. Речка Гяу протекает по одной из таких старых проток Анюя. Она имеет длину около 10 километров и берет начало с горного хребта Мыныму, который хорошо видно с Амура. Увалы между многими селениями и старицами Анюя покрыты редколесьем, состоящим из липы, ильма и дуба. Хребет Мыныму расположен в направлении от юго-запада к северо-востоку. Одним концом он подходит к Анюю. Отсюда к северу отделяется от него длинный отрог, соединяющийся с высотами селения Троицкого. Река Гяу привела нас сначала к этому отрогу. Перейдя его, мы попали в марь. Судя по растительности, она должна быть заболоченной. Дальнейший наш путь пролегал к югу через невысокую седловину между хребтом Мыныму и упомянутым отрогом. Тут за сопками поблизости, протекала и сама река Мыныму. Истоки ее находятся в горах, служащих водоразделом между ней и бассейном Гобилли. Она течет с северо-востока по сравнительно узкой горно-лесистой долине. Один из притоков ее близко подходит к Анюю. Их разделяет только невысокая сопка Амбанку Хоянбекчи. Здесь и есть тот переволок, о котором мне говорил Николай Бельды. В 1909 году старики-туземцы предсказывали раннюю весну. Действительно, в конце февраля началось уже таяние снегов. Горные ручьи как-то сразу наполнились водою, вешние реки, казалось, находились в состоянии покоя, но из-под льда доносился шум, похожий на отдаленный гром. Слышно было, как он дрожит под напором быстро бегущей под ним воды. Местами лед стал подниматься кверху и взламываться у берегов, всюду появились проталины. Посредине реки лед был прочный, но в тех случаях, когда необходимость заставляла приближаться к берегу, надо было итти с палкой в руках. Вообще реки Анюй, Мыныму плохо замерзают, во многих местах круглую зиму стоят открытые полыньи. Гольды объясняют это обилием рыбы, которая якобы гуляет, дышит и не дает воде замерзнуть как следует. Но как только подул холодный северо-западный ветер, лед на реке немного окреп. Это в значительной степени облегчило наше путешествие. 11 марта мы достигли перевала на Анюй. Здесь мы застали семью удэхейцев, состоявшую из двух мужчин, двух женщин и мальчика девяти лет. В этот год на Анюе было много тигров, которые вели себя крайне дерзко и подходили близко к человеческим жилищам. Недели за две до нашего прихода один зверь проявил удивительную назойливость. Чуть ли не ежедневно он навещал удэхейцев и часто среди белого дня. Удэхейцы сначала убеждали его оставить их в покое, потом грозили ему копьями и огнестрельным оружием, шаманили по ночам и просили Буйнь Ацзани (хозяина зверей) отозвать «свою собаку» обратно. Ничего не помогало. Тигр ходил по другому берегу реки, ложился на льду против юрты, зевал и пугал людей. Тогда удэхейцы поняли, что страшный зверь самовольно ушел от своего хозяина, что он не подчиняется ему и потому убой его не ляжет тяжким грехом на них. Однажды вечером одна из женщин хотела было выйти из юрты за водой. Это было как раз во время полнолунья. Едва она приоткрыла дверь, как увидела полосатое чудовище совсем близко от жилища. Она быстро захлопнула дверь. Тогда один из удэхейцев проделал ножом отверстие в корье юрты и сквозь него выстрелил в тигра. Зверь упал, но тотчас поднялся и пополз по льду реки. Наутро его нашли издохшим около другого берега. Удэхейцы прикрыли его снегом и по сторонам выставили два кола со стружками, чтобы дать знать проходящим людям, что место это запретное, а сами отошли немного ниже по течению, где я и застал их всех в сборе. Узнав об этом, я на другой день отправился к тому месту, где лежал тигр. Это был великолепный рослый самец, но с бледной окраской и редкими крупными черными полосами на задней части тела. К сожалению, шкура его погибла совсем, шерсть из нее лезла большими клочьями. Я хотел было взять скелет животного, но мои намерения взволновали удэхейцев. Они говорили, что делать этого нельзя, потому что им житья не будет от других тигров, которые станут мстить за надругательство над одним из их сородичей. Дня через два я все же отправился к мертвому зверю, но, к своему сожалению, уже не нашел его совсем. На том месте, где лежал тигр, была большая промоина: темная вода быстро и бесшумно бежала под лед. Это обстоятельство убедило удэхейцев, что Буйнь Ацзани не допустил кощунства над над своей собакой, хотя бы и вышедшей из повиновения. Распрощавшись с удэхейцами, я отправился через переволок на Анюй. В этот день утром мы имели случай наблюдать интересное оптическое явление. Сибиряки называют его «солнцем с ушами» и говорят, что оно предвещает морозы. Часов в десять утра, когда дневное светило поднялось над горизонтом градусов на десять, справа и слева от него появилось два радужных светящихся пятна, и от них в сторону протянулись длинные лучи, суживающиеся к концам. Одновременно над солнцем появилась радуга, обращенная выпуклой частью к горизонту, а концами — к зениту. День был морозный, тихий, небо безоблачное, деревья сильно заиндевели. На другой день, 15 марта, явление повторилось, но было еще эффектнее. Утром был легкий туман, а на небе тонкая паутина перистых облаков. Вокруг солнца сперва появились два концентрических радужных круга. От вершины внутреннего круга отделилась радужная дуга, тоже обращенная концами кверху. На этот раз, кроме действительного солнца, было два ложных по сторонам и одно внизу. От боковых светящихся пятен вправо и влево потянулись лучи, которые все удлинялись до тех пор, пока не соединились, образовав по всему небу гигантский круг, параллельный горизонту. Затем появились еще дополнительные дуги, образовавшие ряд красивых сплетений; места пересечений их тоже издавали довольно яркий свет. Положение кругов не менялось, но одни из них блекли, другие же становились более яркими. К полудню на небе осталось одно только гало с внешней ахроматизацией. Я ждал снега, но вышло наоборот. Небо совершенно очистилось от перистых облаков. Ночью звезды сильно мерцали. Снег хорошо занастился. Несколько дней подряд держалась тихая солнечная погода. Перейдя через гору Амбанку Хоянбекчи, мы вышли как раз к местности Улема на Анюе, где я решил сделать дневку и астрономически определить точку своего стояния. Место для наблюдений было выбрано на гальке, а шатер был поставлен несколько в стороне в лесу, где не так было ветрено. Я не стал терять времени и, воспользовавшись хорошей погодой, дважды произвел поправки хронометра и взял несколько высот до и после кульминации. Во время наблюдений в трубу инструмента на солнце были видны три пятна, расположенные наискось в одну линию. Самое большое пятно было верхнее, меньшее — среднее и самое маленькое — нижнее. Большое пятно можно было наблюдать даже просто сквозь дымчатое стекло. На другой день мы на большом дереве вырезали надпись «20 марта 1909 г. Астрономический пункт. В. К. Арсеньев». Когда все было закончено, я сделал распоряжение готовиться к походу вверх по Анюю, но в это время случилось происшествие, задержавшее нас в Улеме еще четверо суток. День выдался на редкость хороший: было тихо, светло и в меру холодно. Живительный прохладный воздух подбадривал, но не знобил, дышалось легко, и на душе было весело. Пока стрелки готовились к походу, я с Крыловым, захватив с собой собаку Кады, отправился на разведку. В местности Улема весь правый берег Анюя на небольшом протяжении представляет собой низменное пространство, изрезанное бесчисленным множеством мелких проток и стариц. Рытвины, ямы и канавы встречались нам чуть ли не на каждом шагу, они соединялись друг с другом, сходили на нет и пересекались под различными углами. Прибавьте к этому пригнутые к земле и обезображенные наводнениями деревья, кусты, росшие в беспорядке, и завалы колодника вперемешку с мусором, нанесенным сюда водою, и вы получите полное представление поемного леса, у которого мы стали биваком. Удэхейцы сказали правду. Здесь оказалось так много тигровых следов, что можно было подумать, будто все тигры, сколько их есть в Уссурийском крае, собрались на Анюй для зимовья. Однако скоро я заметил, что всего было только два следа: один большой — старый, другой поменьше — свежий. Следы шли вдоль по рытвинам и каналам в ту и другую сторону, шли поперек, делали круги и возвращались обратно. В одном месте мы натолкнулись на совершенно свежий след зверя. Крылов спустил собаку с поводка, но она не бросилась вперед, а, глубоко уткнувшись носом в снег, принялась обнюхивать каждую травинку, — мимо которой мы проходили. Через минуту Кады опять пошла по рытвинам весьма осторожно, затем остановилась и стала прислушиваться. Раза два она ложилась на брюхо, поджав под себя задние ноги и вытянув вперед передние лапы. По тому, как вела себя собака, и по настороженным ушам видно было, что она что-то учуяла. Нервное настроение собаки передалось и нам, и я не был уверен, что если бы в эту минуту выскочил тигр, то стрелял бы в него спокойно. Кады не решалась итти вперед, и мы тоже замерли на месте в томительном ожидании. Наконец, Крылов не выдержал. Он подошел к собаке, осмотрелся и погладил ее. Она не шелохнулась. Тогда мы оба перешагнули через нее. Кады тихонько встала и поплелась сзади. Пройдя шагов с десяток, Крылов пропустил собаку вперед, но через несколько сот шагов она опять остановилась. Прижав уши, она стала озираться по сторонам, потом вдруг поднялась и торопливо побежала назад. Обойдя Крылова, Кады плотно прижалась к моим ногам. Я стал гладить ее и почувствовал, что она дрожит. Значит, тигр где-то поблизости. Любопытство и страх наполнили мое сердце. Оно усиленно билось, и мне казалось, что я слышу каждый его удар. Волнение сказалось и на дыхании. Мы оба замерли на своих местах, напрягая слух и зрение, но ни малейший шорох не нарушал глубокой тишины леса. Вдруг в тайге гулко щелкнуло мерзлое дерево. Словно электрический ток пронизал меня от головы до ног. Крылов круто повернулся в сторону шума, собака вздрогнула и еще больше стала жаться к людям. Прошло некоторое время, прежде чем мы поняли, что это была шутка мороза. В это время Кады снова пошла вперед. Мы последовали за ней. Она вела себя очень странно, шла по кривой и заглядывала в середину пространства, которое обходила по спирали. Это обстоятельство заставило нас удвоить внимание. В центре круга, который мы описывали, находился огромный тополь, росший в сильно наклонном положении. Можно было подумать, что он лежит на земле. Около тополя снег был примят, местами изрыт, а в пространстве между деревом и землей что-то виднелось. Некоторое время мы стояли в нерешительности. Под ногу мне что-то попало, я нагнулся и поднял замерзший клубень корневища папоротника. Крылов взял его и бросил по направлению к тополю, но там было по-прежнему тихо. Тогда мы направились к дереву смелее. Это было логовище тигра. Тополь оказался дуплистым по всей длине, причем открытая часть дупла была обращена к земле. Снегу под ним не было вовсе, а сухая трава сильно примята кругом и в особенности в самом логовище валялось много перегрызенных костей. Видно было, что полосатый хищник долго пользовался этим логовом. На соседнем дереве на высоте, которую я едва достал концом ружья, виднелся ряд продольных царапин. Я обратил внимание Крылова на ободранную кору. Я живо представил себе картину, как тигр вышел из логовища, зевнул, посмотрел вправо и влево, потом поднялся на задние лапы, оперся передними в дерево и, выгнув спину, стал расправлять свои когти. На снегу около тополя было много старых следов — больших и малых. Значит, в логовище ютился сперва один тигр, потом он ушел, а его место занял другой зверь, помоложе. Было неизвестно только, ушел ли тигр сам на охоту или мы спугнули его. Вероятно, он ушел сам, иначе он не упустил бы случая поживиться собакой, которая сама пришла к его жилищу. Осматривая следы, Крылов удалился немного, а я остался на месте, и чем дольше я оставался один, тем страшнее казалась мне вся обстановка. Мне казалось, что страшный зверь возвращается к своему логовищу и, увидев около себя человека, сначала останавливается и смотрит в недоумении, потом ползет на брюхе вот именно по этой самой рытвине, что находится сзади. Вдруг какой-то шум заставил меня вздрогнуть и повернуться назад. На соседнее дерево села ворона. Через минуту возвратился Крылов, и мы пошли обратно по своим следам. Над сумрачным лесом раскинулось бледное зелено-голубое небо, окрашенное на западе в желтые и оранжевые цвета; кругом стало как будто еще тише, белый снег немного порозовел, стало заметно холоднее. Скоро мы выбрались на протоку, но по ошибке пошли не в ту сторону и вышли на Анюй на полкилометра выше того места, где мы расположились биваком. На душе сразу стало легче: лес — предательский, полный опасностей — остался позади, а впереди расстилалась широкая полоса реки, покрытая снегом. Закат уже начал темнеть, кое-где на небе замигали первые звезды, на смену усталому дню на землю торжественно спускалась ночь. Через полчаса мы подходили к биваку. Там все было в порядке: палатка поставлена, из трубы ее вместе с дымом вылетали искры, а рядом с нею на подстилках из хвои и сухой травы отдыхали ездовые собаки; очередной артельщик готовил ужин. Вечером я занялся дневниками, потом сделал необходимые распоряжения и рано лег спать. Ночью я проснулся и, открыв глаза, увидел сияние звезд через окна палатки. Царившая кругом тишина нарушалась чьим-то легким храпом да слышно было, как ворчали две неполадившие между собой собаки; потом они, видимо, разошлись, и тогда вновь воцарилось спокойствие. Минут через пять я уснул вторично. Вдруг меня разбудил сильный шум. Я вскочил на ноги, мои спутники тоже проснулись и недоумевающе смотрели по сторонам. Снаружи были слышны визг, лай и вой. Собаки как сумасшедшие рвались на своих поводках. Марунич, Глегола и Вихров наскоро надели сапоги и выбежали из палатки. Я тоже начал спешно одеваться. Темнота на горизонте сквозила — день начал брезжить. По небу двигались большие облака, а за ними блестели редкие побледневшие звезды; земля была окутана еще мраком, но уже можно было рассмотреть все предметы; белоснежная гладь реки, пар над полыньей и деревья, одетые в зимний наряд, казалось, грезили и не могли очнуться от охватившего их оцепенения. Первое, что мне бросилось в глаза, — это собаки. Они перепутались ремнями, сбились в кучу и боязливо озирались по сторонам. Некоторые из них сорвались с привязи и, поджав хвосты, бегали около бивака. Что случилось? Почему такой переполох? — Должно быть, приходил тигр, — сказал Крылов, вышедший в это время из палатки. Я велел посадить собак на место, развести огонь и согреть чай. — Моей собаки нет! — вдруг крикнул Марунич не своим голосом. Мы с Крыловым подошли к нему и тут на снегу увидели капли крови и свежие следы тигра. Теперь все стало ясно. Полосатый хищник задавил и унес собаку. Все стрелки сбежались к Маруничу, а я взял ружье и пошел на ближайшую разведку. Помня уроки Дерсу, я принялся внимательно изучать следы и по ним без труда восстанавливал картину происшествия. Тигр шел по реке вдоль нашего берега. Увидев бивак, он встал за бурелом, застрявший на галечниковой отмели у поворота реки. Здесь он долго стоял, потом лег на брюхо, вытянув вперед свои лапы. Затем он перебрался через бурелом и по рытвине, идущей параллельно берегу, подкрался к биваку. Эта рытвина своим обрывистым краем всего ближе подходила к месту, где были привязаны собаки. Выскочить из засады, схватить одну из собак и опять скрыться в зарослях — было для него делом одной минуты. Наконец, собаки успокоились. Тогда на смену им выступили стрелки. Неописуемое возбуждение воцарилось среди них; все говорили и рассказывали друг другу, как произошло нападение тигра, как кто спал и что слышал и что видел во сне; у каждого был свой план, где искать зверя и как отбить у него собаку. За чаем, обсудив все спокойно, мы решили взять с собою четыре ружья и итти по следу тигра. Если он понес собаку к логовищу, то мы застанем его там, а если он бросит свою добычу и убежит, то мы насторожим ружья около тополя, затем возвратимся и будем ждать результатов. Так мы и сделали. В шесть часов утра я, Крылов, Рожков и Глегола отправились в путь, захватив с собой все необходимое для настораживания винтовок. Утро было тихое. Туман над полыньей сгустился еще больше. Золотисто-розовые лучи восходящего солнца алели на высоких облаках в небе и на восточных склонах гор, покрытых заиндевелыми кедровниками. День обещал хорошую погоду. Следы тигра шли прямо в лес. По ним видно было, что зверь, схватив собаку, уходил сначала прыжками, потом бежал рысью и последние 500 метров шел шагом. Оборванный собачий поводок волочился по снегу. Отойдя с километр, он остановился на небольшой полянке и стал есть собаку. Заслышав наше приближение, тигр бросил свою добычу и убежал. Когда мы подошли к собаке, она оказалась наполовину съеденной. Мы стали настораживать здесь ружья. Кстати, вот как это делается. Для этого в землю вбивается два кола на небольшом расстоянии один от другого. Вместо вбивания кольев, если позволяет обстановка, можно воспользоваться стволами растущих вблизи деревьев, что еще лучше, так как щепа и свежевбитые в землю колья могут вызвать у зверя подозрение и излишнюю осторожность. К кольям привязывается ружье перпендикулярно к тому направлению, по которому предполагается ход зверя. На тигра винтовка настораживается (судя по величине его) на высоте от 17 до 35 сантиметров от колена человека. Когда ружье укреплено, оно заряжается, взводится курок, а в промежуток между скобой и спуском вкладывается деревянный рычажок, за длинный конец которого прикрепляется прочная волосяная нить или вычерненный тонкий шпагат, который протягивается через след зверя и привязывается к какому-нибудь предмету: к ветке куста, дереву, камню и пр. Не следует сильно натягивать шнур из-за ворон, которые всегда в большом количестве слетаются на падаль. Если они сядут на бечевку, то своей тяжестью могут произвести выстрел. Тигр, привыкший в чаще грудью рвать заросли, мало обращает внимания на шнурок, который коснется его тела. Он продолжает лезть вперед, натягивает шнур и ранит себя в убойное место. Таким именно способом мы поставили четыре винтовки в расчете, что с какой бы стороны тигр ни пришел, он непременно должен попасть в настороженное ружье. Покончив с этой операцией, мы замели свои следы еловыми ветвями и возвратились на бивак. Когда стало смеркаться, я велел Вихрову разложить около собак костер и выставить вооруженного часового. Ночь, прошла спокойно, выстрелов не было слышно. Раненько утром Рожков и Крылов сбегали на лыжах к настороженным винтовкам и сообщили, что ночью тигр приходил к своей добыче. Обойдя собаку по большому кругу, он подошел к ней с противоположной стороны, но, предчувствуя что-то неладное, не решился тронуть ее. Не доходя шагов двух до бечевы, тигр прилег на брюхо. Судя по тому, что снег под ним подтаял, он лежал в этой позе довольно долго. Перед рассветом зверь снялся и пошел назад. Рожков и Крылов следили его некоторое время и дошли до логовища, откуда он убежал, заслышав приближение людей. Надо было окружить настороженными ружьями и самое логовище. Эту работу взялся выполнить Крылов с двумя стрелками, а я остался на биваке. Совсем в сумерки они возвратились и сообщили, что на обратном пути на берегу одной из проток они нашли штабель мороженой рыбы, со всех четырех сторон оплетенный ивовыми прутьями. Рыба принадлежала, должно быть, удэхейцу Маха Кялондига. Тигр разломал плетенку и лакомился рыбой. Судя по следам, это было сделано вчера ночью. Когда стало смеркаться, мы забрали всех собак к себе в палатку. Правда, это доставляло нам множество не удобств, но мы решили запастись терпением. Вторая ночь тоже прошла спокойно. Тигр ходил вокруг логовища и около мертвой собаки. Он чуял опасность и не хотел рисковать своей жизнью, но я решил стоять здесь хоть неделю и ждать, когда голод сделает его менее терпеливым и менее осторожным. Однако тигр оказался умнее, чем я думал. Весь день мы просидели в палатке. Каждый использовал случайную дневку по-своему: стрелки починяли одежду, налаживали собачью упряжь, исправляли нарты. К вечеру я оделся и вышел из палатки. День только что кончился. Уже на западе порозовело небо и посинели снега, горные ущелья тоже окрасились в мягкие лиловые тона, и мелкие облачка на горизонте зарделись так, как будто они были из расплавленного металла, более драгоценного, чем золото и серебро. Кругом было тихо; над полыньей опять появился туман. Скоро, очень скоро зажгутся на небе крупные звезды, и тогда ночь вступит в свои права. В это время я увидел удэхейца Маха, бегущего к нам по льду реки. Он был чем-то напуган. — Что случилось? — спросил его Косяков. — Гыпы, — отвечал он, Куты — Мафа оно инаки дзябзянгии (т. е. худо, тигр унес одну собаку). — При этом он добавил, что зверь далеко не ушел и ест собаку поблизости от его жилища. До наступления полной темноты оставалось не больше полутора часов. Я рассчитал, что если я побегу за ружьями, туда и обратно — два километра, а затем полтора километра до юрты удэхейца и еще до тигра, вероятно, с полкилометра, на что потребуется не менее часа, то тигр за это время успеет съесть всю собаку и спокойно удалиться. Подумав немного, я спросил удэхейца, есть ли у него ружье. Он ответил, что имеет берданку, но стрелять священного зверя не будет, но так как Куты-Мафа сам напал на его дом, то он обещал проводить меня и указать место, где сейчас тигр находится. Тогда я решил итти с удэхейцем, а Крылов и Рожков побежали в лес за ружьями. Через двадцать минут я был уже в юрте Маха. Жена его с двумя детьми сидела испуганная, забившись в угол и разложив у входа в жилище большой огонь. Собаки тоже были собраны в юрту и привязаны к жердям, поддерживающим корье крыши. Удэхеец достал из-под изголовья свое ружье и подал его мне. Это была старенькая берданка кавалерийского образца. Я осмотрел ее, все было как будто в порядке. Я оттянул замочную трубку и нажал на гашетку. Мне показалось, что пружина действовала слабо, потому что не было той резкости, которая требуется при спуске ударника. Я спросил его, не делает ли ружье осечек и как оно бьет. Он ответил, что винтовка исправна и бьет хорошо. В это время я услышал позади себя шопот и почувствовал запах багульника. Обернувшись, я увидел, что жена Маха откуда-то достала деревянное изображение человека величиной в 20 сантиметров, без рук, с согнутыми ногами, вытянутой физиономией и с синими бусинами вместо глаз. Она повесила закоптелого идола на веревочке к одной из стоек очага, называла его именем Касалянку, что-то шептала и жгла перед ним листья багульника. Мне теперь некогда было ее расспрашивать о бурхане, которому она вверяла охрану своего дома или просила оградить мужа от страшного зверя. Я стал торопить удэхейца. Он переобулся и взял копье в руки. Перед тем как итти, Маха заявил мне, что это не он идет бить тигра, а я, и что копье он берет с собою только так, на всякий случай. Я понял его и подтвердил, что вся ответственность за убийство грозного зверя ляжет исключительно на меня одного и что его семья тут ни при чем. После этого мы надели лыжи и пошли: он — впереди, а я следом сзади. Пройдя шагов двести по реке, мы свернули в небольшую проточку. Пока удэхеец бегал к нам на бивак и пока я осматривал его ружье и патроны, произошло событие, которого мы никак не могли предусмотреть. Тигр перешел ближе к юрте и, расположившись под яром на льду протоки, принялся за собаку. Не подозревая, что зверь так близко, мы шли по протоке — удэхеец впереди, а я сзади по его следу — и довольно громко говорили между собой. Вдруг Маха сразу остановился, а так как я не ожидал этого, то наткнулся на него и чуть было не упал. Я посмотрел на своего спутника. Лицо его выражало крайний испуг. Тогда я быстро взглянул в том направлении, куда смотрел туземец, и шагах в тридцати от себя увидел тигра. Словно каменное изваяние, он стоял неподвижно, опершись передними лапами о вмерзшую в лед колодину, и глядел на нас в упор. Мне показалось, что зверь сделал коротенькую гримасу и на мгновение оскалил зубы: шерсть на спине его поднялась дыбом и тотчас опустилась; мне показалось, что у него дрогнули усы, и он дважды медленно повел кончиком хвоста налево и направо. В таких случаях в мозгу на всю жизнь особенно ярко запечатлеваются какие-нибудь две-три несущественные детали. Я не могу сказать, чтобы в этот момент я особенно испугался, — вернее, я просто растерялся и оцепенел, как и мой спутник Маха Кялондига. Вдруг я вспомнил про ружье. «Надо стрелять, — мелькнула мысль в голове. — Обязательно надо стрелять, а то будет поздно…» Я приложил приклад к плечу и нажал спуск. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Быстро я снова взвел курок, и опять не произошло выстрела. В это время шагах в двадцати пяти сзади меня показались Рожков и Крылов. Видя, что я целюсь в тигра и не стреляю, они решили открыть огонь по зверю с дальнего расстояния. Но тут случилось то, чего опять-таки никто не ожидал: их ружья, пробывшие двое суток на морозе и, вероятно, густо смазанные маслом, тоже дали осечки. Тигр простоял на месте еще минуты две, затем повернулся и, по временам оглядываясь назад, медленно пошел к лесу. В это мгновение мимо нас свистнули две пули, но ни одна из них не попала в зверя. Тигр сделал большой прыжок и в один миг очутился на высоком яру. Здесь он остановился, еще раз взглянул на своих врагов и скрылся в кустарниках. Тогда мы вчетвером отправились на то место, где только что стоял тигр, и там на льду за колодником увидели наполовину съеденную собаку. Взволнованный, я сел на бурелом и не знал, что делать. Винтовка удэхейца была у меня еще в руках. В сердцах я швырнул ее, как палку, в кусты. Когда удэхеец узнал, что все три ружья дали осечки, он пришел в неописуемое волнение. Я стал ругать его берданку, но у него на этот счет были свои соображения. Тигр в его глазах стал еще более священным животным. Он все может: под его взглядом и ружья перестают стрелять. Он знает это и потому спокойно смотрит на приближающихся двуногих врагов. Разве можно на такого зверя охотиться? Эти рассуждения казались удэхейцу столь резонными, что, не говоря больше ни слова, он поднял свою винтовку, сдунул с затвора снег и молча отправился по лыжнице назад в свою юрту, а мы сели на колодину и стали обсуждать, что делать дальше. Обменявшись мнениями, мы решили насторожить два ружья по сторонам мертвой собаки. Третья сторона была защищена высоким яром, но четвертая оставалась открытой. Как быть? Вдруг мне пришла в голову счастливая мысль насторожить в этом месте самострел. Поставив ружья, мы замели следы и по льду протоки направились обратно к юрте. Удэхеец дал свой самострел, показал, как надо его ставить, но опять упомянул, что в покушении на жизнь тигра он участия не принимает. Я опять должен был успокоить его и сказать, что это наше дело и за него он не будет отвечать. Тотчас же мы с Крыловым вернулись к мертвой собаке. Закрыв самострелами доступ к ней со стороны протоки, мы взобрались на противоположный крутой берег и стали караулить тигра. Было поздно. На западе уже поблекла последняя полоска вечерней зари. На небе одна за другой зажглись яркие звезды. Казалось, будто вместе с холодным и чистым сиянием их спускалась на землю какая-то непонятная грусть, которую нельзя выразить человеческими словами. Мрак и тишина сливались с ней и неслышными волнами заполняли распадки в горах, молчаливый лес и потемневший воздух. Я сидел за кустом и не смел шевельнуться. Иногда мне казалось, что я вижу какую-то тень на реке. Мне становилось страшно, я терял самообладание, но не от страха и не от холода, а от нервного напряжения. Наконец, стало совсем темно, и нельзя уже было видеть того места, где лежала мертвая собака. Я поднялружье и попробовал прицелиться, но мушки не было видно. — Надо итти, — сказал я тихонько Крылову, — начинает сильно морозить. Я чувствую озноб. — У меня ноги тоже озябли, — ответил казак и поднялся с места. Через полчаса мы были в юрте. Там все уже спали, только удэхеец сидел у огня и ожидал нас. Мы с Крыловым согрели воду, поели мороженой рыбы, напились чаю, затем легли на медвежью шкуру и тотчас заснули как убитые. Утром часов в шесть меня разбудила жена удэхейца, она сварила нам две рыбины с икрой и чумизой. Все уже бодрствовали, только я один заспался. Первое, что я спросил, не было ли ночью слышно выстрела. Удэхеец ответил, что он всю ночь не спал, но ничего не слышал. Я попросил его сходить к настороженным ружьям. Он тотчас начал одеваться, а мы стали завтракать. Минут через двадцать Маха вернулся взволнованный и сообщил, что тигр попал на стрелу. Удэхеец не задерживался около мертвой собаки, не рассматривал как следует следов. Он видел только спущенную тетиву самострела и кровь на снегу. Сообщение это сразу подняло наше настроение. Если тигр ранен серьезно, то он далеко не уйдет и заляжет где-нибудь поблизости. Наскоро закусив, я, Крылов и Маха Кялондига побежали к месту происшествия. Было тихое морозное утро. Солнце только что начинало всходить. Уже розовели восточные склоны гор, обращенные к солнцу, в то время как в распадках между ними снег еще сохранял сумеречные лиловые оттенки. У противоположного берега в застывшем холодном воздухе над полыньей клубился туман и в виде мелкой радужной пыли садился на лед, кусты и прибрежные камни. Когда мы прибыли на место, то в глаза нам прежде всего бросился взрыхленный снег и на нем многочисленные, ярко-красные пятна крови. Из осмотра следов выяснилось, что тигр пришел к мертвой собаке незадолго перед рассветом; обойдя ружья, он остановился с лицевой стороны и, не видя преграды, потянулся к своей добыче, задел волосяную нить и спустил курок лучка. Стрела попала ему в лапу. Тигр сделал громадный прыжок и, изогнувшись в левую сторону, старался зубами вытащить стрелу, но лапы его все время скользили по льду, запорошенному снегом. Извиваясь, он свалился в полынью, но тотчас выбрался из нее. Тут же валялось помятое зубами древко стрелы, но наконечник остался в ране и, видимо, сильно беспокоил зверя. По следам видно было также, что тигр долго бился, чтобы достать наконечник: он ложился на бок, круто сгибал свое тело, упираясь лапами во всякую неровность льда. Наконец, он забился под яр. Здесь, упершись спиной в скалу, передними лапами — в бурелом, а задними — в смерзшуюся гальку, ему удалось зубами захватить наконечник стрелы и вырвать из своей лапы. Здесь на снегу было больше всего крови. Освободившись от стрелы, тигр тотчас направился в лес. Сначала он волочил лапу, но затем стал на нее легонько наступать. Солнце взошло, и хотя на небе не было ни единого облачка, но цвет его был странный, белесоватый в зените и серый ближе к горизонту. Все наше внимание было сосредоточено на следах тигра. Он шел и выбирал места, где были гуще заросли и меньше снега. След, оставленный правой лапой, был глубокий, а левый только слегка отпечатывался на снегу. Видно было, что зверь берег больную ногу и старался не утруждать ее. Крови становилось все меньше и меньше, и, наконец, она исчезла совсем. Значит, зверь был ранен не тяжело, и потому вряд ли нам удастся его догнать скоро, тем более, что и снег в лесу был недостаточно глубок и позволял животному двигаться без особых затруднений. Чем дальше, тем лес был гуще и больше завален буреломом. Громадные старые деревья, неподвижные и словно окаменевшие, то в одиночку, то целыми колоннадами выплывали из чащи. Казалось, будто нарочно они сближались между собой, чтобы оградить царственного зверя от преследования дерзких людей. Здесь царил сумрак, перед которым даже дневной свет был бессилен, и вечная тишина могилы изредка нарушалась воздушной стихией, и то только где-то вверху над колоннадой. Эти шорохи казались предостерегающе грозными. Один раз мы подошли было близко к тигру. Он забрался под бурелом и лежал на боку, видимо, зализывая рану. Он так был занят этим делом, что не заметил, как мы подошли к нему почти вплотную. В таких случаях надо быть очень осторожным. — Капитан, — шепнул мне удэхеец, — не надо торопиться. И в этот миг я услышал сильный шум и увидел большое пестрое тело, мелькнувшее по другую сторону лесного завала. Зверя заметил и Рожков, но не успел выстрелить, как и я. Было около полудня. Здесь у бурелома мы отдохнули и закусили сухой юколой, которую предусмотрительно захватил с собой удэхеец. На общем совещании решено было продолжать преследование зверя, но туземец остался при особом мнении. Он говорил, что дальше гнать зверя бесполезно, потому что он ранен слабо, успел оправиться и не только не избегает бурелома, а, наоборот, всячески старается итти там, где гуще заросли и больше валежника. Доводы удэхейца были убедительны, но мы все же решили еще раз испробовать счастье. После скудного завтрака, поглотав немного снега, чтобы утолить жажду, мы пошли снова за тигром. По следам было видно, что он сначала пошел прыжками, потом рысью, а затем опять перешел на шаг. Но вот поемный лес остался позади, и теперь мы вступили в старый кедровник. Громадные стволы хвойных деревьев высились кверху и словно пилястры старого заброшенного храма поддерживали тяжелый свод. Внизу рядом с ними разросся молодняк. И старые и молодые деревья переплелись между собою ветвями и были густо опутаны ползучими растениями, которые образовали как бы сплошную стену из зарослей. Девственный лес стоял плотной стеной. Сосредоточенное молчание наполняло весь лес. Зеленая полутьма, словно какая-то невыносимая тайна, тяготела вокруг, и невольно зарождалась мысль, не лучше ли вернуться, пока не поздно. Вдруг шедший впереди Крылов остановился и, указывая на землю, сказал тихонько: — Тигр нас обходит. Действительно, наискось и поперек следа преследуемого нами тигра шел еще другой такой же след. Предательская хромота на левую лапу выдала тигра с головою. Стало ясно, что, выведенный из терпения настойчивыми преследованиями, он решил сам перейти в наступление. Для этого он сделал большую петлю и, перейдя свой след дважды, решил где-нибудь устроить засаду. Дело становилось серьезным. Мы удвоили внимание и пошли еще медленнее. Метров через пятьсот тигр пересек свой след в третий раз. Мы так увлеклись охотой, что и не заметили, как исчезло солнце и серый холодный сумрак спустился на землю. Вверху сквозь просветы между ветвями деревьев виднелось небо в тучах. — Манга, — говорил удэхеец, поглядывая наверх. — Тамна. Имаса сагды би… (т. е. плохо; тучи — снег большой будет). В лесу стало совсем сумрачно. Казалось, будто стволы деревьев плотнее сдвинулись между собою, чтобы преградить нам дорогу. Казалось, что лес, видя, что не в силах остановить людей, преследовавших его зверя, позвал на помощь небесные стихии. Я взглянул на часы. Было около пяти часов пополудни. Скоро солнце должно было скрыться за горизонтом, и наступят сумерки. Взвесив все шансы за и против, мы пришли к заключению о необходимости возвратиться, хотя бы для того, чтобы утолить голод, который все настойчивее давал себя чувствовать. Вместе с тем появилось и другое чувство — чувство горечи и досады на неудачу. Крылов и Рожков ругались, поглядывая в сторону тигровых следов. И в самом деле, обстоятельства принуждали «оставить поле» за зверем в то время, когда он уже начал было сдаваться. Но голос благоразумия подсказывал: как бы тигровая шкура ни была дорога, своя все же дороже. — Имаса би, — сказал удэхеец (т. е. снег будет). Я взглянул на небо. Оно быстро темнело и как будто спустилось к земле, и от этого становилось неприятно и жутко. На лице своем я почувствовал прикосновение падающих сверху снежинок. В это время опять над тайгой пронесся порыв ветра. Лес зароптал, зашумел, когда ветер ударил с другой стороны, потом налетел сзади и оборвался. И тотчас весь воздух наполнился белесоватой мутью, в которой потонули соседние сопки, земля и все, что было видно до сих пор. Ветер налетал порывами, и в промежутках между ними слышно было шуршание снега, большими хлопьями падающего на землю. — Надо торопиться, — сказал Крылов, — а то как бы нам не пришлось ночевать в лесу. Мы прибавили шагу, но от этого не пошли скорее. Лыжню быстро заносило снегом. Она чуть только была заметна. Скоро следы пропали совсем. Крылов остановился. Тогда удэхеец пошел вперед. Он хорошо знал эти места и прокладывал новую дорогу через снежные сугробы напрямик к своей юрте. Стало совсем темно, так темно, что трудно было рассмотреть, что делается шагах в десяти. Ветер и снег, словно сговорившись, с ожесточением набрасывались на все, что попадалось им на пути. Изредка сквозь мглу виднелась какая-нибудь ель, ветви которой неистово качались из стороны а сторону; иногда из темноты неожиданно выплывали то большой пень, запорошенный снегом, то валежина на земле или сухостой, лишенный сучьев. Мы шли дальше, а они, как привидения, проносились мимо и исчезали бесследно в ночной мгле. Удэхеец скоро вывел нас на какую-то старицу, которая шла, как мне показалось, вовсе не туда, куда надо. Точно понимая мои мысли, он повернулся ко мне и лаконически сказал: «Далеко нету». Минут через пятнадцать старица вывела нас на тропу. Последняя круто повернула влево. Здесь порывы ветра сделались сильнее. Я начал зябнуть и стал опасаться за своих стрелков, которые легкомысленно оделись легко, чтобы на лыжах было удобнее преследовать зверя. Итти становилось все труднее и труднее; мешали встречный ветер и рыхлый снег, в котором глубоко тонули лыжи. Я совершенно забыл про тигра и думал только о том, как бы поскорее добраться до юрты. Напрягая остаток сил, я еле волочил ноги. У меня сильно озябли руки и ознобилось лицо. Как раз в эту трудную минуту мы подошли к месту, где были насторожены наши ружья около мертвой собаки. Это всех нас подбодрило. Еще минут десять хода, и я увидел между деревьями красноватые клубы дыма, которые вместе с искрами вырывались из отверстия в крыше юрты. Слава богу, опасность миновала! Наученный горьким опытом, я схватил горсть снега и, повернувшись спиной к ветру, стал натирать им лицо. Это было нестерпимо больно, но я тер долго и крепко, с сознанием, что это нужно и даже очень нужно. Онемевшая на щеках кожа стала понемногу отходить, пальцы на руках тоже сделались подвижными и чувствительными. Теперь можно было войти в теплое помещение. В юрте ярко горел огонь, распространяя свет и тепло. Жена Маха тотчас принялась варить ужин, а мы согрели чай и с аппетитом взялись за сухари. После ужина удэхеец расстелил нам медвежья шкуры. Мы разулись и легли на них с величайшим удовольствием. Я пил чай и слушал, как пурга бушует снаружи. — Хорошо, что мы вовремя повернули обратно, — высказал я вслух свои мысли. — Дальнейшее преследование тигра было бы совершенно невозможно. Вьюга замела бы его следы, и мы напрасно только измучились и потеряли бы время. У удэхейца на этот счет были свои соображения. Тигр — священное животное. Его охраняют леса и горы. Бороться с ним с помощью оружия никогда не следует. Можно только шаманить и просить его удалиться в другое место. Крылов пробовал было ему возражать, но он не соглашался с ним и в подтверждение своих слов приводил целый ряд доказательств: три ружья дали осечки, раненный стрелой зверь скоро оправился, лесная чаща старалась скрыть его, создавая нам всяческие препятствия, а когда мы почти совсем уже догнали его, вдруг неожиданно разразилась буря, ветер замел его следы и принудил нас вернуться. Удэхеец был глубоко убежден, что если бы мы продолжали преследование запретного зверя, несомненно случилось бы несчастье, мы заблудились бы в тайге и погибли бы от голода и вьюги. Слушая его слова, я стал дремать. Сильные порывы ветра потрясали юрту до основания. Вьюга злобно завывала в лесу, точно стая бешеных животных, которые с ревом неслись куда-то в пространство. По соседству с юртой качалось и скрипело какое-то дерево. На крыше кусок коры дребезжал разными тонами, в зависимости от того, усиливался или ослабевал ветер. Убаюкиваемый этими звуками, иззябший и утомленный долгой ходьбой на лыжах, я крепко уснул. Ночью меня разбудили какие-то звуки. Открыв глаза, я увидел, что огонь в юрте был притушен: в очаге только тлелись уголья. Прямо против меня на берестяном коврике сидел Маха. В руках у него был шаманский бубен и колотушка. Он пел что-то заунывное и прижимал лицо свое к бубну, отчего звук его голоса, отражаясь от туго натянутой кожи, то усиливался, то ослабевал до шопота. Маха пел и в то же время бил тихонько колотушкой в свой бубен. Перед удэхейцем на веревочке висел тот самый деревянный идол с глазами из синих бус, перед которым вчера женщина жгла листья багульника. Постепенно пение Маха перешло в речитатив. Он поднялся со своего места, взял топор, два маленьких деревянных колышка и железный котел, в который положил четыре уголька и вышел из юрты. Я поднялся и пошел за ним следом. Снаружи бог знает что творилось. Была абсолютная тьма. Ветер чуть было не опрокинул меня с ног, словно кто нарочно бросал горстями снег в лицо. Лес гудел, и в ропоте его слышались недовольство, жалобы и угроза. Через минуту я освоился с мраком и кое-как огляделся. Удэхеец вбил два колышка в снег перед входом в свое жилище, затем обошел юрту и у каждого угла, повертываясь лицом к лесу, кричал «э-е» и бросал один уголек. Потом он возвратился в жилище, убрал идола с синими глазами, заткнул за корье свой бубен и подбросил дров в огонь. Затем Маха сел на прежнее место, руками обтер свое лицо и стал закуривать трубку. Я понял, что камланье кончено, и начал греть чай. Минуть пять мы просидели молча, потом я начал говорить о пурге, перешел к тигру и осторожно коснулся деревянного идола, повешенного на веревочке. Я спросил его, что означает камланье колышками и угольками. — О, это изображение духов, — сказал удэхеец. Затем он сказал мне, что трижды чувствует себя виноватым перед тигром: во-первых, потому, что он сообщил мне о похищенной у него собаке, во-вторых, потому, что дал мне свое ружье и лучок, и, в-третьих, потому, что вместе со мной ходил преследовать раненого зверя. Он просил Касалянку оградить его дом от тигра, для чего наговоренными колышками закрыл доступ к юрте и окружил жилище священным огнем со всех четырех сторон. Теперь он может по-прежнему ходить без опасения на охоту. Выкурив трубку, Маха стал укладываться, я тоже последовал его примеру, но долго не мог уснуть. Часа через два буря стала понемногу стихать. Ветер сделался слабее, и промежутки затишья между порывами стали более удлиненными. Сквозь дымовое отверстие в крыше виднелось темное небо, покрытое тучами. Снег еще падал, но уже чувствовалось влияние другой силы, которая должна была взять верх и успокоить разбушевавшуюся стихию, чтобы восстановить должный порядок на земле. На другой день мы все встали довольно поздно, немного закусили печеной рыбой и отправились на свой бивак. С юго-запада тянулись хмурые тучи, но уже кое-где между ними были просветы и сквозь них проглядывало голубое небо. Оно казалось таким ясным и синим, словно его вымыли к празднику. Запорошенные снегом деревья, камни, пни, бурелом и молодые елочки покрылись белыми пушистыми капюшонами. На сухостойной лиственице сидела ворона. Она каркала, кивая в такт головою, и неизвестно, приветствовала ли она восходящее солнце или смеялась над нашей неудачей. Невдалеке виднелась наша палатка, и около нее струйка беловатого дыма поднималась кверху. Это Марунич готовил себе утренний завтрак. Через три дня мы были около устья реки Гобилли, памятной нам по маршруту на реке Хуту в прошлом году, где мы едва не погибли с голоду. Все большие притоки Анюя находятся в верхнем его течении. Если итти вверх по течению, то первой рекой, впадающей в него с левой стороны, как мы уже знаем, будет река Тормасунь, потом в двух днях пути от нее — река Гобилли. Затем в половине дня расстояния с левой же стороны две реки — Малая и Большая Поди, а за ними в четырех километрах — река Дынми. По ней я и наметил путь на реку Допи, впадающую в бухту Андреева. На этом участке (между Гобилли и Дынми) Анюй протекает в меридиональном направлении по чрезвычайно узкой и изломанной долине, обставленной высокими горами с остроконечными вершинами. Места эти можно было бы сравнить со Швейцарией, если бы эта красота не была такой дикой и суровой. Петрографические образцы, взятые мною из обнажений с обеих сторон реки, идут в следующем порядке: гнейс, слюдяной сланец и кремнистый песчаник, по-видимому, относящиеся к азоическим метаморфизованным. Оставив свой отряд около устья реки Дынми, я с двумя удэхейцами и с Чжан-Бао поднялся еще по Анюю километров на тридцать и стал биваком на правом нагорном берегу. Вечером у огня мои провожатые на бересте начертили мне план верхнего Анюя со всеми притоками. Их география все время переплеталась с рассказами о разных приключениях то со зверями, то с злыми духами. Чжан-Бао вставлял свои критические замечания, которые поражали меня то верностью, то своеобразной китайской фантазией. Например, он был убежден, что тигр в каждом человеке видит чушку и потому хочет его съесть. На всякий случай у него были готовые примеры, взятые из жизни предков Китая, а все, что исходит из «Великого срединного царства», достоверно и не подлежит сомнению. Уверенный тон, которым говорил Чжан-Бао, сильно действовал на удэхейца, и я увидел, что авторитет моего приятеля поднимался все выше и выше. Это нисколько не задевало моего самолюбия, и я со вниманием слушал повествования всех троих. Не помню, как я заснул, и не знаю, долго ли сидели у огня мои спутники, рассказывая друг другу разные были и небылицы. На другой день мы все полезли на сопку к одинокой ели, чтобы последний раз взглянуть на Анюй. Он уходил куда-то далеко на юго-юго-запад. Вдали виднелся хребет Тальдаки Янгени, закутанный в облака. За ним были истоки Хора. Еще южнее виднелось много гор, расположенных как бы в беспорядке, но имеющих, повидимому, один общий узел, с которого берут начало четыре главные реки Северо-Уссурийского края: Хор, Анюй, Копи и Самарга. По словам удэхейцев, истоки Анюя слагаются из трех маленьких горных речек. Место слияния их называется Элацзаво. Там есть солонцы, где всегда держится много сохатых, ниже есть пещера, откуда выходят горячие пары, есть и водопад, но места те запретны, так как там хозяйничает Буйнь Ацзани. Двадцать пятого марта утром я присоединился к своему отряду и в тот же день пошел дальше вверх по реке Дынми. Если встать лицом против течения, то движение вверх по реке Дынми проходит в юго-восточном направлении. Река Дынми небольшая, но она разбивается на много проток, которые летом из-за их засоренности должны очень мешать плаванию на лодках, но теперь, зимой, они облегчали наш путь, давая возможность без труда переходить из одной протоки в другую, пересекать петли реки в любом месте и т. д. Путеводной нитью нам служила нартовая дорога, проложенная гольдами. Правда, она была занесена снегом и заплыла наледями, но плавник везде был прорублен, разобран, вследствие чего наше продвижение происходило довольно быстро. Чем дальше я уходил от Амура, тем больше отставала весна. Николай Бельды был прав: на Дынми уже совсем не было проталин, не было талого снега, и воду для питья нам приходилось добывать из проруби. Петрографу стоит посетить Дынми. Он увидит древнейшие слоистые породы. От устья к Сихотэ-Алиню они идут в следующем порядке: сильно перемятые глинистый и филлитовый сланцы, потом амфиболит и эпидиорит. Геолог увидит здесь большие пороги вроде водопадов, гроты, пробитые водою, слоистые породы, поставленные на голову, с белыми, желтыми и черными прослойками. Некоторые слои во время повторной дислокации образовали красивую плойчатость; одни имеют плитняковую отдельность, другие при выветривании рассыпаются на мелкие чешуйки, третьи оказываются очень устойчивыми и, несмотря на все климатические невзгоды, только снаружи покрываются какой-то твердой корой, по внешнему виду совершенно отличной от основной породы. За день мы прошли далеко и на бивак стали около первой развилки, которую удэхейцы называют «цзаво». Этим же именем они называют и речку, по которой можно выйти в самые истоки реки Наргами (приток Буту). На этом биваке произошел курьезный случай. Вечером после ужина один из удэхейцев стал раздеваться, чтобы посмотреть, почему у него зудит плечо. Когда он снял нижнюю рубашку, я увидел на груди у него медный крест и спросил: — Что это такое? Удэхеец спокойно ответил: — Лоца чиктама севохини (т. е. русский медный «севохи»). Чтобы читатель понял, в чем дело, надо сделать маленькое разъяснение. Дух, помогающий человеку, — «севон», изображение его называется «севохи», причем этот «севохи» бывает и медный, и железный, и деревянный. Шаманы на основании снов делают «севохи» в виде человечков, фантастических зверей, рыб, птиц, насекомых, иногда тех и других вместе в разных позах, в разных комбинациях, причем такая фигурка нашивается под одежду к больному месту: на живот, на грудь, на плечо. Их возят с собой на охоту; «севохи» крупных размеров держат в юртах, им мажут губы кровью и салом убитых животных и т. д. — Кто тебе его дал? — спросил я удэхейца. — Лоца самани (т. е. русский шаман). После этого он сам стал меня спрашивать о том, почему у них, удэхейцев, много есть разных «севохи», а у нас, русских, только один, почему всегда он изображает человека с раскрытыми руками, почему его носят на груди. В заключение он выразил свое неудовольствие по адресу какого-то Фоки, который привез ему «лоца севохини», но не сказал, зачем его надо носить. Если для удачной охоты, то на какого зверя, а если против болезни, то какой именно. Забавным мне показалось столь естественное недоумение удэхейца, которого, по-видимому, сначала где-то окрестили, потом с каким-то Фокой послали крест с приказанием носить на груди. От места скрещивания двух перекладинок шло сияние, вроде расходящихся во все стороны коротких лучей. Чжан-Бао сказал, что это перья. Вот почему у «лоца севохини» всегда руки раскрыты и вот почему он улетел на небо. И опять начались разговоры про летающих людей, у которых на спине и руках вырастают крылья — и у китайца и у удэхейца были свои аргументы. Первый обосновывал свои доказательства на мнениях древних мудрецов, а удэхеец ссылался на какого-то гольдского шамана, сильнее которого не было еще на земле. Еще один день пути, и я подошел к подножию Сихотэ-Алиня. Река Дынми здесь течет вдоль водораздела с некоторым уклоном к северо-западу, обходя, насколько возможно, многочисленные отроги хребта. Местность, где мы остановились, представляла собой как бы большую котловину; кругом высились горы, состоявшие из плотных метаморфизованных песчаников и зеленоватых кремнистых глинистых сланцев. С той поры, как мы расстались с Анюем, широколиственные древесные породы стали быстро сокращаться в числе: сначала они уступили место сибирской лиственице, а теперь и эту последнюю стали вытеснять аянская ель и белокорая пихта. Только по самому низу долины около воды еще виднелись тальники, ольха, рябина и еще какие-то деревья, лишенные листвы, которые по внешнему виду издали определить было трудно. Узнав от проводников, что самый перевал через Сихотэ-Алинь покрыт хвойным лесом, я выбрал место, где заросли были не так густы, и стал готовиться к астрономическим наблюдениям. Казаки срубили несколько больших деревьев так, чтобы открыть возможно большую часть неба. На следующий день утро было тихое, солнце взошло в туманной мгле. Воздух был наполнен мельчайшими снежными кристалликами. Немного позже на небе опять появились круги и ложные солнца, потом поднялся ветер и нагнал облака с разлохмаченными краями. Однако мне все же удалось вычислить поправку хронометра и взять несколько высот солнца до и после кульминации. Во время наблюдений я заметил, что солнечные пятна, впервые замеченные мною несколько дней назад, остались в том же соотношении друг к другу, но переместились к верхнему краю диска. Был уже конец марта. Со дня на день надо было ждать оттепели, а путь нам предстоял еще длинный. Продовольствие наше тоже быстро иссякало. Надо было торопиться. Мучимый этими сомнениями, я почти всю ночь не спал и поэтому, как только появились первые признаки рассвета, поднял на ноги всех своих спутников. Чем ближе к Сихотэ-Алиню, тем подъем на его гребень становился все круче и круче. Самый перевал представляет собой седловину, имеющую вид площади высотою около 1100 метров над уровнем моря. Со стороны Анюя он был настолько крутым, что нартовую дорогу гольдам пришлось проложить зигзагами. С правой стороны тропы какой-то благочестивый китаец, вероятно скупщик мехов, поставил небольшую деревянную кумирню и повесил в ней лубочную картинку с изображением многочисленных божеств с прищуренными глазами и сияниями вокруг голов. Против этой кумирни на дереве я прибил свою доску, на которой ножом было вырезано время нашего перехода через Сихотэ-Алинь, фамилии моих спутников, а также название перевала, который мы окрестили именем Русского Географического общества. Пока стрелки и казаки отдыхали на перевале и курили трубки, я с удэхейцем успел подняться на соседнюю вершину высотою в 1300 метров. Чем дальше к югу, тем гребень Сихотэ-Алиня все повышался, приблизительно до 1700 и 1800 метров. Это и был тот цоколь, с которого берут начало Анюй и Копи. Когда мы вернулись, то уже не застали своих товарищей на перевале. Следы указывали, что они, не дождавшись нас, пошли дальше. Нам ничего не оставалось делать, как только постараться догнать их. Как при подъеме на перевал, так и при спуске с него явственно видна была нартовая дорога. Она шла с километр по лесу и затем вдруг вышла на обширное маревое пространство, покрытое сфагновым мхом и поросшее редкостойным замшисто-хвойным лесом. Перед нами развернулась слегка всхолмленная местность, обставленная небольшими, сильно размытыми сопками. Нигде эрозионный ландшафт не выражен так типично, как в верховьях реки Копи. Минут через двадцать хода тропа привела нас к какому-то мелкому оврагу, который вскоре оформился в долину, идущую в направлении к юго-востоку. Километрах в трех от перевала наш безыменный ключик впал в небольшую речку, подошедшую справа. Это и есть Иггу, верхний левый приток Копи. Здесь она течет в широтном направлении. Прошлой ночью был небольшой мороз. Весенний талый снег хорошо занастился, что в значительной степени облегчало продвижение нашего обоза. Под уклон горы стрелки и казаки шли очень скоро, а мне, наоборот, приходилось итти медленно. Река Иггу делала бесчисленное множество мелких изгибов, которые я должен был наносить на планшет. Это вынуждало меня часто останавливаться, чтобы делать все новые и новые измерения. Идя с удэхейцем, я спрашивал его, как дальше пойдет река, и он указывал мне отдаленные предметы, к которым мы подойдем вплотную. Удэхеец видел, что я подносил к лицу инструмент, прищуривал левый глаз и сквозь диоптры смотрел вдаль. Ему казалось, что я целюсь точно так же, как из ружья. — Вот теперь стреляй в то сухое дерево, — говорил он, указывая мне на одинокую лиственицу, стоящую на конце обрывистого мыса. Когда я отнял от глаза буссоль, он спросил меня: — Как, попади есть? — Есть, — отвечал я ему. Через несколько минут мы подошли к приметному дереву; он побежал к нему и стал внимательно осматривать кору, рассчитывая на ней найти какие-нибудь следы моей стрельбы из буссоли. Потом он вернулся ко мне и стал засматривать через плечо в планшет. — Где это дерево? — спросил он. — Вот здесь, — отвечал я, указывая на мыс, изображенный горизонталями. — Гм, — усмехнулся он. — Моя понимай, — продолжал он. — Один ружье — пуля стреляй, другое — карточка стреляй. Как это ружье стреляй — ни пуля нет, ни карточка нет, ничего нет. Куда попади? Объяснить ему сущность съемки мне не удалось. Случилось, что удэхеец отстал, а я ушел вперед. Теперь долина круто повернула на юг, по сторонам стали появляться явственно выраженные древние речные террасы с основанием из глинисто-кремнистых сланцев. Заболоченные хвойные леса остались сзади, и на сцену вновь выступила лиственица. Кое-где виднелись следы, оставленные старыми пожарами. На местах выгоревших хвойных деревьев выросли березняки. Всюду встречались следы сохатых, но самих животных не было видно: их спугнули стрелки и казаки, идущие впереди с обозом. Только к сумеркам мы догнали свой обоз и то потому, что он остановился около какой-то безыменной речки, впадающей в Иггу с левой стороны. Это было дикое ущелье величественной красоты. В глубине его клубился туман, а вершины остроконечных гор еще озарялись лучами солнца, уже скрывшегося за горизонтом. Горный хребет с зубчатым гребнем был изрезан глубокими барранкосами и ледопадами. У подножья ближайшей сопки виднелись два небольших темных пятна. Они передвигались. Это были лоси. Услышав звуки человеческих голосов и увидев дым на биваке, осторожные животные проворно скрылись в березняке. После перехода через Сихотэ-Алинь порядок рабочего дня пришлось изменить. Днем солнце начинало уже сильно припекать. Снег становился очень рыхлым, под ним стояла вода. Часа в четыре температура снова понижалась, а ночью морозило так, что промоины опять покрывались слоем льда, выдерживающим давление лыж. Хотя у нас и были дымчатые очки, но это мало помогало. Мы все очень страдали глазами от солнечных лучей, отраженных от блестящей занастившейся поверхности снега. Тогда я решил выступать с бивака как можно раньше и итти до десяти часов утра, затем мы ставили палатку и прятались в нее от солнца, а после четырех часов пополудни вновь шли до самой темноты. Согласно этому расписанию, на другой день удэхейцы разбудили нас ночью, когда еще не было ни малейших признаков рассвета. Мы скоро собрались и пошли дальше по реке Иггу. Она течет все время к юго-востоку и местами разбивается на мелкие рукава, забитые плавником, переправа через которые доставляет немало трудов не только летом, но и зимою. В некоторых местах около заломов скопилось много гальки, вследствие чего уровень воды в реке повысился и образовались широкие водопады. Еще одна теснина, и мы вышли на реку Копи. Верхнее течение реки Копи представляет собой дугу, обращенную выпуклой стороной на север. Выше Иггу она принимает в себя две небольшие горные речки — Буланиза и Дю, а ниже на 8 километров — речку Иоли, о которой у местного населения нет никаких сведений. На ней никто не бывал, потому ли, что она безрыбная, или там нет промысловых зверей, или потому, что около устья ее находится сопка Омоко Мамага, перед которой все гольды и орочи совершают поклонения. Провожавший нас удэхеец Цазамбу, соблюдая прадедовские обычаи, тоже преклонил перед ней свои колена и на один из камней положил кусочек красного кумача и два листочка табаку. Осмотр таинственной сопки не отнял много времени. Со стороны реки Копи она представляется руинами древнего замка, уже поросшего вековыми деревьями. Многочисленные скалы, украшающие ее гребень, имеют весьма причудливые очертания. Одна из них — самая большая — похожа на человека — это и есть Омоко Мамага. По этому поводу у копинских орочей есть сказание о борьбе великана Кангей с двумя великаншами — Омоко и Атынига. Все они окаменели: Кангей остался в верховьях реки, Омоко села около устья Иоли, а Атынига — еще ниже по течению, около реки Чжакуме. Это было в очень давние времена. С тех пор они стоят уже много веков и окарауливают порядок в долине Копи. Вот почему к именам их прибавили слово Мамага (что значит прабабушка). К востоку от реки Иоли находится гора Инда, командующая над всеми сопками этой части прибрежного района. На вершине ее есть озеро, из которого берет начало река Хади. Длинные отроги горы Инда Иласа вынуждают реку Копи отклоняться к юго-востоку и вторично описывать большую дугу, но уже в обратном направлении. После Иоли в очередном порядке идут две реки, сравнительно близко расположенные друг от друга: Чжауса и Чжакуме, представляющие собой естественные соболиные питомники. Как мы ни старались уйти от весны, она все-таки догнала нас на реке Копи: дни ненастные чередовались с днями солнечными и теплыми. Поверх льда в реке стояла талая вода. Она тотчас выступала на снегу позади лыж. Всюду появились промоины: днем они вскрывались, а к утру опять затягивались тонким слоем льда. В тех случаях, когда их нельзя было обойти стороною, мы выстраивались в одну шеренгу и по данному сигналу все разом бросались вперед. Лед начинал выгибаться, и на поверхности его появлялась вода. Задержись кто-нибудь хоть на мгновение, и кончено. Быстро бегущая вода сразу затянет неудачника под лед. Все спасение заключалось в быстроте передвижения. К счастью, перебеги через такие промоины кончались для нас благополучно. Река Копи протекает по долине поречного прорыва. Горы то вплотную подходят к реке с той и с другой стороны одновременно, то удаляются от нее так, что их за лесом совсем не видно. Теперь вместо глинистых сланцев и песчаников на сцену стали выступать массивно-кристаллические породы: гранофир, эпидотизированный и кварцевый порфир и т. п. За последние дни мы все очень устали. Наши нарты были почти пустые, но тащить, их по талому снегу было тяжело. Лямки резали плечи. Из двадцати восьми собак, взятых нами с Амура, в живых осталось только девять. Они едва плелись, так что нартовые ремни висели фестонами. В довершение несчастья я и мои спутники стали болеть. Лучи солнца, отраженные от снега, слепили глаза. Дымчатые очки мало помогали. Нахлобучив шапки как можно глубже, мы шли, опустив головы так, чтобы видеть только то, что было в непосредственной близости под ногами. Первый день апреля был особенно утомительным. Надежда найти людей около реки Чжакуме не оправдалась, и я видел, что мои спутники нуждаются в отдыхе более продолжительном, чем ночной сон, но опасение, что ледоход может захватить нас в дороге, заставляло итти через силу. Особенно тяжело было идущему впереди. Он должен был прокладывать дорогу. Когда он выбивался из сил, его заменял следующий, потом третий и т. д. Сначала эта смена происходила через полчаса, потом через пятнадцать, десять, пять минут и, наконец, обоз остановился совсем. Делать нечего, надо было устраиваться на бивак, и я уже стал присматривать место поудобнее, так, чтобы его не затопило водою при «воспалении» реки, как вдруг издали донесся собачий лай. Как немного надо, чтобы воодушевить усталых людей и животных! Собаки вскочили на ноги и натянули постромки. Обоз тронулся. Впереди за поворотом виднелась большая полынья, а за ней устье какой-то реки. Это была Бяпали. Один берег ее был низменный, а другой возвышенный. На самом краю его стояла юрта. Из отверстия в юрте поднималась кверху голубоватая струйка дыма. Когда последняя нарта была вытащена на берег, я почувствовал себя настолько усталым, что, войдя в юрту, не стал дожидаться ни обеда, ни чая, лег на цыновку и тотчас уснул. Когда я проснулся, были уже сумерки. В юрте горел огонь. По одну сторону его вместе со мной были стрелки и казаки, а по другую сторону сидел сам хозяин дома, его жена и удэхеец Цазамбу. Глава семьи был мужчина лет пятидесяти семи с сильной проседью в волосах. Он был широк в костях, имел нос с горбинкой, подслеповатые глаза, носил бороду и редкие усы. Родом он был с Амура. Отец его, как я узнал впоследствии, был полукореец, полугольд, а мать орочка. Нашего нового знакомого звали Лайгур. Его жена Чегрэ родилась около Торгона и тоже была метиской. В жилах ее, текла смешанная кровь. Она была тоже лет пятидесяти, ниже среднего роста, с морщинистым лицом и маленькими пестро-серыми глазами. Минут через десять женщина сняла котел с огня и стала по чашкам разливать похлебку, сваренную из юколы, сухой кетовой икры и жидкой чумизы. В это время в юрту вошел Рожков и сообщил, что начинает итти снег. Это известие как будто обрадовало всех. Непогода сулила отдых на весь завтрашний день. После чая мы недолго еще сидели. Меня опять стало клонить ко сну, я откинулся на спину и сам не помню, как уснул. Ночью я проснулся и не сразу мог сообразить, где я нахожусь. Кругом было темно; край моего одеяла заиндевел. Снаружи слышался какой-то шум, словно кто-то песок бросал лопатой на корье. Это ветер наметывал снег на стены юрты. Я повернулся на другой бок, подобрал под ноги одеяло и хотел было снова уснуть, как вдруг ухо мое уловило другой звук, который заставил меня вздрогнуть. Это был человеческий крик. «Вероятно, мне послышалось», — подумал я и стал опять завертываться в одеяло, но в это время крик повторился — протяжный, словно вымученный, сквозь слезы. Я быстро сбросил с себя одеяло и сел. В юрте было темно, только в очаге тлели две головешки. Снаружи завывала вьюга. Сильные порывы ветра иногда спадали до штиля. И вот в минуту одного такого затишья я в третий раз услышал тот же крик о помощи и затем плач. «Где-то погибает человек, может быть, женщина, ребенок!». Я разыскал удэхейца Цазамбу и стал трясти его за плечо. Он сел и, покачиваясь спросонья, спросил, что случилось. Я сказал ему, что слышал чьи-то крики снаружи и что надо итти на помощь. — Ничего, — сказал он мне. — Это больная девка. Скоро будет светать, и тогда ей дадут кушать и принесут дрова. — Да где же она находится? — продолжал я допытывать сонного удэхейца. — Там, — отвечал он, указывая рукой на один из углов в юрте. Вслед за тем он так решительно улегся на свое место, что я понял, что поднять его мне не удастся. Тогда я принялся будить кого-то из своих спутников. Кажется, это был Ноздрин. Старик сел и стал искать свою обувь. Я не стал его дожидаться и выбежал из юрты. Сильным порывом ветра меня чуть было не опрокинуло на землю. Снежная пыль ударила в лицо. Я ухватился за край юрты и прислушался. Минута ожидания показалась мне томительно долгой. Затем я вернулся в юрту, захватил спички, кусок бересты, несколько смоляных щепок и, выйдя наружу, направился в том направлении, которое указал мне Цазамбу. Ветер был очень сильный и порывистый. То он завывал тоненьким голоском, то вдруг визг его превращался в яростный рев. Точно зверь, сорвавшийся с привязи, он бросался на все, что встречалось ему на пути. «Как бы самому не заблудиться», — подумал я, но в этот момент наступило короткое затишье. Крик о помощи рассеял мои опасения. Я быстро пошел вперед. Глаза мои уже несколько успели привыкнуть к темноте. Сквозь снежную пыль я различал ствол большого кедра и рядом с ним что-то темное. Подойдя поближе, я увидел маленькую юрту, наполовину занесенную снегом. Тихий плач и стоны исходили из нее. Я быстро откинул полог у дверей и вошел внутрь помещения. В темноте что-то шевельнулось и притихло. Я достал спичку и зажег бересту. При первой вспышке огня я увидел в углу юрты какое-то человеческое существо, одетое в лохмотья. Я увидел широко раскрытые испуганные глаза и черные растрепанные волосы. Когда береста и смоляные щепки разгорелись, я сложил дрова и разжег костер. Теперь я мог хорошо рассмотреть, с кем имею дело. Юрта была маленькая, грязная, на полу валялись кости и всякий мусор. Видно было, что ее давно уже никто не подметал. На грязной, изорванной цыновке сидела девушка лет семнадцати. Лицо ее выражало явный страх. Левой рукой она держала обрывки одежды на груди, а правую вытянула вперед, как бы для того, чтобы защитить зрение свое от огня, или, может быть, для того, чтобы защитить себя от нападения врага. Меня поразила ее худоба и в особенности ноги — тонкие и безжизненные, как плети. Пока я возился с огнем, девушка сидела неподвижно и испуганно наблюдала за мною. — Не бойся, — сказал я ей по-удэхейски. — Мне холодно, — отвечала она, поникнув головой, и тихо заплакала. Не медля нимало, я сходил в общую жилую юрту и принес оттуда одеяло, чайник с водой, несколько кусков сухарей. Одеялом я накрыл ей плечи, повесил чайник над огнем, а сам сел по другую сторону костра. Понемногу она стала приходить в себя, выражение страха в глазах ее сменилось недоумением. — Ты больна? — спросил я ее. — Ноги болят, — отвечала она, — я не могу ходить. — Когда закипела вода, я подал ей кружку чая и сухари. Я не торопился расспрашивать ее. Надо было, чтобы она присмотрелась ко мне и перестала чуждаться. Через час она успокоилась совсем и стала связно отвечать на мои вопросы. Я услышал печальную историю. Она была сирота, рано потерявшая родителей, умерших от эпидемии оспы, когда ей было около четырех лет. Как и почему она попала к Лайгуру, не знает. Когда она достигла десяти лет, с ней начались делаться припадки, которые полтора года назад кончились параличом нижних конечностей. Девушка, лишенная ног, не могла быть работницей, к тому же она грязнила в общей юрте. Тогда ее изолировали в особое помещение. Убедившись, что она неизлечима, Лайгур и Чегрэ перестали о ней заботиться; ей не всегда даже давали есть, она давно уже не мылась и не расчесывала своих волос, одежда на ней истлела, ногти сильно отросли на руках и на ногах. Летом она, мучилась от комаров, а зимой от холодов, в особенности по ночам, когда не хватало дров. Жестокий старик не раз говорил ей о том, что ей надо умереть, и она сама считала, что это был бы лучший способ избавиться от страданий. Мне стало очень жаль эту ни в чем не повинную страдалицу. Надо было ей что-то сказать, как-то утешить, помочь, и я солгал, сказав, что пришлю ей хорошего лекарства («ая окто»), которое вернет ей силы и здоровье. Костер догорал; надо было еще принести дров. Я встал со своего места и вышел из юрты. Начинало светать, но буря не унималась. Ветер с воем носился по лесу, поднимая с земли целые облака снежной пыли. Они зарождались вихрями, потом превращались в длинные белые языки, которые вдруг внезапно припадали к земле и тотчас вновь появлялись где-нибудь в стороне в виде мечущихся туманных привидений. Когда я вернулся в юрту, больная, сидя, дремала у огня. Тихонько поправив огонь, я тоже пошел спать. Проснулся я поздно. Первое, что проникло в мое сознание, был сильный шум ветра, который сделался еще порывистее. Он сотрясал юрту до основания и грозил ее опрокинуть совсем. Эта угрозабыла настолько реальной, что удэхейцы привязали юрту ремнями за стволы и корни ближайших деревьев. Первое, что я сделал, это пристыдил Лайгура и его жену за бесчеловечное отношение к безногой девушке. Вероятно, утром Цазамбу рассказал старику о том, что я будил его и сам носил дрова к больной, потому что, войдя в ее юрту, я увидел, что помещение прибрано, на полу была положена свежая хвоя, покрытая сверху новой цыновкой. Вместо рубища на девушке была надета, правда, старая, но все же чистая рубашка, и ноги обуты в унты. Она вся как бы ожила и один раз даже улыбнулась. Вскоре пришла старуха и сказала, что будет мыть и чесать больной голову. Двое суток свирепствовала пурга. За это время мои спутники основательно отдохнули. Я заполнял свои дневники, вычерчивал пройденный маршрут и несколько раз навещал больную девушку. Я говорил ей, чтобы она не падала духом, и опять пообещал выслать ей хорошее лекарство. К вечеру пурга стала стихать, а ночью и небо очистилось… Я воспользовался этим и занялся астрономией. На солнце опять появилось два больших пятна рядом и третье поменьше — справа и внизу. За последние два ненастных дня снегу выпало много. Дружное таяние его могло пресечь всякую возможность сообщения по реке. Надо было торопиться скорее выйти к морю. Поэтому я выслал Лайгура и удэхейца Цазамбу вперед протаптывать дорогу. Вечером я позвал старуху в юрту больной и строжайше наказал ей ухаживать за девушкой, сказав, что я опять вернусь и проверю, как она держит свое обещание. Бедная девушка! В ночь накануне нашего выступления с ней сделался сильный припадок. Мне дали знать… Я застал ее в полном беспамятстве. Она лежала на спине бледная, как полотно. Взяв ее руку, я не нащупал пульса; зрачок глаза не реагировал на свет. Она умерла. Мы тронулись в путь. Весь день мои мысли раздваивались: то я сосредоточивал внимание свое на маршрутной съемке, то думал о смерти безногой девушки. Мой длинный жизненный путь пересек жизненный путь какой-то совершенно мне чуждой больной девушки и оборвал его. Мы родились в разных местах, в разное время и шли разными дорогами, пока не встретились на реке Копи. Она умерла, а я продолжал свой путь и буду итти по нему дальше. Таковы были мои мысли в день выступления с реки Бяпали. Я не сразу от них смог отделаться. Мало-помалу новые образы и новые впечатления стали их заслонять. Они начали блекнуть и теперь остались только в воспоминаниях. После притока Чжакуме Копи повернула на восток, отклоняясь то немного к северу, то немного к югу. Это широтное направление она сохраняет до впадения своего в море. Отсюда до устья реки — около 120 километров. Теперь долина сделалась заметно шире. Денудационный характер ее выражен рядом больших котловин, чередующихся со щеками. На пути к морю путешественник видит с правой стороны высокую сопку Чуйхойни, а за ней в самом русле реки шаманский камень Тараки, состоящий из обогащенного эпидотом и хлоритом бескварцевого порфира. Мимо него туземцы всегда проходят с опаской, стараясь не вспоминать злых духов. Немного дальше есть две ничем особенно не замечательные сопки: Байлаки и Бокки. С левой стороны в Копи впадают две речки — Чонеко и Кумуку, разделенные гранитной горой Каданку, потом небольшая возвышенность Ку и за ней базальтовые столбы, Это и есть Атынига Мамага. Все сопки оголены от леса. Места старых пожарищ заросли березняком. Тут же я заметил малину, сухой прошлогодний вейник и иван-чай. После пурги в атмосфере водворилось равновесие. На небе исчезли последние бровки туч. Снег, пригретый весенними солнечными лугами, быстро оседал. Талая вода, сбегающая с гор, распространялась по льду реки. Всюду появились большие промоины. Словом, здесь, в низовьях Копи, мы застали ту же картину, что и на Анюе месяц назад. С каждым часом, с каждым километром итти становилось труднее. Представьте себе полную распутицу: снег превращается в мокрую кашу, и река накануне ледохода, и вы поймете то состояние, в котором находились мои спутники. Они выбивались из сил и с такой страстностью стремились к морю, словно это было целью их жизни. Собаки совершенно не тащили нарт, но зато были полезны в другом отношении. Они как-то чутьем узнавали, где непрочен лед, и сами сворачивали в сторону. Как ни тяжело итти на лыжах по мокрому снегу, но это, был единственный безопасный способ передвижения. Производить съемку тоже становилось трудно, надо было зарисовывать рельеф в горизонталях, смотреть под ноги, обходить опасные места и ощупывать палкой лед чуть ли не на каждом шагу. Между Бяпали и Тепты, о которой будет речь ниже, тянутся андезитовые лавы, прорезанные глубокими оврагами, по которым бегут горные ключи Мононге, Моими и Но. Правый берег представляется рядом массивных террас, являющихся основанием для возвышенности Конгосу, Сюмукуло, Добойса и Агубуони. Против них по другую сторону реки располагается лесистое низменное пространство, прорезанное речкой Чанику. Восьмого апреля мы подошли к реке Тепты, по которой можно выйти на реку Мука, впадающую в Ботчи. Это обычный путь для удэхейцев, совершающих зимнее путешествие вдоль берега моря на собаках. Здесь мы застали одну семью удэхейцев, состоящую из старика лет шестидесяти и двух женщин: матери и дочери, пятидесяти и двадцати лет. За последние дни у моих спутников от ярких солнечных лучей, отраженных от снега, так разболелись глаза, что надо было хоть на один день сделать дневку, хоть, один день просидеть в относительной темноте или с повязкой на глазах. Удэхейцы жили в большой, просторной юрте. Старик предложил нам остановиться у него. Обе женщины тотчас освободили нам одну сторону юрты. Они подмели пол, наложили новые берестяные подстилки и сверху прикрыли их медвежьими шкурами. Мы, можно сказать, разместились даже с некоторым комфортом, ногами к огню и головами к берестяным коробкам, расставленным по углам и под самой крышей, в которых женщины хранят все свое имущество. Вечером старик принялся оттачивать копье. На мой вопрос, куда он собирается, удэхеец ответил, что он завтра хочет пойти поискать сохатого по свежевыпавшему снегу. Я попросил его взять меня с собой, на что он охотно согласился, но предупредил, что встать придется на рассвете. Чтобы выспаться и собраться с силами, я нарочно лег спать пораньше. Было еще темно, когда удэхеец разбудил меня. В очаге ярко горел огонь, женщина варила утренний завтрак. С той стороны, где спали стрелки и казаки, несся дружный храп. Я не стал их будить и начал осторожно одеваться. Когда мы с удэхейцем вышли из юрты, было уже совсем светло. В природе царило полное спокойствие. Воздух был чист и прозрачен. Снежные вершины высоких гор уже озарились золотисторозовыми лучами восходящего солнца, а теневые стороны их еще утопали в фиолетовых и синих тонах. Мир просыпался… Прямо от юрты мы свернули на реку Тепты, придерживаясь ее левого берега, но вскоре по маленькому ключику стали подыматься в горы. Перейдя небольшой кряжик, мы начали спускаться в соседнюю долинку. На свежевыпавшем снегу, действительно, было много новых следов. Среди них я узнал лисий, — он тянулся цепочкой и был с поволокой в сторону движения животного, затем кабарожий, оставленный ее маленькими острыми копытцами, а рядом другой, весьма похожий на медвежий, но значительно меньший размерами. Это шла росомаха. Старик-удэхеец не обращал внимания на них и шел все дальше до тех пор, пока не нашел то, чего искал. — Буй хоктони (т. е. дорога сохатого), — сказал он, указывая на широко расставленные большие следы. В это время вырвавшиеся из-за гор солнечные лучи сразу озарили всю долину, проникая в самую середину леса и мгновенно превращая в алмазы иней на обледеневших ветвях деревьев. С первых же шагов было видно, что лося долго следить не придется. Он шел лениво, часто останавливался и, по-видимому, дремал. Один раз он даже попробовал лечь, но что-то принудило его подняться и итти дальше. Мы умерили шаг и удвоили осторожность. Минут через двадцать следы, вывели нас на прогалину, поросшую редкой лиственицей. Вдруг мои спутник остановился и подал мне знак, чтобы я не шевелился. Я взглянул вперед и увидел лося. Он лежал на снегу, подогнув под себя ноги и положив голову на брюхо. Я осторожно поднял ружье и стал целиться, но в это время удэхеец громко крикнул. Испуганный лось вскочил на ноги и бросился бежать. Я выстрелил и промахнулся. Второй мой выстрел был также неудачен. Я рассердился на старика, думая, что он подшутил надо мной, и в этом духе высказал ему свое неудовольствие. Но удэхеец тоже был в претензии и заявил, что если бы он знал, что я промахнусь, то сам стрелял бы в зверя и, наверное, убил бы его на бегу. Я ничего не понимал. Сам он крикнул, сам вспугнул животное с лежки, сам мне помешал и теперь еще в претензии. На это старик мне сказал, что стрелять в спящего зверя нельзя. Его надо сперва разбудить криком и только тогда можно пускать в ход оружие. Такой закон людям дал тигр, который сам, перед тем как напасть на свою добычу, издает оглушительный рев. Человек, нарушивший этот обычай, навсегда лишается успеха на охоте и даже может пострадать. Преследовать лося теперь было бесполезно. Поэтому мы решили вернуться, но только по другой стороне реки Тепты, где было чище и меньше зарослей. Там мы увидели свежие следы волка, по-видимому, испуганного моим выстрелом, потом нашли следы двух колонков. Они подрались, один из них полез на дерево, а другой побежал в сторону. Теперь мы шли без опаски, свободно разговаривая вслух. Вспоминая свою молодость, удэхеец рассказывал о том, что раньше, когда у них были фитильные ружья, нужда заставляла их особенно осторожно подкрадываться к зверю. Он помнил рассказы стариков о том, как один охотник подкрался к спящему лосю и положил на него тоненькую тальниковую стружку. Возвратившись на бивак, он сказал об этом своим товарищам. Тогда другой охотник надел лыжи и пошел по его следу. Он скоро нашел лося, тихонько подкрался к нему, снял стружку и принес в табор как доказательство, что он, действительно, снял ее с животного. В этом рассказе много невероятного, но все же он иллюстрирует прежние времена, когда удэхейцы умели лучше выслеживать и окладывать, чем теперь. Около полудня мы возвратились на бивак, где застали всех в сборе. Остальная часть дня прошла за различными мелкими работами. Вечером после ужина я пошел в юрту к удэхейцу и стал расспрашивать его о том, как было раньше. Сначала разговор наш не клеился, но потом старик оживился и стал говорить с увлечением. Он говорил о прошлом, когда зверя было гораздо больше. Тогда люди понимали зверей, а теперь все животные стали пугливыми. В этот вечер он рассказал мне много любопытного. Один из эпизодов был особенно интересен. Речь шла о том, как один охотник приручил молодого лося. Он условился со своими сородичами, что приведет лося живым в селение, но с условием, чтобы они увели подальше собак и не выходили бы из юрт, пока он их сам не позовет. На другой день, захватив с собой достаточный запас юколы и охапку сухой травы, смоченной в растворе соли и высушенной на солнце, он пошел за зверем. В этот год зима была глубоко-снежная, и загнать сохатого не представляло особых затруднений. Удэхеец очень скоро нашел след молодого лося и стал его преследовать и довел его до такого состояния, что обессиленное животное остановилось, ожидая смертельного удара копьем, но человек не тронул его. Отдохнув немного, сохатый поднялся и пошел дальше. Охотник последовал за ним и опять, когда утомленный зверь лег, человек расположился тоже на отдых. Такое совместное хождение по тайге продолжалось несколько суток, причем каждый раз человек устраивался на отдых все ближе и ближе к животному. В конце концов лось понял, что охотник зла причинить ему не хочет, и стал к соседству человека относиться спокойнее. Тогда удэхеец начал подкармливать лося, время от времени бросая ему пучки соленой травы. Через несколько дней они уже поменялись ролями. Раньше вставал лось и за ним шел человек, теперь первым поднимался человек и за ним следовал сохатый. Направление держал удэхеец и привел его к селению сородичей, но последние не выдержали. Узнав, что по опушке леса ходит человек с лосем, они выбежали к нему навстречу. Увидев приближающуюся толпу, лось испугался и убежал в лес. Слушая старика, я невольно подумал о том, что, возможно, первобытные люди стояли к животным ближе, чем теперешние туземцы. Между ними и дикими зверями было больше общений и, быть может, и больше взаимного понимания, чем теперь. Охотники целыми днями наблюдали за животными, изучали их нравы и повадки, знали, как подойти к ним и как их приручить. Лошади, собаки, рогатый скот и все вообще домашние животные приручены первобытным человеком. Горожане ушли от природы и навсегда утратили общение с четвероногими, но иногда и среди них встречаются отдельные личности, у которых как атавизм сохранилась способность влияния на животных. Обычно это свойственно лучшим дрессировщикам. После реки Тепты характер местности заметно изменился, начались столообразные горы. Громадный лавовый покров, захвативший весь бассейн реки Хади с главным ее притоком Тутто, распространился и далее на юг. Вот почему по нижнему течению Копи мы видим пологие сопки с плоскими вершинами, слагающиеся из базальтов. Километрах в тридцати от устья река делает большую излучину к северу. В северо-западный угол этой излучины впадает речка Никми, а немного ниже находится селение Улема. Здесь Хади ближе всего подходит к Копи. Их разделяет между собой небольшая гряда, через которую пролегает кратчайший путь на Императорскую гавань. В селении Улема я застал ороча. Савушку Бизанка, с которым мы плыли на лодках вдоль берега моря к реке Самарге. Он сообщил нам, что Иван Михайлович (Чочо), из того же рода Бизанка, обеспокоенный нашим отсутствием, ввиду надвигавшейся распутицы выслал его нам навстречу. Савушка дошел до Улема и здесь решил дождаться ледохода, а затем с четырьмя орочами на двух лодках итти нам на помощь. Я поблагодарил Савушку за внимание и рассказал ему, как мы шли, как охотились на тигров и что случилось с нами на реке Бяпали. Селение Улема состояло из трех деревянных домиков, в которых проживало семь мужчин, шесть женщин и семь детей, всего двадцать человек. Туземцы с рек Хади и Тумнина считают себя настоящими орочами. Копинских жителей они тоже считают своими людьми, но говорят, что язык их немного другой, и потому называют их «орочами-копинка». В этот день мы дальше не пошли и заночевали в селении Улема. Один раз я проснулся и видел орочей, сидевших у камина. Они что-то рассказывали друг другу и упоминали Омоко Мамага и какие-то каменные бревна. Я хотел было послушать эти рассказы, но сон против моей воли осилил меня. Убаюкиваемый их говором, я снова крепко уснул. На другой день Савушка поднял нас задолго до рассвета. Он распорядился заменить наших усталых собак свежими. Не медля нимало, мы уложили свои нарты и тронулись в путь. Ночью был туманный мороз, мокрый снег занастился, все деревья заиндевели; сквозь мглу на небе чуть-чуть виднелись две-три крупные звезды. К моменту, восхода солнца мы отошли от селения Улема километров на двенадцать. Еще 15 марта, когда мы были в верховьях Иггу, в полдень на снегу при температуре -1,5 °C я заметил странные живые существа, по внешнему виду очень похожие на пауков. Они двигались торопливо и каждый раз, когда я хотел поймать их, старались зарыться в снег. Второй раз я увидел эти странные создания около Бяпали. Термометр показывал +3 °C. Они были вялыми и двигались медленно. На пути от Улема к морю на рассвете я снова имел возможность наблюдать этих странных насекомых. Пока было холодно, они довольно энергично копались в снегу, но как только взошло солнце и температура повысилась до +5 °C, они стали замирать и еле-еле двигались своими длинными паукообразными ногами. Савушка называл их «имаса кулигани» (имаса — снег, кулига — все наземные, ползающие живые существа: черви, гусеницы, насекомые, змеи и т. д.). Они всегда появляются весной и даже при морозах, когда лужи промерзают насквозь. Иногда их бывает так много, что можно подумать, будто снег покрыт пылью. Чем ближе к морю, тем больше исчезали широколиственные древесные породы. Первым отстал тополь, потом клен. Отстал также и кедр, зато преобладающими сделались аянская ель, белокорая пихта и даурская лиственица. Изредка попадался тисс. Ближе к морю лавовый покров вытянулся длинными плоскими языками и в таком виде застыл. В последовательном порядке по течению они имеют следующие названия: с правой стороны — Цзюгбу, около которой в Копи впадает небольшая речка Май, затем будет местность Тектоно и за ней сопки: Таленку, Даулкей, Сунтакуле и Гулика. С левой стороны после горы Юшангу — гора Сололо Гуляни. Через нее тоже лежит путь на реку Хади. Обнажение сопки Гулика представляет собой великолепный образчик столбчатого распадения базальтов, причем столбы лежат горизонтально, как поленница дров. Я остановился и стал рассматривать отдельные глыбы лавы. — Ни када моени (т. е. это каменные бревна), — сказал Савушка. И опять на сцену выступил Кангей, который из целых бревен сложил много костров и хотел сжечь всю землю, но ему не позволили Омоко и Атынига. Сам он превратился в скалу, и костры его тоже окаменели. За сопкой Гулика река Копи выходит на равнину Цзаусано и разбивается на несколько больших проток. Характер береговых обрывов, далеко отодвинутых в сторону, и заболоченные острова между протоками свидетельствуют о том, что раньше здесь был морской залив и что маленькие речки Яна, Улике и Копка самостоятельно впадали в море. В те времена устье реки Копи находилось около сопки Гулика. Мы рассчитывали дойти до моря к трем часам дня, но после полудня погода стала портиться. Небо покрылось тучами, и повалил крупный влажный снег. Затем поднялся ветер. — Манга Суала бо (т. е. плохой ветер со стороны острова Сахалина), — говорил Савушка. — Надо торопиться! Опять будет скоро пурга! Скорей вперед идем! Только к сумеркам мы услышали шум морского прибоя. Вот и лиственичная роща, вот и юрты орочей. Кто-то вышел нам навстречу. Я сразу узнал приземистую фигуру Карпушки. — Сородэ, сородэ, — обменивались орочи приветствиями. После скудного ужина, состоявшего из сухой юколы, утомленные тяжелыми переходами, мы легли ногами к огню и мгновенно уснули под завывание пурги и шум морского прибоя. Шесть суток продержала нас ненастная погода. Наши продовольственные запасы иссякли. У орочей ничего нельзя было купить: они сами жили впроголодь и ждали, когда вскроется река, чтобы заняться весенним ловом рыбы. 17 апреля сильный ветер и волнение с моря взломали лед в устье реки. Карпушка и Савушка сейчас же отправились на рыбную ловлю, а я пошел по берегу поохотиться на каменушек. Проходив напрасно около часа и отчаявшись в успехе, я уже хотел было повернуть назад, но в это время увидел какое-то странное пятно на снегу. Сначала я подумал, что это проталина, но скоро заметил на ней движение. Я притаился за кустами шиповника и стал наблюдать. Предмет, привлекший мое внимание, действительно оказался проталиной, на которой столпилось несколько десятков больших птиц. Они, по-видимому, зябли на снегу и поэтому сбились в одну кучу. Некоторые падали на снег, но тотчас поднимались и, распустив крылья, вытянув длинные шеи, старались снова как-нибудь втиснуться в общую кучу. Я отступил тихонько назад, обошел птиц стороною и, подкравшись к ним возможно ближе, выстрелил из ружья. Мнговенно вся стая с криками поднялась в воздух. Сначала птицы полетели вразброд, но скоро выстроились большим косяком и направились вдоль берега моря на север. Одна из птиц осталась на месте. Она еще была жива. Подойдя ближе, я узнал восточную белобокую казарку. С богатой добычей я вернулся домой. Часа через два вернулись и орочи. Они поймали на перемет двух крупных тайменей весом около двенадцати килограммов каждый и небольшого осетра весом около восьми килограммов. Из остатков сухарей мы сварили нечто вроде каши. На обед мы имели гуся, а к ужину отварную рыбу самого высокого качества. На другой день мы распрощались с Копи и в сопровождении Савушки и Карпушки на большой морской лодке отправились в Императорскую Гавань. Зимний проход от Амура до берега моря по Анюю, Дынми, Иггу и Копи был нами успешно закончен.
Рассказы

Три гроба[317]
После полудня погода испортилась. Небо стало быстро заволакиваться тучами, солнечный свет сделался рассеянным, тени на земле исчезли, и все живое попряталось и притаилось. Где-то на юго-востоке росла буря. Предвестники ее неслышными, зловещими волнами спускались на землю, обволакивая отдаленные горы, деревья в лесу и утесы на берегу моря. Пора было становиться на бивак, но вдруг я вспомнил, что, уходя из села Дата, я не завел хронометра. Если его не завести, завтра утром он остановится, и тогда — прощайте мои долготы! Надо было немедленно возвращаться назад. Я сообщил об этом моему спутнику Ноздрину. Он не протестовал и молча последовал за мною. Мы старались держаться своих следов, но скоро потеряли их и дальше пошли медвежьей тропой. Она то приближалась к реке Улике, то снова углублялась в лес. Иногда мы ее теряли, но потом находили опять там, где была сильно примята трава. До сумерек все же успели пройти порядочное расстояние, что придало нам больше уверенности, и мы прибавили шаг. Незаметно скрылось солнце за горизонт. Сумерки надвинулись неожиданно. Воздух посинел, потом потемнело небо; начал накрапывать дождь. Как раз в это время медвежья тропа, которой мы все время держались, стала забирать в сторону от реки. Полагая, что она снова выйдет на Улике, мы доверились ей. Однако она уходила все дальше и дальше в тайгу. Тогда я решил оставить ее и свернул на юго-восток, чтобы целиной через лес выйти прямо к реке.— Как бы нам не заблудиться, — сказал Ноздрин.. Но, по моим соображениям, река не должна была быть далеко. Часа через полтора начало смеркаться. В лесу стало быстро темнеть, пошел мелкий и частый дождь. Уже трудно было рассмотреть что-нибудь на земле. Нога наступала то на валежину, то на камень, то проваливалась в решетины между корнями. Одежда наша быстро намокла, но мы мало обращали внимания на это и энергично продирались сквозь заросли. Вот впереди показался какой-то просвет. Я полагал, что это река; но велико было наше разочарование, когда мы почувствовали под ногами вязкий и влажный мох. Это было болото, заросшее лиственицей с подлесьем из багульника. Дальше за ним опять стеною стоял дремучий лес. Мы пересекли болото в том же юго-восточном направлении и вступили под своды старых елей и пихт. Здесь было еще темнее. Мы шли ощупью, вытянув вперед руки, и часто натыкались на сучья, которые как будто нарочно росли нам навстречу. — Собака лает, — сказал Ноздрин и остановился. Но как я ни напрягал слух, не слышно было ничего, кроме легкого ветерка, пробегающего по вершинам деревьев, да шума дождя. — Это тебе показалось, — сказал я своему спутнику, и мы опять начали пробираться через заросли кустарниковой березы, поминутно натыкаясь на бурелом и обходя его то с одной, то с другой стороны. — Надо бы «взреветь», — сказал Ноздрин и, приложив руки ко рту в виде рупора, закричал что есть силы, но звук голоса не распространился по лесу и как-то глухо затерялся поблизости. Иногда мне казалось, что я узнаю то или иное место. Казалось, что за перелеском сейчас же будет река, но вместо нее опять начиналось болото и опять хвойный лес. Настроение наше то поднималось, то падало. Наконец, стало совсем темно, так темно, что хоть глаз выколи. Одежда наша намокла до последней нитки. С головного убора сбегала вода. Тонкими струйками она стекала по шее и по спине. Мы начали зябнуть. — Делать нечего, — сказал я Ноздрину. — Придется ночевать. — Ну что же, ночевать — так ночевать, — отвечал стрелок. — Здесь много бурелома, дров хватит. В это время я наткнулся на что-то большое, громоздкое. Потеряв равновесие, я упал поперек какого-то большого предмета. Я стал подыматься и руками ощупывать длинный ящик в виде корыта, сверху забитый досками. — Гроб, — сказал я своему спутнику. — Должно быть, деревня недалеко, — ответил Ноздрин. — Это — кладбище, значит нам надо держать направление так… Я не видел, куда показывал Ноздрин, и, поднявшись на ноги, пошел за ним следом. Едва мы сделали несколько шагов, как теперь он наткнулся на второй гроб, прикрытый сверху корьем. Представив себе мысленно, как расположено кладбище, я взял еще правее, но снова гроб преградил мне дорогу. Тогда я остановился, чтобы сообразить, куда держать направление. Ночь была черная и дождливая. Ветер дул все время с северо-востока порывами, то усиливаясь, то ослабевая. Где-то в стороне скрипело дерево. Оно точно жаловалось на непогоду, но никто не внимал его стонам. Все живое попряталось в норы, только мы одни блуждали по лесу, стараясь выйти на реку Улике. — Попробуй выстрелить, — обратился я к Ноздрину. Стрелок снял винтовку с плеча, и я слышал, как он взвел курок затвора. Короткая молния на мгновение прорезала тьму. Звук выстрела, так же, как и окрик, не мог распространяться далеко и замер тут же, где и родился. С минуту мы неподвижно, напрягая слух и зрение, простояли на месте, но не слышали ничего, кроме шума дождя и журчания воды, бежавшей ручьями по земле. Посоветовавшись, мы решили пройти еще немного, и если скоро не выйдем из лесу, то развести огонь и ждать рассвета. Пройдя сто шагов, я увидел, что Ноздрин отстал, и окликнул его. Стрелок тотчас же отозвался. — Сейчас, я только гроб обойду, — ответил он. Мы стали перекликаться и пошли друг другу навстречу. Когда он был совсем близко от меня, я слышал, как он упал и выругался. — Что случилось? — спросил я его. — Да опять гроб! Чорт бы его побрал! — ответил он мне всердцах.
Наконец мы сошлись и, чтобы не потерять друг друга, взялись за руки. Одиннадцатый гроб вывел меня из терпения. — Стой, — сказал я Ноздрину. — Давай устраиваться на ночь. Дальше не пойдем. Мы сняли с себя ружья и прислонили их к дереву, затем принялись ломать сухие сучья. Один сучок упал на землю. Я наклонился и стал искать его у себя под ногами. Случайно рукой я нащупал большой кусок древесного корья. Опыт страннической жизни научил меня всегда держать при себе засмоленную баночку со спичками и обломками целлулоида. Ноздрин нашел где-то бересту. Сунув под нее кусочек целлулоида с гребенки, он чиркнул спичкой, и тотчас желтоватое пламя взвилось тонким длинным языком. Я держал над огнем корье, чтобы его не заливало дождем, пока Ноздрин сверху накладывал сухие сучки и смолье, которое случайно оказалось на стволе растущей поблизости старой пихты. Когда костер разгорелся, мы увидели в непосредственной близости от себя целую гробницу, прикрытую сверху двускатной крышей из древесного корья. Точно сговорившись, мы стали разводить огонь около самого гроба. Когда он так же разгорелся, как и первый, мы перенесли в него весь жар и головешки от первого костра. Потом Ноздрин поправил крышу гробницы, там, где она немного обвалилась и протекала. Затем мы стали устраиваться для ночлега. Стрелок снял с гроба два куска берестяной покрышки; я положил их на еловые ветки, устроив таким образом сухое ложе. Мы с Ноздриным сидели лицом к огню, я — с правой стороны гроба, он — с левой. Покойник лежал тоже головой к огню. Гроб выдвигался немного вперед и разделял нас настолько, что мы вынуждены были нагибаться, чтобы видеть друг друга. Под крышей гробницы, согреваемые теплом костра, мы почувствовали себя счастливыми. Как немного надо человеку и как растяжимо понятие о комфорте! После полуночи дождь начал стихать, но небо по-прежнему было морочное. Ветром раздувало пламя костра. Вокруг него бесшумно прыгали, стараясь осилить друг друга, то яркие блики, то черные тени. Они взбирались по стволам деревьев и углублялись в лес, то вдруг припадали к земле и, казалось, хотели проникнуть в самый огонь. Кверху от костра клубами вздымался дым, унося с собою тысячи искр. Одни из них пропадали в воздухе, другие падали и тотчас же гасли на мокрой земле. Мы с Ноздриным сняли с себя верхнее платье и повесили его под крышей гробницы, чтобы оно просохло. Всю ночь мы сидели у костра и дремали, время от времени подбрасывая дрова в огонь, благо в них не было недостатка. Мало-помалу дремота стала одолевать нас. Я не сопротивлялся ей, и скоро все покончил глубоким сном. Проснулся я оттого, что прозяб. Светало. Дождь совсем перестал, и ветер совершенно стих. Густой туман заполнял весь лес. С деревьев падали на землю редкие крупные капли. Листва и трава казались неподвижными. От почти погасшего костра кверху подымалась тонкая струйка дыма. Ноздрин спал на левом боку. Я подбросил дров в огонь и разбудил его. Мы погрелись, обулись и стали осматриваться. Оказалось, что кладбище, на котором мы ночевали, состояло всего только из трех гробов. Значит в темноте мы все время кружили по одному и тому же месту, постоянно натыкаясь на эти три гроба. В это время потянул слабый ветерок. Туман пришел в движение, и тогда шагах в четырехстах впереди мы увидели орочское селение Дата.
Смерч около устья реки Тумнин
После недавней бури в природе воцарилась полная тишина, хотя небо больше, чем вчера, было покрыто тучами. В виде темной скатерти они неподвижно повисли над морем; на запад, в глубь материка, серо-свинцовое небо простиралось насколько хватал глаз. Лохматые тучи стояли над землею так низко, что все сопки, как срезанные под один уровень, имели вид разобщенных между собою столовых гор. Свежевыпавший снег толстым слоем, словно капюшоном, прикрыл юрты туземцев, опрокинутые вверх дном лодки, камни, пни, оставшиеся от порубленных недавно деревьев, и валежник на земле. Однако белоснежный убор земли не придавал ландшафту веселого и праздничного вида. В темном небе, в посиневшем воздухе, хмурых горах и в черной, как деготь, воде чувствовалось напряжение, которое чем-то должно было разрядиться. Я взял лодку и переехал на другую сторону реки Улики. Перейдя через рощу, я вышел к намывной полосе прибоя. Абсолютный штиль был в море. Даже трудно представить его себе в таком спокойном состоянии: ни малейшего всплеска у берега, ни малейшей ряби на его гладкой поверхности. Большой мыс Лессепс-Дата, выдвинувшийся с северной стороны в море, с высоты птичьего полета должен был казаться громадным белым лоскутком на темном фоне воды, а в профиль его можно было принять за чудовище, которое погрузилось наполовину в воду и замерло, словно прислушиваясь к чему-то. И море и суша были безмолвны, безжизненны и пустынны. Белохвостые орланы, черные кармораны, пестрые каменушки и белые чайки — все куда-то спрятались и притаились. Я пошел вдоль берега навстречу своему спутнику, который тоже спешил мне навстречу и озабоченно смотрел куда-то в море. — Куда вы торопитесь? — спросил я его. — Пароход идет, — сказал он, указывая рукой в сторону Советской гавани. Я оглянулся и увидел столб дыма, подымающийся из-за мыса, отделяющего бухту Чжуанка от бухты Дата. Сначала я тоже подумал, что это дым парохода, но мне показалось странным, что судно держится так близко к берегу, да, кроме того, ему и незачем заходить за этот мыс. Потом меня удивило вращательное движение дыма, быстрота, с которой он двигался, и раскачивание его из стороны в сторону. Темный дымовой столб порой изгибался, утончался, опять делался толще, иногда разрывался и соединялся вновь. Я терялся в догадках и не мог дать объяснение этому необычайному явлению. Когда же столб дыма вышел из-за мыса на открытое пространство, я сразу понял, что вижу перед собой смерч. В основании его вода пенилась, как в котле. Она всплескивалась, вихрь подхватывал ее и уносил ввысь, а сверху в виде качающейся воронки спускалось темное облако. Из-за мыса смерч вышел тонкой струйкой, но скоро принял большие размеры, и по мере того, как он увеличивался, возрастала быстрота его вращения и поступательное движение на северо-восток. Через несколько минут он принял поистине гигантские размеры и вдруг разделился на два смерча, двигавшиеся в одном направлении к острову Сахалину. Спустя некоторое время они снова стали сходиться. Тогда небо выгнулось, а вода вздулась большим пузырем. Еще мгновение, и смерчи столкнулись. Можно было подумать, что там взорвалась громадная мина. В море поднялось гигантское волнение, тучи разорвались и повисли клочьями, и на месте смерчей во множестве появились вертикальные полосы, похожие на ливень. Затем они стали блекнуть, и нельзя было решить, что это — дождь или град падает в воду. Потом в море появилась какая-то мгла, заслонившая полосы, оставшиеся от смерчей. Тучи, до сего времени неподвижно лежавшие на небе, вдруг пришли в движение. Темносерые с разлохмаченными краями, словно грязная вата, они двигались вразброд, сталкивались и поглощали друг друга. Ветер, появившийся сначала в высших слоях атмосферы, скоро спустился на землю, сначала небольшой, потом все сильнее и сильнее. Небо стало быстро очищаться. Сделав необходимые записи в дневник, я отправился к старшине Антону Сагды. У него я застал несколько человек орочей и стал их расспрашивать о смерчах. Они сказали мне, что маленькие смерчи в здешних местах бывают осенью, но большие, вроде того, который я наблюдал сегодня, — явление чрезвычайно редкое. Орочи называют его сагды сюи. Старшина рассказал мне, что однажды, в бытность его еще молодым человеком, он в лодке с тремя другими орочами попал в такой смерч. Он подхватил лодку, завертел ее, поднял на воздух и затем снова бросил на воду. Лодка раскололась, но люди не погибли. Помощь оказали другие лодки, находившиеся поблизости.Касатка-Тэму
Обойти «непропуск» оказалось не так-то легко. Мы лезли в гору, пробирались сквозь густые заросли и обходили осыпи; местами крутизна принуждала нас взбираться еще выше и долго итти косогором. Судя по времени и пройденному расстоянию, «непропуск» должен был быть уже сзади. Теперь начался спуск, сначала крутой, но потом он сделался положе. Я полагал, что мы скоро выйдем к морю, но ошибся. Сквозь просветы между деревьями уже виднелась вода и слышался шум прибоя, как вдруг совершенно неожиданно опять оказался обрыв и на этот раз совершенно отвесный. По краю его мы дошли до оврага. Это обходное движение отняло у нас много времени. Спуск в овраг был очень крут и загроможден большими камнями. Глубокие ямы по руслу его, замаскированные травою, представляли настоящие ловушки. Туземцы двигались медленно, разбирая траву руками и, несмотря на это, часто падали и ушибались. Овраг, по которому мы спускались, оказался длинным. Но вот кустарники стали редеть; в лицо повеяло сыростью и запахом моря. Еще несколько шагов, и мы все разом вышли на намывную полосу прибоя. Свежий юго-восточный ветер гнал к берегу волны. Они зарождались далеко там, где небо сходится с землею, и шли в стройном порядке, не сталкиваясь и не обгоняя друг друга. Ветер срывал с их гребней белую бахрому и мелким дождем разносил ее по морю. Со стороны казалось, будто волны дымятся. Как раз против оврага из воды торчали два больших камня. Один из них был похож на каравай хлеба, другой — на гигантскую жабу, обращенную головой к югу. Волны с шумом разбивались о них. На мгновение жаба пропадала, но вслед за тем из белой пены опять появлялась ее голова на том же месте. Вода каскадом сбегала с ее спины, но тотчас ее накрывала другая волна, за ней третья. Это было какое-то тупое соревнование между неподвижной каменной жабой и морской водою, нападающей на берег. Горная порода, вынесенная из оврага и разрушенная морским прибоем, превратилась в гравий и образовала широкую отмель. Вода взбегала на нее с сердитым шипеньем и тотчас уходила в песок, оставляя после себя узенькую полоску пены, но следующая волна подхватывала ее и бросала на отмель дальше прежнего. Шагах в полутораста от камней, на прибрежной гальке, у самого края воды лежала какая-то большая темная масса. От ударов волн она вздрагивала и колыхалась. Иногда она подымалась немного кверху, но каждый раз, как только волны отходили назад, она снова сползала к морю. Это было что-то грузное, рыхлое, мягкое. Как только мы спустились из оврага, с нее снялось несколько птиц, в числе которых были и вороны. Несомненно, это был морской зверь, выброшенный волнами на берег. Мы тотчас направились к нему. Оба туземца шли впереди, а я несколько отстал. Вдруг они остановились, стали всматриваться в темную массу и затем бросились назад. На лицах их был написан испуг. Не зная в чем дело, я тоже остановился и приготовил ружье, но убедившись, что животное мертво, подошел к нему вплотную. Это оказалась касатка — самое свирепое из морских чудовищ, наводящее ужас на всех зверей и рыб. Даже акула от нее убегает и в страхе выбрасывается на отмель. Я обошел мертвое животное кругом. Большое веретенообразное тело ее было покрыто темной кожей, к которой во многих местах прикрепились раковины усоногих. Оно имело в длину около шести метров и оканчивалось хвостовыми плавниками, как у всякого китообразного. Брюхо ее было грязно-белого цвета; два небольших боковых плавника находились недалеко от головы, а на спине, кроме того, выдавался еще огромный треугольный плавник. Небольшая голова, но громадная пасть, вооруженная многочисленными острыми зубами, маленькие глаза с светлыми пятнами позади их, в которых застыло выражение жестокости и злобы, придавали ей действительно страшный и отталкивающий вид. По-видимому, касатка давно уже подохла; туша начала разлагаться и издавала зловоние. В это время я услышал крики. Я оглянулся и у входа в овраг увидел туземцев, делающих мне какие-то знаки. Когда я подошел к ним, они тревожно стали говорить о том, что мертвый зверь есть «Тэму» — грозный хозяин морей, и потому надо как можно скорее уходить отсюда. Человека, который позволит себе подойти к Тэму, да еще тронуть его, непременно постигнет страшное несчастье… Я стал говорить, что касатка мертва и потому совершенно неопасна, но они ответили мне, что Тэму может прикидываться мертвым, оставлять на берегу свою внешнюю оболочку, превращаться в наземных зверей и даже в неодушевленные предметы. Они ни за что не хотели дальше итти берегом моря и предпочитали вновь карабкаться в горы. Напрасно я приводил им всякие резоны; они оставались непреклонны. Тогда я условился, что буду ждать их около второго мыса. Мы расстались; туземцы пошли назад по оврагу, а я по намывной полосе прибоя. Как и надо было ожидать, к указанному мысу я пришел раньше их часа на два. С закатом солнца ветер засвежел, небо покрылось тучами, и море еще более взволновалось. Сквозь мрак виднелись белые гребни волн, слабо фосфоресцирующие. Они с оглушительным грохотом бросались на берег. Всю ночь металось море, всю ночь гремела прибрежная галька и в рокоте этом слышалось что-то неумолимое, вечное. Рано утром один из стрелков ходил на охоту за нерпами. Возвратясь, он сообщил, что бурей ночью мертвую касатку снова унесло в море. Я не придал его словам никакого значения, но орочи нашли это вполне естественным: Тэму вернулся, принял свой обычный вид и ушел в свою родную стихию. После полудня ветер начал стихать, и море стало успокаиваться; вместо волн с острыми гребнями появилась мертвая зыбь. Незадолго до сумерек мы пошли собирать дрова. Вдруг один удэхеец что-то закричал. Я обернулся и увидел недалеко от берега большой черный плавник, быстро рассекающий воду. Это была касатка-гладиатор. Она дважды прошла вперед и назад, затем остановилась и встала к нам головой так, что плавник ее сделался похожим на палку. Касатка то опускалась вглубь, то снова всплывала на поверхность воды, порой она совсем близко подходила к берегу и вдруг бросалась назад, издавая какие-то странные звуки, похожие на грузные вздохи или заглушённое мычание. Когда на западе угасли отблески вечерней зари и ночная тьма окутала землю, удэхейцы камланили. Они притушили огонь. Один из них накрыл себе голову полотенцем и, держа в руках древесные стружки, произносил заклинания, а другой взял листочек табаку, несколько спичек, кусочек сахару и сухарь и все побросал в море, Это было жертвоприношение.Змеиная свадьба
Солнце только что перевалило за полдень. Жара стояла невыносимая. Был один из тех знойных июльских дней, когда нагретая солнцем земля не успевает за ночь излучить тепло в мировое пространство, а на другое утро, накопляет его еще больше, и от этого становится невыносимо душно. Сегодня было как-то особенно «глухо». Солнце палило немилосердно и так нагревало камни на берегу, что от прикосновения к ним обнаженной рукой получалось впечатление ожога. Солнечные лучи отражались от воды ослепительными бликами, так что больно было смотреть. Все птицы и звери попрятались от зноя. Глубокая тишина в природе нарушалась только однообразно монотонным шумом воды в реке, да жужжанием насекомых. И чем сильнее пекло солнце, тем больше они проявляли жизни. Одни из них летали, другие бегали по песку, третьи взбирались по цветковым растениям как бы для того, чтобы убедиться, все ли здесь в порядке. Достигнув вершины, они тотчас поворачивались и начинали спуск по стебельку или, расправив жесткие надкрылья, вдруг снимались с места и перелетали на другое растение, где торопливо начинали тот же осмотр. Я долго следил за ними. Их было так много: больших и малых, ярко окрашенных и мало заметных, изящных и безобразных, некрасивых, всевозможных форм, простых или представляющих из себя настоящих чудовищ в миниатюре. Внимание мое привлекли какие-то насекомые из семейства жужелиц. Они бегали по песку и иногда замирали в неподвижной позе, вдруг делали прыжки и, схватив какое-нибудь насекомое, тут же принимались пожирать его с жадностью. Это очень хищные, прожорливые и осторожные жуки, пестро окрашенные, с выпуклыми глазами и сильными челюстями. При малейшем намеке на опасность они тотчас поднимались на воздух и мгновенно исчезали из виду. В это время ко мне подошел Ноздрин и напомнил, что мы с ним собирались к мысу Чжуанка. Покончив с насекомыми, я взял свое ружье и отправился с ним вдоль берега, имея намерение осмотреть береговые обнажения. Здесь у подножия валялосьмного угловатых обломков различной величины — от метра в кубе до размеров человеческой головы, с острыми краями и заросших грубой осокой и каменной полынью. На высоте двух метров от подножья скала имела длинный карниз. Я подошел к нему вплотную и стал высматривать, где можно было бы на него взобраться. В это время в поле моего зрения на самом краю выступа, как мне показалось, мелькнул какой-то небольшой предмет, величиной с наперсток. Мелькнул и пропал… Я уже хотел было схватиться руками за край выступа, как опять показался тот же небольшой продолговатый предмет, но уже в другом месте. На этот раз я успел рассмотреть его лучше. Он был на длинной ножке. Это меня заинтересовало, и я удвоил внимание. Минуты через две на самом краю обрыва опять увидел два таких предмета. Один сразу скрылся, а другой остался неподвижным. И вдруг мне стало ясно. Из верхнего конца «предмета» на стебельке высунулся темный вилообразный язычок змеи. Невольно вскрикнув, я поспешно отдернул свои руки прочь от камней. Я отодвинулся от выступа шага на два, а Ноздрин пошел искать, нельзя ли взобраться на карниз где-нибудь в другом месте. Поиски его увенчались успехом. Я видел его идущим вдоль карниза и крикнул, чтобы он был осторожней. Ноздрин замедлил шаг и внимательно стал смотреть себе под ноги. Немного не доходя до места, где я видел змей, он вдруг остановился. По выражению его глаз я видел, что он сосредоточил свое внимание на чем-то страшном и неприятном. — В чем дело? — спросил я его. — Да тут змей много, и все они в куче, — ответил стрелок. — Будь осторожен; не трогай их, — сказал я Ноздрину, снова подходя к обрыву. Отступив немного назад, он протянул мне руку, и я без труда взобрался на уступ, где увидел большую расщелину, идущую наискось вдоль террасы; одной стороной она близко подходила к самому краю террасы. Расщелина была длиною более метра и шириною в 12 сантиметров. Судя по тому, что верхние края ее круто падали внутрь, надо полагать, что она была глубиною около полуметра. Вся она доверху была наполнена змеями. Плоские головки их ромбовидной формы, пестрый рисунок на теле, короткие шеи и хвосты и злобное выражение глаз с щелевидными зрачками указывали на то, что все это были ядовитые змеи. Они сплелись в большой клубок, так что трудно было сказать, которой из них принадлежала та или иная часть тела. Змеи едва шевелились; время от времени они поднимали свои головки и высовывали язычки. Их-то я и видел, когда стоял внизу у подножья карниза. В это время на краю щели появился большой черный муравей. Он спустился внутрь на одну из змей и взобрался ей на голову. Муравей лапками коснулся глаза и рта пресмыкающегося, но оно чуть только показало язычок. Муравей перешел на другую змею, потом на третью — они, казалось, и не замечали присутствия непрошенного гостя. Тогда Ноздрин потрогал змей палкой. Я думал, что они разбегутся во все стороны, и готовился уже спрыгнуть вниз под обрыв, но, к удивлению своему, увидел, что они почти вовсе не реагировали на столь фамильярное, к ним отношение. Верхние пресмыкающиеся чуть шевельнулись и вновь успокоились. Стрелок тронул их сильнее. Эффект получился тот же самый. Тогда он стал бросать в них камнями, но и это не помогло вывести их из того состояния неподвижности, лени и апатии, в которой они находились. Было неприятно смотреть на расщелину, буквально заполненную змеями, которые к тому же издавали какой-то особый специфический запах. Когда мы возвратились на бивак, Ноздрин стал рассказывать своим товарищам о том, что видел. Стрелки хотели итти туда и обварить змей кипятком, но я отсоветовал им делать это и объяснил, что пресмыкающиеся всегда собираются в клубки для копуляции, во время которой оплодотворяются самки. Весь вечер казаки и стрелки говорили про змей. У каждого было что вспомнить. Чжан-Бао говорил, что они могут превращаться в людей. Ороч Намука сказал, что по словам Кяка (удэхейца), где-то живет тоже большая змея Модуми, которая может изо рта изрыгать пламя, а гольд Косяков с таинственным видом сказал, что у них на Уссури был шаман, который водил за собою змей и давал им разные поручения в качестве посыльных. В заключение выступил Марунич. «Два года тому назад, — сказал он, — я увидел змею, свернувшуюся на песке. Я ударил ее палкой. Так что бы вы думали: она схватила зубами за эту самую палку». У него выходило так, что змея обнаглела до того, что осмелилась кусать тот предмет, который ей нанес удар по голове. Часов в девять вечера с моря надвинулся туман настолько густой, что на нем, как на экране, отражались тени людей, которые то вытягивались кверху, то припадали к земле. Стало холодно и сыро. Я велел подбросить дров в огонь и взялся за дневники, а казаки принялись устраиваться на ночь. На другой день мы продолжали наш путь. Когда лодки проходили мимо мыса Чжуанка, я, Ноздрин, Крылов и Чжан-Бао отправились посмотреть на змей, но расщелина оказалась пустой. Мы перевернули несколько больших камней у подножья карниза, но и тут ничего не нашли.Ястреб и заяц
С вечера погода стала портиться, а к утру все небо уже покрылось серыми тучами. Вчера еще они шли поверх самых высоких сопок, а теперь спустились вниз. Тяжелые, лохматые, они двигались куда-то на юго-запад, взбирались по распадкам, обволакивали мысы и оставляли в поле зрения только подошвы гор. Тучи ползли медленно, окутывая в сумрак поверхность земли. В темном небе и в тишине, воцарившейся в природе, чувствовалось напряжение, которое вот-вот должно было разразиться жестокой бурей. Казалось, будто небесные стихии выжидали только удобного момента, чтобы всеми силами обрушиться на землю, но какие-то другие силы мешали им, и потому небо так хмурилось и грозило дождем. Опасаясь, что дождь будет затяжным и в палатке придется сидеть, как под арестом, я решил, пока еще сухо, погулять по ближайшим окрестностям, не уходя далеко от бивака. Я пошел по тропе, протоптанной медведями, но скоро ее потерял; тогда я направился целиною к соседним холмам. Взобравшись на вершину одного из них, я увидел за перевалом длинный пологий склон, покрытый травянистой растительностью и кустарниковой ольхой по ложбинкам, служившим для стока дождевой воды. Слева в виде длинной зубчатой развалившейся стены протянулся горный кряж, слагающийся из гранитных утесов, а справа — широкая долина, по которой извивалась речка, а за ней стоял хмурый елово-пихтовый лес. Я прошел с полверсты и хотел было уже повернуть назад, как вдруг что-то мелькнуло в отдалении и низко над землей, потом еще раз, еще, и вслед за тем я увидел какую-то небольшую хищную птицу, которая летела низко над землей и, по-видимому, кого-то преследовала. Такое заключение я сделал потому, что пернатый хищник летел не прямо, а зигзагами. Почти одновременно я увидел зайца, который со страху несся, не разбирая куда: по траве, мимо кустарников и по голым плешинам, совершенно лишенным растительности. Когда заяц поровнялся со мною, крылатый разбойник метнулся вперед и, вытянув насколько возможно одну лапу, ловко схватил ею свою жертву, но не был в состоянии поднять ее на воздух. Это не остановило зайца, и он побежал дальше, увлекая за собой своего врага. Хищная птица при помощи крыльев старалась сдержать зверька, однако это ей не удавалось. Тогда она, не выпуская из левой лапы своей добычи, правой на бегу стала хвататься за все, что попадалось по дороге: за стебли зимующих растений, и сухую траву, и прочее. Но они обрывались, и заяц с своим странным всадником на спине неслись дальше. Но вот на пути оказался ольховник. Когда они поровнялись с кустарником, пернатый хищник ловко ухватился за него. Ноги птицы растянулись, левая удержала зайца за спину, а правая вцепилась в корневище. Заяц вытянулся и заверещал. Тогда ястреб, я теперь мог его хорошо рассмотреть, подтянул зверька к ольховнику и нанес ему два сильных удара клювом по голове. Заяц затрепетал. Скоро жизнь оставила его. Только теперь хищник выпустил корень и обеими ногами взобрался на свою жертву. Он оглянулся, расправил свой хвост, оглянулся еще раз, затем взмахнул крыльями и поднялся на воздух. Ястреб полетел к лесу вместе с добычей. Две вороны тотчас полетели за ним следом. Они знали, что после завтрака ястреба и им кое-что перепадет. Среди птиц вороны играли роль шакалов. Так же как и последние, они питаются падалью и остатками от трапезы сильных хищников.Бой орланов в воздухе
После завтрака я взял свое ружье и пошел осматривать долинку, в которой мы встали биваком. С утра погода стояла великолепная: на небе не было ни единого облачка, солнце обильно посылало свои живительные лучи, и потому всюду на земле было так хорошо — по-праздничному. Кустарниковая и травяная растительность имела ликующий вид; из лесу доносились пронзительные крики. дятлов, по воздуху носились шмели, порхали бабочки… Обойдя небольшое болотце, я нашел зверовую тропу, протоптанную, должно быть, медведями, которая привела меня на старую гарь, заваленную колодником, заросшую ерником и ежевикой. С утра я неладно обулся, что-то жесткое попало мне под подошву и мешало ступать. Я стал на первую попавшуюся валежину и стал переобуваться. Вытряхнув из обуви посторонний предмет, я снова оделся, и только хотел было встать, как вдруг увидел белохвостого орлана. Распластав свои сильные крылья, он летел мне навстречу, направляясь к лиственице, растущей посреди небольшой полянки. Описав около меня большой круг, он ловко, с наскока, уселся на одну из верхних ветвей и сложил свои крылья, но тотчас приподнял их немного, расправил и сложил снова. Орлан оглянулся по сторонам и затем нагнул голову вниз. Тут только я заметил в лапах у него какой-то предмет, но что именно это было — за дальностью расстояния — не было видно. Вдруг сзади и немного влево от меня послышался крик, какой обыкновенно издают пернатые хищники. Орлан насторожился. Он нагнул голову, дважды кивнул ею и раскрыл свой могучий желтый клюв. Оперение на шее у него поднялось. В этом виде он действительно оправдывал название царя птиц. В это мгновение я увидел другого орлана, направляющегося к той же лиственице. Царственный хищник, сидевший на дереве, разжал лапы и выпустил свою жертву. Небольшое животное, величиною с пищуху, полетело вниз и ударилось о землю с таким шумом, с каким падают только мертвые тела. Затем орлан сорвался с ветки и стремительно полетел по наклонной плоскости, забирая влево и стараясь как можно скорее выравняться с противником. Другая птица, что была выше него, начала трепетать крыльями, чтобы задержаться на одном месте, но потом вдруг стремительно кинулась на своего врага, промахнулась и так снизила, что едва не задела меня своим крылом. Теперь оба орлана были на одном уровне. Они описывали спиральные круги, быстро сближаясь, и вдруг бросились друг другу навстречу. Птицы приняли в воздухе вертикальное положение, они неистово хлопали крыльями и издавали пронзительные крики, которые можно было бы назвать квохтаньем. Сцепившись, они рвали друг у друга тело когтями, разбрасывая перья по сторонам. Естественно, что во время боя оба орлана стали падать, и, когда крылья их коснулись травы, они вновь поднялись на воздух, описав небольшие круги, и вторично сцепились в смертельной схватке. На этот раз я заметил, что они работали не только лапами, но и клювами. Опять посыпались перья. Теперь я уже не знал, который из орланов сидел на дереве и который прилетел отнимать добычу, — оба они были одинаковой величины и имели тождественное оперение. При третьей схватке у одной из птиц показалась на шее кровь, у другой было оголено и расцарапано брюхо. У обоих были потрепаны крылья и поломаны маховые перья. Орланы стали кружиться, и тот, которому удавалось подняться выше, старался нанести удар своему противнику сверху. Нижний орлан ловким движением крыла уклонялся от нападения врага и, пользуясь промахом, сам переходил в наступление, но тоже падал книзу. Так, меняясь местами, они спускались все ниже и ниже, пока вновь не достали земли. Потом они разлетелись в стороны и начали парить, стараясь занять по отношению друг к другу командное положение и вместе с тем удалялись от места поединка. Раза два они еще показались за деревьями и, наконец, скрылись совсем. Тогда я решил посмотреть, что было в лапах у первого орлана. Когда я подходил к лиственице, мне показалось, что кто-то бросился в заросли, но я не успел разглядеть, кто именно. Тщетно я искал оброненную орланом добычу — она изчезла. Мне стало ясно, что какой-то другой хищник, на этот раз четвероногий, быть может колонок, соболь или лисица, воспользовался суматохой и подобрал лакомый кусок. Забросив ружье за плечо, я пошел по левому нагорному краю долины. Выбрав место поположе, я поднялся к одной из ближайших седловин на хребтике и сел здесь отдохнуть. Через минуту я опять услышал шум и увидел одного из только что дравшихся орланов. Он сел на коряжину недалеко от меня, и потому я хорошо мог его рассмотреть. В том, что это был именно один из забияк, я не сомневался. Испорченное крыло, взъерошенное оперение на груди и запекшаяся кровь с правой стороны шеи говорили сами за себя. Сильно уставший, победитель или побежденный, он сидел теперь с опущенными крыльями, широко раскрытым клювом и тяжело дышал. С четверть часа, если не больше, отдыхал орлан. Потом он стал клювом оправлять перья в крыльях, выбрасывая испорченные, и приводить в порядок свой наряд на груди. Этой процедурой он занимался довольно долго. Я сидел и терпеливо наблюдал за ним и не шевелился. Посидев еще спокойно несколько минут, орлан снялся и полетел на место боя. Он сел на ту же лиственицу, на то же место и стал смотреть вниз. Затем он опустился на землю и, не найдя там ничего, снова поднялся на воздух и полетел вверх по долине за новой добычей. В это мгновение у ног моих шевельнулся сухой листик, другой, третий… Я наклонился и увидел двух муравьев — черного и рыжего, сцепившихся челюстями и тоже из-за добычи, которая в виде маленького червячка, оброненная лежала в стороне. Муравьи нападали друг на друга с такой яростью, которая ясно говорила, что они оба во что бы то ни стало хотят друг друга уничтожить. Я так был занят муравьями, что совершенно забыл о червячке и когда посмотрел на то место, где он лежал, его уже не было там видно. Поблизости находилось маленькое отверстие в земле, и я увидел как его утащило туда какое-то насекомое вроде жужелицы. Когда я вновь перевел взгляд на место поединка, то увидел одного только рыжего муравья. Он суетился и, видимо, искал оброненную личинку, но не найдя ее, отправился за новой добычей. Меня поразила аналогия: два события — одно в царстве пернатых, другое из царства насекомых — словно нарочно были разыграны по одному и тому же плану. Тогда я вспомнил весьма обычные драки собак из-за кости, причем третья собака, не принимавшая участия в свалке, пользуется всегда случаем и уносит лакомую кость. Это и есть борьба за жизнь. У всякого живого существа есть две цели жизни. Первая — поддержание собственной жизни и вторая — оставление после себя потомства, и потому все живые существа ведут борьбу за обладание питанием и за обладание матками. Природа хорошо позаботилась о продолжении видов.Птичий базар
Удивительные вещи увидели мы на птичьем базаре. Читатель должен представить себе высокую скалу, отвесными обрывами падающую в море. Горная порода, из которой она состоит, расположилась горизонтальными слоями. Под влиянием атмосферных факторов скала подверглась частичному разрушению. Во многих местах она выветрилась и обвалилась в море, вследствие чего по всему обрыву, от верха до самой воды, образовалось множество карнизов различной длины и ширины. Одни из них были длинными и узкими, другие, наоборот, — короткими и широкими, одни выклинивались и сходили на нет, другие обрывались в самом начале или располагались правильными ступенями. Местами над морем нависли большие плоские глыбы, которые каким-то чудом держались на весу, некоторые из них имели вид полок гигантской этажерки, подпираемых снизу громадными кронштейнами. В одном месте как-то странно вывалился целый пласт и образовалась длинная галлерея, замкнутая с трех сторон и открытая со стороны моря. И все эти карнизы, все трещины, все углубления были заняты бесчисленным множеством птиц разной величины и разной окраски. Самые нижние карнизы занимали кармораны. Несмотря на свой мрачный характер, они любят гнездиться большими обществами. Как на выставке, сидели они чинно в ряд и с беспокойством поглядывали на наши лодки. Среди массы белых испражнений, которыми был покрыт весь карниз, они довольно резко выделялись своим черным цветом. Тут же поблизости, частью вперемежку с карморанами или по соседству с ними небольшими группами, точно солдаты, вытянувшись в линию, сидели малые бакланы, оперение которых ярко отдавало сине-зеленым металлическим блеском. Если бы они не поворачивали голов для того, чтобы проводить нас глазами, их можно было бы принять за чучела, выставленные нарочно на Показ. Повыше бакланов, но тоже недалеко от воды, устроились утки-каменушки, с окраской черного, коричневого и белого цветов. На фоне темно-бурой скалы, густо вымазанной гуано, они были бы мало заметны, если бы сидели неподвижно. Трещины и углубления в камнях были заняты топорками — странными птицами величиной с утку, с темной общей окраской, белесоватой головой и уродливыми оранжево-зелеными клювами, за которые они получили название морских попугаев. На самых верхних уступах помещались многочисленные чайки. Белый цвет птиц, белый пух и белый помет, которым сплошь были выкрашены края карнизов, делали чаек мало заметными, несмотря на общий темный фон скалы. Большие чайки серого и белого цветов сидели вперемежку с грациозными клушами и не ссорились между собою, только некоторые из них как бы переминались с ноги на ногу и немного передвигались в сторону. Иногда они сталкивали друг друга со скалы. Тогда упавшая птица отлетала немного, но тотчас старалась вернуться на прежнее место или сесть рядом. Но больше всего на птичьем базаре было кайр, относящихся к семейству чистиков. Их было бесчисленное множество: каждый выступ, каждое углубление, можно сказать, каждая пядь карниза, где хоть мало-мальски можно было присесть для высиживания яиц, — все было занято этими остроклювыми птицами с темносеро-бурым оперением. Несмотря на то, что мы проходили очень близко к скале, все птицы сидели крепко и не хотели покидать своих мест. Только некоторые бакланы слетали, но видя, что никто не следует их примеру, тотчас возвращались обратно. Миновав утесы, мы свернули в небольшую бухточку и, как всегда, встали биваком на намывной полосе прибоя, где было достаточно плавника, высушенного солнцем и ветрами. На другой день была назначена дневка. Я решил воспользоваться свободным временем и посетить птичий базар. Со стороны суши подойти к нему было нетрудно. Некоторые карнизы загибались в долинку и были вполне доступны, без риска сорваться и получить ушибы. Я взобрался по ним, как по лестнице, иногда опираясь на колено и хватаясь руками за выступ скалы. Здесь так много было кайр, что я должен был двигаться с большой осторожностью, чтобы не задевать их ногами. Как-то странно было видеть птиц в непосредственной близости, которые не выказывали ни малейшего беспокойства и не делали никаких попыток улететь или отодвинуться в сторону. Кайры сидели на земле сплошной массой и все были обращены головами к морю. Они высиживали яйца, причем гнезда их были устроены на камнях без всякого укрытия сверху. Эти глупые птицы совершенно не смущались моим присутствием; даже в тех случаях, когда я протягивал руку, чтобы дотронуться до них, они только оборонялись клювами, не подымаясь с места. В это время справа от меня я увидел ворону, потом еще двух. Они садились на свободные камни и быстро осматривались по сторонам и часто перелетали с места на место. Я заметил, что вороны сопровождали меня и все время следовали за мной по пятам. Сначала я не обращал на них внимания, но потом это стало меня изводить. Я никак не мог понять, что им от меня нужно. Раза два я бросал в них камнями. Хитрые птицы караулили мои движения, и только я нагибался за камнем или замахивался рукой, как они предупреждали меня и вовремя поднимались в воздух, но тотчас опять садились по соседству и иногда даже ближе, чем раньше. Так, пробираясь по карнизам, я скоро попал в самую гущу кайр. Очень часто мне приходилось ставить ногу совсем вплотную к какой-нибудь птице, и лишь тогда она откидывала немного голову назад и с некоторого отдаления, как бы с недоумением, рассматривала большой и незнакомый ей предмет. Я нагнулся, взял одну кайру в руки и поднял ее кверху. Тотчас откуда-то сбоку появилась ворона. В мгновенье ока она схватила единственное в гнезде яйцо и полетела вдоль террасы. Теперь я понял, почему так настойчиво следовали за мной черные пернатые воровки. Они отлично знали, что, сопровождая человека по птичьему базару, легко можно будет полакомиться яйцами, надо только не отставать. Поступок вороны так возмутил меня, что я выпустил из рук кайру и снял с плеча ружье. Я выстрелил в ту ворону, которая с яйцом в клюве только что уселась на краю соседней террасы. Звук выстрела подхватило гулкое эхо. Тысячи птиц с криками поднялись на воздух. Они буквально затмили солнце. В это время я опять увидел ворон. Та, что была ближе, только что украла чье-то яйцо. Она расколола его своим сильным клювом. Из яйца вывалился почти высиженный, совершенно голый цыпленок. Ворона разорвала его и съела, потом она схватила второе яйцо и улетела. Мало-помалу бакланы, топорки, каменушки, чайки и кайры стали успокаиваться и возвращаться на свои места. Я тогда решил не тревожить их больше и двинулся назад по карнизу. Уже смеркалось, когда я подходил к биваку. На фоне светлого неба темной массой выделялся птичий утес, где тысячами собрались пернатые, чтобы вывести птенцов, научить их плавать, летать, добывать себе пищу, которые в свою очередь и на том же самом месте тоже будут выводить себе подобных. Кто знает, скольким поколениям эта скала уже дала приют и сколько еще поколений будут считать ее своей родиной. Вечерняя заря угасла, и только узенькая багровая полоска на горизонте показывала место, где скрылось солнце. Ночная тьма властно вступала в свои права, а вверху в беспредельной высоте зажглись таинственные светила, из века в век расположенные в созвездия. Огонь на биваке разгорался все ярче и ярче. На другой день мы все встали поздно. После завтрака казак Крылов отправился на птичий базар. Ему как-то не верилось, что птицы в гнездах сидят так крепко и не улетают даже тогда, когда их трогают руками. Я рассказал ему, как попасть на среднюю террасу, где было больше всего чистиков. Казак взял ружье и направился вдоль берега. Когда он стал приближаться к птичьему базару, с одного из кустов снялась ворона и полетела ему вдогонку. Она как-то странно кричала курлы, курлы. Тотчас ей ответили еще две вороны. Одна появилась со стороны нашего бивака, другая вылетела из леса, и обе они тоже пустились за казаком. Черные вороны не старались его обогнать. Они сели на камни около береговых обрывов ожидая, когда человек пройдет мимо них. Часа через полтора Крылов вернулся и сообщил, что ночью птичий базар посетил медведь. Казак нашел его следы; много разоренных гнезд и раздавленных яиц, которыми лакомился косолапый.Охота на лосей
Погода нам благоприятствовала. День выпал на редкость теплый, было даже жарко. Солнце сильно припекало. Лучи его отражались от гладкой и спокойной поверхности воды и утомляли зрение. Мы плыли вдоль берега моря в таком от него расстоянии, чтобы одним взором можно было охватить всю толщу обнажений сверху донизу. С некоторого расстояния были видны ясно и отчетливо сдвиги, слоистость горных пород, изгибы их, синклинали и антиклинали. Распадки между гор, ущелья тоже удобнее обозревать с некоторого отдаления. Мои спутники, и в особенности орочи, тоже осматривали берег, но в виду имели совсем другое. Они выискивали следы зверей, которые в первые дни путешествия, когда путь пролегал по безлюдной местности, попадались во множестве. Время было весеннее. Лодка шла вдоль берега и попадала то в полосы прохладного морского воздуха, то в струи теплого, слегка сыроватого ветерка, дующего с материка. Яркое июньское солнце обильно изливало на землю теплые и живительные лучи свои, но по примятой прошлогодней траве, по сырости и полному отсутствию листвы на деревьях видно было, что земля только что освободилась от белоснежного покрова и еще не успела просохнуть как следует. На южйых склонах прибрежных гор и на намывной полосе прибоя все же кое-где появилась свежая растительность, которая и могла послужить приманкой для обитателей угрюмого хвойного леса — лосей и медведей, покинувших свои берлоги под корнями вековых деревьев. И, действительно, часов в одиннадцать утра Копинка, стоявший на руле, вдруг как-то насторожился. Он уставился глазами в одну точку, пригнулся книзу и стал шопотом издавать звуки: ти-ти-ти-ти, что означало предупреждение не шевелиться и соблюдать тишину. Вслед за тем он стал быстро направлять лодку к берегу. Я оглянулся и увидел двух лосей, мирно расхаживающих по берегу около самой воды. Что заставило их выйти на открытое пространство среди белого дня? Они не щипали морского горошка, который только что начал кое-где пробиваться, и не лизали камней, орошаемых соленой морской водой. Они просто ходили по берегу, иногда стояли неподвижно и лениво поглядывали на беспредельную ширь океана. Очевидно, лоси привыкли к тому, что сюда можно выходить во всякое время дня и ночи, чтобы понежиться на прохладном морском берегу, где нет докучливых, кровь сосущих насекомых. Впереди, шагах в трехстах от берега, выдвигалась в море высокая гряда камней, около которых пенилась и шумела вода. Копинка налег на руль, и через две-три минуты эти камни заслонили от нас животных. Как только лодка коснулась берега, оба ороча, Крылов и Вихров схватили винтовки и выскочили в воду, за ними последовал Рожков; я вышел последним. Мы вдвоем с Рожковым принялись подтаскивать лодку, чтобы ее не унесло ветром и течением, а остальные люди побежали к камням. Скоро они взобрались на них и начали целиться из ружей. Три выстрела произошли почти одновременно. Затем они поспешно перебрались через гряду и скрылись из наших глаз. Привязав лодку к концу бревна, погребенного в гальке, мы пошли туда, где были охотники. Когда мы взобрались на каменистый гребень, я увидел небольшую бухту с низким пологим берегом, поросшим хвойным лесом. На песке, около самой воды, лежали оба лося и в предсмертных судорогах двигали еще ногами. Один из них подымал голову. Крылов выстрелил в него и тем положил конец его мучениям. Когда я подошел к животным, жизнь оставила их. Это были две самки; одна постарше, другая — молодая. Удачная охота на лосей принудила нас остановиться на бивак раньше времени. Берег, как я уже сказал, был низкий, песчаный; тут же протекала небольшая речка с чистой прозрачной водой и валялось множество сухого плавника. Я немедленно распорядился перевести сюда лодку. Стрелки пошли к камням, откуда они стреляли, а около лосей остался я и два ороча. Один из туземцев подошел к молодой самке и за ухо приподнял ее голову от земли. Из носа ее вывалилось несколько крупных личинок паутов. Они изгибались и делали такие движения, которые ясно указывали, что им не нравилось то положение, в которое они теперь попали. Я нагнулся к голове лося и заглянул в полость носа и там увидел множество личинок; они двигались в слизи, некоторые ползали во рту и по языку, который теперь безжизненно свесился в сторону. У другого лося тоже и рот и нос были полны таких же личинок. Эти отвратительные короткие, толстые, белые и жирные черви, по-видимому, выходили из животных не только через задний проход, но и через глотку. Лоси должны были кашлять и выплевывать их на землю, где они, вероятно, и окукливались. Когда был вскрыт желудок старой лосихи и выброшено на землю его содержимое, я увидел, что стенки его находятся в каком-то странном движении. Присмотревшись поближе, я увидел, что вся внутренняя оболочка желудка сплошь покрыта присосавшимися личинками паутов. Некоторые из них отвалились, и на этих местах были красные пятнышки, похожие на ранки величиной с маленькую горошину. Множество личинок ползало по пищеводу, отсюда они и проникли в полости глотки и носа. Как только внутренности были извлечены наружу, орочи отрезали печень и положили ее на весло около лодки. Вооружившись ножами, они стали крошить ее на мелкие кусочки и есть с таким аппетитом, что я не мог удержаться и сам попробовал кусочек печени, предварительно прополоскав его в воде. Ничего особенного. Как и всякое парное мясо, она была теплая и довольно безвкусная. Я выплюнул ее и пошел к берегу моря. В это время подошла лодка, и мы принялись разгружать ее. Затем стрелки и казаки начали устраивать бивак, ставить палатки и разделывать зверей, а я пошел экскурсировать по окрестностям. Солнце уже готовилось уйти на покой. День близился к концу и до сумерек уже недалеко. По обе стороны речки было множество лосиных следов, больших и малых, из чего я заключил, что животные эти приходили сюда и в одиночку, и по несколько голов сразу. По мере того, как я удалялся от моря, лес становился гуще, и я начал подумывать о том, не возвратиться ли обратно, но вдруг впереди увидел просвет. Это оказалась полянка и посреди нее небольшое озеро, через которое проходила наша речка. Дальше я не пошел и присел отдохнуть на одну из валежин. Был тихий вечер. За горами, в той стороне, где только что спускалось солнце, небо окрасилось в пурпур. Оттуда выходили лучи, окрашенные во все цвета спектра, начиная от багряного и кончая лиловым. Радужное небесное сияние отражалось в озерке, как в зеркале. Какие-то насекомые крутились в воздухе, порой прикасались к воде, отчего она вздрагивала на мгновение, и тотчас опять подымались кверху. Я стал прислушиваться к тихим таинственным звукам, которые всегда родятся в тайге в часы сумерек; кажется, будто вся природа погружается в глубокий сон и пробуждается какая-то другая неведомая жизнь, полная едва уловимых ухом шопотов и подавленных вздохов. Я уже хотел было встать, как вдруг до слуха моего донесся треск сучьев, и вслед за тем я увидел лося без рогов. По складу корпуса, по мощной шее и бороде я узнал в нем самца. Он быстро подошел к берегу озерка и стал пить воду. Один раз он сильно кашлянул — потому ли, что захлебнулся водой или потому, что личинки паутов раздражали ему горло. Я думал, что он, утолив жажду, сейчас же снова скроется в лесу, но лось смело вошел в воду сначала по колено, потом по брюхо, затем вода покрыла его спину, и на поверхности ее осталась только одна голова, а потом только ноздри, глаза и уши. Лось медленно передвигался с места на место, поворачивал головой то в одну, то в другую сторону, отчего большие уши его хлопали по воде и вздымали множество брызг. Известно, что лоси очень любят купаться. Лось минут через пять снова вышел на берег. Вода текла с него ручьями. Он сильно встряхнулся, сначала передом, потом задом, мотнул головой и зубами почесал свой бок и затем легкой рысцой направился к лесу. Я не заметил, как ушло время. Должно быть, солнце только что скрылось за горизонтом, потому что на западе по ту сторону гор зарделась вечерняя заря. Отдаленные мысы приняли сиреневую окраску. На утомленном небе кое-где замигали звезды. Я вспомнил, что теперь новолуние и поспешил на бивак. В лесу сразу стало настолько темно, что я едва различал тропу, протоптанную медведями. Минут через двадцать я подходил к биваку. Около палатки горел огонь, а около него сидели мои спутники и варили лосиное мясо. У них шла оживленная беседа. Один что-то рассказывал, другие слушали. По выражениям их лиц я видел, что все в хорошем настроении. Тут же рядом сидели оба ороча. Они раскалывали трубчатые кости и с наслаждением глотали сырой костный жир. После ужина я заполнил свой путевой дневник и рано лег спать.Гнездо филина
Вечером, сидя у огня, я беседовал с Сунцаем. Он сообщил мне, что долинка речки, где мы стали биваком, считается у удэхейцев нечистым местом, а в особенности лес в нижней части ее с правой стороны. Здесь обиталище чорта Боко, благодаря козням которого люди часто блуждают по лесу и не могут найти дорогу. Все удэхейцы избегают этого места, сюда никто не ходит на охоту и на ночлег останавливаются или пройдя или не доходя речки. На другой день было как-то особенно душно и жарко. На западе толпились большие кучевые облака. Ослепительно яркое солнце перешло уже за полдень и изливало на землю горячие лучи свои. Все живое попряталось от зноя. Властная истома погрузила всю природу в дремотное состояние. Кругом сделалось тихо — ни звука, и даже самый воздух сделался тяжелым и неподвижным. После обеда стрелки залезли в палатки и захрапели. Я тоже лег в тени дерева и пытался заснуть, но не мог: то появился комар и запел свою монотонно звенящую песню, то муравей влез на лицо и довольно больно ущипнул меня в щеку. Я хотел было заняться вычислением астрономических координат, но истома мешала сосредоточиться. Я встал, стряхнул с себя апатию и с ружьем в руках пошел вверх по долинке, окаймленной с обеих сторон невысокими холмами, покрытыми хвойно-смешанным лесом. За ними виднелись другие горы, а впереди в туманной мгле высился какой-то большой хребет, увенчанный гольцами. Пройдя немного по берегу реки, я свернул в лес, где царило великое безмолвие и покой. Деревья точно окаменели, и казалось, будто листва на них давно замерла и уже больше не приходила в движение. Здесь было немного прохладнее, потому что солнечные лучи не могли пробить зеленую крону деревьев, перепутавшихся вверху своими ветвями. Пахло сыростью, гниющими остатками растений, удобряющих влажную землю. Это был старый и густой лес, полный сумрака и таинственной тишины, в которой слышатся едва уловимые ухом звуки, рождающие в душе человека тоскливое чувство одиночества и безотчетный страх. Подлесок состоял из редких кустарников, главным образом из шиповника, березы Миддендорфа и сорбарии. Кое-где виднелись пионы и большие заросли грубых осок и папоротников. Почти все деревья имели коренастую и приземистую форму. Обнаженные корни их, словно гигантские лапы каких-то чудовищ, скрывающихся в земле, переплетались между собою как бы для того, чтобы крепче держаться за камни. Большинство старых деревьев было дуплисто, с теневой стороны густо покрыто мхами вперемежку с лишайниками. Некоторые лесные гиганты, поверженные в прах, превратились в рухлядь. На гниющих телах их нашли себе приют другие растения. Только сучья погибших великанов, сотканные из более плотного материала, чем обычная древесина, продолжали еще сопротивляться всесокрушающему времени и наподобие нарочно вбитых в ствол клиньев торчали во все стороны из гнилого валежника. Стволы сухостоев, лишенные мелких веток, с болезненными наростами по сторонам были похожи на людей с вздутыми животами и с поднятыми кверху длинными руками, на людей, застывших в позах выражения сильного физического страдания, как на картинах Густава Доре — там, где изображаются мучения грешников в аду. Я весь отдался влиянию окружающей меня обстановки и шел по лесу наугад. Один раз я чуть было не наступил на ядовитую змею. Она проползла около самых моих ног и проворно спряталась под большим пнем. Немного дальше я увидел на осокоре черную ворону. Она чистила нос о ветку и часто каркала, поглядывая вниз на землю. Испуганная моим приближением, ворона полетела в глубь леса, и следом за ней с земли поднялись еще две вороны. Подойдя поближе, я увидел совершенно разложившийся труп не то красного волка, не то большой рыжей собаки. Сильное зловоние принудило меня поскорее отойти в сторону. Немного подальше я нашел совершенно свежие следы большого медведя. Зверь был тут совсем недавно. Он перевернул две колодины и что-то искал под ними, потом вырыл глубокую яму и зачем-то с соседнего дерева сорвал кору. Еще часа полтора я бродил по лесу и, наконец, почувствовал усталость. Я сел на дерево, лежащее на земле, и, прислонив к нему ружье, снял головной убор и стал вытирать потное лицо платком. В это мгновение по ту сторону стоящего передо мной большого вяза я заметил какое-то движение; что-то мелькнуло в темноте и тотчас скрылось за деревом. Я стал всматриваться в чащу леса, но ничего не заметил. Тогда я спрятал платок в карман и сел поудобнее, чтобы продолжать свои наблюдения. Я знал, что надо запастись терпением и не двигаться. Через несколько минут опять что-то мелькнуло перед глазами. Я удвоил внимание и вскоре увидел на том же дереве, но выше, небольшое животное, сидевшее на ветке у самого ствола. Я узнал в нем соболя. Моя неподвижность, видимо, сильно смущала его. Долго он смотрел на меня, но в конце концов не выдержал, поднялся на лапки, простоял с минуту, а затем тихонько двинулся вдоль сучка, растущего как раз в направлении ко мне. На конце ветки соболь остановился. Со своей, позиции я мог хорошо его рассмотреть. Теперь он не был таким пушистым, как зимою, и донельзя походил на своего собрата — хорька, только окраска его была не буроватая, как у последнего, а совершенно черная. Под мордочкой на горле имелось светлое, как мне показалось, оранжево-желтое пятно. В выразительных черных глазках соболя я прочел сосредоточенное внимание и какое-то особенно злое выражение. Дорогой хищник опустил головку вниз и стал усиленно нюхать воздух. Я видел, как он делал гримасы и двигал носиком. Рекогносцировка, видимо, его успокоила, потому что он повернулся и пошел обратно по ветке, затем опустился немного по стволу до следующего сука и здесь через небольшое отверстие скрылся в дупле дерева. Минуты через две соболь снова выглянул наружу и, убедившись, что кругом все обстоит благополучно, издал какой-то звук, похожий не то на писк, не то на шипенье, и тогда в отверстии дупла появилось несколько маленьких головок таких же черных, как их мать. Это были молодые соболята. Они все толпились у входного отверстия, вылезали до половины из него и снова прятались назад. Сколько в дупле обитало зверьков, я сказать не могу, так Как все они были одного цвета и постоянно теснили друг друга. Затем матка спустилась с дерева на землю, а молодые соболята вновь спрятались в гнезде. Прождав еще несколько минут, я встал и подошел к дуплу с целью заглянуть в него. Дерево было толстое, а дупло глубокое, к тому же я совершенно не хотел разорять соболиное гнездышко. И без меня у них много врагов. Я взбросил свою винтовку на плечо и взял направление прямо к биваку. Между тем солнце по небосклону прошло большую часть своего пути и готовилось уже скрыться за облаками, которые из белых сделались темными и фосфоресцирующими по краям. Тяжелые испарения неподвижно лежали над землею, поглощая собою все звуки, и от этого становилось невыносимо душно. Я часто останавливался, чтобы набрать в легкие побольше воздуха, но чувствовал, что глубокие вздохи не приносят облегчения. Впереди виднелся большой приземистый тополь. Безотчетно я подошел к нему вплотную и увидел на земле большую жабу. Она сидела, подняв кверху свою уродливую голову, и закрывала поочередно то один, то другой глаз. Нижняя часть горла ее под самой мордой находилась в частом и непрерывном движении. Видно, духота подействовала и на нее. Жаба вылезла из своей норы задолго до заката и усиленно дышала. Вдруг невероятный шум раздался совсем рядом со мной, и вслед затем я получил сильный удар по голове. Я испугался так, как если-бы кто-нибудь неожиданно из-за угла крикнул мне в ухо. Первая мысль, мелькнувшая у меня в голове, была — медведь. Я отскочил в сторону и тотчас приготовился к обороне. В это время я услышал какие-то странные звуки, похожие на пыхтенье и звонкое щелканье. Взглянув на тополь, я увидел, что из него выглядывает страшилище: кургузое, взъерошенное, с большими желтыми глазами и белым клювом. Поистине это чудовище может напугать кого угодно, особенно того, кто видит его в первый раз. Я не шевелился, и страшилище успокоилось и приняло свой обычный вид. Это оказалась самка филина. В дупле тополя было ее гнездо. Из яиц уже вылупились птенцы. Они шевелились и постоянно открывали свои желтые рты. Теперь все разъяснилось. Когда я подошел очень близко, испуганная птица, защищая своих птенцов, ударила меня своим крылом. Этот неожиданный удар испугал и в то же время рассердил меня, но я взял себя в руки. Чем виноват филин? Он, пожалуй, испугался больше меня. Чувство материнства принудило его не к постыдному бегству от сильнейшего в сравнении с ним врага, а к обороне и самопожертвованию. Я успокоился и сделал шаг влево, чтобы лучше рассмотреть птенцов. Услышав шум, филин опять взъерошился, распустил свои крылья, пригнул голову к ногам и, издавая опять то же пыхтенье, два раза звонко щелкнул своим клювом. Не желая больше смущать птицу, я пошел своей дорогой, взяв прежнее направление прямо на бивак. Должно быть, я сбился с пути и попал в самую чащу леса. Место было удивительно дикое. Из земли всюду торчали длинные камни в виде неправильных столбиков, словно надгробные памятники на кладбище, и рядом с ними росли изуродованные деревья, лишенные ветвей. Несколько в стороне виднелся наклонный ствол с одной только веткой, поднятой кверху. Издали он походил на старика, наклонившегося вперед и занесшего руку как бы для нанесения удара. Дальше я заметил какую-то постройку. Я очень обрадовался и направился к ней скорым шагом. Здесь ждало меня полное разочарование. Дом оказался скалой странной формы в виде избы, только без окон и крыши. Вокруг нее было навалено множество камней в беспорядке. Тогда я понял, почему туземцы место это считают обиталищем злого духа. Однако время уходило, и надо было возвращаться на бивак. Осмотревшись, я пошел, как мне казалось, прямо к морю, но на пути встретил лесное болото, заваленное колодником. С целью обойти его я принял немного вправо. Минут через десять я увидел дерево, которое показалось мне знакомым. Это был вяз с выводком соболей. «Ну, слава богу, — подумал я, — отсюда я уже наверно найду дорогу» — и повернул к востоку градусов на девяносто. Велико было мое удивление, когда минут через двадцать ходу я подошел к большой каменной глыбе, которую вначалепринял было за дом. Досада взяла меня. Я рассердился и пошел обратно к соболиному дереву, но вяза этого я уже не нашел. Сильное зловоние дало мне знать, что я попал на то место, где на земле валялось мертвое животное, Я еще раз изменил направление и старался итти возможно внимательнее на восток. На этот раз я попал в гости к филину, а потом опять к каменной глыбе с россыпью. Тогда мне стало ясно, что я кружился на одном месте. Сунцай, подумал я, наверно решил бы, что это чорт Боко строит свои козни и нарочно сбивает меня с дороги. Я взглянул на небо. Солнце только что скрылось в тучах, которые, подобно театральному занавесу, вдруг поднялись к зениту и заполнили большую часть небосклона. Последние лучи прорвали лохматые облака, скользнули по склонам гор, осветили на мгновение лес и погасли совсем. Туча темнела, разрасталась вширь и захватывала все небо. В облаках поминутно вспыхивали молнии, и глухо ворчал гром. Как-то сразу стало сумрачно и прохладно. В лесу слышалась тревожная перекличка мелких птиц, потом вдруг замолкли голоса пернатых, и все живое попряталось и притаилось. В движении тучи, медленном для неба и быстром для земли, было что-то грозное и неумолимое. Передний край ее был светлее остальных облаков и очень походил на пенистый гребень гигантской волны, катившейся по небосклону. Облака сталкивались и сливались, потом расходились и зарождались вновь, постоянно меняя свои очертания. В это время неподвижный доселе воздух всколыхнулся. Внезапно налетел ветер, испуганно зашумели деревья. Стало еще темнее. Несколько крупных капель тяжело упало на землю. Я понял, что мне не удастся уйти от дождя и остановился на минуту, чтобы осмотреться. Вдруг весь лес вспыхнул голубоватым пламенем. Сильный удар грома потряс воздух и землю, и вслед за тем хлынул ливень. Какая-то птица билась в воздухе. Она, видимо, старалась укрыться в лесу, но ее ветром относило в сторону. При свете молнии я увидел, как она камнем падала на землю. На небо страшно было смотреть. Облака, охваченные какой-то неудержимой силой, стремительно неслись к востоку, изрыгая из недр своих огонь и воду. За ослепительными молниями следовали жестокие удары грома, от которых вздрагивали небо и земля. Ветер неистово бушевал, ломая сучья и срывая листву с деревьев. При каждой вспышке молнии я видел тучи на небе, каждое дерево в отдельности, видел одновременно ближние и дальние предметы и горизонт, где тоже поминутно вспыхивали молнии и были горы, похожие на облака, и облака, похожие на горы. Потоки воды, падающей с неба, освещаемые бледноголубыми вспышками атмосферного электричества, казались неподвижными стеклянными нитями, соединявшими небо и землю. Вдруг необыкновенно яркая молния ослепила мне глаза, и тотчас почти одновременно с ней раздался такой резкий и сильный удар грома, что в ушах моих закололо, и я как будто потерял сознание. Дождь пошел еще сильнее. Через минуту я очнулся. Зрение мое восстановилось понемногу, но в ушах чувствовалось колотье и болела голова. С трудом поднялся я с земли и пошел наугад, сам не зная куда. Холодный бичующий ливень промочил мою одежду насквозь. При вспышке молнии развертывалась убегающая во все стороны даль, и вслед за тем наступала абсолютная тьма. Казалось, что сила, раздвинувшая на мгновение горизонт, также быстро и суживала его, окутывая все в непроницаемый и холодный мрак. Могучие громовые раскаты и шум дождя поглотили все другие звуки на земле. Около часа бродил я по тайге, высматривая дорогу при вспышках молнии и натыкаясь на колодник в траве. Наконец, дождь начал стихать, удары грома сделались не так оглушительны; итти стало труднее. В это время до слуха моего донесся шум прибоя. Я прибавил шаг и, пройдя сквозь заросли тальников, вышел к мерю. Скоро дождь перестал совсем, но на небе все еще вспыхивали молнии, и грохотал гром то в небе над головой, то где-то вдали. Гроза уходила на восток. Когда западный край неба очистился, стало видно, что солнце только что скрылось за горизонтом. Теперь там пылала багровая заря, окрасившая в пурпур большие кучевые облака, омытые дождями сопки, вдали деревья в лесу, с которых ветер не успел еще стряхнуть алмазные капли воды. При этом освещении восточный небосклон, покрытый тяжелыми тучами, казался бы еще сумрачнее, если бы его не скрашивала великолепная радуга. Гроза бушевала теперь где-нибудь в северной Японии и на острове Сахалине. Выйдя на намывную полосу прибоя, я повернул к биваку. Слева от меня было море, окрашенное в нежнофиолетовые тона, а справа — темный лес. Остроконечные вершины елей зубчатым гребнем резко вырисовывались на фоне зари, затканной в золото и пурпур. Волны с рокотом набегали на берег, разбрасывая пену по камням. Картина была удивительно красивая. Несмотря на то, что я весь вымок и чрезвычайно устал, я все же сел на плавник и стал любоваться природой. Хотелось виденное запечатлеть в своем мозгу на всю жизнь. Через полчаса я подходил к биваку. Мои спутники были тоже в хорошем расположении духа. Они развели большой огонь и сушили около него то, что намокло от дождя.Мыс Сюркум
От бухты Аука берег делает изгиб к северо-востоку. В проекции, если смотреть на него с высоты птичьего полета, он представляет собой как бы вогнутый нос корабля. Северо-восточная выдающаяся часть его называется мысом Сюркум. Этот берег — ровный как стена, высотой до 200 метров, скалистый и обрывистый — тянется на протяжении 48 километров. У подножья его совершенно отсутствует намывная полоса прибоя; прибрежные скалы отвесно обрываются прямо в море. На всем протяжении от бухты Аука до самого мыса Сюркум нигде нет места, где бы могла пристать лодка и где можно было бы высадиться на берег и найти защиту от непогоды. Еще в Императорской Гавани старик ороч И. М. Бизанка говорил мне, что около мыса Сюркум надо быть весьма осторожным и для плавания нужно выбирать тихую погоду. Такой же наказ дважды давали старики селения Дата сопровождавшим меня туземцам. Поэтому, дойдя до бухты Аука, я предоставил орочам Копинке и Намуке самим ориентироваться и выбрать время для дальнейшего плавания на лодках. Они все время поглядывали на море, смотрели на небо и по движению облаков старались угадать погоду. Последние дни море было удивительно спокойное. Если бы оно не вздыхало неуловимой для глаза, но ощутимой в лодке широкой зыбью, его можно было бы принять за тяжелый расплавленный металл, застывший и отшлифованный без меры в длину и без конца в ширину, уходящий в синеющую даль, где столпились белые кучевые облака с закругленными краями. Видимо, и в атмосфере установилось равновесие, потому что легкие тучки на горизонте в течение всего дня не изменили своей формы и все время стояли неподвижно. Солнце, отраженное в гладкой поверхности воды, всплывало на морскую зыбь и слепило глаза. Но вот волна проходила, отблеск пропадал, и тогда казалось, будто небесное светило снова погрузилось «в лоно стеклянных вод». Такая тишь смущала орочей. Им она казалась предательской; даже в то время, когда коварное море ласкает, надо каждую минуту ждать удара. Достаточно малейшего изменения в атмосфере, чтобы привести его в яростное состояние. Прошло два дня, и вот второго июня после обычного осмотра моря и неба орочи объявили, что можно ехать. Стрелки и казаки так приспособились к выгрузке на берег и к погрузке имущества в лодки, что распоряжение собираться в путь никого не застало врасплох. Минут через двадцать мы уже плыли вдоль берега. В море царила тишина. На неподвижной и гладкой поверхности его не было ни малейшей ряби. Солнце стояло на небе и щедро посылало лучи свои, чтобы согреть и осушить намокшую от недавних дождей землю и пробудить к жизни весь растительный мир — от могучего тополя до ничтожной былинки. Мы держались от берега на таком расстоянии, чтобы можно было сразу обозревать всю толщу горных пород и жилы, которые их прорезают. Около полудня наши лодки отошли от реки Аука километров на шесть. В это время сидящий на веслах Копинка что-то сказал Намуке, стоящему у руля. Тот быстро обернулся. Копинка перестал грести и спросил своего товарища, не лучше ли заблаговременно возвратиться. Я посмотрел в указанном направлении и увидел сзади, там, где небо соприкасалось с морем, темную полоску, протянувшуюся по всему горизонту. Эта темная полоска предвещала ветер. Полагая, что это будет небольшой местный ветерок, Намука подал знак плыть дальше. Минут через десять полоска на горизонте расширилась и потемнела. Одновременно другая такая же полоса появилась справа от нас. Орочи стали совещаться и решили плыть обратно, придерживаясь ближе к берегу, но в это время темная полоса придвинулась к нам вплотную. Неожиданно появился ветер, и море сразу запенилось и зашумело. В одно мгновение гладь воды покрылась рябью, быстро перешедшей в волнение. Опасаясь, что мы не выгребем против ветра, орочи решили итти дальше к Сюркуму и стали ставить парус, с помощью которого они рассчитывали скоро дойти до бухты Старка. Парус на туземных лодках представляет собой просто полотнище палатки, привязанное за углы к двум шестам, поставленные косо крестообразно. За другие два угла обычно привязываются веревки, концы которых должны быть в руках у рулевого. Копинка взялся управлять парусом, я сел на его место за весла, а Намука остался на руле. С парусом наша лодка пошла быстрее: Ветер дул ровный, но он заметно усиливался. Море изменило свой лик до неузнаваемости. Полчаса назад оно было совершенно спокойно-гладкое, а теперь взбунтовалось и шумно выражало свой гнев. Небо тоже изменилось. Оно стало беловатым. Откуда-то сразу появились тонкие слоистые тучи. Сквозь них еще виднелся диск солнца, но уже не такой ясный, как раньше. На него можно было смотреть невооруженным глазом. Тучи быстро сгущались. Когда я второй раз взглянул на небо, то местонахождение солнца определил только по неясно расплывчатому светлому пятну. Кое-где у берега появились клочья тумана. Скоро начал моросить дождь. Волны подгоняли нашу утлую ладью, вздымали ее кверху и накреняли то на один, то на другой бок. Она то бросалась вперед, то грузно опускалась в промежутки между волнами и зарывалась носом в воду. Чем сильнее дул ветер, тем быстрее бежала наша лодка, но вместе с тем труднее становилось плавание. Грозные валы, украшенные белыми гребнями, вздымались по сторонам. Они словно бежали вперегонки, затем опрокидывались и превращались в шипящую пену. Тяжело загруженная лодка глубоко сидела в воде, и волны начали захлестывать ее с боков. Время от времени мы откачивали воду берестяным ковшом, который орочи предусмотрительно захватили с собой. Они все время осматривали берег в надежде найти хоть какое-нибудь укрытие от непогоды, но тщетно. Угрюмые высокие скалы совершенно отвесно падали в воду. Волны с яростью ударялись о них и белыми фонтанами взлетали кверху. К берегу пристать было невозможно, в море итти — нельзя, о возвращении назад нечего было и думать. Нам оставалось только одно — итти по ветру и напрячь все усилия, чтобы как можно скорее обогнуть мыс Сюркум и войти в бухту Старка. Никто не сидел сложа руки: одна смена гребла, другая откачивала воду. В ход были пущены оба чайника и котел. Так продержались мы еще два часа, наконец, стало ясно, что благополучно дойти до мыса Сюркум нам не удастся. Ветер очень засвежел, и море сильно разбушевалось. Волны с неумолимой настойчивостью шли словно на приступ все в одном направлении. Они нагоняли лодку и заливали корму ее. Теперь все зависело от рулевого. Намука следил за лодкой с волнением, а Копинка не спускал глаз с паруса, то подтягивая один конец, то отдавая другой. Все внимание их было сосредоточено на том, чтобы не допустить одновременного наклона лодки под давлением ветра в парус и натиска большой волны с той же стороны. «Неужели мы не найдем какого-нибудь угла около берега, который дал бы нам хоть временное укрытие?» — думал я, со страхом и с тоской поглядывая на высокие скалы. Вдруг Намука привстал и, внимательно разглядывая берег, стал советоваться с Копинкой. По отрывкам их фраз я понял, что они нашли место, где можно укрыться от непогоды. Копинка кивнул головой. Намука тотчас навалился на руль, и лодка стала приближаться к берегу. Здесь море шумело еще сильнее. Отбойные волны сталкивались с волнами, идущими по ветру, и создавали толчею. Шум прибоя был столь оглушителен, что мы не могли слышать друг друга и объяснялись больше жестикуляцией. Ритмическая качка превратилась в беспорядочную, как только мы вступили в водоворот пены, всплесков и брызг. Я с трудом мог ориентироваться. От скалистого берега под углом по отношению к нему градусов в пятьдесят выдвигался в море большой дейк. Это была гигантская базальтовая жила. Горные породы, сквозь которые она проходила, деятельностью морской воды и атмосферных агентов давно уже подверглись разрушению и обвалились. Распадение базальта было столбчатым: поэтому дейк имел вид поленницы дров. В море он выступал метров на двадцать и вместе с прилегающей к нему частью берега образовывал как бы двугранный угол. По окрику Копинки парус был спущен в одно мгновение. Еще несколько ударов весла — и лодка укрылась за базальтовую стенку. Таким образом мы попали в относительно спокойный водоем. В самой середине нашего укрытия из воды сантиметров на двадцать поднимался большой плоский камень площадью в восемь квадратных метров. Поверхность его была покрыта бурыми водорослями и раковинами. В другое время я сделал бы вывод не в пользу нашего убежища, но теперь мы все были рады, что нашли тот «угол», о котором мечтали в открытом море и который, как нам казалось, мог защитить нас. Намука подвел лодку к камню, и мы тотчас вышли на него. Все сразу повеселели. Вихров и Крылов стали откачивать воду, а я с орочами принялся осматривать берег, к которому мы пристали. Наше укрытие представляло собою ловушку, из которой можно было выбраться только по воде. Базальтовая жила упиралась в отвесную скалу. Каких-нибудь выступов или карнизов, по которым можно было бы взобраться наверх, не было. Вокруг нас высились гигантские утесы, круто, а местами совершенно отвесно обрывающиеся в море. Все наше спасение было в лодке, и поэтому о ней надо было прежде всего позаботиться. Между тем буря разразилась не на шутку. Волны с грохотом таранили дейк снаружи, но он стойко выдерживал натиск моря. Ветром перебрасывало через него брызги. Волны пенились, дробились и ослабленные с урчанием заходили за базальтовую стенку и всплескивались на камни, к которым была привязана лодка. Опасаясь за участь наших грузов, я велел перевести лодку в самую глубь бухточки. Когда вода из лодки была выкачана, мы перебрали все наше имущество и вновь уложили его получше, прикрыв сверху брезентом и обвязав покрепче веревками. Затем мы закусили немного, оделись потеплее, сели на свои места в лодку и стали ждать, когда ветер стихнет и море немного успокоится. Однако буря усиливалась и к шести часам пополудни превратилась в настоящий шторм. В сумерки орочи сделали еще одно открытие, которое их сильно взволновало. Начался прилив, во время которого вода здесь подымается до двух метров. Несомненно, плоский камень, за которым мы стояли, будет затоплен. Это бы еще ничего, но беда в том, что ветер переменил направление и погнал волны как раз в угол, дававший нам укрытие от непогоды. Приливные волны все чаще заглядывали в наше укрытие и начали бить лодку о камни. Стало ясно, что если мы сейчас не выйдем в море, потом будет поздно. Это понимал каждый из нас. Сами мы как-нибудь спасемся, выберемся на дейк, спасем даже имущество, но лодка должна неминуемо погибнуть и тогда нам остается один только путь морем в качестве купающихся пловцов. Медлить было нельзя. Словно сговорившись, все взялись за весла. В это время в бухточку вошла большая волна и окатила плоский камень. Орочи воспользовались временным затишьем и вывели лодку за дейк. Новая волна подхватила ее как легкое перышко и на гребне вынесла за буруны. Ветер хлестнул по лицу холодной изморозью. Лодка сильно накренилась — прошла вторая большая волна, потом третья. Буруны остались позади. Орочи быстро подняли парус. Словно раненая птица, увлекаемая сильным ветром, помчалась наша лодка вдоль берега. Сумерки быстро спускались на землю. В море творилось что-то невероятное. Нельзя было рассмотреть, где кончается вода и где начинается небо. Надвигающаяся ночь, темное небо, сыпавшее дождем с изморозью, туман — все это смешалось в общем хаосе. Страшные волны вздымались и спереди и сзади. Они налетали неожиданно и так же неожиданно исчезали, на месте их появлялась глубокая впадина, и тогда казалось, будто лодка катится в пропасть. Несмотря на усиленное откачивание, вода в лодке не убывала. Результат усиленной работы двух человек сразу сводился к нулю одним всплеском волны. Скоро одежда наша промокла насквозь. Я был в состоянии какого-то забытья. Порой сквозь завывания ветра и зловещий шум волн я слышал, как у моего соседа стучали зубы. Меня самого трясло, как в лихорадке. Изредка сквозь прорыв в тумане впереди виднелась какая-то большая темная масса. Она казалась громадным чудовищем, которое залезло в море и, погрузившись в воду по подбородок, надулось и вот-вот издаст страшный рев. Это был мыс Сюркум. Если нам удастся обогнуть его — мы спасены, но до этого желанного мыса было еще далеко. Темная ночь уже опускалась на землю, и обезумевший океан погружался в глубокий мрак. Следить за волнением стало невозможно. Все люди впали в какую-то апатию, и это было хуже чем усталость, это было полное безразличие, полное равнодушие к своей участи. Беда, если в такую минуту у человека является убеждение, что он погиб, — тогда он погиб окончательно. Я сознавал, что надо людей подбодрить как-нибудь. Стрелки и казаки сидели на веслах лицом к корме. Я воспользовался этим и, собрав все силы легких, крикнул: — Братцы, самое страшное осталось позади, опасность миновала. Мыс Сюркум совсем недалеко. Навались! Я умышленно сделал веселое лицо и, сняв фуражку, замахал ею. Этот маневр достиг цели. Мои спутники стали грести энергичнее. Лодка пошла быстрее. Теперь уже чудовища не было видно. Слышно было только, как волны с грохотом разбивались о берег. Сюркум молча выдерживал их удары. Волны с бешенством отступали назад, чтобы собраться с силами и снова броситься в атаку. Ветер вторил им зловещим воем. Точно маленькая щепочка, лодка наша металась среди яростных волн. Порой казалось, что она бросается вперед, то будто стоит на месте. Стало совсем темно. С трудом можно было рассмотреть, что делается рядом. Как автомат, не отдавая себе отчета, я откачивал воду из лодки и мало беспокоился о том, что она не убывала. Орочи молчали. Находились ли они в таком же состоянии, как все мы, или сохранили больше самообладания, сказать не могу. — Господи, только бы нам дойти до мыса, — вдруг услышал я шопот позади у себя. — Сюркум далеко нету, — вдруг сказал Намука. Эти слова всех подбодрили, потому что это была правда. В это мгновение огромная волна нагнала лодку как-то сразу и сбоку и сзади и наполнила ее водой почти до половины. — Скоро качай! — крикнул неистово Копинка. Предчувствие близкой опасности, а главное этот окрик заставил людей стряхнуть апатию. Они стали грести энергичнее, а я и еще кто-то с удвоенной энергией принялись отливать котлом воду. Мало-помалу лодка снова стала всплывать. — Качай скорей! — снова закричал Намука. Вот и мыс недалеко, вот мы с ним и поровнялись, но тут нам предстояло еще одно страшное испытание. Мыс выдвигался далеко в море; ветром здесь развило очень большое волнение. Это было самое опасное место. Какие-нибудь четверть часа, но эти четверть часа были такими, от которых можно потерять рассудок. Вдруг громадная волна, точно какое-то живое непонятное существо с белой гривой, ужасное по своему внешнему виду и по размерам, сразу выросло сбоку. Как перышко взметнуло нашу лодку кверху. Волна исчезла, и мы стремглав полетели вниз. — Держись! — крикнул Намука, и вслед за тем лодка опять наполнилась более чем до половины. Воды в ней было так много, что ее можно было выкачивать не глядя. — Надо качать, усиленно надо качать! — крикнул я своим спутникам, — иначе мы погибли! Гребцы, сидевшие поблизости ко мне, оставили весла и тоже принялись чем-то откачивать воду. Для удобства я опустился на дно лодки прямо на колени и стал быстро работать котлом. Я не замечал усталости, холода, боли в спине и работал лихорадочно, боясь потерять хотя бы одну минуту. — Ая-ла-би, — услышал я голос Копинки, что означало: «очень хорошо». Невероятный прилив энергии вселился в людей. Лодка опять всплыла на поверхность моря. Волнение стало слабее — мы обогнули мыс и входили в бухту Старка. Минут десять мы плыли под парусом и работали веслами. Хотя ветер дул с прежней силой и шел мелкий частый дождь, но здесь нам казалось хорошо. Мы благословляли судьбу за спасение. Сзади слышался грозный рев морского прибоя. Вдруг слева от нас вынырнула из темноты какая-то большая темная масса, и вслед за тем что-то длинное белесоватое пронеслось над нашими головами и сбило парус. — Что такое? — невольно послышалось несколько голосов. Намука удержал лодку и стал осторожно подходить к неведомому предмету. Это оказалась шхуна. Я приказал зажечь фонарь. Неровный трепетный свет осветил судно, лежащее на боку и наполовину затопленное водой. Одна мачта шхуны была сломана, другая цела. Она-то и сбила наш парус. Обрывки снастей частью валялись на палубе, частью свешивались в воду. По-видимому, шхуна лежала на мели. Мелкие волны всплескивались на палубе ее. Мы обошли шхуну кругом и снова подошли к мачте. В это время луч фонаря осветил ее оконечности. Тут я увидел небольшое животное с длинным тонким хвостом. Должно быть, это была крыса. Она сделала попытку спрыгнуть в нашу лодку, но промахнулась и попала в воду. Стрелок Глегола хотел ударить ее веслом, но тоже промахнулся. — Брось, — сказал Ноздрин, — ты забыл, что сам только что чуть не утонул в море. Однако холод давал себя чувствовать. Мы поплыли дальше и не успели сделать десятка ударов веслами, как подошли к песчаной косе. Волны с шипением взбегали на пологий берег и беззвучно отходили назад. Два стрелка вылезли из лодки через борт и пошли прямо по воде; потом они подтащили лодку на руках, отчего вся вода в ней сбежала на корму. Я быстро откачал воду берестяным ковшом. Потом люди пошли по берегу и стали собирать дрова. Вот мелькнул огонек: кто-то зажег спичку, но ветром ее сразу задуло. То же самое случилось и со второй спичкой и с третьей. Топливо долго не разгоралось. Я разыскал свою походную сумку и подал на берег два обломка целлулоидной гребенки, захваченные мною из города нарочно для такого случая. Минут через двадцать пылал большой костер. Люди разгружали лодку, сушили одежду и грелись у огня. Лица их были серьезны. Каждый понимал, что мы только что избегли смертельной опасности и потому было не до шуток. Моряки с погибшей шхуны, очертания которой смутно виднелись недалеко от берега, были менее счастливы… Что стало с ними?.. Когда мы немного просохли, то начали ставить палатку и греть чай. Только теперь я почувствовал себя совершенно измученным и разбитым. Я лег около костра, но, несмотря на усталость, не мог уснуть. Моим спутникам тоже не спалось. Всю ночь мы просидели у огня, дремали и слушали, как бушевало море.Зимний поход по реке Хунгари
В зиму 1909 года в районе Императорской Гавани снега выпали рано, что очень беспокоило орочей. Это сулило тяжелую дорогу и затрудняло передвижение охотников, в особенности на пути от стойбищ к местам соболевания. Река обещала замерзнуть непрочно: на льду под снегом должны были образоваться проталины. В глубоком снегу скоро будут погребены ловушки, соболевание плашками придется прекратить раньше времени и гонять по следу, что считалось охотой трудной и мало добычливой. На несчастье ход рыбы в тот год был плохой. Все орочи заготовили так мало юколы, что по подсчету ее не могло хватить для прокорма до весны людей, не говоря уже о собаках. Многие предвидели голодовку и поговаривали о глушеньи старых и слабосильных собак. Недостаток юколы привязал людей к месту и принудил их отказаться от соболевания. Многие орочи решили как-нибудь пробиться до весны около моря, рассчитывая на случайный улов мелкой рыбешки в полосе мелководья. Все это, вместе взятое, ставило и меня в затруднительное положение. Орочи, всегда готовые мне помочь, были очень озабочены вопросом, кто и как будет меня сопровождать на Хунгари. Старик Антон Сагды и Федор Бутунгари советовали мне отказаться от зимнего похода, предлагали мне остаться у них до весны и с первым пароходом уехать во Владивосток. Это меня совершенно не устраивало. Выполнение маршрута через Сихотэ-Алинь на Хунгари входило в план моих работ, к тому же средства мои были на исходе, а зимовка на Тумнине затягивала экспедицию по крайней мере еще на шесть месяцев. Когда я объявил орочам, что маршрут по рекам Акуру и Хунгари должен выполнить во что бы то ни стало, они решили обсудить этот вопрос на общем сходе в тот день вечером в доме Антона Сагды. Я хорошо понимал причину их беспокойства и решил не настаивать на том, чтобы они провожали меня за водораздел, о чем я и сказал им еще утром, и только просил, чтобы они подробно рассказали мне, как попасть на Сихотэ-Алинь. Спутниками моими по этому маршруту вызвались быть стрелки Илья Рожков и Павел Ноздрин. Совещание орочей длилось недолго. Федор Бутунгари объявил мне, что они решили одного меня не пускать, потому что в истоках Акура легко заблудиться. Он также сказал, что один ороч с нартами и четырьмя собаками проводит меня до самого водораздела и укажет воду, которая течет в Акур. Затем ороч вернется назад, а дальше я сам должен буду итти, придерживаясь горной речки, пока не выйду на Хунгари. Вместе с тем Федор Бутунгари уговаривал меня облегчить нарты и взять как можно меньше собак. Это был весьма разумный совет. Я еще раз осмотрел свое имущество, часть его оставил в селении Дата и с собой взял только то, без чего никак обойтись было нельзя. Одеты мы были в полушубки, теплое белье и суконные шаровары. На головах имели меховые шапки с наушниками, на руках — вязаные рукавицы, а на ногах шерстяные портянки и унты из рыбьей кожи, с расчетом по одной паре на семь суток. Суконный шатер за его громоздкостью мы оставили в Императорской Гавани, а взамен его взяли два парусиновых полотнища, которыми можно было покрывать поставленные наклонно жерди и устраивать, таким образом, небольшую палатку. Печь с трубами я отдал орочам в селении Дата. Наша палатка была такая маленькая, что еле вмещала нас троих. Внутри ее мы должны были разводить огонь, а сами располагаться на ельнике вокруг него. У каждого было по две пары лыж: одна на ногах, а другая — запасная — в нарте. Мы захватили с собой малую поперечную пилу, два топора, котелок, чайник, кружки, ружья, патроны. У меня в нартах было все научное снаряжение и самое ценное мое имущество — путевые дневники. Для спанья каждый имел козью шкурку, теплые чулки из кабарожьей шкурки мехом внутрь и одеяло, а вместо подушки — простой холщевой мешок с запасным бельем. Я рассчитывал совершить весь маршрут в три недели и сообразно этому взял продовольствие для людей и корм для собак. Даже если бы мы пожелали того и другого захватить больше, это было бы невозможно. Что, в самом деле, мы могли увезти с собой? Обоз наш состоял из трех нарт — по одной на каждого человека. Нарты мы должны были тащить сами, и в помощь каждому предназначалось две собаки. Все как будто было предусмотрено, неизвестными для нас оставались только два вопроса: какой глубины снег на Хунгари и скоро ли по ту сторону мы найдем людей и протоптанную нартовую дорогу. Дня два ушло на сбор ездовых собак и корма для них. Юколу мы собрали понемногу от каждого дома. Наконец, все было упаковано и уложено. Я условился с орочами, что, когда замерзнет река Тумнин, в отряд явится проводник орочей со своей нартой, и мы снимемся с якоря. Мы выступили из Даты 3 октября в девять часов утра. День был морозный, тихий. Даже в воздухе не было движения. Все небо было затянуто темными серо-синими тучами, которые лежали параллельными полосами и казались совершенно неподвижными. Изредка в воздухе мелькали редкие снежинки. После выпавшего снега все предметы на земле были покрыты пышными капюшонами. Из труб на маленьких орочских домиках, погребенных в снегу, тонкими струйками вертикально подымались дымки. Между селениями Дата и Хуту-Дата дорога была уже протоптана, и потому мы довольно успешно продвигались вперед. Собаки тащили старательно. Бедные животные! Они думали, что будут работать только один день, что в орочском селении запрягут в нарты других собак, и не знали, какая печальная участь ожидала их в дальнейшем. В Хуту-Дата мы прибыли совсем в сумерки и очень устали. Если бы мы шли по безлюдной местности, то давно встали бы биваком, но теперь нам хотелось непременно дойти до селения Хуту-Дата. Я остановился в доме ороча Федора Бутунгари, оказавшего мне столько услуг. Весь вечер мы провели с ним в дружеской беседе. Он давал мне полезные советы, а я старался запомнить все мелочи и делал записи в записную книжку. На другое утро мы продолжали наш маршрут. В этот день погода стояла такая же хмурая, как и накануне. Небо было по-прежнему сумрачно. Тучи медленно ползли к юго-западу. В этом движении их была какая-то упрямая настойчивость, и никто не знал, зачем они туда шли и что хотели заполнить своими тяжелыми бездушными массами. Потому ли, что дорога немного занастилась, или потому, что мы хорошо отдохнули и начали втягиваться в работу, но только заметно было, что мы шли легче и скорее. В селение Акур-Дата мы прибыли засветло. Почти все орочи были дома. Недостаток собачьего корма привязал их к месту. Туземцы промышляли пушнину в ближайших к селению окрестностях по радиусу, определяемому тем количеством груза, который каждый из них мог унести на себе лично. В Акур-Дата мы застали одного ороча, которому насчитывалось более 80 лет и к которому все односельчане относились с большим уважением. Он был седой, как лунь, но сохранил зрение и слух. Я стал расспрашивать его о предстоящем мне пути. Он позвал двух охотников и велел им нарисовать план. Орочи принесли лоскут бересты и с помощью ножей стали на ней чертить карту бассейна Акура и всех перевалов через водораздел. Чертили они медленно, часто советовались со стариком и ставили свои значки кружками, крестиками и уголками; с помощью какой-то рыбьей косточки орочи измеряли расстояния и считали число дней пути. Меня поразили их уменье пользоваться масштабом и память, с какой они разбирались в бесчисленном множестве мелких ручьев и речек, из которых слагаются верховья Акура, Хуту и Хунгари. Этот берестяной план сослужил мне потом хорошую службу. Я всё время пользовался им до тех пор, пока не нашел других людей по ту сторону Сихотэ-Алиня. Только здесь я узнал, что обычно все люди ходят с Тумнина на Хунгари по реке Мули. Это наиболее легкая и прямая дорога; по реке же Акур никто не ходит, потому что верховья ее совпадают с истоками Хунгари. Хотя это была кружная дорога и она в значительной степени удлиняла мой путь, но все же я выбрал именно ее, как новый и оригинальный маршрут, тогда как по Мули проходила дорога, избитая многими путешественниками и хорошо описанная Д. Л. Ивановым. 18 октября мы распрощались с селением Акур-Дата. При впадении своем в Тумнин река Акур разбивается на два больших и несколько малых рукавов. Когда идешь по одному из них и не видишь остальных, кажется, будто Акур небольшая речка, но затем протоки начинают сливаться, увеличиваться в размерах и, наконец, исчезают совсем. Тогда только выясняется истинная ширина реки. Погода по-прежнему стояла морочная. Тучи продолжали двигаться все в том же направлении, они опускались ниже и, казалось, придавили воздух к земле, отчего было душно и чувствовался какой-то гнет, тоска. Там, где река Акур образует огромную петлю, огибая с трех сторон хребет Сагды-Уо, образовались щеки. Тут мы заночевали. Наша палатка была так мала, что вчетвером мы в ней не вместились бы, если бы наш проводник ороч не догадался захватить с собой лишние полотнища. Ночью мы все спали плохо, было как-то душно и тепло. На другой день, когда я вышел из палатки, первое, что мне бросилось в глаза, был густой туман. Он неподвижно лежал на поверхности земли. Сквозь него едва можно было рассмотреть противоположный берег реки. Когда взошло солнце и потянул ветерок вниз по долине, туман заколыхался. Сквозь просвет в нем видны были за рекой холмы, покрытые гарью, а за ними посиневшие высокие горы, тоже лишенные растительности. Казалось, что погода разгуляется. Это внесло некоторое оживление в наш маленький отряд, но вскоре солнце скрылось, и все небо опять заволокло тучами. Не теряя времени, мы быстро уложили свое имущество в нарты и тронулись в путь. Так как у ороча было четыре собаки и нарта его была легче наших, то я выслал его вперед прокладывать дорогу, а следом за ним двигались мы со своим обозом. Дней через пять мы достигли истоков Акура и, немного не доходя водораздела, встали биваком. Незадолго до сумерек все эти дни хмурившаяся погода разразилась обильным снегопадом, который продолжался всю ночь и весь следующий день. Снег кружился в воздухе и падал с характерным для него шуршаньем. Поверхность земли скоро покрылась белой скатертью и словно притихла. На камнях, буреломе и на ветвях елей всюду появились снеговые подушки. Мне надо было произвести здесь астрономические наблюдения и потому я решил ждать, когда утихнет непогода. Томительно и скучно тянулось время. Наш проводник торопился домой, где у него осталась жена и двое малых ребятишек с ограниченными запасами продовольствия. Наконец, на третий, день небо стало очищаться, и хотя еще шел редкий и мелкий снег, но все же сквозь тонкую пелену слоистых туч изредка на одну-две минуты выглядывало солнце. На него можно было смотреть невооруженным глазом. Я тотчас установил ртутный горизонт, взял высоту светила во время его кульминации и определил истинный полдень. Пока я производил наблюдения, мои спутники протоптали дорогу на перевал и возвратились на бивак засветло. После ужина все занялись приведением в порядок лыж. Их надо было выскоблить ножами, смочить горячей водой, выгнуть и просушить над огнем. Часов в девять мы легли около костра. Я долго и крепко спал. Но вот сквозь сон я услышал голоса и поднялся со своего ложа. Я увидел всех моих спутников и ороча, проворно собирающего свои вещи. Полагая, что пора вставать, я тоже стал собираться и потянулся за обувью. — Еще рано, — сказал Ноздрин, — до света еще далеко. Я взглянул на часы и увидел, что было только три с половиной часа утра. Тогда я спросил, зачем все встали так рано. На этот вопрос Ноздрин сказал мне, что наш проводник зачем-то разбудил их и велел поскорее укладывать нарты. Наконец, я узнал, что случилось. Ороч проснулся ночью от каких-то звуков. Прислушавшись к ним, он узнал крики зябликов. Это его очень встревожило. Крики дневных птиц ночью ничего хорошего не предвещают. Скоро птицы успокоились, и проводник наш хотел было опять улечься спать, но в это время всполошились вороны и стали каркать. Они так напугали ороча, что тот растолкал Рожкова и Ноздрина и попросил их разбудить поскорее меня. Я стал расспрашивать ороча, в чем дело, и пробовал его успокоить, но он остался непоколебимым. Из его отдельных фраз я понял, что птицы спят очень чутко, всегда слышат приближение чорта и поднимают крик. Тогда, невзирая ни на какую погоду, надо поскорее уходить с этого места. Если остаться на биваке, то всем грозит смерть. Было много случаев, когда погибали целые семьи от разных эпидемических болезней или пропадали без вести в тайге, замерзали около дома или тонули в воде. Сон прошел, мы размялись, я оделся и вышел из палатки. Глубокая ночь словно темным саваном облегала землю, кругом царила мертвая тишина. Окоченевший воздух был так чист и неподвижен, что можно было расслышать самый ничтожный шорох. Я стал напрягать зрение, но ничего нельзя было рассмотреть даже вблизи палатки. Вдруг до слуха моего донесся какой-то странный шум — это снег осыпался с ветвей на землю, и затем я услышал хлопанье крыльев в чаще и громкое карканье. В это время из палатки вышел ороч. Он проворно стал запрягать собак и укладывать нарту. Когда все было готово, он сказал, что будет ждать нас на самом перевале, затем впрягся в нарту, качнул ее за дышло вправо и влево и тронулся в путь. Я вошел в палатку. Сухие березовые дрова ярко горели. Стрелки успели уже согреть чай. Посоветовавшись, мы решили сняться с бивака чуть только станет светать и на следующий бивак встать пораньше. Как только появились первые проблески рассвета, мы снялись с бивака и пошли к Сихотэ-Алиню. В лесу по-прежнему было тихо. Ни малейшего ветерка. Длинные пряди бородатого лишайника висели совершенно неподвижно. День начинал брезжить. К великому нашему изумлению на перевале не было ороча. Он спустился на другую сторону хребта — об этом ясно говорили оставленные им следы. Действительно, скоро за водоразделом мы увидели дым костра и около него нашего провожатого. Он объявил нам, что речка, на которую нас теперь привела вода, называется Туки и что она впадает в Хунгари. Затем он сказал, что дальше не пойдет и вернется на Тумнин. — Моя так ходи, — указал он рукою на северо-запад. Сначала я его не понял, но потом догадался, что он не хочет итти старой протоптанной дорогой, а предпочитает прокладывать путь целиною, лишь бы обойти опасное место стороною. Предоставив ему самому разбираться с лесными страхами, мы распрощались с ним и пошли дальше. Небольшой ключик, по которому мы теперь спускались, имел направление к югу. Меня это смущало, но по существу мы изменить ничего не могли и должны были следовать за водой, которая (мы знали это наверно) должна была привести нас на реку Хунгари. Вопрос был только во времени. Погода нас недолго баловала, и вскоре небо стало заволакиваться тучами. Подвигались мы теперь медленно. На западных склонах Сихотэ-Алиня снега оказались гораздо глубже, чем в бассейне рек Тумнина. Собаки тонули в них, что в значительной степени затрудняло наше передвижение. К вечеру мы вышли на какую-то речку, ширина ее была не более 6–8 метров. Если это Хунгари, значит, мы попали в самое верховье ее и, значит, путь наш до Амура будет длинный и долгий. Уверенность в своих силах, расчет на хорошую погоду и надежды, что мы скоро найдем если не самих людей, то протоптанную ими дорогу, подбадривали и успокаивали нас. Продовольствия мы имели достаточно. Во всяком случае мы были за перевалом, на верном пути, а глубокий снег… Мы отнеслись к нему по-философски: «не все плюсы, пусть среди них будет и один минус». Однако большая глубина снежного покрова в первый же день сильно утомила людей и собак. Нарты приходилось тащить главным образом нам самим. Собаки зарывались в сугробах, прыгали и мало помогали. Они знали, как надо лукавить: ремень, к которому они были припряжены, был чуть только натянут, в чем легко можно было убедиться, тронув его рукой. Хитрые животные оглядывались и лишь только замечали, что их хотят проверить, делали вид, что стараются. Чем дальше вниз по реке, тем снег был глубже, тем больше мы уставали и тем медленнее мы продвигались вперед. Надо было что-нибудь придумать. Тогда я решил завтра оставить нарты на биваке и пойти всем троим на разведку. Я прежде всего рассчитывал дать отдых себе, моим спутникам и собакам. Я намеревался протоптать на лыжах дорогу, чтобы ею можно было воспользоваться на следующий день. Как-то в этот день маршрут затянулся, и на бивак мы встали совсем в сумерки. Остановились мы с правой стороны реки среди молодого ельника у подножья высокой скалы. Место мне показалось удобным: с одной стороны от ветра нас защищал берег, с другой — лес, с третьей — молодой ельник. На другой день мы пошли протаптывать дорогу налегке. Отойдя немного, я оглянулся и тут только увидел, что место для бивака было выбрано не совсем удачно. Сверху со скалы нависла огромная глыба снега, которая каждую минуту могла сорваться и погрести нашу палатку вместе с людьми. Я решил по возвращении перенести ее на другое место. Надо сказать, что по рыхлому снегу самый привычный ходок может итти без отдыха не больше 20 минут. Так как нас было трое, то мы распределили работу между собой следующим образом: через каждые двадцать минут человек, идущий впереди, переходил в хвост, а его место занимал следующий, задний в это время отдыхал. Потом второго по счету заменял третий, третьего опять первый. Так, чередуясь и протаптывая дорогу, за весь день нам удалось сделать только 9 километров. Когда солнце совсем склонилось к горизонту, мы повернули назад. Уже в горах порозовели снега, и от предметов по земле потянулись длинные тени, когда мы кончили свой трудовой день. Когда мы подходили к биваку, я увидел, что нависшей со скалы белой массы не было, а на месте нашей палатки лежала громадная куча снега вперемешку со всяким мусором, свалившимся сверху. Случилось то, чего я опасался: в наше отсутствие произошел обвал. Часа два мы откапывали палатку, ставили ее вновь, потом рубили дрова. Глубокие сумерки спустились на землю, на небе зажглись звезды, а мы все не могли кончить работы. Было уже совсем темно, когда мы вошли в палатку и стали готовить ужин. Ночь была тихая и звездная. Холодный воздух застыл и приобрел сонную неподвижность. В лесу изредка потрескивали деревья от мороза. В палатке было уютно и сравнительно тепло. Я делал записи в дневник. Ноздрин мешал кашу в котле, а Рожков, стоя на ногах, свертывал себе папиросу. Вдруг какой-то странный шум пронесся в воздухе. Он исходил откуда-то снизу — из-под земли. Словно там что-то большое, громоздкое падало, рушилось и с грохотом валилось с одного уступа на другой, и в этот момент палатка наша вздрогнула и качнулась. Лес зашумел, и с деревьев посыпался снег на землю. Собаки всполошились и подняли вой. Шум, быстро стихая, унесся к северо-востоку. Я сразу понял, что случилось землетрясение. Теперь мне стали понятны ночные крики птиц. Несомненно, тогда тоже было землетрясение, но настолько слабое, что мы его не ощущали. Теперь я знал, отчего произошел снежный обвал. Опасность нам грозила большая, еслибы мы в это время оказались на биваке. Лесные страхи, которые так взволновали нашего проводника, имели свое основание, только объяснял их он вмешательством чорта, устроившего снежный обвал. Не обошлось и без курьеза. Когда вздрогнула земля, Ноздрин, морщась от дыма и не глядя на Рожкова, недовольным тоном сказал: — Брось, будет тебе. — Что? — спросил Рожков. — Да трястись на месте. Он думал, что его товарищ шутил и, стоя на ногах, встряхивал землю, палатку и котел с кашей. Первое время об этом эпизоде я забыл, но потом, когда каша была готова и мы взялись за ложки, я стал смеяться. Больше всего смеялся Рожков, Ноздрин только улыбался. Он чувствовал, что попал в конфузное положение. Утром он сказал, что ночью было еще два слабых толчка, но я за день так устал, что спал, как убитый, и ничего не слышал. С бивака мы снялись с некоторой надеждой на успех. За ночь наша лыжница хорошо занастилась, и потому девять километров мы прошли скоро и без всяких приключений. Протаптывание дороги по снегу заставляло нас проделывать один и тот же маршрут три раза и, следовательно, удлиняло весь путь во времени более чем вдвое. Это обстоятельство очень беспокоило меня, потому что весь запас нашего продовольствия был рассчитан лишь на три недели. Растянуть его можно было бы еще дня на три-четыре. Я все же надеялся встретить где-нибудь гольдов-соболевщиков и потому внимательно присматривался ко всяким следам, какие встречались на реке и по сторонам в лесу. На наше несчастье зима выпала очень суровая: пурга следовала за пургой. Снег был так глубок, что мы даже на биваке не снимали лыж. Без них нельзя было принести воды, дров и сходить к нартам за чем-нибудь. Ежедневно мы протаптывали дорогу. За день мы так уставали, что, возвращаясь назад, еле волокли ноги, а на биваке нас тоже ждала работа: надо было нарубить и натаскать дров, приготовить ужин и починить обувь или одежду. Случалось, что протоптанную накануне дорогу заметало ночью ветром, и тогда надо было протаптывать ее снова. Бывали случаи, когда на возвратном пути мы не находили своей лыжницы: ее заносило следом за нами. Тогда мы шли целиною, лишь бы поскорее дойти до бивака и дать отдых измученным ногам. Наша обувь и одежда износились до последней степени. И не мудрено: второй год путешествия был на исходе. У орочей на Тумнине я достал унты из рыбьей кожи по четыре пары на каждого человека. При бережном с ними обращении их должно было хватить дней на тридцать. Изношенную обувь мы не бросали, а держали как материал для починки вновь попортившейся. Сначала починки производились редко, а потом всё чаще и чаще — почти ежедневно. Когда был израсходован последний лоскуток рыбьей кожи, мы стали рвать полы полушубков и ими подшивать унты. Этот материал тоже был непрочен и быстро протирался. В конце концов мы так обкарнали полушубки, что они превратились в гусарские курточки без пол. Тогда мы бросили верхние поясные ремни, как вещи совершенно ненужные, потому что они постоянно съезжали на нижнюю одежду. Не лучше обстояло дело и с бельем. Мы уже давно не раздевались. Белье пропотело и расползлось по швам. Обрывки его еще кое-где прикрывали тело, они сползали книзу и мешали движениям. В таких случаях мы, не раздеваясь, вытаскивали то один кусок, то другой через рваный карман, через воротник или рукав. Я никак не думал, что наш маршрут так может затянуться. Всему виной были глубокие снега и часто следовавшие одна за другой пурги. Этот переход был одним из самых тяжелых во всей моей жизни. С 7 по 18 декабря дни были особенно штормовые. Как раз в это время мы дошли до речки Холоми и тут нашли орочокский летник, построенный из древесного корья на галечниковой отмели. Летник был старый, покинутый много лет назад. Кора на крыше его покоробилась и сквозила. Мы так обрадовались этим первым признакам человеческого жилья, как будто это была самая роскошная гостиница. Тут были люди! Правда, давно, но все же они сюда заходили. Быть может, и опять пойдут навстречу. Мы привели летник в возможный порядок: выгребли снег, занесенный ветром через дымовое отверстие в крыше, выгребли мусор и сухой травой заткнули дыры по сторонам. Поблизости было мало дров, но все же мы собрали столько, что при некоторой экономии могли провести ночь и не особенно зябнуть. Я рассчитывал, что буря, захватившая нас в дороге, скоро кончится, но ошибся. С рассветом ветер превратился в настоящий шторм. Сильный ветер подымал тучи снегу с земли и с ревом несся вниз по долине. По воздуху летели мелкие сучья деревьев, корье и клочки сухой травы. Берестяная юрточка вздрагивала и, казалось, вот-вот тоже подымется на воздух. На всякий случай мы привязали ее веревками от нарт за ближайшие корни и стволы деревьев. Мы сожгли все топливо, и теперь надо было итти за дровами. Взялся за это дело Рожков, но едва он вышел из юрты, как сразу ознобил лицо. На посиневшей коже местами выступили белые пятна. Я стал усиленно ему оттирать лицо снегом, и это, быть может, спасло его. Буря завывала, потрясая юрту до основания, и с подветренной стороны нагромождала большие сугробы. Внутри юрты было дымно и холодно, изменить или улучшить свое положение мы никак не могли. Когда последнее полено было положено в огонь, стало ясно, что, невзирая на ветер и стужу, мы должны итти за топливом. Тогда, завернув голову одеялами, с топором в руках я вышел из юрты. Сильным порывом ветра меня чуть не опрокинуло на землю, но я удержался, ухватившись за жердь, глубоко воткнутую в гальку, которой было прижато корье на крыше нашей «гостиницы». Кругом творилось что-то страшное. С невероятной быстротой снег несло ветром сплошной стеной. Было как-то особенно мрачно и жутко. Сквозь снежную завесу я увидел Ноздрина. Он стоял спиной к ветру и старался запахнуть лицо. Совсем наугад я пошел вправо и шагах в ста от юрты на берегу высохшей протоки наткнулся на плавник, нанесенный водою. Я стал его разбирать. Снежная завеса разорвалась, и совсем рядом с собой я увидел того же Ноздрина. Я тронул его рукою. Он поднял голову и узнал меня. Мы набрали дров, сколько могли, и понесли к биваку. Спустя некоторое время вернулся в юрту и Рожков. Он ничего не нашел и сильно прозяб. Я пожурил его за то, что он, будучи больным, ушел, ничего мне не сказав. В такую пургу можно заблудиться совсем рядом с юртой и легко погибнуть. Согревшись у огня, мы незадолго до сумерек еще раз сходили за дровами и в два приема принесли столько дров, что могли жечь их всю ночь до утра. Так промаялись мы еще целые сутки, и только к вечеру третьего дня ветер начал понемногу стихать. Тяжелые тучи еще продолжали свое настойчивое движение, но порой сквозь них пробивались багровые лучи заката. В темных облаках, в ослепительной белизне свежевыпавшего снега и в багрово-золотистом сиянии вечерней зари чувствовалось приближение хорошей погоды. С тех пор, как мы начали сокращать себе ежедневную порцию продовольствия, силы наши стали падать. С уменьшением запасов юколы нарты делались легче, а тащить их становилось все труднее и труднее. Одежда наша была в самом плачевном состоянии: она износилась и во многих местах была изорвана, суконные ленты на ногах превратились в клочья, рукавицы от постоянной работы продырявились и не давали тепла. Вместо обуви на ногах мы имели не то чулки, не то мешки, сшитые из тряпок, овчины и рыбьей кожи. Из прорех торчали клочьями бараний мех или сухая трава. Чтобы обувь окончательно не развалилась, мы обмотали ноги поверх еще несколькими рядами шпагата. Лучше всего сохранились головные уборы, но и те требовали починки. Уже несколько раз мы делали инспекторский осмотр нашему инвентарю, чтобы лишнее бросить в тайге, и каждый раз убеждались, что бросить ничего нельзя. Было ясно, что если в течение ближайших дней мы не убьем какого-нибудь зверя или не найдем людей, мы погибли. Эта мысль появлялась все чаще и чаще. Неужели судьба уготовила нам ловушку?.. Неужели Хунгари будет местом нашего последнего упокоения? И когда! В конце путешествия и, может быть, недалеко от жилья. С охотой нам не везло совсем. Вследствие глубоких снегов зверь не ходил, он стоял на месте и грыз кору деревьев, росших поблизости. Нигде не было видно следов. Из шести собак трех мы потеряли неизвестно где и как. Их вдруг не оказалось на биваке. Быть может, они убежали назад. Две погибли с голода и только одна, казалось, самая слабая и самая старая, плелась следом за нартами. Один раз я убил молодую выдру, другой раз Ноздрин застрелил небольшую рысь. Мы их съели с величайшим удовольствием, а затем началась опасная голодовка. В таком положении, измученные и обессиленные, мы едва передвигали ноги. Будь лето, мы давно бросили бы все лишнее и налегке как-нибудь добрались бы до людей, но глубокий снег, а главным образом морозы принуждали нас тащить палатку, поперечную пилу, топоры и прочие бивачные принадлежности. Бросить все это — значит немедленно обречь себя на верную смерть. В первую же ночь, утомленные дневным переходом, мы уснем, чтобы никогда более не проснуться. Это вынудило нас, несмотря на крайнюю усталость, тащить нарты. С каждым днем мы стали делать переходы все меньше и меньше, стали чаще отдыхать, раньше становиться на бивак, позже вставать, и я стал опасаться, как бы мы не остановились совсем. Усталость накапливалась давно, и мы были в таком состоянии, что ночной сон уже не давал нам полного отдыха. Нужно было сделать дневку, но отсутствие продовольствия принуждало, хоть и через силу, двигаться вперед. Встреча с людьми — вот что могло спасти нас, и эта надежда еще поддерживала наши угасающие силы. — Эх, поспать бы теперь как следует! — сказал однажды Ноздрин. — Есть охота, — возразил ему Рожков. — А часто умирают люди не дома — все где-нибудь на стороне, — высказал он свои мысли. В это время идущий впереди Ноздрин остановился и грузно опустился на край нарты. Мы оба следовали за ним и как будто только этого и ждали. Рожков немедленно сбросил с плеч лямку и тоже сел на нарту, а я подошел к берегу и привалился к вмерзшему в лед большому древесному стволу, наполовину занесенному песком и илом. Мы долго молчали. Я стоял и машинально чертил палкой по снегу узоры. Потом я поднял голову и безучастно посмотрел на реку. Мы только что вышли из-за поворота, перед нами был плес не менее полутора километров длины. Солнце уже склонилось к верхушкам самых отдаленных деревьев и косыми лучами озарило долину Хунгари и все малые предметы на снегу, которые только при этом освещении могли быть видны по синеватым теням около них. Мне показалось, что через всю реку протянулась полоска. Словно веревочка, она шла наискось и скрывалась в кустарниках на другом берегу. Сначала я подумал, что это тень от дерева, но она шла не от солнца. Если это трещина на льду, где осел снег, тогда ей место на берегу. — Лыжница!.. Едва эта мысль мелькнула в моем мозгу, как я сорвался с места и побежал к полоске, которая выступала все отчетливее по мере того, как я к ней приближался. Действительно, это была лыжница. Один край ее был освещен солнцем, другой находился в тени — эту тень я и заметил, когда был около нарт. — Люди, люди! — закричал я не своим голосом. Рожков и Ноздрин бросили нарты и прибежали ко мне. Тем временем я успел все рассмотреть как следует. Лыжница была вчерашняя и успела хорошо занаститься. Видно было, что по ней шел человек маленького роста, маленькими шагами, на маленьких лыжах и с палкой в руке. Если это мальчик, то жилище не должно быть далеко. Тотчас мы направились по следу в ту сторону, куда ушел этот человек. Лыжница через кусты вывела нас на небольшую протоку и направилась вниз по течению, но потом она свернула вправо и вышла на протоку побольше. Здесь ее пересекла другая старая лыжница. Я старался не упустить ни одной мелочи в следах и внимательно осматривал все у себя под ногами и по сторонам. В одном месте я увидел четыре уже замерзшие проруби з одну линию — это ловили рыбу подо льдом. Немного далее еще две лыжницы, совсем свежие, пересекли нашу дорогу. А вот кто-то совсем недавно рубил дрова. — Люди, люди! — каждый из нас повторял это слово несчетное число раз. Протока сделала еще один поворот вправо, и вдруг перед нами совсем близко появилась небольшая юрточка из корья. Из нее вышла маленькая сморщенная старушка с длинной трубкой. — Би чжанге, ке-кеу-де елани агде ини. Бу дзяпты анчи, — сказал я ей на туземном языке. (Я начальник, нас три человека, уже много дней мы ничего не ели). Старушка сначала испугалась, но фраза, сказанная на родном языке, сразу расположила ее в нашу пользу. В это время из юрты вышла другая старушка еще меньше ростом, еще более сморщенная, с еще более длинной трубкой. Я объяснил им, кто мы такие, как попали на Хунгари, куда идем, как нашли их по лыжнице и просили оказать нам гостеприимство. Узнав, что мы обессилели от голода, старушки засуетились и пригласили войти в юрту. Одна из них пошла за водой к проруби, а другая одела лыжи и с палкой в руках пошла в лес. Минут через десять одна вернулась с большим куском сохатиного мяса и принялась варить обед, а другая повесила над огнем чайник и стала жарить на угольях свежую юколу. С невероятной жадностью набросились мы на еду. Старушки угощали нас очень радушно, но в то же время убеждали много не есть. Когда первые приступы голода были утолены, я хотел со своими спутниками итти за нартами, но обе старушки, расспросив, где мы их оставили, предложили нам лечь спать, сказав, что нарты доставят их мужья, которые ушли на охоту еще вчера и должны скоро вернуться. Не хотелось мне утруждать туземцев доставкой наших нарт, но я почувствовал, что меня стало сильно клонить ко сну. Рожков и Ноздрин, сидя на полу, устланном свежей пихтой, тоже клевали носами. Добрые старушки настойчиво уговаривали нас не ходить и все время говорили одно и то же слово «гыры». Я уступил: не раздеваясь, лег на мягкую хвою; отяжелевшие веки закрылись сами собой. Я слышал, как заскрипел снег под лыжами около дома (это куда-то ушли старушки), и вслед за тем я, как и мои спутники, погрузился в глубокий сон. Когда я проснулся было уже совсем темно. В юрте ярко горел огонь. Рожков и Ноздрин еще спали. По другую сторону огня против нас сидели обе старушки и их мужья, возвратившиеся с охоты — тоже старики. Один из них был старше и выше ростом, другой — ниже и моложавее. Обе старушки работали. Одна приготовляла новую обувь, другая варила ужин. Тут только я заметил, что мы все были разуты, и на ногах вместо рваных унтов надеты кабарожьи меховые чулки. Я хотел было подняться и сесть, но почувствовал сильную истому и ломоту в костях. Я чувствовал головокружение и усталость еще большую, чем вчера, чем сегодня до сна. — Спи. Надо много спи, — сказал мне один из стариков. Я откинулся назад и опять утонул во сне. На другой день проснулись мы совершенно разбитыми и совершенно неспособными ни к какой работе. Все члены словно были налиты свинцом, чувствовался полный упадок сил, даже поднять руку было тяжело. Когда проснулись Рожков и Ноздрин, я не узнал своих спутников. У них отекли руки и ноги, распухли лица. Они тоже смотрели на меня изумленно испуганными глазами. Оказывается, и я сам имел такой же болезненный вид. Старики-орочи посоветовали подняться, походить немного и вообще что-нибудь делать, двигаться… Это легко было сказать, но трудно было исполнить. Орочи настаивали, они помогли нам обуться и подняться на ноги. Они принялись рубить дрова и просили нас то одного, то другого сходить за топором, принести дров, поднять полено и т. д. Я убедил Рожкова и Ноздрина не отказываться от работы и объяснил в чем дело. Кишечник и желудок отвыкли работать, и от этого мы заболели: нужны движения, нужно дать встряску организму, нужен физический труд, хотя бы через силу. Головокружение, тошнота и сонливое состояние не оставляли нас весь день. Трижды мы вылезли из юрты, кое-как двигались и ничего не ели. Так проболели мы две недели. Силы наши восстанавливались очень медленно. Обе старушки все время ходили за нами, как за малыми детьми, и терпеливо переносили наши капризы. Так только мать может ходить за больным ребенком. Женщины починили всю нашу одежду и дали новые унты, мужчины починили нарты и выгнули новые лыжи. Наконец, мы оправились настолько, что могли продолжать путешествие. Я назначил днем выступления 14 января 1910 года. С вечера мы уложились, увязали нарты и рано легли спать, а на другой день со свежими силами выступили в путь. Как сейчас вижу маленькую юрточку на берегу запорошенной снегом протоки. Около юрточки стоят две туземные женщины — старушки с длинными трубками. Они вышли нас провожать. Отойдя немного, я оглянулся. Старушки стояли на том же месте. Я помахал им шапкой, они ответили руками. На повороте протоки я повернулся и послал им последнее прости. Удэхейцы снабдили нас продовольствием на дорогу и проводили, как они сами говорили, на шесть песков, т. е. на шесть отмелей на поворотах реки. Они рассказали нам путь вперед на несколько суток и указали, где найти людей. Мы расстались. Зимний переход по реке Хунгари в 1909 году был одним из самых тяжелых в моей жизни, и все же каждый раз, когда я мысленно оглядываюсь во времени назад, я вспоминаю с умилением двух старушек, которые оказали нам неоценимые услуги и, может быть, спасли нас от смерти. Путешествие наше близилось к концу. Сплошная тайга кончилась и начались перелески, чередующиеся с полянами. С высоты птичьего полета граница тайги, по выходе в долину Амура, представляется в виде ажурных кружев. Чем ближе к горам, тем они казались плотнее, и чем ближе к Амуру, тем меньше было древесной растительности и больше луговых пространств. Лес как-то разбился на отдельные куртины, отошедшие в стороны от Хунгари. Сознание, что Амур недалек, волновало нас, и как-то без всякого повода, на основании одних лишь предположений, мы уверили себя, что к вечеру непременно дойдем до села Вознесенского, расположенного с правой стороны около устья реки Хунгари. В этот день с бивака мы выступили в обычное время и в полдень, как всегда, сделали большой привал. В два часа мы миновали последние остатки древесной растительности. Дальше перед нами на необозримом пространстве расстилалась обширная поемная низина, занесенная снегом, по которой там и сям отдельными буро-желтыми пятнами виднелись вейник и тростник, менее других погребенные сугробами. Здесь с правой стороны реки мы нашли небольшую фанзочку, в которой жили трое корейцев-дроворубов. Они не говорили по-русски, и как я ни пытался узнать, далеко ли до села Вознесенского, толку добиться не мог. Корейцы что-то болтали и спорили между собой. Не помогло и черчение по снегу. Надо было взять себя в руки и, невзирая на просьбы Рожкова и Ноздрина, остановиться на бивак и отдохнуть как следует, а завтра со свежими силами выступить пораньше и засветло дойти до Амура. Я этого не сделал, уступил своим спутникам и, несмотря на позднее время, пошел дальше. Скитание по тайге надоело нам, одеты мы были плохо, питались кое-как и потому, естественно, всем нам хотелось поскорее добраться до Амура. Простая элементарная логика заговорила о необходимости устроить бивак, хотя бы в прибрежных кустах, где все же можно было собрать достаточно мелкого хвороста. Но как бывает иногда, находит какое-то помутнение рассудка. И вот ни на чем не основанная уверенность и надежда, что Амур так недалек, что если мы пойдем бодро и будем итти долго, то непременно достигнем цели, заслонили разумную осторожность. В самом деле! Лес кончился — разве это не признак, что Амур недалеко? Положим, что поемные луга протянутся километров 8-10, не более. Без сомнения, мы сегодня же будем в селе Вознесенском. Так говорили мои спутники. Доводы их показались мне убедительными — я махнул рукой и подал знак двигаться дальше. От корейских фанз река сделалась извилистой. Еще некоторое время по берегам попадались одиночные кусты, но они скоро исчезли. Там, где река разбивалась на протоки, образовались молодые острова, еще не успевшие покрыться растительностью. Пора было остановиться на бивак, но так как мы решили во что бы то ни стало дойти до села Вознесенского, то этой мысли не суждено было воплотиться в действительность, она мелькнула только и бесследно исчезла. К тому же ночевка под открытым небом была абсолютно невозможна. Еще час, другой ходьбы и мы, вероятно, будем на Амуре. Часа через два начало смеркаться. Солнце только что скрылось за облаками, столпившимися на горизонте, и окрасило небо в багрянец. Над степью пробегал редкий ветер. Он шелестел засохшею травою, пригибая верхушки ее к сугробам. Снежная равнина безмолвствовала. Вдруг над головой мелькнуло что-то белесоватое, большое. По бесшумному полету я узнал полярную сову открытых пространств. «Я предвестница мрака, за мною ночь идет», — словно пророчила она своим появлением. Сова скрылась, и вместе с нею, казалось, улетела и угроза, оброненная ею по пути. Мы шли еще некоторое время. На землю надвигалась ночь с востока. Как только скрылось солнце, узкая алая лента растянулась по горизонту, но и она уже начала тускнеть, как остывающее раскаленное докрасна железо. Кое-где замигали звезды, а между тем впереди нигде не было видно огней. Напрасно мы напрягали зрение и всматривались в сумрак, который быстро сгущался и обволакивал землю. Впереди по-прежнему плес за плесом, протока за протокой сменяли друг друга с поразительным однообразием. — Что за диво, — сказал молчавший до сего времени Рожков, — давно бы надо быть Амуру. — А ты почему знаешь, что ему давно надо быть? — возразил Ноздрин. «А и в самом деле, — подумал я, — почему мы решили, что Амур недалеко? Быть может, до него еще целый переход». Эта мысль напугала меня, и я постарался отогнать ее прочь. Через час ночь окончательно вступит в свои права и принудит остановиться. Итти в темноте наугад целиною по глубокому снегу трудно для здоровых людей, но совершенно не по силам было для нас, утомленных такой длинной и тяжелой дорогой. И днем-то мы часто сбивались с главного русла и залезали то в старицу, то в смежную протоку. Как только кончился лес, стало заметно холоднее. Над снежной равниной пробегал холодный резкий ветер. Мы стали зябнуть и выбиваться из сил. Прошло еще два часа, а мы все шли. Ночь окончательно вступила в свои права. Стало так темно, что мы то и дело натыкались то на обрывистый берег, то на ледяной торос, то на колодник, вмерзший в мокрый песок. Впереди ни малейшего признака жилья, ни одного огонька. На небе горели бесчисленные звезды. Они сильно мерцали и в морозном воздухе переливались всеми цветами радуги. Случайно мы остановились все сразу. В таких случаях самое худшее решение — ни на что не решаться. Через час, даже через какие-нибудь полчаса будет уже поздно. Тогда я обратился к обоим спутникам с короткой речью. Я сказал им, что мы попали в очень опасное положение. Мы не рассчитали своих сил и без всяких данных решили, что Амур недалеко. Если мы пойдем вперед, то вынуждены будем заночевать в открытом поле и без огня. За это мы поплатимся в лучшем случае отмороженными конечностями, а в худшем — уснем навеки. Единственный способ выйти из бедственного положения — оставить здесь нарты и налегке с одними топорами итти назад по протоптанной дороге. Рожков и Ноздрин молчали. Не давая им опомниться, я быстро пошел назад по лыжнице. Оба они сняли лямки с плеч и пошли следом за мной. Отойдя немного, я дождался их и объяснил, почему необходимо вернуться назад. До Вознесенского нам сегодня не дойти, дров в этих местах нет и, значит, остается один выход — итти назад к лесу. Мои спутники ничего мне не ответили. Путь назад был длинный, а силы наши на исходе. Занастившаяся дорога позволяла не смотреть под ноги, протоптанный след сам направлял наши лыжи и для того, чтобы выйти из него на целину, нужно было употребить довольно большое усилие. Значит, сбиться с дороги мы не могли. Однако усталость дала себя чувствовать очень скоро. Около полуночи Ноздрин начал отставать. Опасаясь, как бы он не отстал совсем, я велел Рожкову пропустить его вперед и подбадривать словами. Мы шли, как пьяные, и качались из стороны в сторону. Я трижды поймал себя в дремоте во время коротких остановок. Около часа ночи Ноздрин стал просить разрешения на отдых, обещая нас догнать очень скоро. Тогда я прибегнул к обману. Впереди виднелась какая-то длинная темная масса. Я сказал, что это лес, где мы разведем огонь и остановимся совсем. Поверил ли мне Ноздрин или его уговорил Рожков, но только он пошел дальше. Темный предмет оказался возвышенным берегом реки, но, к сожалению, совершенно голым. Я сказал, что ошибся, что лес начинается не от этого, а от другого мыса. Оба стрелка шли безучастно и ни слова не говорили. Вот и второй мыс, на нем тоже не было леса. Надо было опять что-нибудь выдумать, иначе мои спутники потеряют уверенность в своих силах и остановятся. Рожков стоял согнувшись, опираясь на палку, а Ноздрин уже готовился сесть в сугроб. — Лес! Лес! Я вижу лес впереди, — закричал я, на самом деле ничего не видя. Собрав остатки последних сил, мы все тихонько пошли вперед. И вдруг действительно в самую критическую минуту с левой стороны показались кустарники. С величайшим трудом я уговорил своих спутников пройти еще немного. Кустарники стали попадаться чаще вперемежку с одиночными деревьями. В 21/2 часа ночи мы остановились. Рожков и Ноздрин скоро развели огонь. Мы погрелись у него, немного отдохнули и затем принялись таскать дрова. К счастью, поблизости оказалось много сухостоя, и потому в дровах не было недостатка. Разгребая снег, мы нашли под ним много сухой травы и принялись ее резать ножами. В одном месте, ближе к реке, виднелся сугроб в рост человека. Я подошел к нему и ткнул палкой. Она уперлась во что-то упругое, я тронул в другом месте и почувствовал то же упругое сопротивление. Тогда я снял лыжу и стал разгребать снежный сугроб. При свете огня показалось что-то темное. — Балаган! — закричал я своим спутникам. Тотчас Рожков и Ноздрин явились на мой зов. Мы разобрали корье и у себя на биваке сделали из него защиту от ветра. Затем мы сели на траву поближе к огню, переобулись и тотчас заснули. Однако, сон наш не был глубоким. Каждый раз, как только уменьшался огонь в костре, мороз давал себя чувствовать. Я часто просыпался, подкладывал дрова в костер, сидел, дремал, зяб и клевал носом. Как реакция после напряженной деятельности, когда надо было выиграть время и заставить себя преодолеть усталость, чтобы дойти до лесу, вдруг наступил покой и полный упадок сил. Теперь опасность миновала. Не хотелось ничего делать, ничего думать. Я безучастно смотрел, как перемигивались звезды на небе, как все новые и новые светила, словно алмазные огни, поднимались над горизонтом, а другие исчезали в предрассветной мгле. …На другой день к вечеру мы были в селе Вознесенском.
Сквозь тайгу

Глава первая. Сборы и отъезд
Вопрос о географическом обследование Уссурийского края в границах Нижний Амур — озеро Кизи, Татарский пролив и река Хор был поднят еще в 1908 году. Тогда Приамурским отделом Русского географического общества была снаряжена экспедиция под моим начальством, работавшая подряд в течение двух лет в северной части горной области Сихотэ-Алинь. В 1926 и 1927 годах было решено снарядить ряд специальных экспедиций с заданием осветить бассейны рек Хора, Анюя, Копи и Хади в дендрологическом, геологическом, экономическом и колонизационном отношениях. В ноябре 1927 года Дальневосточное районное переселенческое управление предложило мне сорганизовать экспедицию по маршруту Хабаровск — Советская гавань с целью выяснить, что представляют собой в колонизационном отношении лежащие на этом пути местности. На эту экспедицию было ассигновано двенадцать тысяч рублей, выступление ее предполагалось ранней весной, как только спадут снега и вскроются реки. Так как путь экспедиции должен был пролегать по местности, совершенно пустынной и только изредка касающейся границ обитания туземного населения внутри страны, то он мог быть выполнен лишь при наличии питательных баз, заранее устроенных в верховьях рек Тутто, Хади, Копи, Анюя, Хора, Пихцы, Мухеня и Немпту. Завоз грузов на эти базы предполагалось произвести заранее, пока реки были еще скованы льдом и имелось нартовое сообщение; но вследствие недоразумений деньги переведены были в мое распоряжение лишь в конце апреля. Только с этого момента экспедиция фактически приступила к снаряжению в далекий путь. Однако время было упущено, реки вскрылись ото льда, и потому завоз грузов на питательные базы надо было производить на лодках, что было несравненно труднее и стоило значительно дороже. Экспедиции в пути надлежало перейти четыре горных хребта, где возможно было встретить большие каменистые россыпи, предстояли переправы через быстрые горные реки с высокими обрывистыми берегами и через зыбучие болота. Поэтому я решил отказаться от вьючных животных и весь маршрут построить так, чтобы большую часть пути можно было пользоваться лодками и только через водоразделы из одного бассейна в другой идти пешком с котомками за плечами. Надо сказать, что в это же время и в тех же местах по изысканию железнодорожного пути работали две партии: одна под руководством инженера Мазурова, другая возглавлялась инженером Львовым. Первоначально я предполагал идти от Хабаровска на Советскую гавань и в состав экспедиционного отряда пригласил профессора ботаники Савича и сотрудника Хабаровского музея Кардакова. Позднее ассигнование денег вынудило нас перестроить весь маршрут в обратном порядке и разделиться на два отряда. Савич со студентами Высоцким, Каревым и Гончаровым должны были произвести обследование верховьев рек Немпту, Мухеня и Пихцы, затем перевалить на реку Хор и спуститься по этой последней до Уссурийской железной дороги. Я же с Кардаковым и студентом-геоботаником Кабановым должен был начать свое путешествие от Советской гавани, идти вверх по реке Хади к истокам реки Копи, потом через хребет Сихотэ-Алинь на реку Анюй, затем перейти на реку Хор, а с Хора на Пихцу и держать курс на Хабаровск. Словом, пока я буду работать на восточной стороне Сихотэ-Алиня, Савич тем временем устроит в указанных местах три питательные базы. Сообразно этому плану и денежные средства были распределены на три части: 1000 рублей оставлена забронированной для отчетных камеральных работ по возвращении экспедиции; мой отряд, совершивший весь маршрут от моря до Амура, располагал 7060 рублями и отряд Савича — 4545 рублями. Маршрут от Хабаровска к Советской гавани можно было начинать в любой день. Это направление давало целый ряд преимуществ, от которых мы теперь вынуждены были отказаться. Путешествие от моря к Хабаровску зависело не только от расписания пароходных рейсов, но и от других причин, которые нельзя было предвидеть заранее. Казалось, будто все наладилось, но вдруг совершенно неожиданно выплыла новая неприятность. Совторгфлот грузы экспедиции вместо Советской гавани заслал на остров Сахалин. Ничего более не оставалось, как дожидаться их возвращения во Владивосток, чтобы со следующим рейсом их вновь доставить куда следует. Обязанности между участниками экспедиции распределились следующим образом. Лично я взял на себя руководство экспедицией, подготовительные, организационные и ликвидационные работы, производство маршрутной съемки и обследование пути в колонизационном и естественно-историческом отношениях. Кардаков выполнял все поручения, связанные со званием помощника начальника экспедиции. Кроме того, на него же были возложены обследование охотничьего и промыслового хозяйства туземцев и фотографическая съемка в пути. Студент-геоботаник Кабанов собирал гербарный и почвенный материал и вел наблюдения по своей специальности. Кроме научных сотрудников, в состав экспедиции еще входили туземцы. Я умышленно взял только одних орочей, потому что они знали хорошо окрестности и служили одновременно рабочими и проводниками; умели долбить лодки и управляться с ними на перекатах; снабжали нас рыбой и мясом. Ныне, оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что поступил правильно. Во время наводнения многие экспедиции потерпели аварии, только в моем отряде не было несчастий, и мы благополучно дошли до Хабаровска. Я взял сначала девять туземцев. Троих я вернул еще с реки Тутто, двое должны были сопровождать Кабанова при спуске по реке Копи, а остальные четверо — Прокопий Хутунка, Федор Мулинка, Александр Намука и Сунцай Геонка — совершили со мной весь маршрут. Последние два работали со мной еще в 1907, 1908 и 1909 годах и имели награды от Русского географического общества. По окончании экспедиции из Хабаровска во Владивосток они были отправлены по железной дороге, а затем на пароходе Совторгфлота к месту своего жительства — в Советскую гавань и на реку Нахтоху. В пути мы должны были пересечь четыре горные складки и, следовательно, все имущество (походное, научное, личное) и продовольствие нести на себе в котомках. Поэтому с собой взято было только то, без чего никак обойтись нельзя. Все лишнее отброшено: был взвешен каждый золотник и учтена всякая мелочь. Научное снаряжение состояло из фотографического аппарата, секундомера, бусоли Шмалькальдера, пикетажных тетрадей для съемок, дневников, гербарной папки, бумаги, маленькой рулетки, половинки небольшого бинокля, барометра-анероида, термометра-пращи, термометра для воды, минимального термометра, небольшой шанцевой лопатки, маленьких монолитных ящиков для образцов почв, почвенных мешочков, фотографических пластиной, ботанических ножей, цветных и обыкновенных карандашей, резинок и т. д. Бивачное снаряжение составляли: комарники-палатки (по одной на научного работника и по одной большего размера на двух рабочих), тенты для защиты их от дождя, три алюминиевых котелка, входящие один в другой, с крышками (чайников не брали вовсе), козьи шкурки как подстилки для спанья, три топора и пр. Походным снаряжением были: легкие дождевики и куски клеенки для укрытия котомок от дождя, веревки для увязки тех же котомок, поясные ножи, сигнальные ракеты для розысков заблудившихся людей, острога, инструменты для долбления лодок. Сюда же надо отнести огнестрельное оружие, состоящее из одной магазинной винтовки и одного дробового ружья, патронташи, запас пороха, дроби, ружейных гильз и инструментов для снаряжения патронов, рыболовные удочки, блесны и т. п. Личное имущество каждого участника экспедиции состояло из легкого одеяла, двух смен белья, запасной пары унтов, полотенца, которое было использовано для лямок к котомке, мыльницы, зубной щетки, гребенки, игольника с нитками, кусочков материи для заплат и прочей мелочи. Все имущество без исключения — как то, что отправлялось на питательные базы, так равно и то, что мы везли с собой, — было уложено в жестяные банки, запаянные и укупоренные в ящики керосинового типа. Такая упаковка очень удобна. На базах продовольствие предохраняется от расхищения грызунами, большие звери тоже боятся шума, издаваемого жестяными банками, да и в походе в ненастную погоду оно не нуждается в укрывании брезентами. На базах груз хранился в особых амбарчиках на сваях, сделанных из накатника и крытых древесным корьем. Места для баз были заранее указаны. Пройти мимо них мы не могли. Туземцы по целому ряду мелких, едва заметных признаков сразу определяли их местонахождение. Первого июня я закончил последние формальности, подал телеграммы и в три часа дня взошел на пароход «Син-пин-ган». Когда закончилась погрузка лошадей для геологической экспедиции, направляющейся на остров Сахалин, были уже полные сумерки; накрапывал дождь. В девять часов вечера «Син-пин-ган» снялся с якоря и вышел в море. Несмотря на ненастье, пассажиры еще долго находились на палубе и любовались Владивостоком, который при вечернем освещении действительно имел эффектный вид. Дома города, расположенные по склонам гор, взбирались до самых вершин, отчего все сопки казались иллюминованными. Множество огней как бы повисало в воздухе, они расходились, перемещались, сливались вместе — и все разом отражались в воде. Когда «Син-пин-ган» вышел из бухты Золотой Рог, красивая панорама исчезла, и пароход очутился в непроницаемой тьме. На небе не видно было ни звезд, ни луны; шел мелкий дождь. При слабом свете, который вырывался из иллюминаторов, виднелись иногда темные силуэты матросов, проходивших по мокрой палубе, и вахтенный начальник на капитанском мостике. Утомленный за день, я спустился в свою каюту и постарался забыться сном. На пароходе было людно и тесно, а в каютах душно. Поэтому, как только стало светать, я оделся и вышел на палубу. Первое, что мне бросилось в глаза, были чистое, безоблачное небо и широкая гладь спокойного моря. «Син-пин-ган» шел вдоль берега, держа курс к северо-востоку. Я сел на скамейку и стал любоваться картиной, которая, подобно панораме, развертывалась передо мною. Вдали виднелись задернутые дымкой зубчатые кряжи гор, прорезанные узкими долинами. К востоку от них тянулись длинные отроги, падающие в море отвесными скалами. Это — типичный продольный берег, который тянется на многие сотни километров в направлении от юго-юго-запада к северо-северо-востоку. Читателю, быть может, интересно узнать, что надо понимать под этим названием. Продольный берег тянется параллельно горным складкам, которые в тех местах, где они близко подходят к морю, отмыты вдоль оси своего простирания, вследствие чего здесь совершенно отсутствуют какие бы то ни было бухты и заливы. Вот почему к северу от мыса Мосолова высадка на берег весьма затруднительна, в особенности в летнее время, когда ветер дует с моря и создает сильный прибой. Многочисленные мысы, стойко выдерживающие натиск волн, образовали тип берега, который в географии принято называть «кулисным». И действительно, словно кулисы в театре, они выдвигаются вперед один за другим. Первый мыс виден ясно, отчетливо, второй — слегка затянут синеватой дымкой, следующий виден еще слабее, а дальше они совсем тонут во мгле и кажутся повисшими в воздухе и как бы отделившимися от воды. Неопытный мореплаватель может подумать, что между двумя мысами есть бухта, где судно могло бы найти укрытие от непогоды. На самом деле это лишь небольшой выгиб скалистого берега, иногда даже лишенного намывной полосы прибоя. От мыса Песчаного берег Уссурийского края делает поворот к северу и дальше идет в меридиональном направлении. Таким образом часть побережья, прилегающая к означенному мысу, является местом, где пересекаются две тектонические линии. Вот почему поблизости образовался глубокий провал, именуемый Советской гаванью; вот почему здесь чаще всего бывают землетрясения, о которых у туземцев сохранилось много интересных рассказов.Глава вторая. Советская гавань
Пароход наш прибыл в Советскую гавань 4 июня. Поздно вечером мы высадились на берег, а на другой день получили свой багаж. Мои спутники занялись разборкой имущества, а я отправился в районный исполнительный комитет для выполнения некоторых служебных формальностей. Советская гавань, о которой здесь идет речь, состоит из огромной юго-западной бухты в двенадцать километров и изломанного залива Константиновского в десять километров длиною. Кроме того, у берегов ее образовалось еще несколько второстепенных бухточек, из которых заслуживают внимания Маячная, откуда идет грунтовая дорога на Маяк, затем Японская, где больше всего поселилось русских, потом бухта Концессии, где находятся ныне все государственные и административные учреждения, и, наконец, бухта Хади, в которую впадает река того же имени. В заливе Константиновском есть бухта Постовая, где был потоплен воспетый Гончаровым фрегат «Паллада» и где до сих пор сохранились развалины укреплений, построенных еще в 1854 году. Большой остров Милютина недавно соединился с материком узким песчаным перешейком, по обе стороны которого образовались две бухты, не имеющие русских названий. Таких гаваней, как Советская, немного на земле. Большая, закрытая со всех сторон, она может вместить любой флот в мире. Берега ее настолько приглубы, что большие океанские пароходы могут приставать к ним вплотную, как в благоустроенном порту. Единственным недостатком гавани является изолированность ее от населенных пунктов страны. Берега Советской гавани состоят из базальтов, которые имеют не столбчатую, а матрацевую отдельность. От моря с юго-восточной стороны Советская гавань отделяется довольно высоким горным хребтом Доко, слагающимся из пород массивно-кристаллических. На оконечности этого хребта после гибели парохода Добровольного флота «Владивосток» в 1897 году поставлен Николаевский маяк (48°58′ северной широты и 140°25′ восточной долготы). К Советской гавани нам еще придется возвратиться, когда будем говорить об устройстве поверхности в бассейнах рек, в нее впадающих. Все население Советской гавани делится на три группы: администрацию, обывателей и туземцев. Первые являются служащими девятнадцати государственных учреждений. Администрация обслуживает не только одну Советскую гавань, но все побережье моря от устья Тумнина до реки Самарги. Что делают жители Советской гавани и откуда добывают средства к жизни? Земледелием занимаются очень немногие. Обитатели Советской гавани имеют прямые и косвенные заработки в Дальлесе и немного рыбачат. Некоторые эксплуатируют лошадей, отдавая их как бы «напрокат» по тридцать рублей в месяц с головы. Живут они на берегу в ожидании каких-либо заработков по выгрузке, разгрузке, перевозке, переноске грузов, прибывающих на пароходах. Кое-какие плотничные, столярные и слесарные работы они имеют в административных учреждениях. Случается, в Советскую гавань прибудет какая-нибудь экспедиция — опять перепадут деньги. Не все даже домохозяева имеют огороды; вот почему овощи так дорого ценятся. Обитатели Советской гавани — не крестьяне; это просто «жители», которые живут сегодняшним днем в надежде на какие-то материальные улучшения (какие, они сами не знают), которые неизвестно откуда и неизвестно когда «свалятся с неба». Они предвидят конец их жизни, при которой «не сеют, не жнут, не собирают в житницы», но питаются и по-своему счастливы. Надо отдать имсправедливость, что, несмотря на то что все здесь выпивают, нигде не слышишь площадной ругани, среди них нет краж, ссор, драк, и если вы видите где-нибудь замок на двери, то больше для того, чтобы дать знать посетителю, что хозяев нет дома. С этой стороны совгаванцы безупречны. Третью группу населения составляют орочи. В отдаленном прошлом они обитали где-то на севере и неизвестно когда появились на берегах Великого океана. Своей родной колыбелью они все же считают Советскую гавань, которую они называют Хади. Но с тех пор, как в окрестных лесах зазвучали топоры лесорубов, орочи покинули свои прежние поселения и ушли частью на Тумнин и приток его Хуту, а частью за водораздельный хребет Сихотэ-Алинь в верховья реки Хунгари, куда к ним трудно проникнуть не только от моря, но и со стороны Амура. В три дня мы закончили все подготовительные работы, разобрали имущество и часть грузов отправили на Копи для питательной базы. Как раз к этому времени прибыли туземцы со своими лодками. Самым старшим из них был ороч Александр Намука — человек невысокого роста, лет сорока пяти, молчаливый и спокойный. Он имел мелкие черты лица; волосы его на голове уже начали седеть. Когда Намука говорил по-русски, то все твердые согласные буквы произносил как мягкие. Если он делал что-нибудь неудачно, то конфузился, и на лице его появлялась растерянная улыбка. Вторым по возрасту был удэхеец Сунцай Геонка, мужчина сорока лет, сухощавого телосложения и роста ниже среднего. Это был человек порывистый; с деньгами он обращался как с вещью совершенно бесполезной и тратил их на всякие пустяки, покупая все, что попадалось на глаза. Когда он хотел в чем-нибудь убедить меня, то лицо его принимало такое выражение, как будто он испытал большие физические страдания. Затем в порядке возраста следует ороч Федор Мулинка, тоже среднего роста, лет тридцати шести. Природа наградила его золотыми руками. Он был хорошим кузнецом, хорошим звероловом, ловко бил острогой рыбу, считался лучшим специалистом по изготовлению лодок. Федор Мулинка говорил мало. Когда он старался что-нибудь запомнить, то морщил лоб. Это был самый суеверный человек в отряде. Четвертым моим спутником был Прокопий Хутунка — ороч в возрасте тридцати лет, роста ниже среднего. Я его знал еще мальчиком. От природы любознательный, он сам научился читать по-русски. Хутунка был человек умный, трудолюбивый, с покладистым характером. Несмотря на свою худобу и некоторую кривоногость, он мог нести большие тяжести и совершать длинные переходы. В данном случае сказывалась не столько его физическая сила, сколько втянутость в работу. Хутунка, еще молодой, был шаманом. Все четверо имели черные волосы, темно-карие глаза, желтовато-смуглую кожу, маленькие руки и ноги. Одеты были в смешанные костюмы, состоящие из частей одежд русских и орочских. Обувь все они, да и мы, носили туземную, сшитую наподобие олоч из выделанной сохатиной кожи. В дальнейшем изложении я буду называть их сокращенно по родам: Намука, Мулинка, Хутунка и Геонка. Орочи привезли неприятное известие, что устье реки Хади, по которой нам надлежало подыматься в горы, загромождено плавниковым лесом. Последние дни были сильно ненастные — все время шли дожди, перемежавшиеся со снегом. Вода в реках поднялась значительно выше своего уровня. Как раз на реке Хади Дальлес производил порубки. Вода, вышедшая из берегов, подхватила этот лес, понесла его вниз по течению. Недалеко от устья, где Хади разбивается на протоки, образовался большой затор, который грозил задержать нас на неопределенное время. На другой день я поднялся чуть свет и поспешил на улицу. Было прохладно. Солнце еще скрывалось за горами, но уже чувствовалось благотворное влияние его живительных лучей. Над Советской гаванью стоял туман. Он медленно двигался к морю. Все говорило за то, что день будет ясный, светлый и теплый. В десять часов утра на четырех лодках мы вышли из Японской бухты и направились в залив Константиновский, где я должен был связаться с астрономическим пунктом и от него уже начать свои съемки. В Советской гавани в 1855 году соединенная англо-французская эскадра выжгла старый лес артиллерийским огнем. На месте его вырос другой лес, но его затем сожгли. Потом опять стал появляться совсем молодой лесок, состоящий из лиственницы и березы. Сухостой, оставшийся кое-где одиночными деревьями со времени Севастопольской кампании, — крупного размера. Туземцы говорят, что он твердый, как сталь, и не поддается рубке. Ближе к выходу в море западный берег гавани подвержен волнению. Под влиянием атмосферных агентов порода разрушается и обваливается на намывную полосу прибоя громадными глыбами. Здесь можно наблюдать удивительную эрозию. Некоторые образцы, несмотря на свои большие размеры, так и просятся в музеи. Размытые глыбы лавы приняли весьма причудливые очертания. Одни из них похожи на людей, другие — на птиц, третьи — на фантастических животных, застывших в позах невыразимого страдания. Когда море «дышит», мертвая зыбь проникает в Советскую гавань. Большие пологие волны медленно вздымаются, бесшумно подходят к берегу и с зловещим шорохом стараются как можно глубже проникнуть в проходы между камнями. Другая сила вынуждает их уйти обратно в море. Но волны упрямы и с ропотом настойчиво опять идут к берегу — и так без конца в течение многих веков. Местные туземцы одухотворили причудливые камни и в появлении их на земле усмотрели вмешательство сверхъестественной силы. Следующий день был воскресный. Покончив с работами в заливе Константиновском, мы сели в лодки и направились к устью реки Хади. Погода была какая-то странная. Весь день в воздухе стояла густая мгла; солнце имело вид оранжевого диска с резко очерченными краями, так что на него можно было свободно смотреть невооруженным глазом, и, как всегда в таких случаях бывает, появилась сильная звукопроницаемость. Где-то далеко выстрелили из ружья. Стоголосое эхо превратило этот звук в грохот пушечной пальбы, который, подобно грому, прокатился из конца в конец над всей гаванью. По опыту я знал, что такая мгла и такое эхо предвещали непогоду. И действительно, к вечеру мгла рассеялась, и тогда на небе стали видны тучи, низко бегущие над землей. День был на исходе, когда мы вошли в реку Хади и достигли орочского селения Дакты-Боочани. Это был последний жилой пункт, за которым начиналась глухая тайга на многие сотни километров. Туземцы встретили нас на берегу. Грустно выглядели орочские балаганы, и не менее жалкий вид имели обитатели их. Вследствие войны и во время ее орочи впали в бедность и к новым условиям жизни еще не успели приспособиться, а Комитет содействия малым народностям Севера на Дальнем Востоке только недавно начал свою работу. Один из домиков оказался порожним. Он принадлежал слепому старцу Ивану Бизанка, о котором речь будет ниже. Туземные женщины быстро привели покинутую юрту в жилой вид, подмели пол и поправили корье на крыше. После ужина я пошел осматривать селение. Было сумрачно и холодно; накрапывал дождь. Дым от костров не поднимался кверху, а повис в воздухе белыми полосами. В одном из домиков жила вдова с двумя детьми. Она недавно потеряла своего мужа, с которым я был хорошо знаком. Я навестил ее. Сюда же собрались и остальные туземцы. Бедная женщина засуетилась и не знала, чем нас угощать. Я попросил ее не беспокоиться и велел принести свои запасы. Мои спутники роздали детишкам сухари. Они стали их грызть с большим наслаждением. Среди орочей находился один пожилой человек, хороший следопыт — Андрей Намука. Он дал нам много полезных советов и указал, как попасть в истоки реки Иоли. Надо сказать, что никто из моих провожатых не бывал в верховьях реки Тутто и никто не знал, что представляет собой перевал между нею и бассейном реки Копи. Единственно, чем могли мы руководствоваться, — это расспросными данными. Андрей Намука сообщил целый ряд мелких примет, которые должны были служить нам ориентировочными пунктами и привести нас в самые истоки реки Иоли. Мы все вместе пили чай и вспоминали прошлое. В этот вечер я узнал, что многих из моих друзей-туземцев уже не было в живых. Умерли Антон Сагды, Егор Лабори, Федор Бутунгари, Тимофей Бизанка и многие-многие другие. Все старые люди перемерли, и один только Иван Бизанка (по-орочски — Чочо) доживал свои последние дни на реке Копи. С ним я был особенно дружен. Как-то разговор затих, я задумался, и тотчас передо мною встала невысокая тщедушная фигура Чочо с лицом оливково-красного цвета от дыма и загара, с косой на голове, одетого в длинную рубашку маньчжурского покроя, узкие штаны с кожаными наколенниками и унты из выделанной сохатиной кожи. Это был удалый молодой охотник, известный повсеместно как хороший кузнец, умеющий «починять замки у ружей». Его отец и мать очень давно погибли в тайге от страшной оспы, а малолетку подобрали своеродцы. Чочо долго, очень долго жил на земле и много-много видел диковинных вещей. Так, он видел, как первый раз в Советскую гавань пришли русские, как они сами потопили свой большой корабль (фрегат «Палладу») и как потом многих из них покосила голодная болезнь — цинга. Однажды, в 1897 году, он после удачной охоты с двумя товарищами возвращался в Советскую гавань. Плыли они на небольшой лодке вдоль берега моря и везли с собой мясо только что убитого сохатого. Когда они поравнялись с мысом Гыджу, то вдруг увидели большое судно у самого берега. Это оказался пароход Добровольного флота «Владивосток», наскочивший в тумане на камни. Пассажиры были высажены на берег. Вследствие крайней ограниченности запаса продовольствия на судне среди людей начался голод. Узнав, в чем дело, Бизанка отдал им всего лося, а сам поспешил в Советскую гавань, где собрал окрестных орочей и отправил их на помощь погибающим. Затем, не теряя времени, сам взял небольшую лодочку и со своим братом Тимофеем отправился морем в залив Де-Кастри, где тогда была телеграфная станция. Днем и ночью они гребли веслами, иногда пользовались парусом и на третий день явились на военный пост, где и сообщили о происшествии. Только тогда узнал Владивосток о несчастии, постигшем пароход того же имени, только тогда была послана помощь погибающему судну, команде и пассажирам. Потом Чочо крестили и дали ему имя Иван. Я встретился с ним в 1908 году. Он оказал мне целый ряд незаменимых услуг. Много раз мы ходили с ним в тайгу, много раз ночевали вдвоем у костра, прикрывшись одним одеялом. Тогда он был пожилым человеком, и в волосах его уже белели серебряные нити. Мы расстались. Я уехал на Камчатку, а Иван Бизанка остался на реке Хади. Вскоре в селении Дакты-Боочани умер его брат Тимофей, у которого золотых и серебряных монет было «великое множество». Чочо похоронил брата на реке Хади по своему обряду с большим почетом, отправив в загробный мир все любимые вещи покойного, охотничьи и рыболовные принадлежности, а золото и серебро закопал в тайге. В 1922 году старик ослеп и, одинокий, перекочевал к своим сородичам на реку Копи, ожидая, когда пробьет и его последний час. Многие русские и орочи искали спрятанные сокровища, оцениваемые в двенадцать тысяч рублей. Тщетно! Сам Чочо Бизанка уже забыл, где закопал их, и теперь, в состоянии полной слепоты, не мог указать это место. Оно находилось, быть может, совсем рядом с жилищем, в котором мы сидели и вспоминали далекое былое. Пламя костра освещало стены юрты с отверстием сверху, через которое клубами вместе с искрами выходил дым. Снаружи слышались шум воды в реке, загроможденной плавниковым лесом, шорох дождя на крыше да ворчание не поладивших из-за чего-то между собой собак. Я распрощался с орочами и отправился в осиротелый дом Чочо Бизанка, давший нам теперь последний приют. За ночь вода в реке поднялась еще выше. Не имея выхода к морю, она стала прокладывать новые русла. Эти вновь образовавшиеся протоки и позволили нам без особых приключений обойти завалы стороною. Теперь читателю необходимо несколько познакомиться с климатическими особенностями страны, по которой пролегал путь нашей экспедиции, без чего ему не совсем будет понятно дальнейшее. Водораздельный хребет Сихотэ-Алинь и сопутствующие ему параллельные горные складки (расположенные вдоль берега моря и почти перпендикулярно к направлению господствующих ветров) играют большую роль климатической границы. Разница в фенологических явлениях к востоку и к западу от главного водораздела достигает двадцати и даже тридцати суток. В то время, когда на западе реки покрываются льдом и по ним устанавливается санная дорога, реки прибрежного района еще не начинают замерзать, и обратно, весной, когда на западе сообщение по рекам прекращается и наступает ледоход, на восточной стороне речные воды еще скованы льдом. Значит, в бассейне Амура будут ранняя весна и ранняя осень, в прибрежном районе — длинная затяжная весна и такая же длинная осень. Словом, при передвижении от запада к востоку мы как бы во времени переносимся назад, а при обратном движении — перегоняем времена года и переносимся вперед. Вот чем объясняются такие явления, как дожди со снегом, которые экспедиция застала в Советской гавани с 1 по 9 июня 1927 года. Река Хади состоит из двух рек: самой Хади и Тутто. Первая короче, но многоводнее, долина ее шире, развалистее и притоки значительной величины, вторая — длиннее, долина ее у́же и похожа на ущелье; притоками ее являются небольшие горные ручьи. Оставив большую часть людей около устья последней, я пошел вверх по реке Хади, которая в низовьях имеет ширину до сорока, глубину до двух метров по фарватеру и быстроту течения до семи с половиной километров в час. Весь прибрежный район и вся долина реки Хади представляют собой горную страну, покрытую хвойным лесом, состоящим из даурской лиственницы, растущей высоким стройным деревом как на моховых болотах, так и на сухой каменистой почве, лишь было бы побольше света. Значительную примесь к ней составляла своеобразная аянская ель, проникшая на юг чуть ли не до самого Владивостока. Неизменным спутником последней являлась белокорая пихта. Само название ее указывает на гладкую и светлую кору. Отличительным признаком этого дерева являются темная, но мягкая хвоя и черно-фиолетовые шишки. Там и сям одиночными экземплярами виднелась береза Эрмана, которую легко узнать по корявым стволам с желтоватою берестой, висящей лохмотьями. Она растет только в тенистых, старых больших лесах одиночными экземплярами и, по мнению ботаников, является вымирающим деревом. По пути мы только один раз видели след медведя; остальные звери отсутствовали. Зато птиц встречалось много. Первой на глаза мне попалась скопа, которую орочи называют «соксоки». Этот пернатый хищник все время летал над рекою, иногда задерживаясь на одном месте, трепеща крыльями и высматривая добычу. Вдруг он камнем упал в воду и тотчас взлетел кверху с рыбою в лапах. Поднявшись на воздух, скопа ловко отряхнула свои крылья и поспешно улетела в лес. Потом я заметил пугливую серую цаплю. Она все время была настороже и каждый раз, когда из-за поворота показывалась лодка, и тотчас снималась с места и летела дальше по реке, издавая хриплые крики. Иногда мы видели кроншнепов, тоже весьма строгих птиц. Они грациозно расхаживали по камням, входили в реку и что-то доставали из воды своими кривыми клювами. По-видимому, они только что прилетели и не успели еще разбиться на отдельные пары. Кроме этих птиц, Кардаков отметил еще уток, морянок, шилохвостов, касаток, корольков, также плисок и трясогузок. Мы поднялись по Хади до Медвежьего ключа. Дальше река стала узкой и порожистой. Здесь отсутствовала растительность, любящая глубокие наносные слои почвы. Лес рос непосредственно на камнях. Вся местность была заболочена или завалена большими глыбами лавы. Убедившись, что вся колонизационная емкость долины Хади невелика, мы повернули назад и по течению ее спустились к устью Тутто. Подъезжая к биваку, когда лодка встала против воды, я опустил в воду серебряную блесну (металлическая рыбка с крючками, замаскированными красным гарусом) и сразу поймал одну симу, первую из лососевых рыб, входящих из моря в Тумнин, Хади и Копи. После меня Кардаков поймал на ту же блесну еще другую рыбину. Известно, что все лососевые при входе в пресную воду ничего не едят и кормятся тем запасом жизненных сил, который они приобрели в море. Что побудило симу погнаться за блесной? По-видимому, у лососевых хищническая привычка хватать ртом всякую мелкую рыбешку сохраняется и после того, как они оставляют море и входят в реки. Вечером мы сидели у костра и занимались каждый своим делом. Когда совсем стемнело, ороч Мулинка пошел к речке за водой и, возвратясь, сообщил, что с неба падают звезды. Я тотчас надел обувь и отошел от огня подальше в лес. Дождь только что перестал. Большие кучевые облака двигались над землею, заслоняя собою то одно, то другое созвездие. Ветер пробегал по вершинам деревьев и стряхивал с них последние дождевые капли. Где-то журчала вода. Мулинка был прав. На небе часто появлялись падающие звезды с длинными хвостами. Одни из них были чуть заметны, другие яркими полосами прорезывали темную бездну. Я знал, что никакого хвоста, в сущности, нет и что это только свойство глаза сохранять впечатление, оставленное быстро двигающимся телом. Один из метеоров прошел сравнительно близко к земле. К сожалению, нашедшая туча заслонила его. Сквозь облако видна была только широкая полоса света. Точно вспышка молнии, только более длительная и беззвучная. Когда я вернулся на бивак, то застал своих спутников уже спящими. Один только Мулинка бодрствовал. Я заметил в руках у него желтую прошлогоднюю траву. Он подсушил ее на огне, затем свернул в комочек, перевязал веревочкой и спрятал в сумочку. — Бросай не могу, — сказал он, обратись ко мне. — Зачем тебе этот мусор? — спросил я его в свою очередь. Тогда он сказал, что массовое появление падающих звезд на небе на языке их называется голо («л» — картавое). Тот, кто первый увидит их, должен скорее собрать с земли сухую листву, траву, сено, солому или просто гнилушку и в течение трех дней держать при себе. Это принесет удачу на охоте и оградит человека от какой-нибудь беды. Он не стал слушать мои возражения и начал укладываться на ночь. Вскоре я тоже последовал его примеру.Глава третья. Вверх по реке Тутто
После небольшого отдыха мы пошли вверх по реке Тутто. От дождей она вздулась и представляла собой стремительный горный поток. Во многих местах вода выступила из берегов и затопила лес. Ориентировочными пунктами нам служили постройки, брошенные японцами, когда у них были здесь лесные концессии. Эти полуразвалившиеся бараки давали нам приют, и мы радовались им, как будто это были самые роскошные гостиницы. Наконец и японские развалины остались сзади. Теперь перед нами была громадная лесная пустыня, безжизненная, первобытная и дикая. Надо познакомить читателя с тем, что представляет собой орочская лодка (улимагда). Это долбленый челнок длиною в восемь — десять метров и вышиною в сорок сантиметров; дно ее делается толщиною в три-четыре, а борта в один-два сантиметра. Впереди от днища выдвигается лопатообразный нос, немного полукруглый и немного загнутый кверху. Грузоподъемность улимагды — полтонны. Лодка устроена так, что она не разрезает воду, а, так сказать, взбирается на нее и может проходить через самые мелкие перекаты. Орочи идут на шестах, причем один человек стоит у носа челнока, другой — у кормы. Положение лодки неустойчивое; сама она весит очень немного, а центр тяжести поднят высоко. На порогах лодка качается. От быстро бегущей воды кружится голова, а тут еще надо работать шестами. Для этого нужны глазомер, ловкость и главным образом спокойствие. Спуск по воде опаснее подъема, потому что лодку несет и надо далеко смотреть вперед и заранее соображать, как обойти камни или утонувший плавник. Зато подъем очень утомителен. Люди упираются в дно реки шестами и с силой проталкивают улимагду против течения. Иногда при всей напряжении сил едва удается продвинуть лодку на один-два метра. За день так устают руки, что ночью долго не можешь уснуть. Обыкновенно начинает ломить вертлюжную головку плечевой кости и локоть другой руки. Никто лучше орочей не умеет плавать на таких челноках. Движения их соразмерны и грациозны. И мужчины, и женщины с детства втягиваются в эту работу. Можно сказать, они все летнее время проводят на воде: ловят рыбу или доставляют грузы для лесоустроительных партий и рабочих Дальлеса. Двадцать шестого июня экспедиция наша достигла местности Элангса, что значит «трехречье», откуда, собственно, и начинается сама река Тутто. Здесь она принимает в себя две небольшие речки: слева — Нюала, справа — Торока, а ниже — еще три горных ручья: Туточе, Гадака и Унукуле. Этот переход до Элангса был совершен при весьма неблагоприятных условиях и всех очень утомил, в особенности туземцев, на долю которых выпали наибольшие трудности. У места слияния трех рек мы должны были оставить лодки и дальше идти по реке Нунгини пешком с котомками за плечами. Надо было сделать дневку, просушить имущество, приготовить обувь и наладить котомки. Как раз день выпал солнечный и теплый. Я воспользовался свободным временем и отправился на ближайшую сопку, чтобы с высоты птичьего полета посмотреть, далеко ли еще до перевала. Переправившись через реку Тутто, я вступил в густой хвойный лес и взял направление на одну из возвышенностей, которая казалась мне командующей в этой местности. Сначала подъем был пологий, но чем дальше, тем он становился все круче и круче. Преобладающим насаждением этих мест были ель и пихта с примесью все той же Эрмановой березы. Почвенный покров состоял из лиственных мхов, образующих густые плотные подушки болотно-зеленого цвета, по которым протянулись длинные тонкие стебли дёрена канадского с розетками из ланцетовидных листочков. Здесь же в массе произрастала заячья кислица с тройчато-пластинчатыми листочками на тонких черешках и с приятно кислым вкусом, напоминающим молодой щавель, затем — хребетовка с вечнозелеными кожистыми овальными листьями и, наконец, невысокие, но весьма изящные виды папоротников. Чем выше я поднимался, тем больше отставали ель и пихта и чаще встречалась лиственница с подлеском из багульника подбелого, издающего сильный смолистый запах и образующего сплошные заросли. Выше деревья стали тоньше и низкорослее; багульник остался сзади, и на его месте появилась кустарниковая береза Миддендорфа. Тут я сел, чтобы отдохнуть. Было за полдень. Солнце стояло высоко на небе и обильно посылало на землю теплые лучи свои. Они озаряли замшистые деревья, валежник на земле, украшенный мхами, и большие глыбы лавы, покрытые пенкообразными лишаями. В этой игре света и тени лес имел эффектно сказочный вид. Так и казалось, что вот-вот откуда-нибудь из-за пня выглянет маленький эльф в красном колпаке, с седою бородою и с киркою в руках. Я задумался и, как всегда в таких случаях бывает, устремил глаза в одну точку. Эльф не показывался, а вместо него я вдруг увидал небольшого грациозного зверька рыже-бурого цвета с белым брюшком и черным хвостиком. Это оказался горностай, близкий родственник ласки. Он взобрался на одну из колодин и сел на задние лапки. Меня это очень удивило, тем более что горностай — животное ночное и норку свою покидает только после солнечного заката. Я стал наблюдать за ним, стараясь не шевелиться. Горностай не сразу успокоился; он постоянно оглядывался в мою сторону. Наконец убедившись, что никакой опасности ему не грозит, стал держать себя свободнее. Я скоро заметил, что он за кем-то охотился. В это время показалась ящерица. Она тоже охотилась за насекомыми и проворно лазила по валежине. Когда пресмыкающееся приблизилось к тому месту, где находился горностай, последний сделал ловкий прыжок. Он как-то вскинул задом, подпрыгнул кверху и свалился за колодину. Ящерица тоже исчезла. Поймал ли ее горностай или нет, мне не удалось рассмотреть. Тогда я поднялся со своего места, обошел кругом колодину и, не найдя ничего, пошел на вершину. Тут было много лавовых глыб, я взобрался на одну из них и стал осматривать окрестности. Дивная горная панорама представилась моим глазам. Передо мною было обширное пространство, заполненное множеством столовых гор, покрытых хвойным лесом. На запад они поднимались все выше и выше, а на восток к морю заметно снижались. Невольно напрашивался вопрос: как мог образоваться такой рельеф? Несомненно, мы имеем дело с каким-то плато, которое впоследствии разделилось на ряд столовых гор. Геологу рисуется отдаленное прошлое, когда слагалась поверхность северной части Уссурийского края, принявшая ныне такой странный вид. Водораздельный хребет Сихотэ-Алинь в южной своей части проходит сравнительно недалеко от берега моря, но на широте мыса Туманного (немного севернее устья Самарги) он отводит от моря в глубь страны и, огибая истоки Тумнина, почти вплотную подходит к Амуру. Кроме этого хребта, восточнее его проходит еще одна складка, которая служит водоразделом между притонами Верхнего Копи и верхнего течения Аделами, впадающей в Хуту с одной стороны, и бассейнами Хади и Тутто, несущими свои воды в Советскую гавань. Во время дислокации, имевшей место, по-видимому, в третичном периоде, где-то около второго параллельного хребта на дневную поверхность вылилось много базальтовой лавы, которая образовала чрезвычайно мощный покров, заполнивший все пространство между Хуту и Копи. Этот лавовый поток докатился до Советской гавани. Наибольшей мощности он достигает в истоках рек около перевала, и наименьшую высоту языки его имеют около моря. Этим и объясняется сильно развитая береговая линия между мысом Лессепс-Дата и Николаевским маяком. Лава была сильно насыщена газами. По расположению пустот (ноздреватость породы) можно видеть, в каком направлении она двигалась, будучи в пластичном состоянии. Во время этой дислокации произошел глубокий провал, именуемый ныне Советской гаванью. Значит, лавовый покров старше ее. Подтверждение этому мы находим в том, что дно гавани слагается из больших базальтовых глыб, который, разрушаясь, образуют грунт, состоящий из гравия темно-серого цвета. Затем начались процессы денудации. Дождевая вода в движении своем действовала как пила и напильник. Она промывала в нем глубокие овраги с очень крутыми, а иногда даже с совершенно отвесными краями. Так образовались долины рек Ма, Уй, Хади и Тутто. Во многих местах под влиянием атмосферных агентов лава распалась на отдельные глыбы, которые образовали большие осыпи по краям долины. Они покрылись мхами и поросли лесом. Это особенно заметно, когда взбираешься на гору. Нога все время срывается и проваливается в пустоты между обломками базальта. Местом, откуда из недр земли на дневную поверхность вылилась лава, надо считать истоки Санку (приток Копи), Хади и Тутто. Подтверждение этому мы находим, во-первых, из множества отдельных конических сопок, между которыми по неглубоким и развалистым лощинам бегут ручьи; во-вторых, здесь встречаются обломки и другой горной породы, вероятно подстилающей лаву и составляющей первоначальную поверхность страны, впоследствии залитой базальтом. Из вышеприведенного описания следует, что образование долин Хади и Тутто еще не закончено. Мы всюду видим едва начинающиеся почвообразовательные процессы. Вот почему нигде по долинам нельзя найти тополя и других древесных пород, произрастающих на илистой наносной почве, богатой гумусом[318]. В местах, где скопились наносы, встречаются почвы подзолистые и торфянниковые. Должно быть, я долго пробыл на сопке, потому что солнце успело уже значительно переместиться на небе и тени на земле стали длиннее. Сделав краткие записи в свою походную книжку, я начал спуск обратно в долину Тутто. По пути я нашел скелет кабарги, видимо затравленной росомахой, потому что на костях ее были следы довольно крупных зубов. Кабарга относится к жвачным животным. Она небольшого роста и похожа на лань. Самцы не имеют рогов, но зато снабжены длинными верхними клыками, выступающими изо рта вниз и несколько загнутыми назад. На брюхе, около пупка, у самцов находится особый железистый мешок, в котором накопляется мускус. Росомаха величиной с собаку среднего размера и принадлежит к семейству хорьковых, но по строению тела напоминает барсука. Задние ноги ее стопоходящие. Она ловко лазает по деревьям и является самым опасным врагом кабарги. Ближе к реке я спугнул небольшого зайца серого цвета, с белым брюхом и темными ушами. Как угорелый, он бросился от меня в кусты, испугался сам и заставил меня вздрогнуть и обернуться. День умирал, когда я приближался к своему биваку. Солнце скрылось за горами и готово было совсем уйти на покой. Стало прохладнее. Над рекой появился туман, он сгущался все больше и больше, и скоро в нем утонула вся местность Элангса. На биваке я застал всех своих спутников в сборе. Я рассказал им о том, что видел в горах. Орочи добавили к перечисленным мною животным еще лося, медведя, рысь, волка, выдру, колонка, ежа и соболя. Последний в недавнем прошлом в изобилии водился на самых берегах Советской гавани, но теперь, вследствие систематического истребления лесов пожарами и лесорубами, близок к полному исчезновению. После ужина я сел ближе к костру и долго делал записи в свой дневник. Когда я кончил работу, было уже поздно. Огонь на биваке горел ярко, а кругом было совсем темно. С неба вместе с тихим сиянием звезд нисходил покой на усталую землю. В лесу царила глубокая тишина, нарушаемая только ровным шумом воды на перекатах. На другой день мы тронулись в путь, неся все имущество и продовольствие на себе. Это путешествие по тайге, заваленной буреломом, с тяжелыми котомками за плечами было очень утомительным. Надо все время внимательно смотреть под ноги. Чуть только зазеваешься по сторонам, как тотчас натыкаешься на пень или колодину. В этих случаях легко поранить ноги и руки об острые сучья валежника. Реку Тутто русские называют Гадкой. Она начинается в горах, которые являются водоразделом между Санку, несущей свою воду к юго-западу в Копи, истоками Буту, текущей к северо-востоку, Аделами — к северу (тоже приток Буту) и Иоли — к юго-западу и впадающей в Копи с левой стороны. Направление течения Тутто по кривой к востоку таково, что выпуклая часть дуги обращена к северу. Она длиною около ста восьмидесяти километров. Верхняя часть реки носит название Нунгини; она протекает по узкому ущелью с очень крутыми, а подчас с совершенно отвесными краями. Теперь пороги уступили место каскадам, которые преграждали путь чуть ли не на каждом шагу. Вследствие половодья мы не могли переходить с одного берега на другой и вынуждены были держаться одного края долины, а это, в свою очередь, вынуждало нас карабкаться на высокие кручи, на что тратилось много времени и сил. Дня через два мы достигли второй развилки, которую туземцы называют Чжооде. Орочи не знали, по которой речке следует идти дальше. Опасаясь, как бы не заблудиться, они решили произвести разведку. Мулинка пошел в одну сторону, Намука — в другую, а Геонка полез на голую сопку. Остальные люди остались внизу устраивать бивак. Когда все разошлись, я сел на камни и стал вычерчивать свою съемку и делать записи в путевой дневник. После местности Элангса лиственница стала быстро исчезать. Дальше пошли глухие елово-пихтовые леса, дровяного характера, с подлесьем из канадского дёрена, раздельно-лепестной кислицы и папоротника-многоножки. Странный вид имела здешняя тайга. Деревья не достигали больших размеров, и многие из них росли в наклонном положении. К сумеркам вернулся Намука. Он поднялся по юго-западной речке почти до истоков и нашел там бивак двоих русских. По оставленным ими следам он усмотрел, что они приходили сюда зимой в прошлом году. С ними была собака, которая пропала в тайге. Потом один человек заболел, а другой все время ходил на белкование; но охота была неудачной. Когда запасы продовольствия кончились, они сделали грубые нарты и ушли через перевал на реку Хади. Люди эти часть своего имущества сложили в лабазы. По-видимому, они хотели прийти сюда вторично, но не осуществили своего намерения в этому году. Вскоре после Намука пришел и Геонка. Вид у него был встревоженный. Он поставил ружье к дереву, молча сел на валежину и долго смотрел на огонь. На вопрос, что видел он сверху и далеко ли до перевала, он отвечал, что до вершины сопки не дошел, потому что место это худое. Во-первых, он дважды заблудился, во-вторых, он три раза натыкался на одну и ту же валежину. Когда он подходил к вершине, загроможденной глыбами лавы, кто-то бросил в него сухой веткой; там он слышал смех и разные голоса. Тогда ему стало ясно, что на сопке живет черт, и он поспешил на бивак предупредить нас о неприятном соседстве. Наши шутки рассердили Геонка. Он ворчал себе под нос и сердито поглядывал на нас как на людей невежественных, с которыми не стоит разговаривать на эту тему. Что делать? Пришлось ему уступить. Время шло, а Мулинка все еще не возвращался. После полуночи мы поправили огонь, нарезали сухой травы и стали устраиваться на ночь, как вдруг бесшумно, словно привидение, из темноты вынырнул Мулинка. Только обитатели лесов способны в темную безлунную ночь ходить по тайге, заваленной колодником, взбираться на кручи и карабкаться по карнизам, где и днем-то идешь все время с опаской. Я всегда удивлялся способности держать в темноте верное направление. Потому ли, что они ночью лучше видят, чем европейцы, или потому, что обладают особым чувством ориентировки, но во всяком случае ни ночная тьма, ни дождь, ни пересеченная местность препятствиями им не служат. Мулинка подошел к костру с таким видом, как будто он только что отлучился от него. Орочская этика требует, чтобы вновь пришедший не сразу приступал к повествованию о своих приключениях. Это говорится так, между делом. Мулинка еще раз подбросил дров в костер, поставил на огонь чайник и закурил трубку. Мало-помалу он разговорился и сообщил, что прошел очень далеко. Путь его был тяжелый и опасный. К сумеркам он добрался до маленькой зверовой фанзы, выстроенной корейцами два года назад. В прошлом году осенью в ней был один старик. Он хотел было ловить кабаргу и стал делать загородь с петлями, но порубил себе руку и ушел назад. На обратном пути Мулинка нашел старую нартовую дорогу, проложенную гольдами. Он проследил ее до самого нашего бивака. По ней мы завтра и пойдем к перевалу. Читатель ошибется, если подумает, что нартовая дорога — действительно дорога, хорошо наезженная и с колеями. Она существует только зимою. Чтобы нарты не опрокинулись, кое-где подкладывают под полозья валежины и обрубают некоторые сучки, чтобы они не мешали движению. Если большое дерево, упавшее на землю, преграждает дорогу, в стволе его делаются топором углубления для полозьев нарт. Вот и все. Весной, когда растает снег, от дороги остаются столь ничтожные следы, что не посвященный в таежные тайны человек пройдет мимо и не заметит их. Вот по такой нартовой дороге Мулинка и пришел на бивак. Было уже далеко за полночь, когда он кончил свой рассказ. В это время опять начал накрапывать дождь. Мы оправили палатку и легли спать. Слышно было, как с деревьев звучно капала вода на землю, как потрескивали дрова в огне и храпели мои соседи. К утру дождь пошел еще сильнее. Нам всем хотелось поскорее добраться до перевала, и поэтому, невзирая на ненастную погоду, мы собрали свои котомки и пошли по нартовой дороге. Сразу с бивака она стала взбираться на косогор. Кверху поднимались высокие горы, а внизу пенилась и шумела река. Иногда целый день уходил на то, чтобы подняться на гребень какого-нибудь непропуска и вновь спуститься в долину. Сопровождавшие меня туземцы руководствовались какими-то мелкими, едва заметными признаками: старая затеска на дереве, сломанный куст, порубленное дерево. Они сопоставляли эти знаки с тем, что говорил им Андрей Намука, и уверенно шли дальше. В верховьях Нунгини где-то должен был находиться гольдский балаган. Он стал как бы целью нашего путешествия: мы о нем говорили, о нем думали и его искали. Наконец 30 июня желанный балаган был найден. Мы были в самых истоках реки Тутто. Кабанов отметил, что от развилки Чжооде во владение сопками вступили исключительно елово-пихтовые леса. Деревья стали ниже ростом и имели болезненный вид. Бородатый лишайник обильно украсил ветви их. Местами целые площади леса были затянуты им, как паутиной. Пусть читатель представит себе седой хвойный лес, в котором полузасохшие деревья с отмершими вершинами стоят прямо и в наклонном положении. Некоторые деревья упали и как-то странно подняли кверху свои корни. Всюду был мох: на сухостое, на валежнике и на камнях под ногами. Это в полном смысле слова лесная пустыня. Здесь царила глубокая тишина, нарушаемая только свистом ветра, пробегающего по вершинам елей и пихт. Я пробовал было экскурсировать в стороны, но каждый раз, как только удалялся от бивака, жуткое чувство охватывало меня, и я спешил снова к людям. По мере того как мы удалялись от моря и подымались по реке Тутто, мы как бы во времени переносились назад, а когда подошли к перевалу, то застали начало весны. В конце июня здесь была еще примятая прошлогодняя трава, и только начинали распускаться ранние цветы: курослеп болотный — растение, любящее воду и лесную тень, с почковидными листьями и крупными желтыми цветами; часто встречалась обыкновенная синюха с перистыми листьями и темно-фиолетовыми цветами, имеющими ярко-оранжевые тычинки. Температура заметно снизилась, и по временам шел дождь со снегом. Все это производило впечатление марта. Тридцатого июня мы подошли к водоразделу и здесь увидели любопытную картину. Почва была совершенно промерзшей, мох хрустел под ногами. Всюду лежал снег, который под влиянием солнечных лучей принял фирновую структуру, и рядом с ним большие заросли золотистого рододендрона с ветвями вышиною до плеч человека, усаженными кожистыми блестящими темно-зелеными листьями с шапками золотисто-желтых цветов. Лепестки последних при основании имели нежно-зеленоватый оттенок. Гольдский балаган оказался развалившимся. Около него на старой лиственнице грубо было вырезано большое человеческое лицо, запачканное смолою. Это тору, перед которыми гольды каждый раз, выступая на охоту, совершали моления. Рядом с лиственницей на четырех столбиках было поставлено деревянное корытце. В нем сжигались листья багульника и клались жертвоприношения. Бурхан имел такой вид, как будто он окарауливал развалины балагана и чем-то был весьма озабочен. Сумерки застали нас за работой. На мыске у слияния двух ручьев, по соседству с балаганом, мы устроили бивак. На другой день была назначена дневка. Надо было отдохнуть, собраться с силами, починить одежду и обувь. Утомленные дневным переходом, мои спутники рано легли спать. У огня остались мы только вдвоем с Мулинка. Я занимался своим делом, а он зашивал порванные унты. Время от времени мы подбрасывали сухие ветки в костер; огонь разгорался ярче; тогда стволы деревьев выступали из темноты и как бы приближались к биваку. По земле прыгали то светлые блики, то черные тени. Я заметил, что Мулинка часто поглядывал вправо от себя. — Чего его все сюда смотри? — сказал он недовольным тоном. — Кто? — спросил я ороча. — Черт! — отвечал он, указывая на бурхана. Я поднял голову и при ярком пламени костра увидел тору на лиственнице. Деревянное человеческое лицо, казалось, ожило и как будто наблюдало за нами. В течение многих лет бурхан этот исправно нес свои обязанности по охране балагана и теперь точно был недоволен дерзостью пришельцев. Я поймал себя на том, что дремлю над своей работой. Мулинка уже спал. Я убрал свои дневники и последовал его примеру. Перед рассветом появился густой туман. Я уже отчаивался; что моя экскурсия не состоится. Но вот выглянуло солнце, и туман рассеялся. Я быстро оделся и отправился на рекогносцировку к перевалу, высота которого определяется в тысячу двести метров. Подъем на него с восточной стороны был длинный, пологий и очень сырой. Когда я поднялся на вершину хребта, лес быстро начал редеть, и передо мною открылось обширное болото, по которому там и сям виднелись большие лужи стоячей воды вроде озерков. По ту сторону его плотной зубчатой стеной стоял темный лес. Здесь природа как будто особенно хотела отделить один речной бассейн от другого. Ей казалось недостаточно высокого горного хребта и зыбучего болота, надо было воздвигнуть еще лесную преграду из замшистых и уродливо выродившихся елей и пихт. Такие болота на высоких горах орочи населяют чудесами своего воображения. В них живут громадные змеи сунму, глотающие сохатых. Страшные крики их бывают слышны на большом расстоянии. Все живое избегает этих мест, и никто не заходит сюда до тех пор, пока зимние морозы не скуют льдом озера, в которых обитают гигантские пресмыкающиеся. Когда я вышел на опушку леса, солнце уже прошло по небосклону большую часть своего пути. Оно было деформированное и имело красноватый цвет. От болот медленно подымались тяжелые испарения. Кругом стояло жуткое безмолвие. Я был один и в то же время чувствовал себя как бы окруженным невидимыми таинственными существами, которые прятались за деревьями и наблюдали за мною. И вдруг эта мертвая тишина нарушилась каким-то протяжным криком. Он пронесся через все болото и был похож на мычание, которое переходило в октаву и кончилось как бы тяжелым вздохом. Вероятно, это был медведь, потому что лось кричит не так и только осенью. Опасаясь, что сумерки могут застать меня в лесу, я начал обратный спуск с перевала. Когда я подходил к палаткам, солнце только что скрылось за горизонтом; земля слабо освещалась еще холодным сиянием, отраженным от неба. На биваке ярко горел огонь. Свет его отражался в какой-то луже. Около костра виднелись черные силуэты людей. Они вытягивались кверху и принимали уродливые очертания, потом припадали к земле и быстро перемещались с одного места на другое. Точно гигантское колесо с огненной втулкой и черными спицами вертелось то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, как передвигались люди. Придя на бивак, я рассказал, что видел на перевале. Орочи остались в убеждении, что это была именно та большая змея, о которой им рассказывали гольды. На другой день мы распрощались с тору и стали взбираться на перевал,который назвали Утомительным. Мы не останавливались на нем и, придерживаясь опушки леса, более чем по колено в воде обошли болото стороною.Глава четвертая. Худая долина
С перевала Утомительного вода сбегала между кочками в виде бесчисленных струй. Мы следовали за ними и направлении к северо-западу. Это смущало меня. Ведь если ошибиться только на один или два градуса, можно попасть в бассейн реки Аделами, впадающей в Хуту. Скоро наши опасения рассеялись: вода все больше и больше забирала к западу. Мы сначала спускались по ровному и пологому склону, потом мало-помалу стали обрисовываться края долины. Около полудня наш маленький отряд дошел до того места, где наша речка приняла с правой стороны еще такую же речку и круто повернула на юго-запад. В истоках реки Тутто были ущелья, а с этой стороны — весьма пологий скат; там был снег и ранняя весна, а здесь — теплое лето. Этот переход от одного времени года к другому всем нам показался очень резким. Мох на земле и на деревьях, низкая температура и обилие влаги создавали полнейшую формацию лесной тундры. От соприкосновения с болотами влага воздуха конденсировалась и превращалась в туман. Часов в десять утра он начал клубиться; кое-где проглянуло синее небо, и живительные солнечные лучи озарили мокрую землю. Первые насекомые, приветствовавшие нас после перехода через перевал, были комары. Потому ли, что мы здесь впервые встретились с ними, или потому, что маленькие крылатые кровопийцы были голодны, но только укусы их показались очень чувствительными. Пришлось прикрыть лица сетками и надеть на руки перчатки, а туземцы завязали головы платками, которые предусмотрительно захватили с собою из Советской гавани. После перевала вместо ели и пихты на сцену сразу выступила лиственница, которая вскоре сделалась господствующей породой. В долине подлеском ее явилась кустарниковая береза Миддендорфа с угловатыми ветками, красновато-бурою шелушащеюся корою и мелкими листочками, а по склонам гор — багульник подбелый с ветвями, стелющимися по земле. Красивая темно-зеленая кожистая листва его сначала понравилась нам, но потом мы не раз вспоминали мхи елово-пихтового леса и часто проклинали оба этих кустарника. Они весьма затрудняли наше движение, в особенности когда приходилось идти косогорами. Нога скользит по веткам, которые лежат все в одном направлении и непременно сверху вниз по склону горы; люди часто падают и затрачивают много сил, чтобы пройти несколько десятков шагов. Чем круче такой склон, тем неувереннее шаг, тем больше шансов сорваться под обрыв и разбиться насмерть. Километров через десять еще какой-то ручей подошел с севера. Теперь долина вполне определилась: ближайшие сопки имели остроконечные вершины, а за ними вдали виднелись высокие горы. Перед нами встал вопрос: куда мы попали? По мнению орочей, это была река Иоли, которой избегают все туземцы. Дурной славой пользуется она. Один человек пропал здесь без вести, другой заболел и по возвращении назад скоро умер, третий сошел с ума, у тунгусов пали олени, рыба дохнет сама в воде, в болотах водятся большие змеи и т. д. Даже копинские орочи, хорошо знавшие все реки, на предложение начертить схематический план Иоли, как бы сговорившись, в один голос заявляли, что не бывали на ней и ничего сказать про нее не могут. К полудню мы спустились далеко вниз. Туман, державшийся на перевале, превратился в большие кучевые облака, число и размеры которых постоянно увеличивались. Они двигались большими плотными массами и имели снежно-белые закругленные края. Сильно парило. — Будет агды, — говорили орочи, поглядывая на запад. И действительно, оттуда надвигалась черная туча и слышались отдаленные удары грома. Кругом все замерло, ветер стих. В нагретом, наэлектризованном воздухе витало едва уловимое беспокойство и чувствовалось какое-то напряжение, которое вот-вот должно было разразиться грозою. Мы принялись спешно ставить палатки. Орочи побежали в лес за древесным корьем; оба моих спутника носили дрова, развязывали котомки и старались спрятать вещи от дождя. В виде страшного лохматого чудовища летела туча над землей, протянув вперед свои лапы и стараясь как бы охватить весь небосклон. От рева его содрогалась земля, и из пасти вылетали длинные языки пламени. Вдруг на земле сразу сделалось сумрачно — чудовище поглотило солнце. Несколько крупных капель упало на землю; деревья сердито зашумели и все разом качнулись в одну сторону. Вслед за тем хлынул ливень вместе с градом. Молнии прорезывали темные тучи, сильные удары грома сотрясали воздух, отчего дождь шел еще сильнее. Эхо вторило им в горах и широкими раскатами перекидывалось через все небо от одного облака к другому. Мы забились в палатки и, прижавшись друг к другу, прислушивались к ветру, который налетал порывами и ломал деревья в лесу. Один раз молния ударила где-то по соседству с нашим биваком. Я почувствовал острую боль в ушах и до самого вечера не мог восстановить свой слух. К вечеру гроза начала стихать; дождь превратился в изморось. Орочи развели большой огонь и стали сушить свои одежды, от которых клубами поднимался пар. Я взял ружье и пошел немного пройтись по берегу речки, которая здесь описывала дугу. Справа от нее стеною стоял хвойно-смешанный лес, а слева была большая песчаная отмель. После грозы воздух сделался удивительно прозрачен. Небо почти очистилось от туч, последние остатки которых уходили за перевал. Вечерняя заря погасла совсем. Величественная громада гор, отдаленные вспышки молнии, глухие удары грома и ночной мрак, надвинувшийся на землю, создавали мрачную картину, но полную величественной красоты. Случайно я поднял глаза и вверху, в беспредельной высоте совершенно потемневшего неба, увидел мелкие серебристые облака. Сначала они были едва заметны, но вскоре сделались явственно видимыми и как будто сами издавали свет настолько сильный, что местонахождение их можно было определить даже сквозь тучки, проходившие низко над землею. Такие серебристо-белые облака бывают видны только в чистом воздухе после дождя. Водяной пар не мог подняться в столь высокие слои атмосферы. Может быть, это была тонкая пыль или какой-нибудь другой газ, более легкий, чем воздух, газ, который долго светился и после полуночи медленно погас. Я повернул назад. Гроза ушла уже далеко, и грома не было слышно. Во всей природе водворилось спокойствие, и только зарницы напоминали о недавней буре. За ночь мы все хорошо отдохнули и назавтра продолжали наш путь вниз по реке Ноли. От затяжных дождей вода стояла в ней высокая, и это принуждало нас все время держаться левого края долины. Опять пришлось карабкаться через многочисленные непропуски. Большими препятствиями для передвижений являлись грузы, которые мы несли на себе, и заросли багульника, вытеснявшего все другие кустарники. После полудня случилось как-то, что мы разделились: Кабанов, Кардаков и три ороча пошли сопками, а я и Геонка спустились в долину. Здесь оказалось идти еще хуже, чем косогором. Кустарниковая береза Миддендорфа росла вперемежку со спиреей иволистной, имеющей листья как у тальника, и с высокими травами (вейник). Наибольшие трудности выпадают всегда на долю идущего впереди. Поэтому мы чередовались. Когда была моя очередь пробираться сквозь заросли, я случайно вышел на тропу, протоптанную медведями. Она шла как раз в том направлении, которое нам было нужно. Тропа скоро вывела нас на песчаную отмель, поросшую ивняками. Подойдя к бурелому, я сел, не снимая котомки. В это время я увидел небольшого зверька длиною около шестидесяти сантиметров, буро-желтого цвета, с пушистым хвостом и с небольшими стоячими ушами. Я тотчас узнал в нем колонка. Зверек сидел на земле около большой валежины, поджав под себя лапки, и что-то держал во рту. Он так был занят своим делом, что не замечал меня, и это дало мне возможность рассмотреть его как следует. Колонок что-то прижимал передними лапками, кого-то сердито кусал и шевелил своим хвостиком. В это время я сделал неосторожное движение и напугал его. Он издал звук, похожий на короткое хрипение, прыгнул на валежину, ловко пробежал по тонкому прутику и скрылся в траве. Тогда я встал со своего места и увидел около колодины довольно большую сахалинскую гадюку с характерным для нее пестрым ромбоидальным рисунком на спине. У змеи была перекушена шея. Она лежала с открытым ртом и медленно извивалась. Хотелось мне еще понаблюдать за колонком, но его, может быть, пришлось бы долго ждать. В это время подошел Геонка. Я сообщил ему о том, что видел, и указал на змею. Он сказал мне, что колонок ловит птиц, мышей, пищух, белок, бурундуков и других мелких животных. Самый сильный шаманский дух (севон) всегда является в образе колонка и называется «соле». По его мнению, я видел не обыкновенное животное, а именно севона, которого шаман послал убить злого духа, принявшего вид ядовитой змеи. Самое лучшее будет, закончил он, если мы уйдем поскорее отсюда. Сказав это, Геонка пошел вперед, а я за ним следом. Чем дальше мы спускались вниз по реке, тем она становилась многоводнее. Больших притоков не было, но множество мелких ручьев впадало в нее справа и слева. Интересной особенностью долины реки Иоли являются древние речные террасы с массивными основаниями, имеющими вид широких плато. Теперь наша задача заключалась в том, чтобы найти тополь такого размера, чтобы из него можно было долбить лодку. Каждое большое дерево привлекало внимание орочей. Они снимали котомки и бегали в лес, но каждый раз возвращались разочарованные. На этом пути Кабанов отметил еще следующие породы: особые виды ив (пирамидальная, росистая), потом осину с характерными трепещущими листьями на длинных черешках, растущую одиночными экземплярами среди других древесных пород. Лиственница занимала все возвышенные места, террасы и склоны гор. Из кустарников стали встречаться: дерён татарский с яйцевидными листьями и бледно-зеленовато-серыми цветами, шиповник с колючими красновато-бурыми ветвями и с мелкими овальными листочками, слегка опушенными с исподней стороны. Берега с галечниковыми отложениями у самой воды были заполнены густыми зарослями белокопытника дланевидного — весьма декоративного растения с крупными, глубоко изрезанными острозубчатыми листьями. Орочи нарезали ножами множество его сочных длинных черенков. Они ели их так аппетитно, что соблазнили и нас. Вкусом белокопытник похож на молодые стебли дудника, которым в деревнях любят лакомиться ребятишки. Во всяком случае, это растение может быть причислено к съедобным. Русские переселенцы иногда в шутку называют его «орочонским огурцом». Наконец 3 июля желанное дерево было найдено. Это был тополь Максимовича вышиною двадцать пять — тридцать метров и в два обхвата на грудной высоте. Он рос по другую сторону реки. С великой радостью мы сбросили со своих плеч котомки в сознании, что дальше их нести не придется. Пока орочи налаживали переправу через реку, мы втроем устроили бивак. Туземцы осмотрели тополь, обсудили, куда и как он упадет, убрали весь валежник и затем принялись рубить его с особыми заклинаниями. Стоял лесной великан на берегу реки Иоли и многим сородичам своим, растущим вблизи себя, дал право тоже называться большими деревьями. Двести с лишним лет он, как патриарх, охранял порядок в лесу и, быть может, простоял бы еще сто лет, если бы не семь двуногих пигмеев, пришедших сюда с топорами. Тополь, подрубленный у корней, вздрогнул, затрещал, качнулся и начал падать, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. С большим шумом, ломая другие деревья, он грохнулся на землю и — погиб. Мулинка тотчас срубил одну из веток его и всадил ее вертикально в середину пня. На мой вопрос, что это значит, он отвечал, что это душа дерева — ханя-моони. Так делают всегда, когда его рубят для лодки. Если дерево рубится для того, чтобы сделать гроб покойнику, то ханя в пень не втыкается. Орочи отмерили около двадцати метров от комля и отрубили вершину. Они работали дружно, с увлечением, быстро сняли с болванки кору и в полдня срубили заболонь, выровняли дно будущей лодки и обтесали ее бока. Начинало уже смеркаться, когда туземцы возвратились на бивак. Недолго усталые люди беседовали у огня и рано уснули. Следующие два дня были солнечные и теплые. Орочи большими рычагами перевернули болванку тополя и поставили ее днищем на катки. Затем длинной веревкой, намазанной углем, они наметили верхние края лодки и с помощью березовых клиньев принялись срубать все, что было выше этих линий. Еще полдня ушло на выемку древесной массы из середины лодки. Я любовался работой туземцев. Главным мастером был Мулинка. Он давал указания, и все слушались его беспрекословно. Тем временем Намука у комля болванки очертил границы лопатообразного носа и снял всю лишнюю древесину. На второй день к вечеру лодка вчерне была готова. Пятого июля орочи отделали улимагду начисто. Особыми поперечными топориками (упала) они стесали борта ее настолько, что казалось, будто она сделана из фанеры. Дно лодки оставили несколько толще, чтобы оно могло выдержать давление камней на перекатах. Теперь оставалось только опалить улимагду. Религиозный предрассудок не позволяет делать это на том месте, где было срублено дерево. Орочи сплавили ее на другую сторону реки и пошли за берестой. Особыми распорками они немного раздвинули борта улимагды в стороны, затем поставили ее днищем на деревянные катки и по всей длине разложили под ней березовое корье. Опаливанием лодки достигается одновременно осушка ее и осмаливание. Пока Мулинка и Хутунка обжигали улимагду, Намука сделал кормовое весло, а Сунцай приготовил шесты. Часам к двум пополудни 5 июля все было готово. Не медля нимало, мы уложили все наши грузы в лодку и, вооружившись шестами, поплыли вниз по реке Ноли. Горная складка, служащая водоразделом между бассейнами Тутто и Хади, текущих в море, и Ноли, текущей в Копи, имеет столообразный характер. Гребень ее ровный, без острых вершин и глубоких седловин. Он все время повышается к югу и в истоках Ситыли образует командующую высоту всего прибрежного района Советской гавани. Гора эта называется Инда-Иласа. С нее видны все горы: на юг до Самарги и на север до Хуту включительно. На вершине этой сопки тоже большое болото с лужами стоячей воды, в котором орочи поселили каких-то фантастических чудовищ вроде ящериц громадных размеров. Гора Инда-Иласа является узлом, от которого звездообразно отходят большие отроги. По распадкам между ними бегут: с одной стороны две реки Ситыли, левые притоки Иоли, с другой — река Санку, впадающая в Копи. Река Иоли течет вдоль столообразного горного хребта по межскладочной долине, огибая сопку Инда-Иласа, и накрест перерезает ее отроги. Здесь долина делается изломанной, река бежит в щеках через бурные, пенистые пороги. В петрографическом отношении она гораздо богаче и разнообразнее реки Тутто. Вперемежку с базальтами, которые все больше и больше отстают, на дневной поверхности появляются обнажения гранитов, аспидоподобных глинистых сланцев, различных изверженных и метаморфизованных пород и конгломератов. В среднем течении река Иоли шириною около пятнадцати, глубиною до полутора метров по фарватеру и имеет быстроту течения пять-шесть километров в час. Первую Ситыли мы прошли шестого числа, а вторую долго не могли найти. При устье она разбивается на много мелких рукавов, замаскированных густой растительностью. В среднем течении Иоли чрезвычайно порожиста и извилиста. Скалистые сопки то с одной, то с другой стороны, а иногда и сразу с обеих сторон сжимают ее русло. Прибавьте к этому большой уклон дна реки, и тогда представление о порогах Иоли будет полное. Как бешеный зверь, вода прыгает через камни, пенится, всплескивается кверху и местами образует широкие каскады. Спуск по Иоли в этих местах опасен и доставляет много хлопот. Чтобы облегчить лодку, мы оставили в ней двух орочей, а сами полезли на гору. Как только мы поднялись на ее вершину, сразу увидели, что река описывает почти полный круг. Тогда мы пошли к ней по кратчайшему направлению. Здесь я впервые встретил плосколистную березу. Она росла сплошными насаждениями на местах старых пожарищ. Спустившись в долину Иоли, мы опять попали в поемный лес, состоящий из ольховника (ольха кустарниковая) с крупными и одноцветными с обеих сторон листьями и ивняка (ива корзиночная), растущего то кустарником, то деревцом с ветвистою кроною. Минут через двадцать мы вышли на большую галечниковую отмель. На ней у самой воды я заметил около десятка большеклювых ворон, прилетевших сюда для отдыха и водопоя. На сером фоне камней, запачканных илом, они резко выделялись своим черным цветом. Как только я вышел из зарослей, одна из птиц, которая была ближе всех ко мне, громко каркнула и испуганно снялась с места. За ней тотчас поднялись и другие вороны и улетели в лес. Там они нашли филина и стали его преследовать. Ночной хищник прятался в чаще, отбивался от ворон как мог и перелетал с одного дерева на другое. Через четверть часа птицы скрылись из виду. Выйдя к реке, мы сели на камни и стали ждать свою лодку. Вдруг из-за поворота показалась небольшая стайка остроклювых крохалей. По-видимому, это были самцы, потому что, судя по времени, самки должны были находиться около гнезд со своими еще не оперившимися птенцами. Крохали не видели нас и подплыли довольно близко, а когда заметили опасность, все разом нырнули в воду. Течением отнесло их к другому берегу. Как только они опять появились на поверхности воды, тотчас поднялись на воздух и полетели по реке. Утром шел небольшой дождь, а после полудня погода разгулялась. Солнечные лучи прорвали туманную завесу и осветили мокрую землю. Над галечниковой отмелью реял теплый воздух. В это время прилетел какой-то жук. С громким гудением он описал круг над нашими головами и, видимо, хотел сесть. Увидев жука, Мулинка вдруг сорвался с места и принялся ловить его с таким видом, как будто он представлял собою большую ценность. Зная, что туземцы довольно равнодушны к насекомым, я очень удивился, почему Мулинка ловит его так старательно, и стал ему помогать. Общими стараниями мы поймали жука. Это оказалась бронзовка золотисто-зеленого цвета с белесоватыми черточками на задних частях надкрылий. Получив насекомое, Мулинка тотчас посадил его в коробку из-под спичек и спрятал за пазуху. При этом объяснил, что бронзовка есть душа сохатого, который сейчас где-нибудь спит. Проснувшись, лось отправится искать свою душу и сам придет к нам на бивак. Каждый охотник знает это и старается поймать бронзовку и носит ее с собой до тех пор, пока не встретит лося, что обычно случается на второй или на третий день. Когда прибыла лодка, было уже настолько поздно, что не имело смысла плыть дальше, и потому мы решили встать биваком. Как всегда, орочи вытащили улимагду на берег и принялись разгружать ее. Намука пошел в лес рубить жерди для палатки, а Мулинка собрал большую охапку дров для костра. Он нарезал стружек и сунул их под хворост, потом достал спички и едва открыл коробок, как бронзовка проворно вылезла из него и с жужжанием полетела к лесу. — А-та-тэ! — закричал Мулинка и с досадою посмотрел вслед насекомому. — Теперь сохатого найти не могу, — продолжал он в раздумьи. Минут через десять на бивак вернулся Намука. Он нес на плече две длинные жерди. Сбросив их на землю, он сказал, что в лесу наткнулся на сохатого, который в испуге бросился в чащу. Намука жалел, что с ним не было ружья, а Мулинка был убежден, что это был тот самый зверь, который приходил за своей душой. За отрогами Инда-Иласа долина Иоли значительно расширилась: горы отошли в стороны и только по временам подходили к реке то с одной, то с другой стороны. Бег воды тоже стал спокойнее, но зато количество плавника увеличилось, в особенности на протоках. По рекам, которые обычно посещаются туземцами, в колоднике делаются проходы; но мы нигде не нашли следов порубок, ни одного старого бивака, ни одного костра. Все это подтверждало слова орочей, что сюда никто не ходит ни летом, ни зимою. Во время полуденного привала я взобрался на одну из прибрежных сопок с голой вершиной. Эта экскурсия дала мне возможность познакомиться с общей топографией окрестностей. Общее направление долины реки Иоли — юго-западное; только последние двенадцать километров она течет в широтном направлении и впадает в Копи под острым углом. Все горы, в том числе и Инда-Иласа, имеют столовый характер и достигают значительной высоты. Ближе к устью, с левой стороны, сопки сильно размыты и выходят в долину гигантскими утесами, лишенными растительности. Когда наша лодка прошла мимо них, я знал, что устье реки уж недалеко.Глава пятая. Савушка Бизанка
Экспедиция достигла реки Копи 8 июля. Здесь около скал Омоко Мамага мы увидели красный флаг с надписью: «Шлем привет и желаем счастливого пути». Это была питательная база, устроенная лесной стражей. В старой брошенной юрте мы нашли свои ящики с продовольствием. Вместе с тем тут нас ждала и неприятность: значительная часть сухарей, присланных из Владивостока, оказалась гнилой и червивой. После дневки я послал Кардакова и троих орочей вниз по Копи к устью Чжакухме, где я рассчитывал найти туземцев, достать у них еще одну лодку и прикупить продовольствия. Пока лодки ходили на Чжакуме, мы с Кабановым занялись изучением ближайших окрестностей. Он ежедневно экскурсировал в горы, а я ходил к скалам Омоко Мамага. Если смотреть на них со стороны устья Иоли, они представляются руинами древнего замка, заросшими буйной растительностью. Некоторые утесы имеют странные очертания: один из них похож на сидящего человека, который несколько повернул голову и прислушивается к чему-то; другой имеет вид старика, всматривающегося в даль; рядом с ним замер в неподвижной позе уродливый карлик, поднявший кверху руку и как бы указывающий на самую большую скалу. Это и есть Омоко Мамага. Потому ли, что я знал смысл этих двух слов, она показалась мне похожей не то на монаха в длинной одежде, не то на колдунью с гневным лицом, скрестившую на груди руки. Это была страшная игра природы. Точно кто-нибудь нарочно гигантским зубилом вытесал из камней разные фигуры. Как в облаках при некоторой фантазии можно видеть очертания людей, птиц, животных, так и в этих камнях было что-то такое, что заставляло отожествлять их с живыми существами. Долина реки Копи типично денудационная[319] и слагается из ряда котловин, соединенных узкими проходами. Котловины эти очень опасны для заселения, потому что во время дождей они затопляются водою. Здесь же находятся и главные притоки Копи. Последняя от устья Иоли до моря имеет протяжение в сто семьдесят километров. Огибая знакомую нам сопку Инда-Иласа, она делает к югу большую излучину, а затем опять поворачивает на восток и впадает в бухту Андреева, примерно около 48,6° северной широты. На этом пути Копи принимает в себя следующие притоки: справа — Чжауса, Чжакуме и Бяпали, где еще сохранилось довольно много соболей; затем Тепты, по которой орочи ходят на Ботчи, впадающую в бухту Гроссевича немного южнее Копи; потом следуют две небольшие речки: Май и Копка. С левой стороны Копи не имеет сколько-нибудь значительных притоков, к которым относится и Санку. Истоки ее находятся между Хади и горой Инда-Иласа. Дня через два посланные возвратились. Вместе с ними прибыл и ороч Савушка Бизанка. Купить у туземцев ничего не удалось. Они сами кормились рыбою, которая только начинала доходить сюда единичными экземплярами. Делать нечего! Волей-неволей приходилось довольствоваться тем недоброкачественным продуктом, который был в нашем распоряжении. Вновь прибывший ороч Савушка был моим старым приятелем. Имя свое он получил при крещении еще маленьким мальчиком. За тихий и покладистый характер русские стали называть его ласкательно. Годы шли, из мальчика Савушка сделался мужчиной, потом состарился, а ласкательное имя так при нем и осталось. Ему теперь было около шестидесяти лет. Это был мужчина среднего роста, сухопарого телосложения. Невзгоды скитальческой жизни наложили на лицо его особый отпечаток, по которому сразу можно узнать охотника-зверолова. Сосредоточенность во взгляде, некоторая скромность, молчаливость и спокойствие так характерны для обитателей лесов. Савушка не имел ни бороды, ни усов; темно-карие глаза его потускнели немного, но все же он видел еще хорошо. Кожа на лице и на руках его загорала так много раз, что навсегда осталась красновато-смуглой. Лет двадцать пять назад, по маньчжурскому обычаю, он носил косу, теперь на голове его были выцветшие редкие волосы; короткими прядями они свешивались на затылке и на висках. Одет был Савушка в свой национальный костюм, сшитый из какой-то материи, которая имела неопределенно-серый цвет. Верхняя рубашка до колен с косым воротом и с застежками на боку была подпоясана ремешком так, что вокруг талии получился напуск. На ногах он носил короткие штаны, длинные наколенники без всяких украшении и особую туземную обувь (унты), сшитую из выделанной сохатиной кожи. На поясе с правой стороны висели два ножа, с которыми орочи никогда не расстаются. За последние годы здоровье Савушки сильно пошатнулось. Он стал кашлять кровью. Во время таких припадков он очень страдал и делался совершенно беспомощен. Сопровождавшие нас орочи относились к старику с большим вниманием и старались всячески ему услужить. Они починяли его обувь, стлали ему постель и не позволяли носить дрова. Мы встретились с ним как старые друзья. Когда Савушка от орочей узнал, что мы вышли на Копи, сам вызвался проводить нас до Сихотэ-Алиня. Это очень меня устраивало, так как он считался добычливым охотником, лучшим следопытом и хорошим проводником. Первый раз я встретился с Савушкой в 1908 году. Судьбе угодно было, чтобы жизненные пути наши опять сошлись около скалы Омоко Мамага. За это время много воды утекло в Копи. Мы оба уже постарели, пожалуй, даже не сразу бы узнали друг друга. Первые минуты мы не знали, как и с чего начать обоюдные расспросы. А поговорить было о чем! Мы сели с ним на опрокинутую лодку и стали вспоминать прошлое. Он сообщил мне грустные вести. Неумолимая смерть унесла в могилу многих туземцев, с которыми я встречался двадцать лет назад. Вечером после ужина орочи, ездившие на реку Чжакуме, и оба моих спутника рано легли спать, а я, Савушка и Хутунка еще долго разговаривали между собою. В старой покинутой юрте было так уютно. Огонь весело прыгал по веткам, которые время от времени кто-нибудь из нас подбрасывал в костер. Он оживал, вспыхивал длинными языками и освещал сходившиеся кверху стены нашего временного жилища. Вход в юрту был завешан полотнищем палатки; в другом конце ее были сложены ящики с провизией. По обе стороны огня спали люди. Дым от костра выходил через отверстие в крыше. Порой сквозь него виднелось небо, освещенное бледными лучами месяца. Я рассказывал Савушке о том, как мы шли по реке Иоли и как нашли свою питательную базу. Разговор наш перешел на скалу Омоко Мамага, и я спросил его, почему ее так назвали. Тогда Савушка сообщил мне следующее сказание. Раньше, очень давно, в верховьях Копи жили человек Кангей и две женщины — Атынига и Омоко. Жили они долго, несколько сот лет, состарились и окаменели. Много веков они стояли в полном согласии, но однажды заспорили о том, кто из них является хозяином местных гор. Спор их перешел в ссору и в ужасную драку, от которой содрогались все сопки и стонала тайга. Кангей остался победителем и сохранил за собою место. Одна старуха, Атынига, убежала и села на правом берегу Копи между реками Бяпали и Тепты, а другая вместе с семьей перешла на левый берег реки около устья Иоли и стала называться Омоко Мамага. С тех пор орочи, удэхе и гольды, когда проходят мимо скал, останавливаются и кладут на камни свои приношения: лоскутки материи, кусочки сахару, листочки табаку, или выливают несколько капель водки и просят послать им удачную охоту и счастливое окончание путешествия. Этот обычай соблюдается и по сие время. Снаружи послышался какой-то всплеск. Я поспешно вышел из юрты. Тихая светлая ночь облегала уснувшую землю. На небе стояла полная луна. От нее кверху и в стороны крестообразно расходились четыре луча; несколько в стороне справа и слева виднелись еще два лучезарных пятна, которые принято называть «ложными лунами». Свет месяца отражался в реке серебристыми переливами. От воды поднимался легкий туман. Теперь скалы Омоко Мамага приняли другой вид: одни части их были ярко освещены, а другие погружены в глубокий мрак. По небу плыло белое облачко. Оно казалось неподвижным, а самая большая скала, с гневным выражением окаменевшего лица, как будто двигалась ему навстречу. Облачко проходило, и гигантский утес вновь делался неподвижным. В это время послышались всплески. Это лососи шли метать икру для того, чтобы дать жизнь себе подобным и погибнуть в истоках реки. Я вернулся в юрту и сел на свое место. Спать мне не хотелось. Мы достали сухарей и стали пить чай. Савушка рассказывал, что случилось на реке Копи в давно минувшие времена. Он вспоминал дни своей юности, когда тайга щедро снабжала охотников пушниной и мясом, а реки изобиловали рыбой. Раньше соболь водился у самого моря, а теперь за ним надо ходить в верховья реки Копи. В настоящее время лучшим охотничьим местом считается река Чжауса с несколькими притоками, из которых самым интересным будет Оанды. В истоках она слагается из трех речек (Элангса). Здесь находится страшная сопка Гугдаманты, где погибло несколько охотников. Дело было так. Однажды вверх по реке Чжауса отправились семь орочей из рода Докодика и один человек из рода Копинка. Был очень глубокий снег. В сумерки охотники нашли следы семи сохатых. Они решили ночевать, рассчитывая на следующее утро догнать лосей, которые далеко уйти не могли. Когда совсем стемнело, орочи услышали рев животных. Люди из рода Докодика стали смеяться над сохатыми, говоря: «Не кричите, мы все равно завтра всех вас перебьем». Один только Копинка не глумился над животными. Он был старый, опытный охотник и знал, что после медведя лоси занимают самое почетное место, что зимою они никогда не кричат, а если кричат, то неспроста. На другой день с рассветом орочи пошли на охоту, но сохатые уходили все дальше и дальше. День был уже на исходе, когда лоси поднялись на сопку Гугдаманты и начали спускаться к самому крутому ее склону, который внизу кончается отвесными обрывами. Охотники бросились за ними. Вдруг животные закричали опять, и в это мгновение вся масса снега начала двигаться сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Вместе со снегом стали падать камни, валежник. Лавина вырывала с корнями деревья и стремительно неслась книзу, все увеличиваясь в размерах и все разрушая на своем пути. В этой лавине погибли все сохатые и семь охотников из рода Докодика. Спасся только один Копинка. Он сразу повернул вправо по косогору и вовремя вышел из беды. Когда стаяли снега, орочи пошли искать погибших охотников. У подножия обрыва они нашли перемешанные кости людей и сохатых. В дни своей юности Савушка ходил туда. С той поры крутой склон сопки Гугдаманты остался голым. По его словам, обвалы там бывают часто в глубокоснежные зимы. Внизу под обрывом нагромождены груды камней, буреломного леса. Едва на них появляется молодая растительность, как их снова засыпает землею и снегом. Савушка замолчал. В наступившей тишине слышны были ровное дыхание спящих и потрескивание дров в огне. В это время снаружи донеслись какие-то странные звуки: словно кто-то стонал и вздыхал. Я приподнял полог у дверей и выглянул из юрты. Месяц уже находился на половине своего пути к западу и мягким сиянием озарял кроны больших деревьев. Испарения над рекой сгустились. Высоко на небе блистал Юпитер своим ровным белым светом. Кругом было тихо. Вся природа грезила предрассветным сном. — Это выпь, — сказал Хутунка. — Когда ее кричит, люди видят худой сон. Как бы в подтверждение его слов Мулинка потянулся и застонал. Хутунка разбудил его. Мулинка открыл глаза, что-то пробормотал, потом повернулся на другой бок и снова заснул. Время шло, а мы втроем все сидели и тихо разговаривали. Такие бессонные ночи у огня, в глухой тайге, в дружеской беседе с человеком, к которому питаешь искреннюю симпатию и которого не видел много лет, всегда полны неизъяснимой прелести. Это лучшие страницы моих путевых дневников. — Наши орочи теперь совсем трудно живи, — сказал Савушка. — Двенадцать года назад шибко большая вода была, — продолжал он. — Тогда много людей погибло. В это наводнение попал и Хутунка. Он жил около устья Бяпали, а юрта Савушки была на Чжакуме. Я кое-что слышал об этом наводнении и просил обоих моих собеседников рассказать о нем возможно подробнее. Лето 1915 года было ненастное. Дожди шли все время с большим постоянством. Один раз очень сильный ливень длился подряд двое суток. Он не позволял женщинам и детям выходить из жилищ. Опасаясь, как бы водой не унесло лодки, орочи вытащили их подальше на берег и поставили на катки. В течение одних суток они должны были шесть раз опрокидывать их и выливать дождевую воду. К вечеру второго дня вдруг сверху вода пришла валом и сразу затопила все берега. Подхватив в лесу валежник, она понесла его вниз по реке. Чем дальше, тем плавник увеличивался в размерах и в конце концов превратился в лавину, обладающую такой же разрушительной силой, как и ледоход. Эта лавина шла по долине и своим напором ломала живой лес. Орочи бросились к лодкам, но уже не могли добраться до возвышенного края долины. Все лодки были раздавлены плавником. Первыми погибли женщины и дети. Мужчины взбирались на бурелом, но деревья сталкивались между собою и калечили людей, которые тут же тонули. Савушка спасся, но он совершенно был лишен возможности подать помощь своим родным, которые гибли у него на глазах. Это страшное наводнение во многих местах долины реки Копи совершенно уничтожило лес. Теперь на месте его стоит десятилетний лиственничный молодняк. Старик умолк и погрузился в грустные воспоминания. В это время в воздухе опять пронеслось какое-то беспокойство. Должно быть, лиса поймала зайца или росомаха схватила кабаргу. Мы вышли из юрты. Луна уже совсем снизилась к лесу. Сквозь туман, поднявшийся от воды, чуть виднелся противоположный берег. Кругом стояла торжественная тишина. Листья кустарников и трава, смоченная росою, были совершенно неподвижны. Голубой сумрак еще окутывал землю, но уже неуловимо, в воздухе и где-то на небе чувствовалось приближение зари. Савушка утомился. Мы вернулись в юрту, оправили огонь и легли спать. На другое утро я встал позже всех. Мои спутники были уже на ногах. Я поспешно оделся и вышел на свежий воздух. Сквозь туман чуть-чуть виднелись скалистые сопки и деревья на другом берегу реки. Можно было опять ожидать дождя. Но вот взошло солнце. Туман пришел в движение; большие клубы его, серые, как грязная вата, потянулись к востоку, цепляясь за прибрежные кусты; кое-где появились просветы… Около лодок возились орочи. Они осматривали их, что-то заколачивали и приготовляли новые шесты. Часам к восьми утра погода разгулялась. Тогда мы спустили лодки на воду и поплыли вверх по Копи, которая имеет здесь в ширину от пятидесяти до шестидесяти метров, быстроту течения шесть километров в час и глубину до двух метров по фарватеру. В истоках она слагается из двух речек одинаковой величины. По правой, Чжооде, будет перевал на реку Даагды (приток Самарги), а по левой — в верхний Анюй, впадающий в Амур ниже Хабаровска. Близ слияния обеих упомянутых речек находится скала Кангей, о которой говорилось выше, затем справа одна только небольшая горная речка Талеучи, а слева притоки: Булунге, Дю и Иггу. По последней нам надлежало идти к Сихотэ-Алиню. В долине реки Копи основную массу лесной растительности составляет все та же лиственница с подлесьем из багульника. Кое-где одиночными экземплярами встречается маньчжурский ясень со светло-серою корою, покрытою правильными продольными трещинами. Он растет по уремам в сообществе с бальзамическим тополем, из которого орочи долбят свои лодки. Здесь также, по словам туземцев, изредка встречается корейский кедр — большое стройное дерево с ветвями, поднимающимися кверху и как бы срезанными на одной высоте, вследствие чего вершина его кажется тупою. Все это были представители маньчжурской флоры, проникшие сюда с юга вдоль берега моря и с запада через Сихотэ-Алинь. Река Иггу впадает в Копи недалеко от Иоли. К полудню мы дошли до ее устья и здесь сделали большой привал. Орочи принялись варить чай, а Савушка пошел ловить рыбу. Он вырубил длинное удилище и прикрепил к нему тонкую лесу, к концу которой привязал самодельный рыболовный крючок, искусно обделанный шерстью и грубым кабаньим волосом в виде мухи с раскрытыми крыльями. Для охоты он избрал такое место, где вода подмывала скалистый берег, пенилась и бурлила. Сущность ловли заключалась в следующем: с помощью длинного удилища мушка забрасывается на воду; сдерживаемая лесой, она всплывает на поверхность; рыба принимает ее за действительное насекомое, хватает ртом и попадает на крючок. Через минуту старик выбросил на камин хариуса с оранжево-малиновыми плавниками и с серебристой чешуей, по которой параллельными рядами расположены красивые фиолетовые пятнышки. Савушка взмахнул удочкой другой раз. Не успела еще мушка коснуться поверхности реки, как из воды стремительно выскочила вторая рыба и повисла на крючке, за ней последовала третья, четвертая — и так сорок шесть штук. Последний хариус был несколько больших размеров, с раздутым животом, без грудных и брюшных плавников. Когда я взял его в руки, он издал какой-то звук, похожий на скрипение. Уродливая рыба сильнее других билась на берегу. Она широко раскрывала жабры и хватала ртом воздух. Савушка наклонился, чтобы поближе рассмотреть странного хариуса, но он вдруг подпрыгнул так высоко, что задел его хвостом по лицу. Это рассердило старика. Он отшвырнул рыбу ногой и, ворча что-то себе под нос, отошел к воде и снова принялся за ловлю; но рыба больше не клевала, словно кто прогнал ее отсюда. Савушка поставил неудачу дальнейшего лова в связь с уродливым хариусом и считал его всему виновником. Когда потрошили рыб, в желудке голобрюхого хариуса оказались две ящерицы: одна — целая, недавно проглоченная, другая частично переваренная. Отдохнув немного, мы продолжали наше плавание по реке Иггу дальше и на второй день пути дошли до притока ее Гаду, впадающего с левой стороны. Здесь Иггу разбилась на несколько рукавов, забитых плавником. Это обстоятельство заставило нас рано встать на бивак. Орочи с топорами в руках пошли разбирать завалы бурелома, а я, Савушка и Кардаков решили подняться на одну из ближайших сопок, чтобы с вершины ее посмотреть на долину реки Иггу. Сначала мы шли по хвойному лесу, состоящему из лиственницы, ели и пихты. Чем выше, тем качество их становилось хуже: они были меньше размерами, ниже ростом и имели отмершие вершины. Мы придерживались тропы, протоптанной сохатыми, но самих животных видеть не удалось. Вершина сопки была округло плоская, поросшая кедровым стланцем, толстые ветви которого действительно стелются по земле, образуя трудно проходимые заросли. Рядом с ним около камней приютились амурский рододендрон с мелкими зимующими кожистыми листьями, а на сырых местах — багульник лежачий с белым соцветием и вечнозелеными кожистыми листьями, издающими сильно смолистый запах. Я выбрал место, откуда можно было видеть долину Иггу, и сел на камни. За труды, понесенные при восхождении на сопку, мы были вознаграждены красивой горной панорамой. Река Иггу имеет общее направление с северо-запада к юго-востоку и в проекции имеет вид растянутой латинской буквы S. Перед нами была древняя горная страна, сильно размытая. Высокие куполообразные сопки, словно гигантские окаменевшие волны, толпились со всех сторон. Некоторые из них выходили в долину мысами. Ближние сопки видны были отчетливо ясно, а дальние тонули в туманно-синей мгле, несколько смягчавшей суровую красоту предгорьев Сихотэ-Алиня. Солнце уже прошло по небу большую часть своего пути. Лучи его падали на землю под острым углом, вследствие чего одни склоны гор были ярко освещены, а другие находились в тени. Кардаков сфотографировал несколько видов и пошел на бивак. На обратном пути мы с Савушкой как-то сбились с зверовой тропы и попали в хвойно-смешанный лес с значительной примесью каменной березы. Стволы деревьев были старые, дуплистые. Обыкновенно древесина в них сгнивает раньше коры. Некоторые рухляки чуть только держались на корнях. При небольшом давлении на них рукой они тотчас падали на землю. Много таких берестяных футляров валялось по склону горы. Савушке это не понравилось. — Как наша сюда попал? — говорил он, не то обращаясь ко мне, не то к самому себе. Вслед за тем он круто свернул вправо, но тут наткнулся на большую груду рухляка. — Вот посмотри: ыи телюга моони омуты ни[320], — сказал он, указывая на четыре березовых футляра, лежавшие на земле: два крестообразно, а два пониже — углом так, что вершина каждого касалась нижней части креста, а концы расходились в стороны. Конечно, из обломков березовых стволов, во множестве валявшихся на земле, можно скомбинировать какие угодно фигуры: людей, зверей, жилищ, лодок и т. д., но для этого надо дать волю фантазии. Так думал я, но у Савушки на этот счет были свои соображения. Он с опаской посторонился от рухляка. Я подошел поближе к крестообразной фигуре, чтобы получше рассмотреть ее, но старик закричал мне, чтобы я не трогал березового валежника. В это время позади себя я услышал какой-то звук, точно кто-то вздохнул, и вслед за тем один ствол, совсем подгнивший у корня, как-то странно согнулся, осел и стал падать на землю. Я едва успел отскочить в сторону. — Наша надо скоро ходи в другое место, — сказал Савушка и начал быстро спускаться по склону горы. Я последовал за ним. На все мои вопросы он не отвечал и был чем-то взволнован. Когда мы вышли на реку, ночные тени уже зарождались в лесу. Неслышными волнами они выползали из-под старых елей и обволакивали прибрежные кусты и груды колодника на отмелях. Деревья приняли странную окраску, которую нельзя назвать ни черной, ни зеленой. Какая-то ночная птица пронеслась мимо на своих мягких крыльях. Через несколько минут мы подходили к биваку.При свете огня видны были палатки, лодки, вытащенные на отмель, и люди, двигающиеся у костра. Орочи сообщили мне, что дальше по реке много заломов, но все же продвигаться вперед можно. Вопрос заключался лишь в том, хватит ли продовольствия. После ужина я стал расспрашивать орочей о березовом валежнике, виденном на сопке. Они сказали мне, что в горах живет злой дух какзаму, худотелый великан с редькообразной головой и с трехпалыми руками. Он может превращаться в любого зверя. Тогда он сбрасывает с себя внешнюю оболочку, которая и валяется на земле в виде берестяных футляров. Это одежда какзаму. Посещать такие места не следует: может напасть хищный зверь, упасть дерево или камень, можно сломать, вывихнуть ногу или тяжело заболеть. На следующее утро мне сообщили, что Савушка лежит на земле и кашляет кровью. Болезнь Савушки задержала нас на месте до девяти часов утра. Когда он оправился немного, орочи помогли ему сесть в лодку, и затем мы тронулись в путь. От места нашего бивака заломы тянулись на протяжении двухсот шагов; дальше протоки опять соединились в одно русло. Несмотря на то что с бивака мы выступили поздно, нам все же удалось продвинуться вверх по реке довольно далеко. Плыли мы до самого вечера и, может быть, прошли бы еще несколько километров, если бы не новые заломы. Следующий день был неудачный: река стала мелководной и еще больше заваленной колодником. Как образуются такие заломы? В ненастное время года вода подмывает корни больших деревьев, растущих по берегам. Когда последние падают, они увлекают за собою молодняк. Вода подхватывает его и несет вниз по течению. Где-нибудь такой лесной великан застревает. Тотчас около него скопляется плавник — все больше и больше. Напором воды стволы деревьев так втиснуты друг в друга, что разобрать их голыми руками невозможно. Медленно мы продвигались вперед, все время прорубаясь в заломах. Перетаскивание лодок на руках тоже требовало расчистки пути и усиленной работы топорами. На реке Иггу встречались водопады, основанием которых служили большие лиственничные стволы, упавшие в реку. С той стороны, откуда идет вода, скопилось много песка и гальки. Иногда дерево при падении своем застревает вершиной на другом берегу. Между нижним его краем и поверхностью воды остается столь небольшое пространство, что улимагда задевает за него своими бортами. Людям надо или ложиться на дно лодки, или перелезать через дерево. За тесниной, которую мы видели с высоты горы, долина расширилась. Справа по течению был обрывистый, берег, поросший редкостойной лиственницей, а слева — широкие древнеречные террасы. За ними дальше виднелись ущелья и высокие остроконечные горы. Весь ландшафт производил впечатление дикой и величественной красоты. По словам Савушки, в этих местах весной держится так много сохатых, что табуны их на белом фоне снегов кажутся большими темными пятнами. Терраса была обезлесена пожарами и теперь покрылась мелколистным березняком (плосколистная береза) двадцати — и тридцатилетнего возраста. Здесь в изобилии росла голубица обыкновенная. На ней было так много ягод, что кустарники имели синевато-сизый оттенок. Там и сям виднелись большие пятна желтых саранок с цветами величиной с большую рюмку, расположенными как канделябры. Девятнадцатого июля мы бросили лодки и опять понесли грузы на себе. Пусть читатель представит себе заболоченную тайгу, заваленную буреломом, и банную атмосферу, и он поймет, что значит идти в гору с тяжелыми котомками за плечами. Чем ближе мы подходили к водораздельному хребту Сихотэ-Алиня, тем больше характер местности становился расплывчатым. Остроконечные сопки исчезли, а вместо них появились холмы со сглаженными контурами как результаты эрозии. Изменился и характер растительности. Здесь были такие же замшистые и заболоченные леса, как и в истоках реки Иоли. В этот день произошла в тайге встреча с отрядом инженера Львова, который, пройдя по рекам Хуту и Аделами, вышел к Сихотэ-Алиню и теперь со съемкой спускался по реке Иггу на Копи, чтобы потом перебраться на реку Хади около Улема. После совместной дневки оба отряда пошли каждый по своему маршруту.Глава шестая. В отрогах Сихотэ-Алиня
Двадцать третьего июля мы расстались с Кабановым. Вместе с больным Савушкой он спустился обратно по рекам Иггу и Копи к морю. Самый перевал через Сихотэ-Алинь представляет собой глубокую седловину. Первый раз я перешел через него в марте 1909 года и назвал именем Русского географического общества. Севернее и южнее седловины хребет слагается из высоких гор с плоскими вершинами, покрытыми ягельной тундрой. В этих местах он имеет крутые склоны, обращенные к востоку, и пологие — к западу. Отсюда можно видеть истоки рек Гобилли (правый приток Анюя) и Аделами (приток Хуту), а на юге — истоки Копи и Самарги. На перевале, который исчисляется в тысячу сто метров над уровнем моря, был репер[321] инженера Мазурова. Он нашел здесь мою доску с надписью «Перевал Русского географического общества. 28 марта 1909 г. В. К. Арсеньев, казак Крылов, стрелки: Марунич, Рожков, Глегола» и прибил ее к дереву на старое место. Рядом с ней, пониже, я прибил другую доску с надписью: «21 июля 1927 г. В. К. Арсеньев, А. И. Кардакое, П. Хутунка, Ф. Мулинка, А. Намукаи С. Геонка». С вершины перевала открывался чудный вид на долину реки Цзаво, впадающей в Дынми, которая в свою очередь впадает в Анюй в среднем его течении с левой стороны. По небу ползли тяжелые тучи, они задевали за вершины Сихотэ-Алиня; на западе виднелись просветы в облаках и высокие сопки, озаренные солнцем. Было уже поздно, когда мы начали спуск с перевала, и потому, как только нашли воду, тотчас встали биваком около старого моего астрономического пункта. Утром меня разбудил мелкий и частый дождь, барабанивший в полотнища палатки. Надо сказать, что высоко в горах ненастная погода — явление довольно обычное. Всякое облако разряжается дождем. Вот почему на вершинах гор мы видим густой моховый покров, из которого можно выжимать воду, как из губки. В то время как внизу при морочном небе стоит сухая погода, в горах непременно идет дождь. Надо было поскорее спускаться в долину реки Иггу. Обстановка была не из веселых. Густой туман, хвойный лес, затянутый бородатым лишайником, мох на стволах деревьев и на земле нагоняли смертную тоску. Дождь шел без перерывов, то усиливаясь, то ослабевая. Весь день мы просидели в палатках, пили чай от скуки и жевали сухари. К утру двадцать пятого числа дождь как будто немного перестал. Тогда мы пошли вниз по ключику Сололи. В горах шумел сильный ветер, и видно было, как раскачивались деревья. Хмурая заболоченная тайга еще некоторое время продолжалась и к западу от Сихотэ-Алиня, но все же заметно было, что лиственница опять стала вытеснять аянскую ель и пихту. Сфагновые мхи и багульник тоже остались позади. Робко, нерешительно, сначала одиночными кустами, а потом и целыми группами стали выступать ольховники (ольха кустарниковая) с темно-бурой корою и глянцовито-смолистой листвою и какой-то тальник с тонкими ланцетовидными листьями, зазубренными по краям. Я отметил в своем дневнике знакомую нам кустарниковую березу Миддендорфа и даурский рододендрон с серою корою и с мелкими темными кожистыми листочками. Там, где по руслу ручья древесная растительность была реже, пышно разросся вейник Лангсдорфа. Здесь он не достигал таких размеров, как на местах равнинных, но во всяком случае в зарослях его легко может укрыться медведь. С переходом через Сихотэ-Алинь мы сразу попали в начало осени. Кое-где на деревьях листва уже начинала желтеть. И немудрено! Во-первых, мы были довольно высоко над уровнем моря, а во-вторых, во времени мы еще раз как бы перенеслись вперед. Сололи представляет собой небольшой горный ручей, текущий по продольной долине. Сначала мы спускались по сильно размытому склону, изрезанному узкими ущельями, из которых бежала вода шумными каскадами. Мало-помалу долина оформлялась. Чем дальше, тем больше она расширялась и вместе с тем углублялась между отрогами Сихотэ-Алиня, которые окаймляли ее с северной и южной сторон и имели вид высоких горных хребтов. На пути Кардаков заметил морянок с бело-черным оперением, серыми ногами, оранжевым клювом и длинными рулевыми перьями в хвостах. Они казались смирными и подпускали человека довольно близко, но на самом деле все время были настороже. Их очень трудно убить из ружья, потому что они успевают нырнуть раньше, чем долетит до них дробь при выстреле. Затем я видел черную оляпку — небольшую птичку величиною с дрозда, очень проворную и ловкую. Она перепрыгивала с камня на камень и постоянно озиралась по сторонам. Оляпка издавала крики, похожие на чириканье, только более певучие; в такт им она помахивала хвостиком и кивала своей грациозной головкой. Я остановился и стал следить за нею, но она вдруг бросилась в самую пучину, где вода пенилась и бурлила. Оляпка держала себя так, как будто это была ее родная стихия. Через минуту она появилась на поверхности, перелетела на отмель и стала опять входить в воду все глубже и глубже, пока совсем не скрылась с головою. Я подошел к самому берегу. В это мгновение оляпка выскочила на камни и как ни в чем не бывало, даже не отряхнувшись, перелетела на другую отмель, потом на третью и скрылась за поворотом. Следующие два дня снова были ненастные и холодные. Тучи низко бежали над землею и не переставая сыпали дождем. Только по вечерам являлась возможность отжать воду из одежды и просушить ее на огне. На второй день пути мы уже встретили плосколистную березу, весьма похожую на белую европейскую, потом маньчжурский ясень, о котором упоминалось при описании лесов на реке Копи, желтый клен с желтой древесиной, буро-серой корой и с пятилопастными глубокозубчатыми листьями и, наконец, тополь Максимовича таких размеров, что из него можно было долбить лодки. Переход от охотской растительности на восточном склоне Сихотэ-Алиня к маньчжурской в бассейне реки Цзаво очень резок. Тут уже было другое подлесье, состоящее из бузины кистевой; ее легко узнать по крупной листве и по гроздям мелких красных ягод. Тут же рос и колючий элеутерококк с листьями, как у женьшеня, и с тонкими ломкими шипами. Достаточно при ходьбе задеть его, чтобы сразу получить несколько заноз в пальцы рук. Еще больше заноз набивается в колени. К счастью, они не проникают глубоко под кожу и потому не вызывают больших нагноений. Как только подходящие по размерам деревья были найдены, туземцы приступили к долблению лодок. Во время сильного ветра с дождем я как-то простудился. К счастью, это случилось тогда, когда мы кончили путь с котомками. Я все время бодрился, перемогал себя и еле держался на ногах. Пока орочи делали лодки, я отлежался в палатке. Лихорадочное состояние стало проходить, но слабость еще не позволяла вставать с постели, если можно этим именем назвать охапку хвойных веток на земле, покрытых травою. Наконец 28 августа дождь перестал. Орочи пошли за протоку опаливать лодки, а Кардаков отправился куда-то с фотографическим аппаратом. На биваке остался я один. День был тихий и томительно жаркий. В воздухе не ощущалось ни малейшего движения: листва на деревьях и тонкие стебли вейника находились в состоянии абсолютного покоя. Время тянулось бесконечно долго. Какая-то истома охватила всю природу и погрузила ее в дремотное состояние. Даже мошки и комары куда-то исчезли. В шесть часов вечера я надел обувь и вышел из палатки. Солнечные лучи еще пробивались сквозь чащу леса и радужными тонами переливались на тенетах паука, раскинутых между двумя тальниками. День угасал. Нежное дыхание миллионов растений вздымало к небесам тонкие ароматы, которыми так отличается лесной воздух от городского. Я сел на камни и долго смотрел на запад. Солнце скрылось за горизонтом как раз в направлении долины Цзаво. В той стороне небосклон был совершенно безоблачен. На фоне его резко проектировались остроконечные вершины елей и пихт. Они-то именно и привлекли к себе мое внимание. Над каждым деревом вилась кверху быстро вращающаяся тонкая струйка, похожая на дым. Чем выше было хвойное дерево, тем больше и темнее была струя. Я протер глаза, думая, что это мне кажется вследствие лихорадочного состояния. Но тогда почему не было таких же дымков над березами и тальниками? Вблизи росли две молодые елочки. С трудом я поднялся на ноги и встал по отношению к ним в такое положение, чтобы вершины их тоже проектировались на фоне зари, и тотчас увидел над ними такие же вращающиеся струйки. В это время на бивак пришел Геонка. Я велел ему качнуть ту и другую елочку. Струйки мгновенно исчезли. Когда же деревья встали неподвижно, струйки появились снова. Тогда я позвал удэхейца к себе и спросил его, не видит ли он что-нибудь над хвойными деревьями. — Моя думай, это мошки, — сказал он и затем добавил: — Моя сейчас его поймай. Он подошел к елочкам и стал ловить мошек головной сеткой. Он махал ею до тех пор, пока убедился в бесполезности своих занятий. Геонка устал; он вернулся ко мне и в раздумьи сказал: — Моя первый раз такой посмотри. Не знаю, хорошо это или худо?! Солнце спускалось все ниже и ниже. Западный горизонт сделался багровым. Как только стало прохладнее, крутящиеся струйки исчезли. Возможно, что это были эфирные масла, которые собирались у верхних частей елей и пихт. Они поднимались кверху, приобретая вращательное движение. Через них преломлялись лучи вечерней зари, и от этого они казались темными. Кардаков и орочи с работ вернулись, когда стало уже совсем смеркаться. К утру следующего дня я почувствовал себя значительно лучше. С восходом солнца мы распрощались с нашим биваком, поплыли вниз по реке Цзаво и в полдень вошли в реку Дынми. Западнее Сихотэ-Алиня и параллельно ему проходит очень древняя и сильно размытая горная складка, слагающаяся из метаморфических сланцев. Складка эта представляет собой первосозданную земную кору и является той древнейшей осью, около которой впоследствии сложился современный Уссурийский край. На реке Дынми можно видеть прекрасные обнажения кристаллических сланцев. В местах обвалов образовались красивые гроты. Ниже их с правой стороны тянется высокий скалистый берег, состоящий из глинистых сланцев, имеющих мелкоплитняковую или листоватую отдельность. Пласты сильно изогнуты, местами опрокинуты и даже поставлены на голову. Там, где река Дынми прорезает их, образуется опасный порог; вода идет через него со скоростью восемнадцати километров в час, бьется о прибрежные скалы, низвергается вниз пенящимися каскадами и в течение веков медленно, но непрестанно размывает мощные толщи сланцев, сложившихся миллионы лет назад. От шума воды на перекатах нельзя говорить обычным голосом, надо кричать на ухо друг другу. Ниже русло реки завалено камнями и тоже на значительном протяжении представляет собой широкий порог, где вода идет с ропотом, как бы негодуя на природу, которая и тут хотела создать ей препятствия на пути к Амуру. Около порога мы остановились в нерешительности. Как быть? Опускаться по каскадам опасно, а перетаскивать лодки с грузами через высокие скалы невозможно. Взвесив все за и против, орочи решили рискнуть. Едва мы оттолкнулись от берега, как быстрое течение подхватило нашу утлую ладью и со скоростью курьерского поезда понесло ее к порогу. Мимо мелькали кусты и деревья, росшие на берегу. Справа и слева из реки высовывались камни, обливаемые водою. Белая пена и волны окружили нас со всех сторон и точно бежали вперегонки с лодкой. Мы решились на отчаянный шаг, но другого выхода не было. Если бы со стороны какой-нибудь наблюдатель мог взглянуть на наши лица, он увидел бы их бледными, увидел бы плотно сжатые губы и широко раскрытые испуганные глаза. Лодка качалась, прыгала через каскады и накренялась то на один, то на другой бок. Вода заливала ее, но, несмотря на это, мы мчались вниз с головокружительной быстротой. Орочи стояли на ногах и шестами отталкивались от камней, которые, как живые, вдруг появлялись из воды в непосредственной близости и как будто соперничали между собой в желании во что бы то ни стало преградить нам дорогу. У меня закружилась голова. Вдруг лодка сразу осела вниз. Холодный душ обдал меня с ног до головы и заставил вскрикнуть. Вслед за тем лодка выправилась; течение сделалось спокойнее; шум стал стихать, отодвигаясь куда-то назад. Только тогда я увидел, что сижу более чем по пояс в воде. Орочи свернули к берегу и подошли к галечниковой отмели. Они втащили немного лодку на камни и принялись берестяным ковшом выкачивать воду через корму. Надо было отдохнуть и просушить намокшую одежду. Я воспользовался остановкой и пошел вдоль берега. Ниже по течению галечниковая отмель переходила в слои ила и песка, нанесенного водою. На них я заметил два свежих следа: тигровый и изюбровый, и один старый — медвежий. В это время я увидел Мулинка. Он шел и что-то внимательно рассматривал на земле. На лице его я прочел выражение тревоги. — Амба хоктони?[322] — сказал я ему по-орочски. — Посмотри сам, — ответил он мне и указал рукой на узенькую полоску на песке, как бы оставленную длинной щепкой. Быть может, это был след змеи или что-нибудь еще в этом роде. Я высказал вслух свои соображения. — Тебе понимай нету, — ответил он мне и продолжал на своем языке: — Ыи сугала хоктони багдыхе[323]. Затем он громко крикнул, и тотчас отозвалось звучное эхо, сначала спереди, потом сзади нас, потом опять далеко впереди, словно кто перекликался в тайге. Эхо прошло перекатами через весь лес и замерло где-то в горах. Мулинка стоял, повернув немного голову в сторону, приоткрыв рот и вслушиваясь в эти странные звуки. Когда последний отголосок замер, он торопливо пошел к лодке и что-то быстро стал говорить другим орочам. На лицах их тоже выразилась тревога. Они поспешно начали сталкивать лодку в воду и звать меня. Через минуту мы плыли дальше вниз по реке Дынми. Тогда я начал расспрашивать их о причинах торопливого ухода от порога, который мы с опасностью для жизни, но успешно прошли в лодках. Из ответов туземцев я узнал, что багдыхе — маленький карлик. Он весь в волосах, даже лицо у него покрыто шерстью. Этот карлик живет в лесу, где много скал, и устраивает эхо. Он делает так, что люди слышат свои голоса, которые повторяются вдали и возвращаются обратно. Орочи боятся «скал с эхом» и стараются обойти их стороною. Такие места легко узнать. Тут всегда летом и зимою есть следы багдыхе. Он ходит на одной лыже. След его мы и видели около галечниковой отмели на песке. Ниже порога русло реки Дынми во многих местах завалено камнями. Она имеет ширину от пятнадцати до двадцати метров и быстроту течения семь-восемь километров в час. Эти мелководные участки представляют собой широкие пороги, где вода идет шумливо, но сравнительно спокойно. Плавание на лодках здесь возможно, но нужно внимательно смотреть вперед. Не доходя пятнадцати километров до устья, Дынми разбивается на протоки, забитые плавником. Спускались мы довольно скоро и пока что благополучно. Иногда большая протока заводила нас в такой лабиринт, из которого можно было выбраться, только возвращаясь назад. Орочи часто останавливались и делали разведки. Они как-то угадывали, куда надо плыть: внешний вид протоки, быстрота течения и пена — ничто не ускользало от их внимания. Привычное ухо туземцев различало разные шумы воды впереди, и сообразно этому они принимали то или иное решение. Чем больше мы удалялись от Сихотэ-Алиня, тем больше изменялся характер растительности. Ель, пихта и лиственница начали взбираться на самые вершины гор, а в долинах появились широколиственные леса маньчжурского типа. Теперь уже всюду встречался душистый тополь Максимовича. Стройные светло-серые стволы его имели толщину в два-три обхвата на высоте груди. Тут же в сообществе с ним произрастал горный ильм — исконный обитатель первобытных лесов, еще не испорченных человеком. Казалось, будто кроны деревьев составляли особый слой воздушной растительности, покоящейся на прямых и ровных пепельно-серых стволах. Там, вверху, среди переплетающихся между собою густо облиственных ветвей обитают четвероногие: рысь, куница, росомаха, белка, соболь — и птицы: филин, сова, ореховка, желна, сойка, поползень и дятел. По соседству с ильмом и тополем в лесной тени виднелся мелколистный клен с пятилопастными остроконечными листьями, уже начавшими краснеть. По берегам реки появилась спирея (иволистная) с мелкими цветами, сидящими на стебельках в виде розовых помпонов. Тут же росла сорбария обыкновенная — довольно высокий кустарник с узловатыми ветвями, перистыми листьями и с ароматными белыми соцветиями в виде пышного султана, на которых всегда держится много насекомых. Ближе к воде рос бледно-зеленый бальзамин-недотрога — оригинальное растение с травянистыми стеблями и жирными листьями. Название недотроги он получил оттого, что плоды его при малейшем к ним прикосновении лопаются с легким треском и разбрасывают семена в стороны. Вейника тоже стало больше. Он рос вместе с полынью обыкновенной, листья которой издают приятный запах. Полынь уже отцвела; большие метелки ее стали блекнуть и подсыхать. Отмели реки были декоративно украшены большими листьями знакомого нам белокопытника. Теперь он уже стал грубым и приобрел какой-то неприятный горьковатый привкус. Но самым красивым растением, невольно приковывающим к себе внимание, был папоротник-страусопер, громадные листья которого действительно напоминали страусовые перья и вполне оправдывали данное ему название. Целый ряд признаков указывал, что Анюй недалеко. Вдали во мгле виднелись горные хребты, которые шли в направлении, перпендикулярном долине реки Дынми. Весь день стояла переменная-погода. Несколько раз принимался идти дождь, и только к вечеру небо немного очистилось. Мы не дошли до устья нескольких километров и встали биваком на правом берегу реки, которая делала тут изгиб. С одной стороны выступала большая отмель, а с другой был обрывистый берег. Вода подмывала его, отчего некоторые деревья росли в наклонном положении. На песке было много медвежьих следов. Орочи стали устраивать бивак, а я взял ружье и пошел по отмели. Один след показался мне каким-то странным. Медведь, оставивший отпечатки своих лап, должен был иметь длинное тело и короткие ноги. Он ходил по отмели взад и вперед и убежал, как только заметил наши лодки. Сначала я шел быстро, ломая кусты сорбарии, но потом умерил шаг и старался идти возможно тише. Один раз мне показалось, что я видел зверя: что-то темное мелькнуло впереди. Другой раз до слуха моего донесся шорох в кустах. Следы вывели меня на реку и оборвались у воды. Досадно мне стало, что не удалось догнать зверя с уродливыми ногами. Я присел на берегу, чтобы отдохнуть немного. Должно быть, солнце спустилось за горизонт, потому что вдруг сделалось сумрачно и прохладно. В это время над рекой появился туман. Белые длинные клочья его тянулись кверху и принимали фантастические очертания. Среди глубокой тишины, царившей в природе, я слышал биение собственного сердца. На темной поверхности воды появились круги. Какая-то рыба хватала ртом воздух. Вдруг что-то булькнуло у самых моих ног. Большая лягушка прыгнула с берега, но тотчас всплыла наверх и уставилась на меня своими выпученными глазами. Тогда я поднялся с валежины и направился к биваку. На отмели я застал Геонка. Он вышел со стороны и, по-видимому, тоже возвращался на бивак. Я окликнул удэхейца. Он обернулся и замер в неподвижной позе. Когда я подошел к нему вплотную, то увидел, что он смотрит куда-то мимо меня в пространство. В глазах его я прочел удивление и страх. Я оглянулся. Туман на реке исчез, и только около кустов с левой стороны реки держался один обрывок его, густой и белый. Он похож был на человека в длинной одежде, с рукой, поднятою как бы для нанесения удара. Голова привидения казалась закутанной в вуаль, концы которой развевались по воздуху. — Ыи ганиги-и-и![324] — громко воскликнул Геонка с таким видом, как будто он нашел наконец разгадку явления. Ниги! — подхватило лесное эхо. Как бы испугавшись человеческого голоса, туманная фигура сжалась, затем снизилась к воде и пропала. Последний обрывок тумана растаял в воздухе. — Зачем его сюда ходи? — сказал удэхеец в раздумьи, направляясь к палаткам. Когда мы пришли на бивак, он оживленно начал говорить орочам о видении. Те слушали с большим вниманием, задавали вопросы и вставляли свои замечания. После ужина я стал расспрашивать Геонка о том, что такое ганиги. Удэхеец сказал, что этим именем называются женщины, живущие в воде. Они очень красивы и имеют рыбьи хвосты. Иногда ганиги выходят изводы голыми или в одежде, сотканной из тумана. Они зовут человека по имени и называют его род. Такой человек непременно утонет! Меня поразило в описании ганиги сходство с русалками. Сходство не только общее по смыслу, но даже и в деталях. Откуда оно? Может быть, русалки и ганиги зародились где-нибудь в Средней Азии в древние времена. Отсюда они попали на запад к славянам и на северо-восток к удэхейцам. Долго еще туземцы беседовали на эту тему. Они говорили, что ганиги любят приставать к людям, они манят их к себе и если рассердятся, то угоняют рыбу, ломают лодки, портят сети, уносят остроги. Иногда их видят плывущими по реке на буреломе или в лодке. При встрече с человеком они уходят в воду или растворяются в воздухе, как туман, и становятся невидимыми. Чтобы прогнать ганиги, надо крикнуть или выстрелить из ружья. Разговоры эти затянулись до полуночи. Перед тем как ложиться спать, туземцы на всякий случай подтащили лодки поближе к костру и решили всю ночь поддерживать большой огонь.Глава седьмая. Верхний Анюй
Тридцатого июля мы вышли на Анюй. Я не узнал места впадения Дынми. Раньше она бурливо вливала воды свои у подножия скалистой сопки, а теперь устье ее переместилось на полкилометра к югу. Старое русло было занесено галькой и уже успело зарасти молодым лесом. Видно было, что река дважды меняла свое направление. Теперь Дынми вливалась в Анюй тихо и спокойно. От старого русла ее отделяет большая галечниковая отмель. Здесь в амбаре я нашел свою базу, любезно устроенную мне инженером Мазуровым, и его письмо от 2 августа, которым он извещал меня, что по реке Тормасунь нельзя идти вследствие большой воды. Около устья Анюя мы сделали дневку. День выпал, как нарочно, солнечный и теплый. Орочи растянули на гальке палатки для просушки и принялись разбирать имущество, а я направился к Анюю. Я ожидал встретить его бурным, как раньше. Тогда плавание по нему считалось опасным. Помню, в 1908 году мы с величайшим трудом подымались по этой реке. Взять перекат было рискованным предприятием. Я помню страшные водовороты Иока, которые втягивали в себя большие деревья. Во многих местах туземцы не решались плыть на лодках и перетаскивали лодки по берегу. Таков был Анюй лет двадцать назад. Велико же было мое изумление, когда мы дошли до устья Дынми. Последняя встретила Анюй величаво-спокойным. «Глядишь и не знаешь — идет или не идет величавая его ширина. Ни зашелохнет, ни прогремит». Я не узнал Анюй. Географически — это он, а по характеру — совсем другая река. В 1908 году я назвал его бешеным и весьма опасным для плавания, а теперь, в 1927 году, я увидел спокойную, тихую реку, вполне доступную для сплава леса. В 1908 году в верховьях вода шла двенадцать, а внизу десять километров в час. Теперь течение значительно ослабело: вверху оно равняется восьми, а внизу шести километрам в час. Эту перемену в режиме реки заметили и туземцы. Они говорят, что ее течение стало спокойнее, истоки доступнее, равно и спуск по воде тоже лучше и безопаснее. Если раньше по реке они спускались в два дня, то теперь на такое плавание нужно трое с половиной и даже четверо суток. Что за перемена произошла с Анюем? Причин может быть только две: или стало меньше воды, или произошло выравнивание дна. Вечером перед сумерками мы сидели на берегу реки и говорили о том, что, по-видимому, какие-то силы нивелировали дно реки. Как бы в подтверждение моих слов со стороны Анюя послышался странный шум, похожий на подземный грохот. Шум этот возник выше по воде. Он то усиливался, то замирал, то неожиданно снова поднимался и приближался к нам. Это был рев, стенание и «скрежет зубовный». Когда шум поравнялся с нами, стало ясно, что вода по дну влекла какую-то большую тяжесть — несомненно, каменную глыбу, быть может, в несколько тонн величиною. Затем шум этот прекратился. Трудовой день кончился, я возвратился на бивак, орочи принялись готовить ужин. Скоро весь табор погрузился в сон. Мне не спалось. Ночь выпала на редкость тихая и спокойная. Темное небо, усеянное миллионами звезд, казалось беспредельно глубоким. И вдруг опять этот шум: глухой и могучий, таинственный и грозный! В ночной тишине он показался очень резким. Очевидно, вода подмыла ложе каменной глыбы и снова стала увлекать ее вниз по течению. И опять он то затихал, то усиливался, то совсем сходил на нет. Из соседней палатки вышел Намука. Его тоже разбудили страшные звуки. На биваке они не вызвали переполоха, но в одиночестве, среди безмолвной тайги такой шум способен взволновать душу дикаря, у которого нет другого объяснения, как вмешательства сверхъестественной силы. Подобный шум, которому мы сами можем дать лишь гадательное объяснение, способен произвести сильное впечатление и на образованного человека. Что же говорить про туземца, видящего во всем козни злого духа! Во многих местах края за последние двадцать лет произошли большие изменения. Там, где были скалы, появились осыпи, и русла рек переместились в стороны. В данном случае тоже произошло выравнивание дна большой горно-таежной реки. Некоторые протоки занесло галькой, водовороты исчезли. Школа Лайеля учит нас, что все изменения в природе происходят медленно, почти незаметно для глаза в течение многих веков, тысячелетий. Песчинку за песчинкой наносит вода и капля по капле долбит камень. Если же мы не замечаем этого, то потому только, что жизнь наша коротка, знания ничтожны и равнодушие велико. Под влиянием воды и атмосферных агентов лик земли претерпевает большие изменения. Через двадцать — тридцать лет туземцы не узнают мест, посещенных ими ранее. С исчезновением лесов разрушения на земной поверхности могут происходить гораздо быстрее. Геологические часы Лайеля не имеют ровного хода; они идут скачками и временами требуют поправок на катаклизмы Кювье. Сихотэ-Алинь в верховьях Хора и Анюя представляет собой сильно размытую горную страну. Здесь залегают пять параллельных хребтов, очень древних и расположенных высоко над уровнем моря. Эти горные складки обусловили направления рек по межскладочным долинам и долинам прорывов. Если забраться в самые истоки Хора и там спросить проводника, на какую реку можно выйти, если пойти через сопки вправо, тот ответит: «На Анюй», а если идти через горы влево, то получите тот же лаконичный ответ: «На Анюй». Значит, верховья Хора являются «объемлемыми», а верховья Анюя «объемлющими». Самой восточной горной складкой будет Сихотэ-Алинь, самой западной — водораздел между Хором и истоками Немпту и Мухеня, впадающих в Амур с правой стороны ниже Хабаровска, на которые мы и держали свой путь. В верховьях Анюя горы невелики; они имеют вид пологих холмов с широкими седловинами и представляют собой прекрасный образец эрозийного ландшафта. Отсюда Анюй сначала течет на юго-запад, потом немного на юго-восток, затем поворачивает на северо-восток, каковое направление и сохраняет до приема в себя с правой стороны реки Дынми. В верхнем течении Анюй мелководен. Множество порогов делают плавание по нему чрезвычайно опасным. Туземцы заходят туда только зимой по льду реки. Долина как таковая отсутствует, сопки поднимаются прямо из воды крутыми склонами или совершенно отвесными скалами, чередующимися в шахматном порядке то с одной, то с другой стороны. Местами падение дна реки прямо заметно на глаз. Только один раз удэхейцы сделали попытку забраться в самые верховья Анюя. Они спустились вниз по воде с соблюдением всех предосторожностей, сдерживая лодку ремнями и перетаскивая ее волоком через камни и т. д. Попытка эта стоила им одной человеческой жизни. В истоках Анюй слагается из трех горных ручьев. Место слияния их называется Элацзаво. Отсюда, если идти вниз по течению, Анюй принимает в себя следующие притоки: слева Сагдыбяза, Микингали, Бомбрли и Тоуса 1-я, а справа — Иокобязани, Удзяки, Тоуса 2-я и Дынми. Против Иокобязани в скале есть пещера. В глубине ее слышны разные крики, и сверху сыплются камни. Это жилище одного из самых страшных злых духов — какзаму. Проходя мимо пещеры, охотники стараются не шуметь и не разговаривать. Другой замечательной рекой будет Бомболи, берущая начало с высокого горного хребта Тальдаки-Янгени, служащего водоразделом между Хором и Анюем. Вся долина Бомболи завалена большими круглыми камнями, благодаря чему она и получила свое настоящее название. Зимою из-под камней выходит пар, и вода в ней никогда не замерзает. Немного ниже Микенгали на Анюе есть очень красивый водопад. Здесь во всю ширину реки дно обрывается уступом, с которого масса воды свергается вниз с большим шумом. У подножия уступа образовался глубокий водоем, в котором осенью держится много кеты. Тридцать первого июля мы расстались с рекой Дынми и поплыли вниз по Анюю, который на протяжении по крайней мере сорока километров проходит среди ущелий. Долина его имеет крайне изломанный характер и обставлена высокими скалистыми сопками. Это типичная денудационная долина, в которой более или менее широкие котловины чередуются с узкими проходами, удачно названными русскими щеками. По руслу, сжатому с обеих сторон, река силою проложила себе дорогу. Приближаясь к порогу, река начинает волноваться и гневно роптать, затем ропот ее превращается в грозный рев; вода стремительно несется вниз, прыгает по камням и бьется о прибрежные утесы, как бы желая раздвинуть их в стороны. Заслышав такой шум, орочи встают в лодках, разбирают шесты и пытливо всматриваются вперед, прикрывая рукой глаза от солнца. Один из порогов был особенно опасен. Три ряда камней шли поперек реки так, что один из них — средний — примыкал к левому, а два других — к правому берегу. Задержав улимагды носом против воды, орочи начали спускать их по течению в первый узкий проход. Когда камни были обойдены, они продвинули лодки поперек реки вправо, пока не подошли ко второму проходу. Здесь опять спустили лодки по воде, опять передвинули их боком влево и благополучно вышли из каменных ловушек. Когда течением несколько отнесло нас от камней, туземцы уложили шесты так, чтобы они были под руками, разобрали весла и уселись на свои места. По среднему течению Анюя произрастают хорошие смешанные леса, состоящие из хвойных и широколиственных пород. Здесь впервые мы встретили корейский кедр, сначала одиночными экземплярами, а потом и более частыми насаждениями. Обычно ствол кедра в верхней части разделяется на несколько ветвей; они поднимаются кверху одним пучком, по которому издали всегда можно отличить кедр от ели и пихты. Кроме тополя, ясеня и ильма, здесь же рос монгольский дуб, сохраняющий листву до весны, пока новые почки не сбросят их на землю. Возможно, что этот дуб раньше был вечнозеленым деревом. Местообитанием дуба были солнечные склоны гор. Тут же вперемежку с дубом нашла себе приют черная береза. Уже одно название ее указывает, на что следует обратить внимание. И действительно, ствол ее покрыт блестящей темно-бурой корою, которая, растрескиваясь, образует нечто вроде твердо сидящих чешуй. У черной березы совершенно иное расположение ветвей, что резко отличает ее от плосколистной и каменной берез, описание которых приводилось выше. В сообщество с перечисленными древесными породами вошла и амурская липа с толстыми приземистыми стволами и большими узловатыми ветвями. Если дуб и черная береза избрали себе южные склоны гор, то липа спустилась ниже, где толще были слои наносной земли; но в то же время она сторонилась других деревьев, которые могли бы затенить ее от солнца. По уремам появились в изобилии высокоствольные тальники (ива корзиночная), образовавшие местами целые рощи. Ветви их поднимаются от самого комля и идут кверху вдоль ствола, отчего деревья имеют вид пирамидальных тополей. Повсюду стали попадаться высокие кусты лещины маньчжурской, орехи которой покрыты длинными колючими чехликами в виде трубок. Описание подлесья было бы неполное, если бы мы не упомянули о лимоннике китайском, взбирающемся по кустам и стволам деревьев поближе к свету. Его можно узнать по красным ягодам, висящим небольшими плотными кистями, и по приятному запаху, который издают его стебли в местах свежих изломов, действительно своим ароматом напоминающие лимон. В сырых местах виднелись пышные заросли папоротников (осмунда коричневая) с грубыми плойчатыми листьями, нередко вытесняющие всякую другую растительность, и другой вид (кочедыжник женский) с более изящными и нежными листьями, на которых поры (с исподней стороны) расположены не по краям лепестков, а посредине их. Здесь было много и других интересных растений, описание которых отняло бы много времени и места. Все они уже отцвели и обсеменились. Вегетационный период приближался к концу. Деревья еще не утратили своего летнего наряда, но листва их уже начала блекнуть и разукрашиваться в яркие осенние тона. Весь день мы плыли по Анюю, любуясь скалистыми берегами, лесистыми островами и пенящимися порогами. Утесы на гребнях гор имели вид старых замков, разрушенных временем и покинутых людьми. Лодки наши, влекомые течением, плыли посредине реки, но иногда так близко проходили около берегов, что вынуждали нас пригибаться книзу, чтобы не задеть головами за ветви и стволы деревьев, низко склонившихся над водою. Мы сидели тихо и внимательно посматривали по берегам. Один раз нас обогнал какой-то небольшой пернатый хищник. Он летел совсем низко над водою, почти без взмахов крыльями. Хутунка стрелял его влёт и убил. Вынутая из воды птица оказалась черноухим коршуном. Он имел рыжевато-бурое оперение, темноокрашенную голову и вырезанный в середине хвост. По словам туземцев, этот коршун питается дохлой рыбой. Иногда он поднимается высоко на небо и оттуда падает камнем вниз, но, немного не долетев до поверхности воды, ловко изворачивается и вновь взлетает кверху. Около полудня мы сделали привал. Выйдя на берег, я услышал в соседних кустах пронзительные крики сойки и скоро увидел ее самое. Она имела красивое рыжевато-красное оперение с голубыми и черными зеркальцами на крыльях и хохол на голове. Сойка, воровски озираясь по сторонам, все время прыгала с ветки на ветку, иногда выскакивая наружу, и опять проворно пряталась в чаще. Во вторую половину дня я заметил двух речных зуйков — чрезвычайно миловидных птичек с темным и белым оперением, по внешнему виду похожих на куличков, только с короткими клювами. Они быстро бегали по песчаной отмели и что-то клевали у самой воды. Время от времени останавливались и грациозно помахивали своими хвостиками. Когда лодки подошли совсем близко, они сначала отбежали от приливной волны, потом поднялись на воздух, перелетели к другому берегу и низко над водой понеслись вдоль реки. Незадолго до сумерек мы стали выбирать место для бивака. С правой стороны высились мрачные утесы, а слева тянулся низменный берег, заросший молодым ивняком. В одном месте была глубокая заводь, весьма удобная для стоянки лодок. Тут же на берегу валялось много сухого валежника. Орочи принялись ставить палатки, а я пошел немного по отмели к лесу. На берегу сухой протоки я увидел еще одну птицу — восточносибирского погоныша, называемого местными жителями болотной куницей. Погоныш ведет уединенный образ жизни. Весь день он скрывается в зарослях и только перед сумерками решается выходить на открытые места. Осторожная и неуклюжая птица эта, довольно бесцветная, серо-бурая, с желтым клювом и большими ногами, шла как-то сгорбившись и вытянув вперед шею. Я сделал неосторожное движение. Погоныш испугался, неловко взметнулся кверху и полетел, как-то странно болтая крыльями и ногами. Просто даже не верится, что он может совершать перелеты осенью и весною на большие расстояния. Вечером, после ужина, мы все рано разошлись по палаткам. Я тоже залез в свой комарник и погрузился в дремотное состояние. Проснулся я часа в четыре утра. Не хотелось мне будить своих спутников, не хотелось одеваться, и потому я терпеливо лежал на своем жестком ложе, думал о пройденном пути и соображал свой дальнейший маршрут. Вдруг вся палатка разом осветилась, словно вспыхнула молния, и вслед за тем, через полторы-две минуты, по лесу прокатился какой-то гул: точно удар грома или отдаленный пушечный выстрел. Тогда я приподнял полу палатки и выглянул наружу. На земле было еще темно, но на восточном горизонте как будто начинало брезжить. Несколько ярких звезд мерцало над рекою. На противоположном берегу два высоких кедра стояли неподвижно и тоже как будто прислушивались к странному шуму, всколыхнувшему сонный воздух. Прошло еще несколько минут. Великое безмолвие снова овладело землей. В соседней палатке кто-то храпел. Костер на нашем биваке совсем почти погас; только одна головешка еще тлела в золе. Обильная роса смочила полы палатки. Что же это было? Может быть, в самом деле молния и удар грома, может быть — падение болида[325] на землю. Я очень пожалел, что не адресовался к секундной стрелке часов тотчас после вспышки света. Тогда можно было бы определить, как далеко от нашего бивака находилось то место, откуда пришел этот гул. Я почувствовал, что прозяб. Тогда я встал и развел большой огонь. Через полчаса проснулся Мулинка. Он тоже слышал удар грома и думал, что надвигается гроза. Наши голоса разбудили остальных людей. Когда совсем рассвело, мы были уже в дороге. Все большие притоки Анюя находятся в среднем его течении и располагаются так: Дынми и Гобилли — с правой стороны, а Поди и Тормасунь — с левой. Река Поди невелика. В проекции она вместе со своим притоком Тальки образует фигуру, похожую на цифру «четыре». По ней против воды на лодках можно подниматься четверо суток и затем надо еще два дня идти пешком до перевала на реку Хор. В долинеТальки старое пожарище. Здесь держится много сохатых. Река Гобилли больше Поди. Она течет вдоль Сихотэ-Алиня и несколько под углом к нему с северо-востока. В основе строения долины залегают какие-то пестрые с черными прослойками метаморфизованные горные породы[326], пронизанные жилами молочно-белого кварца, окрашенного в ржаво-красные, голубые, желтые и зеленоватые тона. На половине пути между истоками Гобилли и ее устьем, но ближе к Анюю есть три водопада. Выше последнего по всем правым притокам будут перевалы на Хунгари, а по всем левым — в бассейн реки Хуту, впадающей в Тумнин. Первый левый приток между вторым и третьим водопадами удэхейцы называют Чжанге-уоляни, что значит — «речка, ведущая на перевал, по которой прошел Чжанге». Этим именем, каковое и удержалось до сих пор, они назвали меня в 1908 году. Тогда я со своими пятью спутниками вышел на реку Буту и потерпел там аварию. Без оружия и продовольствия, с большими лишениями мы добрались до реки Хуту, где, наверно, погибли бы с голоду, если бы не случайная встреча с орочами. На Гобилли мы теперь не задерживались, поплыли дальше и 1 августа после полудня подошли к реке Тормасунь. Здесь на большой галечниковой отмели мы застали две удэхейских семьи. Все мужчины из рода Кялондига зачем-то ушли на Амур, а дома остались только женщины и дети. Среди них была одна старуха лет семидесяти. Несмотря на свой преклонный возраст, она сохранила живость движений, хорошее зрение и слух. По тому, как она делала распоряжения и как приказания ее исполнялись, видно было, что она пользовалась среди других женщин большим авторитетом. Старуха расспрашивала сопровождавших меня туземцев о том, как мы шли и как живут копинские орочи. Я велел своим спутникам готовить обед, а сам отправился на ближайшую горелую сопку, чтобы с вершины ее взглянуть на реку Тормасунь. От непрекращающихся дождей она вышла из берегов и с такой силой выносила свою мутную воду в Анюй, что прижимала течение последнего к противоположному берегу. Тормасунь (удэхейцы называют Тонмасу) такой же величины, как и Гобилли, и течет по отношению к Анюю под острым углом, почти в широтном направлении. С правой стороны она принимает в себя три небольших притока: Томчу, Ялу и Сизюку, а с левой стороны — одну только речку Мангни. Из всех притоков Анюя Тормасунь считается самым быстрым. Подъем против течения по нему возможен только в сухое время года. Если вода в реке хоть немного подымется выше своего обычного уровня, пороги и каскады ее делаются недоступны. На подъем против воды тратится до девяти суток, но зато перевал на реку Сор настолько невелик, что люди предпочитают перетаскивать через него лодки, чем по ту сторону делать новые. Женщина с ребенком на руках переходит от реки Тормасунь до реки Сор в один день, а мужчины в то же время с котомками за плечами успевают сделать три конца. Все это было крайне заманчиво, но большая вода наложила запрет на Тормасунь. Горная сопка, с которой я теперь обозревал окрестности, лет десять назад была покрыта большим хвойно-смешанным лесом. После пожара много стволов осталось стоять на корню и еще больше их валялось на земле. Теперь здесь разрослась актинидия коломикта. Она обвивала сухостойный бурелом, перекидывалась на кусты и местами образовывала такие заросли, что я неоднократно должен был прибегать к помощи ножа, чтобы освободиться от опутывавших меня длинных гибких лиан. Актинидия коломикта дает очень вкусные сочные плоды, которые русские переселенцы называют кишмишом. Интересно также отметить окраску листьев этого оригинального растения. Полностью или частично они утратили зеленый цвет и сделались белыми, бледно-розовыми и пурпурными. Может быть, окраска эта служит для насекомых приманкой к невзрачным белесоватым цветам, скрытым под листвою. Увидев издали розовые и белые блики, шмели принимают их за цветы, а приблизившись к ним, находят истинные цветы по запаху, который они выделяют. Выйдя из зарослей, я вступил в живой лес и остановился, чтобы передохнуть. В это время я увидел небольшое животное с блестящей черно-бурой шерстью, таким же темным и довольно пушистым хвостом. Изящная остромордая головка зверька сидела на соразмерно длинной шее, нижняя часть которой и грудка были окрашены в желтый цвет с зеленоватым оттенком. Я тотчас узнал куницу. Она пробиралась по валежине несколько наискось к моему пути. В движениях ее было много грациозного и кошачьего. Куница меня не видела и держала себя непринужденно. Я решил наблюдать за ней. Однако она вскоре заметила меня, остановилась, затем осторожно опустилась на брюшко и припала к колодине вплотную. Общая окраска животного до того подходила под цвет темной коры дерева, украшенной желто-зеленым мхом, что если бы я не видел его раньше, то мог бы пройти мимо и не заметить. Своими черными глазами куница смотрела на меня в упор. Я совершенно не хотел лишать жизни это грациозное животное и любовался им несколько минут. Быть может, куница думала, что я ее не вижу, и потому притаилась. Желая проверить это, я сделал движение рукой — зверек не шелохнулся. Я сделал шаг, другой — он еще плотнее прижался к дереву. Случайно я задел ногою длинную тонкую ветку, конец которой лежал как раз на колодине около животного. Куница испугалась и с поразительной быстротой взобралась на высокий кедр. Как потом я ни всматривался, увидеть ее больше не мог. Может быть, в стволе дерева было дупло, в котором она и спряталась. Через полчаса я был около удэхейских юрт. Мои спутники уже пообедала и ждали только моего возвращения. Посоветовавшись с орочами, я решил спуститься еще немного по Анюю до местности Кандахе и там задержаться на несколько суток. Была надежда, что за это время спадет вода и, может быть, явится возможность идти вверх по реке Тормасунь. Для этого надо было пополнить запасы продовольствия. Кроме того, необходимо было приодеть своих туземцев. Они сильно обносились, а путь предстоял еще длинный, еще более трудный и опять-таки по местности совершенно безлюдной.Глава восьмая. Наводнение
Между рекой Тормасунь и местностью Кандахе, ближе к последней, на возвышенном правом берегу Анюя стоит покинутый дом, который удэхейцы называют «доке». Спускаясь к реке, я решил его осмотреть и велел пристать к берегу, а другой лодке идти дальше и устраивать бивак где-нибудь ниже. Орочи ловко повернули улимагду и, пройдя на шестах против воды метров двадцать, причалили к высокому яру. Они тотчас достали свои трубки и стали курить, а я по тропе, уже заросшей травою, подошел к дому. Он был деревянный, но срубленный чисто. Углы его были аккуратно вытесаны; верхний тесовый край около крыши, а равно и карнизы окон украшены резьбою. Дом был расположен вдоль берега и передним фасадом обращен к реке. С лицевой стороны он имел три окна, слева — одно окно и справа — дверь. Хорошо пригнанные рамы во многих местах еще сохранили стекла; потолок и пол были плотно сколочены и не имели щелей. Справа от входа стояла железная печь, а за ней тянулись длинные деревянные нары. Кое-какие вещи лежали на полках и были разбросаны по полу. Получалось впечатление весьма поспешного отъезда, похожего на бегство. Приглядываясь к деталям, я узнал работу китайцев. Дом покинули недавно — в прошлом году. Вокруг него выросло много травы. Этот дом принадлежал удэхейцу Маха Кялондига. Он нанял китайцев, и за восемьсот рублей они «срубили ему домик на славу». Но недолго в нем прожил Маха. С первых же дней, как он поселился в нем, вблизи стали твориться странные вещи: как только люди гасили огни и ложились спать, около дома начинал кто-то ходить, в печной трубе слышались вздохи, в лесу раздавались голоса, и кто-то пронзительно свистал. Уже это одно указывало Маха, что место для дома было выбрано неудачно, и он начал жалеть о затраченных деньгах. Осенью появились новые нехорошие признаки. Берег, где стоял дом, с незапамятных времен был известен своею прочностью. Никакое наводнение не подмывало его, и в течение многих лет он сохранял свои очертания, а тут вдруг ни с того ни с сего неожиданно обвалился. Маха стал задумываться и поговаривать о том, чтобы весной после ледохода разобрать дом и сплавить его куда-нибудь вниз по реке или продать. Но кто купит дом с такой нехорошей репутацией? Пришла зима, и тут случились два события, которые окончательно решили участь нового дома. Осенью Маха купил лошадь, но не позаботился о заготовке ей корма в достаточном количестве. Когда она стала голодать, он решил ее гнать вниз по реке. Но едва согнал лошадь на лед, запорошенный снегом, как она сразу провалилась и утонула, а сам он еле-еле выбрался из воды. Второе событие принесло еще большее несчастье. Старший сын Маха, молодой человек двадцати двух лет, по имени Гяма, пошел с двумя товарищами на охоту. На свежевыпавшем снегу они нашли следы рыси и стали ее преследовать. Рысь, спасаясь от охотников, взобралась на большую сухую ель, выросшую среди камней, острые края которых торчали из-под снега. Охотники стреляли и убили животное, но так неудачно, что оно застряло между ветвями и не падало на землю. Оставалось или рубить дерево, или лезть кому-либо на его вершину. Гяма избрал последнее и стал взбираться наверх. Когда он уже был близко к дели, один сучок, на который он оперся коленом, вдруг обломился. Охотник полетел вниз и всей тяжестью своего тела ударился о камни. Он сломал обе ноги, два ребра и спинной хребет. Через полчаса после падения Гяма умер. Товарищи доставили его тело домой. На другой день после похорон сына Маха собрал свое имущество, уложил все в нарты и покинул проклятое место навсегда. Новым местожительством он избрал местность Пунчи, где находился старый балаган из корья. В нем я и застал его вместе с семьею. Осмотрев дом, я вышел наружу. Печальный вид имело покинутое жилище. Пусть причиной являются предрассудки, невежество, но все же люди сами, с чувством страха перед неведомым, неизвестным, бежали. Прошлое покинутых домов всегда окружено таинственностью. О них ходят легенды (чем больше дом, тем страшнее легенда), которые со временем забываются или растут и принимают фантастически большие размеры. День клонился к вечеру. Сумрачное небо грозило дождем. В тайге было тихо, а вверху ветер гнал тучи и лохматил их края. Сердитые, темные, они мчались куда-то на северо-восток, как бы с намерением излить всю злобу свою в потоках дождевой воды, и неизвестно было, какие силы гнали их и за какие вины отдавалась земля во власть рассвирепевшей стихии. В это время лесная тишина нарушилась громкими тоскливыми криками. Сначала я думал, что это сова, но потом узнал малую болотную цаплю. С неба упало несколько капель — начал накрапывать дождь. Надо было поскорее добраться до бивака. Шагая по тропе, я чуть было не наступил на большую жабу. Она сидела, расставив передние лапы, как будто подбоченясь. Чувствуя приближение сумерек, она выползла из земли, чтобы насладиться ненастьем и поохотиться за ночными насекомыми. Орочи оттолкнули лодку от берега, и мы поплыли вниз по Анюю. Сумерки быстро сгущались — заметно становилось темнее. Еще несколько ударов веслом, и покинутое жилище скрылось за поворотом. Второго августа одна из лодок с двумя орочами — Геонка и Хутунка — отправилась вниз по Анюю. Они должны были пробраться на Амур, сделать там необходимые покупки и как можно скорее возвращаться назад. В это время погода испортилась, и снова пошли затяжные дожди, обрекшие нас на бездействие. В эти ненастные дни мы нашли приют в маленьком бревенчатом домике удэхейца Иней Амуленка, расположенном на правом берегу Анюя, в местности, носящей название Кандахе. Около дома стояли амбар на сваях и юрта из корья — первобытные постройки, с которыми туземцы никак не могут расстаться, даже в том случае, когда заимствуют более совершенные жилища у русских и китайцев. Семья Иней Амуленка состояла из его жены, взрослого женатого сына Тунси, его свояченицы, двоих детей и малолетней родственницы, которая жила у него в качестве приемыша. Иней был мужчина лет шестидесяти, довольно высокого роста, сухощавый. Лицо его было немного скуластое, и нос с ясно выраженной горбинкой. Небольшие усы и небольшая козлиная борода указывали на его южное происхождение. Так оно и было. Из расспросов выяснилось, что Иней родился в южной части Уссурийского края. С малых лет он терпел жестокие притеснения от китайцев, систематически обиравших его отца. После смерти родителей манзы за долги объявили его да-хула-цзы, т. е. вечным даровым работником. Тогда он бежал на север. Долго Иней плыл морем вдоль берега, прятался среди скал, спал без огня и питался тем, что попадалось ему под руку на намывной полосе прибоя: мелкие крабы, морские ежи, раковины, береговички, яйца птиц и т. п. Через месяц он добрался до реки Копи и поселился около притока Бяпали. Здесь Иней женился. Когда же на Копи началась рубка леса, он перекочевал на Анюй, в местность Кандахе, где и прожил около десяти лет. На Анюе Инси считался одним из самых сильных шаманов. Он имел шаманский костюм с головным убором и шаманский бубен в берестяном футляре, на котором красной и черной красками изображены были различные животные, «помогающие» ему при камлании. От своих притеснителей-китайцев он научился земледелию. Около его дома мы нашли небольшой огород, на котором были посажены картофель, табак, стручковый перец и китайская капуста. Этот огород доставлял немало хлопот Иней. В окрестностях бродило много кабанов. Они часто навещали Кандахе и чинили потравы. Тунси вырыл ловчую яму и поймал в нее супоросную свинью, которая принесла ему много поросят. Это были очень милые подвижные животные рыжеватого цвета, с продольными черными полосами вдоль всего тела. Молодые кабаны очень привязались к людям и все время лезли в дом, что тоже доставляло немало хлопот женщинам, постоянно гнавшим их на двор. Не только кабаны, но и медведи, и тигры частенько подходили к дому вплотную. Один раз два мальчика восьми и десяти лет пошли на охоту за рябчиками. Шагах в полутораста от дома проходила старая сухая протока. Мальчики туда и направились. Когда они вошли в старицу, то неожиданно наткнулись на тигра. Зверь уставился на них своими желто-зелеными глазами. Тогда старший из мальчиков выстрелил в него дробью. Тигр затряс головою и убежал. В перерыве между дождями мы совершали экскурсии и уходили иногда далеко от дома. Десятого августа утро было ненастное, но потом погода как будто стала немного разгуливаться. Вынужденное сидение на одном месте всем очень надоело. Поэтому, как только выглянуло солнце, Кардаков взял свой фотографический аппарат и поехал за Анюй, а я направился в сторону от реки с намерением достигнуть края долины. Путь мой пролегал по большому лесу, состоявшему из даурской лиственницы, аянской ели, белокорой пихты, корейского кедра, душистого тополя, маньчжурского ясеня, амурской липы, монгольского дуба, горного ильма и черной березы. Кроме того, здесь произрастал акатник — небольшое деревцо, ствол которого имеет сердцевину красно-коричневого цвета, окруженную желтой заболонью. Древесина акатника настолько тверда, что об нее тупятся топоры. Коричневая шелушистая кора и средней величины овальные кожистые листья, белесоватые с исподней стороны, дадут читателю некоторое представление об этом деревце, названном в честь известного исследователя Маака. По соседству с акатником виднелся маньчжурский орех — родной брат грецкого ореха. Это одно из самых красивых деревьев в Уссурийском крае. Большие листья его расположены по концам ветвей, а орехи с толстой кожурой окружены мясистой зеленой оболочкой с остроконечными выступами. Древесина здешнего ореха считается весьма ценной. Там и сям виднелись светло-серые стволы пробкового дерева, называемого русскими бархатным. Под упругой морщинистой корой его лежит, слой заболони ярко-желтого цвета, а листья по внешнему виду несколько напоминают иву или рябину. Весной оно одевается зеленью позже всех. На Анюе мы застали его уже с черными ягодообразными плодами, издающими своеобразный резкий запах. На солнцепеках по каменистым местам росла группами и в одиночку колючая аралия, имеющая вид пальмы с перистораздельными листьями в метр величиною. Ствол ее достигает высоты от трех до пяти метров и сплошь усажен большими острыми шипами; из самой середины листвы поднимается кверху большое бело-желтое соцветие. Аралия тоже отцвела и готовилась осыпать свои семена на землю. Но самым красивым растением в долине Анюя бесспорно был амурский виноград. Местами он так опутывал кусты и деревья, что за листвой его, уже окрашенной в нежно-розовые тона, положительно не видно было, кого именно он избрал своей опорой, чтобы подняться повыше к солнцу. Если ему мало было места, он перебрасывался на соседнюю растительность, цепляясь усиками за ветви деревьев, или свешивался вниз длинными гирляндами. Плоды у него уже начали созревать и приобрели синеватый оттенок. Я старался выбирать места открытые, где меньше было валежника. Попутно я заметил ядовитую белую чемерицу с грубыми плойчатыми листьями, космополитичный папоротник орляк обыкновенный, листья которого действительно похожи на крылья орла, и маньчжурский ландыш, который ничем не отличается от европейского вида. Тут было много и других цветковых растений, которые мне не были известны. Я не задерживался около них и шел дальше. В августе в тайге всегда появляется много пауков темно-бурого цвета. Некоторые из них достигают довольно больших размеров и имеют брюшко величиной с медную двухкопеечную монету и ножки толщиной в спичку. Между деревьями они натягивают свои тенета и сидят в самой их середине в хорошую погоду и под листвой — во время ненастья. Когда идешь по тайге, все время натыкаешься на этих, по существу, безобидных и флегматичных животных. Паутина часто садится на лицо, руки, одежду и доставляет много неприятностей. Днем паук сидит неподвижно и как будто спит, но, если тронуть паутину, он немного шевельнет ножками и приготовится к бегству, если это враг, или к нападению, если это насекомое. Паутина его, колесного типа, обычно помещается в большом треугольнике, стенки которого сотканы из таких прочных нитей, что они производят впечатление шелковых, и нужно употребить некоторое усилие, чтобы их разорвать рукою. Я все время придерживался небольшой тропы, которая чем дальше уходила от дома Иней Амуленка, тем становилась все менее заметной. В одном месте я вдруг увидел протянутую поперек ее тонкую нить. Опасаясь, как бы не попасть на самострел, я остановился и стал осматриваться. Скоро все разъяснилось: то, что я принял за волосяную нить, было паутиной длиною в пять метров, а несколько в стороне находился и владелец ее. Большой темный паук неподвижно сидел в самом центре правильного восьмиугольника. Как раз под паутиной была довольно глубокая лужа с чистой прозрачной водой. Я взял прутик и тронул паука. Он шевельнулся и снова замер в неподвижной позе. Тогда я легонько ударил его по брюшку. Паук быстро, точно падая, опустился вниз и повис на паутине, но я оборвал ее. Паук упал в воду и, к великому моему удивлению, пошел на дно, где и притаился. Зная, что все пауки дышат воздухом, я решил понаблюдать за ним и посмотреть, как долго он будет находиться в таком положении. Прошло пять — десять минут, а паук сидел в воде, как будто это была его родная стихия. Я хотел было его опять тронуть прутиком, но вдруг он, словно пробка, всплыл на поверхность и стал загребать ногами, как веслами, направляясь к берегу. Через минуту паук выбрался на сушу и направился к высокому травянистому растению. Это был дудник даурский. Достигнув вершины его, он сел на край плодонесущего зонтика и стал пускать по ветру паутину до тех пор, пока она не зацепилась за одну из основных нитей его тенет. Убедившись, что паутина достигла цели, он подтянул ее немного к себе, затем спрыгнул с растения, покачался в воздухе и стал быстро взбираться наверх. Через минуту паук сидел на том самом месте, откуда я столкнул его в воду. Во всем происшедшем интересными являются три момента: первый — способность паука долго быть под водой, второй — способность его изменять удельный вес своего тела и по желанию тонуть в воде и всплывать на поверхность и третий — чувство ориентировки по отношению к своей паутине, ветру и растущим поблизости растениям. Я не стал больше беспокоить паука, обошел его тенета и начал подниматься на сопку. Дождевая вода сбегала по склону горы многочисленными струями. Они соединялись в ручьи и шумными каскадами стремились книзу, словно опасаясь опоздать к наводнению, признаки которого были уже налицо. Ожили старицы и сухие протоки; в лесу вода появилась в таких местах, где ее совсем нельзя было ожидать. По небу двигались большие кучевые облака и заслоняли собою солнце. Сильно парило. Я несколько раз садился на колодник и рукавом рубашки обтирал свое лицо, с которого обильно струился пот. Наконец я достиг вершины. Передо мною развернулся угрюмый горный ландшафт. Весь юго-восточный склон неба был закрыт тучами. На переднем плане виднелся край долины реки Анюя, за ним другой хребет, а дальше еще какие-то высокие сопки. Они терялись в косых полосах дождя, которые как бы соединяли небо с землею. Над истоками Анюя, Поди и Тормасуни они были совершенно непроницаемыми. Там, по-видимому, шел сильный ливень. Все это были плохие признаки, грозившие задержать нас на Кандахе на неопределенно долгое время. Но была надежда, что, быть может, погода изменится к лучшему, вода в Тормасуни спадет и мы благополучно достигнем реки Хора. В это время нашла большая туча и заслонила собою солнце. Опять стало сумрачно и снова пошел дождь — мелкий и частый. Тогда я повернул обратно и часа в три пополудни пришел домой, вымокший до последней нитки. К вечеру разразилась настоящая буря. Сильный порывистый ветер ломал ветви деревьев и сотрясал маленький домик до основания. Дождь хлестал по окнам, и слышно было, как вода ручьями стекала с крыши. Мои спутники и туземцы приутихли и молча сидели на нарах. В такие минуты человек сознает свое бессилие перед грозными силами природы, когда они выходят из равновесия и превращаются в ураган, известный у народов Востока под названием тайфуна. С этими мыслями я уснул. На другой день рано утром меня разбудили тревожные голоса людей. Я слышал, как они волновались, что-то носили, бросали; все делалось торопливо, бегом. Я поспешно оделся и вышел из дома. Одного взгляда на протоку было достаточно, чтобы понять, в чем дело. Внешний вид ее изменился до неузнаваемости. Мутная желтая вода прибывала с большой быстротой и распространялась вширь, заливая все более или менее низменные места. По воде плыли ветки, обломанные бурей, и всякий мусор. Люди оттаскивали подальше лодки, уносили весла, шесты и все, что вода могла захватить с собою. Через какие-нибудь четверть часа весь левый берег протоки оказался во власти водяной стихии. Правый берег был выше, но и здесь вода уже заполнила все ложбинки. Она проникала всюду, везде находила лазейки и топила лес. Только небольшая часть этого берега, наиболее возвышенная, в виде «острова печального» поднималась среди обширных «сильвасов». К вечеру вода стала угрожать и нашему маленькому островку. Зальет или не зальет его ночью? Этот тревожный вопрос был написан у всех на лицах. На Анюй страшно было смотреть. Как бешеный зверь, он метался в своих берегах. Огромные желто-пенистые волны с головокружительной быстротой неслись книзу. По реке плыли большие деревья, бороздя дно своими ветвями. Сдвинутые с места камни, увлекаемые водою, тоже катились вниз. Движение их можно было проследить по перемещающимся пенистым всплескам и характерному шуму, похожему на заглушенные взрывы. Наша протока, в обычное время несущая свою воду тихо и бесшумно, теперь заговорила и стала вторить Анюю. По ней бежали бесчисленные водовороты; они зарождались внезапно, быстро двигались вниз по течению и так же внезапно пропадали, чтобы вновь появиться где-нибудь в стороне. Настала вторая ночь. Что принесет нам рассвет? Мне не спалось. Все время у меня из головы не выходили женщины с детьми на галечниковой отмели, около устья реки Тормасунь. Что сталось с ними? Нет никакого сомнения в том, что грозные волны теперь бегут через отмель и юрты их снесены. Лодки туземцев были далеко от жилища. Вероятно, их унесло водою, которая появилась ночью валом, когда все спали. Несомненно также, что сухая протока между отмелью и берегом была мгновенно затоплена и отрезала женщинам путь к отступлению. Добраться до реки Тормасунь в такую воду совершенно невозможно. И при мелководье времени надо на это не менее десяти часов. Да теперь уже было поздно и бесполезно. Единственная надежда на то, что старая женщина была настороже и при первых признаках наводнения заблаговременно подтащила лодки к балаганам. Меня также беспокоила участь орочей, посланных мною к устью Анюя. Вследствие обилия мошки, возможно, они заночевали на гальке. Большая вода могла застать их врасплох и унести лодки. Мучимый этими мыслями, я не мог уснуть. В два часа ночи я оделся и вышел на берег протоки. Поставленная нами еще с вечера водомерная рейка указывала, что вода неуклонно прибывала, хотя уже и не так быстро. Еще пять сантиметров — и наш остров будет затоплен. Полная луна за лесом низко склонилась к горизонту. Лучи ее проникали между стволами деревьев и серебрили быстро бегущую воду в протоках. На чистом, безоблачном небе, таком чистом, точно его вымыли дождями, блестел Юпитер во всей своей ослепительной красоте. Там, вверху, на небе, царило спокойствие, а внизу был хаос. Страшный рев несся со стороны Анюя, и к нему то и дело примешивался грохот падающих деревьев. Одни «питомцы столетий» падали потому, что вода подмыла их корни, другие — под напором плавника. Вдруг откуда-то издали донесся странный гул, похожий на отдаленную пушечную канонаду: где-то произошел обвал. Я прошелся немного вдоль берега, частью уже затопленного, и снова вернулся к водомерной рейке. Она указывала на один и тот же уровень. Вода подступила к самому краю острова и — остановилась. «Есть две страшные стихии, — говорят орочи, — огонь и вода. После пожара остается чистое место, и после наводнения тоже остается чистое место. Будь осторожен и всегда бойся огня и воды». Простая, но жизненная философия. В это время какая-то тень на мгновение закрыла луну. Это был большой филин. Он сел на соседнее дерево и стал ухать. Убедившись еще раз, что подъем воды прекратился, я вернулся в свою палатку и тотчас уснул. Восемнадцать суток продержало нас наводнение на Кандахе. Все эти дни шли дожди, и вода в реке то убывала немного, то прибывала вновь. Потеряв надежду на полный ее спад и уничтожив всю свою питательную базу, я решил спускаться вниз по Анюю с намерением попасть на реку Пихцу через озеро Гаси. Девятнадцатого августа в полдень прибыли наконец Геонка и Хутунка и вместе с ними еще два удэхейца — Миону из рода Кимунка и Гобули из рода Кялондига. Как я и предполагал, наводнение захватило их в низовьях Анюя. В это время они ночевали на островке. Перед рассветом сквозь сон Геонка услышал какой-то шум. Выглянув из комарника, он увидел плывущий по реке тополь, который задел улимагду и потащил ее за собою. Не теряя ни минуты, Геонка выскочил из палатки, бросился в воду и удержал лодку руками. Крики его разбудили других удэхейцев. Опоздай Геонка только на несколько секунд, лодку унесло бы водой, и они погибли бы наверняка. С величайшим трудом пробирались они вверх против течения, где лесом, где вновь образовавшимися протоками, и, пока подымались до Кандахе, съели все запасы, купленные на Амуре. Они прибыли к нам совершенно измученные, голодные и вымокшие до последней нитки. Надо было дать им отдохнуть. Теперь в состав экспедиционного отряда вошли еще два удэхейца. Миону был мужчина невысокого роста, лет тридцати шести. Он был слаб физически, но зато превосходно знал все места в бассейнах Пихцы, Мухеня и Немпту. По цвету кожи, по форме носа, выражению глаз и складу губ Миону больше, чем кто-либо из туземцев, своим внешним видом напоминал индейца. От последних отличался он тем, что любил поговорить. Миону все время рассказывал о том, что он видел в горах, что с ним случилось, говорил о зверях, птицах, о злых духах, которые постоянно мешали ему и заставляли перекочевывать с одного места на другое. Он не выпускал изо рта своей трубки и когда что-нибудь делал, то сильно сопел. Другой удэхеец был среднего роста, хорошего, плотного телосложения, лет сорока восьми. На типично маньчжурском лице Гобули с несколько выдающимися скулами и с выгнутым носом уже появились глубокие морщины, не столько от старости, сколько от жизненных невзгод, которые выпали на его долю. По словам туземцев, это был человек старательный и работящий, но словно какой-то злой рок преследовал его дома и на охоте. Один раз зимой сам он, жена и дети все разом заболели и чуть не погибли от холода и голода. Другой раз на реке Пихце два тигра отняли у него кабана и самого его заставили уйти на реку Хор. Третий раз во время сильного мороза с ветром он провалился в прорубь и чуть было не замерз, пока добежал до дома, и т. д. Гобули, в противоположность своему товарищу, был молчалив и неохотно рассказывал о своих приключениях, которыми была так полна его жизнь. Теперь на Кандахе съехались четыре шамана: ороч Хутунка, удэхейцы Миону и Геонка и сам Иней Амуленка. Следующий день — субботний — мы употребили на сборы, приводили в порядок лодки и приготовляли новые шесты. Незадолго до сумерек мужчины зарезали одного поросенка и собрали кровь его в чашку. Женщины принесли листья багульника и стали их подсушивать на огне, а Тунси кривым ножичком «апили» с сырых тальниковых жердей срезал длинные стружки «кауптеляни». На вопрос Мой, зачем делаются все эти приготовления, он ответил, что вечером все четыре шамана будут камланить. И действительно, когда на западе погасла вечерняя заря, старшая из женщин принесла железную жаровню, сделанную в виде птицы. Она насыпала в нее горящих углей и поставила посредине жилища. Другая женщина вынула из берестяного футляра бубен и стала нагревать кожу его над огнем, время от времени трогая ее колотушкой, чтобы узнать, достаточно ли она натянулась и звонкие ли будут удары. Когда все было готово, Гобули бросил в жаровню несколько сухих листьев багульника. Тотчас весь дом наполнился едким и ароматным дымом. Первым камланить должен был Хутунка. Он надел на голову венок из стружек, подвязал на себя пояс с металлическими конусообразными трубками и позвонками и взял в руки колотушку и бубен. Последний имел овальную форму с большим диаметром, в метр длиною, а колотушка представляла собой тонкую выгнутую пластинку, обтянутую мехом выдры, с ручкой, украшенной на конце резною медвежьей головою. Хутунка встал перед жаровней и некоторое время молчал, закрыв глаза, как бы собираясь с мыслями. Все присутствующие расселись по нарам. Прошла минута-другая, и вот среди всеобщей тишины мое ухо уловило какие-то звуки: Хутунка чуть слышно тянул ноту за нотой, не раскрывая рта. Он постепенно усиливал свой голос и призывал к себе духа севона, помогавшего ему при камлании. Пение его было печальное и монотонное. Понемногу он оживал и переминался с ноги на ногу. К голосу шамана присоединился металлический шорох, издаваемый позвонками. Иногда он вздрагивал, подымался на носки и припадал на колени. Выражение лица его было весьма напряженное. Он говорил несвязные слова, упрашивал и умолял своего духа помочь ему. — Бада ла анчи Тему гаани[327]. Как будто он имел успех, потому что голос его стал более уверенным и более ровным. Минут тридцать Хутунка находился в состоянии такого транса. Постепенно он снижал тон, пение его сделалось медленным и перешло в несвязное бормотание. Он стал тянуть одну-две ноты, не раскрывая губ, постепенно стихая, и все закончил глубоким вздохом. Хутунка отдал бубен и снял позвонки. Потом он лег на нары и больше не вставал совсем. Вторым выступил Миону Кимунка. Он тоже надел на голову повязку из тальниковых стружек и встал перед жаровней с бубном в руках. Стружки длинными спиралями свешивались ему на спину. Пение его было сначала тихое, но потом постепенно усиливалось и превратилось в ропот, протест. Он как будто жаловался на что-то, спрашивал своего духа и вслушивался в его ответы, которые долетали до него как бы издалека. Миону стал изгибаться, сделал шаг, другой, пожимая плечами, и начал плясать. Движения его были плавны и уверенны. Без особого шума и без резких скачков он обошел вокруг жаровни и опять встал на свое место. Он пел и в чем-то настойчиво убеждал своего духа-покровителя, но не плакал, не умолял его, как Хутунка. Под конец камлания Миону не сразу удалось освободиться от севона. Последний, по-видимому, был упрям и долго не хотел оставить общество людей. Дважды Миону кричал: «Эхе-э-э-э!..», то поднимая звук «э» до высокого крика, то снижая его до октавы. Удаление севона отняло столько же времени, как и само камлание. Миону сторонился духа и отталкивал его руками. Наконец севон ушел. Шаман сразу почувствовал облегчение. Измученный до крайности, он положил бубен на пол, снял пояс с позвонками и тоже лег на нары. Теперь пришла очередь Геонка. Этот шаман камланил совсем иначе. Он снял с себя часть одежды. Так же как и другие, украсил себя стружками и взял в руки бубен. Заклинания свои Геонка начал шепотом, который все учащался и становился громче. Он всхлипывал, скрипел зубами и изредка касался колотушкой жаровни с углями. Ноги его стали дрожать все больше и больше, рука тоже стала проворнее бегать по бубну. Дрожание перешло во вздрагивание всем телом, отчего металлические украшения на поясе начали издавать шелестящий звон, который все усиливался и перешел в оглушительный лязг. В момент вселения духа Геонка пришел в большое волнение. С ним начались судорожные схватки. Тело его приобрело удивительную гибкость. Он извивался, как змея; с лица его градом катился пот; потом конвульсивные движения перешли в корчи и в конце концов превратились в самую дикую пляску. Он приседал все ниже и ниже и вдруг сразу подымался во весь рост, и каждый раз, когда нужно было особенно сильно ударить в бубен, он выкрикивал: «Э-з-э-эх!..» Один раз он сделал прыжок через жаровню и нанес такой удар в бубен, что у всех явилось опасение за целость инструмента. Шаман затрясся на месте и завыл волком, весьма удачно подражая зверю. Можно было подумать, что его трясла жестокая лихорадка. Он метался и кричал: «А-ще-то-то-то-то-то!..» Геонка повелевал своим духом, что-то требовал и не хотел слушать никаких его возражений. Камлание оборвалось неожиданно. Когда надо было, он сразу освободился от севона. Он просто отстранил его от себя, прошел мимо и стал раздеваться, затем он выпил ковш воды и лег рядом с Миону и Хутунка. Последним выступил Иней. Он надел на себя специально сшитый шаманский костюм с перьями по швам рукавов, которые должны были изображать крылья, а на голову — убор, имеющий вид шапочки с маленькими оленьими рогами, сделанными из железа. На шее старика был подвязан особый нагрудник с изображением ящериц и лягушек, а на лбу особый козырек с нашитыми на нем шаманскими глазами из разноцветной бумажной материи. С помощью этих матерчатых глаз он мог видеть то, что недоступно простым смертным. И голова, и коса, падающая на спину, и пояс с позвонками, и обувь — все было украшено тальниковыми стружками. Иней сел на особый коврик, на котором двумя большими темными кругами изображалась темная бездна — «сункта». Он прислонил лицо к бубну и стал звать севона. Бубен удачно играл роль резонатора и то усиливал, то ослаблял голос шамана. Дух вселился в шамана быстро и очень шумно. Сильное потрясение на короткое время ввергло старика в беспамятство. С диким воем он затрясся всем телом и запрокинул назад голову. Одна из женщин поддержала его и стала опахивать ему лицо берестяным веером. Минуты через две Иней пришел в себя и помутневшими глазами посмотрел на окружающих. Тогда Гобули взял длинный ремень, изображающий большую змею-кулигасэ. Один конец его он привязал к поясу Иней, а другой оставил у себя в руках, чтобы сдерживать шамана, который в экстазе мог унестись в преисподнюю, откуда нет возврата. Старик вскочил на ноги и завертелся в неистовой пляске. Оглушительные удары в бубен, сильный лязг металлических позвонков и истеричные выкрики шамана — все это создавало такой хаос звуков, что у меня закружилась голова. Старик положительно обезумел. Он кричал на своего севона, грозил ему, обращался с ним как с подчиненным, он старался напугать его своим видом и страшным шумом. От музыки его становилось жутко. Кто знает, что сумасшедшему может прийти в голову! Шаман прыгал, как тигр, он спорил, ссорился и дрался со своим духом. Иней набрал в рот горящих углей и сыпал искрами вправо и влево: это были его молнии, а резкие удары в бубен изображали гром. Гобули поднес к губам шамана чашку с кровью. Он выпил ее залпом и опять завертелся в пляске, как раненый зверь. Было достойно удивления, откуда у этого старого человека бралось столько энергии, столько силы. Он куда-то мчался, кого-то догонял и кричал, что не видит земли, что мимо него летят звезды, а кругом холод и тьма. Тогда на помощь Гобули бросились Миону и Хутунка и делали вид, что изо всех сил сдерживают шамана, летевшего стремглав в потусторонний неведомый мир. Иней потащил их за собой из дома наружу. Я последовал за ними. Месяц был на ущербе. Он только что начинал всходить, но уже терялся за тучей, надвинувшейся с запада. Над большой протокой блистали две звезды — Кастор и Поллукс из созвездия Близнецов. Свет луны уже не проникал в лес. Там был полный, непроницаемый мрак. Где-то далеко вспыхивали зарницы, и тогда на фоне мгновенно освещенного неба резко и отчетливо вырисовывались контуры хвойных деревьев. В это время большая ночная птица пролетела зигзагом над нашими головами; из глубины тайги ветром донесло чей-то грузный вздох, похожий на ворчанье. Такие звуки издает медведь, если поблизости почует человека. Одни собаки яростно залаяли, другие стали жалобно выть. Иней вскрикнул и впал в беспамятство. Севон так же быстро оставил шамана, как и вошел в него. Камлание было окончено. Минут через пять Тунси и Гобули привели старика в дом. Он еле держался на ногах. Рубашка его была мокрой от пота. После такого моциона Иней нуждался в отдыхе. Он лег на кан и не вставал до утра. Женщины убрали с пола берестяной коврик и жаровню с углями, расставили столики на низких ножках и подали вареную рыбу и мясо поросенка. Итак, камланили четыре шамана, и каждый по-своему. Камлание началось «слабейшим» и кончилось «сильнейшим». Хутунка зависел от севона и умолял его. Миону оспаривал свои права и настаивал на исполнении своих просьб, Геонка требовал повиновения и повелевал севоном, и, наконец, Иней считал его своим подчиненным, кричал на него, угрожал ему и даже гнал прочь.Глава девятая. Девственный лес
Двадцать первого августа мы распрощались с Иней Амуленка и поплыли вниз по Анюю. День был холодный; навстречу дул ветер. По небу ползли серо-свинцовые тучи; дважды принимался накрапывать дождь. Все указывало на приближение того времени года, когда начинает опадать листва с деревьев, мерзнуть земля, пушные звери одеваться в теплые меха и вода превращаться в лед. После Тормасуни долина Анюя делается значительно шире. Отсюда река начинает разбиваться на протоки. Некоторые из них — Пунчи, Ачжу, Била и Хонко — достигают значительной ширины и далеко отходят в стороны. Вследствие быстроты течения надо было внимательно смотреть вперед и вообще быть осторожным, в особенности на поворотах. То мы спускались вниз по воде, то сворачивали в какую-нибудь узкую протоку и плыли по лесу, чтобы пересечь другую такую же протоку и выйти снова на Анюй в наиболее безопасном месте. Иногда шесты не доставали дна, а весла были бесполезны. Орочи в таких случаях вонзали остроги в стволы деревьев и подтягивались на руках. Это очень опасный прием, при котором легко упасть навзничь и опрокинуть лодку, что, несомненно, было бы гибельно для всех пассажиров. По пути встречали медведей. Один раз зверь только что переплыл через реку и по круче взбирался на берег. Нас пронесло мимо него. Я видел только голову и плечи животного. Орочи стреляли и ранили медведя, но остановиться и выйти на берег для преследования его было невозможно. Другой раз из соседней протоки совершенно неожиданно водой вынесло большое дерево. На нем была медведица с медвежонком. Завидев людей, она хотела было броситься вплавь, но в это время дерево удалилось концом в противоположный берег. Медведица со своим питомцем выбралась на отмель и благополучно скрылась в лесу. Страшные разрушения произвело наводнение в долине Анюя. Мы видели трупы утонувших животных, снесенные юрты туземцев, поваленные деревья, придавившие кусты и молодняк, слои ила, песка и т. д. Все удэхейцы бежали к устью реки. Там, где раньше были их жилища, бушевала вода, образовались новые протоки, заваленные колодником. Анюй по справедливости считается рыбной рекой. Большинство лососевых, поднимаясь вверх по Амуру, сворачивает в правые его притоки и главным образом на реку Уссури. По словам туземцев, самая большая кета идет по Анюю. И действительно, пойманные нами экземпляры поражали размерами и весили около пятнадцати килограммов. В нижнем течении реки обитают калуга, осетр, верхогляд, толстолобик, щука, угорь и сазан. Туземцы говорят, что в некоторых местах Анюй вовсе не замерзает, и объясняют это тем, что здесь держится много рыбы. В данном случае они путают причину со следствием. Несомненно, рыба держится в таких местах, которые не замерзают зимою, причину же незамерзания реки надо искать в чем-то другом. В полдень мы прошли мимо реки Улема, памятной мне по охоте на тигров в 1908 году. Здесь в лесу на небольшой поляне был мой астрономический пункт. Координаты я вырезал на затеске большого дерева. Я сказал орочам, чтобы они пристали к берегу. Геонка ловко повернул улимагду против воды и задержался за кусты. Орочи решили отдохнуть и покурить, а я вышел из лодки и направился в лес вместе с Миону и Гобули. За двадцать лет здесь многое изменилось. Молодняк вырос и превратился в стройные деревья, появились новые кусты, протоки. Минут через десять ходьбы по лесу на небольшойполянке я увидел свое дерево. Это была чозения, из которой за неимением тополя туземцы иногда долбят лодки. Чозения в переводе с японского языка значит «кореянка». «Она более примитивна, чем Populus и Salix, и является родом, который занимает между ними как бы промежуточное место»[328]. «Астрономическое» дерево имело метров двенадцать в вышину и более метра в диаметре. Надписи на нем хорошо сохранились, но края затесины обросли корой, а по обе стороны, удивительно симметрично, выросли два огромных трутовика, словно подставка для канделябров. Осмотрев дерево, удэхейцы сказали, что оно дуплистое и недолговечное. Я обошел его кругом, мысленно попрощался с ним и направился назад к лодке. На обратном пути мы решили сократить дорогу и идти напрямик к реке. Пройдя шагов сто, я увидел около десятка ворон. Они сидели на ветвях деревьев и перекликались между собою. Из этого Гобули вывел два заключения: первое — что-то привлекло их сюда; второе — это «что-то» находилось поблизости. А Миону добавил еще третье заключение: здесь, кроме ворон, был еще кто-то, которого птицы боялись и, по-видимому, ждали, когда он уйдет. Мы умерили шаг и стали внимательно смотреть по сторонам. Вдруг какая-то грузная фигура с буро-рыжим оперением, махая большими крыльями, поднялась на воздух. Я сразу узнал орлана белохвостого. Он снялся так близко от нас, что я мог хорошо рассмотреть его. Голова и шея орлана были светлее остального тела; большие лапы желтого цвета с черными острыми когтями и могучий клюв, тоже желтый, сжатый с боков и, как у всех хищников, загнутый книзу, были столь характерны, что я не мог ошибиться в определении. Обыкновенно орлан белохвостый кормится рыбой, но при случае нападает даже на четвероногих величиной с кабаргу. Вспугнутый пернатый хищник тяжело взлетел кверху и направился к реке. Я остановился и стал следить за ним глазами, а удэхейцы прошли вперед. — Кянга[329], — услышал я голос Миону. — Инка (да), — отвечал ему Гобули. Я пробрался через кусты и действительно увидел на земле труп молодого изюбра, по-видимому недавно утонувшего. Голова его и левая передняя нога были занесены илом, правый бок расклеван, и часть внутренностей вытащена наружу. Лишь только улетел орлан, как вороны снялись со своих мест и с карканьем стали носиться над лесом. Может быть, они опасались, что мы унесем мертвое животное с собой. На мокрой илистой почве, кроме отпечатков птичьих ног, были следы и кое-каких четвероногих. Туземцы рассматривали их и вслух называли животных: колонок, лиса и горный волк. В это время с реки донеслись крики, приглашавшие нас поскорее возвращаться назад. Через несколько минут мы плыли дальше вниз по реке. Немного ниже Улема, с правой стороны, в Анюй впадает еще небольшая речка Уоленку. Здесь есть короткий и удобный перевал на реку Мыныму, впадающую в тот же Анюй недалеко от устья. Надо сказать, что весною Анюй рано вскрывается ото льда. В марте гольды, возвращаясь с соболевания, чтобы избежать опасного пути среди многочисленных проталин, сворачивают на Уоленку и таким образом обходят Анюй стороною. Описываемый перевал настолько невелик, что удэхейцы перетаскивают через него лодки на руках. Между Хором (нижний приток Уссури) и верховьями рек Ситы, Обора, Немпту, Мухеня и Пихцы, впадающих в Нижний Амур с правой стороны, протянулась длинная дуговая горная складка. У Анюя она начинается горою Хонко и идет сначала на юго-запад, потом на запад, постепенно понижается и выходит к реке Кие рядом невысоких холмов с весьма пологими скатами. Это — Хорский хребет. Несмотря на значительную высоту свою, он имеет ровный столообразный гребень, местами суживающийся настолько, что наблюдателю, находящемуся на вершине его, видны одновременно оба склона; в других местах он представляется в виде обширных плато, покрытых лесом. И здесь отсутствие глубоких седловин и конических сопок свидетельствует о больших эрозийных процессах. Западное подножие Хорского хребта в прошлом являлось берегом древнего водоема, который в течение многих веков заполнялся выносами многочисленных речек, ныне составляющих притоки Пихцы, Мухеня и Немпту. Так образовались обширные болота. Нынешние озера Гаси, Синда и Петропавловское являются остатками этого водоема. Около горы Хонко мы задержались. Я намеревался совершить экскурсию на юг от реки Анюя, чтобы посмотреть, нет ли там мест, открытых и годных для заселения. Но потом у меня возникла мысль, пройти на реку Пихцу напрямик, придерживаясь западного склона Хорского хребта. Вечером Миону и Гобули начертили мне план. Из него явствовало, что мы должны держаться юго-западного направления и на пути пересечь речки Чу, Моди, Кальдангу, Буга, Хосу и Уту, из которых первые две входят в бассейн Анюя, две другие впадают непосредственно в озеро Гаси и последние две являются правыми притоками реки Пихцы. Меня только смущал недостаток продовольствия, которым мы располагали, но все же я решил попытаться пройти на речку Моди и в крайности спуститься по ней к гольдскому селению Сира в нижней части Анюя. На другой день мы оставили лодки и пошли в горы. В этих местах на всем протяжении от Анюя до Немпту на двести с лишним километров произрастают громадные первобытные леса, которых еще никогда не касалась рука человека и где ни разу не было пожаров. Высокие стволы пробкового дерева с серою и бархатною на ощупь корою, казалось, спорили в величии и красоте с могучими корейскими кедрами. Если последнему суждено вековать в долинах среди широколиственных пород, тогда он предпочитает одиночество, но здесь, в горах, кедр произрастал группами и местами составлял от пятидесяти до семидесяти процентов насаждений. Лишь только в поле зрения попадался маньчжурский ясень, как мы уже знали, что недалеко находится речка. Любопытно, что и он здесь рос целыми рощами, причем некоторые экземпляры достигали поистине грандиозных размеров. Здесь даже остроконечный тис, называемый русскими «красным деревом» и являющийся представителем первых хвойных на земле, и монгольский дуб имели вид строевых деревьев в два обхвата на грудной высоте. Стволы, то массивные и темные, то одиночные, то целыми группами, словно гигантская колоннада, уходили вдаль на необозримое пространство. Тут были деревья, которым насчитывалось много сотен лет. Некоторые лесные великаны не выдержали тяжести веков, тяготеющих над ними, и поверглись в прах. В образовавшиеся вверху отверстия днем проникали солнечные лучи, а ночью виднелось звездное небо. Неподвижный лесной воздух был так насыщен ароматами, что, не глядя, можно было сказать, какое дерево находится поблизости: тополь, кедр, липа; в сырых местах ощущается запах рухляка, папоротника и листвы, опавшей на землю. Ветру доступны только верхи деревьев. Тогда лес наполняется таинственными звуками. Зеленое море вверху начинает волноваться, шум усиливается и превращается в грозный рев, заставляющий зверье быть настороже и пугающий самого привычного лесного бродягу. Читатель ошибется, если представит себе первобытную девственную тайгу в виде рощи. С первых же шагов он с головой утонет в подлеске, главным представителем которого будет душистый тонколистный дикий жасмин — любитель тенистых и невлажных прогалин; его легко узнать по удлиненно-зубчатым листьям и довольно крупным овальным плодам. Рядом с ним в большом количестве растет колючий элеутерококк с листьями, как у драгоценного женьшеня, и с черными ягодообразными плодами, расположенными на длинных черешках в форме шаровидных зонтичков. По соседству с жасмином и элеутерококком нашла приют себе маньчжурская лещина, имеющая вид куста. Листья ее округлые и сильно зазубренные, а орехи — от двух до четырех — прикрыты прицветниками с колючими волосками, оставляющими на руках множество мельчайших, легко удаляемых заноз. И деревья, и кустарник опутаны лианами актинидии коломикты, зеленые сочные плоды которой заслуженно считают лучшим даром Уссурийского края. Вперемежку с актинидиями по стволам деревьев вьется китайский лимонник с пестрой листвой и красными ягодами. В тех местах, куда пробрался солнечный луч, обильно разросся амурский виноград. Все эти кустарники, ползучие растения и высокие папоротники (дриоптерис, осмунда, страусопер и др.) образуют столь густые заросли, что мы узнавали о местонахождении друг друга только по голосам. Такой девственный лес населен множеством зверей: тиграми, рысями, медведями, красными волками, лисами, куницами, хорьками, соболями, росомахами, выдрами, барсуками, изюбрами и дикими козулями. Совершенно свежие следы их встречались повсеместно. Неоднократно мы вспугивали кабанов, которые бродили здесь целыми табунами. Дикие свиньи с шумом пробирались сквозь чащу леса и громким фырканьем выражали свое неудовольствие. После затяжных дождей хорошая погода, по видимому, установилась, и теплые солнечные дни длинной чередой потекли друг за другом. На 23 августа день выпал солнечный и теплый. По небу плыли высокие барашковые облачка. Они зарождались в беспредельной синеве его, медленно двигались с запада на восток и быстро таяли. Было как-то особенно душно. Время от времени мы садились на землю и отдыхали, не снимая котомок. Солнце перешло уже за полдень. В этот знойный час все живое погрузилось в дремотное состояние. Только мошки проявляли особенную назойливость; они лезли в рот, уши и слепили глаза. Мы сидели тихо и вытирали тряпицами потные лица. Было не до разговоров. Вдруг впереди раздался хруст сухой ветки. Я потянулся за ружьем. Громадный тигр сильно напугал нас и испугался сам. Он бросился в сторону и прыжками пошел по лесу. Полосатый зверь на бегу задел плечом сухостойное дерево; оно с шумом упало на землю. Геонка ходил на разведку и вернулся, сообщив, что тигр не знал о нашем присутствии и случайно вышел навстречу. Это обстоятельство заставило нас быть настороже и не доверяться предательской тишине леса. Через два дня выяснилось, что мы прошли только седьмую часть пути и израсходовали одну треть продовольствия. Еще на день-два могут нас задержать дожди. Эти соображения заставили меня повернуть на запад и идти по речке Моди. Около устья ее мы нашли небольшое гольдское селение, состоящее из четырех фанз. Обитатели его занимаются рыбной ловлей и звероловством. Они усвоили уклад жизни удэхейцев и мало походили на своих амурских сородичей. Мы отдохнули у них и купили две лодки, на которых и спустились по Анюю до протоки Дырен. В нижнем течении Анюй разбивается на множество проток. После каждого наводнения они изменяются, делаются больше или меньше, Заносятся колодником и превращаются в старицы. Это вынуждало нас спускаться с большой осторожностью. Немного ниже местности Тахсале орочи заметили лагерь удэхейцев, убежавших от большой воды. Они жили в конических берестяных юртах и ждали, когда река войдет в свое русло и позволит им возвратиться назад. Они стали окликать нас и махали руками. Я велел пристать к берегу. Немного ниже по соседству с ними мы устроили свой бивак. Тотчас около наших палаток собрались мужчины, женщины и дети. Некоторых я знал еще детьми. Теперь уже они превратились во взрослых мужчин, женатых и сами имели детей. У этих обездоленных судьбою людей были свои нужды. Они просили не лишать их права на соболевание. Я обещал похлопотать за них в Хабаровске и обещание свое выполнил. На другой день мы расстались. Быстрое течение уносило наши лодки все дальше и дальше. На берегу толпою стояли туземцы, посылая приветствия руками. Мы отвечали им тем же до тех пор, пока выступивший со стороны мыс не заслонил их собою. В протоке Дырен вода шла нам навстречу. К счастью, подул попутный ветер. Орочи поставили паруса и сравнительно скоро пошли против течения, придерживаясь правого, возвышенного берега. Он слагается из невысоких холмов, изрезанных распадками, по которым бегут бедные водою источники. К сумеркам мы немного не дошли до озера Гаси и встали биваком в небольшой дубовой рощице. Ночью было холодно. Я вставал несколько раз и грелся у огня. Когда стало светать, я взял чайник и пошел на реку за водою. Восточный горизонт был затянут слоистыми облаками; сквозь них кое-где прорывались первые лучи утренней зари. Протока Дырен имела пасмурный вид. Прибрежные кусты с пожелтевшей листвою никли от росы. Словно они оплакивали лето, предчувствуя приближение холодов, которые ничто не в силах было остановить. На одном из деревьев сидела ворона. Увидев меня, она каркнула два раза и лениво полетела вдоль берега. Переправа через озеро Гаси на долбленых удэхейских челноках — рискованное предприятие. Надо было торопиться, пока не задули северо-западные ветры. Когда взошло солнце, мы уже успели отъехать далеко от бивака. На правом берегу озерной протоки, при самом входе в нее, приютилось небольшое туземное селение того же названия. Здесь от гольдов я узнал, что Савич на реке Пихце потерпел аварию. Человеческих жертв не было. С этой стороны, значит, все обстояло благополучно. Но теперь возникал другой тревожный вопрос: устроены ли питательные базы? Мучимый этими сомнениями, я все же решил идти вверх по Пихце с намерением опереться на хорскую базу и затем направиться через верховья Мухеня на реку Немпту, к озеру Петропавловскому. Гольды снабдили нас кое-какими овощами. Расплатившись с ними, мы поплыли дальше и около полудня вошли в озеро Гаси, площадь которого измеряется в двадцать пять квадратных километров. Если смотреть на него сверху, оно представляется в виде фигуры песочных часов, т. е. расширенной по концам и суженной посредине. Кроме Пихцы, с востока в озеро впадает еще небольшая река Хали с притоками Кальдангу и Буга, о которых говорилось выше. Правый берег озера состоит из невысоких песчаных холмов, прорезанных широкими заболоченными распадками. Зато противоположный берег — низменный и настолько мелководен, что к нему нельзя подойти даже на плоскодонной лодке. Весь день мы плыли, придерживаясь правого края озера, и к сумеркам дошли до суженной его части. Место для бивака было выбрано не совсем удачное. Вследствие недостатка сухих дров мы опять зябли ночью. Однако следы старых костров свидетельствовали о том, что именно здесь всегда ночуют люди, направляющиеся на реку Пихцу. Было еще совсем темно, когда меня разбудил Гобули. Он говорил, что в осеннее время обычно ветер поднимается с восходом солнца и наибольшей силы достигает около полудня. Тогда плавание по озеру делается совершенно невозможным. Через какие-нибудь четверть часа мы уже сидели в лодках и усиленно гребли веслами. Озеро было совершенно спокойным и казалось большим полированным диском, в котором отражалось звездное небо. Я оглянулся. Темные силуэты деревьев удалялись от нас и тонули в ночном мраке. В стороне мелькнул огонек. Это на другой лодке кто-то зажег спичку. Там слышались голоса и шум разбираемых весел. Но вот на востоке появились первые признаки зари. Предрассветный ветерок чуть тронул поверхность воды. Тогда мы поставили парус. Ветер все усиливался, и лодка бежала быстрее. Я завернулся в полотнище палатки и стал всматриваться в очертания берега, задернутого в дымку утреннего тумана. С каждой минутой заря разгоралась все ярче и ярче. Словно зарево пожара, пылал горизонт, окрашивая облака в пурпурные и нежно-фиолетовые тона. Вдали виднелся высокий Хорский хребет. В распадках его еще клубился туман. Над болотами носились стаи плавающей птицы. Я стал следить за ними глазами и остановил взор свой на гребне хребта. В это мгновение показался краешек солнца, и тотчас по воде навстречу нам побежала ослепительно-яркая полоса света. Ночь ушла. Утренние туманы таяли в воздухе, и за ними виднелось устье реки Пихцы. Мы сидели тихо на своих местах и наблюдали игру солнечных лучей, отраженных от колеблющейся поверхности озера Гаси. В это время Миону стал поправлять веревку от паруса и задел весло, которое с шумом упало на дно лодки. Тотчас из воды выпрыгнула довольно большая рыба, за ней другая, третья… десятая. Они старались перепрыгнуть через лодку, бились головами в борта ее и снова падали в воду; но две из них попали к нам в качестве пассажиров. — Га, га, га!.. — закричал Миону, хватая их руками. Рыбы, заскочившие к нам в лодку, долго не могли успокоиться. Они вертелись, открывали рты и били хвостами. Местные жители называют их моксунами и говорят, что их очень трудно ловить сетками. Моксун достигает веса до двух с половиной килограммов и имеет стройное тело, покрытое довольно крупной, блестящей чешуей. Из всех рыб он считается наиболее сообразительною. Завидев невод, он стремительно всплывает на поверхность воды и с разбегу перепрыгивает через него. Вероятно, моксуны и нашу лодку приняли за рыболовную ловушку. В данном случае они оказались малосообразительными. Вместо того чтобы убегать от лодки, они стали прыгать через нее, и двое из них за это поплатились жизнью. Часам к восьми утра мы вошли в устье Пихцы. И здесь было наводнение. Выступившая из берегов вода сплошь залила прилегающие к озеру болота, что дало нам возможность плыть целиной, минуя бесчисленные извилины реки, и в значительной мере сокращать расстояния.Глава десятая. Тигровая река
В нижней своей части река Пихца протекает среди обширных болот, поросших осокой и вейником Лангсдорфа. Последний иногда с примесью обыкновенного тростника, вышиною в рост человека, образует заросли в несколько квадратных километров. Если встать на кочку, камень или плавник, нанесенный водой, то можно видеть, как во время ветра колышется травяная растительность. Является полное впечатление волнующегося моря, в особенности если она занимает обширное пространство. Вскоре стали появляться ивняки (ива корзиночная). Число их постепенно увеличивалось. Словно бордюром, они окаймляли берега реки, заводей, озерков и слепых рукавов. Местами они образовали такие густые заросли, что пробраться сквозь них можно было только с помощью топора. К полудню мы отошли от озера километров на десять. Болотный характер местности сменился равниной с небольшими релками[330]. Местонахождение их можно определить по осинам, которые тоже сначала одиночными экземплярами, а потом и целыми рощицами подходят к реке то с одной, то с другой стороны. Здешняя осина имеет столь белесоватую кору, что издали ее можно принять за березу. Только по вечно трепещущим листьям на длинных черешках я узнал знакомое всем нам дерево. Чем дальше, тем осины становилось больше. Можно сказать, что здесь она составляет восемьдесят процентов всей древесной растительности. Еще выше релки стали обрисовываться яснее, и к осине начали примешиваться дуб и плосколистная береза. Постепенно луговая растительность отходила на задний план, уступая место древесным широколиственным породам с значительной примесью даурской лиственницы. Река Пихца имеет чрезвычайно извилистое течение. Все время она делает большие, плойчатые петли, иногда завершающие почти полные круги. Целый день мы кружили по руслу реки так, что солнце было у нас то впереди, то сзади, то с одного бока, то с другого, и к вечеру, когда мы достигли начала предгорьев Хорского хребта, оно было совсем не с той стороны, где мы рассчитывали его видеть. Читатель, вероятно, помнит, что сухари, которые были завезены на базы из Владивостока, оказались гнилыми, отчего все мы часто болели животами. Мои спутники-туземцы, как и все первобытные люди, были убеждены, что заболевания происходят от злых духов, которые входят в людей и мучают их. Черта можно изгнать только камланием. То Геонка шаманил над Хутунка, то Хутунка — над Геонка, то оба вместе над орочем Намука. Каждый раз по указанию одного из шаманов Мулинка вырезал из мягкого дерева изображение севона в виде насекомого, лягушки, человека об одной ноге, змеи с двумя головами и т. д. После камлания севон этот выносился из палатки и на палочке втыкался в песок, подальше от бивака. Считалось, что черт изгнан и больной должен получить исцеление. Если такое лечение не помогало, камлание повторялось на другой день, на третий, до тех пор, пока больной не выздоравливал. Как только орочи ложились спать, Кардаков отправлялся на поиски севонов и забирал их для Хабаровского музея. Двадцать седьмого августа, в субботу, заболел Геонка. Камланить над ним вызвался Миону. Он взял две короткие лучины и ножичком апили наскоблил стружек, не дорезая их до основания, так что они все свернулись султанчиками в одну сторону. Хутунка притушил костер и накрыл голову шамана какой-то тряпицей. В это время Мулинка принес изображение летящей осы с крылышками из бересты, с лапками, усиками, искусно сделанными из кабаньей шерсти. Оса была прикреплена к палочке, которую воткнули в землю около больного. Геонка лег спиной к огню и закрыл глаза. Миону сел около него на землю, взял стружки по одной в каждую руку и начал петь свои заклинания. Он проводил ими над болящим от головы к ногам и делал вид, как будто переносит болезнь на изображение осы. Минут десять длилась эта процедура. Вдруг Миону дико закричал: «Эхе-э-э-э-э», все громче и громче, все выше и выше поднимая ноту. Под эти крики Хутунка, как всегда, вынес деревянную осу и посадил ее на куст около воды, а Мулинка с этой стороны около бивака разложил большой костер. К утру оса исчезла. Когда на другой день орочи стали укладывать груз в лодки, Миону уронил котомку Кардакова на землю. Она раскрылась, и из нее вывалились все севоны, которые он нес от самого моря. В неописуемое волнение пришли орочи и удэхейцы. Так вот почему они болеют! И немудрено! Три шамана все время стараются изгнать злых духов из отряда, а один русский собирает их и несет с собой. Эта шутка могла бы кончиться смертью кого-либо из туземцев. Они заявили, что дальше с чертями не пойдут, и требовали, чтобы Кардаков бросил их на берегу. Больше всех волновался Миону. Долго мы урезонивали его и наконец нашли компромисс. Мы условились так: вечером они будут еще раз камланить и перенесут болезни с севонов, собранных Кардаковым, в одного сборного, которого мы уже не возьмем с собой. Орочи согласились, но потребовали дневки. Пришлось уступить. Целый день Мулинка и Гобули вырезали такое изображение злого духа, в котором сгруппировалось все то, что нес Кардаков в своей котомке. В полночь на биваке они опять притушили огонь и стали все трое по очереди камланить. Я вышел из палатки и направился к берегу. Ночь обещала быть холодной; на небе мерцали яркие звезды. Деревья и кусты неопределенно темного цвета замерли в неподвижных позах, словно это был другой мир, неведомый, мрачный. На биваке чуть-чуть виднелась палатка, слабо освещенная углями притушенного костра, и около нее темная фигура Миону. Он размахивал стружками и кричал: «Эхаль ду-у-у-у!» Голос его далеко разносился по реке и пугал зверей в тайге. На этот раз орочи унесли севона в глубь леса и зорко следили за Кардаковым. Мы сдержали слово и не ходили в ту сторону, куда был изгнан злой дух — источник болезней, бывших доселе в отряде. Следующий день был воскресный — солнечный и теплый. Несмотря на то что с бивака мы снялись поздно, все же ушли довольно далеко. Река Пихца длиною около шестидесяти пяти километров и течет сначала с востока на запад, потом все больше и больше склоняется к северо-востоку. Течение ее можно разделить на три части: верхнее, среднее и нижнее. Последнее, как мы видели, проходит среди болот. В средней части на протяжении еще двенадцати километров река разбивается на множество проток, которые были так малы и извилисты, что в них нельзя было повернуть лодки, и мы вынуждены были перетаскивать их по земле. В истоках Пихца принимает в себя реку Олосо. Здесь она течет в горах одним руслом, загроможденным большими камнями, грани которых сглажены водою и плавниковым лесом. Здесь же находится продолжение тех первобытных девственных лесов, которые мы видели на Анюе около горы Хонко. Нехорошие рассказы ходят у амурских туземцев про реку Пихцу. В верхней половине ее обитает много тигров, которые часто нападают на людей. Так, один раз два гольда отправились на реку Олосо для соболевания. Они шли по зверовой тропе на расстоянии десяти шагов друг от друга. Вдруг большой тигр напал на одного из охотников. Другой бросился бежать, но тигр догнал его и сильно изранил. Человек этот некоторое время полз по земле и умер от потери крови. В 1925 году был такой случай. Один охотник нашел кабана, задавленного тигром. Вместо того чтобы поскорее уйти отсюда в другое место, он забрал кабана с собой. Не успел человек этот отойти с ношей и одного километра, как на него напали сразу два тигра. Звери поделили добычу. Один взял охотника, а другой забрал кабана. Третий случай произошел в 1926 году. Старый гольд из селения Да близко встретился с тигром на реке Пихце. Желая узнать о намерениях зверя, охотник выстрелил в воздух. Страшный хищник сделал несколько шагов вперед. Гольд, зная, что в тигра нельзя стрелять, если он не нападает на человека, и желая предупредить его о том, что ему грозит, выстрелил второй раз в воздух. Тигр сделал большой прыжок и встал на льду, как мраморное изваяние. Тогда гольд тщательно выцелил зверя и спустил курок. Страшно заревел тигр и бросился за колодину. Охотник видел его задние ноги и хвост, которым он все время бил по земле. Не теряя ни одной минуты, гольд ушел от опасного места. Мы уже подбирались к верховьям Пихцы. Течение делалось все быстрее и быстрее. Опасные пороги встречались чуть ли не на каждом шагу. Кругом высились сопки, густо одетые кедровым лесом. Туземцы дружно работали шестами, с трудом проталкивая лодки против воды. Они внимательно осматривали дно реки и на ходу, между прочим, били острогою крупных форелей и ленков. По целому ряду мелких признаков они установили, что место аварии Савича было недалеко, кусок доски от лодки, лист бумаги среди мусора, нанесенного водою, тряпица, застрявшая на кустах, и т. д. были красноречивее всяких слов. На одном из поворотов поперек реки лежало дерево, отпиленное у вершины. Осмотрев его, орочи сказали, что именно здесь опрокинулась лодка, и точно нарисовали картину крушения. Впоследствии, когда Савич рассказал мне о том, как он потерпел аварию, я увидел, что мои спутники-туземцы не ошиблись даже в мелочах. Я хотел немедленно заняться осмотром дна реки, но у туземцев был свой план. Они приняли во внимание большую воду и быстрое течение. Когда стемнело, Гобули и Мулинка стали искать имущество разбитой лодки по течению. Совсем поздно они возвратились и привезли брезент, эмалированную тарелку, несколько маленьких мешочков с мукой, винтовку, бинокль, бусоль Шмалькальдера, сумку с медикаментами, дневник, написанный карандашом, патроны и кошелек с деньгами. Что же в это время случилось с Савичем? Из Хабаровска со своими спутниками он отправился вниз по Амуру, придерживаясь правых его проток, достиг озера Синда, в которое впадают Немпту и Мухень, поднялся по этим рекам до истоков и обследовал весь западный склон Хорского водораздела. Затем он перешел на озеро Гаси и стал подниматься вверх по Пихце. Как раз в это время пошли затяжные дожди, и вода в реке стала быстро прибывать. Однако это не испугало Савича, и он с проводниками-гольдами медленно продвигался против течения, которое увеличивалось с каждым днем. Немного не доходя до водопада Сагена, его на Пихце захватило то самое наводнение, которое задержало меня на Анюе на две с половиной недели. Савич решил во что бы то ни стало достигнуть истоков Пихцы. Невзирая на ненастье и крайне неблагоприятную погоду, он все-таки дошел до условного места и устроил для нас питательную базу. Затем он хотел пробраться на Хор, но потерпел аварию, во время которой погибли его лодки и все имущество, и сам он почти в бессознательном состоянии выплыл из-под «завалов» метрах в сорока от места крушения. В этом бедственном состоянии путешественники пешком направились левым берегом вниз по Пихце и через трое суток случайно в тайге нашли брошенную гольдами старую лодку. Они починили ее деревянными гвоздями, сделанными из лиственной древесины, и, выждав, когда начался спад воды в реке, спустились к озеру Гаси. После такой беды ему более ничего не оставалось, как закончить работы и возвратиться в Хабаровск. К тому же и время было уже позднее и начинались холода. Он выполнил все задание, которое себе наметил, выставил все питательные базы и тем самым облегчил мой маршрут от Анюя на Хор, с Хора на Мухень и далее до Хабаровска. Немного выше места крушения лодки, с левой стороны, есть водопад, который туземцы называют Сагена. Он представляет собой подземную речку, выходящую на дневную поверхность множеством струй. Красноватые скалы, зеленая растительность, кристаллически чистая вода, белая пена и радужная игра водяной пыли в лучах солнца создают необычайно эффектную картину. Тут мы нашли свою питательную базу с доброкачественными продуктами. Орочи перестали болеть, но приписали это тому обстоятельству, что последний севон, в которого они прошлую ночь перенесли свои недуги, остался далеко позади. После короткого отдыха мы еще полдня подымались на лодках, а затем от устья Олосо пошли пешком на Хорский перевал. Отсюда вверх по Пихце идет тропа. Она хорошо протоптана, но во многих местах заросла травою и завалена колодником. Сначала тропа придерживается правого берега реки. Во время большой воды ее отчасти занесло песком землею; затем она переходит на левый берег, следует к перевалу. Тропа часто кружит и делает многочисленные обходы колодника. По пути она пересекает три ручья, бегущие с сопок с правой стороны, а по четвертому ключику подымается на перевал. Эта часть пути очень утомительна. Русло завалено камнями, замаскированными мхом и высокой травой. Нога часто скользит, срывается и проваливается в ямы с водой. Подъем длинный и пологий. На самом перевале стоит развалившаяся китайская кумирня. За перевалом тропа пролегает по заболоченной местности, поросшей редкостойной лиственницей. Около реки Хора она обрывается. Это — зимний путь, и летом редко кто им пользуется. Второго сентября мы вышли к устью реки Сор, впадающей в Хор с правой стороны. Перед нами открылась обширная котловина, обставленная сильно размытыми сопками. С правой стороны реки тянулось замшистое болото, а с левой — смешанный лес с примесью ели и пихты. Я знал, что нахожусь в горном узле, высоко над уровнем моря. Отсюда на восток текли Копи и Самарга, а на севере был бассейн Анюя. По реке Сор лежит путь на Тормасунь, где находится тот самый перевал, через который перетаскивают лодки на руках. Здесь мы нашли еще одну питательную базу, устроенную хорскими туземцами, и около нее встали биваком. Судя по некоторым признакам, где-то поблизости должны были находиться люди. Поэтому я поручил Кардакову с орочами устраивать бивак, а сам с Гобули пошел по берегу Хора. Путеводной нитью нам служила зверовая тропка. Она то выходила к реке, где густо росли высокоствольные тальники, то углублялась в лес. В одном месте около старой ели я увидел большой муравейник, сложенный из мелких веточек, кусочков древесной коры и сухой хвои. Несмотря на осеннее время и ненастную погоду, красные лесные муравьи проявляли большую деятельность. Они ползали по крыше своего жилища, по земле и соседним деревьям. Один тащил сверчка размерами вдвое больше себя, другой нес на весу прутик, который неудачно держал за конец, третий — какую-то белую крупинку. Несколько муравьев копошились около улитки. Они действовали вразброд и, по-видимому, мешали друг другу. Однако улитка продвигалась вперед и скоро исчезла в одном из выходных отверстий муравейника. Все это доказывало, что муравьи по сравнению с размерами своего тела очень сильные насекомые. Я взял палку из рук Гобули и слегка тронул ею сухую хвою. Мгновенно к этому месту сбежалось множество муравьев. Они засуетились и подымали кверху свои головки с раскрытыми челюстями. С поразительной быстротой распространилась тревога по всему муравейнику. Даже на противоположной стороне его поднялась беготня. Маленькие шестиногие существа почуяли опасность и самоотверженно приготовились к обороне. — А-та-тэ! Гыхы, манга![331] — закричал Гобули и отнял у меня палку. Мы пошли дальше. По дороге я стал расспрашивать своего спутника, почему он не позволил мне шевелить муравьев. Он ответил мне так. В огне сидит пудза мамаса, т. е. хозяин огня, и в каждом муравейнике пудза адзани — хозяин муравьев. Огонь нельзя резать ножом, поливать водой, нельзя плевать в него, разбрасывать головешки. Такие же запреты распространяются и на муравейник. Человек, позволивший себе грубое обращение с муравьями, непременно заболеет: у него станут гноиться глаза или появятся на теле нарывы. Когда мы вышли на реку, с одного из кустов с криками, похожими на чириканье, сорвался зимородок — небольшая, ярко окрашенная птичка, ведущая уединенно-скрытный образ жизни. Я видел, как мелькнуло в воздухе голубовато-зеленое оперение ее спинки, надхвостия и внутренних частей крыльев. — Ыи пудза гаэни[332], — сказал шепотом Гобули, указывая на зимородка, который, отлетев немного, опять сел на ветку кустарниковой лозы. Он повернул свою несуразную голову с большим конусообразным клювом и, казалось, прислушивался к шуму наших шагов. Испуганная птичка вспорхнула и улетела совсем. Гобули принялся мне объяснять, что зимородка тоже трогать нельзя, потому что он является посланцем пудза адзани. Он летает, слушает, что говорят люди, и обо всем доносит хозяину муравьев, а этот последний все сообщает хозяину огня. Пудза мамаса наказывает виновного сильными ожогами. На отмели около устья реки Сор действительно была одна юрта. Обитатели ее два дня назад ушли вниз по реке Хору навстречу кете, которая по времени должна была уже дойти до Сукпая. Осматривая покинутое жилище, Гобули установил, что удэхейцы в день отъезда убили одного молодого сохатого и мясо его увезли с собой. Делать нам здесь было больше нечего, и мы пошли обратно на бивак. Когда мы поравнялись с муравейником, Гобули остановился и, указывая на него, сказал: — Пудза адзани ушел. Я взглянул на муравьиную кучу и увидел, что сбоку она была наполовину разрыта. Медвежьих и других следов поблизости не было. Вечером после ужина Гобули рассказал орочам о том, как я прогнал из муравейника пудза адзани. Оказывается, что у них есть такое же поверье, отличающееся от удэхейского только некоторыми деталями. Хозяина муравьев они называют икта адзани и считают его распространителем накожных болезней, в особенности лишаев.Глава одиннадцатая. Через горы, леса и болота
Следующие дни были опять ненастные. Двое суток просидели мы на берегу Хора в односкатной палатке, согреваясь лучистою теплотою большого костра, который надо было поддерживать и ночью. Была поздняя осень. Лист с деревьев осыпался на землю, и по утрам появлялись заморозки, а путь был еще длинный. Мы имели только летние одежды и не рассчитывали на холода. Кроме того, надо было туземцев доставить на пароходе в Советскую гавань, пока не закрылась навигация. Это обстоятельство заставило меня торопиться. Поэтому 5 сентября, невзирая на дождь, мы сняли свои палатки и стали подниматься на Хорский хребет. С восточной стороны подъем на него был очень длинный и пологий. Сначала мы придерживались русла какого-то безымянного ручья, потом взбирались по косогору, пересекли несколько распадков, заваленных камнями, под которыми с шумом бежала вода, и седьмого числа достигли гребня водораздела. Здесь Миону взобрался на дерево, чтобы ориентироваться. На другой день мы достигли главной вершины водораздела, покрытой старым редкостойным лесом в возрасте от двухсот до трехсот лет, состоящим из монгольского дуба, корейского кедра, каменной березы, мелколистного клена и амурской липы. Большинство деревьев имело толстые приземистые стволы с громадными болезненными наростами. В этих лесах водится много зверей. Местами земля была сплошь изрыта дикими свиньями; урожай желудей и кедровых орехов привлек их сюда целыми табунами. Глубокие сумерки застали нас в пути. К счастью, Гобули нашел большой дуплистый пень, наполненный водой. Правда, она имела смолистый привкус, но все же это была настоящая дождевая вода, годная для питья. На следующий день мы начали спуск в долину какой-то речки. Она начиналась очень живописным ущельем, которое спускалось вниз крутыми уступами, заросшими смешанным широколиственным лесом с богатым и разнообразным подлесьем, состоящим из колючих аралий, актинидий, лимонника, элеутерококка и винограда. От главной вершины Хорского хребта к северо-западу отходит длинный отрог, в свою очередь служащий водоразделом между реками Мэка и Нефикцой. Гребень его увенчан большими скалами, которые местное туземное население считает недосягаемыми и населяет их злыми духами. Как появились они? Только черт мог выдвинуть их из земли! Это Амба чжугдыни (чертово жилище). Другие люди называют их Какзаму чжугдыни (жилище горного духа Какзаму), или Куты Мафа чжугдыни (жилище тигра). Где бы эти страшные звери ни ходили, они всегда возвращаются к скалам. Здесь в расщелинах они имеют свои логовища, где и выводят тигрят. Туземцы рассказывают, что только один раз зимою какой-то гольд-охотник достиг скал. Когда зимой он подходил к ним, то увидел сидящего на камне черного человека. Гольд окликнул его. Человек вскочил, побежал и тут же скрылся в расщелинах камней. Кому же это быть, как не черту?! В лунные ночи там носятся дьявольские тени, слышны стенания, хохот и вой. Всякого, кто посетит скалы Мэка, ожидает потом какое-нибудь несчастье или болезнь. Все эти рассказы разожгли мое любопытство. Мы с Кардаковым решили совершить туда экскурсию и с высоты птичьего полета осмотреть страну, в которую проникли со стороны Хора и Пихцы. Когда я заявил сопровождающим нас туземцам о своем намерении, они взволновались, и четверо из них наотрез отказались идти. — Отцы наши не ходили туда, — говорили они, — и мы не пойдем. Другие заявили, что не только на скалы, но и близко к ним они не подойдут. Весь вечер удэхейцы рассказывали друг другу разные страхи. Скалы вселяли в них какой-то ужас. Все же мне удалось двух человек — Хутунка и Геонка — убедит, что в камнях ничего страшного нет. Но и эти люди неоднократно задавали вопросы, не боюсь ли я сам, не будет ли потом всем нам худо, и по выражению глаз старались догадаться о моих душевных настроениях. На другой день мы отправились в путь. В одном туземцы оказались правы: добраться до скал оказалось действительно трудно. С южной стороны горный хребет Мэка был покрыт большими осыпями, состоящими из громадных глыб, заваленных буреломом, опутанных виноградниками и лианами. Колючие аралии и элеутерококк изорвали нашу одежду. Мы изранили руки и в колени набрали множество заноз. Каменные ловушки, закрытые растительностью, и колодник, наваленный в беспорядке, создавали препятствия чуть ли не на каждом шагу. Это понизило настроение моих спутников-туземцев. — Верно, что к скалам нельзя подойти, — высказывали они вслух свои мысли. — Должно быть, там, наверху, в самом деле обитают злые духи, в таком недоступном месте, куда простым людям невозможно проникнуть. Несколько раз Геонка порывался стрелять в воздух, чтобы угнать от скал «черного человека». Немало трудов стоило успокоить его и убедить, чтобы он не тратил зря патронов. Я стал подшучивать над чертом и иронизировать по его адресу. Тогда Хутунка серьезно просил меня так не выражаться. — Ходи, ходи, — говорил он, — как будет, так и ладно, а ругаться не надо. Пришлось уступить. Часам к четырем пополудни мы подошли к скалам. Величественное зрелище представилось моим глазам. Семь гранитных штоков высились кверху. Они действительно имели причудливые формы: один из них был похож на горбатого человека, опирающегося рукой на голову какого-то фантастического животного; другой — на старуху, одетую в длинную мантию; третий — на гигантскую жабу; четвертый — на нож, воткнутый черенком в землю, и т. д. Когда мы приблизились к ним, какой-то большой зверь бросился в сторону, а затем мы увидели медведя, который пустился от нас наутек. Все грани и углы скал сглажены деятельностью сильных северо-западных ветров. Эти скалы представляют собой классический образчик эоловой коррозии[333], когда ветры в течение долгого времени могут обтачивать выдающиеся части камней сами по себе, без участия песка. Быть может, шлифовальным материалом служили обледенелые снежинки. Высокие громады, молчаливо поднимающиеся кверху, хаотически нагроможденные глыбы у подножия их, заваленные буреломом, и лес, полный таинственной тишины, создавали картину мрачную и дикую. Когда над скалой проходило облако, то казалось, будто оно стоит на месте, а скала движется, наклоняется и вот-вот со страшным грохотом опрокинется на землю. Какое-то особое напряжение чувствовалось в этих камнях, принявших столь странные очертания. С момента появления скал Мэка на дневной поверхности прошло много веков, но всесокрушающая рука времени не коснулась их. Они и поныне стоят незыблемо, как бы выполняя какую-то странную миссию, неведомую простым смертным. Я поймал себя на том, что на меня скалы эти произвели неприятное впечатление. Не хотел бы я быть здесь в одиночестве. Еще более одиноким я почувствовал бы себя вдали от людей, в сообществе с этими молчаливыми каменными, громадами. Тогда я вспомнил слова туземцев: «Наша близко туда ходи нету». Солнце близко склонялось к западу. Лучи его озаряли только вершины гор, а по долинам уже ползли сумеречные тени. Они распространялись вширь и захватывали все большие и большие участки земной поверхности. До ночи было еще далеко, но в самом освещении и по тому, как вели себя пернатые, уже чувствовалось угасание дня. Мы обошли самую большую скалу кругом и тут увидели множество расщелин в камнях, служивших логовищами для тигров. Некоторые из них имели вид глубоких колодцев. Там и сям валялись перегрызанные кости и клочки шерсти съеденных ими животных. Надо было торопиться и вовремя добраться до бивака. Мы начали спуск в долину. Однако сумерки захватили нас раньше, чем мы рассчитывали. Выйдя на речку, Хутунка дал два выстрела. Спустя некоторое время нам ответили тоже выстрелами. На небе еще догорали отблески вечерней зари, а на земле внизу ночнаятьма быстро заполняла лес. Чем больше сгущается мрак, тем больше напрягаешь слух, и тогда улавливаешь такие звуки, которых днем обыкновенно не замечаешь: слышится подавленный вздох, сдержанный шепот и шорохи бесчисленных растений. За день мы сильно устали и теперь едва волочили ноги. Лесу, казалось, не будет конца. Я хотел было сесть на валежник, чтобы отдохнуть, но в это время увидел свет от костра. Через несколько минут мы были в палатке, пили горячий чай и делились впечатлениями. После осмотра местности с высоты «чертовых скал» и на основании целого ряда примет мы убедились, что находимся в истоках Нефикцы. На второй день пути наш отряд достиг рассошины, где две речки сливались вместе. Здесь мы нашли очень много рыбы. В какие-нибудь двадцать минут орочи поймали двух больших тайменей и штук пятнадцать крупных ленков. Во время этого перехода Гобули натер себе спину котомкой. На месте загрязненной ссадины образовался большой нарыв. Пришлось больного освободить от ноши и котомку его разобрать всем понемногу. Это было неприятно, но что же делать! Я предложил Гобули поставить на ночь согревающий компресс, но он отказался и просил Миону лечить его шаманством. Они говорили, что причиной заболевания Гобули был я, позволивший трогать муравейник. На мой вопрос, почему же в таком случае я здоров, Миону отвечал: — Удэхейцы постоянно живут в тайге и всего боятся, а лоца (русские) живут в городе и в тайгу приходят редко и не надолго. Кроме того, у русских нет шаманства, и севоны их не касаются. По моим наблюдениям 1908, 1909, 1926 и 1927 годов и по наблюдениям профессора Савича, громадные девственные леса, которые начинаются от Анюя и тянутся к юго-западу через верховья Пихцы, Мухеня и Немпту, занимают площадь по крайней мере в миллион гектаров. По долинам преобладают смешанные леса, состоящие из широколиственных пород, а по склонам гор произрастают могучие хвойные леса, в которых пятьдесят — семьдесят процентов выпадает на долю кедра. Величественно-декоративный вид имела здешняя тайга. Утренние заморозки разукрасили ее во все цвета радуги. Ушастая какалия сделалась темно-фиолетовой; растущая с ней в сообществе маньчжурская лещина сменила свой зеленый наряд на буро-коричневый. Наиболее ярко окрашенными оказались клен и виноград. У них можно было видеть все переходы от малинового цвета к багряному и нежно-пурпурному. По берегам реки в изобилии рос даурский боярышник. Я узнал его по обилию крупных и полупрозрачных оранжево-красных плодов, за которыми иногда совсем не было видно листвы. Раньше других стала вянуть амурская липа. Сначала пожелтели отдельные ветви ее — наиболее слабые и чем-нибудь пораженные, а потом и вся крона. Плосколистная береза никла тонкими длинными ветвями и осыпала на землю золотисто-желтую листву свою. Только один дуб сопротивлялся осенним холодам и ни за что не хотел сбрасывать свой летний наряд. Здешнее подлесье состоит из самых разнообразных кустарников; оно настолько густо, что скрывает человека с головой. Каждый раз, когда вступаешь в такой большой лес, чувствуешь некоторый страх, сознаешь свое бессилие. Тайга совершенно равнодушна к страданиям заблудившегося человека. Крики о помощи, на которые, как бы насмехаясь, будет отвечать эхо, привлекут только хищных зверей. Несколько лет назад двенадцать лесорубов, русских и китайцев, решили идти от реки Пихцы напрямик к Хабаровску. Они заблудились в тайге и все погибли от голода. На другой год осенью охотники-туземцы нашли обрывки их одежд и разбросанные по лесу человеческие кости. Место это стало запретным. Истоки Пихцы, Мухеня и Немпту ныне представляют собой самое зверовое место в крае. На песке и на сырой илистой почве около реки — всюду виднелись следы кабанов и тигров. Во многих местах земля была положительно истоптана изюбрами. Каждый день мы натыкались на медведей. Они выдавали себя ворчаньем и убегали по чаще, поднимая сильный шум. В верховья Мухеня мы попали как раз во время изюбрового рева. Ночи были ясные, холодные. Луна с небесной высоты мягким сиянием озаряла «великий лес». Олени слонялись по тайге и будили нас своими криками. Иногда к биваку приближались и другие звери. Орочи отгоняли их стрельбой из ружей и разбрасывали по кустам головешки. Одиннадцатого сентября мы дошли до впадения реки Кава в реку Нефикцу. Отсюда уже было возможно плавание на лодках. За неимением тополя (дерева этого совсем нет на северо-западных склонах Хорского хребта) орочи стали долбить две улимагды из кедра. Такие лодки не выдерживают длинного пути и растрескиваются, но нам нужно было только доехать до реки Немпту. Каждый раз после полудня мы с Кардаковым ходили на экскурсию в разных направлениях. Эти прогулки давали столь обильный материал для наблюдения, что его не всегда удавалось записать в дневники как следует. Один раз незадолго до сумерек я взял ружье и пошел по старой зверовой тропе. Отойдя километр от бивака, я остановился у большого ясеня, росшего на самом берегу. С левой стороны в Нефикцу впадал какой-то ручей. Здесь край долины обрывался высоким утесом, похожим на человеческую голову с прищуренным глазом, горбатым носом и косматой шапкой волос. Кругом было жутко, тихо. Словно опасаясь чего-то, все живое притаилось и было настороже. Каменная голова тоже как будто приоткрыла рот и вслушивалась в мертвящую тишину леса. Вдруг сильный шум в стороне заставил меня вздрогнуть и поднять ружье. Молодой изюбр, как вихрь, пронесся мимо. Я видел только голову его с ушами, но без рогов, и белое пятно на заднем конце тела. Кто-то проворно стал взбираться на сопку. Через колодину, лежавшую поперек реки, с фырканьем пробежал колонок. Вверху всполошились пернатые и подняли тревожную перекличку. Через минуту шум на сопке затих, но птицы долго не могли успокоиться. Очевидно, какой-то зверь, может быть тигр, напал на изюбра. Последнему удалось бежать. Он поднял большой шум в лесу и тем напугал других животных. С виду пустынная тайга полна жизни. Каждый день, каждый час здесь разыгрываются кровавые трагедии. Сжимая ружье в руках, с затаенным дыханием я сделал несколько шагов и прислушался. Лес снова погрузился в глубокое молчание. Солнце снизилось к горизонту и как бы село на зубчатые вершины елей и пихт. От деревьев по земле потянулись длинные тени. Тогда я забросил винтовку на плечо и быстро пошел по тропе, чтобы добраться до бивака засветло. Четырнадцатого сентября обе лодки были готовы. После полудня мы тронулись в путь. Река Нефикца оказалась тоже заваленной колодником, который очень мешал нашему плаванию. Приходилось часто останавливаться и разбирать его, стоя по колено и по пояс в воде. Время было позднее, а вода холодная, в особенности по утрам. Заломы встречались чуть ли не на каждом шагу. Люди сильно зябли и отогревались у костров. Орочи работали топорами; естественно, они поднимали большой шум и отгоняли зверей от реки. Тем не менее мы все же имели свежее оленье мясо, которым и питались все время, пока шли по реке Нефикце. Семнадцатого сентября мы вышли на Мухень и около устья Алчи нашли еще одну базу. Весьма ненастная погода опять задержала нас здесь. Четыре дня лил холодный дождь. Мы устроились на галечниковой отмели в палатках и все время сидели у огня. В это время года промокнуть опаснее, чем озябнуть зимою, — сразу можно получить плеврит или воспаление легких. Я очень беспокоился за туземцев, моих верных спутников. Они ловили под дождем рыбу, ходили на охоту, рубили дрова. Несомненно, у них была привычка к холоду с раннего детства. Меня удивляли их выносливость и полное равнодушие к ненастью. Наконец 21 сентября дождь перестал. Тучи на небе, лежавшие до сих пор неподвижной темно-серой пеленой, пришли в движение. Кое-где показались просветы. Сквозь них проглянуло синее небо, и прорвался первый солнечный луч. Словно прожектором, он осветил еще мокрую от дождей землю и разнообразно пеструю листву деревьев. Тотчас мы уложили в лодки весь свой багаж и поплыли вниз по Мухеню. После принятия в себя реки Нефикцы он выходит на равнину и делается очень извилистым. Характер растительности тоже очень изменился. Широколиственные леса с значительной примесью хвои остались позади. Теперь по берегам Мухеня, кроме дуба, липы, березы и осины, произрастала в большом количестве сибирская яблоня с таким обилием мелких плодов, что ветви под тяжестью их гнулись книзу и казались окрашенными в кроваво-красный цвет. Еще больше было черемухи обыкновенной. Ее издали можно узнать по поломанным и пригнутым к земле медведями веткам. Большею частью она уже осыпала свои плоды, потерявшие аромат и вкус. Здесь также в изобилии росла калина Саржента, украшенная гроздьями красной ягоды. Незатененные южные склоны гор были покрыты леспедецей двуцветной. Этот кустарник является любимым кормом изюбров. Мелкие листочки его обладают способностью задерживать на себе крупные капли росы. Достаточно утром походить среди леспедецы несколько минут, чтобы вымокнуть так, как будто пришлось перейти вброд глубокую речку. Надо было торопиться, чтобы наверстать потерянное из-за дождей время. Поэтому мы решили плыть весь день и всю ночь. Уже по тому, как окрасилось небо, когда солнце скрылось за лесом, и по общему состоянию атмосферы видно было, что ночь будет морозная. Часов в шесть вечера мы переобулись и надели на себя все, что только было можно: одеяла, комарники и порожние мешки. Странный вид мы имели теперь, завернутые в грязные полотнища палаток и обмотанные веревками, чтобы они не сползали с плеч. Когда на западе багровая заря погасла совсем, казалось, будто на землю спустилось холодное дыхание смерти, которое должно было погубить последние остатки цветковой растительности. Прибрежные деревья, склонившиеся сводом над рекою, образовали как бы туннель, наполненный черною и неподвижною, как смола, водою. Одна лодка отстала немного, а мы пошли вперед с намерением поохотиться на изюбров, которые должны были еще отзываться на зов берестяного рожка. Мы плыли по течению и не разговаривали между собою. Темные силуэты деревьев, темная вода и такие же темные берега — все утонуло во мраке ночи, и нельзя было разобрать, движется лодка или стоит на месте. От холода я вздрагивал и, очнувшись, видел отражение звездного неба в воде. Один раз мы спугнули медведя. Он рявкнул и бросился в чащу. Я дремал, зяб, просыпался, старался поплотнее закутаться в палатку, опять дремал и никак не мог согреться. Перед рассветом мы пристали к песчаной косе, развели большой огонь, около которого погрелись немного, и напились горячей воды. Взошедшее солнце осветило растительность, побитую морозом. Камни, куски дерева и прибрежный песок забелели от инея. Палатки коробились, как кожухи. Мы просушили их на огне, пошли дальше и в восемь часов утра прибыли на реку Немпту. Следующий день выпал ясный и светлый. Хотя солнце по-прежнему посылало лучи свои на землю, но они уже не давали тепла. Двадцать седьмого сентября наш маленький отряд поднимался по реке Немпту до правого притока ее, Бяксора. Здесь мы расстались с лодками совсем. Теперь нам предстоял еще один, последний маршрут по болотам до высот, которые чуть-чуть виднелись на горизонте. Там был Хабаровск. Релка, давшая нам приют, была покрыта дубняком в возрасте от пятидесяти до ста лет. Около речки я ухватился за какой-то куст и больно уколол руку. Длинные острые шипы и сережки красных кислых ягод убедили меня в том, что я имею дело с амурским барбарисом. В другом кустарнике, тоже лишенном листвы, я узнал розу даурскую. Мелкие красные шаровидные плоды его уже стали подсыхать. Последняя запись в моем дневнике относится к спирее иволистной, образующей заросли по берегу реки. Вместо красивых розовых цветов на стеблях ее торчали темные помпоны. Вегетационный период кончился; кустарниковая растительность, лишенная листвы, принимала вид спутанных голых прутьев, в которых трудно разобраться неспециалисту. Зеленые вейниковые луга приняли буро-желтую окраску и по-прежнему волновались, точно грязная, взбаламученная вода. Еще несколько дней — и их станет заваливать снегом. Река Немпту протекает среди обширных болот и имеет такое же извилистое течение, как и Мухень. Русло ее все время сопровождается рядом стариц, слепых рукавов, маленьких озерков и глухих проток, незаметно переходящих в болота. Низина, по которой протекает река, еще долго не обсохнет: уровень ее медленно подымается, и медленно нарастают слои гумуса. Медленно растительность отвоевывает участки суши у воды. Вода отступает, но не без сопротивления. Она задерживается во время засухи и вновь появляется в ненастное время года. Кое-где над низиной подымаются невысокие релки, поросшие тонкоствольной осиной. Они едва возвышаются над общим уровнем воды в реке, и если бы не древесная растительность, их можно было бы совсем не заметить и пройти мимо. Посредине релки при выкапывании ямки появляется вода уже на глубине двадцати сантиметров. После столь длительного путешествия силы наши были подорваны, и потому переход через зыбучие болота всем показался очень утомительным. И в самом деле, котомки делались с каждым днем легче, а нести их становилось все труднее, и труднее. Лямки сильно нарезали плечи. Всякая мелочь, положенная в котомку, вроде шкурки бурундука, весившая несколько граммов, давала себя чувствовать. Иногда мы пользовались тропами, протоптанными сохатыми. Эти крупные животные, несмотря на свой большой вес и как бы кажущуюся неприспособленность ходить по болотам, любят такие места. Они как-то чутьем угадывают, где можно пройти, чтобы не провалиться в «окна». Там и сям виднелись большие лужи стоячей воды вроде озерков, с которых с криками снимались большие стаи гусей. Этих осторожных птиц здесь было великое множество. Перелет был в полном разгаре. Над болотами носились бесчисленные табуны уток. На фоне бледного неба их хорошо видно; но когда они все разом снижались к земле, то мгновенно пропадали из глаз, и неизвестно было, садились ли они снова на воду или летели дальше. Такого количества водной птицы мне давно не приходилось видеть. Болота по-своему тоже красивы и богато населены, но мы так устали, что нам было теперь не до наблюдений. Мы выбивались из сил, потому что отдыхать можно было не тогда, когда этого требовал организм, а когда попадались релки, где можно было снять котомки и лечь на землю. Двадцать седьмого сентября мы подошли наконец к сопкам, отделяющим озеро Петропавловское от бассейна реки Немпту. Вдоль этой возвышенности проходит телеграфная просека и по ней тропа к селению Анастасьевка. Первый русский человек, которого мы встретили здесь, был производитель работ Дальневосточного переселенческого управления Двигандев. Он издали заметил каких-то подозрительных людей, пробиравшихся по лесу с котомками за плечами, и решил, что имеет дело с контрабандистами. Скоро все разъяснилось, и мы крепко пожали друг другу руки. Весь путь от Советской гавани мы совершили целиной по лесу, имея под ногами мягкую перегнойную почву, мох или листву. Это сказалось тотчас, как только мы вышли на дорогу с жестким каменистым грунтом. Мои спутники сразу сбили ноги и потому, не доходя трех километров до селения Анастасьевка, еще засветло должны были встать биваком. На другой день мы с трудом дотащились до деревни, где нашли приют и отдых у Двиганцева. 30 сентября мы прошли селение Волконское и 1 октября вступили в Хабаровск. Весь маршрут от Советской гавани до Амура, длиною в 1873 километра, был пройден в 106 суток. Он распределился так: пешком с котомками сделано 863 километра, а на лодках — 1010 километров. Экспедиция пересекла пять водоразделов. Путь наш окончен.
Лесные люди удэхейцы

Предисловие
«Если дикая и девственная страна подвергается колонизации, то влияние ее сказывается прежде всего не на флоре и фауне, а на человеке». Л. Шренк.Автор брошюры «Лесные люди — удэхейцы» имел возможность познакомиться с туземцами, которые называют себя удэ(hе), в то время, когда страна не подвергалась еще колонизации. Туземцы эти обитают в лесах по правым притокам Уссури и на побережьи Японского моря по ту сторону водораздела. На юге большое влияние имели на них русские и китайцы, но в центральной части горной области Сихотэ-Алиня, куда трудно было проникнуть, удэхейцы еще долго сохраняли свои обычаи и нравы. Ныне, под влиянием культур, надвигающихся на них с юга и с запада, началась коренная ломка их общественного строя со стороны моральной и социальной. Инстинктивно чувствуя, что в лице корейцев, китайцев и русских к ним явились сильные конкуренты, туземцы начали оставлять веками насиженные места и отходить подальше в горы. Если бы кто-нибудь из читателей пожелал теперь увидеть удэхейцев такими, какими они описаны в этой брошюре, ему пришлось бы совершить большое путешествие и забраться в самые истоки Хунгари, Анюя, Хора, Бикина и Копи. Но и там уже сказалось влияние цивилизации. В настоящее время удэхейцы сделали много заимствований у «завоевателей» и многое утратили в своем укладе жизни, которая была так же безыскусственна и проста, как просты они сами. Настоящая брошюра есть краткое и популярное изложение большого труда «Страна удэ(hе)», над которым автор работает более 25 лет и к изданию которого он намерен приступить в ближайшем будущем. Так как брошюра популярная и имеет в виду широкого читателя, туземные названия, которые встречаются в тексте, изображены русскими буквами (с допуском некоторых искажений), потому что транскрипция звуков, не имеющих в русском алфавите соответствующих знаков, довольно сложна. Например:
 Эти материалы (фольклор, грамматика и словарь) автор оставляет до специального изложения во втором томе «Страна удэ(hе)».
4 апреля 1926 г.
Г. Владивосток.
Эти материалы (фольклор, грамматика и словарь) автор оставляет до специального изложения во втором томе «Страна удэ(hе)».
4 апреля 1926 г.
Г. Владивосток.
I Внешний быт удэхейцев
Тазы, удэхейцы. Первоначальная родина. Причины вымирания. Физический тип. Характер. Одежда. Язык. Жилища. Приспособляемость к окружающей среде.
Лесные люди-удэхейцы занимают центральную часть горной области Сихотэ-Алиня. Численность их определяют около 1.700 человек обоего пола. Раньше они распространялись далеко на юг. Наши зверопромышленники Худяковы и старообрядцы из селения Красный Яр в начале семидесятых годов прошлого столетия видели их около Посьета, куда они спускались ради охоты за дорогими пантами. К западу от Сихотэ-Алиня удэхейцы жили по р. Даубихе, Улахе и Ното. С течением времени они частью вымерли, частью же, потесненные китайцами, отошли на север. Оставшиеся подверглись совершенному ассимилированию со стороны пришлого китайского населения и получили название «тазов». Китайцы, обитавшие в Уссурийском крае, называли себя «ман-цзы», что значит «полный» или «свободный сын»; русских звали «мао-цзы», т. е. «люди, носящие шапку»; а всех туземцев — «да-цзы», т. е. «аборигены», туземцы. Так, да-цз'ами считались и гольды, и гиляки, и чукчи, и маньчжуры. Отсюда — солон да-цзы (солоны), «мунгуда-цзы» (монголы), «ю-пи да-цзы» (туземцы, одетые в рыбью кожу) и т. д. Теперь в Уссурийском крае почти невозможно отличить «таза» от китайца ни по языку, ни по религии, ни по одежде. Они совершенно утратили свой первоначальный облик. Первых «тазов» единичными личностями мы находим по рекам Сучану и Судзухе, но чем дальше подвигаться на север, тем они встречаются чаще и чаще. Все тазы — природные охотники. Охота — единственная страсть, которой из их натуры не могли вытеснить манзы. Поэтому им разрешено было носить оружие. К тому же они имели право и на надел земли. Китайцы пользовались такой двойственностью, при удобном случае называя себя также тазами, лишь бы остаться на месте и не быть изгнанными из Приморья. Вот почему при наделе туземцев землею часто бывали случаи, когда бывший удэхеец должен был уступить свое место китайцу только потому, что последний сумел втереться в доверие к чиновнику. Подобные случаи ошибок, к сожалению, были не единичными и в последние годы. С другой стороны, и наши переселенцы не хотят признавать за тазами такое же, если не большее, право на проживание в Уссурийском крае, как и за русскими колонистами. Переселенцы совершенно не были подготовлены к встрече с туземцами, и потому с первых же дней между теми и другими создались отношения враждебные. Теснимые русскими и китайцами, удэхейцы начали оставлять родные могилы и веками насиженные места и уходить все дальше и дальше в горы. Особенно в тяжелом положении очутились южно-уссурийские тазы, которые волею судеб и на несчастье свое сделались оседлыми и потому без клочка земли, годной для хлебопашества, они теперь более существовать уже не могут. Китайских женщин в крае очень мало. В большинстве случаев манзы берут себе в жены тазок силою или сманивают их разными подарками. Такой китаец, женившийся на туземной женщине, убежденно считает себя тазом. Однако, это ему нисколько не мешает, как только он накопит денег, уехать на родину и там снова назвать себя китайцем. Тазку с детьми, если она молодая, обыкновенно они передают друг другу, а в худшем случае, если она старая, бросают вместе с детьми на произвол судьбы без всякого сожаления. Справедливость требует, чтобы такое потомство, оставшееся от смешанного брака китайца с тазкой, было причислено к туземному населению страны и чтобы ему было предоставлено право на надел земли наравне с прочими туземцами. К северу границею распространения этих окитаянных удэхейцев будет долина р. Ното и на побережье моря — бухта Терней (р. Санхобе). Тазы эти очень бедны, имеют нрав тихий, живут в маленьких фанзочках китайского типа, где-нибудь в стороне около гор и занимаются хлебопашеством. Они ни слова не понимают по-удэхейски, говорят исключительно по-китайски, не умеют ходить на лыжах и плавать по горным речкам и не могут делать лодок. Дальше к северу по побережью моря от бухты Терней до р. Амагу живут те же тазы, но меньше подвергшиеся влиянию китайцев. Одежда их состоит из смеси китайского костюма с удэхейским. Многие из них знают одиночные удэхейские слова, но говорят по-китайски. Некоторые старики умеют делать лодки, с грехом пополам плавают по рекам и плохо ходят на лыжах. Эти тазы живут в китайских фанзах, занимаются летом хлебопашеством, а зимою — соболеванием. Китайцы называют их «чжагубай», что значит «кровосмешанные». Еще дальше от мыса Белкина вплоть до реки Нахтоху и к западу от Сихотэ-Алиня, в бассейне Имана и реки Баку встречаются уже такие туземцы, которые называют себя «удэ (хе)». Одеваются они в свои пестрые костюмы, но говорят по-китайски, и только в том случае, если хотят между собою переговорить по секрету, объясняются на своем родном наречии. Живут они все же в фанзах, имеют у себя небольшие огороды, хлебопашеством не занимаются и проводят большую часть времени на охоте и рыбной ловле. Это будут первые удэхейцы, которые не держат у себя лошадей и рогатого скота. Способы передвижения у них обычные для туземцев: на собаках с нартами зимой и на лодках в остальное время года. Это будут первые удэхейцы, которые делают себе запасы «юколы» на год. Еще выше вплоть до мыса Аку, по верхнему течению Копи, по всему Бикину, Хору, по p.p. Мухеню, Анюю и по низовьям Хунгари, живут настоящие удэхейцы. Мы видим, что эти последние занимают большую часть Уссурийского края и в численном отношении превосходят всех своих сородичей, взятых вместе, живущих от них и к северу, и к югу. Одеваются они в свои национальные костюмы, знают выделку рыбьей кожи. Фанз у них нет, живут в юртах и занимаются исключительно только охотой и рыболовством. Между собой говорят на родном языке и только счет да некоторые одиночные слова знают по-китайски. Тазы русских имен не имеют и называют себя китайскими, напр., Сун-цай, Чан-Лин, Бао-ин и т. д. Удэхейцы вместо фамилии называют свой род (ео сэени), который отмечает местность, где исстари жили их отцы и деды. Напр., Намука — от слова «Наму», что значит море, Копинка — от р. Копи, Куинка — от p. Куи, Ауканка — от бухты Аука и т. д. Название орочи, орочены, постоянно даваемое удэхейцам, появившееся в литературе со времен Шренка, совершенно неправильно и относится только к туземцам, обитающим в северо-восточной части Уссурийского края по р. Копи, Хади, Тумнину и по верхнему течению Хунгари. Следует всех тазов и так называемых «уссурийских орочей» объединить под одним именем «удэ (хе)», как сами себя они и называют. Вся суть в том, что одни в большей, а другие в меньшей степени подверглись ассимиляции со стороны культурных соседей, преимущественно китайцев. Отдаленна и незапамятна та эпоха, когда удэхейцы появились в Уссурийском крае. Хотя они живут на берегу Великого океана, но боятся моря. У них нет морской лодки, нет своего паруса. Все это указывает, что в места нынешнего своего обитания они пришли сухопутьем. В сказках их чувствуется влияние юга. Это народ континентальный, и первоначальной родиной его, по всей вероятности, была южная Маньчжурия. В атласе исторических карт Маньчжурии[334] мы находим, что в 1115 году по Р. Х. в бассейне правых притоков Уссури появляются две народности Цзираминь и Удага. В первых мы узнаем гиляков (цзи-ли-ми, ги-ле-ми, гилями), впоследствии оттесненных к устью Амура. Вторые распространяются по всему Уссурийскому краю и сохраняют свое самоназвание «удэ (хе)» по сие время. В Маньчжурии в это время расширяет границы и укрепляется чжурчженское государство Цзинь. В 1284 году орды великого завоевателя Чин-Гиз-Хана докатились до берегов Великого океана и разрушили самобытное существование чжурчженей. Оставшиеся тунгусские племена понизились в культурном уровне и превратились в охотников и рыболовов. В XVII столетии владетельный князь одного из аймаков, Нурхаци, объединяет разрозненные маньчжурские племена и наносит ряд поражений китайским войскам, а сын его Тайцзун окончательно овладевает Пекином и на китайский престол сажает свою династию. С 1607 по 1615 г.г. он предпринимает ряд походов к берегам Великого океана и завоевывает земли «Воцзи». С этого времени историческая нить прерывается, и страна, по-видимому, пребывала в состоянии того запустения, в котором застали ее русские в 1857 году. В Уссурийском крае в то время обитало четыре народа: китайцы (манцзы) — главным образом в южной части страны, гольды — по Уссури, орочи — по p.p. Копи и Тумнину, удэ (хе) (удага) — в бассейне правых притоков Уссури по p.p. Анюю и Хунгари, впадающих в нижний Амур справа, и в прибрежном районе к северу от залива Ольги до р. Ботчи включительно. Эти последние (удэхе) подверглись влиянию культур, надвинувшихся на них с запада, и только те, что жили в глубине гор и лесов, куда китайцы и русские не успели еще проникнуть, сохранили в большей чистоте свои обычаи и нравы.
Если этнографические карты 1881 года (академика Шренка) и 1894 года (приложенную к трудам Приам. Русского Географического Общества) сравним с современным расселением удэхейцев, то увидим, что перемены произошли, главным образом, на побережье моря, в Южно-Уссурийском крае и по низовьям p.p. Имана, Бикина и Хора. В Уссурийском крае в миниатюре повторилось то же, что и при передвижении бурят, якутов, тунгусов к северу от Амура. Сначала китайцы потеснили туземцев, потом русские переселенцы потеснили китайцев. Последние отодвинулись в горы и в свою очередь снова потеснили удэхейцев. Центральная же часть горной области Сихотэ-Алиня и все северные районы изменений не претерпели. По рассказам самих удэхейцев, раньше их было так много, что, пока лебеди летели от р. Копи до залива Ольги, то от дыма, подымавшегося от множества юрт, из белых становились черными. Так говорили они о многочисленности своих поселений. Какие же были причины их вымирания? Таких причин много. Раньше они жили лучше. Природа снабжала их всем в изобилии, и они совершенно не знали денег. Теперь же потребности к жизни увеличились, а тайга стала давать все меньше. Расход не стал уравновешиваться с приходом, а тут еще появились скупщики пушнины со спиртом и со своими дорогими товарами. Усваивая только внешнюю сторону цивилизации, занесенной к ним русскими и китайцами, удэхейцы не успевали за ними в борьбе за существование и начали все больше и больше отставать от пришельцев. Чужеземцы занесли к удэхейцам много новых болезней. Особенно сильно свирепствует среди них оспа, от которой удэхейцы вымирают с изумительной быстротой. В течение нескольких суток от целого стойбища не остается ни одного человека. Не менее опасна для них также и корь. Она страшна своими осложнениями, от которых они гибнут во множестве. Есть зарегистрированные случаи смерти от трахомы, когда целая семья охотников, потеряв зрение, не только не могла добыть средств для существования, но не имела возможности выбраться из тайги и погибала от голода. Главными распространителями заразы являются — питьевая вода, грязь в жилище, грязь на теле и то обстоятельство, что здоровые люди находятся под одной кровлей с заразными больными и имеют с ними постоянное и тесное общение. Физический тип лесного обитателя-удэхейца — близок к тунгусскому. Средний рост мужчин — 166 сантиметров, женщин — 145 см. Фигура стройная, сухощавая. Среди них нет ни толстых, ни тонких; они все одинаковы и как бы вылиты из одной формы. Небольшая величина рук и ног бросается в глаза. Череп круглый, лоб несколько скошенный назад. Монгольская складка век развита в детстве, хотя у иных женщин она сохраняется и во взрослом состоянии; нос плоский, с низкой переносицей и, большею частью, выгнутый. Впрочем, на р. Кусуки и севернее до р. Самарги (в особенности на р. Един) можно было найти и горбоносых. Растительность на лице редкая. Волосы длинные, черные и прямые. Очень часто среди южно-уссурийских тазов можно встретить темно-русых, а детей — блондинов. Цвет глаз — карий. Кожа — грязно-смуглая, со слабым оттенком желтизны. Особенно поражает сильно развитая скуластость у женщин, так что лицо в действительности шире черепа и имеет форму пятиугольника. Этой скуластости нет у мужчин, она не выражена и у детей и, по-видимому, развивается только по женской линии с возрастом.

Осторожные, молчаливые и скрытные удэхейцы обладают удивительной выдержкой характера. Они говорят тихо, лаконически и никогда не спорят. Выражение лица бесстрастное, словно на него одета маска. Ни один мускул не дрогнет и не выдаст его душевного настроения. И молодые и старые держат себя всегда с достоинством. Удэхейцы вместе с тем экспансивны и впечатлительны. Переход от мысли к делу очень быстрый. Иногда же, наоборот, задуманное дело откладывается в долгий ящик, если оно является необходимостью или должно быть выполнено по принуждению. Одежда мужчин состоит из халата (тэга), узких штанов (хэйги), наколенников (амуги), нарукавников (адакты), головного покрывала (помпу) и маленькой шапочки (богдо). Халат — маньчжурского покроя, застегивается с правой стороны почти под мышкой и подпоясывается узким ременным поясом так, чтобы вокруг талии был небольшой напуск. Штаны и наколенники тоже привязываются к ремню. Нарукавники надеваются для того, чтобы в рукава не залезала мошка и не задувал ветер. Головное покрывало — всегда белого цвета — имеет вид капюшона такого размера, чтобы оно закрывало плечи и сзади опускалось углом до середины спины. Шапочка обычно делается из козьих лапок и оторочена узкой полоской меха выдры. Наверху в стоячем положении на ней прикреплен беличий или соболий хвостик. Летняя обувь — кожаные унты, а зимой унты того же покроя, но сшитые из рыбьей кожи. Весь костюм удэхейца, от головного убора до обуви, богато и красочно разукрашен орнаментами, вышитыми цветными нитками. Раньше одежда их шилась из выделанных звериных шкур и рыбьей кожи. В настоящее время они стали покупать различные материи у русских и китайцев, а красивые вышивки свои заменять полосками дешевого ситца. Зимой одежда удэхейцев большею частью шьется из ровдуги. Костюм из рыбьей кожи непромокаем и является плохим проводником холода, почему, одетый поверх другой одежды, является незаменимым для охотника и рыболова. Особенной пестротой костюма отличается одежда женщин. Помимо того, что вся она сшита из отдельных цветных полос и сплошь разукрашена узорными вышивками, она вся увешана мелкими раковинами (кяхта), бубенчиками и медными побрякушками (абду) так, что при всяком движении издает мелодичный шелестящий шум. Обыкновенно женщины носят две-три рубашки, одну поверх другой, короткие панталоны, наколенники, унты, а на голове — платок или полотенце, в носу серебряные украшения (тематыни), в ушах серьги в виде больших колец с цветными бусами (уайга) по одной или по нескольку пар, вследствие чего мочка уха несколько оттянута. Ушные серьги раньше носили также и мужчины, но теперь обычай этот почти вышел из употребления. Зато они большие любители колец и браслетов. Выше было сказано, что по окраинам территории, занятой удэхейцами, они смешались с соседними народами и сделали у них много заимствований. Они были слабы физически и слабы духом. На юге на них имели влияние манзы, на севере — орочи, на западе — русские и гольды. Получился ряд наслоений, под которым уже трудно видеть прежнего удэхейца. Этим объясняется такое обилие в их языке наречий. На каждой реке они имеют свой особый говор. Прибрежные «намука» говорят языком, отличным от своих сородичей на Бикине, удэхейцы с р. Имана едва могут объясниться с людьми на р. Анюе и Хунгари и т. д.

Язык удэхейцев богат гласными звуками, иногда с удвоениями и утроениями одной и той же буквы. Напр., «Ая» — хорошо, «ыи» — это, «уо» — гора, «ули» — вода, «инаи» — собака, «уа» — туман, «Яаи» — название реки, «ейни-ая» — очень хорошо, «кяаса» — орел, «эымо» — моллюск, «куан» — баклан, «васаа-адианан» — погоди немного и т. д. Вследствие обилия гласных звуков речь их полна интонации, которая иногда принимает певучие оттенки напр.: «Анаа-анана», т. е. давно-давно… У них нет никакой письменности, нет даже знаков, которые изображали бы цифры, но есть свои условные таежные знаки. Например, воткнутая заструганная палочка — есть обращение внимания прохожего, что это дело рук человека. Если же рядом с нею воткнут надломленный и согнутый прутик, то он указывает направление, куда пошел человек, оставивший эти сигналы. Положенный на ветку дерева мох или пучок сухой травы означает, что охотники здесь не задерживались и прошли мимо. Положенная на землю стрела говорит, что немного дальше через дорогу насторожен самострел и потому следует быть осмотрительным.

Теперь попытаемся сделать краткое описание жилища лесных людей. Когда вы подходите к юрте, вам прежде всего бросается в глаза множество жердей, стелажей и палок, на которые вешается рыба. Тут же на берегу сушатся развешанные на кольях сети и лежат опрокинутые вверх дном лодки. Завидев незнакомого человека, десятка два собак подымают неистовый лай. Недалеко от жилой юрты высится свайная постройка. Это амбар (цзали), куда складывается сухая рыба, мясо а также все, что есть ценного. В настоящее время многие удэхейцы обзавелись фанзами китайского типа, но жить в этих домах им приходится мало, потому что летом они ловят рыбу и все время проводят в берестяных балаганах (каунва), а осенью уходят на охоту и соболевание, из которого возвращаются только в марте месяце. Юрты удэхейцев сделаны из древесного корья и представляют из себя двускатную крышу, непосредственно поставленную на землю. Чтобы корье не коробилось от сухости и чтобы его не сорвало ветром, его снаружи прижимают лесом; щели не заделываются вовсе — их просто засыпают снегом. Входы в юрту иногда бывают с обеих сторон и завешиваются полотнищами палатки или кусками бересты, растянутыми на палках. Вверху в крыше оставляется отверстие для выхода дыма.

Как только вы войдете в дверь, вы непременно должны согнуться и пролезть или вправо, или влево, иначе вы прямо попадете в огонь. Костер расположен посредине жилища. Стоять в юрте нельзя, надо или лежать, или сидеть. По обе стороны вдоль огня положены берестяные подстилки, устланные звериными шкурами. В головах — коробочки, сундучки и свертки с различным имуществом. Тут же, где-нибудь за корье, заткнуты шаманский бубен, ружье, сошки, копье, самострелы и прочие охотничьи принадлежности. Женщины и дети помещаются около дверей, в одной стороне юрты, мужчины — с другой стороны. Если в юрте живут несколько семей, то каждая чета имеет свой угол. В той стороне, где помещаются женщины, на грубо-связанных полках сложена вся кухонная утварь, сделанная из дерева или бересты и один или два котла, купленные у китайцев. Над огнем, на деревянном крючке висит чайник. Это жилище со всем его скарбом столь несложно, что удэхеец, когда убьет какого-нибудь крупного зверя, вроде лося, предпочитает не зверя тащить к дому, а вместе с семьей перекочевать к тому месту, где лежит убитое им животное. Вот чем объясняются частые находки в тайге покинутых юрт. Жилище строится из материала, находящегося под рукою. Высокою температурою юрты похвастаться удэхейцы не могут. Люди согреваются только лучистою теплотою костра. И в этой температуре живут и женщины, и дети. Почти все время они сидят на корточках у костра и греют свои руки. На ночь, во избежание пожара, огонь гасится. Сквозь открытое дымовое отверстие в крыше видны звезды на небе, и тогда температура в жилище сравнивается с наружною. Привыкая с детства к холоду, удэхейцы приобретают закал и потому легко переносят стужу. Нередкость видеть зимой, как маленькие дети, в легкой одежонке, с непокрытой головой, таскают из амбара мороженую рыбу. Так работают они целый день, несмотря ни на ветер, ни на сильную стужу, только время от времени бегают в юрту, чтобы погреть у огня свои озябшие ручонки. Однажды зимой, в 1907 году, на р. Кусуне я с тремя своими спутниками ловил подо льдом рыбу. Погода стояла холодная и ветреная. На реке была сложена солома для факелов. Покончив с ловлей, мы все забрались в балаган, оставленный японцами, и стали греться у огня. Не пришел только удэхеец Логада. Обеспокоенные его отсутствием, мы пошли его разыскивать. Велико было наше изумление, когда мы нашли его спящим на соломе под открытым небом. Волосы его заиндевели и кожаную куртку кое-где занесло снегом. Я разбудил Логада, он сел, стал очищать от инея смерзшиеся ресницы и спросил, что случилось. Он не озяб, это видно было по тому, что он не шевелил плечами. Я уговорил его идти в балаган. Напившись чаю, Логада стал шутить, и когда кто-то из моих спутников спросил его, почему ему не холодно, он шутливо отвечал: «Я грел спину на месяц».
II Общественный строй
Разделение труда между мужчиной и женщиной. Рождение ребенка. Воспитание детей. Выезд на охоту за соболем. Брак. Родовые отношения. Кровавая месть. Суд.
Общественный строй удэхейцев весьма оригинален. У них власть отсутствует. Никому в голову не приходит мысль главенствовать над другим. И вместе с тем развито почитание старших. Так, молодой человек предпримет что-либо только в случае, если получит одобрение стариков, Но это до тех пор, пока сам старик не почувствует свою дряхлость. Тогда все права в семье переходят к старшему сыну. Глубокие старики, как и старые женщины, становятся хранителями традиций старых обычаев и обрядов. Во всяком деле руководители являются сами. Идут ли удэхейцы на охоту, во главе становится наиболее опытный; он распоряжается, все подчиняются его указаниям и все знают, что это его дело. Едут ли они по морю в лодке, голос остается за человеком, которого все знают, как хорошего морехода. Русские учредили среди них административных старшин. Удэхейцы исполнили это требование добросовестно. Они назначили старшин, с глубоким убеждением, что это нужно не для них, а для русских, а сами остались жить по старым своим законам и обычаям. На стойбище каждая семья живет своей жизнью; тут уже строй патриархальный. В семье распоряжается старший. Все это выходит просто, само собой. Ни разу я не слыхал, чтобы младший вступал в пререкания со старшим и ни разу не было случая, чтобы старший не выслушивал младшего, и не единичны примеры, когда решения большого собрания изменялись по реплике десятилетнего подростка. Удэхейцу незнакомо чувство эгоизма. Дайте ему какого-нибудь лакомства, он ни за что не будет его есть один, он попробует и поделится со всеми его окружающими. Убьет ли он на охоте оленя, поймает ли рыбу, привезет ли муку, — он не отдаст все это только своей семье, но поделится и со всеми соседями. Внимание к чужим интересам, к чужой нужде в нем так же развито, как и забота о своей семье. Если у удэхейца не хватило продовольствия, он просто идет к соседу, зная, что ему никогда не будет отказа. Не раз я видел, как жены, у которых мужья уехали на охоту и запоздали с лишним на месяц, ежедневно брали продовольствие у соседа. Сколько раз случалось, что удэхейцы присылали мне лосиного мяса ровно столько же, сколько оставили себе и сколько рассылали своим ближайшим сородичам. Вот почему семья умершего никогда не остается без средств к жизни. Если нет близких родственников, ее будет содержать весь род, если она другого рода, ее будут содержать чужеродцы и притом не будет делаться никакого различия между нею и своими женами, между ее детьми и своими. Смерть человека вне его вины. Не поддерживать чужую семью — великий грех. Опасность одному человеку есть опасность всему роду, всему народу. Нельзя также обойти молчанием гостеприимства. Этот обычай требует оказывать внимание всякому путнику. Прежде всего гостю предлагается чай, юкола и сушеное мясо; ему не надо заботиться о собаках — их накормят, как следует. Вечером, после ужина, женщины высушат его одежду, осмотрят обувь и, где нужно, сделают починку, или дадут новые унты, а самая младшая из женщин набьет их свежею травою и приготовит одежду. Забота о соседях, хотя бы они были и инородцы, сказывается во всех мелочах. Например, если о соседях, живущих на той же реке, они долго не имеют известий, то посылают к ним кого-нибудь из своей семьисправиться, здоровы ли те, не случилось ли чего-нибудь и не нуждаются ли они в какой-либо помощи. Раздел земли они так же не понимают, как раздел воды и воздуха, которыми пользуются наравне и люди, и звери, и птицы. Кто где хочет, тот там и селится. За последние двадцать пять-тридцать лет часть орочей перекочевали на Хунгари и никто из удэхейцев, живущих на этой реке, не протестовал против этого. Обратное явление — несколько семей удэхейцев перешли на Копи, и копийские орочи отнеслись к этому так, как будто эти удэхейцы живут здесь исстари. Так как удэхеец всегда найдет у своего собрата все, в чем он нуждается, равно и сам он отдаст соседу то, что нужно последнему, краж среди них нет. Им и в голову не приходит мысль, что они могут что-то украсть. Вор, по их понятиям — урод, сумасшедший. Зачем красть, когда сородич и так даст просимое, если только у него оно имеется. Поэтому их жилища и амбары никогда не запираются. Замков ни у кого нет. Только входная дверь в балаган припирается колом или палкою, чтобы ветер ее не открыл и чтобы туда случайно не зашла собака. Наивная честность их прямо-таки трогательна. Однажды на р. Кусуне один удэхеец обратился ко мне с жалобой на старообрядцев. Дело было в том, что приехавшие в Уссурийский край на р. Тахобэ староверы отобрали у него соболиные ловушки и воспретили ему заниматься охотою в местах своих поселений. Я уговорил старообрядцев, чтобы они уплатили ему за ловушки. В разговоре старообрядцы сами рассказывали мне, что этот же самый удэхеец, проходя однажды по тропке, где были его ловушки, которые уже отошли к русским, случайно увидел, что одна из них упала и задавила соболя. Он поднял ловушку, вынул соболя, завернул его в бересту и повесил на дерево, пока не придет хозяин, а ловушку наладил опять, чтобы она не пустовала. Даже и тут оказалось внимание к чужому интересу, внимание к интересу обидчика… В настоящее время честность удэхейцев начала падать. Они стали немного лукавить. Так, например, они теперь не скажут, сколько поймали соболей, и стараются худшие из шкурок сбыть за долги скупщикам пушнины, а две или три лучших припрятать и потом продать их где нибудь на стороне. Они привыкли, что их обманывают на каждом шагу и потому такой невинный обман с своей стороны не считают за грех. Надо поражаться, насколько удэхейцы приспособлены к борьбе с природою. Охота на хищных зверей — обычное их занятие, снежные бури, частые наводнения, постоянный риск жизнью — все это развило в них находчивость и инициативу. Этот дикарь в трудную минуту не потеряет рассудка и с честью сумеет выйти из затруднительного положения. В тайге европейцу за ним не угоняться. Не раз мне приходилось видеть, как, ругая сына, когда тот сделал что-нибудь неладное, старик в сердцах говорил ему: «Омуты лоца», т. е. — «все равно, как русский». В основу питания удэхейцев ложится рыба. Юкола (или — катали намихта) для них то же самое, что для земледельцев хлеб. Без юколы они терпят такую же нужду, как и русский пахарь в неурожайные годы. Юколой удэхеец кормится сам, кормит свою семью и всех своих собак. Даже при самой лучшей и обильной пище они скучают по юколе и всегда предпочитают ее рису, до которого, кстати сказать, они тоже большие охотники. Удэхейцы едят сырую рыбу не только зимою, но и летом. Самое большое лакомство — головные хрящи кеты или горбуши. Они очень часто употребляют в пищу и сырое мясо. Как то раз мы убили лося. Удэхейцы тотчас бросились к животному, вырезали у него ноздри и тут же съели их сырыми. Затем они стали есть сырую печень, потом разбили топором кости ног и стали высасывать из них костный жир. Самым замечательным блюдом является «сяйни». Две женщины жуют: одна рыбу, другая — сырые ягоды и обе сплевывают жвачку в одну чашку. Затем эта смесь размешивается, к ней добавляется немного нерпичьего жира и преподносится гостю, как знак особого к нему внимания. Гость освобождается от жевания: ему остается только глотать. По подсчету самих удэхейцев, им в год на семью, состоящую из мужа, жены, двух детей и старухи матери, кроме юколы и мяса, нужно разных товаров и дополнительного продовольствия на 350 рублей. Эти деньги они должны добывать охотой и, главным образом, соболеванием. Труд между мужчиной и женщиною строго разграничен. На мужчинах лежит охота, рыболовство и соболевание — (так сказать, добывающая промышленность). На женщине — вся домашняя работа, работа около юрты и шитье одежды (обрабатывающая промышленность). Дело мужчины поймать рыбу, дело женщины выпотрошить ее и приготовить юколу. Как бы много ни было работы у женщины, помогать ей мужчины, если они дома, не станут. Они лежат, равнодушно поглядывают на женщин и курят свои трубки. Поэтому и кажется, будто женщина работает больше, чем мужчина. Зато, когда последний пошел следить соболя, он гоняет его по следу подряд двое, трое суток, голодает и выбивается из сил. Было бы ошибочно думать, что удэхейская женщина, будучи привязана к дому, лишена инициативы и не приспособлена к борьбе с природою. В этом отношении она нисколько не уступает своему мужу. Один раз я был свидетелем такой сцены. Мужчина возвратился с охоты и сообщил жене, что убил изюбря и что зверя надо перенести к дому, а сам ушел снова на охоту. Когда женщина отправилась в горы, я пошел с нею. Скоро по следам она нашла убитого оленя и принялась за работу. Я любовался, с какой ловкостью она освежевала зверя. Видно было, что эта работа для нее была невпервые. В несколько минут она вырубила сошки, быстро без проволочек наладила их для носки на спине и в три приема перенесла все мясо к своей юрте. Сколько раз случалось видеть, как одна девушка, без всякой посторонней помощи, на быстрине реки перевозила на лодке моих спутников и только просила их, чтобы они не мешали ей работать и сидели спокойно. Это разделение труда между мужчиной и женщиной сказывается и в положении ее в семье. Она дома держится особняком, ест отдельно от мужчин и не участвует в празднествах медведя. Вот почему женщина более угрюма, более молчалива, чем мужчина. Она ведет обособленный и замкнутый образ жизни. Женщина в период родов считается нечистой. Ей в то время нет места в общей юрте. За несколько дней до родов, шагах в полутораста от жилого помещения, муж делает жене маленькую юрточку, похожую на соболью конуру. Там, несмотря ни на какой мороз, помещается роженица. Муж жену не навещает, только одна какая-нибудь старая женщина подает роженице через дверь дрова и пищу, но сама к ней тоже не входит. Как только родится ребенок, ему перевязывают пуповину и, если это случилось летом, его моют холодной ключевой водой, если роды произошли зимою, ребенка кладут в снег, потом растирают и заворачивают мальчика в медвежий мех, девочку — в мех рыси, белки или молодой кабарги; затем ребенка передают матери. После этого женщина переползает в другую такую же маленькую юрточку, построенную рядом. В этой, второй, юрточке мать с ребенком проводит еще десять суток и только после такого карантина она является в общее жилище. Мать тотчас обмывает ребенка и сажает в зыбку, наполненную мягкими стружками гнилого тальника, растертыми в порошок. Они часто заменяются новыми, сухими. Когда ребенок немного подрастет, его сажают в другую люльку, сделанную из двух лубковых половин под углом в 120° гр. Под люльку подвешиваются, вместо побрякушек, бубенчики, пустые гильзы и кости рыси. Поверх ребенка кладется узорчатое одеяльце, украшенное бисером и цветными пуговицами, а сверх одеяльца, крест на-крест и сквозь боковые отверстия зыбки, протягиваются тонкие ремешки; в этом и заключается все пеленание ребенка. Если ребенок плачет, мать ставит люльку на поперечное ребро и, качая ее, монотонно, под шум побрякушек, припевает: «ба-а-ба! ба-а-ба»! Приспособляемость к борьбе с природою развивается с малого возраста. Едва мальчик начинает вставать на ноги, как к его поясу привязывается два ножа. Не беда, если он обрежется, зато он приучится владеть ими в совершенстве. С десяти лет он уже помогает отцу на охоте и рыбной ловле. В 1907 году на р. Самарге я был свидетелем, как три мальчика 7, 9 и 10 лет лучили ночью рыбу на такой быстрине реки, где я не рискнул бы ехать и днем. Вот еще одна особенность — мальчику в трудную минуту редко приходят на помощь. Ему предоставляют самому выходить из затруднительного положения. Однажды я наблюдал на р. Кусуне, как один мальчуган, заметив, что мышь постоянно ходит по одному и тому же месту, решил ее поймать и стал настораживать самострел. Но это ему не удавалось. Ребенок начал нервничать и готов был заплакать. Я хотел ему помочь, но отец остановил меня. «Пусть сам думает», сказал он. Мальчик действительно додумался, приспособился, и мышь была поймана. То же самое и девочки. С малых лет они помогают матери, таскают дрова, носят воду, чистят рыбу, выделывают кожу и приучаются владеть иголкою. Все удэхейцы: и мужчины, и женщины, и взрослые, и малые курят табак. Все дети имеют трубки. Кормление грудью весьма продолжительно и затягивается иногда до 3-х и 4-х лет. Иногда случается видеть мальчика, которого мать только что отогнала от груди. Он чувствует себя обиженным, из глаз его текут слезы, он садится к огню, достает свою трубку, набивает ее табаком и, всхлипывая, раскуривает ее угольком. Удэхейцы — удивительные мастера плавать по рекам на своих долбленых челноках. Кому случалось видеть горные реки, тот может себе представить, насколько опасно по ним плавание. Быстрота течения доходит до 10–18 верст в час. В области порогов, от шума пенящейся воды, нельзя говорить, надо кричать друг-другу на ухо. И вот по таким-то местам плавают удэхейцы на своих челноках. Управляют лодкой два человека: один стоит на носу, другой на корме сзади. Тут нужны отвага, ловкость, глазомер и физическая сила. Малейший промах, малейшая оплошность, и все погибло. Каждый раз, глядя на удэхейцев, невольно удивляешься их бесстрашию и привычке рисковать жизнью. Тем более это удивительно, что среди них нет ни одного человека, который умел бы плавать. Вот почему они никогда не купаются, они боятся. Удэхейца никогда нельзя уговорить идти в реку, если ее надо перейти в брод, и она более или менее глубока. А между тем на быстрине реки в лодке, когда и хороший, опытный пловец почувствовал бы страх, они вовсе не замечают опасности и работают шестами с таким видом, как будто под ногами у них твердая почва. Все удэхейцы замечательные мастера бить острогою рыбу. Если она проходит далеко от лодки и достать ее нельзя, они бросают в нее острогою и почти всегда без промаха. Так же они бьют и плавающих птиц, когда они, прячась от людей, ныряют в воду и стараются пройти мимо лодки незамеченными. Лесные люди — страстные охотники и отличные следопыты. Если удэхеец нашел след соболя, китаец платит ему за шкурку зверка вперед, как будто этот соболь уже у него в кармане. Если пойманный соболь окажется высокого качества, китаец ему доплачивает, сколько следует. В пути от зоркого глаза удэхейца ничто не скроется. Он знает, какой зверь и когда прошел, молодой или старый. Оставленный бивак он осматривает с особым вниманием и точно определяет, кто ночевал, сколько людей, какой национальности, чем они занимаются и куда направились. В тайге кругозор всегда ограничен. Таинственная лесная тишина, полная опасности, окружает охотника и заставляет его быть всегда настороже. Он не столько боится диких зверей, сколько человека. Поэтому удэхеец идет так, чтобы не оставить после себя следов. Он никогда не выйдет на открытую поляну, а обойдет ее стороною по опушке леса. Когда удэхеец плывет по реке на оморочке (омо — один, ороч — человек), то держится глухих проток или скрывается у берегов под кустами. На повороте, когда нужно переехать на другую сторону, удэхеец придерживает лодку и осматривает впередилежащее плесо, нет ли кого-либо на реке и только убедившись, что она пустынна, он быстро переплывает ее и опять скрывается под кустами. Завидев издали чужую лодку, он остановится и прежде всего старается определить, с кем имеет дело. Если это не сородичи, он притаится в зарослях ближайшей протоки или, выйдя на берег, ложится в траву и наблюдает за проплывающей мимо лодкой. Лесные обитатели Уссурийского края самые искусные охотники в мире. Они знают повадки всех зверей, знают, где и когда их можно найти, и в этом отношении на всем Дальнем Востоке не имеют себе равных. Одним из самых интересных их промыслов будет охота на лося в ночное время. В начале июля в тайге появляется такое количество мошкары, что все звери покидают низменные места и взбираются на гольцы, где ночной ветер дает им прохладу. Только один лось остается внизу и держится около реки. Время от времени он залезает в воду, затем выходит на берег и пасется, пока шерсть его мокрая. Но вот он начинает обсыхать. Укусы крылатых кровопийц в пахах ног становятся все чувствительнее. Лось жмется, лягается и продолжает кормиться; но и его терпению есть предел. Тогда он срывается с места и с шумом бросается в реку. Он весь погружается в воду, оставляя на поверхности только ноздри, глаза и уши, как раз места, наиболее уязвимые. Он фыркает, мотает головой и своими большими ушами хлопает по воде, обдавая голову целым потоком брызг. Зная эту повадку зверя, два удэхейца садятся в небольшую лодочку и плывут по течению реки. У переднего в руках ружье, у заднего весло. Для удачной охоты нужна темная тихая ночь, надо, чтобы ветер тянул вверх по реке, навстречу лодке, иначе лось далеко почует приближение человека и убежит. При этом следует соблюдать величайшую тишину и так работать веслом, чтобы не было слышно всплесков. Разговаривать нельзя. Удэхейцы объясняются условными знаками: легкий толчок в правый борт лодки означает остановку, такой же толчок в левый борт — можно двигаться вперед, два толчка — увидел зверя и т. д. В тихом ночном воздухе слышно, как лось купается. Легкий челнок, увлекаемый течением и управляемый искусной рукой охотника, без всякого шума все ближе и ближе подплывает к животному. На гладкой поверхности воды, в которой отражаются звезды, чуть-чуть виден силуэт громадного зверя. Еще мгновение и лодка с ним поравнялась. Слышно, как лось дышит, как капает вода с его морды, слышно, как он глотает водяной лютик — лакомая пища, которую он добывает около берега. В это мгновение красноватая короткая молния прорезала ночную мглу. Раскатистое эхо подхватило звук выстрела. Раненый зверь метнулся в ту сторону, куда он стоял головой. Охотник, сидящий в корме, одним ударом весла быстро вывел лодку на середину реки и задержал ее против течения. Лось шарахнулся в сторону. Слышно, как в кустах он барахтается со стонами. Через несколько минут шум стихает совсем. Тогда удэхейцы подходят к берегу, вытаскивают на отмель лодку, чтобы ее не унесло течением и разводят огонь, а затем отправляются к месту, где лежит убитое ими животное. Все удэхейцы отличные бегуны на лыжах. Нынешняя молодежь уже не проходит таких расстояний, как старики в прежнее время. Весной, когда снег занастится, ходоки пробегают по 100 километров в день. Искусство ходить на лыжах у них развито до виртуозности. Например, спускаясь по склону горы к реке, которая еще не замерзла, и опираясь на правило, ловкачи около самой воды описывают окружность и опять поворачиваются лицом в гору. Все лето удэхейцы заняты рыболовством. Надо поймать рыбы столько, чтобы обеспечить семью на весь год, надо заготовить юколу и для собак. Недолов рыбы расстраивает все планы и вынуждает кредитоваться у скупщиков пушнины, преимущественно у китайцев. Но вот кончается рыбная ловля, и удэхеец начинает собираться на соболевание. Он плетет сетку, готовит лыжи, кует стрелы; женщины шьют обувь и починяют одежду. Накануне отъезда все молятся и просят бога Эндури даровать удачную охоту. Всю ночь напролет они шаманят. Звуки бубна, резкий лязг металлических трубок, украшающих пояс шамана, и дикие завывания, похожие на стон и плач, слышны во всех юртах… Наконец, настает желанный день… Этот день самый знаменательный в году, это большой праздник. Мужчины одевают новую одежду; они все веселы, все ликуют, все радуются… Запряженные собаки выказывают крайнее нетерпение. Женщины выходят провожать своих мужей и братьев. Охотники садятся в нарты, и вмиг вся свора, спущенная с привязи, с лаем мчится по льду реки. Женщины машут руками, посылая приветствия мужьям и братьям. Через мгновение нарты исчезают за поворотом. Прибыв на место, все удэхейцы тотчас вынимают из нарт деревянные изображения духов, ставят их поблизости, кормят их кашей и салом и просят помощи на охоте. Затем каша разбрасывается по тайге: это жертва богу Онку, охраняющему леса и горы. После этого каждый из них, налив в маленькую чашечку спирту, мочит в нем указательный палец и по капле бросает во все четыре стороны, немного пьет сам, остальное же выливает в огонь. При этом они снова обращаются к богу с просьбою дать им удачный улов и счастливую охоту. Затем удэхейцы надевают свое рабочее платье и приступают к работе. Редко удэхейцы соболюют в компании, редко даже два человека — в большинстве случаев они охотятся в одиночку. У каждого свой район, свое место, доставшееся ему в наследство от отца и деда. Здесь, в горах, в маленькой юрточке проводит он долгие зимние месяцы. Вся окружающая природа полна чудес — создания его собственной фантазии и воображения. Всюду он видит козни злых духов, мешающих ему спать спокойно. Вот почему каждый удэхеец всегда имеет при себе изображение духа-покровителя, который может оградить его от бед и несчастий. Он мажет ему губы кровью соболя и просит защитить его от происков чорта. Застанет удэхейца ночь в дороге, он остановится, осмотрится и где-нибудь тут же расположится под деревом. Как зверь в тайге! Где застала его ночь, тут он и заснул, а на утро пошел опять дальше. Помню, один раз мы нашли место, над которым остановились в недоумении. Человек здесь спал или зверь? Во время наводнения вода подмыла берег и образовала пустоту под яром, сверху нависла дерновина; ни следов огня, ни травы, ни подстилки не было видно, а между тем, все говорило за то, что тут кто-то спал. Подошедший проводник рассеял наше недоумение: ремешок, струганая палочка и кусочек выделанной кожи свидетельствовали о том, что здесь ночевал охотник. Во время охоты на соболя, когда зверок настигнут и загнан в дупло дерева, приходится иногда ночевать без огня. Стоит только представить себе одинокого охотника, ночующего в лесу в морозную ночь без костра, чтобы понять с каким трудом и с какими физическими лишениями добывается соболиный мех — этот предмет городской роскоши, ценимый высоко, но далеко не оплачивающий труды зверолова! У удэхейцев сохранились яркие пережитки группового брака, заключающегося в том, что мужчины одного рода берут себе женщин только из рода матери и ни в коем случае не из рода отца. Групповой брак удэхейцев в настоящее время сменился простым обменом детьми между разными родами или приобретением жены, с уплатой калыма, из другого рода. Все опасения заключаются лишь в том, чтобы не взять жену своему сыну из своего рода. Причинами этой замены строго группового брака браком со смешением родов были дробление родовых групп и эпидемические болезни, унесшие в могилу не только многих женщин, но и уничтожившие целые роды, не оставив от них ни одного человека. При таком положении дел удэхейцам пришлось искать себе жен не только на стороне у других родов, но и брать их у тунгусов и у гольдов. Едва родится мальчик, как родители начинают подыскивать ему жену. Отец часто совершает для этого длинные путешествия. Родители жениха сперва наводят справки о родителях невесты: какого они рода, откуда, как живут, хорошо или худо. Делается это больше ради обычая, потому что ныне удэхейцев так немного, что все они наперечет знают материальное положение каждого сородича. Спрашивают также, далеко ли живет род зятя и какой предлагается выкуп (тори). Если условия подходящие, то вопрос разрешается тотчас же. Согласия детей не спрашивают — судьбу их решают родители. В виде задатка свекр или сам жених дает тестю один или два серебряных рубля и железный котел. Выкуп уплачивается, согласно уговора, или тотчас сразу, или частями впоследствии. Обыкновенно калым состоит из двух или трех котлов, нескольких расшитых рубашек и одного или двух копьев. «Тори» — котел и копья — является отголоском того далекого прошлого, когда удэхейцы доставали эти вещи через десятые руки с большим трудом и ценили очень дорого. Привозили их айны или гиляки окружным путем через Сахалин из Японии или китайцы из Маньчжурии. Обычай этот сохранился и по сие время, имеет место и в празднестве медведя, и при уплате штрафа, и на похоронах при снаряжении покойника в загробный мир. Малолетняя невеста остается жить у родителей до 12-ти летнего возраста, а потом уже переходит в дом мужа, или же сразу перевозится свекром в свою семью. Это тоже зависит от уговора. И в этом и в другом случае девочка живет и играет вместе со своим маленьким мужем. Родители за их половой жизнью не следят, и супружеская жизнь начинается у них естественно сама собой, как только они физически разовьются и поймут значение брака. Если у удэхейца есть сын и дочь, то он подыскивает в другом роде такую же семью, где есть мальчик и девочка. Родители обмениваются дочерьми, и вопрос, к обоюдному удовольствию их, разрешается без всякого выкупа. Общий строй рода агнатный. Переход сына в дом деверя считается унизительным и вызывает насмешки со стороны других удэхейцев. При заключении брака особых церемоний нет. Брат выносит сестру из юрты на плечах и передает ее жениху. Новый зять увозит невесту, и тем все дело кончается. В браке нет ничего необычного, и потому брак разрешается просто, естественно. Отголоски группового брака сохранились еще в следующем: «Мужчины с женщинами одного с ними рода не могут заигрывать и шутить». Поэтому, по отношениям между мужчинами и женщинами, можно судить, к каким принадлежат они родам. Если отношения эти сдержанные, если мужчины и женщины между собою мало говорят, это значит, что они одного отцовского рода, и чем суше эти отношения, тем родство ближе. Брат с сестрой почти не разговаривают между собою. Если отношения развязны: мужчина заигрывает, а женщина ему отвечает — это значит, она из того рода, откуда его мать или жена его брата, а потому все женщины этого рода не запретны. У удэхейцев нет целомудрия ни до брака, ни после брака. Случаи общности жен, как пережитки, еще бывают. Лет двадцать пять тому назад можно было найти у двух братьев одну жену. Официально она была женою одного брата, а на самом деле, с ее согласия, жил с нею и второй брат, равно каждый из братьев мог пользоваться ласками жен и других своих братьев. Но эти отношения строго распределялись по соответствующим поколениям. Например, свекор не мог рассчитывать на внимание своей невестки. Зато на эту женщину, в отсутствии мужа, имели права все мужчины этого рода, но опять-таки в соответствующем поколении и с ее согласия. Однако, это не дает права заключить, что удэхейцы безнравственны. Наоборот, они высоко-нравственны: у них совершенно нет проституции. Венерические болезни среди них появились лишь в последнее время и занесены русскими и китайцами. При таком общественном строе, при такой заботе о человеке, вообще, и при таком внимании к чужим интересам, у удэхейцев ничто нас так не поражает своим диссонансом, как обычай кровавой мести. В настоящее время этот страшный обычай едва ли сохранился даже у туземцев, живущих в самых истоках рек, куда еще русские не успели проникнуть. Случилось несчастье, — охотник убил другого, может быть нечаянно. Ужасная весть сразу облетает все окрестности. Особенная опасность грозит той семье, к которой принадлежит виновник убийства. За смерть насильственную нельзя не мстить, ибо душа убитого никогда не попадает в царство теней и потому будет вечно странствовать по земле, вопиять о мщении и, наконец, озлобленная, перейдет к чорту. Вот почему месть — святое дело. О бегстве никто и не думает. Тут может быть один только выход — вооруженное столкновение. Страшный закон тайги «кровь за кровь» встает во всем своем мрачном величии. Мстители с холодным оружием в руках (огнестрельное брать нельзя) идут к юртам виновных. Последние со всех ближайших рек собираются в одно место. Женщины, старики и дети неприкосновенны. Детьми и стариками считаются все неспособные ловить соболей и, вообще, заниматься охотой. Тогда женщины несут караульную службу. С палками в руках они обходят окрестности и обшаривают кусты. Мстители стараются проникнуть незамеченными, а женщины несут сторожевую службу. Беда, если они проглядели. Тогда атакующие врываются, и вопрос разрешается оружием. Со стороны виновных должен пасть один самый молодой, самый сильный и здоровый мужчина. Если же потери были с той и с другой стороны, то у виновных должно быть одним убитым больше. Если же атакующие понесли большие потери, — конфликт углубляется[335]. Обычай не позволяет пить воду из реки, где живут обороняющиеся, рубить дрова, ловить рыбу, заниматься охотою. Поэтому атакующие несут с собою и воду, и продовольствие. Можно атаковать враждебный род, но нельзя устраивать осаду. Это ограничивает время на месть и заставляет враждующие стороны идти на примирение. Для разбора конфликта с той и с другой стороны выбирается по одному лицу, принадлежащему непременно к нейтральному роду. Это судебные защитники («Манга» — буква Н и Г произносятся с явственным носовым звуком). Каждый тяжущийся род старается выбрать такого защитника, который силой своей логики и силою красноречия мог бы защитить их интересы. Собравшись в условное место, два тяжущиеся рода садятся так, чтобы не видеть и не слышать друг друга. В руках у каждого из них — жезлы (Тыдю), на нижних концах которых деревянные копья, а на верхних — изображения человеческих голов. В таком жезле таится божественная сила, помогающая оратору уговорить враждующие стороны. От этих защитников зависит решение судьбы виновных. Беда, если они будут несговорчивы и не пойдут на уступки. Виновный в убийстве, во избежание нового кровопролития, совсем не присутствует на суде. Тяжущиеся не могут говорить между собою. Свои требования и свои оправдания они передают через своих избранников. Разбор дела начинает самый уважаемый и почетный старик всей области (Чжанге). Он идет сначала к стороне, к которой принадлежит виновный, и в кратких словах говорит о происшествии, а затем приглашает их защитника идти вместе с ним к обиженным. Перейдя к этим последним, Чжанге предлагает им выслушать его и выслать с своей стороны оратора. Первый начинает излагать обстоятельства, уменьшающие вину преступника. По уходе его защитник обиженной стороны идет к виновной стороне и старается убедить их в ошибочности взглядов. Так переходят эти ораторы от одной стороны к другой и защищают интересы своих клиентов. Один старается выговорить штраф побольше, другой уменьшить его. Во время процесса, в случае неуступок одной из сторон, ораторы-защитники грозят прервать переговоры. Все же обычай требует, чтобы такое пререкание было возможно длительнее и чтобы ораторы несколько раз делали вид, будто хотят ломать жезлы, что должно повлечь за собою снова открытие военных действий. Наконец, обе стороны приходят к обоюдному соглашению. Виновный в убийстве, а если он не в состоянии, то вся его семья или весь род должны заплатить семье потерпевшего примерно: 8 котлов, 6 копий, 30 расшитых одежд и 30 соболей. После этого со стороны виновных для того, чтобы все же кровь была пролита, убивается несколько собак, и инцидент считается исчерпанным. Так у них теперь разбираются и все дела, все тяжбы, нарушающие их патриархально-коммунистический строй, например, случаи похищения женщин, захват чужого места охоты и т. п. Штрафы (байта) имеют более широкое применение в жизни удэхейцев, чем можно это думать. Всякие мелкие нарушения принципа родового строя, патриархальности семьи, единства крови или культа предков разрешаются самими удэхейцами без всякого суда и ни одной из сторон не приходит в голову оспаривать эти обычаи, освященные предками и веками. Например, штраф платится за опрокинутый берестовый ковш с водой в юрте хозяина, за забытое оружие, за взятый по рассеянности чужой кисет, за то, что гость нечаянно упадет в чужом доме, а также, если удэхеец, проходя мимо, видит открытую дверь в юрте и не зайдет в нее. За все платится штраф не более одного котла или одной расшитой рубашки. За похищенную девушку — 10 рубашек и 1 котел, помимо калыма (тори) по уговору, причем девушка остается женой похитителя, если нет нарушения принципа единства крови. За похищение замужней женщины или насилие платится: 10 рубашек, 3 копья и 2 котла; женщина возвращается к мужу, а виновного бьют палками.III Миросозерцание
Сказание о происхождении удэхейцев. Тотемные животные. Месть медведю. Хозяин морей. Небесные светила. Шаманство. Севоны. Душа — тень. Загробный мир. Похороны.
Все удэхейцы — анимисты. По их воззрениям, в природе нет ничего неорганического — все органическое, все живое и все человекоподобное. Сама по себе земля есть колоссально живое существо (Муцеляни). Голова земли находится на северо-востоке, а ноги — на юго-западе. С этой точки зрения им понятны землетрясения. Вот почему удэхейцы никогда не задаются мыслью искать на земле начало жизни… Земля сама жизнь, и потому все на ней должно быть живое и все человекоподобное. По воззрениям удэхейцев, утесы и отдельные скалы — тоже люди, жившие раньше, но окаменевшие. Глядя на быстро бегущую воду в реке, он видит в ней живую силу: то тихую, то бурную, то бешеную, то покойно-несущую на своих волнах хрупкую лодку, то размывающую скалы, и ломающую вековые деревья. Когда удэхейцы плывут на лодке, или идут по тайге, они все время рассказывают друг-другу с кем что случилось, кто что видел и по прихоти своего суеверия населяют тайгу разными чудесными существами. Они кругом видят жизнь. Смерти нет. Она возможна только от козней злых духов… Вот почему охотник, найдя в тайге мертвого соболя, не тронет его и поспешно уйдет на другое место. Лодку можно долбить из живого дерева, при этом и рубят его с особыми заклинаниями. Дерево, принесенное водою — мертво. Великая опасность грозит человеку, который позарится на плавник и сделает из него себе лодку. Глядя на следы соболя, лисицы или выдры, удэхеец видит, как каждое животное, спасаясь от преследования охотника, хитрит, путает свои следы и старается обмануть человека. Глядя, как бурундук в ясный день выносит на солнышко орехи, грибы и корешки, сушит их и снова уносит в норку, он задумывается и видит в каждом животном разум и волю, и потому оно нисколько не ниже человека. Оно человекоподобное, только наружная оболочка его другая. Высшее божество «Эндури». Он один бессмертен, он никогда не снисходит к людям… Кроме него, есть еще и второстепенные боги, но они все смертны и живут три поколения. Например — бог лесов и гор «Онку», живущий в самых глухих лесах. Он начальник всех зверей и птиц, он же посылает людям соболей на охоте… Это человек средних лет, угрюмый, с копьем и со стрелами в руках. Людям он никогда не делает зла. Богом моря является седой старик «Гинихи». Он хозяин рыб и морских животных (Сюгзаа-Адзани). Он посылает касатку нагонять рыб в реки и т. д. После этих трех добрых богов следует целый сонм злых духов, которые мешают людям жить спокойно. Горный дух — «Какзаму». Удэхейцы представляют его себе худотелым великаном, на тонких кривых ногах и с головой редькообразной, обращенной тонким концом кверху. Какзаму обитает в самых истоках рек среди скал и осыпей. Он хватает людей, превращает их в камни (Када-ни) и заставляет окарауливать сопки. Нам понятен тот страх и волнение, которые охватывают удэхейца, когда он случайно попадает в скалистое ущелье. В руках у него факел из бересты. Он зажигает его при малейшем намеке на опасность и торопливо с криками проходит страшное место, оглядываясь на утесы, имеющие человекоподобную форму. Чорт «Боко» — это горбатый карлик, на одной ноге и с одной рукой. Он живет в болоте. Благодаря его козням, люди часто блуждают в лесу и не могут найти дороги.
Самый ужасный злой дух — «Окзо». В виде страшной птицы с железными крыльями, с железным клювом и с железными зубами, он, с быстротой молнии, летает по всему свету. У него нет пристанища. И вот Окзо является шаману и велит ему сделать фигурное дерево «Тхун» (буквы Х и Н с носовым звуком произносятся чуть слышно). Окзо точно указывает, где и какое дерево надо поставить и какие должны быть на нем изображения птиц, людей и животных. Шаман должен исполнить требование Окзо, иначе чорт найдет пристанище в его доме, и тогда шаман погиб безвозвратно. Вот почему все удэхейцы боятся места, где стоят такие Тхун, никогда не ходят туда ночью и даже днем стараются обойти их стороною. Гром «Агды». Это дух, изрыгающий пламя изо рта и имеющий вид змеи с лапами и с крыльями. Если Окзо долго находится в одной местности, Эндури посылает Агды и гром гонит чорта. Окзо в страхе убегает. Вот почему на футлярах шаманского бубна всегда изображен гром в виде дракона, изрыгающего изо рта пламя. Сидит ли удэхеец у огня, он смотрит, как двигаются языки пламени, колеблющиеся и замирающие, то короткие, то длинные. Он видит, как из углей образуются фантастические гроты и скалы, как все это быстро меняется и принимает другую форму и рушится. Он задумывается и приходит к убеждению, что огонь есть тоже жизнь. В каждом роде — свой огонь. Поэтому огонь нельзя резать ножом, ворошить палкой, рубить топором, заливать водою. Можно только поправлять щипцами и, вообще, с ним следует обращаться осторожно. Уносить огонь из юрты нельзя. Это разрешается только мужчине сородичу. У стариков хранится родовое огниво, которое передается в наследие из поколения в поколение. В этом огниве скрыта чудесная сила огня. Среди зверей есть запретные (тотемные) животные. Впереди стоит медведь и тигр. Это очень отдаленные сородичи. Чрезвычайно интересно сказание о происхождении удэхейцев. Некогда жил на земле один человек, «Егда», со своею сестрою. Других людей не было. Однажды сестра говорит брату: «Ступай, поищи себе жену». — Брат пошел. Шел он долго и вдруг увидел юрту. Войдя в нее, он увидел голую женщину, очень похожую на его сестру. «Ты моя сестра?», — спросил Егда. «Нет», — отвечала она. Егда пошел назад. Придя домой, он рассказал сестре все, что с ним случилось. Сестра ответила, что виденная им женщина чужая и в этом нет ничего удивительного, потому что все женщины похожи, друг на друга. Брат снова пошел. Сестра сказала, что и она пойдет в другую сторону искать себе мужа. Но кружною тропою обогнала брата, прибежала в ту же юрту, разделась и села опять на прежнее место голая. Брат пришел, женился на этой девушке и стал с нею жить. От этого брака родились у них мальчик и девочка. Однажды, в отсутствии отца, мальчик играл на улице и ранил стрелою птицу «Куа». Она отлетела в сторону, села на ветку дерева и сказала: «Зачем ты меня ранил?» Мальчик отвечал: «Потому что я человек, а ты птица». Тогда Куа сказала: «Напрасно ты думаешь, что ты человек. Ты родился от брата и сестры и потому ты такое же животное, как и все прочие»… Мальчик вернулся домой и стал рассказывать об этом своей матери. Последняя испугалась и велела сыну ничего не говорить отцу, иначе он их обоих бросит в реку… Когда вернулся отец, мальчик начал было говорить о случившемся, но мать закричала на него: «Что ты болтаешь? Отец пришел усталый, а ты говоришь глупости!»… Мальчик замолчал. Ночью, когда все легли спать, отец стал расспрашивать сына, что с ним случилось… Мальчик рассказал все… Тогда Егда понял, что сестра его обманула. На утро он на лыжах пошел в лес, нашел крутой овраг, раскатал дорогу и на самой лыжнице насторожил стрелу. Вернувшись; домой, он сказал сестре: «Я убил сохатого, ступай по моему следу, спустись в овраг и принеси мясо»… Сестра одела лыжи, пошла, скатилась в овраг и убила сама себя стрелою. Тогда Егда взял сына и дочь и понес их в лес. Скоро в лесу он нашел дорогу, по которой всегда ходил медведь, и бросил здесь девочку. Дальше он нашел дорогу, где ходила тигрица, и бросил там мальчика, а сам пошел к реке и бросился в воду. Девочку подобрал медведь и стал с ней жить, как с женою, а мальчика подобрала тигрица и стала жить с ним, как с мужем. От первого брака произошли все удэхейцы. Второй брак был бездетным. Вот почему удэхейцы считают медведя своим родоначальником, вот почему оба эти животные и стали тотемными. Сказание говорит дальше, что мальчик вырос и стал заниматься охотою. Однажды на охоте он увидел медведя и смертельно ранил его стрелою. Умирая, медведь сказал ему, что он был мужем его сестры и сделал следующее завещание: чтобы на будущее время никогда не давать сестре есть мясо медведя, убитого братом, чтобы женщина никогда не спала на шкуре его и берегла его ost penis, передавая потомству по женской линии. Все это до сего времени строго соблюдается удэхейцами. Теперь перейдем к празднику съедения головы медведя. Если медведь был убит далеко, то непременно надо взять его голову. Бросить голову — великий грех. Охотник, убивший медведя, собирает всех окрестных удэхейцев в свою юрту. Иные приезжают издалека. Дня за два до праздника, женщины приготовляют во множестве разные явства. Надо покормить всех гостей до отвала. Сваренную голову медведя завертывают в его же шкуру, шерстью наружу, и перевязывают тонкой веревкой. На этом празднике не должно быть спирта — это грех… Когда гости все в сборе, охотник, убивший медведя, передает голову зверя любимому зятю. Последний, приняв ее, ставит перед собою на нары. Обычай требует, чтобы принявший голову некоторое время отказывался от сделанной ему чести. Его долго уговаривают. Наконец, уступив просьбам гостей, он подымает голову и прижимает к своей груди, затем ставит ее на прежнее место и разрезает ножом веревки. Развернув шкуру, он отделяет возможно больший ломоть мяса от щеки с наружной стороны головы, делит его на столько равных частей, сколько гостей присутствует на празднике. После этого он берет длинную заостренную палочку, надевает на нее мясо по одному кусочку и подает его, по очереди, каждому гостю, непременно обходя хозяина. У кусунских удэхейцев самый старший в роде подает кусочек мяса на острие ножа и первый кусок подается самому охотнику. При этом старик говорит свои пожелания счастливой охоты и на будущее время. После этого медвежью голову едят все, кто хочет, кроме охотника и женщин. Великий грех уронить на пол мясо. Если хоть капля сала упадет на дерево, то место это выскабливается ножами и выжигается огнем. Когда череп будет совершенно очищен, хозяин опускается на одно колено. Против него, тоже на одно колено, становится тот, кто свежевал голову и раздавал гостям на палочке мясо. Этот последний, взяв в руки теперь уже голый череп медведя, с рычанием, изображающим рев зверя, быстро передает его в руки хозяина. Хозяин, приняв череп, прижимает его к своей груди, выносит на улицу и укрепляет его на шесте так, чтобы не достали собаки. Женщинам воспрещается присутствовать на празднике. Они уходят к соседям и возвращаются домой только тогда, когда голова будет вынесена из юрты. Раз медведь олицетворяет сородича, то к нему, следовательно, применимы и все обычаи людей. Например, кости его хоронят, для чего делается особый гроб в виде сруба. Впоследствии удэхейцы стали медвежьи кости складывать в дупла деревьев и топить в реке. В тайге черепа медведей закладывают в развилки деревьев, повыше от земли, предварительно обвязав их мелкими хвойными ветками. Ветки эти имеют двоякое назначение: они изображают кожу с шерстью на голове зверя и замаскировывают череп от глаз хищных птиц. Медведю, покусившемуся на жизнь охотника, полагается мстить так же, как и человеку. Если медведь растерзает охотника, то удэхейцы не успокоятся до тех пор, пока не убьют виновного зверя. Только тогда душа усопшего попадает в царство теней. Догнав животное, охотники выкалывают ему глаза и обрубают когти, мясо его бросают на съедение воронам и собакам. Шкура бросается в лесу также. Люди вырезают у него сердце, поджаривают его на огне, разрезают на части и разбрасывают по сторонам. Это знак высшего пренебрежения и ненависти. Череп пробивается и вешается на дерево, поставленное для чорта Окзо. Третьим, «тотемным» животным будет «Касатка Тему» (Orca gladiator). Тему боятся все морские обитатели. Перед ней все трепещут, от нее нет спасения, и ластоногие (сивучи и нерпы) бегут и натыкаются на охотника. Вот почему удэхейцы, как только завидят касатку, молятся ей, просят не трогать их и бросают в воду спички, листочек табаку или кусочек сахару в виде жертвы. Они ужасно боятся пустых лодок, выброшенных волнением на берег. Это одежда, оболочка Тему. Он сбросил ее с себя и пошел бродить по лесу. Величайшей опасности подвергается человек, если вздумает присвоить себе такую лодку. У удэхейцев много предрассудков и разных примет. Эти предрассудки пугают их, заставляют всего остерегаться, всего бояться. Например, нельзя носить унты из бычьей кожи, — обидится сохатый. Белку можно жарить только вверх головою, а рыбу обратно, вниз головою. Нельзя играть костями кита, выброшенными на берег, — море будет сердиться. Нож, которым пришлось освежевать сивуча, нельзя носить при себе во время охоты на медведя. Нос соболя, при снимании шкурки, надо оставлять у животного; то же самое относится и к нерпе. Ранения и язвы нельзя показывать женщинам и т. д. Ночное небо, со множеством светил, заставило лесных людей распределить все звезды на созвездия и создать свой зодиак: Млечный путь — «Буа-гидыни». Это следы лыж старого Канда и молодого Егда. Раньше небо было низко; Канда и Егда отправились, шли много лет; вдруг небо стало медленно подниматься и ушло в высь, а охотники так и не вернулись на землю. Удэхейцы знают о том, что полярная звезда «Буа-Наммини» неподвижна и находится на севере. Большая медведица «Цзали бангяни» состоит из семи звезд: четыре образуют амбар (цзали), медведь идет к нему красть рыбу, а люди его преследуют. Кассиопея — «Огбэ», т. е. сохатый. Весы — «Куни», т. е. лебедь. Плеяды — «Нада-одега», т. е. семь девиц и т. д. Высшее божество никогда не снисходит к людям. Удэхейцу приходится иметь дело только снизшими богами. Если у него идет жизнь благополучно, значит ему помогают родовые боги. Но иногда в его жизнь вторгаются злые духи и нарушают спокойствие. Вот почему, при всяком несчастье, при всякой неудаче, удэхеец забывает о существовании своего доброго бога и прежде всего старается изгнать чорта. Иногда это удается ему сделать самостоятельно, но если чорт силен и изгнать его он сам не может, то прибегает к помощи шамана («Сама»). Вот почему во всякой почти семье есть бубен, вот почему в каждой почти семье есть кто-нибудь, кто хоть немного умеет камланить[336]. Но это далеко не шаманы. Шаманов очень мало; они все наперечет. «Он мало-мало шаман», говорит удэхеец. «Он большой, крепкий шаман (Сагды-самани)», говорит он про настоящего шамана.

Шаманство не есть религия, это особая форма психоза, которая должна исчезнуть вместе с той почвой религиозного миросозерцания, на которой она зародилась. С нашей точки зрения, все шаманы неврастеники и дар свой получают наследственно. На р. Амуре и, вообще, в сфере влияния русских и китайцев, шаманство стало быстро подвергаться разложению и уже недалеко то время, «когда этнографы, лишившись живых видимых источников, должны будут, подобно историкам и археологам, пользоваться вещественными остатками для воссоздания быта уже несуществующего»[337]. В глубине гор и лесов, в стороне от больших водных путей и грунтовых дорог, шаманство еще сохранилось. На Амуре шаманы пляшут для забавы по заказу, смеются сами и над ними смеются. Это ловкие люди, часто ленивые и не верящие тому, что сами прорицают во время камлания. В истоках рек, у самого подножья Сихотэ-Алиня, где удэхейцы сохранились в большей чистоте, там мы видим совсем иное отношение к шаманству. Шаманство это страдание, которое будет сопровождать человека всю жизнь. Настоящий шаман глубоко убежден, что духи являются ему во сне и указывают, что надо сделать, чтобы помочь людям, как изгнать чорта, как найти пропажу, дать добычливую охоту или исцелить тот или иной недуг. Если молодой человек, еще не достигший полного физического развития, становится молчаливым, начинает задумываться, тосковать, худеть и плакать по ночам, его жалеют, ибо знают, что он будет шаманом. В 1907 году в прибрежном районе на р. Кусуне я имел возможность видеть, как один юноша сделался шаманом. Когда родители поняли, каким тяжким и неизлечимым недугом он заболел, они послали за шаманом на р. Уленгоу. Если этого не сделать, человек будет худеть до тех пор, пока не умрет. Прибывший шаман в тот же вечер стал камланить и вызвал другого шамана с реки Нахтоху. По прибытии последнего они вдвоем вызвали третьего шамана с р. Такемы. Вот все три шамана в сборе. Ночь они провели в бодрствовании, а пред рассветом после камлания по очереди погрузились в сон. Их никто не будил до тех пор, пока они сами не проснулись. Когда встал последний шаман, они стали рассказывать друг другу свои сны. Один видел кости кита, другой — красную скалу, третий — сухостойный лес, много раковин, холодный источник, голую сопку и т. д. Сопоставляя виденное во сне, они старались угадать, где в ближайшем районе все это находится. В совещании принимали участие все старики и охотники, хорошо знающие окрестности. Наконец, такое место было найдено. Это устье реки Суданэрл около мыса Арка. На следующий день шаманы отправились туда, захватив с собою и больного. Там ежедневно на рассвете, до восхода солнца и вечером после заката его, они силой заставляли юношу камланить. Один шаман держал его за плечи, второй втискивал ему в руку колотушку и третий заставлял бить в бубен. С юношей каждый раз происходили сильные припадки, он в корчах кричал, метался и впадал в глубокие обмороки. Наконец, после одного из таких насильственных камланий, он погрузился в долгий и глубокий сон. Он спал и (по его словам) видел во сне духа, который сказал ему: «Ты будешь служить мне, а я стану помогать тебе». Когда юноша проснулся, он попросил бубен, сам стал бить в него колотушкой и запел шаманскую песню. Болезнь его прошла, и с этого момента он сделался шаманом. Севон это дух; севохи — изображение духа. Название их бурханами, идолами совершенно неправильно.
 .
Обычно чорт принимает вид какого-нибудь живого существа и в таком виде входит в человека и мучает его. Например: судороги, удушье по ночам, истерика, нервные припадки и т. д. Из всех болезней самая страшная падучая с судорогами. Это лисица «Чигали». Видеть ее нельзя. Она севохи злого духа. Проникнув в тело человека, Чигали тянет жилы. Не всякий шаман может изгнать эту лисицу. Это делается в полночь, при затушенном костре. После камлания Фуданку-чигали при криках выносится наружу, разрывается на мелкие части и рассеивается по ветру.
В случае, если удэхеец имел несколько раз подряд неудачу на охоте, он идет к шаману и рассказывает ему о происшествиях. Во время камлания, когда шаман находится в состоянии автогипноза, он видит, как перед ним проходят разные духи в образе зверей, людей и птиц. Он погружается в сон и, очнувшись, комбинирует виденное в одном образе. Вот почему каждый раз необходимо точно расспросить, как самого шамана, так и больного, для чего сделан тот или иной севохи или фуданку и какое значение имеют те или другие его особенности. Например: севохи, имеющий вид человека, с медвежьей головой, с железными зубами и с крыльями. Крылья у него для того, чтобы севохи мог летать и догнать чорта, железные зубы затем, чтобы он мог вступить в борьбу. Охотничьи принадлежности, привязаны к его поясу, так как севохи в поисках за чортом придется совершать длинное путешествие по тайге и ночевать биваками и т. д.
Кроме того, у удэхейцев есть еще «мяонки». Это тоже нечто вроде севохи, но малого размера. Делаются они против разных болезней, но не ставятся в юрте, а пришиваются к одежде с внутренней стороны. «Мяонки» делаются по указанию шамана и представляют из себя изображения людей, зверей, птиц, змей, рыб, насекомых, а чаще всего это какие-нибудь отвлеченные предметы: пуля с кусочком красной тряпочки, три шпильки, нашитые на лоскуток кожи, пружина от ружейного замка, зашитая в беличий мех и т. д.
Жилище шамана обставляется особыми севонами. На самом видном месте стоит огромный севохи «Мангни» (буквы Н и Г произносятся вместе с носовым звуком), именно тот, которому служит шаман и который помогает шаману в камлании. У него на груди сделаны изображения металлических зеркал. В них отражаются злые духи, приближающиеся к дому шамана. «Мангни» пустотелый, что означает голод. Он должен пожрать чорта. Сердце сделано в виде птицы. Оно должно трепетать так, как бьется привязанная за ноги птица. Сбоку изображение жабы. Без этого знака севохи будет безжизненным куском дерева. На ногах вырезаны ящерицы (Эхелля) — символы быстрого движения. Ноги должны двигаться так же быстро, как бегают ящерицы в теплый солнечный день. Руки обернуты змеями, чтобы они не были ломкими; на руках шесть пальцев, чтобы он крепче держал в руке копье и т. д. Рядом с Мангни стоят два его помощника об одной ноге. На голове у них прикреплены огромные пешни вроде мечей. Они без рук, чтобы всю силу удара могли сосредоточить в голову.
Множество изображений медведей, тигров, людей разбросано там и сям по земле. Черепа медведей, медвежьи лапы повешены на деревья и т. д. Перед юртой стоят выкорчеванные пни, воткнутые в землю стволами и вверх корнями (накасэ). На этих пнях вырезаны грубые подобия человеческих лиц, самые корни изображают волосы. Тут же, где-нибудь поблизости, стоят две или три лиственницы без сучьев и с кольцевыми вырезами по коре. Иногда на лиственницах укреплены деревянные птицы «Куа». На дороге, ведущей к юрте, поставлены колья с изображением человеческих голов (Цзайгда); они тоже ограждают жилища шамана от посягательств чорта.
Необходимой принадлежностью шаманского костюма является короткая юбка из нерпичьей кожи, отороченная по подолу цветной полосой, на которой опять-таки нашиты люди, звери и птицы.
Чорта надо запугать сильным шумом, для чего шаман одевает тяжелый пояс, увешанный сзади множеством железных трубок, подымающих во время пляски неистовый лязг. Его надо запугать страшным видом, для чего служит маска, отороченная мехом медведя. Чорта может прогнать только гром. Этот гром шаман изображает с помощью бубна (Ункту). Бубен представляет из себя обруч, обтянутый с одной стороны кожей, а с другой имеются веревочные крестовины в виде змей, обращенных в разные стороны головами. Шаман держит бубен в одной руке за крестовины, а в другой колотушку в виде тоненького загнутого валька, обтянутую мехом выдры, с изображением быстроногих ящериц. В бубне таится великая сила — гром. Когда она оставляет бубен, кожа с треском лопается. Это великое несчастье. Шаману угрожает смертельная опасность. Тогда чорт имеет свободный доступ в его жилище. Для предохранения бубна от порчи его держат в берестяном футляре, на котором изображены змея с крыльями (Агды), медведь (Мафа), тигр (Амба), бездна (Сункта) и властитель морей (Тэму).
Удэхейцы полагают, что у каждого человека есть две тени: одна световая, другая астральная. Последняя имеет вид человека, которому она принадлежит. Если тень его оставит, он теряет рассудок и становится сумасшедшим. Тень удаляется в загробный мир. Не всякий шаман может вернуть ее обратно. Это чрезвычайно трудное дело и под силу только очень сильному шаману.
В 1909 году, зимой, когда я шел по р. Анюю около притока ее Тормасунь, мне удалось присутствовать при одном таком камлании. Дело было так. Один молодой удэхеец шел при луне по льду реки и вдруг увидал, что от него отделился такой же человек, как он сам, и бросился в сторону. Больной страшно испугался, еле добрался до своей юрты, лег на пол и стал заговариваться.
Тотчас родные послали за шаманом, который, к счастью, оказался живущим недалеко. Всю ночь и весь следующий день больной метался в бреду. Вид у него был дикий, испуганный и растерянный. На третий день, когда на западе угасли последние отблески вечерней зари, пришел шаман, и начались приготовления к камланию. Женщины взяли листья багульника, зажгли их так, чтобы они не горели, а тлели, и поставили к ногам шамана. По всей юрте распространился едкий ароматичный дым смолистого растения. Затем два удэхейца взяли в руки тлеющие листья багульника и стали ими обтирать одежду шамана, начиная от головы и кончая подошвами его обуви. Пока делались эти приготовления, одна старуха нагревала кожу бубна над огнем и слабыми ударами колотушки пробовала, достаточно ли она натянулась.
Огонь в юрте был притушен, в очаге оставались одни только тлевшие уголья. Наконец, очищения были кончены. Шаман одел юбку, нагрудник, на голову нацепил длинные ленты из стружек и подвязал позвонки к поясу. Он сел у огня по-турецки и, прислонив лицо к коже бубна, начал петь свою песню. Пение его было похоже на плач и чрезвычайно напоминало мне голосование (причитывание), которое в детстве приходилось мне слышать в деревне у русских женщин, на могилах их родственников. Наконец, началось и самое камлание. Шаман встал, начал сильно бить в бубен, он как будто пел и плакал в то же время. Он сильно потрясал позвонками и плясал вокруг угасавшего костра. Пение его становилось громче, удар в бубен сильнее и пляска неистовее. От музыки его становилось жутко. Он говорил неясные и не всем понятные слова. Шаман летел в загробный мир. Севон, которому он служил, помогал ему в этом трудном путешествии. На дороге встречалось ему много препятствий. Он блуждал в горах, попадал в болота, шел по лесу во время тумана, то переплывал реки, то встречал тигра и т. д. Глаза шамана были закрыты, лицо покрывалось потом и имело изможденный вид. Но вот он достиг царства теней. Пение его стало тихим, печальным. Теперь шаман стоял на коленях. На минуту он замолчал. Присутствующие сообщили, что сейчас шаман приступит к отыскиванию тени. Перед ним много теней; это души умерших, и все они похожи друг на друга, только травматические повреждения, которые когда-либо человек получил в бытность его на земле, сохраняются и по ту сторону смерти. Шаман должен среди них отыскать пропавшую. Вдруг он заговорил: «Больной десять лет тому назад порезал ногу, у него шрам на правой ступне». Родственники не подтвердили. «У него на правом плече родимое пятно»… «Неверно», отвечала мать… «На левой ноге раньше мизинец был отморожен»… «Да, это было», сказал отец. «На охоте медведь помял его, следы когтей остались у него около бедра, с левой стороны». «Тоже было». «Ребенком он ушиб колено» и т. д. По этим признакам шаман нашел душу. Тогда он поднялся и стал подходить к больному с пляской. Сумасшедший пришел в большое волнение: он бился, стонал, царапал себе грудь, но не вставал с земли. Шаман вытянул над огнем свой бубен, и вдруг я увидел на нем какое-то небольшое черное животное, похожее на мышь. Зверок быстро бегал по кругу и, несмотря на то, что шаман наклонял бубен, маленькое животное царапалось по коже и взбиралось к обручу, не падая на землю. Тогда шаман направился к душевнобольному и быстро сбросил черное животное на раскрытую грудь бесноватого. Женщины быстро запахнули халат. После этого шаман взял прутик, привязал к нему обрывок бересты, намазанной сажей, и стал читать свои заклинания, несколько раз проводя этой берестой по лежащему на земле больному от головы до ног и обратно. Обряд был кончен — тень найдена и возвращена человеку.
Теперь шаману предстояло спуститься на землю. Иногда спуск бывает медленный, тихий, спокойный, иногда на пути встречаются опять препятствия. Иногда же спуск бывает быстрым и похожим на падение. В данном случае шаман метался, кружился, затем прыгнул в самую середину огня и ногами разметал уголья в разные стороны. Шаман упал на землю и тотчас же заснул. Больной спал тоже. На другое утро он выздоровел совершенно.
Вне всякого сомнения, что целый ряд нервных заболеваний шаманы могут излечивать с помощью гипноза. Допустим, шаман знал больного и, вероятно, уже не один раз излечивал его от недуга. Болезнь протекала каждый раз в одном и том же порядке, и он вперед знал, чем все это кончится. Но черный зверок, которого я видел? Вероятно, и я находился под влиянием общего гипноза.
По представлениям удэхейца, все живое на земле имеет душу. Со смертью душа оставляет тело, но не уходит далеко, а витает некоторое время около юрты, ожидая, когда шаман отведет ее в загробный мир. Это чрезвычайно трудное дело. Только настоящий шаман может выполнить эту миссию. Шаман на пути также встречает неимоверные трудности, нередко возвращается обратно и на другой день вновь начинает странствования. Если шаман не доставит душу на тот свет, то она будет скитаться по земле и перейдет во власть чорта, сама сделается чортом и будет вечно мстить своему роду. Загробный мир (Буни) находится очень далеко, в той стране, где солнце во время заката скрывается за горизонтом. Там душа, в течение одного поколения, живет такою же жизнью, как и на земле, люди так же ловят рыбу, так же охотятся, женятся и снова умирают. После второй смерти, душа становится меньше и уносится еще дальше на запад, где снова живет одно поколение, опять умирает и опять летит на запад, к заходящему солнцу, становится все меньше и меньше, пока и совсем не исчезнет. Вот почему на могилу покойного кладутся все его вещи. Все они должны быть поломаны, изорваны и, вообще, испорчены. Вещи эти будут нужны покойному и на том свете, как и на этом.
Удэхейцы особенно тщательно рассматривают мелких насекомых, наприм., тлю. Она мала, ничтожна и, следовательно, находится накануне полного исчезновения. Где-то есть другой мир, где тля была огромным животным. Ныне земля для нее — последняя стадия жизни.
Как только человек начинает умирать, его предоставляют самому себе. Все люди уходят из юрты и не возвращаются до тех пор, пока умирающий не испустит последнего вздоха. Тогда покойника начинают одевать: мужчин одевают в нечетное число пар одежд, женщин в четное. После смерти умершего тотчас же выносят из дому. Над усопшим спешно ставится маленькая юрта, которая со всех сторон окружается стружками (котептеляни), прикрепленными к жердям и палкам. Эти стружки изображают пламя и сохраняют душу от посягательств злого духа. Со смерти покойника в доме его родственников бессменно должны быть посторонние люди, которые непременно должны говорить, в противном случае в юрте умершего найдет себе пристанище чорт «Окзо».
.
Обычно чорт принимает вид какого-нибудь живого существа и в таком виде входит в человека и мучает его. Например: судороги, удушье по ночам, истерика, нервные припадки и т. д. Из всех болезней самая страшная падучая с судорогами. Это лисица «Чигали». Видеть ее нельзя. Она севохи злого духа. Проникнув в тело человека, Чигали тянет жилы. Не всякий шаман может изгнать эту лисицу. Это делается в полночь, при затушенном костре. После камлания Фуданку-чигали при криках выносится наружу, разрывается на мелкие части и рассеивается по ветру.
В случае, если удэхеец имел несколько раз подряд неудачу на охоте, он идет к шаману и рассказывает ему о происшествиях. Во время камлания, когда шаман находится в состоянии автогипноза, он видит, как перед ним проходят разные духи в образе зверей, людей и птиц. Он погружается в сон и, очнувшись, комбинирует виденное в одном образе. Вот почему каждый раз необходимо точно расспросить, как самого шамана, так и больного, для чего сделан тот или иной севохи или фуданку и какое значение имеют те или другие его особенности. Например: севохи, имеющий вид человека, с медвежьей головой, с железными зубами и с крыльями. Крылья у него для того, чтобы севохи мог летать и догнать чорта, железные зубы затем, чтобы он мог вступить в борьбу. Охотничьи принадлежности, привязаны к его поясу, так как севохи в поисках за чортом придется совершать длинное путешествие по тайге и ночевать биваками и т. д.
Кроме того, у удэхейцев есть еще «мяонки». Это тоже нечто вроде севохи, но малого размера. Делаются они против разных болезней, но не ставятся в юрте, а пришиваются к одежде с внутренней стороны. «Мяонки» делаются по указанию шамана и представляют из себя изображения людей, зверей, птиц, змей, рыб, насекомых, а чаще всего это какие-нибудь отвлеченные предметы: пуля с кусочком красной тряпочки, три шпильки, нашитые на лоскуток кожи, пружина от ружейного замка, зашитая в беличий мех и т. д.
Жилище шамана обставляется особыми севонами. На самом видном месте стоит огромный севохи «Мангни» (буквы Н и Г произносятся вместе с носовым звуком), именно тот, которому служит шаман и который помогает шаману в камлании. У него на груди сделаны изображения металлических зеркал. В них отражаются злые духи, приближающиеся к дому шамана. «Мангни» пустотелый, что означает голод. Он должен пожрать чорта. Сердце сделано в виде птицы. Оно должно трепетать так, как бьется привязанная за ноги птица. Сбоку изображение жабы. Без этого знака севохи будет безжизненным куском дерева. На ногах вырезаны ящерицы (Эхелля) — символы быстрого движения. Ноги должны двигаться так же быстро, как бегают ящерицы в теплый солнечный день. Руки обернуты змеями, чтобы они не были ломкими; на руках шесть пальцев, чтобы он крепче держал в руке копье и т. д. Рядом с Мангни стоят два его помощника об одной ноге. На голове у них прикреплены огромные пешни вроде мечей. Они без рук, чтобы всю силу удара могли сосредоточить в голову.
Множество изображений медведей, тигров, людей разбросано там и сям по земле. Черепа медведей, медвежьи лапы повешены на деревья и т. д. Перед юртой стоят выкорчеванные пни, воткнутые в землю стволами и вверх корнями (накасэ). На этих пнях вырезаны грубые подобия человеческих лиц, самые корни изображают волосы. Тут же, где-нибудь поблизости, стоят две или три лиственницы без сучьев и с кольцевыми вырезами по коре. Иногда на лиственницах укреплены деревянные птицы «Куа». На дороге, ведущей к юрте, поставлены колья с изображением человеческих голов (Цзайгда); они тоже ограждают жилища шамана от посягательств чорта.
Необходимой принадлежностью шаманского костюма является короткая юбка из нерпичьей кожи, отороченная по подолу цветной полосой, на которой опять-таки нашиты люди, звери и птицы.
Чорта надо запугать сильным шумом, для чего шаман одевает тяжелый пояс, увешанный сзади множеством железных трубок, подымающих во время пляски неистовый лязг. Его надо запугать страшным видом, для чего служит маска, отороченная мехом медведя. Чорта может прогнать только гром. Этот гром шаман изображает с помощью бубна (Ункту). Бубен представляет из себя обруч, обтянутый с одной стороны кожей, а с другой имеются веревочные крестовины в виде змей, обращенных в разные стороны головами. Шаман держит бубен в одной руке за крестовины, а в другой колотушку в виде тоненького загнутого валька, обтянутую мехом выдры, с изображением быстроногих ящериц. В бубне таится великая сила — гром. Когда она оставляет бубен, кожа с треском лопается. Это великое несчастье. Шаману угрожает смертельная опасность. Тогда чорт имеет свободный доступ в его жилище. Для предохранения бубна от порчи его держат в берестяном футляре, на котором изображены змея с крыльями (Агды), медведь (Мафа), тигр (Амба), бездна (Сункта) и властитель морей (Тэму).
Удэхейцы полагают, что у каждого человека есть две тени: одна световая, другая астральная. Последняя имеет вид человека, которому она принадлежит. Если тень его оставит, он теряет рассудок и становится сумасшедшим. Тень удаляется в загробный мир. Не всякий шаман может вернуть ее обратно. Это чрезвычайно трудное дело и под силу только очень сильному шаману.
В 1909 году, зимой, когда я шел по р. Анюю около притока ее Тормасунь, мне удалось присутствовать при одном таком камлании. Дело было так. Один молодой удэхеец шел при луне по льду реки и вдруг увидал, что от него отделился такой же человек, как он сам, и бросился в сторону. Больной страшно испугался, еле добрался до своей юрты, лег на пол и стал заговариваться.
Тотчас родные послали за шаманом, который, к счастью, оказался живущим недалеко. Всю ночь и весь следующий день больной метался в бреду. Вид у него был дикий, испуганный и растерянный. На третий день, когда на западе угасли последние отблески вечерней зари, пришел шаман, и начались приготовления к камланию. Женщины взяли листья багульника, зажгли их так, чтобы они не горели, а тлели, и поставили к ногам шамана. По всей юрте распространился едкий ароматичный дым смолистого растения. Затем два удэхейца взяли в руки тлеющие листья багульника и стали ими обтирать одежду шамана, начиная от головы и кончая подошвами его обуви. Пока делались эти приготовления, одна старуха нагревала кожу бубна над огнем и слабыми ударами колотушки пробовала, достаточно ли она натянулась.
Огонь в юрте был притушен, в очаге оставались одни только тлевшие уголья. Наконец, очищения были кончены. Шаман одел юбку, нагрудник, на голову нацепил длинные ленты из стружек и подвязал позвонки к поясу. Он сел у огня по-турецки и, прислонив лицо к коже бубна, начал петь свою песню. Пение его было похоже на плач и чрезвычайно напоминало мне голосование (причитывание), которое в детстве приходилось мне слышать в деревне у русских женщин, на могилах их родственников. Наконец, началось и самое камлание. Шаман встал, начал сильно бить в бубен, он как будто пел и плакал в то же время. Он сильно потрясал позвонками и плясал вокруг угасавшего костра. Пение его становилось громче, удар в бубен сильнее и пляска неистовее. От музыки его становилось жутко. Он говорил неясные и не всем понятные слова. Шаман летел в загробный мир. Севон, которому он служил, помогал ему в этом трудном путешествии. На дороге встречалось ему много препятствий. Он блуждал в горах, попадал в болота, шел по лесу во время тумана, то переплывал реки, то встречал тигра и т. д. Глаза шамана были закрыты, лицо покрывалось потом и имело изможденный вид. Но вот он достиг царства теней. Пение его стало тихим, печальным. Теперь шаман стоял на коленях. На минуту он замолчал. Присутствующие сообщили, что сейчас шаман приступит к отыскиванию тени. Перед ним много теней; это души умерших, и все они похожи друг на друга, только травматические повреждения, которые когда-либо человек получил в бытность его на земле, сохраняются и по ту сторону смерти. Шаман должен среди них отыскать пропавшую. Вдруг он заговорил: «Больной десять лет тому назад порезал ногу, у него шрам на правой ступне». Родственники не подтвердили. «У него на правом плече родимое пятно»… «Неверно», отвечала мать… «На левой ноге раньше мизинец был отморожен»… «Да, это было», сказал отец. «На охоте медведь помял его, следы когтей остались у него около бедра, с левой стороны». «Тоже было». «Ребенком он ушиб колено» и т. д. По этим признакам шаман нашел душу. Тогда он поднялся и стал подходить к больному с пляской. Сумасшедший пришел в большое волнение: он бился, стонал, царапал себе грудь, но не вставал с земли. Шаман вытянул над огнем свой бубен, и вдруг я увидел на нем какое-то небольшое черное животное, похожее на мышь. Зверок быстро бегал по кругу и, несмотря на то, что шаман наклонял бубен, маленькое животное царапалось по коже и взбиралось к обручу, не падая на землю. Тогда шаман направился к душевнобольному и быстро сбросил черное животное на раскрытую грудь бесноватого. Женщины быстро запахнули халат. После этого шаман взял прутик, привязал к нему обрывок бересты, намазанной сажей, и стал читать свои заклинания, несколько раз проводя этой берестой по лежащему на земле больному от головы до ног и обратно. Обряд был кончен — тень найдена и возвращена человеку.
Теперь шаману предстояло спуститься на землю. Иногда спуск бывает медленный, тихий, спокойный, иногда на пути встречаются опять препятствия. Иногда же спуск бывает быстрым и похожим на падение. В данном случае шаман метался, кружился, затем прыгнул в самую середину огня и ногами разметал уголья в разные стороны. Шаман упал на землю и тотчас же заснул. Больной спал тоже. На другое утро он выздоровел совершенно.
Вне всякого сомнения, что целый ряд нервных заболеваний шаманы могут излечивать с помощью гипноза. Допустим, шаман знал больного и, вероятно, уже не один раз излечивал его от недуга. Болезнь протекала каждый раз в одном и том же порядке, и он вперед знал, чем все это кончится. Но черный зверок, которого я видел? Вероятно, и я находился под влиянием общего гипноза.
По представлениям удэхейца, все живое на земле имеет душу. Со смертью душа оставляет тело, но не уходит далеко, а витает некоторое время около юрты, ожидая, когда шаман отведет ее в загробный мир. Это чрезвычайно трудное дело. Только настоящий шаман может выполнить эту миссию. Шаман на пути также встречает неимоверные трудности, нередко возвращается обратно и на другой день вновь начинает странствования. Если шаман не доставит душу на тот свет, то она будет скитаться по земле и перейдет во власть чорта, сама сделается чортом и будет вечно мстить своему роду. Загробный мир (Буни) находится очень далеко, в той стране, где солнце во время заката скрывается за горизонтом. Там душа, в течение одного поколения, живет такою же жизнью, как и на земле, люди так же ловят рыбу, так же охотятся, женятся и снова умирают. После второй смерти, душа становится меньше и уносится еще дальше на запад, где снова живет одно поколение, опять умирает и опять летит на запад, к заходящему солнцу, становится все меньше и меньше, пока и совсем не исчезнет. Вот почему на могилу покойного кладутся все его вещи. Все они должны быть поломаны, изорваны и, вообще, испорчены. Вещи эти будут нужны покойному и на том свете, как и на этом.
Удэхейцы особенно тщательно рассматривают мелких насекомых, наприм., тлю. Она мала, ничтожна и, следовательно, находится накануне полного исчезновения. Где-то есть другой мир, где тля была огромным животным. Ныне земля для нее — последняя стадия жизни.
Как только человек начинает умирать, его предоставляют самому себе. Все люди уходят из юрты и не возвращаются до тех пор, пока умирающий не испустит последнего вздоха. Тогда покойника начинают одевать: мужчин одевают в нечетное число пар одежд, женщин в четное. После смерти умершего тотчас же выносят из дому. Над усопшим спешно ставится маленькая юрта, которая со всех сторон окружается стружками (котептеляни), прикрепленными к жердям и палкам. Эти стружки изображают пламя и сохраняют душу от посягательств злого духа. Со смерти покойника в доме его родственников бессменно должны быть посторонние люди, которые непременно должны говорить, в противном случае в юрте умершего найдет себе пристанище чорт «Окзо».

Отца хоронить должен непременно старший сын, в отсутствие его — младший, наконец, кто-либо из родичей и только в отсутствие этих последних — чужеродцы. Хоронят безотлагательно и тотчас же, как все будет готово. Покойника кладут в гроб, сделанный в виде лодки, потому что душе придется переплывать моря и реки, а голова обкладывается мхом, высушенным на огне. В ноги кладется разбитый котел, а в изголовье и по сторонам спички, ложку, разбитую чашку, трубку и маленькую котомку для загробного путешествия. Покойника обвертывают материей, если есть таковая, и кладут в гроб, который сверху забивается досками, обвертывается берестой, обвязывается ремнями и ставится на два пня, на аршин от поверхности земли. Над гробом делается крыша из досок или корья, чтобы дождевая вода не могла туда проникнуть. Под крышу кладутся нарты, лыжи, копье, стрелы, оморочка, сетка, острога, весла и т. д. Ружье посылать нельзя, потому что с этим оружием душа не попадает в царство теней. Гроб ставится так, чтобы покойник головою лежал на запад, а ногами к востоку, лицом к восходящему солнцу. Впереди гробницы нередко выставляются севохи, опять-таки, как результат снов шамана или снов ближайших родственников и в особенности в том случае, если во сне явился сам покойник. Во все время от момента смерти до окончания похорон, что занимает около трех суток, необходимо, время от времени, камланить и отгонять чорта от души усопшего. Если появится оспа или какая-нибудь другая заразная болезнь, тогда удэхейцы торопятся хоронить покойников и всех без исключения закапывают в землю. Детей всегда хоронят на воздухе, но гробы не ставят под крышу, а укрепляют в развилках между двумя деревьями. Если гроб ребенка закопать в землю, женщина более не будет иметь детей. Как только обряд погребения совершен, все люди, кто прикасался к покойнику, совершают омовение головы и рук и бросают в огонь всю свою одежду, равно бросаются также и все те предметы, которые употреблялись при работе: топоры, пила, нарты и лодка, если на ней перевозили гроб за реку. На могилы своих родственников удэхейцы никогда не ходят, вблизи их они не охотятся, не стреляют, не рубят деревьев, не мнут траву и не собирают ягод. Вся семья усопшего, а равно и все родственники носят траур. Женщины распускают свои косы и нашивают на одежду белые полоски. Мужчины, вместо двух кос, носят одну и тоже вплетают в нее белую тесемку. В юрте на том месте, где жил усопший, вешается его совершенно неодеванная одежда и около нее ставятся новые унты, набитые травою. В течение семи дней, каждый раз при еде, на то место, где жил раньше покойник, ставится чашка с пищею. Когда поедят все люди, чашка выносится и содержимое в ней разбрасывается по тайге. Затем начинают привыкать, что человека этого нет в доме, и об умершем мало-по-малу забывается. Место усопшего в юрте занимает кто-либо из семьи, и все по-прежнему входит в колею обычной жизни.
Список иностранных слов (с объяснениями), встречающихся в тексте
Ассимилирование — уподобление себе, превращение в себя. Абориген — туземец. Экспансивный — стремительно проявляющий свои чувства. Эгоизм — себялюбие. Инициатива — почин, сообразительность, проявляемые самостоятельно. Агнатный — кровный родственник по отцовской линии. Диссонанс — неблагозвучное сочетание звуков. Конфликт — столкновение, спор. Нейтральный — безразличный, посторонний, незаинтересованный. Логика — правильное мышление. Патриархальность — порядок, основанный на старинных обычаях. Анимизм — миросозерцание, по которому все человекоподобное и все живое. Психоз — ненормальное душевное состояние. Неврастеник — человек с расстроенными нервами. Этнография — наука, занимающаяся изучением народов. Археология — наука, занимающаяся изучением исчезнувших народов по остаткам. Автогипноз — самовнушение. Комбинировать — обобщать. Астральная тень — невидимая, воображаемая тень. Травматические повреждения — раны, ушибы, переломы, вывихи.
Из путевого дневника
1908–1910 гг.

I
24 июня наш небольшой отряд тронулся в путь; легко и отрадно стало на душе, как только пароход отошел от пристани. Слава богу, самые большие препятствия, самые большие трудности преодолены, кончились. Итак, мы в дороге! Все дальше и дальше позади остается Хабаровск. Широкой полосой расстилается Амур, и представляется он в виде длинного большого озера, в виде безбрежного моря и вовсе не похож на реку. Далеко на горизонте чуть видны острова, и кажутся они как бы висящими в воздухе. Уверенно идет пароход по изученному фарватеру, командир и рулевой руководствуются сигналами по створам и иногда близко подходят к берегу. С момента отъезда из Хабаровска на пароходе начинают жить судовой жизнью. Вместе с нами ехала публика самая разнообразная: чиновники, играющие в винт «по маленькой», коммерсанты, говорящие о своих торговых спекуляциях, священники со своими семьями и крестьяне с детьми, возвращающиеся в деревни. Кто читает, кто так сидит и смотрит вдаль на острова или на берег, а кто и просто забился в каюту и под ритмический шум машины уснул как убитый. В 3-м классе людно. Народу битком набито. Большая часть вплотную лежит на палубе и не встает, чтобы не потерять своего места. Вечером пароход дошел до села Вятского. Так как здесь начали грузить дрова, то мы решили воспользоваться этим временем и осмотреть селение. Прежде всего в глаза бросились бесчисленные штабели дров, а за ними, выше на берегу, и жилые постройки. Невеселую картину мы увидели: дома давно пришли в ветхость, срубы большею частью сгнили; самые постройки покосились, тес с крыш съехал и оголил решетины, околицы, сделанные на живую нитку, во многих местах повалились; на дворах развал, грязь, мусор. Общее впечатление таково, как будто здесь давно был погром, люди ушли и все так оставили. Две тощие гнедые лошади лениво плелись вдоль села, хлопая губами, подбирали что-то на дороге, фыркали и подымали пыль. Большего развала, большей неряшливости мне никогда не приходилось видеть. По дороге вдоль села нигде не видно следов колес. Очевидно, здесь никто на телегах давно уже не ездил. Встречный мужик славянского типа, с светлорусой бородой, охотно стал с нами разговаривать. От него мы узнали, что крестьяне переселились сюда лет сорок тому назад из Вятской губернии, живут с достатком, но неряшливо; хлебопашеством не занимаются совершенно, и не все даже имеют огороды. Главное занятие крестьян села Вятского — заготовка и поставка дров в город и на пароходы, а также рыбная ловля. То и другое выгодное дело. Расчет простой: работнику за заготовку одной сажени дров хозяин платит 1 р. 10 к., а поставка той же сажени на пароход дает 5–5 р. 50 к. Заготовка дров производится зимой на санях; летом лошади на воле, отдыхают. Так как от села никуда никаких дорог нет, а сообщение в город производится по Амуру на пароходах, то во всем селе Вятском едва ли найдется хоть одна телега. Неуютно было в Вятском, и мы пошли к пароходу. Наш словоохотливый собеседник провожал нас до самой реки и все рассказывал о заготовке дров и усиленно размахивал руками. На пароходе была большая суматоха, стоял невообразимый шум — грузили дрова. Я ушел к себе в каюту, но долго не мог уснуть, оделся и вышел на палубу. Была отличная лунная ночь. Вода серебрилась. Река казалась спокойной, величавой. Бесчисленное множество мелких ночных бабочек носилось в воздухе; они кружились около фонарей и, обожженные, массами падали на палубу. Поздно ночью пароход пошел дальше и 25 июня около 8 час. утра мы были уже в селе Троицком. Здесь нас ждали гольды с лодками. Сделав спешно еще кое-какие закупки, мы тотчас же поехали с гольдами к реке Дондон. Ехать вверх по протокам реки Амура пришлось целый день. Слева от нас тянулись обширные поемные луга, обильно заросшие злаками (Calamogrostis billosa) и осоками. Во многих местах описываемые поемные луга стали подсыхать, кочки выравниваться и чаще стали появляться травы широколистные. Около берегов, как и везде, заросли тальников. К вечеру мы вошли в протоку Дырен и остановились в миссионерской школе, около гольдского селения Найхин, расположенного у устья одной из проток Дондона. Велико было наше удивление, когда мы узнали, что такой реки Дондон вовсе нет, что Дондон это название острова, название находящегося на нем селения и название смежной протоки Амура и что река, по которой нам предстояло подыматься, называется Онюй (Анюй). По ней-то и ходят китайские купцы со своими, товарами через перевал хребта Сихотэ-Алинь к Императорской Гавани.II
Были каникулы, в троицкой миссионерской школе никого из учеников не было. Там мы застали учителя. Он задержался здесь в ожидании комиссии, которая должна была осмотреть здания как самой школы, так равно и общежития учеников. От учителя мы узнали, что в школе учится до 60 учеников-гольдов. Дети собираются из восьми окрестных стойбищ: Тор-гон, Дондон, Халан, Найхин, Дырга, Гордома, Дады и Юлан. Учитель жалуется, что не все родители посылают в школу своих детей, а если и посылают, то часто с большими пропусками, неаккуратно и рано берут их домой обратно, не дождавшись окончания курса. Из разговора с гольдами я узнал, что учитель им не нравится, потому что он строг. По словам учителя, дети учатся хорошо, охотно, легко усваивают русскую азбуку, счисление и особенно способны к рисованию. Во всем этом я имел случай лично убедиться: на другой же день ко мне пришли три орочонки, привели своих детей и просили освободить их от школы. При поверке знаний мальчиков я увидел, что они хорошо говорят по-русски, свободно читают (не по складам) и бегло пишут. В общем видно, что амурским гольдам упомянутых селений не нравится обучение детей в школах. Кажется, они опасаются, что впоследствии за это детей их привлекут к отбыванию воинской повинности. Гольдское селение Найхин состоит из 17 фанз, живописно в ряд расположенных на самом берегу протоки Дырен. При входе в селение прежде всего бросается в глаза целый лес шестов, палок, жердей, укрепленных горизонтально на сошках. На них гольды сушат свою рыбу. Весь берег усеян лодками. Сотни собак встретили нас лаем. Гольды окликнули их, пригрозили, и собаки с неохотой снова улеглись на прежние свои места. Мошки и комары мучили их, и они зарывались в землю, забивались в траву, под корни деревьев или ложились в воду. Порядок и чистота в селении были образцовые; такой же порядок был и в фанзах: стены чисто вымазаны, цыновки блестели и полы выметены. Откровенно говоря, мы не ожидали встретить такой порядок. Совсем не то, что в селе Вятском. Найхинские гольды живут хорошо, зажиточно, никому ничего не должны и многие из них имеют лишнюю копейку про черный день. Когда гольды узнали, что мы хотим итти вверх по реке Анюй, они начали рассказывать нам всякие ужасы про эту реку, уверяли, что пройти невозможно, что летом даже орочи не подымаются на лодках и итти к истокам ее наотрез отказались. Из расспросов я узнал, что по Анюю все же живут орочи и что их услугами можно будет воспользоваться. Видно было, что амурские гольды боятся Анюя. Оно и понятно. Привыкшие жить на Амуре, плавающие на своих досчатых лодках по чистым, тихим, широким протокам его, они отвыкли от быстрых горных рек и теряются, если лодку несет через порог к бурелому. Уговаривать их на это предприятие мы не стали, но все же условились, что они подымут нас по Анюю вверх, верст на 30, до фанзы Дуляля. Вечером мы возвратились в школу и в пей провели последнюю ночь у гостеприимного учителя. 29 июня утром гольды явились; мы сложили свое имущество, продовольствие и тронулись в путь, а на третий день были в фанзе Дуляля, в 35 верстах от устья. Устье реки Анюй состоит из множества больших и малых рукавов и проток. Дельта, образуемая рукавами Анюя, занимает площадь около 16 квадратных верст. Без провожатого пройти их нельзя; многие из них завалены буреломом, нанесенным сюда рекой во время наводнений. Едва мы вступили в реку, как сразу убедились, что течение ее действительно очень быстрое (около шести футов в секунду). На веслах итти нельзя, надо упираться шестами. На каждой лодке должно быть три человека рабочих. Наши лодки постоянно лавировали от одного берега к другому: гольды выбирали где течение послабее. Итти на шестах против течения быстрой реки — это большой труд. Очень часто наши провожатые приставали к каменистой отмели, чтобы отдохнуть и покурить трубку. Было бы ошибочно думать, что река Анюй течет в виде одной реки, в виде одного потока, и что по берегам ее можно итти пешеходом. Вода идет по бесчисленному множеству рукавов и проток, разветвляющихся в разные стороны и по всем направлениям. Многие из проток тоже завалены буреломом и корчами. Под ними сильно шумит, клокочет и пенится вода. Пока придерживаешься отмели, течение как будто тише, но вдруг за поворотом новая глубокая протока с такой силой выносит воду, что у сидящих в лодке начинает кружиться голова. Бывает, что вода с силой несется из двух проток, расположенных друг против друга, сталкивается и образует настоящий клокочущий водоворот. Бедные наши собаки (они бежали по берегу) страшно страдали. Мы видели, как течение уносило их под завалы, и они появлялись из воды лишь по другую сторону бурелома. Одна собака утонула на наших глазах, другая пропала без вести (вероятно тоже утонула). Медленно, с большим трудом мы поднимались вверх по течению, лавируя между островами и придерживаясь больше проток и мелких мест. В сумерки отряд наш расположился биваком на косе из каменистой гальки. Первой заботой было собрать собак, разбившихся поодиночке. Пришлось послать одну лодку. Едва собаки дошли до бивака, как упали на камни; не хотели есть от переутомления и в мгновение уснули. Лодки были вытащены далеко на берег, засветились костры, забелели комарники. Недолго копошились и люди — все реже и реже показывалась чья-нибудь голова, все реже и реже слышался чей-нибудь голос и скоро весь бивак, убаюкиваемый шумом текущей воды, уснул сном, каким могут спать только усталые. А на небе собирались тучи.III
Еще с вечера на северо-восточной стороне неба были видны тяжелые тучи, тучи эти все более и более заполняли небо. К утру уже накрапывал дождь, который не прекращался в течение пяти суток подряд. Пошли дальше, и, несмотря на ненастье, мы к 3 июля достигли фанзы Тахсаля; здесь мы должны были задержаться вследствие значительной прибыли воды в реке. На основании собранных сведений мы узнали, что река Анюй течет совсем не так, как это показано на 40-верстовой карте, а имеет направление сначала вдоль хребта Сихотэ-Алинь, с юга к северо-востоку, потом поворачивает на север и далее течет к северо-западу; что течет она по правой, огибая истоки Верхнего Хора; что река протекает около 400–500 верст и что орочские стойбища находятся только в нижней части ее течения. Таковы были расспросные данные. Узнав, что до моря при благоприятных условиях можно дойти в 40–50 суток, и видя, что идут дожди, а потому, опасаясь застрять где-нибудь на неопределенное время, г-н Десу-лави, чтобы поспеть во-время в г. Хабаровск, решил оставить отряд 6 июля и вернулся на орочской лодке к устью реки Анюй, где и намерен заняться коллектированием растений. Все эти дни небо было покрыто дождевыми тучами. Дождь шел с перерывами. Вода в реке прибывала ежедневно и выходила из берегов. Скоро исчезли под водой все мели и острова. Анюй имел грозный вид. Течение усилилось до 10 футов в секунду. Ехать дальше на лодках не представлялось возможным, и орочи категорически отказывались. Они говорили, что в мае и в июне вода небольшая, дождей не бывает, и тогда легко и не опасно плавать по Анюю. В июле же и августе, по их словам, всегда большая вода, всегда идут дожди и для того, чтобы добраться до хребта Сихотэ-Алинь, потребуется вдвое больше времени. Трудно сказать, какой ширины река, так как, кроме главного русла, она всюду разбивается на множество рукавов и проток; бассейн этих проток, считая в обе стороны от Анюя, занимает пространство от трех до пяти верст. Долина шириной от 10–20 верст. Эта огромная низменная площадь лесов ежегодно затопляется водой, и тогда эти леса представляют из себя настоящие американские сильвасы. Жители этих мест, орочи, в это время бросают свои затопленные балаганы и, пробираясь на лодках сквозь чащу леса, ищут сухого места, где бы можно было развести огонь и сварить себе пищу. По их рассказам, иногда не удается и этого сделать. Прибывающая вода заливает костер раньше, чем закипит вода в котле. На ночь остановиться негде и потому люди спят на лодках. Спасаясь отводы, они на лодках идут лесом до тех пор, пока не дойдут до края долины, где место возвышенное и где вода уже не может их достать. Иногда вода идет очень быстро и сразу в одну ночь затопляет весь лес. Когда же вода начинает убывать, жители снова возвращаются на старое место и принимаются за исправление жилищ, размытых водой. Иногда вода бывает очень высока, иногда меньше, иногда наводнения бывают один раз в год, иногда и два, и три раза. После наводнений картина печальная: поваленные деревья, трупы утонувших животных, снесенные человеческие жилища — балаганы, нанесенный водой, бог знает откуда, бурелом, слои ила, придавившие кусты, молодняк и траву, и всюду новые протоки. А река проложила себе уже новое русло и занесла коряжинами и песком место прежнего своего течения. Такова река Анюй, и недаром гольды и даже орочи боятся ходить по ней, особенно если вода хоть немного подымется выше своего обыкновенного уровня. Леса имеют здесь поемный характер. Всюду рытвины, ямы, промоины, нанесенные водой ил и мусор красноречиво говорят об этом. Мешанный лес в нижнем течении реки попадается пока только отдельными клиньями, большая часть лесов — лиственные породы: ясень, ильм, ольха, дуб, осина, липа, клен, бархат, орех и тальники. Подлесья — густые заросли таволги, сирени, бузины, а местами попадается малинник и виноград. Орочи говорят, что в стороны, ближе к горам, лес исключительно березовый и пихтовый. В общем местные леса строевого и поделочного характера. Река Анюй сплавной быть не может. Бешеная, суровая река и дикая природа этих мест наложили свою печать и на туземцев. Подавленное состояние духа, вечные опасения за свою участь и безотчетный страх перед этой огромной лесной пустыней подавляют их. Отсутствие дорог и даже троп в этих местах, затопляемость долины, изрезанной вдоль и поперек протоками реки Анюй, бесконечность лесов, безжизненность тайги центральной части хребта Сихотэ-Алинь не раз были причиной гибели смельчаков, рискующих бороться с природой там, где она наиболее сурова. В силу изложенного никакого другого пути к Императорской Гавани здесь быть не может, кроме зимнего по льду реки. Единственный способ передвижения есть тот, который принят местными инородцами. Это нарты, запряженные собаками. Постройка проектируемой дороги от Малмыжа на Хор и Бикин к Иману, при переходе через реку Анюй и ее долину, вызовет немало затруднений — придется, вероятно, отодвинуть ее дальше в горы, верст на 100 от Амура.IV
Пять дней нам пришлось просидеть в фанзе Тахсале. Вода в реке все прибывала, а дожди не переставали. Несмотря на уверения орочей, что во время большой воды ехать в лодках по Анюю опасно, мы, наскучившись сидеть без дела на одном месте, решили попытать счастья и вскоре раскаялись. Так как плыть по главной реке действительно было очень рискованно, мы пошли по протокам Анюя. Первые две версты все шло хорошо, но на одном из поворотов лодку прибило течением к бурелому, а люди не могли справиться с напором воды. Вода сразу поднялась выше борта лодки и в одно мгновение затопила ее и перевернула. К счастью, вблизи была отмель. Из соседних лодок люди бросились в воду и начали спасать плывущее имущество. С большим трудом удалось нам вытащить из-под бурелома лодку и перевернуть ее. При проверке оказалось, что среди разной мелочи погибло четыре ружья. Сухари, чумиза подмокли, а мука превратилась в тесто, которое мы и съели на первых же днях после крушения. Долго мы еще возились, стоя по пояс в воде, стараясь достать утонувшие винтовки. Наконец, нам удалось разыскать три ружья, и то уже в стороне от бурелома, ниже по течению. А дождь лил ручьями не переставая, вода все прибывала и прибывала, люди промокли до костей: нервная дрожь и щелканье зубами говорили за то, что поиски пора кончить и надо обогреться. Не выходя из воды, мы выпили по глотку спирта, сложили мокрое имущество в лодку и быстро поплыли вниз по течению обратно к фанзе Тахсале. Ночью встречный ветер разорвал тучи, и к утру все небо очистилось совершенно. На другой день, пока на солнце сушилось наше имущество, мне удалось определиться, удалось произвести полный цикл наблюдений и вычислить поправку хронометра по абсолютным и по соответственным высотам солнца. 8- го числа мы готовы были уже итти дальше, но узнали, что верхние орочи (последнее стойбище) едут на лодках книзу. Чтобы не разъехаться с ними в протоках реки, я решил обождать их в фанзе, которой они миновать и объехать никак не могли. День этот и вечер провели в беседе с орочами и с гольдами, расспрашивали их о их житье, и каждый по своей специальности делал записи. Беседа эта затянулась далеко за полночь. Наутро действительно приехали орочи; мы сговорились с ними и на другой день 10 июля тронулись в дорогу. Орочи шли протоками, умело лавировали на перекатах и проводили лодки там, где, казалось, и оморочка пройти не может. Мы невольно любовались их ловкостью, искусством, проворством и знанием места. Иногда приходилось прорубаться сквозь кусты и заросли леса; через узенький проход протаскивали лодки и сразу попадали в тихое, широкое не то озеро, не то старицу — протоку. Испуганные птицы с криком поднимались от воды, улетали вдоль по протоке и скрывались за поворотом. В этих местах много рыбы, особенно линька и тайменя. С удивительной ловкостью орочи били их острогами и сбрасывали живую, трепещущую рыбу в переднюю часть лодки. Мало уметь попасть острогой в рыбу — надо иметь еще и большой навык, чтобы увидеть ее на более или менее значительной глубине и при быстром течении реки. Низко к воде свесились ветви прибрежных деревьев и кустов. Картины самые разнообразные часто сменялись одна другой. Порой они принимали великолепный декоративный вид. Художники-пейзажисты нашли бы здесь неистощимый запас дивных красот для своих произведений. Забылись вчерашние невзгоды, забылись дожди, каждый отрешился от неприятных воспоминаний своей жизни и жил только настоящим прекрасным. Все были веселы, бодры и довольны. Одна только мошкара часто отравляла нам все лучшее, что могла дать хорошая солнечная погода. Каждый занят своим делом. Время летит незаметно. Полдень близко… Люди устали; пора обедать. На каменистой прибрежной отмели приютился небольшой отряд. Лодки подальше вытащены на берег, чтобы их не унесло течением. Люди закрыли лицо черными сетками, чтобы защитить себя хоть немного от мучительно докучливого гнуса. Горят костры, на сошках и на угловатых камнях поставлены чайники и котелки. Орочи расположились в стороне и, в ожидании пока закипит вода, лежа курят свои трубки. Они, видимо, привыкли индифферентно относиться к мошкаре и потому не обращают на нее внимания. Высоко в небе парит орел, медленно описывая круги над протокой. Ему все видно. Зорко он смотрит вниз; заметил и людей, расположившихся на отдых… Но вот люди снова закопошились, заходили, сели опять в лодки, поплыли еще дальше в пустыню и скоро скрылись в новой протоке, а на месте их стоянки остались только догорающие костры: синие струйки дыма подымаются кверху. Едва ушли люди, как тотчас же неизвестно откуда появились вороны и стали ходить по бывшему «табору», подбирая остатки и брошенные кости. Через три дня пути мы, наконец, достигли последнего орочского стойбища Улему. Дальше людей нет. Орочи нам сообщили, что до устья реки Гобилли (правый приток Анюя) надо ехать еще пять суток и столько же времени подыматься по этой последней, а затем в течение двух дней сухопутьем можно достигнуть до самого перевала через хребет Сихотэ-Алинь. На стойбище Улему мы снова вынуждены были потерять одни сутки. Дожди шли не переставая. Из 14 дней путешествия едва ли наберется дня два или три сравнительно светлых, солнечных. Туманы сменялись дождями, дожди — туманами; эти туманы моросили, обильно смачивали и траву, и деревья, и кусты, и землю и по количеству отдаваемой влаги не уступали дождям и одинаково были, докучливы. В такое время дни проходят непроизводительно. Съемку делать нельзя — мокнет планшет, птицы и насекомые прячутся, растения не высыхают; одежда, снаряжение, продовольствие мокнут; имущество портится и само дело страдает. Лучше переждать непогоду и в солнечный день выступить пораньше. Тем более что за время пути «канцелярской работы» (вычерчивание маршрутов, вычисления астрономических пунктов, сбор статистических сведений, ведение записок, отчетность и т. д.) накопляется всегда достаточно. Все же мы, хотя и с трудом, но шли и в дни дождливые, прикрывая планшеты березовой корой.V
Мы опять в стойбище Улему: совершенно неожиданно пришлось нам продневать здесь. Один из орочей, ведущих наши лодки, заболел. Без орочей ехать невозможно. Если бы мы рискнули итти самостоятельно, то давно разбили бы лодки, потопили бы имущество и остались бы без хлеба. Все остальные орочи отнеслись к больному очень сочувственно. Всю почти ночь они шаманили и изгоняли злого духа. Наш больной оказался просто эпилептиком. Припадок длился около восьми часов подряд. Он бесновался, неистовокричал, метался, царапал себе грудь, рвал на себе одежду и с пеной у рта бился головой о землю. На другое утро он немного успокоился, но страшно исхудал и изменился в лице. 13 июля мы пошли дальше, а 17-го достигли устья реки Гобилли, где и решили отдохнуть. Дожди шли почти непрерывно. Вода в реке все время была на прибыли. Чем выше мы подымались по Анюю, тем итти становилось все труднее и труднее. Шум воды на перекатах слышен издали. Мы вступили в область порогов. Там, в городе Хабаровске, нельзя всего этого перечувствовать. Надо видеть, какую борьбу приходится выдержать, чтобы «взять эти рифы». Глаза людей испуганы и лица искажены от чрезмерных усилий. Малейший промах (сломался шест или шест соскользнул с камня), и лодка, подхваченная водоворотом, неминуемо погибнет. Итти против течения очень тяжело. У нас у всех на руках образовались мозоли и водяные пузыри. У всех болят руки и плечи. Пальцы руки отказываются держать карандаш, и вся кисть как-то онемела, какая-то тяжелая, точно мешает, точно не своя, а чужая. Я считаю, что третью часть пути мы уже прошли. До сих пор были цветочки — ягодки еще впереди, ибо окончена легчайшая часть пути, теперь только начнутся трудности и лишения. Я думаю, что, перевалив хребет Сихотэ-Алинь и спустившись книзу, дней через 10 мы станем долбить лодки и в них спустимся вниз по течению реки Хуту. Вероятно там, в реке, мы найдем достаточно рыбы и избегнем голодовки. Как и раньше я говорил, рассчитывать только на одну охоту — неблагоразумно. По крайней мере, до сего времени нам не удалось увидеть ни одного животного, изредка удается убить рябчика или утку. Непроницаемые заросли тайги скрывают от глаз охотника то, что делается в трех шагах от него. Один из моих товарищей, страстный охотник, воочию убедился в этом. Орочи и те в это время не охотничают, а бьют зверя случайно с лодки на протоках реки, в то время, когда он осторожно выходит из зарослей, чтобы полакомиться водяной растительностью и утолить свою жажду. Чем дальше мы уходим в горы, тем природа становится угрюмее. Мешанные леса все чаще и чаще сменяются еловыми и пихтовыми. Все реже и реже попадаются кедры. Из лиственных только жидкие тальники густо растут по каменистым отмелям, теснятся к воде и вытесняют собой все другие деревья. Дальше по Анюю еще теснее сжимают горы с обеих сторон. Дикая река, суровая природа, высокие, крутые горы и хмурое дождливое небо создают чрезвычайно грустные и унылые картины. Из всех девятнадцати проведенных здесь суток- едва ли наберется два-три дня таких, в которые не было дождя. Если ветер дует со стороны северо-восточной — низкие серые тучи несут с большим постоянством сильные дожди. Грозовые тучи всегда идут с юга. Один раз была очень сильная гроза. Эта гроза застала нас в дороге. Надо было переждать непогоду. У берега, под крутым скалистым обрывом, приютились четыре лодки. Люди спешно прикрывают имущество и сами накрываются: кто палатками, кто шинелью, а кто и просто березовой корой. Дождь накрапывает крупными каплями. Исчерна синие тучи быстро заволакивают все небо. Первая ослепительно яркая молния. Раскатисто по горам передается удар грома; несется по ущельям и замирает, бог знает, где-то вдали. Дождь хлынул сразу. Такой ливень не бывает продолжительным. После молнии и удара грома, после сотрясения воздуха дождь еще более усиливается. Гроза продолжалась около часа. Так же быстро, как начался, сразу прекратился дождь, выглянуло солнце, осветило намокшую землю, и все в природе повеселело. На лодках заметно движение — люди откачивают воду из лодок, и через несколько минут, упираясь шестами, мы снова идем вверх по течению Анюя. 17 июля отряд достиг устья реки Гобилли. Мутная вода Гобилли резко отличалась от чистой прозрачной воды Анюя. Мы и раньше слышали, что Гобилли река очень быстрая. Действительно, течение ее достигает до 87 г верст в час. Я полагал заняться определением астрономического пункта в устье реки и вычислить поправку хронометра, но дожди не переставали ни на минуту. Небо все время было покрыто серой пеленой и туч, и тумана. Приходилось ожидать погоды. Два дня мы простояли напрасно. Солнце не показывалось, и мы решили ехать дальше. Здесь у нас едва не забастовали орочи. Они начали жаловаться, что у них дома остались семьи, что дома нет продовольствия; говорили, что им надо ехать в город за покупками, что скоро пойдет рыба, что по Гобилли ехать опасно, что они боятся и за лодки, и за себя. В справедливости последнего их довода мы скоро могли лично убедиться. С трудом удалось нам уговорить орочей, и мы поехали. Для Гобилли выражение «поехали» — неуместно. Правильнее сказать «мы стали карабкаться и цепляться за прибрежные кусты, камни и бурелом». Надо удивляться, как мы так счастливо проскочили все опасные места! Случалось так, что мы попадали в такие ловушки, что нельзя было спускаться, ни вперед итти, ни назад. Малейшая оплошность — и не только имущество, но и люди неминуемо погибли бы в этом хаосе воды и пены. Представьте себе узкий, изломанный коридор, загроможденный камнями, величиной в кубическую сажень. Палки не достают дна. Вода идет со страшной силой и при переходе через камни образует огромные пенящиеся валы. Упираться надо в эти камни и в боковые скалы. Шесты гнутся, дрожат и ломаются. Только уменье орочей управляться с лодкой на быстрине, риск, нечеловеческие усилия всех людей вывели нас благополучно на чистое место, где можно было отдохнуть и оправиться. В другом месте водопад в метр вышиной преграждал дорогу. Сбоку орочи нашли узенькую лазейку, где вода по наклонной плоскости с дьявольской быстротой стремительно неслась сквозь эту узкую горловину. Я никогда не рискнул бы вести здесь лодку. Надо быстро разогнать лодку и быстро проскочить, чтобы вода не затопила ее с носа. И еще раз я повторяю то же, что говорил и в своем прошлом сообщении: «Без орочей я не поеду на лодке и особенно там, где быстрое течение и где много порогов». Так мы плыли по Гобилли трое суток и 21 июля достигли устья небольшой речки Бира. Здесь нам предстояло бросить лодки, отпустить орочей и пешком с котомками за плечами итти на хребет Сихотэ-Алинь и далее на Хуту и Тумнин, к морю. Начинаются самые большие трудности. С возвращающимися назад орочами я посылаю этот свой «Отрывок из путевого дневника». Новые о себе сведения я могу дать только из Императорской Гавани, куда, как я думаю, мы прибудем, вероятно, в середине августа месяца.VI
Уссурийский край — это море лесов. Весь наш путь от Амура и вплоть до Императорской Гавани был лесом. Целыми неделями, месяцами мы не видели мест открытых и чистых. Глаз утомляется и ищет простора. Тесно стоящие друг к другу заросли, чаща гнетуще действуют на душу. Напрасно вы будете искать здесь простора. Чуть-чуть, только кое-где, виден маленький клочок неба. Время рассвета и сумерек не совпадает. Солнце взошло давно и высоко уже поднялось на небе, а в лесу еще темно, неясно. Вечером сумерки наступают тоже рано, да и днем-то солнце не проникает сквозь хвои, а потому внизу всегда полумрак; даже и в самую солнечную погоду ясный день кажется серым, пасмурным. Надо было видеть, с каким наслаждением люди смотрели на море, не могли оторвать глаз от горизонта и подолгу упивались беспредельным простором его после двухмесячного путешествия по лесу, болотам и бурелому. Долина нижнего течения Анюя покрыта исключительно лиственными лесами: дуб, ясень, тополь, бархат, клен, осина, береза, ильм и др. По словам орочей, на расстоянии одного дня пути в сторону, вправо от реки, белая береза растет сплошными лесами, занимая значительные пространства. Около реки черемуха, боярышник, ольшаники и тальники образуют сплошные заросли. Тонкие, длинные, высокоствольные растут они чрезвычайно густо и покрывают собой все сырые берега, каменистые, галечниковые отмели и острова. Сирень, растущая в Южно-Уссурийском крае в виде дерева, иногда с довольно солидным стволом, здесь растет в виде небольшого корявого деревца, а чаще всего в виде крупного кустарника. Так как все леса исключительно поемные, то подлесье все завалено сырым буреломом и мусором. Вода всюду оставила следы: пригнутый к земле кустарник, поломанный молодняк и пучки сухой травы, застрявшие на сучках деревьев. Ил, оставляемый водой, очень плодороден, отчего подлесье всюду образует густые заросли, непроницаемую чащу. По этим зарослям итти без ножа в руках положительно невозможно. Главные представители подлесья: таволга, затем виноград, смородина, шиповник, боярышник и бузина. По берегам проток в изобилии растет барбарис. Травы местами сплошь покрывают собой высохшие русла, доставляя медведю лакомую пищу весной. И теперь еще видны следы медведей, протоптанные тропы и объеденные мясистые корни растений. Хвойного леса нет, и только в области среднего течения смешанный лес начинает клиньями входить к реке и главным образом по правому ее берегу. Чем дальше подвигаться вверх по реке, тем смешанные леса снова начинают вытесняться лиственными и главным образом березняком и осиной. Чаще и чаще мелькают среди их бледной зелени длинные стволы сухостойной лиственицы. Видно, что давно был здесь лесной пожар. Появился молодой березняк. Там и сям снова проросли молодые лиственицы и в будущем, вероятно, снова появится лес, если не хвойный, то, во всяком случае, смешанный. Таковы же леса и по реке Гобилли. Здесь уже начинают попадаться и черная смородина, и голубица, и кусты жимолости. Вследствие высоты места (420 м по анероидным измерениям) многие растения хотя уже и отцвели, но плоды и семена их еще не созрели. Так, например, в нижней части реки Анюй (мы там ехали в середине июля) черемуха была совершенно зрелой, а по реке Гобилли спустя две недели черемуха еще была совершенно зеленой. Переходя к хвойным, прежде всего остановимся на кедре. Кедр, изредка растущий в нижнем течении реки Анюй, сразу прекращается около реки Тормасунь (левый приток). Выше реки Тормасунь кедр встречается как редкое явление. Также редок и тис, причем здесь он имеет скорее вид стланца, чем правильно растущего деревца. Орочи говорили, что много тису встречается в верховьях реки Тормасунь, а равно и в истоках самого Анюя. Чем выше мы поднимались по рекам Анюй и Гобилли, тем чаще и чаще попадалась лиственица, сперва одиночными деревьями, а затем и группами. Она резко выделялась из среды других деревьев своим стройным видом, красноватой корой и бледным цветом листвы-хвои. В горах, где не было пожара, сохранился лес исключительно хвойный, с большим процентом пихты в отношении к ели. Центральная часть хребта Сихотэ-Алинь вся сплошь покрыта густым хвойным лесом. Вечные сумерки, мхи, обилие влаги и почти полное отсутствие травянистой растительности придают какой-то особый угрюмый характер. Такие леса скорее похожи на тундры. В самые жаркие летние дни в них сыро и холодно. Несмотря на конец июля месяца, под мхом и под камнями мы нашли лед. Вероятно, еще ниже будет вечная мерзлота. Вот почему в самых истоках горных ручьев температура воды очень близится к точке замерзания. Из многих измерений температура воды в среднем оказалась 1,5–2° по Цельсию. Такой тундровый лес будет и по склонам гор и только на вершине хребта, там, где попадаются гольцы, — сырые желто-зеленые мхи сменяются белесоватыми сухими. На границе тех и других — густые заросли ползучих кустарников. Ползучий кедровник издали похож на зеленую «травку»; взбираясь на вершину, неопытный путник торопится поскорее пройти лесную зону. Велико бывает его разочарование, когда вместо мягкого, травяного ковра он сразу же вступает в лес кедрового стланца. Толстые ветви его, спускаясь с вершины, стелятся по земле, отделяют от себя мелкие ветви, которые торчат как раз навстречу идущему человеку. Только с топором в руках можно еще с затратой больших усилий пройти эти заросли и выйти к голой вершине. Таковы леса по рекам Анюй и Гобилли и на вершине хребта Сихотэ-Алинь. Отпустив лодки, мы сразу почувствовали себя отрезанными, предоставленными самим себе. Теперь наступила для нас страдная пора, начиналась самая тяжелая часть путешествия. На всякий случай мы оставили при себе продовольственных съестных припасов недели на три. Орочи нам сообщили, что до хребта мы дойдем в 2–3 дня и от перевала через 6- 10 суток дойдем до реки Хуту, где и найдем людей. Так как нести на себе много нельзя (не более 1 1/2 пудов) за один раз, то имущество, продовольствие и инструменты мы переносили от бивака до бивака в два-три приема, вследствие чего общее движение наше было очень медленное, и потому мы только на пятый день достигли хребта Сихотэ-Алинь. Речка Вира, по которой мы шли, не более как горный ручей, текущий по широкой, но короткой долине, поросшей смешанным лесом внизу и исключительно хвойным в верхней ее части. Местами березняки образовали как бы отдельные острова среди других пород деревьев. Меня поразило положение, в котором росли эти деревья. Длинные, тонкие стволы их совершенно пригнулись к земле, образовав всюду как бы живые арки. Тем более это было странно, что корни деревьев не были расшатаны, а сидели в земле глубоко. Долго я не мог найти объяснения этому явлению, пока не наткнулся на затески на деревьях, сделанные рукой человека так высоко, что, стоя на земле даже на подставке, достать топором до места затесины было нельзя. При внимательном осмотре места вокруг деревьев с затесинами все стало понятным. Затесину делал человек топором на лыжах, стоя на глубоком снегу. Глубокий снег — вот причина погнутых деревьев. Снег, упавший на ветви деревьев, погнул дерево слегка своей тяжестью, продержав его в таком положении до самой весны. Если из года в год большой снег будет падать на погнутые уже вершины и ветки тонкого деревца, естественно, что в конце концов оно должно будет согнуться и опуститься вершиной до самой земли. Вот почему и ветви елей более пригнуты к стволу, более опущены книзу, чем ветви тех же хвойных, растущих в Южно-Уссурийском крае. Там ветки растут более горизонтально и даже концы их загибаются несколько кверху. Такое же действие больших снегов заметно в различной форме и на всех остальных породах леса, особенно если деревцо молодое, не успевшее еще окрепнуть как следует.VII
Если отметить цветной краской распространение животных в Уссурийском крае, причем более густой тон ее положить там, где зверя больше, то окрашенная таким образом карта представилась бы в таком виде: более густой тон краски лег бы 1) на Южно-Уссурийский край, на места незаселенные; 2) по нижнему течению рек, впадающих в Уссури и Амур, вдоль железной дороги и 3) по нижнему течению рек, впадающих в Японское море и Татарский пролив. Вся же центральная часть хребта Сихотэ-Алинь, начиная от 44° сев. широты и вплоть до Мариинска и Софийского, представляет из себя лесную пустыню в полном смысле этого слова. В отношении распространения животных оба бассейна рек Ашюя и Тумнина водораздельным хребтом Сихотэ-Алинь разделяются на две области, довольно резко отличающиеся еще друг от друга. Гроза Уссурийского края — тигр, хоть и редко, но все же встречается по реке Анюй. Там орочи часто видят следы его, а равно и самого зверя. Случается, что свирепый хищник смело подходит к орочским балаганам и безнаказанно уносит собак от человеческих жилищ. Орочи жаловались, что в прошлую зиму «куты-амба» (так они называют тигра) унес у них всех собак, чем они были поставлены в затруднительное положение. Далее реки Гобилли он не заходит; в области хребта Сихотэ-Алинь его нет совершенно, к востоку же от перевала, по реке Хуту, следы тигра составляют уже редкость, а самого зверя никто не видел, а в районе Императорской Гавани многие орочи не видывали никогда и следа тигрового. К западу от хребта Сихотэ-Алинь довольно много изюбрей и очень мало лося. Этот последний держится в верхней части реки Анюй, где меньше гнуса. С перевалом через водораздел изюбря нет совершенно, зато лосей много, но только ниже по среднему течению реки Хуту, ближе к ее устью, и по реке Тумнину до самого моря. Хотя изредка старые следы его видны и на самом хребте Сихотэ-Алинь, но это случайные, проходные. Лось тут долго не держится и спускается вниз, туда, где он может найти себе достаточно корму. Кабан держится по обе стороны водораздела, но только там, где растет кедр: к западу, значит не выше реки Торма-сунь, и к востоку, начиная от реки Хуту. В центральной части предгорий Сихотэ-Алиня кабана нет нигде, и следов его не видно. Причину этого надо искать исключительно в отсутствии кедра и дуба, плодами которых он так любит лакомиться. По той же причине нет и белки. Там где много белок, там больше и соболя. Местная белка, хотя и черного цвета, но все же сверху имеет буроватую окраску, в особенности голова и ноги часто бывают красновато-желтые. В Южно-Уссурийском крае все белки без исключения пепельно-черного цвета и шкурки их ценятся выше. Что касается соболя, то вся область бассейна реки Анюя, а равно к востоку по Буту и Хуту, богата этим ценным хищником. Здесь царство уссурийского соболя (Mustela zibellina). Амурские гольды в погоне за его ценным мехом зимой далеко проникают в горы и даже переваливают хребет Сихотэ-Алинь, однако не рискуют опускаться далеко книзу, а район их соболевания ограничивается рекой Наргами, впадающей в реку Буту. Следы этих соболевщиков видны всюду по обе стороны водораздела: старые порубки, брошенные зимние балаганы, поломанные старые лыжи и нарты — красноречиво свидетельствуют об этом. Ниже по реке Буту следов этих уже нигде не встречается, а приморские орочи, в свою очередь, дальше реки Буту не проникают, и вообще сведения их о самом хребте Сихотэ-Алинь, а тем более о реках по ту сторону водораздела крайне скудны и ошибочны. Там, где смешанные леса заменяются хвойными, всюду видны в изобилии следы кабарги. Особенно много кабарги по реке Буту. Много врагов у этого жвачного. И соболь, и орел, и рысь нападают на кабаргу при всяком удобном случае. Самым же опасным неумолимым врагом ее является росомаха. Нам не раз приходилось находить кабаргу, наполовину съеденную этими хищниками. А однажды удалось застать и самих росомах на месте преступления. В общем росомах по реке Буту очень много. Дикая коза держится по луговым низинам Анюя, близ Амура, дальше в лесах и горах коза весьма редкое явление, а к востоку от хребта Сихотэ-Алинь ее нет совершенно. В заключение остается сказать о медведе. К западу от водораздела, ближе к Амуру, там, где леса смешанные, где растет кедр и есть дикие пчелы, медведь устраивает свои берлоги в дуплах тополя и липы и лакомится кедровыми орехами и медом. Выше реки Тормасунь его не видели, а к востоку от перевала через хребет его нет совершенно. Что же касается до родича его, муравьеда, то этот представитель стопоходящих довольно редко забирается по реке Гобилли к хребту Сихотэ-Алинь, зато часто попадается ниже по реке Хуту и далее вплоть до моря. В общем почти все животные держатся там, где растет кедр. Граница произрастания кедра является границей обитания многих животных и птиц. Выше было сказано, что центральная часть хребта Сихотэ-Алинь — мертвая лесная пустыня. Здесь тишина тайги не нарушается ни ревом зверя, ни голосом гурана, ни резким криком кедрянки, нигде не видно и не слышно. Одно журчанье воды в горном ручье да шелест и свист ветра в пихтах и ельнике, однообразные и постоянные, усугубляют мертвящую тишину лесной пустыни. Удивительную тоску нагоняют эти безжизненные леса. Невольно спешишь, торопишься поскорее пройти их. Во время плавания на лодках по реке Анюй нас поражало обилие крохалей и уток. Особенно много первых. Эти целыми выводками перелетали с места на место, с одной протоки на другую. Как раз было время линяния. Испуганные птицы не могли подняться на воздух и, несмотря на быстроту течения реки, удивительно скоро перебегали вверх по воде (даже и на порогах), так что лодки не могли догнать их даже на расстоянии ружейного выстрела. После перевала к морю, в нижнем течении Хуту, наблюдателя поражает обилие уток и разнообразие в их породах. Здесь вы видите тех же крохалей и крякву, и чирков, и чернеть и шилохвость. Орлы (Haliaelus albicilla) держатся только в среднем и верхнем течениях реки Анюй, часто встречаются и по Гобилли; их можно видеть парящими и над хребтом Сихотэ-Алинь, и даже по горным рекам, входящим в систему Хуту и бассейна реки Тумнина. На страшную высоту подымаются эти царственные птицы, и, медленно описывая большие круги, они скоро становятся едва заметными для простого глаза. Трудно допустить, чтобы они совершили такие заоблачные полеты в поисках за кормом, трудно допустить, чтобы оттуда они могли разглядеть свою добычу. Кто знает, чем они здесь питаются, где и как находят себе пищу. Там же, где водятся орлы, живут и вороны. Чем глубже уходишь в горы, тем чаще и чаще приходится слышать крик ворона. Ворон живет в самых глухих местах. Там, где кричит эта птица, вблизи есть какое-нибудь живое существо. Ворон зря кричать не будет. Ниже по Анюю и по Хуту крика его не слышно, и сама птица попадается очень редко. Чем ниже спускаешься с хребта и в ту и в другую сторону, все больше и больше попадается ворон. Обыкновенно присутствие ворон на реке говорит за то, что в протоках есть много рыбы — это всегда безошибочно. В горах, по горным ручьям, обыкновенно около смородины, черемухи, малины много рябчиков; они встречаются часто и на самом хребте Сихотэ-Алинь. Орочи утверждают, что птицу эту стрелять не следует, потому что она позволяет надеть на себя петлю, человека не боится и не улетает. Петлю привязывают к концу длинной палки, которую охотник держит в руках и, не торопясь, надевает на птицу. Сапасы очень похожи на рябчика, но крупнее его, общая окраска темнее и белые рябинки на оперении выделяются резче. У убитой птицы в зобу найдены были нами ягоды черной смородины и хвои ельника. Горные реки, текущие с гольцов хребта Сихотэ-Алинь, кажутся совершенно безжизненными. Ниже начинают попадаться зимородки и оляпки. Изредка мелькнет синяя спинка зимородка; чуть услышишь его слабый крик, едва успеешь разглядеть его, как зимородка, красивая птица уже исчезла где-нибудь в зарослях под крутым яром. Как раз там, где пенится вода на порогах, можно на камнях увидеть бурых оляпок. Быстро перебегая с камня на камень, испуская резкий крик и делая порывистые движения своим вздернутым кверху хвостиком, этот оригинальный водяной воробей испуганно срывается с места и, пролетев шагов около сотни, падает в воду камнем и исчезает в пенящемся водовороте реки. Ронжа- кедровка встречается только там, где много кедра. Здесь всюду в лесу слышен ее резкий, сильный и неприятный крик. Тут же можно найти и сизоворонку. Зато в области Анюя больше дятлов. Около моря есть глухари. Орочи показали, что глухарей по реке Анюй нет и что по ту сторону хребта Сихотэ-Алинь эта птица встречается чаще. То же самое подтвердили и приморские орочи, причем добавили, что по мере удаления от моря в горы, глухарей становится все меньше и меньше. Вот все птицы, какие встречаются на пути от Амура к Императорской Гавани. Река Анюй богата рыбой. Близ устья ее рыба разнообразная: таймень, щука, сом, угорь, сазан и др. Выше только таймень, ленок и неопределенная рыбка, похожая на форель, но несколько шире и крупнее, и вместо красных пятнышек вдоль тела ее идут тонкие красные полоски. Кега идет хорошо. Гольды и орочи утверждают, что во время хода рыбы нигде не бывает так много кеты, как в Анюе. Дальше реки Тормасунь и особенно около реки Гобилли много ленка. Интересно, что эта рыба здесь достигает довольно крупных размеров. Смеренный мной крупный экземпляр имел 21 дюйм длины и 51/2 фунтов веса. Ход кеты нам видеть не удалось. Первую кету-зубатку после весеннего ее хода мы впервые встретили в протоках реки Хуту и то в очень ограниченном количестве. Как раз во время ее хода в реках была большая вода; орочи поймали очень много рыбы, а осеннего хода еще не было до сего времени. Опасаются голодовки. Только те орочи, что живут у моря в самом устье рек, кое-как с трудом поймали еще немного рыбы, но и этой, по их соображениям, не хватит на зиму. Если осенний ход рыбы будет так же слаб, как и весенний, — голодовка у инородцев вполне обеспечена. Теперь перейдем снова к устью Анюя. Обилие поемных лугов и болот по обе стороны Амура, поемные леса Анюя являются причиной колоссального появления гнуса ежегодно летом. В июне, июле, августе и сентябре гнус появляется здесь в огромном количестве. По мере того как подымаешься по рекам все выше и выше в горы — гнуса становится все меньше и меньше, но тем не менее было бы ошибочно думать, что гнуса совершенно нет в хребте Сихотэ-Алинь. От него в тихую теплую солнечную погоду не избавлен будет путешественник и на высоте 1320 метров. И здесь тучи докучливых насекомых засыпают глаза, лезут в уши, забираются за воротники, в рукава и нестерпимо кусают руки. После укуса сразу остается кровоточивая ранка и появляется зуд. Необходимо закрывать уши, затылок, шею, руки, а главное необходимо запастись терпением. Сетка не спасет, потому что после первого же часа пути по тайге от сетки останутся только одни клочки. После перевала, по мере того как приходится спускаться все ниже и ниже, гнуса опять становится все больше и больше. Особенно его много по реке Хуту; такого подавляющего количества мне никогда не приходилось видеть. У людей лицо все покрылось маленькими язвами и опухло, в ушах и за ушами образовались сплошные язвы. Нет слов описать те мучения, которым мы ежедневно подвергались, едва солнце подымалось и пригревало землю и вплоть до вечера, пока не наступали полные сумерки. Только ночь приносила нам отдых и успокоение. Вот почему весь зверь уходит из тайги и держится около моря вплоть до осени. В бассейне рек Тумнина и Хуту диких пчел нет. Зато ос и шмелей очень много. Эти последние встречаются и на хребте Сихотэ-Алинь. На Анюе дикие пчелы есть, но только в нижнем его течении, то есть там, где растут липа и кормовые травы, дающие им возможность кормиться и собирать мед и воск с растений. В заключение остается сказать несколько слов о пресмыкающихся и гадах. По сведениям от орочей, ни змей, ни лягушек, ни ящериц в нижней части Анюя нет. Их вообще мало и в верхнем его течении. Действительно, за все время пути нам удалось увидеть и поймать только два экземпляра уссурийских черных ужей и одну гадюку. На всем пути до моря после перевала нигде земноводных и пресмыкающихся мы уже не встречали.VIII
Река Анюй течет по широкой, продольной тектонической долине и только дважды на пути своем образует пороги с очень крутым падением тальвега. Здесь она на пути своем размыла горные кряжи вкрест их простирания и, стесненная скалами с обеих сторон, проложила себе узкие ворота, пройти которые на лодках в ту или другую сторону очень затруднительно. Верхняя часть Анюя, а равно и приток ее Гобилли текут вдоль хребта Сихотэ-Алинь друг другу навстречу. Казалось бы, что эти долины должны быть в таком случае продольными, но бесчисленное множество порогов, извилистое течение реки, размытые горные кряжи с той и другой стороны говорят за то, что долина эта слагается из ряда поперечных долин, размытых в свою очередь, в местах, наиболее слабых. Пока мы шли по реке Анюй, где горы далеко отходят в сторону, приходилось внимание свое сосредоточивать исключительно на галечниковых аллювиальных отложениях. Здесь на всем протяжении до горы Обо-Ханконн попадаются во множестве окатанные водой куски красно-бурого базальта, темного кварцевого песчаника и зеленокаменной породы, среди них немало и вулканических туфов. Дальше базальты становятся реже и их место занимают серые граниты. Хребет Сихотэ-Алинь имеет здесь направление строго широтное и только около реки Дынми (приток Анюя по течению значительно выше Гобилли) направление хребта склоняется к югу. Перевал с реки Дзагза Вира (приток Гобилли) в бассейн реки Тумнина (река Наргами) — низкая глубокая седловина вышиной 940 метров над уровнем моря, принимая во внимание поправку на температуру воздуха и инструмента. Географическое положение этого перевала 48°55,2' северной широты и 138°18,5' восточной долготы от Гринвича. К западу от седловины хребет понижается, только одинокие плоские вершины подымаются до высоты 910 метров. К востоку хребет сразу сильно повышается. Верхние покровы его — глинистые сланцы, сильно окрашенные бурым железняком. Наивысшая точка хребта во всем этом районе — резко выделяющийся пик, который экспедиция окрестила именем графа Муравьева-Амурского. Абсолютная высота «пика» 1340 метров. Местами хребет расширяется в виде больших, пологих плато, местами понижается и суживается в виде тонкого ребра. Западные склоны его везде значительно круче восточных. Многих трудов стоило нам добраться до упомянутого «пика». Но за труды эти мы были вполне вознаграждены великолепным видом, открывшимся перед нами. Дальние горы тонули в синевато-молочной мгле. Некоторые вершины их были очень высоки, и низко идущие тучи обходили их с той и другой стороны. Казалось, будто это все когда-то кипело, волновалось и, вдруг, как бы по мановению какой-то высшей силы, сразу замерло, окаменело, застыло, да так и осталось на веки вечные… Был конец июля месяца. Все было в зелени. Температура воздуха была 21 °C. Целый день мы были без воды, жажда мучила нас. У подножия «пика» на высоте 100 метров мы стали разбирать камни в надежде найти воду. Где-то глубоко под землей журчал ручей. Разбросав камни не более как на один аршин глубины, мы натолкнулись на лед. В виде небольших (вершка в 1,5–2) сталактитов лед держался на камнях. Этим объясняется очень низкая температура воды всех горных речек, и в особенности в их истоках. Из ряда многих наблюдении, средняя температура воды горных ручьев колеблется от 2, 5 до 3,1° по Цельсию. Чем ниже, тем температура воды подымается, и близ устья она подымается до предела 13,1-15° по Цельсию. Я не думаю, чтобы это была вечная мерзлота почвы. Это просто особая форма мерзлой почвы, поддерживаемая вообще довольно низкой температурой хвойных лесов: мхи и обилие задерживаемой ими влаги не дают возможности проникнуть ниже их в камни теплому летнему воздуху, а солнечные лучи не в силах преодолеть густые заросли ельника и пихты.IX
Еще накануне наш ороч-проводник стал жаловаться на ноги и настойчиво просить, чтобы его отпустили обратно. Дальше с нами итти он не хотел, говорил, что боится, что здесь он не бывал, места не знает и т. д. 30 июля мы покончили обследование ближайшей части хребта Сихотэ-Алинь и на другой день тронулись в путь. Наш проводник окончательно забастовал и решил уйти, хотя бы даже без денег. Нечего делать — пришлось его рассчитать и итти дальше самостоятельно. С утра небо хмурилось и предвещало непогоду. Действительно, как только мы снялись с бивака, пошел дождь. Несмотря на это, у всех на душе было хорошо. Сознание, что мы перевалили хребет и теперь спускаемся по воде, текущей к морю, радовало всех. Радость была преждевременной. В сущности, теперь-то для нас и наступила самая страшная пора, — самая тяжелая и опасная часть пути. Все будет зависеть от того, когда мы увидим первых орочей-охотников. Каждый это понимал, и тем не менее все шли весело и с надеждой на благополучное окончание путешествия. Между тем дождь все усиливался и к полудню превратился в настоящий ливень. Производить съемку становилось все труднее и труднее. Чтобы защитить от дождя планшет, приходилось чаще останавливаться, прикрываться берестой и таким образом работать. Но скоро и это стало невозможным. Вода потекла с намокших рукавов, стала капать с фуражки и заливала бумагу. Пришлось остановиться. Было страшно холодно, люди промокли до костей и очень озябли. Никто не сидел сложа руки. Все дружно принялись устраиваться на ночь, носить дрова и ставить палатку. И было пора. От холода до того окоченели руки и ноги, что с трудом можно было разжать пальцы и снять обувь. Только тот, кому знакома таежная жизнь, может понять, какое удовольствие во время непогоды доставляет путнику палатка, хороший огонь и сухая одежда. И правы орочи, говоря: «хороший огонь — лучший праздник!» Пока грелся чай на огне, я по обыкновению вел свои путевые заметки. Спуск с хребта Сихотэ-Алинь, сначала пологий, становился все круче и круче. Река Паргами, по которой мы спускались, — горный ручей в полном смысле этого слова. Долина реки — узкая расщелина, с очень крутым падением тальвега. Русло Паргами сплошь завалено буреломом и огромными глыбами камней. Вода с шумом стремится книзу, перескакивает с камня на камень, сочится под мхом, образует местами настоящие водопады и пенится, и бурлит там, где скопилось много бурелому. Спускаться с кручи в такую погоду довольно рискованно. Нога скользит, срывая мох и оголяя камни. Приходится держаться за деревья и острые выступы камней. Эти последние часто сами держатся очень непрочно и от малейшего толчка скатываются книзу. Вся обстановка имеет какой-то фантастический, декоративный характер, свойственный только девственной, дикой тайге, не тронутой еще рукой человека. Леса, одевающие восточные склоны Сихотэ-Алиня, таковы же, как и на западной стороне. Ель и пихта — преобладающие породы, но они не достигают, однако, больших размеров. Около воды' изредка попадается тощая береза, жиденький клен и корявая ольха. Лиственные и печеночные мхи густо покрывают и камни, и поваленные деревья. Из мшистого ковра кое-где торчат головки плауна, в сообществе с ними поросли одиночными листьями на тонких, хрупких стебельках папоротника (главным образом Pteris), а ближе к воде пышно распустились Osmunda и изредка Aspidium. Обнаженные скалы, вечно находящиеся в тени, покрыты влажными лишаями. Эти Lichenes на ощупь мягки и жирны — видно, что здесь они никогда не бывают в такой степени сухими, как это замечается на камнях, ежедневно подверженные действию солнечных лучей. Дождь не переставал всю ночь и продолжался весь следующий день. Дождь в лесу — это двойной дождь. Итти по густой траве или в зарослях леса — то же самое, что окунуться с головой в воду. С первых же шагов все сразу становится мокрым. Неизвестность предстоящего пути и ограниченное количество продовольствия, которое мы могли снести на себе, заставляли нас итти вперед, несмотря на непогоду. 2 августа мы достигли устья реки Паргами. Перед нами открылась огромная котловинообразная болотистая долина реки Буту (узнали впоследствии). Едва ли, пожалуй, менее болотиста будет и Паргами, в особенности в нижней части своего течения. Болота эти не случайные, не временные — видно, что вода здесь собралась не от дождей; видно, что болота эти вечные, никогда не высыхающие. Горы отошли далеко от реки, котловина частью наполнилась наносами с гольцов Сихотэ-Алиня, и бывшее когда-то озеро превратилось в марь и болото. Еще издали были видны высокие сухостои лиственицы. Лиственицы эти имеют вид строевых деревьев, но засохшие в верхней своей части, полугнилые и сучковатые от самого низу, они слабо держатся на торфяной почве и качаются, если наступить ногой на их корни. Нога скользит и проваливается в решетины оголенных корней, тонет в глубоком мху и вязнет в торфяни-ковой жидкой грязи. Ниже мха — вода, местами она выступает наружу и образует большие лужи. Во многих местах вся почва качается под давлением ноги, мох в стороне выпучивается и бурлит — это зыбуны. На релках, где посуше, нашли себе приют молодые елочки и пихты. Лоси протоптали тропы в разных направлениях. Мы шли иногда этими тропами, а чаще всего целиной по колено, а то и по пояс в воде. Тучи комаров и мошек нестерпимо кусали лицо и руки и слепили глаза. Здесь решено было сделать дневку и заняться охотой. Охота дала нам две росомахи и половину кабарги, отнятой собаками у этих стопоходящих. Продовольствие наше быстро уменьшалось, надо было его расходовать экономнее и вообще быть осмотрительнее, а, кроме того, нам нельзя было теперь задерживаться на одном месте, следовало торопиться пройти реку Буту, так как близ устья ее и на реке Хуту, по словам орочей, мы должны будем встретить людей, а следовательно и избегнуть голодовки. После дождей река Буту разлилась и частью затопила болотистую низину. Грязная, желтая вода с шумом стремилась книзу и несла смытый с берегов мусор, валежник и вырванные с корнем деревья. С трудом мы перешли зыбучее болото, достигли края долины и, придерживаясь подножия гор, пошли вниз по течению Буту. Следующие дни нашего путешествия были таковы, что едва ли кто из участников его когда-нибудь их забудет. Как ужасный кошмар встают страшные картины одна за другой. Лучше будет, если вместо такого «покойного» изложения последующих событий, я целиком возьму записи из своего путевого дневника и передам их читателям в том виде, в каком они были сделаны мной тогда же и там же, на месте. 3 августа 1908 г. Непогода затихла. День ясный, сухой, теплый. Чем ниже мы спускаемся с гор, тем мошкары становится все больше и больше. После каждого укуса их образуются кровоточивые ранки; производить съемку при этих условиях очень тяжело. Днем съели остатки кабарги. К вечеру дошли до утесов, которые отвесно падали прямо в воду и преграждали нам дорогу. Река подмывала высокий скалистый берег. Пришлось остановиться. Решено было завтра со свежими силами итти горами. Приведено в наличность количество оставшихся продуктов. На всякий случай приказано расходовать их меньше и вместо каши варить кашицу. Около полуночи начал накрапывать дождь, продолжавшийся до самого рассвета. 4 августа 1908 г. С восходом солнца небо стало очищаться; с неимоверными усилиями мы лезли в гору, имея за спиной тяжелые «бейтузы» (котомки), цеплялись руками, хватались за траву, кусты и, вернее ползли на коленях, чем шли на ногах. Все выбивались из сил и отдыхали через каждые 5-10 шагов. Подъем продолжался до самого полудня. Обойдя скалы, мы снова спустились к реке, где и заночевали. Наш маршрут за целый день-11/2 — 1 верста. Масла у нас нет уже давно. Кашицу варим с одной солью. Соли тоже остается мало. Приказано расходовать ее очень бережно и каждый раз пищу не досаливать. 5 августа 1908 г. Чувствуется недоед. Утром была пустая кашица. Мы думали, что теперь пойдем быстро вдоль реки по ее течению, но скоро увидели, что снова придется карабкаться на гору. Опять вода и скалы преграждали путь. Надо было видеть, с какими трудностями мы поднимались кверху. Расходовалось сил больше, чем приобреталось их на отдыхах. Это давало себя чувствовать. После обеда мы прошли немного больше, чем вчера, зато страшно устали. Мошкары становится все больше и больше. Особенно мы страдаем от нее во второй половине дня перед вечером. Чтобы сохранить продовольствие, приказано по вечерам варить суп из чумизы с грибами.X
6 августа 1908 г. Утром холодный туман. Все встали усталые. Итти берегом дальше, карабкаться снова в гору — сил не хватает. Осмотр реки дал благоприятные результаты. Вода в реке шла, хотя и быстро, но покойно, камней и бурелому нет. На общем совете решили делать лодки и в них спускаться вниз по течению. Два человека были посланы вперед на два дня пути: узнать, далеко ли устье и нет ли вблизи балаганов орочей. До полудня выбирали новое место бивака и подыскивали лес для лодок. Скоро подходящий тополь был найден. Сегодня убили двух рябчиков и собрали немного грибов. После обеда тополь был повален, перерублен и оголен от коры. Работали с дымокурами. По берегу реки кое-где попадаются очень старые порубки. Видно, что люди очень давно здесь не бывали. Где и как мы идем, на какую реку вышли? — Вот вопросы, сильно нас интересующие. Вечером сварили остатки гороху — получился жиденький гороховый суп с грибами. 7 августа. День серый. Торопимся делать лодки. Люди работают дружно и быстро. Судя по рассказам орочей, от места, где мы делаем лодки, орочи должны быть в двух-трех днях пути. Неизвестность будущего, сомнения в верности пути, по которому мы идем, так как, быть может, орочи указали нам дорогу не там, где следует, а также видимый недостаток съестных припасов, которые мы могли снести на своих плечах, — дают мне право сделать допуск мысли, что мы быть может и не доберемся до людей и жилья, раньше застигнет нас голодовка, силы быстро иссякнут и… Кто знает будущее???! На всякий случай я решил разобрать, перенумеровать свои съемки и вообще привести в порядок и систему все свои работы, чтобы потом (мало ли что случится) кто-нибудь другой и без моей помощи мог бы в них разобраться. Я сильно сомневаюсь, чтобы мы скоро встретили людей. Дневную дачу продовольствия сегодня еще более сократили. Все, что мы имеем — это немного чумизы и еще меньше соли. В довершение несчастья, от постоянных дождей патроны отсырели и стали давать осечки. Сегодня мы только заметили, что все сильно похудели. Я всю ночь не спал и мучился мыслями: «Что как дальше река разобьется на протоки, которые будут завалены буреломом? Что если на лодках ехать будет нельзя? Если лодки у нас не выйдут? Если лодки разобьются и т. д.? Тогда мы только потеряем время, и положение наше станет в сто раз худшим!» 8 августа. Утром над рекой стал подниматься туман, а с восходом солнца пошел дождь. Несмотря на непогоду, люди взялись за лодки Дзен-Пау (китаец) взялся за вторую лодку. Дело у него идет умело и хорошо. Осталось несколько кружек чумизы, маленький кусочек чаю и горсть соли в узелке. — Что все это значит для 8 человек? Чувствуется недоед все сильнее и сильнее. Думаем заваривать чумизу вместо чая. Вечером варили суп из одних грибов — чумизы подсыпали в грибы только как приправу. Сомнения все больше и больше закрадываются в душу: что, если лодки эти только отнимут у нас время и оголодят нас? Все это понимают и все молчат. Было не до разговора! Нервное состояние повышенное. 9 августа. Сегодня мне удалось убить одного рябчика и собрать немного грибов. Одну лодку кончаем, другая готова наполовину. Какие-то новости принесут нам посланные на разведку? Печальную картину по вечерам представляет из себя наш бивак. У огня все молча сидят унылые — разные мысли, предположения и расчеты гонят сон прочь. У каждого невесело на душе. Время от времени слышен только чей-нибудь вздох. Который уже день собакам ничего не даем есть. Они страшно похудели, все время лежат и спят. Ночь теплая — облачное небо. 10 августа. Каждую ночь с востока ползет густой туман; он держится в верхних слоях атмосферы. С восходом солнца утренний ветер гонит туман обратно. Это бризы. Значит, море недалеко. Как и следовало ожидать, посланные сегодня вернулись и сообщили, что на два дня пути вперед нигдечеловеческого жилья нет (что) река разбивается на протоки, заваленные буреломом, что дальше берегом итти нельзя, так как река часто подмывает крутые горы и что с верху этих гор устья реки не видно. Оставалось что-нибудь из двух: или ехать на лодках и, где много бурелому, перетаскивать лодки берегом, или, переправившись на другой берег реки, продолжать итти пешком вниз по ее течению. Решено попытать счастья на лодках. После обеда, то есть после грибного супа с чумизой, все с лихорадочной поспешностью взялись за распаривание и за распирание бортов лодки. Крик ужаса вырвался сразу у всех. Борт лодки треснул во всю длину и дал широкую сквозную щель. Сразу все замолчали; у всех опустились руки. Что теперь делать? Неужели бросить лодку? Сколько времени и сил потрачено? Надо починять! Кожей, веревками, смолой пихты мы принялись заделывать треснувшее дерево. На скрепы пошли винты и гвозди, взятые из ящиков, в которых лежали ценные вещи и инструменты. К вечеру лодка была починена и спущена в воду. Другую лодку кончали Дзен-Пау и переводчик. Так как вместо сахару чай пили с солью, то чтобы сэкономить соль, приказано не давать ее к чаю, и чай пить пустой. 11 августа. Едва успели отъехать, как тотчас же одна лодка перевернулась. Водой унесло две палатки. Утонуло три ружья. К счастью, крушение произошло на мелком месте, и потому скоро ружья достали. Остатки чумизы промокли — пришлось ее сушить в котле на огне. Подмокли ценные вещи и в том числе фотографический аппарат, кассеты. Полдня потеряли мы, пока приводили все в порядок. После полудня большая часть людей шла пешком, а в лодках остались лишь по два человека и все имущество. Плохо сделанные лодки, быстрота течения, извивающееся русло и неуменье управлять шестами — все это вместе привело к тому, что в тот же день у одной лодки сломался нос (она ударилась со всего размаху в берег), ехавшие на ней Дзюль и казак Крылов едва не погибли. В результате люди промокли, простудились, рисковали жизнью и все-таки прошли очень мало. Идущие по берегу собирали по дороге всякие грибы, которые и ели вечером. Начинает сказываться недостаток соли и кислот в организме. Чтобы чем-нибудь заменить пресный вкус грибов, мы постоянно едим черемуху. 12 августа. Ежедневно утренний туман разгоняется встречным ветром с восходом солнца. Едва отошли лодки, едва они проехали одну или две версты, как уже два раза на одном месте произошло крушение. Лодку забило течением под бурелом и почти целый день ушел на то, чтобы ее оттуда вытащить. Многие вещи совершенно вымокли и пропали (фотографический аппарат и негативы). От соли осталась одна щепотка — девять десятых ее смыло водой, то же стало и с табаком, и со спичками, вторично промочены остатки чумизы. Идущие по берегу ушли далеко. Когда они вернулись к месту крушения, пришлось тут же остановиться биваком. Было поздно, солнце садилось. Вечером ели грибы. Так как за день собрали грибов мало, то ели какой-то лишайник — не то мох, не то грибы из семейства Clavarieae. Все больше и больше чувствуем недоед. Питаясь одним грибным супом, мы едва ли уйдем далеко. Одна из собак — Джек Дзюля итти не могла от слабости и осталась на половине дороги. Нет сомнения, она погибла от голода, — лучше бы мы ее съели. Вечером Дзюль с собаками опять нашел часть кабарги, заеденной росомахами. Небольшой кусочек мяса подкрепил каждого. Что-то завтра? 13 августа. Сегодня бросили одну лодку и пошли налегке правым берегом реки. На другую лодку сложили более тяжелые вещи. Первая половина дня прошла благополучно, но в полдень произошло крушение второй лодки. Больше часу мы вынимали ее из воды. Хорошо, что инструменты и хронометр я нес на себе. Новое несчастье: утонули все топоры, только один небольшой топор остался у китайца. Долго мы сушили свои вещи, многое побросали и лишь самое ценное и необходимое понесли с собой в котомках. Лодку бросили и решили идти пешком; заметно, что люди сразу как-то осунулись… Усталые ноги едва передвигаются, есть нечего, последнюю горсть чумизы приказано держать в запасе для больных, вместо чая. Не надо допускать собак до издыхания — следует заблаговременно их убивать и питаться их мясом. Опять варили грибы, которые собрали с пней перед сумерками. Вечером собаки нашли дохлую рыбу. От нее сильно пахло, но они с жадностью ее съели. Как-то особенно быстро смеркалось. Сумерки опускались на землю. Огонь на биваке горел все ярче и ярче. По обыкновению, люди молчали. Вдруг все насторожили свой слух. «Ворона!» Действительно, где-то на реке каркала ворона. Надежда появилась в сердцах наших. Должно быть близко есть зубатка. Если завтра не найдем рыбы, убьем одну собаку.XI
14 августа 1908 г. Сегодня выступили с бивака голодные. День серый, пасмурный. Чтобы перейти на другую сторону реки Буты, мы с большим трудом повалили кедр и перебрались на отмель. Идя берегом, спугнули лося. Гольд стрелял в зверя, но не попал. Преследовать напуганное животное было бесполезно. Только бы добраться до устья реки, а там, быть может, мы найдем людей и лодки. Быть может, штабс-капитан Николаев там нас ожидает, а, может быть, там, где-нибудь на видном месте, он сложил для нас продукты, а сам возвратился. Во всяком случае, в устье реки Буту мы видели конец нашим страданиям, имели надежду на спасение. Мы ужасно страдаем от мошкары. У людей в ушах появились сплошные раны, на лице — экзема. Особенно много мошкары перед вечером. Несносные насекомые лезут в глаза и в уши, и в волосы, и в рукава, и за воротник рубашки. С какой радостью мы встречаем солнечный закат! Сумерки и ночь дают отдых от ужасного гнуса. В одном месте на песке около реки увидели свежие следы тигра, но интересоваться этим никто не хочет. Все идут апатично, голодные, усталые и обессиленные. Часа в четыре дня мы попали в чрезвычайно топкое и зыбучее болото: с трудом мы перешли его, более чем по пояс в воде. Перед сумерками еще одна собака (моя любимая Альпа) итти отказалась. Боясь, что она, подобно Джеку, зря погибнет, я велел донести (ее) до бивака. Уже стемнело, когда мы остановились. Тотчас же Альпа была пристрелена и разделена на части. Тогда ее сварили и ею накормили других собак в целях сохранения их на будущее. Сердце, печень и легкое ели люди. Остальное мясо разделили на части для носки. Собачину приказано беречь и есть понемногу, чтобы ее хватило подольше. 15 августа. Утром поели немного собачины и двинулись дальше. Скоро мы попали в болото и в бурелом. Весь отряд разбился на части. Тучи мошкары сопровождали людей, не давали дышать, лезли в рот и попадали в горло. Все нервничали. Что, если мы не туда попали; что будет с нами, если мы съедим всех собак, а к морю еще не выйдем? В полдень опять варили немного мяса. Я начинаю бояться появления цынги или голодного тифа. Страшно страдаем от отсутствия соли. Перед вечером три человека наткнулись на медведя, ранили его, но обессиленные люди и собаки не могли догнать его, и зверь ушел за реку. Ночевали кто где попало. Сегодня на привалах (которые были очень часты) люди не садились отдыхать, а прямо, как' подкошенные, падали с ног в траву и лежали, закрыв лицо руками. Вечером съели по маленькому кусочку собачьего мяса и легли спать. Ночью шел дождь и не давал сомкнуть глаз. Шелест падающего дождя и шум воды в реке били по нервам. Собаки хватит еще на 11/2-2 суток. Придется бить вторую. Положение становилось отчаянным. 16 августа. Немного поели мяса и пошли. Дождь. На душе крайне тоскливо. На берегу реки. нашли орочский амбар. В надежде, что там найдется что-нибудь съестное, мы бросились к нему. Амбар оказался брошенным, пустым. Неужели мы погибнем? Еще вчера вечером собаки куда-то бегали и вернулись сытые, животы у них были полные Дзюль пошел утром с собаками в сторону от реки. Вдруг мы услышали его выстрел. «Рыба! Рыба!» — радостный крик единодушно вырвался из уст каждого. «Рыба! Рыба! Слава богу, мы спасены'!» Мы все бросились и ели с жадностью без соли сырую рыбу. Как бы сговорившись, все стали снимать котомки. Все понимали, что здесь будет отдых и дневка. В протоке рыбьи было много. Это была кета весеннего хода. Посыпались разговоры;, смех, шутки; тяжелая дорога, голодовки, нравственные страдания — все это было забыто, все осталось позади! Забыли даже про дождь и про мошкару: все видели только рыбу и больше ничего. Сразу наше положение изменилось к лучшему. Весь день ели рыбу и печеной, и вареной, и сырой. Когда первые приступы голода были утолены, мы принялись устраивать палатку и пошли на охоту за рыбой. Всю ночь сушили на огне разделанную на пласты кету, которую намеревались взять с собой как неприкосновенный запас на всякий случай. Долго не спали люди, далеко за полночь затянулись разговоры-все делились своими впечатлениями. 17 августа. Проснулись все усталые. Совершенно неожиданно все вдруг как-то обессилели. Какая тому причина? Переутомление и недостаток питания или потому, что после голодовки мы сразу с жадностью набросились на рыбу. Объяснить состояние довольно трудно. Чувствуется ломота в пояснице, общее бессилие, тяжесть в ногах, ломота в костях. Переводчик-гольд скоро лег и уже не вставал до вечера. Ощущается сильная потребность в соли. Целый день сушили рыбу. Чтобы заглушить ее пресный вкус, едим все время черемуху. День и ночь — холодные, дождливые! К вечеру всех разломило еще больше. 18 августа. С восходом солнца мы были уже в дороге. Едва мы отошли от бивака с версту, как путь нам преградила большая река. Где мы? Что делать? Тут на мыску стоял старый зимний балаган орочей. Благодарение богу! Мы достигли устья реки, на которой так голодали. Принялись искать продовольствия в надежде, что «наши» были здесь и оставили его нам где-нибудь на видном месте. Поиски дали отрицательные результаты. Надежда на помощь со стороны встречного отряда рухнула, и мы к ней более не возвращаемся. Через большую реку переправиться нельзя; надо переправляться через ту, по которой мы шли раньше. С выступлением с бивака опять начались несчастья. Китаец Дзен-Пау сильно заболел и совершенно свалился с ног. Все время он лежал на камнях и стонал. Целый день мы провели в поисках места, удобного для переправы. Тщетно. Обе реки были широки, поваленные деревья не хватали до другого берега, быстрое течение подхватывало их и уносило в мгновение ока. И все это делалось усталыми руками, одним тупым топором! — Успех работы не согласовался с расходуемыми усилиями. Вместо движения вперед мы заночевали на мысу-стрелке, что у слияния той и другой рек, вблизи орочского балагана. На всякий случай тут на дереве мы вырезали надпись такого содержания: «Утомлены; обессилены; есть нечего; пошли дальше вниз по реке правым берегом», ниже указали месяц и число и перечислили свои фамилии. 19 августа. Дзен-Пау попрежнему болен; сегодня ему еще хуже. В одну ночь он страшно изменился в лице. Переводчик гольд тоже лежит и не поднимает головы. Что за причина, что все сразу обессилели? Можно судить, насколько все были слабы, что впятером на протяжении 20 шагов с большим трудом могли едва-едва протащить тонкую жердь, чтобы устроить переправу. Еще больших усилий нам стоило перетолкнуть две жерди с бурелома на галечниковую отмель другого берега. Только к вечеру нам удалось переправиться через реку. Теперь мы шли по берегу большой реки. Новый бивак был не далее 1–1,5 верст от предыдущего. Нигде нет заметок, что штабс-капитан Николаев был здесь. Вид больных, их стоны просто надрывают — душу. Что делать? Больные итти не могут — нести их нельзя (мы сами едва волочим ноги); бросить их в тайге — эта мысль ни у кого в голове не имеет места, это было бы предательством, убийством, подлостью. Остаться с ними — значит всех подвергнуть верной гибели! У людей замечается упадок духа, сомнения, опасения за жизнь! Я, как могу, успокаиваю и подбадриваю людей: «Ничего! Пока есть рыба и собаки, мы не умрем с голоду». Хорошо, не умрем, — но далеко ли мы уйдем? Спутник голода — тиф раньше подкосит ноги. Недостаток соляной кислоты в кишках и желудке не пополняется ничем, и тем более, что соли у нас давно уже нет ни крошки. Пресная рыба начала сильно приедаться. Каждый ушел в свои мысли — все унылы: кто лежит, кто сидя склонил голову на колени и безучастно, апатично смотрит на реку. Неужели помощи не будет?! Чем все это кончится? Одна надежда на бога! 20 августа. Густой туман разогнало чрезвычайно сильным холодным порывистым ветром. Мы по утрам очень зябнем. Легкая летняя одежда, взятая нами еще из Хабаровска, износилась и изорвалась в клочья. Починять ее нечем. Еще большая нужда в обуви. Из старых, рваных уж по частям составляем одну пару. Починка обуви идет вечером, когда мошкара исчезает. Дзен-Пау и переводчик гольд через каждые 100 шагов падают на землю со стоном. Они совершенно не могут итти. Люди страшно исхудали: шеи вытянулись, глаза впали, носы заострились и скулы выдвинулись вперед. Они употребляют остатки своих усилий, и я с минуты на минуту ожидаю, что они скоро итти далее откажутся. Наши котомки не тяжелы, но кажутся ужасно тяжелыми. Лямки сильно нарезали плечи. Вероятно, мы вышли на реку Хуту, а может быть, и на Копи. Прошли очень мало. Особенно тяжело перелезать через валежник. В одном месте, на повороте, река разбилась на множество проток, сплошь заваленных буреломом. Здесь Дзен-Пау лег на камнях и начал говорить, что он скоро умрет. Это худо подействовало на людей. Среди них тоже начались разговоры о смерти, только казак Крылов не соглашался с ними. Я тоже убежден, что не следует сдаваться без борьбы, пока еще силы есть хотя немного; в крайнем случае, более крепкие будут служить более слабым.XII
21 августа. Сегодня люди не шли, а тащились, поминутно отдыхали, часто падали и не вставали. Мы нестерпимо страдаем от гнуса. С каждым днем, с каждой верстой мошкары становится все больше и больше. Нет слов описать наши страдания. Сухой рыбы осталось очень мало. Надо во что бы то ни стало добиться до такой протоки, где есть рыба: что если мы рыбы больше не увидим? Тогда убьем еще одну собаку. К полудню мы отошли так недалеко, что с места, где мы отдыхали, старый наш бивак был хорошо виден. Крутая гора подошла к реке и преградила дорогу — надо лезть на кручу. Все опустили головы и с мольбой смотрели на реку. Вода быстро, но бесшумно шла к морю, и ни одной лодки, ни малейшего признака жилья нигде не видно! «Глядите: собака!?» радостный шопот пробежал между людьми и тихо передается из уст в уста! Надо было видеть, какое действие произвели эти два слова. Все сразу преобразились. Усталости как не бывало. Действительно, на другой стороне реки сидела орочская собака и внимательно на нас смотрела. Никто с такой лаской и с такой любовью не смотрел на собаку, как мы в это время. И было отчего. Присутствие собаки говорило за то, что вблизи есть люди. Тихо, без шума, мы пошли дальше и внимательно осматривали реку. Скоро радость наша сменилась отчаянием. Надежда увидеть орочей рухнула. Перед вечером мы увидели бивак, где орочи ночевали. Стало очевидным, что они или проехали какой-либо протокой у другого берега реки, или умышленно скрылись от нас в чаще леса. К вечеру мы дошли до протоки, но в ней рыбы не оказалось. Ночевали на галечниковой отмели. Наши больные не поправляются и по-прежнему лежат и стонут. 22 августа. Сухую рыбу съели всю, надо итти вперед и искать рыбу. Пошли. Дзен-Пау мучился, всю ночь не спал и рано пошел вперед один. Гольд так ослабел, что не мог нести своей котомки. Мы разобрали его вещи. Люди еле-еле волочат ноги. Я тоже начинаю чувствовать тяжесть в ногах и дрожание в коленях. Чуть солнце начинает пригревать землю, миллиарды мошкары тучами набрасываются на нас и нестерпимо кусают лицо и руки. Надо иметь или ангельское или дьявольское терпение, чтобы не нервничать. От укусов у людей местами лицо и руки запачканы кровью. К полудню мы опять подошли к горам. Дальше итти совершенно нельзя. Отвесные порфировые скалы обрывами падали в реку и вверх подымались на огромную высоту. Река делает здесь поворот. Вода с шумом бьет под эти утесы и подмывает их. К счастью, здесь в протоке оказалось немного рыбы. Так как больной гольд решительно итти не может, а люди так устали и обессилели, что едва ли будут в состоянии итти дальше, — решено сделать маленькую оморочку и на ней послать двух человек за помощью к орочам. По течению легкая лодочка должна скоро дойти до моря и, вероятно, еще на дороге встретит орочские стойбища. Остальные, если не в силах будут итти вперед, останутся на месте ждать помощи или своей участи. Хоть два человека да спасутся! В этот же день свалили тополь и начали долбить оморочку. 23 августа. Ночевали одни. Дзен-Пау не приходил к нам. Где он, что с ним, жив ли? Быть может придет сегодня. Все встали разбитые. Это не люди, а тени их. Все нервничают и придираются друг к другу из-за всякого пустяка. Все нервно-душевнобольные. Рыба опротивела. Я побежал на охоту и убил три белки и три ронжи. Дзюль собирал зеленые ягоды «кишмиша». Ягоды эти дали немного кислоты. Черемухи больше нет — она осыпалась. Вместо чая пьем горячую воду. Насколько позволяют силы, долбим лодку. Кругом дымокуры. Усталые, слабые руки едва поднимают топор. Один только топор, да и тот тупой. Гольд лежит и стонет. И к вечеру Дзен-Пау не пришел на бивак. Что-нибудь с ним случилось, где его искать? Последняя наша надежда, единственное спасение — это лодка. Надо убить еще одну собаку. Надежда на встречных орочей тоже исчезла, очевидно они боятся нас, избегают, прячутся. Чем-то все это кончится!? На лодке поедут гольд и казак, а мы переправимся предварительно на другой берег, выберемся на отмель и там в протоках искать рыбу и хоть по одной версте в сутки, все же будем вперед подвигаться понемногу. 24 августа. Утром густой туман — все прозябли. Все чаще и чаще люди начинают болеть желудками. Я боюсь появления страшного гостя — голодного тифа. Все стали суеверные. Каждый начал придавать значение всякому сну, всякой примете. Торопимся делать оморочку. В протоке нет больше рыбьи. Я бегал на охоту. На горе я нашел горсть брусники — ее нельзя есть одному, надо снести товарищам. Целый день я проходил и убил только три ронжи и одну белку. Пожалуй, завтра лодку окончим. Ее долбит один казак Крылов. Или Дзен-Пау ушел вперед или, больной, где-нибудь завалился и покончил расчеты с жизнью. Всю ночь гольд не спал, ворочался и стонал. Вечером лодку кончили. Итак, двое уедут: самых слабых отправить нельзя — они не доедут, сами утонут и нам помощи не подадут. Если бы мимо ехали орочи, я отправил бы с ними наиболее слабых, а потом бы остальных нижних чинов, сам я и более крепкие остались бы последними. Ночью мы долго не спали — все мучились животами. Вдруг по реке далеко-далеко (внизу) прокатились выстрелы. Мы насчитали четыре выстрела. Решили не отвечать — вероятно, это орочи охотятся за медведем на протоках реки. Не надо их пугать. Новая искра надежды зародилась в душе, 25 августа. Никто не спал всю ночь — все страдали животами. Особенно мучился гольд. К рассвету боли его усилились и дошли чуть не до обмороков. Он корчился и обливался потом. Сегодня двое должны уехать. В протоке нет рыбы. Надо торопиться переправляться на другую сторону и отпустить уезжающих. Невыносимая тоска легла на душу. Начали рубить шесты для лодки. Лихорадочная деятельность кипела на биваке. Вдруг совсем близко послышались выстрелы. Слух не обманывал нас — это выстрелы из трехлинейных винтовок. Несколько ответных выстрелов было тотчас же сделано людьми без всякого приказания. Все бросились к реке и с жадностью впились глазами вниз по течению. Еще две-три минуты, и из-за поворота реки появилась лодка. Люди на ней быстро и усиленно работали шестами. То штабс-капитан Николаев со встречным отрядом и с орочами торопился на помощь. Все ликовали. Оказывается, что Дзен-Пау с громадными усилиями в два дня обошел гору, снова вышел на реку и больной, расслабленный тащился берегом. Его издали заметил штабс-капитан Николаев и был уверен, что тут весь отряд. Как только он увидел китайца и узнал у него, что наш отряд в самом критическом положении, он, наскоро захватив немного продовольствия и побросав на берег все лишние грузы, на одной небольшой легкой лодочке с орочами бросился к нам навстречу. Поздняя ночь остановила его верстах в 10 от нашего голодного бивака. Желая дать знать нам, что он недалеко, он ночью сделал четыре выстрела. Эти-то выстрелы мы и слышали, приняв их за охотничьи выстрелы орочей. Чуть стало брезжиться, он был уже в дороге, а в 9 ч. утра был у нашего голодного бивака. Великая была радость. Маленький глоток спирта подкрепил наши совершенно упавшие силы. Тотчас же сварили кофе. Чашка его с молоком и с сахаром, две-три ложки вареного рису, кусочек белого хлеба подняли на ноги и ослабевших. Совершенно противоположное действие произвела на меня подоспевшая помощь. Как только я увидел, что мы спасены — я сразу почувствовал полнейший упадок сил. Я не мог стоять на ногах и лег на землю. Тут только я почувствовал себя измученным и обессиленным, тут только почувствовал я, что устал и что дальше итти не в состоянии. В двое суток доехали мы до устья реки Хуту, где и остановились у орочей, а на другой день, 27-го вечером, были уже и на берегу моря. Три недели после этого мы все болели: 1) истощенный организм и отвыкший желудок отказывались принимать пищу; 2) люди имели вид больных, только что поднявшихся с постели после тяжкого брюшного тифа; 3) только во второй половине сентября мы немного собрались с силами и могли тронуться в новую дорогу; 4) для некоторых такая голодовка была очень тяжела. Они так и не могли оправиться в Императорской Гавани, и я вынужден был отправить их (одного стрелка и одного казака) обратно в Хабаровск.XIII
При тех условиях, при которых нам пришлось пройти реки Буту и Хуту, трудно было интересоваться природой. Было не до того! Главная наша цель была — скорее добиться до людей и найти себе пропитание. Апатично мы подвигались вперед и равнодушно, без интереса смотрели на все окружающее. Только некоторые факты запомнились случайно, запомнилось то, что случайно бросилось в глаза и случайно же запечатлелось в памяти. Течение реки Буту строго широтное. Долина ее то суживается там, где горы близко подходят к реке, то расширяется в тех местах, где в нее впадают многочисленные ее притоки. Она скорее имеет характер поперечной долины размыва, нежели долины продольной. Сама река очень извилиста: то она походит на горный ручей, то становится широкой и производит полное впечатление реки. Мы шли больше левым берегом. Если наблюдатель подымется на горный хребет, окаймляющий нижнюю часть долины с северной стороны, и взойдет на одну из многочисленных горных вершин, покрытых осыпями, — ему откроется далекий вид на реку Буту. Куда ни кинешь взор — всюду лес, бесконечный лес, всюду горы, бесконечные горы! Разнообразные острые и тупые вершины их поднимаются до самого горизонта. Ближайшие хребты видны ясно, дальше трудно рассмотреть их контуры и складки, а еще дальше — чуть виднеются причудливые, «как мечты», горные хребты Сихотэ-Алинь. Зубчатый гребень их тонет в синевато-белой мгле летнего воздуха, и от этого кажется он еще более далеким. Темные леса, одевающие склоны гор, исключительно хвойные: ель, пихта и лиственица — главные представители. Только около самой реки, прихотливо извиваясь по течению ее, тянется узенькая полоса яркой зелени пород лиственных: тополь, береза, ясень, ольха, тальники и черемуха. Около осыпей разрослись кусты жимолости и багульника, а рядом в стороне, под покровом лучей солнечных, нашли себе приют низкорослый корявый дубок, в виде поросли, и тощие осинники. Кора осинника обглоданная, и сучья все объедены почти до самого верху. Это лоси. Тут зимой было стойбище. Они кормились здесь во время глубокого снега. Маревые болота видны хорошо: редкие сухостои, растущие на них, резко выделяются из темной зелени Coniferae. Тихо. Ни один звук не нарушает мертвящей тишины этих мест; можно подумать, что здесь все живое вымерло сразу, как бы по мановению какой-то неведомой высшей силы. Кажется, будто в этих горах всякая жизнь давным-давно исчезла, прекратилась, и с тех пор она уже более не возобновлялась. Эта вечная тишина как-то особенно гнетуще действует на душу человека. Насколько Южно-Уссурийский край и долина реки Уссури богаты зверем, настолько бедна и не разнообразна фауна северной части края: лось, медведь, росомаха, рысь, белки, кабарга, соболь — единственные и немногочисленные ее представители. Кажется, выше я говорил, что летом лоси держатся у берега моря. Там на прибрежных песках они находят защиту от гнуса и лакомятся низкорослыми сочными Crassulaceae. Редко который из них останется в горах. Из медведей распространен Ursus torquatus [338]. Как и в других местах Уссурийского края, весной медведи держатся по низинам и старицам рек — здесь они питаются жирными сочными листьями подбела (Petasites), позже — ищут ягоды и ломают черемушник. Мы застали медведей на протоках, где они в поисках рыбы протоптали вдоль берегов свои торные тропы. Стрельба по рыбе разогнала животных очень скоро, а преследовать их — сил нехватало. Кабарга попадается чаще других животных, хвойные леса и мхи всегда являются условиями, весьма благоприятными для ее обитания. У кабарги много врагов; бедному животному приходится всегда быть настороже: хитрая лисица не пропускает напасть на нее при всяком удобном случае; волки по нескольку вместе устраивают на нее настоящие облавы; рысь, притаившаяся где-нибудь на дереве, схватывает мимо проходящую кабаргу наверняка и без промаха; соболь и тот решается делать на нее нападения. Самым же злейшим врагом ее является росомаха. Это стопоходящее хорьковое специально выискивает кабаргу, и охотится за нею. Средство защиты у кабарги-ее ноги. Большие верхние клыки, торчащие изо рта книзу, не могут служить ей защитой. На правом берегу реки Буту в нижней части ее течения есть много разрушенных ловушек- петель, расставленных на кабарговых тропах. Сущность ловли кабарги этими петлями заключается в следующем. Тропку преграждают забором, который наскоро устраивают из подручного хвороста и бурелома. Иногда нарочно для сего надрубают и валят деревья. На тропе в заборе оставляют узкое отверстие с петлей: петля эта прикреплена к ближайшему нагнутому дереву. Не найдя прохода, кабарга идет в отверстие, задевает петлю, срывает узелок с зарубки, и петля, подхватив животное за голову или за ногу, поднимает его разогнувшимся деревом кверху. Охотник не каждый день обходит свои ловушки, и несчастная кабарга мучается иногда очень долго. Виденные нами ловушки были старые, разрушенные: очевидно давно уже никто здесь не занимался этого рода охотой. Орочи считают, что и соболей на реке Буту тоже мало, хотя амурские гольды именно сюда и ходят на соболевание. Судя по тому, что и по реке Буту и по реке Хуту нигде орочи не живут, леса сохранились и не выгорели, охотников тоже немного — можно предположить, что в этих местах соболей должно быть больше, чем думают орочи. Птицы на берегу реки Буту почти не видно. Даже такие обычные пернатые, как рябчики, утки, ронжи, дятлы и поползни- отсутствуют. Если они и есть, то очень мало. За всю дорогу мы только и видели двух черных уток. Впрочем, на самом хребте Сихотэ-Алинь мы нашли несколько штук «сапасе» — род рябчика, только более крупного по размерам и с более темной окраской оперения. Земноводных и пресмыкающихся, по словам орочей, совершенно нет. Действительно, за всю дорогу мы ни разу не видели ни одной лягушки, не заметили ни одной ящерицы и не встретили ни одной змеи. Из рыбы видели ленков, головлей и зубатку весеннего хода. Что же касается до насекомых, то Буту и в особенности р. Хуту — царство комаров, мошек, оводов, слепней и паута. Много ос, мало шмелей и вовсе нет пчел диких. Скажу несколько слов о реке Хуту. Здесь, среди остроконечных вершин ели, пихты и лиственицы все чаще и чаще мелькают высокие, тупые вершины кедра. Где кедр — там больше жизни. Всюду в лесу слышны резкие крики кедровки, слышно, как долбит дерево дятел, чаще попадаются белки, на сухостоях заметны суетливые поползни, по кустам около проток видны сойки, а у самых берегов реки, там, где пышно разрослись кусты смородины, можно найти и рябчика. Чаще и чаще замечаются утки, и остроносые крохали быстро перелетали вдоль реки с одного места на другой. Эта жизнь влечет за собой и другую жизнь: на песке у самой воды следы выдры, изредка попадаются глубокие следы кабана, среди которых выделяются иногда большие отпечатки и сохатиного копыта. В воздухе тоже жизнь. Высоко над лесом, описывая правильные круги, парят орлы и коршуны. Как жаль, что этих живых мест, где все же возможно было бы найти себе пропитание охотой, мы достигли обессиленные голодовкой и измученные дальней дорогой, к тому же и мошкара не менее изнуряла нас, чем самая голодовка и тяжелая дорога.XIV
На сорокаверстной карте Уссурийского края река Хуту показана текущей с запада-юго-запада к северо-востоку; это совершенно неправильно. Река Хуту течет с севера и только в нижней части своего течения меняет меридиональное направление на широтное, сохраняя такое вплоть до своего впадения в реку Тумнин. Красивая и спокойная в среднем течении, Хуту становится бурливой и быстрой в низовьях, около устья. Здесь она часто разбивается на протоки, иногда такие узкие (но глубокие), что лодки наши едва могли в них повернуться, иногда очень широкие, но мелководные, порожистые. Черные утки и пестрые крохали то и дело поднимались из травы, кружились в воздухе, торопливо проносились мимо лодок над самой водой и, мелькнув около прибрежных кустарников, быстро исчезали за поворотом реки. Острова между протоками заросли тонкоствольными тальниками, пригнутой к земле черемухой и корявой ольхой. Следы наводнений видны всюду: все занесено мусором и буреломом; молодняк пригнут к земле и тоже занесен песком и илом; пучки сухой травы застряли на ветвях деревьев: видно, что вода здесь шла быстро и чрезвычайно высоко. Картина разрушений, оставленных здесь последними наводнениями, невольно вызывает удивление и безотчетный страх перед стихийными силами природы. Чувствуется полнейшее бессилие, и у человека остается единственное спасение — это бегство. Теперь несколько слов о геологических наблюдениях в этой местности. Начиная от самого хребта Сихотэ-Алинь по всей долине рек Паргами и Буту развиты глинистые, аспидоподобные сланцы. Особенного развития они достигают в нижнем течении реки Паргами с левой стороны ее близ устья. Пласты этих сланцев сильно нарушены. Здесь можно наблюдать пласты искривленные, поставленные на голову и даже опрокинутые. Под влиянием атмосферных агентов, выходы пластов на дневную поверхность подверглись местами сильному разрушению и превратились в россыпи (или в «осыпи», как их называют в Приамурском крае, что совершенно неправильно). Обломки, составляющие эти россыпи, очень малы; в руке под давлением пальцев они легко рассыпаются на мельчайшие частицы. Сама по себе россыпь очень подвижна, несмотря на то что откос ее находится под естественным углом падения свободно скатывающегося обломочного материала. Нечего и думать, что по ней можно подняться и она выдержит давление ноги человека — достаточно ее немного пошевелить палкой, чтобы она вся пришла в движение. В самом устье реки Буту, как раз против впадения ее в Хуту, с левой стороны последней можно наблюдать прекрасные образцы красно-бурого базальта, с характерным для него столбчатым распадением. Ниже, в 15–20 верстах по течению с правой стороны реки видны колоссальные обнажения порфира; мощные дилювиальные образования — в среднем течении реки Буту. Здесь с левой стороны река отмыла часть высокого нагорного берега; рыхлый дилювий не выдержал давления сверху и обвалился, образовав обрыв в несколько десятков метров вышиной. Рыхлая, песчанистая красно-желтая глина перемешана с окатанной водой галькой. Интересно, что среди круглой гальки попадаются и угловатые обломки. Никогда еще не приходилось мне наблюдать столь грандиозные дилювиальные отложения. Глядя на них, невольно родится мысль о тех многих веках, которые понадобились для создания этой массы дилювия [339]. И это в геологии называется позднейшими образованиями и относится к недавнему прошлому земли! Устья реки Хуту не видно с Тумнина. Последний, как и все вообще реки Уссурийского края, по сторонам главного русла своего образует целый лабиринт больших и малых проток. Руководимые опытной рукой орочей, лодки наши быстро неслись из протоки в протоку, берега быстро мелькали мимо, и дивные картины, как в калейдоскопе, непрерывно сменялись одна за другою. Было около полудня. Тяжелые массы кучево-дождевых облаков теснились на крайнем западном горизонте. Яркое солнце горячими лучами своими заливало и реку, и берега, и лес, и прибрежные кустарники. В воздухе стояла удивительная тишина. Вода в реке казалась неподвижной, гладкой и блестела, как зеркало. Несколько длинноносых куликов стояли на песке у самой воды. Наше присутствие нисколько их не пугало, несмотря на то что лодки прошли очень близко. Белая, как первый утренний снег, одинокая чайка мелькала в воздухе. Медленно и тяжело махая своими неуклюжими крыльями, поднялась испуганная цапля и, пролетев немного вдоль реки, снова опустилась в болото… а лодки наши, увлекаемые течением, незаметно неслись все далее и далее, протоки становились необъятнее, шире и походили на озеро. Но вот и сам Тумнин. Анюйские орочи называют его Томди, приморские — Тум-ни. К последнему названию русские прибавили окончание «н». Большая величественная река спокойно несла свои темные воды к морю. Левый берег — нагорный, скалистый, правый — равнинный, низменный, темный. Небольшие островки, густо заросшие лесом, как-то особенно красиво гармонируют со спокойной гладью реки. Художники-пейзажисты нашли бы здесь неистощимый материал для своих произведений. Мы отдыхали, упиваясь и наслаждаясь красотой природы: широкий водный простор и даль, открывающаяся в ту и другую стороны, после двухмесячного тяжелого путешествия по лесу давали утомленному глазу отдых и вызывали нервную дремоту. Проехав версты две-три по Тумнину, мы снова свернули в крайний правый приток его. Скоро за поворотом реки стали видны орочские домики и балаганы с бесконечными вереницами стеллажей, стоек и загородей из жердей, приспособленных для сушки рыбы. Несколько оморочек сновало по воде в разных направлениях: это орочские дети забавлялись на лодках. Веселые крики и смех оглашали воздух. Мальчики с острогами в руках приучались колоть рыбу. Самые маленькие стояли на берегу; в лохмотьях, полуодетые, они, стоя по колено в грязи, что-то доставали из воды. Завидев нас, дети оставили все свои занятия и, разинув рты, с любопытством и недоумением смотрели на наши лодки. Через несколько минут мы подъехали и к самому селению. Женщины, а за ними и несколько мужчин, вышли на берег и некоторое время, так же как и дети их, смотрели на нас молча и равнодушно, а затем вдруг как бы сговорившись, все сразу пошли к нам навстречу. «Ну, здравствуй!» — говорит каждый из них, протягивая свою загорелую, мозолистую, сухую руку. Пока разгружались лодки и все имущество вносилось в помещения, я стал осматривать деревушку. Селение Хуту-Дата (что значит устье Хуту) расположено по обе стороны протоки и состоит из семи небольших деревянных домиков и из восьми берестяных балаганов. Орочские домики имеют вид русских построек, но сколочены плохо, небрежно; как дома, так и балаганы стоят без всякого порядка, где попало, где владельцу это казалось удобнее. Несколько в стороне, ближе к лесу, амбары — это типичные орочские постройки с остроконечными или полукруглыми крышами, крытые еловой корой или берестой. Амбары ставятся всегда на столбах, чтобы собаки и крысы не могли в них забраться. Тут орочи держат и муку, и рыбу, и рис, и шкуры зверей, пушнину, дорогую одежду и все, что у них есть более или менее ценного. Множество худотелых собак, опустив головы и высунув изо рта длинные языки свои, бродило по берегу, выискивая себе добычу. Более ценные собаки были на привязи. Тучи мошкары, как серый туман, вились над ними. Стараясь укрыться от гнуса, собаки выкопали себе глубокие, длинные ямы в земле и залезли в них так, что только хвост да зад видны наружу. От укусов мошкары и от пыли у них гноятся глаза. Они постоянно лапами трут себе морду, отчего вокруг глаз вся шерсть вылезла и от этого сами собаки имеют какой-то странный, смешной вид. Несколько старых дырявых лодок валялось на берегу. Скоро все в селении Хуту-Дата приняло свой обычный вид. Люди ушли в дома и балаганы, собаки забились в ямы еще глубже и только с реки попрежнему неслись детский смех и крики. Глядя на этих 5-8-летних ребятишек, невольно изумляешься их искусству, с каким они уже теперь, в малом возрасте, владеют острогой и оморочкой. Если бы наш ребенок очутился бы в лодке посредине реки, наши матери в испуге потеряли бы голову и не знали бы, что делать; а здесь орочки спокойно покуривают свои трубки, не обращая никакого внимания на забавляющихся детей, разве только изредка какая-нибудь из них, выйдя из балагана, крикнет своему мальчику, чтоб он съездил за чем-нибудь на другую сторону реки к орочу родственнику или соседу. Несколько торных троп мимо амбаров вело к лесу. По одной из этих тропинок шла маленькая девочка лет семи и на спине своей несла большую связку хвороста, значительно превосходящую размерами ее самое. Так с малых лет орочские дети приучаются к труду и к той деятельности, которые их ожидают впоследствии, когда они станут взрослыми. Мы пошли к старшине. Внутренность орочского жилища такова: в углу стоит железная печь; с обеих сторон у стен деревянные нары, на которых в беспорядке лежат постель, одежда и куча всякого хлама. Простая скамейка и стол, покрытый черной размалеванной клеенчатой скатертью, поставленные к окну два табурета, дешевая висячая лампа, две-три фотографические карточки неизвестных лиц, повешенные на стенах без всякой симметрии, сундучки, коробки, лук, стрелы, ружья, зверовые шкуры дополняют убранство помещения. Пол и потолок сколочены плохо — много щелей. Множество слепней и мух ползало по окнам и с жужжанием билось в стекла. Как только мы вошли, на стол был подан медный чайник, толстого стекла граненые стаканы, глиняные белые блюдца, тоненькие металлические чайные ложки, сахар, белый хлеб, купленный у русских, и банка консервированного молока. Орочи тихо сидели в стороне и молча смотрели на нас, ожидая, когда кончим мы чаепитие. Все орочи, живущие по реке Тумнину и в окрестностях Императорской Гавани, хорошо говорят по-русски. Некоторые говорят чисто и очень хорошо. Мы разговорились.XV
Ожидался ход рыбы. Орочи беспокоились. Весенний ход кеты был очень слабый и, на несчастье, совпал еще с большой водой. Некоторые орочи поймали не более 7-10 рыб, другие ни одной. Горбуши шло много, но так как на заготовку для зимы она не годится, и сушка ее на огне требует много хлопот и времени, орочи ловили ее мало. Естественно, что осенний ход кеты теперь для них был вопросом чрезвычайно важным. В случае новой неудачи, их ожидала серьезная голодовка. Юкола (илакитали-намихта) для орочей то же самое, что для русских хлеб. Без юколы ороч будет терпеть такую же голодовку, как и русский пахарь, если год будет неурожайный. Ороч рыбой кормится сам со своей семьей, ею же он кормит и своих собак. Известно, что эти орочи часто переезжают с одного места на другое и на вопросы о причине такого перекочевывания всегда отвечают одно и тоже: «рыбы мало»! Наконец, и самые селения и стойбища их располагаются всегда в таких местах реки, около таких проток и заводей, где много идет кеты и где легко ее можно ловить сетями и колоть острогой с лодки. Глядя на все это, невольно напрашивается вопрос: что было бы с этим краем, если б не было здесь рыбы? Орочи, эти немногочисленные представители тунгусской семьи, не жили бы здесь вовсе, и большая часть Уссурийского края, все почти побережье моря, а равно и бассейны рек Хора, Бикина, Хунгари и Анюя были бы такими же лесными пустынями, какой в настоящее время является центральная часть хребта Сихотэ-Алинь. «Наша шибко боится, — говорили орочи Хуту-Дата, — рыба нет, чего наша кушай? Какой люди деньги есть, мука, рис, покупай — ничего! Какой люди деньги нет, соболя поймай, не могу — пропади! Собака скоро кончай!» Наш разговор перешел на тему о соболях. Как и везде, около инородцев живут скупщики этой ценной пушнины: в южной части побережья китайцы, к северу от реки Нахтоху и коло Императорской Гавани — русские. Основав свои фактории там и сям и выделив от себя небольшие отделения на соседние реки, они хозяйничают там произвольно и без всякого контроля. Правда, по высокой цене, но все же они снабжают инородцев и оружием и патронами, запасами продовольствия и прочими предметами первой необходимости. Система и приемы в этих случаях обычные. Они стараются вести дело так, чтобы ороч непременно залез в долги. Раз это достигнуто — ороч его работник, и вся пушнина переходит уже в руки кредитора по цене, какая ему покажется подходящей. Все орочи с реки Тумнина получают все необходимое у г-на Клок, поселившегося в селении Дата близ моря; все инородцы Императорской Гавани, Копи и даже Ботчи находятся в ведении Марцинкевича; южнее от Нимми до реки Нахтоху и весь район Самарги близ мыса Золотого захватил скупщик Степанов, прибывший туда года четыре тому назад из г. Владивостока. Наши собеседники не жаловались ни на Клока, ни на Марцинкевича, но говорили, что цена на все очень высокая. Принимая во внимание трудность доставки грузов на реку Тумнин (правильные пароходные рейсы между Владивостоком и Императорской Гаванью установились только в последнее время) нельзя сказать, чтобы цены были безобразны. Сами орочи дали следующие цифры: Один пуд муки… 3–4 руб. Одна плитка чаю 50–70 коп. Один пуд рису… 3 р. 50 к. Пачка спичек… 25 коп. Один пуд соли… — Один пуд маньчжурского табаку… 15 руб. Один фунт сахару..30–35 коп. Кусок дрели в 35 аршин 12 руб. Другое дело оружие и патроны. Эти вещи продаются инородцам по цене в два, в три и даже в четыре раза превосходящей магазинную. Объяснить это очень просто: сами скупщики соболей, если не имеют разрешительных документов на покупку оружия и огнестрельных припасов, все же покупают то и другое в тех же магазинах, но по цене значительно больше той, какую они заплатили бы, если бы имели разрешительные на то от полиции свидетельства, так что и в этом случае орочские деньги переходят не только в рукирусских соболевщиков, но и в карманы хозяев и приказчиков различных лавок и магазинов. Все орочи единогласно хвалили смотрителя маяка Св. Николая, Майдона. В случае нужды, они постоянно обращаются именно к нему, и он всегда помогает им, дешево уступая все то, что дорого стоит у Клока и Марцинкевича. Осенью прошлого, 1907 г., ввиду ожидаемой зимней голодовки областное управление из Владивостока препроводило Майдону 200 пудов муки, 100 пудов рису, два места чаю, 20 пудов сахару и т. д. с просьбой помочь инородцам в трудную минуту. Зато сколько у них жалоб к русским рабочим лесной концессии и к русским переселенцам, появившимся в Императорской Гавани в 1908 г. Наши колонисты не хотят признавать в инородцах людей, имеющих больше права на жизнь в Уссурийском крае, чем русские. Ни инородцы наши, ни крестьяне переселенцы совершенно не были подготовлены к этому вопросу. Вот почему встреча их была не дружественной, а скорее враждебной. Теснимые переселенцами на каждом шагу, орочи оставляют родные, веками насиженные ими места и все дальше и дальше уходят в горы. Еще в худшем положении очутились южноуссурийские тазы (ассимилированные китайцами те же орочи), которые волею судеб на несчастье свое стали оседлыми, и без клочка земли, удобной для хлебопашества, они теперь более существовать уже не могут. Только опытный глаз исследователя или старожила подметит в костюме таза или в домашней обстановке его такую мелочь, которая легко ускользнет от неопытного новичка чиновника, только что приехавшего из Европейской России. Что же остается тогда сказать про какого-нибудь невежественного переселенца? Помню как то раз (это было на р. Санхобэ в 1907 году) я хотел убедить крестьян в том, что они обижают не китайцев, а орочей. Переселенцы (бывшие рабочие, состоявшие ранее на службе у лесопромышленника Гляссера) замахали руками и не хотели меня слушать. С другой стороны, и китайцы, пользуясь этой двойственностью, постараются называть себя «тазами», лишь бы остаться на месте и не быть изгнанными из Приамурского края. И легко может статься, что бывший ороч должен будет уступить место русскому переселенцу, тогда как чистокровный китаец будет благодушествовать на правах инородца-таза только потому, что ловко сумел «втереть очки» новичку чиновнику. Есть еще и другой вопрос: везде около этих тазов (и даже около орочей — «кяка» на реках Такэма, Кусуне, Нахтоху и др.) поселились китайцы — кто в качестве компаньона, кто в качестве работника, советника или даже просто в качестве жильца. Впоследствии, когда задолжавшийся «таза» не может уплатить своему сожителю денег за муку, опий, ханшин и чумизу, последний становится полновластным хозяином, а туземец — простым рабочим. Не только дом и пашня, но и жена должника и вся семья его переходит в руки кредитора. Китайцы иногда и просто силой отбирают женщин от инородцев. От такого брака китайцев с «тазками» получаются так называемые «джачубай», то есть кровосмешанные. Является вопрос: как считать этих джачубай? Должны ли они быть наделены землей наравне с прочими инородцами? Китайцы, когда скопят достаточно денег, уезжают к себе на родину и, конечно, семью свою бросают здесь, в Уссурийском крае, так как там, в Китае, у них есть законная, первая семья. Вместе с тем и выселить куда-нибудь джачубай тоже не представляется возможным. Теперь, если таза похож на китайца, что же можно сказать про джачубай? Они еще дальше отстоят от орочей, и потому ошибки еще более возможны. Разобраться в этом вопросе нелегко. Не полицейские власти, не пристава, не урядники, а лишь старые опытные переселенческие чиновники, вроде Рубинского, могут лучше всего установить, кто китаец, кто таза, кто джачубай, кто из них должен получить землю, кто должен оставить ее и передать прибывающим русским переселенцам и кто должен быть выселен за пределы Российской империи. Напрасно исследователь стал бы теперь искать орочей на реках Уй, Ма и Хади. С тех пор, как в окрестных лесах застучали топоры рабочих австралийской лесной концессии, орочи эти навсегда оставили колыбель своего происхождения — Императорскую Гавань и переселились кто на реку Копи, кто в верховья реки Тумнина и даже через перевал в бассейн реки Хунгари и др. Орочи с Тумнина считают себя чистыми «орочами» и называют себя именно этим именем, а не «ороченами», как это обыкновенно произносят русские и что совершенно неправильно. Про своих родичей, живущих к югу от реки Копи, а также и в бассейнах рек Имана, Бикина, Хора и Анюя они отзываются с насмешками, орочами их не считают и называют их «кяка» или «кякари». Они смеются над их обычаями носить расшитые цветные одежды, серьги в ушах и две косы с бисерной перемычкой на шее ниже затылка. «Кяка орочи нету, — говорили они, — его все равно бабы: рубашка один, два коса — тоже все равно бабы. Наша так нету. Наша женщина такой рубашка есть, мужчина орочи другой рубашка ходи!». Действительно было бы ошибочно думать, что орочи Императорской Гавани носят одежду такую же цветную и пеструю, как и их родичи, которых они называют «кяка». Покрой одежды тот же самый: та же длинная косоворотная рубашка (тэга), но без вышивок, узкие штаны, наколенники и унты. Впрочем, последние носятся теперь редко. Обыкновенно все они ходят в сапогах, часто даже в лакированных и носят галоши. Расшитую шапочку с беличьим хвостом и узорное покрывало на голову и плечи не носит никто. У всех на головах большей частью русские суконные шляпы или фуражка с суконными или с лакированными кожаными козырьками, а чаще всего голова их остается открытой, и только в сырую дождливую погоду они прикрывают ее полотенцем, обертывая концы его вокруг шеи. Все это при косе, спускающейся по спине до поясницы, имеет вид очень странный. Рассказывая об орочах, как удэ, джачубаях и тазах, орочи упомянули и еще о своих сородичах, называя их ульчи. По их словам, «ульчи» эти ходят с оленями и живут где-то далеко к северу дальше Николаевска-на-Амуре. Не те ли это ульчи и ольчи, о которых упоминает Шренк в своем сочинении? Все орочи с Тумнина, Императорской Гавани и реки Копи носят русские имена и прозвища вместо фамилий. Последние отмечают только местность, где живет та или другая семья постоянно. Например «Намунка», то есть приморский, «Копин-ка» — с реки Копи, «Бизанка», то есть горный и т. д. В зависимости от числа лет, от положения, которое они занимают у себя в обществе, и от солидности, с которой они себя держат, имена их произносятся или с отчеством, или просто без отчества, иногда ласкательно, а иногда и с оттенком унизительным, например: Иван Михайлович, Николай, Савушка, Кар-пуша и'т. д. На Тумнине орочи живут хорошо, зажиточно и с большим достатком: у «их есть хорошие запасы сахара, русского масла, муки и рису. Некоторые из них очень богаты. Так, у старосты Федора, помимо других дорогих вещей, есть много золотых колец, золотые часы, цинковая ванна с печкой для нагревания воды и золотой массивный браслет стоимостью около 500 рублей.XVI
За разговорами день прошел незаметно. К вечеру в жилище старшины собрались все почти орочи. Среди них было много стариков. Поджав под себя ноги, как говорят, «по-турецки», они неподвижно и молча сидели на нарах и, казалось, равнодушно слушали нашу беседу. Мы стали их расспрашивать о том, как жили они раньше, что рассказывали им отцы и деды, когда они были еще маленькими, и т. д. Сначала разговор наш не клеился, а потом старики оживились, начали вспоминать свою молодость, свое детство — время давно минувшее, давно прошедшее… Вот что они рассказали. «Раньше орочей было много. Жили они одни и никого не знали. Они слышали, что где-то за морем и за горами есть другая земля и живут другие люди (вероятно, японцы и китайцы). Эта другая земля, казалось им, была так далеко, что добраться до нее простому смертному человеку никогда невозможно. Орочи ловили рыбу, охотились со стрелами, а зимой на лыжах догоняли зверей и кололи их копьями. Одевались они в зверовые шкуры и шили одежду себе из рыбьей кожи. Самые старые селения были на реках Хади и на Тумнине — Хуту-Дата (где мы стояли) и Дата в самом устье реки, около моря. В то время в Императорской Гавани царила полная тишина, изредка нарушаемая только печальными криками гагары. Не было слышно там, как теперь, ни гудков, ни свистков пароходов, ни шуме машин лесопилки, ни топора дровосека. Вода в заливе была покойной, неподвижной; порой только одинокая лодка ороча-охотника черной точкой мелькнет где-нибудь у берега и снова быстро скроется за поворотом около мыса. И так жили они до тех пор, пока эти чужие люди не пришли к ним сами. Первые явились гиляки. От них орочи научились курить табак. За гиляками пришли гольды. Они зимой с нартами перевалили водораздел и спустились по льду реки Тумнина до самого моря. Спустя лет десять, после гольдов явились сюда и китайские торговцы, скупщики пушнины. Эти последние привезли с собой ханшин, но мало. Спиртом они не торговали, а только понемногу угощали орочей и дарили им его без денег. Прибытие китайцев наделало много шуму. Весть об этом разнеслась по всему побережью. Орочи съезжались и с Копи, и из Императорской Гавани, чтобы посмотреть на новых невиданных людей. С тех пор у орочей стали появляться фитильные ружья — старые, изношенные, купленные за большую цену. Китайцы жадно набрасывались на соболя. Орочи не знали еще его стоимости и больше ценили мех росомахи. Прошло много лет. К гольдам и к китайцам привыкли, привыкли они ожидать их ежегодно зимой и начали даже брать у них в кредит порох, свинец, бусы, пуговицы, иголки и проч. Но вот однажды с берега прибежал испуганный человек и сообщил, что в море что-то неладно. Это было рано утром. Орочи столпились на прибрежном песке и, прикрыв рукой глаза от солнца, смотрели в море. Там что-то двигалось: большое, безобразное, странное — не то рыба, не то птица, не то морское животное, чудовище. Это страшное прошло мимо и скрылось за горизонтом. Всю ночь они шаманили и отгоняли злого духа. На другой день повторилось то же самое, а на третий день орочи с ужасом увидели, что крылатое чудовище шло прямо к берегу. Это была большая парусная лодка — это были первые русские моряки! Орочи видели, как от большой лодки отделилась маленькая лодка, в которую сели шесть человек гребцов. Они испугались, убежали в свои балаганы и тогда только успокоились, когда увидели, что пришельцы — люди, и люди такие же, как и они, но только из другой земли и говорят на языке, им не известном. У русских был переводчик тунгус. Новые люди объяснили орочам, что хотят купить у них рыбы. Орочи дали им много кеты; русские стали расплачиваться с ними деньгами. Не имея никакого понятия о деньгах, орочи повертели монеты в руках и побросали их на землю, как вещи совершенно ненужные и бесполезные. Тогда русские подарили им несколько кусков цветного мыла. Не зная, что с ним делать, орочи попробовали его есть, но, видя, что это невкусно, побросали мыло собакам. Собаки также отказались от этого лакомства. Между тем на море разыгралась буря; парусное судно ушло в Хади (Императорская Гавань), а приезжавшие русские остались ночевать у орочей в балаганах. Страхи прошли — люди присмотрелись друг к другу, однако орочи снова не спали всю ночь. Утром буря начала стихать, море стало успокаиваться; русские забрали еще рыбы у орочей и на этот раз совсем ушли в море. Вскоре в Императорскую Гавань пришел большой корабль и долго стоял в бухте Константиновской. После этого русские моряки стали заходить сюда все чаще и чаще, прибытие их уже не пугало так орочей, как раньше. Далее они рассказывали о том, как русские потопили свое судно (фрегат «Паллада»). Рассказы их об этом событии полны интересных подробностей. Это было зимой. Они видели, как вокруг судна обрубали лед, как рубили мачты и жгли их на палубе и как затем судно пошло ко дну. Как народ, совершенно чуждый войне, они никак не могли уяснить себе, зачем это одни люди хотят убить других и зачем это русские ломают, жгут и топят свое, еще совершенно крепкое судно. Все это произошло очень скоро. Моряки ушли, и на том месте, где раньше красовался корабль, виднелась одна только черная большая промоина. По ней плавал еще лед и куски несгоревшего дерева. Весной пришли англичане (11 судов), сожгли русские постройки в заливе Константиновском и, постояв немного, снова ушли в море». Время шло незаметно, часы летели за часами, а старики все рассказывали и вспоминали прошлое. По лицам их видно было, что в эти минуты они совсем ушли в свои воспоминания и как бы снова переживали свою молодость и детство. Голос их стал звучнее и вид моложавее, бодрее. Но вот кто-то зевнул, кто-то начал шевелиться в углу та нарах, стлать свою постель и укладываться на ночь. Старики очнулись, гипноз исчез — воспоминания о прежней счастливой жизни отдалились, ушли в вечность, и на этот раз, может быть, навсегда. Они опять увидели себя стариками; опять для них Императорская Гавань стала такой, какой они видят ее в настоящее время: русские рабочие, рубка лесов, брошенные орочские жилища и т. д. Медленно поднялись они с нар, грустно вздохнули и потихоньку начали расходиться по своим балаганам.XVII
Еще с вечера все небо стало заволакиваться тучами, и начал моросить дождь. На другой день утром было то же самое. Чтобы не терять времени, мы решили ехать к морю, где около маяка Св. Николая на определенном астрономическом пункте генерала Жданко я решил закончить свой первый астрономический рейс и вычислить последнюю поправку хронометра. Ветер дул с моря нам навстречу, и поэтому, чтобы поспеть к вечеру до устья, орочи шли на шестах, придерживаясь отмелей и берегов, где было не так глубоко. Ширина реки и простор ветрам позволяют орочам ходить по Тумнину и под парусами. Обыкновенно парусом у них в этих случаях служит полотнище полотна, всегда носимое с собой, куда бы они ни ехали: на охоту, рыбную ловлю или просто навестить своего родственника соседа. От устья реки Тумнина до моря верст около сорока. В течении своем Тумнин крутых изгибов не делает и только дважды понемногу принимает направление от одного края долины к другому. Местами горы далеко отходят в сторону, отчего долина реки кажется очень широкой. Почвы, образующие низменные берега, слагаются большей частью из песка и ила вперемежку с прослойками мелкой гальки и крупного гравия. Все эти низины заливаются водой во время наводнений. Особенно интересны в этом отношении берега реки в самой нижней части ее течения и около моря. Тут (особенно вся левая сторона) берега состоят исключительно из почвы торфяниковой, сильно размытой во время последних наводнений. Пласт торфа возвышается над поверхностью воды метра на два. Прослойки черной илистой земли чередуются с мощными буро-желтыми слоями торфа недавнего образования. Во многих местах из красноватой темной массы его торчат ветки и стволы лесных гигантов, почерневших от времени и, бог знает откуда, снесенных водой. Вся поверхность низины изборождена рытвинами, ямами и завалена буреломом. Растущие на берегах лиственицы, тощие, полузасохшие, низкорослые, корявые, дровяного характера, имеют какой-то особенно тоскливый, болезненный вид. Большая часть торфяников — пустыри. Болотистая, малопитательная почва эта и не могла бы произрастить ничего другого, кроме кислых осок да низкорослых кустов голубицы. Зато сфагновый мох и Vaccinum vitis idaea [340], находясь здесь в особо благоприятных условиях, образуют влажный, пышный, густой ковер красивого, блестящего темнозеленого цвета. Низовья реки Тумнина представляют очень глубокую и широкую заводь, похожую скорее «а длинное озеро, нежели на реку. Ширина этой заводи близ устья около трех верст. Здесь вода кажется неподвижной и от большой глубины в массе имеет черный цвет. Не доходя версты три до упомянутой заводи, река разбивается на рукава и протоки. В устьях проток образовались большие отмели и острова из чистого песка, голые и незаросшие еще никакой растительностью. Это и надо считать прежним устьем Тумнина. Дальше следует уже бухта, составляющая теперь только часть того обширного подковообразного залива, который далеко когда-то вдавался в сушу и границами которого были: с юга та длинная гряда базальтового массива, которая в настоящее время образует правый берег реки, с севера — такие же возвышенности, оканчивающиеся обрывами около селения Дата, близ устья реки Улики. Эта последняя тоже когда-то сама непосредственно вливалась в море, а теперь впадает в Тумнин, около современного его устья. Все эти обрывы, выступы и мысы, омываемые ранее волнами моря, видны еще и теперь очень ясно. Окатанные валуны, сглаженные поверхности больших камней и вообще следы берегового прибоя свидетельствуют об этом особенно красноречиво. С течением времени огромный залив наполнился песком и илом, приносимыми сюда в изобилии рекой Тумнином. Море узкой полосой отделило в свою очередь залив от берегового прибоя и образовало лагуну (лагунный берег по Рихтгофену). Этот лиман сперва превратился в мелкое пресноводное озеро, а затем и в болото. Болото стало зарастать мхами и впоследствии, будучи дренажировано протоками, медленно осыхало, образовав ту именно торфяниковую почву, о которой говорилось выше. На пути нам встретилось несколько человек русских, которые бечевой тащили вверх по реке тяжело нагруженные лодки. Они везли продовольствие для рабочих на приисковые рудники Павлова. Лодки подвигались медленно, часто останавливались, задевали за коряжины и сносились назад течением около перекатов. По запотелым и измученным лицам людей видно было, что они напрягают все свои силы, чтобы хоть немного продвинуть вперед свои лодки. Помимо тяжелого физического труда, этим рабочим приходится терпеть и много лишений. Они целыми днями мокнут и зябнут в холодной воде, особенно если погода холодная, пасмурная, дождливая. Веревка цепляется за прибрежные кусты и задевает за деревья на каждом шагу. Дойдя до такого места, люди обходят их по колено, и по пояс в воде там, где глубина позволяет это сделать; где обойти нельзя, они нагибаются, стараются охватить наклонившееся дерево руками и передают бечеву из левой руки в правую. Ведь можно было бы протоптать тропы, порубить кое-где деревья, очистить берега от кустов и т. д. Ничего этого нет! Глядя на все это, невольно выносишь такое впечатление: кажется, будто лодки эти идут здесь первый раз и люди тащат их тоже впервые, в виде опыта. Как-то не верится, что при таких условиях работают здесь ежедневно и уже несколько лет! Кроме русских бурлачников, таскают грузы и корейцы, и китайцы. Все они получают плату в зависимости от количества груза, который доставят на рудник, вследствие чего провоз одного пуда груза от моря до прииска на протяжении 120 верст обходится предпринимателю по 2 руб. 50 коп. По рассчету администрации доставка грузов зимой на лошадях по льду реки обойдется еще дороже. На подъем грузовой лодки вверх по реке до Мули-Дата (прииск) при небольшой воде требуется шесть-восемь суток. Во время наводнений всякое движение по реке на лодках совершенно прекращается. Даже порожние лодки не рискуют спускаться вниз по течению в большую воду. Летом прошлого года, когда от продолжительных дождей вода в реке стояла очень высоко, китайцы, сдавшие грузы на руднике, не хотели ждать убыли воды и решили спускаться книзу. В одном месте, верстах в 80 от моря, лодку нанесло на коряжину. Китайцы, полагая, что лодка перевернется, бросились на эту коряжину и кое-как взобрались на ее вершину. Но лодка не погибла: ударившись о дерево, она отскочила в сторону и снова, подхваченная течением, быстро была унесена дальше. Стояла чрезвычайно холодная погода; дул резкий ветер; дождь лил не переставая, и несчастные шесть человек китайцев восемь суток сидели на коряжине. Измученные, промокшие, озябшие и голодные они едва держались руками за единственный, торчащий из реки сук. Вода все время прибывала. Двое не выдержали и умерли, остальные полуживые, закоченевшие, полупомешанные и в почти бессознательном состоянии были сняты с дерева, когда вода начала уже спадать настолько, что явилась возможность подать им помощь.XVIII
Уже совсем смеркалось, когда лодки наши достигли моря. На песке в устье реки Улики с правой стороны ее и с левой стороны Тумнина длинною полосою вытянулось орочское селение Дата. В нем была полная тишина: природа собиралась на покой; люди отдыхали тоже. Ночные тени быстро опускались на землю, и все предметы: горы, деревья, кусты и орочские балаганы — все это принимало какие-то неясные очертания и формы. Вода в заливе стояла покойная и светлая. В ней отражались еще последние вспышки вечернего заката. От реки подымался туман. В воздухе было сыро, прохладно. Слышался запах моря. Лодки наши подошли к берегу. Встревоженный одинокий куличок испуганно поднялся из травы и с криком низко полетел над водой. Долго он не мог успокоиться и найти себе место для отдыха. Где-то глухо стонала выпь. Неизвестно откуда неслись эти неясные звуки. Какая-то большая ночная птица пролетела мимо бесшумно, тихо, мелькнула в воздухе и снова быстро исчезла около леса. Едва мы вступили на землю, как проснувшиеся собаки подняли неистовый лай. Из одного балагана вышла какая-то фигура. Судя по звуку медяшек, колец, бубенчиков и пуговиц, которыми орочки украшают свою одежду, — это была женщина. Посмотрев на нас, она быстро снова ушла в помещение. Мы пошли вдоль деревни. На самом краю, около домика, сложенного из тонких бревен, стояла маленькая, совершенно седая старушка. В зубах у нее была длинная трубка. Увидев нас, она тоже ушла в свое жилище. Через минуту оттуда вышел мужчина. Это был орочский старшина селения Дата. И здесь, как и в Хуту-Дата, он подошел к нам с таким видом, как будто бы мы давно с ним были знакомы, торопливо, как-то неловко, протянул руку и приветствовал нас словами: «Ну, здравствуй!». Мы вошли в дом старшины. Та же старушка, с лицом сморщенным, как старый лимон, молча поставила перед нами полированный, красного дерева столик японской работы, чашку с сухой горбушей, два размалеванных стакана с чаем и, отойдя в сторону, села около двери и стала нас рассматривать с видом совершенно равнодушным. От старшины я узнал, что все орочи ушли на охоту, дома остались одни старики, женщины и дети. Скоро ороч и старушка ушли: они ночевали в соседнем балагане. Наши люди тоже нуждались в отдыхе. Часа через два все уже спали. В домике воцарилась тишина. Слышалось только мерное глубокое дыхание спящих да стрекотанье домового кузнечика, забившегося где-то в щель около печки. В селении тоже все снова стало попрежнему тихо. С улицы доносился шум морского прибоя. Где-то далеко еще лаяла собака и совсем уже близко мычала и стонала выпь… На другой день мы хотели ехать с орочами на лодке в Императорскую Гавань, но администрация тумнинской золотопромышленной компании любезно предложила нам проехать на их паровом катере, который должен был итти туда на следующий день за грузом. Предложение это было кстати, и мы остались в Дата. Самый Дата состоит из 7 домов и из 10 берестяных балаганов. Балаганы приморских орочей Императорской Гавани значительно выше, длиннее и шире балаганов «Кяка» и «Удэ», живущих к западу от Сихотэ-Алиня. Едва ли стоит описывать эти постройки. Описание внутреннего устройства и обстановки их так прекрасно сделано Маргаритовым, что, войдя в один из таких балаганов, я видел именно то, что читал в его «Орочи Императорской Гавани». Глядя на всю обстановку орочского жилища, мне казалось, что я снова перечитываю его описание. Ко всему сказанному Маргаритовым позволю себе добавить только два-три слова. При той копоти, пыли и грязи, какая окружает женщин и детей, нельзя не удивляться той заботливости, с которой они всегда подметают полы и нары своих балаганов. Орочки положительно не выносят мусора, все время, через каждые полчаса подметают пол, употребляя для этого или веник, сплетенный из жесткой, сухой травы, или крыло какой-нибудь большой птицы. Мусор бросается в огонь. Есть у них и еще один замечательно гигиенический обычай: и мужчины, и женщины, и дети плюют только на огонь и никогда в угол или на пол. Орочские женщины меланхоличны. Целыми часами они способны сидеть на корточках, курить трубку и молча, равнодушно, не проронив ни одного слова, смотреть на вошедшего человека, будет ли это близкий ее родственник или знакомый, пришедший издалека, которого она давно не видела, или это совершенно новое лицо, которое она видит первый раз в жизни. И только тогда, когда мужчина задает ей какой-нибудь вопрос, она, не торопясь, лаконически ответит ему что-нибудь и снова погрузится в прежнее свое безразлично равнодушное созерцание посетителя. На лице ее не видно ни радости, ни удивления. Деревянная физиономия! Ни один мускул лица не шевельнется, не дрогнет. Полное отсутствие, мимики. Даже испуг и гнев выражаются редко.XIX
Орочи любят держать около своих жилищ разных птиц и животных. Отчасти это основано на шаманстве, отчасти так, ради забавы и потехи. В Дата был настоящий маленький зверинец: около одного балагана сидел на цепи медведь. Он нетерпеливо мотал головой, мычал и царапал когтями землю. Тут же на свободе ходил и щелкал клыками огромный дикий кабан, пойманный молодым и одомашненный. Около другого балагана к стеллажам, предназначенным для сушки рыбы, прикован был орел. Царь-птица имела скучный вид. Орел давно уже свыкся с своей неволей, привык к людям и равнодушно поглядывал и на прохожих, и на собак. Вероятно, его поймали еще очень молодым птенчиком. Дальше в стороне огромный филин таращил свои большие, желтые глаза, подымал свои «уши» и, взъерошиваясь, испуганно поворачивал голову в сторону шума, который при дневном свете почему-то казался ему особенно опасным. Молодой сокол кричал и бился на привязи. Расправляя свои стройные крылья, он быстро поглядывал то в море, то к небу. Около одного дома в тесной деревянной клетке держались только что пойманные дикие молодые утки. Они пищали, просовывали свои неуклюжие головы сквозь тонкие палочки решетины и, видимо, старались вырваться на свободу; там же внутри балагана у самой двери на полу по обе ее стороны сидели привязанные за ноги кожаными ремешками две сойки. Они все время прыгали с места на место, испускали резкие крики и, согнув набок свои головки, поглядывали в дымовое отверстие балагана, где виднелось и небо, и солнце. Около балаганов на прибрежном песке красовались большие морские лодки (аккэна). Датанские орочи не имеют речных лодок (улимагда), эти последние им не нужны вовсе: для моря они не годятся, а по рекам в них плавать не приходится. Устройство морских лодок очень простое. Сколачиваются они из пяти тонких досок, нос и корма приделываются дополнительно. На скрепы идут деревянные колышки и крученое лыко. Вместо пакли и вара для законопачивания идет сухой мох, пазы прикрываются тонкими полукруглыми рейками. Большая аккэна при четырех гребцах и одном рулевом подымает около 50 пудов груза, малая — пудов 30 или 20. Такую лодку два ороча могут сделать в течение шести суток, на предварительную заготовку материала потребуется дней восемь. Стоимость лодки колеблется от 20–70 рублей, в зависимости от ее размеров. Не все орочи умеют делать морские лодки — есть специальные мастера и знатоки. Особенным знатоком этого дела считается старик Иван Михайлович с реки Копи. Груз располагается главным образом в корме и частью в самом носу лодки; когда лодки нагружены и спущены в воду, середина их сидит глубже, а нос и корма подняты кверху, вследствие чего грузы подмокнуть не могут, так как вся вода на дне постоянно стекает в среднюю, более углубленную часть судна. Аккэна очень легки, поэтому, если случится ехать без груза, на дно их непременно всегда надо класть камни (отнюдь не окатанные и не круглые). Имея центр тяжести приподнятым, без такого балласта во время волнения положение их будет мало устойчивым. Достоинство этих морских лодок заключается в том, что, будучи легкими и плоскодонными, они свободно могут приставать к берегу моря (конечно, если только берег не скалистый) и легко вытаскиваются из воды, если погода неожиданно застанет орочей где-нибудь на дороге. И вот, на таких-то утлых суденышках приморские орочи Копи, Императорской Гавани и Тумнина рискуют плавать по морю и бороться с волнением и с прибрежными бурунами. Особенно хорошими моряками славятся орочи селения Дата. Самое устье реки Тумнина, то есть выход его в море, очень узок. Огромное количество воды, выносимое рекой, не может вместиться в узкие ворота. С берега видно, как сильная струя пресной воды далеко врезается в море и, кажется, будто и в море еще продолжает течь Тумнин. Навстречу ему идут волны: темные, с острыми гребнями, вздымаются они все выше и выше, и вдруг, столкнувшись с стремительным течением реки, сразу превращаются в бешеные пенистые буруны. Теперь пусть читатель представит себе, что делается з устье Тумнина, когда в море непогода и свежий ветер дует со стороны острова Сахалина. И вот в такую-то погоду орочи селения Дата смело выходят в море и, не обращая внимания на прибой и буруны, снова входят в реку. Рассказывают, что однажды 17 человек орочей на трех лодках отправились на охоту за нерпами. Это было весной в марте месяце. Надо было дойти до сплошного льда, где, по расчетам, можно было найти богатую добычу. Погода стояла тихая. Было далеко за полдень, когда они увидели лед. Мыс, где ныне стоит маяк Св. Николая, чуть виднелся сзади на горизонте. Расчет орочей оправдался: они действительно нашли на льду много нерп и принялись за охоту с горячностью и увлечением. В короткий промежуток времени было убито 91 животное. Между тем со стороны северо-восточной надвигался не то туман, не то снег, не то тучи. Старики уговаривали молодых бросить часть убитых животных и спешно итти назад к «мысу», которого теперь уже не было видно. Тяжело нагруженные лодки скоро итти не могли, да и все равно они не поспели бы уйти от непогоды. Пошел снег, начало смеркаться, а орочи все еще плыли по морю, плыли всю ночь и на утро, когда стало светать, они увидели сново перед собой ледяное поле. Между тем ветер стал усиливаться, и на волнах появились беляки. Тогда они вытащили на лед лодки, взяли весла, натянули палатки и стали выжидать конца бури. Двое суток бушевало море. Опасаясь, что волнением взломает лед, старики велели людям не расходиться и держаться около лодок. За неимением дров жгли нерпичье сало. На растопки шли отрываемые от лодок палки и доски. Огонь раскладывали только тогда, когда надо было растопить лед и согреть для питья воду. На третий день ветер начал стихать, море стало успокаиваться, туман поднялся, и орочи увидели землю. Уезжая со льдины, они бросили нерп в глубоком убеждении, что совершили большой грех, убив столько ценных животных. Море за это рассердилось и едва не поглотило их вместе с добычей и с лодками. Орочи эти дали обет не бить на будущее время так много нерп, если даже представится к тому и полная возможность. Велика была радость жителей селения Дата, когда они увидели возвращающихся своих мужей, отцов и братьев, которых считали погибшими безвозвратно.XX
Низовья реки Улики представляют те же пески и ил, покрытые торфом и мхами, что и низовья реки Тумнина. Во многих местах процесс осыхания болот еще не окончился вполне: среди мохового покрова кое-где виднеются лужи стоячей воды. Выше было говорено о малой питательности почвы. Обилие влаги, сильные ветры и густые туманы с моря гораздо более губительно действуют на растительность, чем недостаток питания. Прибрежные леса, состоящие исключительно из ели, лиственицы и пихты, по меткому выражению Иванова, действительно напоминают «мшистую корковую щетку», которая, наподобие густой щетины, густо одевает все горы и спускается по склонам их до самых берегов обрывов. Особенно деформированы и даже обезображены деревья, растущие по опушкам леса, и, следовательно, наиболее подверженные действию ветра. Ветви их загнуты в одну сторону (большею частью к северо-западу), так что все деревцо производит впечатление «колосаметелки» луговых злаков. Ledum palustre[341] не достигает здесь такого роскошного развития, как это наблюдается вдали от моря на более высоких горизонтах и в особенности в горах хребта Сихотэ-Алинь. Около моря он не более одного фута, тогда как там он достигает пяти-шести футов. Даже самый запах его не так ароматичен и силен. Очень часто на горных вершинах в местах, защищенных от ветра, во время жарких летних дней запах этих Ericaceae[342] бывает настолько силен, что у непривычного человека способен вызвать головокружение. Кусты Rosa daurica имеют также жалкий вид; Rosa rugosa[343], которого так много вообще растет на берегу моря, здесь нет совершенно. Орочи говорили, что этот шиповник есть около реки Ботчи и южнее ее, к северу же от упомянутой реки его не встречается вовсе. Особенно интересна поросль Pirus aucuparia[344]; это даже не куст, это — тонкий прутик вышиной не более двух-трех футов; две-три веточки с листьями и несколько совершенно безвкусных водянистых ягод составляют все растение, похожее скорее на траву, чем на дерево, каким его можно видеть в горах на высоте 900-1100 метров над уровнем моря. Был конец лета и приближалась осень. Южные и юго-восточные муссоны кончились, и их место сменяли тихие ветры, слабо дующие с материка на море. Это было как раз переменное время, когда атмосфера на море и суше находится в сравнительном равновесии. Несколько позже, а именно в конце сентября и в октябре месяце, наступает период равноденственных бурь и крайне переменная неустойчивая погода. То же самое только в обратном порядке происходит и весной: те же сильные ветры и бури, что и осенью, имеют место в марте и апреле, та же тишина и продолжительный штиль наблюдаются в мае и июне. Вопрос о муссонах, дующих с моря со стороны юго-востока к берегам Уссурийского края в течение весны и лета и противоположных им северных и северо-западных ветров, дующих поздней осенью и зимой со стороны суши, — явление вполне естественное. Если мы обратимся к картам изобар, указывающим положение барометрического максимума (770–780) и минимума (740–748) по полугодиям на материке и в море а если примем еще во внимание и неравномерное нагревание (летом) и остывание (зимой) огромного азиатского материка и обширного водного пространства Великого океана, то вопрос об упомянутых ветрах разрешается вполне определенно. Зимой вся Восточная Азия лежит по левую сторону «депрессии» и по правую сторону области высокого давления, находящегося около Якутска, а так как по закону Бейс-Балло[345] движение ветров должно быть циклонического характера, то есть обратно движению часовой стрелки, то направление ветра должно быть от севера и северо-запада к югу и юго-востоку, что и на самом деле наблюдается. Кроме этих господствующих ветров, по всему побережью Уссурийского края, как и везде, дуют бризы. При слове бризы почему-то всегда является представление о небольших прохладных ветрах, дующих то с моря на сушу, то с суши на море. На самом деле проявление их более разнообразно, чем кажется это с первого взгляда. Иногда бризы бывают так слабы, что совершенно незаметны и не ощутительны: море покойно, волнения нет, и только слабая рябь свидетельствует о том, что ветер дует. Иногда они бывают настолько сильны и порывисты, что становятся похожими на бурю. В это время море сильно бушует и неистово бьется о берег; ветер гнет и треплет деревья, ломает их мелкие сучья, срывает листву и вместе с обрывками пены далеко несет их от берега в горы. Осенью при безоблачном небе местная суточная амплитуда температуры наибольшая. Ночи делаются довольно холодными, и земля через лучеиспускание быстро теряет теплоту свою. Днем же инсоляция солнца еще настолько велика, что земля снова недостаточно нагревается (средняя температура на поверхности земли +10,8 по Цельсию). Вследствие таких резких колебаний температуры и деятельность бризов проявляется сильнее. Вот почему в августе бризы начинают дуть с моря около 11 часов утра, в сентябре — после полудня, а в октябре уже в 2–3 часа дня. Эти то последние и бывают наиболее сильными. В августе и в сентябре лучше всего наблюдать бризы. Обыкновенно в это время стоит хорошая тихая погода. Цвет неба густой, синий; большие округленные массы снежно-белых кучевых облаков толпятся на крайнем западном горизонте. Прохладный ветер дует с моря. К вечеру небо становится чистым, бледным и совершенно безоблачным. На востоке из-за моря темной полосой подымается теневой сегмент земли с нежной пурпуровой окраской по наружному его краю. С заходом солнца отблески вечерней зари исчезнут за горизонтом и длинные сумерки сменяются ночным мраком, небо постепенно начинает заволакиваться какою-то мглой: звезды становятся видны неясно; скоро остаются заметными только звезды первой величины, наконец, и те исчезают совершенно. Кажется, будто собираются тучи и назавтра надо ждать ненастья. Если внимательно всмотреться в движение этого тумана, то видно, что он идет от моря. На рассвете следующего дня небо кажется серым, пасмурным, дождливым. Туман неподвижно держится над землей и густой завесой окутывает вершины гор. Часов около 10 он приходит в движение, начинает клубиться и снова ползет обратно к морю: сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Небо очищается, яркие лучи солнца быстро согревают землю, и через какие-нибудь полчаса от этого тумана нет и помину, как будто бы его и не было вовсе. Объяснить это явление возможно таким образом. Ночью, когда сухой и более прохладный ветер дует на море, теплый морской воздух подымается кверху и идет к материку, чтобы восстановить равновесие. Этот последний, будучи влажным, несет с собой пары, которые, охлаждаясь над землей, сгущаются, превращаются в туман и перед утренней зарей опускаются в горы. Вот почему вечерами (наблюдается очень часто на берегу моря) на вершинах гор теплее, чем внизу в долинах. Так как бризы имеют место в сравнительно узкой полосе прибрежной, то туманы эти далеко на материк не проникают. Поэтому лишь только взошедшее солнце станет пригревать землю и прохладный ветер начинает тянуть с моря, теплый воздух подымается от земли кверху и идет к нему навстречу, уносит с собой ночные туманы и очищает небо. Характерной особенностью Японского моря и в особенности Татарского пролива является то обстоятельство, что вода морская в массе не имеет того красивого изумрудного цвета, какой наблюдается на юге. Должно быть, это происходит потому, что здешнее небо постоянно покрыто облаками, тучами и туманом. Даже в такие дни, когда небо безоблачно, оно все-таки не бывает совершенно чистым: в воздухе содержится много паров, подымающихся и от моря и от земли в изобилии. От этих испарений атмосфера становится мутной, линия горизонта видна неясно, как бы в дыму, дальние мысы тонут во мгле (haze- Дымка, легкий туман (англ.)), складки гор и контуры их расплывчаты, неопределенны. Иногда эти испарения бывают так велики, что кажется будто где-то происходит лесной пожар и воздух наполнен дымом. В это время на солнце можно смотреть невооруженным глазом; цвет его становится желтоватым, вокруг диска замечается оранжевая «корона», даже тени, бросаемые на землю всеми предметами, принимают красноватый оттенок. Орочи говорят, что такое явление — верный признак дождя. Действительно, мгла эта каждый раз является предвестником непогоды. Коль скоро испарения эти начинают подыматься кверху, они быстро конденсируются в тучи и разряжаются или грозой, или сильными дождями. На всем побережье Татарского пролива район реки Тумнина и Императорской Гавани является местом, где береговая линия наиболее сильно развита. Некоторые мысы (Лессепсдата и Св. Николая) далеко выдвигаются в море. Между мысами образовались более или менее значительные бухты и заливы: Труженик (по-орочски Ако-онгони), Японская (Уккэ), Фальшивая (Бязача), Императорская Гавань (Хади), Кошка (Ваия), далее следует бухта, не имеющая русского названия и именуемая орочами Суума, потом бухта Ванина (Уй), Мучка (Мочко), затем опять четыре бухты только с орочскими названиями: Онектоичи-Туггами, Джунко, Аггэ и Тумниен-Дата. Из этих заливов Императорская Гавань и Ванина наиболее глубоко вдаются в сушу и похожи на фьорды. Здесь высоких гор с резко очерченными вершинами нет. Берега слагаются исключительно из базальтов и туфа. Последний преимущественно залегает в виде отдельного пласта в четыре метра толщиной между двумя лавовыми потоками, причем один поток является подстилающим туф, другой — кроющим его. Верхний слой лавы достигает местами мощности до 20 метров. Впрочем, утесистый мыс около селения Дата состоит из одних только туфов. Берега эти круто обрываются в море: намывная полоса прибоя отсутствует. Разрушение лавы глыбное — полиэдрическое, со слабым намеком на столбчатую отдельность. Подстилающей породой всего лавового покрова, вероятно, будет серый гранит, обнажения которого можно видеть на мысе Св. Николая. Местами базальтовые туфы под влиянием атмосферных агентов и главным образом под влиянием всеразрушающей деятельности моря подверглись сильной метаморфизации и превратились в рыхлую глинистую массу красноватого цвета. Вода, просачивающаяся сквозь эти туфы, так сильно окрашивается, что становится похожей на разведенный сурик. Лучшие места, где можно видеть эту метаморфизацию базальтовых туфов, находятся в бухте Труженик с северной ее стороны и в середине Императорской Гавани, близ того места, где построен склад для маяка и начинается ведущая к нему колесная дорога.XXI
На другой день мы уехали. На дворе стояла свежая погода и довольно большое волнение. На пути к Императорской Гавани представился прекрасный случай познакомиться с нравами «каменушек» и других нырков. Бесчисленное множество нырков Fuligula (histrionica?), по-орочски «холока», плавало на воде и летало по воздуху. Сильное волнение с «беляками» нисколько их не смущало: напротив, они как будто нарочно шли к бурунам берегового прибоя и, видимо, ни мало не опасались быть ушибленными о камни. Они держались головой против воды и, как только сильная волна собиралась накрыть их своим пенистым гребнем, каменушки эти каждый раз с удивительной быстротой ныряли навстречу ей и выплывали на поверхность уже по другую ее сторону, отряхивались, оправлялись и снова ныряли в волны, и ни разу не промахнулись, не ошиблись в расчете, хотя внимание их и былососредоточено на совершенно другом предмете: они опасались приближения нашей лодки. Такое занятие, казалось, не было для них утомительным. Невольно удивляешься приспособленности этих уток жить и выискивать себе корм в такой стихии, которая постоянно находится в сильном движении. Большая же часть нырков избегает моря (за исключением глубоких бухт, лагун и заливов) и предпочитает такие места, где вода находится в спокойном состоянии. Окраска этих нырков чернобурая, вернее совсем черная. Самка несколько крупнее самца (длина птицы 45 см, ширина размаха крыльев 62 см). Европейские нырки отличаются от местных серо-стальным цветом с ржавчиной по бокам. У нашей каменушки клюв черный, а ноги красные. Каменушки летают хорошо и подолгу могут держаться в воздухе, но тяжело подымаются от воды и долго хлопают по поверхности крыльями, волоча некоторое время зад и ноги. При полете они мало соблюдают порядок, часто сбиваются в кучу, перегоняют друг друга и летят в разных горизонтальных плоскостях. Не совершая осенью далекого пути к тропикам и весной обратно к берегам Уссурийского края, они не нуждаются потому в известном линейном строе треугольником, который значительно облегчает стойкое путешествие перелетных птиц. Каменушки вполне оправдывают свое название. Если они не плавают, то сидят обыкновенно на прибрежных камнях парами (самец и самка) или по нескольку вместе, или же подымаются на скалы, садятся на карнизы и на выступы их, иногда очень высоко над водой. У них есть излюбленные места, где они постоянно держатся и гнездуются. В углублениях и трещинах породы они кладут свои яйца, выводят птенцов, натаскивают туда сухой травы, перьев и пуху и считают такое гнездо своим постоянным жилищем и разве только какая-нибудь особенная причина может заставить каменушку перекочевать на другое место. Говорят, что они питаются рыбой, хотя мясо их совершенно не имеет этого запаха. Они любят держаться у таких берегов, где мелкое морское дно густо поросло бурыми водорослями и пузырчаткой. Здесь рыбы оставляют свою икру во время нереста. Это привлекает каменушек, и они слетаются сюда в большом количестве. Среди них «моумэ» и другие утки. Вид подымающейся от воды стаи способен вызвать удивление наблюдателя. Неизвестная мне порода уток, которую орочи называют «моумэ», очень многочисленна. У Силантьева и Холодковского я не нашел представителей, похожих на упомянутую «моумэ». Мы убили их несколько штук. Величиной эти утки такие же, как и каменушки, но хвост у них длинный, клиновидный. Оперение их очень оригинальное. Общая окраска черная. Самки однообразного цвета. Самцы пестрые. У последних передний край оперения щек белый и вдается в сторону клюва изогнутой линией. Позади глаз небольшие белые пятна, ниже около головы, ближе к шее, продолговатое, тоже белое пятно. Темя и затылок очень красивы. Сверху от основания клюва назад на шею спускается трехцветная стреловидная полоса, состоящая из чередующихся черного, белого и ржаво-желтого цветов. На шее ровное снежно-белое кольцо, затем два больших, опять-таки белых, пятна располагаются на плечах птицы и два коричнево-красных крупных пятна находятся по сторонам тела; сбоку под крыльями, ближе к концам их, зеркал нет. Клюв и ноги черные. Осенью такое оперение имеют только немногие самцы, весной же все без исключения. Интересно, почему брачную окраску эти пернатые приобретают и осенью и почему только некоторые из них!? Такое оперение как нельзя лучше скрывает «моумэ» от взоров врага и является для них в полном смысле слова окраской защитного цвета. И действительно, будут ли утки эти плавать по темным волнам, окаймленным белой пеной, или будут сидеть на черных камнях (на которых их часто можно видеть), опачканных белым птичьим пометом, и в том и другом случае они едва заметны, и только движения их могут выдать их присутствие. Как и каменушки, они хорошо ныряют, но не могут так долго держаться под водой, как первые… Они менее пугливы, чем другие им родственные породы, и легко поддаются обману. «Моумэ» не кричат, но свистят. Орочи-охотники, заметив пролетающую мимо стайку, подражают их свисту и тем заставляют свернуть их с дороги и опуститься около лодки на расстоянии ружейного выстрела. Я собрал «Fuligula»[346] и «моумэ» по нескольку экземпляров. Шкурки их хорошо препарированы. По окончании экспедиции я намерен по вопросам меня интересующим обратиться за разъяснениями к опытным орнитологам и по получении от них этих сведений мною будут сделаны дополнительные описания. Но вот и Императорская Гавань. Несколько японских шхун стояло на якоре в заливе Константиновском. Стройные, изящные, с высокими мачтами, они тихо покачивались на легкой зыби, проникающей сюда с моря. Там и сям с правой стороны около «кошки» виднелись японские рыбалки. Они бездействовали. Кета не шла; японцы решили переждать еще одну-две недели и затем итти на родину с тем, что поймали сами и что скупили у орочей и русских рыболовов в бухте Ванина. По берегам кое-где виднелись бревна, унесенные наводнением из лесной концессии. Морским прибоем их высоко выбросило на камни, где они и застряли. Рассказывают, что по ночам японцы подбирали этот лес, делали из него рейки, пилили доски и увозили их в Японию. Едва ли такое хищничество было в широких размерах. Быть может одна или две шхуны и стащили несколько бревен, остальные же занимались исключительно рыболовством. Дальше, в глубине бухты, против острова Устрицы и в устье реки Хади виднелись одинокие домики русских торговцев, скупщиков соболей, рыбаков и т. п. Лесной концессии не было видно. И только, когда катер дошел до конца залива и повернул влево за последний мыс, вдруг сразу появились постройки. Белые, новенькие, только что выстроенные домики были разбросаны по всему левому берегу. Кругом местность совершенно оголена от леса пожарами: молодняк лиственицы, как бы стараясь прикрыть собой наготу сухостоев, густо разросся среди горы. За постройками и рядом с ними виднелись палатки: новые белые и пестрые, рваные, старые — они были очень живописны в своем беспорядке. Около палаток дымились костры и копошились люди. Это тоже рабочие, для которых не было места в бараках, вследствие ограниченного количества последних. Множество оцепленных бревен плавало на воде около берега. Несколько человек с шестами в руках ходили по бревнам и что-то делали около одного места, действуя палками, как рычагами. Два буксира — один большой, другой маленький, стояли в стороне около пристани. Посредине бухты на якоре стояла небольшая шхуна, конфискованная у японцев в бухте Ванина. Рабочие, среди которых было немало и пьяных, в грязной одежде, в засаленных картузах и шляпах, медленно расхаживали по берегу, стояли кучками, о чем-то громко говорили и нестерпимо ругались между собой. Другие лежали на траве, курили или спали. Чистенькие, опрятные китайцы, повара или бойки, состоящие на службе у администрации в качестве прислуги, торопливо бегали по дороге от одного дома к другому. Несколько баб с засученными рукавами и с подоткнутыми юбками занималось стиркой белья около бараков. Два полицейских и один лесник стояли в стороне и о чем-то говорили вполголоса. Японец, с лицом озабоченным, вероятно с ближайшей рыбалки, убеждал в чем-то двух равнодушных корейцев, одетых в одежду наполовину русскую, наполовину свою национальную. Свист лесопилки, говор, крики людей, беготня — стояли невообразимые. Ожидалось прибытие парохода, на котором должны были уехать рабочие, которых только что рассчитали в концессии. Или привычка к тишине и одиночеству, или после странствования по тайге отвыкнешь от городской жизни, от общества людей — но только суета, эта беготня, этот шум и ругань в особенности страшно режут глаз и ухо. Мы встали в палатке.XXII
В отношении расчисления берега в зависимости от рельефа суши все побережье от залива Св. Владимира до устья реки Амура в общем представляет из себя «продольный берег» (по Рихтгофену), в частности же Императорская Гавань является типом «долматинским». Здесь море сделало захват материка и заполнило водой продольную долину. Продолжением этой заполненной долины будет служить долина реки Хади (см. ниже). Непокрытый водой горный хребет с восточной стороны гавани образовал длинный полуостров, идущий параллельно наружному берегу. Оконечностью этого полуострова является мыс Путятина и остров Рулло. Гранитный мыс, наиболее других выдающийся в море, известен тем, что лет 13–14 тому назад здесь разбился пароход Добровольного флота «Владимир». Самой большой рекой, впадающей в Императорскую Гавань, будет река Императорская, или Хади, как ее называют орочи. Положение этой реки, равно как и ее размер и направление течения реки Тутто, совершенно неправильно показано на карте. Ни та, ни другая не берут начало с хребта Сихотэ-Алинь, и никакой дороги по реке Тутто нет. Длина реки Хади около 60 верст, направление течения ее с востока-юго-востока, но только в нижней своей части, после принятия слева притока своего Тутто, она поворачивает на север-северо-восток и сохраняет это направление вплоть до впадения своего в Императорскую Гавань. Все более или менее значительные притоки река Хади принимает с левой стороны. Самым большим притоком будет река Тутто, о которой говорилось выше. У русских рабочих в Императорской Гавани она известна под именем «Первой речки». Верст на 28 выше ее устья в Хади впадает река Сипали, текущая с северо-северо-запада. Здесь, собственно говоря, реку Хади надо считать состоящей из слияния двух рек одинаковой величины: Безымянной, именуемой Хади, и Сипали. Верстах в трех с половиной от устья последней и в стороне от нее слева есть небольшое мелководное озеро. Раньше оно было значительно больше, но с течением времени мхи и торф сделали свое дело. В недалеком будущем здесь будет одно только мшистое болото, покрытое низкорослой елью и сухостойной корявой лиственицей. Если пройти от реки Сипали вверх по реке Хади еще верст 6. и дойти до ключа Абаче, покрытого редколесьем, то тут уже недалеко и до перевала (6 верст 400 саж.). Перевал на реке Копи как раз против орочского стойбища Улема (от Улема до моря по реке Копи один день ходу). Из всего сказанного видно, что направление течения Хади идет вдоль берега моря, характеризуя тип «продольного берега», о котором только что говорилось выше. С реки Тутто можно перевалить на реку Хутту, но никак не в бассейны рек Хора или Анюя. Вернусь опять к маяку Св. Николая. Здесь имеется хорошо оборудованная метеорологическая станция, существующая лет пятнадцать. Во время войны она была разрушена и вследствие этого производство наблюдений прекратилось года на два, и лишь с 1 сентября 1907 года наблюдения возобновились снова. Не лишены интереса средние температуры за 1908 год, полученные из наблюдений на этой станции. Эти данные довольно красноречиво показывают ход температуры летом и зимой в прибрежном районе. Они характерны низкой температурой для лета и низкой же температурой для зимы. Если бы в Императорской Гавани было хоть одно опытное поле, то эти цифры в сельскохозяйственной метеорологии приобрели бы гораздо большее значение, чем в настоящее время. Высота маяка (фундамент здания) над уровнем моря равна 87 метрам. По прямой линии расстояние от маяка Св. Николая до острова Сахалина равно 105 верстам, и в то время этот остров виден с маяка весной и летом очень редко и притом крайне слабо, неопределенно. Это объясняется исключительно сильным насыщением водяными парами нижних слоев атмосферы. Летом она[347] ниже температуры воздуха; чем более происходит конденсация пара, тем менее воздух прозрачен. Осенью же и зимой, когда сухие ветры дуют с материка на море, очертания острова Сахалина видны чаще, иногда очень ясно и отчетливо. 10 сентября мы стали собираться: собранные коллекции этикетировались и укладывались в ящики для хранения их на зиму, отбиралось все необходимое для осеннего пути морем, люди шили палатки, снаряжали себе обувь; переводчик пошел нанимать у орочей лодки. «Мобилизация», — говорили стрелки и казаки. День выступления был назначен 14-го числа, независимо от погоды. В таких случаях на погоду не смотришь. И в самом деле, если идешь на один день или на два, можно выбрать для экскурсии день получше, а когда идешь в дорогу на несколько месяцев, то не все ли равно, в какой день и в какую погоду ни выступать. Сегодня вымокнешь, завтра высохнешь, после опять вымокнешь… и так изо дня в день, вплоть до тех пор, пока не возвратишься в Хабаровск. Тут и важно не потерять время. Начало дела — половина дела сделано! Дня за два до выступления из Императорской Гавани в отряд пришел ороч; тихо он вошел в палатку и спросил разрешения сесть на ящик. На вид ему было лет 35, он был невысокого роста, коренаст и крепко сложен. Короткая голова, плоское темя, широкий затылок, невысокий лоб, сильно выдающиеся скулы и редкая растительность на его лице были характерными для его монгольского происхождения. Головного убора он не имел вовсе; густые, черные, как смоль, волосы, заплетенные сзади в одну косичку, служили ему шапкой и прикрывали голову и от дождя, и от солнца. Он постоянно прищуривал один правый глаз — это была его привычка, как мы узнали впоследствии. Одет он был в длинную косоворотную рубашку (отега) из черного сукна, но без всяких узоров и украшений. На тонком ременном пояске его, сбоку, с правой стороны, висело два ножика (кусога и апилле), с которыми орочи никогда не расстаются. Тонкие суконные штаны, наколенники из синей дрели, нарукавники и унты из рыбьей кожи дополняли его простой, но вполне типичный орочский костюм. На вопросы он отвечал тихим, кротким голосом, но лаконически и каждый раз как будто обдумывал сперва свою фразу, прежде чем дать ответ. Из его слов мы узнали, что зовут его Карпом, что живет он на реке Копи и в Императорскую Гавань пришел пешком нарочно, потому что услышал о нашем приезде и что он хочет провожать нас до Копи и даже далее, если это будет нужно. Так вот этот самый Карпушка!? Это и есть тот знаменитый каюр, слывущий лучшим мореходом, лучшим ходоком на лыжах, о котором говорят даже и кяка (кекари) на реках Нах-тоху и Кусуне. Никто лучше Карпушки не знает окрестностей Императорской Гавани, Копи, Самарги и Ботчи. Он хаживал и на Хор, и на Де-Кастри, был и на Анюе, ходил и на Амур и на вершину Тумнина; никто лучше его не умеет ходить под парусами на досчатых утлых «аккэна»; он отлично знает все побережье, где могут приставать лодки, где есть камни, где есть бухты, удобные для ночевки, где можно было бы наколоть острогой рыбы на ужин. У Карпушки своя метеорология, свои наблюдения, свои приметы; он знает, какая завтра будет погода, какой будет вал, откуда будет дуть ветер и можно ли выходить в море. Говорят, что он с особенным искусством управляется С длинной упряжкой собак и лихо ездит по лесу нартовой дорогой. У другого собаки бегут лениво или бегут сперва очень скоро, а на второй половине пути идут уже шагом и еле волочат ноги. Сами орочи удивляются, отчего это у Карпушки собаки всю дорогу бегут ровно, дружно, как возьмут от дому и так до вечера, до конца дороги. Какое-то особенное влияние имеет он на собак; они с первого же знакомства сразу привыкают к нему и не боятся и не грызутся между собой, и бегут охотно, точно очи понимают, что управляет ими каюр Карпушка.XXIII
Прежде чем продолжать свои заметки, считаю нужным сделать маленькую оговорку. Посылаемые мною статьи под заглавием «Из путевого дневника» есть действительно только заметки, обрывки из дневника, написанные наскоро, без всякой обработки и притом только во время дневок. А дневки у нас случайные: или проливной дождь, или починка одежды и обуви не позволят продолжать маршрут безостановочно. Писать ежедневно во время пути нет никакой возможности. За день накопляется столько работы, что к сумеркам едва успеваешь только вычертить пройденный путь и сделать краткие записки в рабочие тетради. Черчение, препарировка отнимают очень много времени. К вечеру так уходишься, что еле доберешься до палатки, и к 9 часам становишься совершенно бессильным к какой бы то ни было работе, а завтра опять надо вставать рано, часов в 5 утра, а то и того раньше. Где же тут заниматься еще литературой. В своих статьях «Из путевого дневника» я сам вижу недостатки: нет связанности, перескакиваю с одного пункта на другой, на одних вопросах останавливаюсь подробнее, на других короче. Что же сделать? — Приходится выполнять то, что возможно, а не то, что желаешь сделать. По окончании экспедиции, когда вернусь в Хабаровск, я с удовольствием буду продолжать свои статьи, только более полные, более подробные, чем настоящие коротенькие заметки. 14 сентября мы оставили Императорскую Гавань. День был серый, пасмурный, собирался дождь. Еще с вечера туман, лежавший неподвижно на мысах в виде скатерти, стал подыматься, клубиться и собираться в тучи. Тучи эти низко шли над землей, скрывая горы более чем наполовину. Барометр быстро падал. К вечеру можно было ожидать непогоды. Лодки с грузом еще накануне пошли морем и должны были дойти до небольшой горной речки Мафаца, где и ожидать нашего прихода сухопутьем. Все указания давал Карпушка. «Однако будет худо!» — говорил он, то и дело поглядывая в горы и на небо. Путь наш лежал лесом по долине реки Аггэ. Тропка шла просекой. По этой дороге обыкновенно лесная концессия в Императорской Гавани доставляет продовольствие своим рабочим на вершину реки Хади. Итти этой тропкой очень тяжело. Растоптанный в мелкую грязь мох всюду оголил корни деревьев. Решетины корней, острые угловатые камни, кочки и глубокие ямы с водой делают дорогу эту тернистым путем. Люди итти еще могут, перепрыгивая от дерева к дереву и пробираясь закраинами просеки, но лошадям — трудно. Вскоре навстречу нам попались двое лесовщиков, которые с вьючными худотелыми конями шли в концессию за продовольствием. Лошади то и дело оступались, ноги у них подвертывались, срывались, скользили, и каждый раз, как только какая-нибудь из них проваливалась ногой в яму между корней и камнями, она тяжело вздыхала, стонала, падала на колени, подымалась и снова шла дальше. В этот день мы дошли только до зимовья. Зимовье было старое, полуразрушенное. Внутри его было сыро, грязно, пахло плесенью. Делать нечего — остановились. Охапка полыни и несколько веток лиственицы, брошенные под бок на жердевые нарты, составили обычное для спанья ложе, знакомое всякому путнику, которого застигла непогода в дороге и который рад, что добился хотя бы до зимовья даже. Ночью пошел дождь. Плохо сколоченное зимовье с пологой крышей, сложенной из накатника, протекало всюду. Люди не спали всю ночь, переходили с места на место, искали, где посуше, смеялись, острили. Протерпели до рассвета, и чуть только стало светать, мы были уже снова в дороге. Дождь шел не переставая. Теперь просеку и дорогу бросили и пошли целиной в гору. Карпушка уверенно шел вперед и с легкостью взбирался на кручу. Вода текла по его черным волосам на спину и на плечи, но он мало обращал внимания на это. Впрочем, и все-то мы были не суше Карпушки. Было за полдень, когда мы вышли к морю, где около реки Мафаца ждали нас лодки. Между тем в природе творилось что-то неладное. Одни тучи шли с юго-востока, другие с северо-востока, ветер налетал то с юга, то с востока, то со стороны совершенно противоположной. Скоро дождь и туман густой завесой покрыли и лес, и горы. В нескольких шагах нельзя было рассмотреть человека. Море тоже не видно, только белая пена прибрежных бурунов и сильный шум прибоя выдавали его присутствие. Порывистый ветер с северо-востока начал дуть с большой силой. Шел тайфун. Цепляясь за кусты, за траву, держась за выступы камней и корни деревьев, мы с трудом спустились с берегового обрыва к морю. Редко кому в такую пору удается видеть морской прибой у берега. Величественная картина — грозный вид! Одна за другой с белыми гребнями огромные волны с ревом налетают на берег, заливают всю полосу прибоя, снова скатываются назад и в отступательном течении своем с рокотом увлекают булыжник. Новая волна, встреченная отливным течением предыдущей, сразу вспенивается, как кипяток в котле, вновь бросается на берег и вновь разбивается о камни. Каким ничтожным, маленьким, беспомощным чувствует себя человек перед такой стихийной силой природы. В такие мгновения в нем нет эгоистического гордого самомнения и самонадеянности, и в голове его в это время не шевельнется мысль назвать себя царем природы! В такую погоду быстро темнеет. Пока светло, надо натаскать на ночь дров. Тут уже все работают, тут уже нет различия ни в чинах, ни в положении, ни в звании; тут все рабочие, все товарищи! Если бы в это время посторонний наблюдатель посмотрел бы со стороны на устье реки Мафаца, то он увидел бы такую картину: на морском берегу подальше от воды вытянуты две лодки: повыше у обрыва из весел и жердей наскоро поставлена палатка — на покрышку ее пошли паруса от лодок. Мокрые дрова горят плохо и сильно дымят. Несколько человек стараются наложить побольше дров, чтобы ими прикрыть от дождя горящие внизу уголья: другие окапывают и оправляют палатку, чтобы сбегающая по склону горы вода не заливала бы бивака. Но вот все работы покончены, люди спрятались под спасительные полотнища. Редко кто выйдет из палатки, разве только за водой, чтобы сварить чай или ужин. Собаки и те забились под лодки: они все время лежат свернувшись, согревают себя дыханием, дремлют и не подымают голов. Ночью в такую погоду становится особенно тоскливо: темнота и буря, дождь и шум прибоя всегда родят в душе человека чувство жуткое. «Хорошо, что мы не в море! — говорили стрелки между собой. — Худо теперь тому, кого непогода эта застала в дороге!» И как бы ответом на эти слова людей с моря донесся протяжный свисток парохода. Люди вышли из палатки и, повернув головы, приоткрыв рот и насторожив слух, стали всматриваться в темную ночь. Снова донесся свисток. Донесся и замер… Вероятно, какое-нибудь судно искало входа в Императорскую Гавань и, опасаясь темноты и столкновения с другим встречным судном, подавало эти сигналы время от времени; а может быть, люди на пароходе заметили наш огонь, подали свистки и пошли мимо. «Хорошо, что мы не в море» — снова говорили стрелки между собой. К ночи ветер (немного стих, но дождь пошел с удвоенной силой. Речка Мафаца превратилась в бурный многоводный поток. Холодно, сыро… Зато как хорошо спится в такую погоду, особенно если знаешь, что палатка не промокнет. Дождевые капли часто барабанят в туго натянутое, намокшее полотнище и всегда действуют гипнотически: сон быстро смежает веки и, завернувшись поплотнее в одеяло, ложишься на бок и засыпаешь как убитый. На другой день дождь немного стих, но ветер опять задул с северо-востока. По морю ходили беляки. На грех мы забыли в Императорской Гавани походную аптечку с перевязочными материалами и банку с формалином, столь необходимую для коллектирования. Приходилось или возвращаться за ними прежней тропой, или ехать морем на лодке. В последнем случае приходилось выжидать, когда утихнет погода и море успокоится; если же итти обратно — придется потерять несколько суток. Выручить нас взялся Карпушка. Он решил ехать морем немедленно, не взирая на ветер и волнение. Вместе с ним поехал и унтер-офицер Вихров. Явился вопрос, как спустить лодку, как отойти от берега, не быв залитым прибойными волнами? Приготовления его для этого были просты и оригинальны. Он собирал большие камни весом около пуда, но не окатанные и круглые, а угловатые, неровные, рубил деревья и сносил их к лодкам. Скоро все разъяснилось; дело в том, что пустая лодка первой же волной непременно будет или перевернута вверх дном, если рискнет отойти от берега во время прибоя, или же будет выброшена на камни и разбита в щепки. Необходимо ее сначала загрузить с тем, чтобы придать ей положение более устойчивое и с тем, чтобы по выходе в море груз этот немедленно выбросить за борт. Карпуша уложил в лодку камни, приготовил вальки, посадил орочей на места к веслам, а сам остался на берегу и долго пристально смотрел на воду. Выждав момент, когда самый большой вал с ревом и с пеной разлился на прибрежной гальке и вслед за ним наступило временное затишье, он вдруг сразу ослабил канат и толкнул лодку. Вследствие свой тяжести она быстро покатилась по валькам к воде. Тревожные ожидания… Лодка вошла уже в воду и несколько отделилась от берега, привычные гребцы орочи налегли уже на весла. В этот момент, с ловкостью кошки, Карпушка прыгнул на корму ее. Нашла очередная волна и высоко подбросила вверх утлую «аккэна». Был момент, когда лодка находилась под углом в 40°. Ничего! Руль был в умелых, опытных руках. Несмотря на сильный толчок, Карпушка устоял на ногах (орочи правят кормовым веслом стоя, особенно во время свежей погоды). Ветер трепал его длинные волосы, брызги и пена заливали ему лицо, а он как будто и не замечает этого. Он весело махнул нам рукой на прощанье и что-то стал говорить с гребцами. Один из орочей начал выбрасывать из лодки камни. Вслед за первой волной прошла вторая, за нею третья, и пошла легкая лодка, словно утка в море, нырять от одного гребня к другому. С берега хорошо было видно, как лодка и Карпушка, и гребцы его то высоко вздымались кверху, то совсем пропадали в выемках между волнами. Лодка все удалялась, она становилась все меньше и меньше, а Карпушка все еще стоял на руле. Мы забыли про бурю, все внимание, мысли и зрение были сосредоточены на лодке. Начавший накрапывать дождь заставил нас вернуться к палатке. К вечеру буря успокоилась. Дождь снова начал лить потоками. Успел ли Карпушка обогнуть мыс. Св. Николая до маяка? Море бушевало всю ночь.XXIV
20 сентября мы дошли до озера Гыджу. Здесь было очень много птиц. Шла рыба… Большие морские чайки стаями сопровождали ее. Они с криками подолгу кружились в воздухе, опускались разом все на воду, опять подымались и то и дело перелетали с одного места на другое. Их было так много, что там, где они садились стаями, поверхность моря белела, как бы от пены или снега. Все вообще чайки удивительно стройные птицы. Как легко они садятся на воду, снимаются и подымаются снова на воздух! Как хорошо они летают и подобно хищным могут парить, не производя движений крыльями! Они удивительно изящны, когда сидят на воде: чуть только одно брюшко касается водной поверхности, весь корпус наверху; хвост приподнят; снежно-белое оперение резко выделяется на темном фоне воды. Как красивы, когда на своих высоких, сравнительно, ногах, они стоят на вершине черной каменной глыбы и своими выразительными черными глазами равнодушно и без опасения поглядывают на людей и на проходящие мимо лодки. Большой ястреб гонялся почему-то за одной чайкой, и как только она садилась на воду он не трогал ее, подымался кверху и парил над нею неподвижно, но, едва чайка снималась и пробовала лететь, он стремительно бросался на нее, стараясь нанести ей сильные удары своим клювом. Чайка снова опускалась на воду и снова ястреб подымался на воздух. Мы ушли далеко; так и не удалось узнать, чем кончилось это преследование и почему ястреб преследовал только одну чайку, хотя у нее ничего не было в клюве? Почему он не трогал других чаек и почему все остальные чайки не выражали ни испуга, ни беспокойства? Они свободно без опаски перелетали за рыбой, нисколько не опасаясь крылатого хищника. Очень может быть, что они понимали, что в данном случае орлан бессилен и что в конце концов он устанет и волей-неволей должен будет оставить преследуемую чайку в покое. Мартыны садились несколько поодаль — они сидели спокойно и, казалось, мало интересовались рыбой. Эти большие птицы на воде и в воздухе кажутся птицами средней величины и только, когда они убиты и взяты в руки, поражают своими размерами. Из шести измеренных экземпляров получились в среднем выводе следующие цифры. Длина птицы от конца клюва до конца хвоста 52 см, ширина размера крыльев 1 м 20 ом, длина хвоста- 14 см и расстояние от корня хвоста до конца крыльев, когда они сложены сбоку, по сторонам тела птицы — 21 ом. Среди этих птиц мелькали и чистики и буревестники. Это последние — Fulmarus — с удивительною легкостью держались в воздухе и при полете своем постоянно поворачивали свою красивую голову то в ту, то в другую сторону. Для этих «длиннокрылых», казалось, и встречный свежий ветер не может служить помехой. Буревестников что-то влекло к югу. В течение целого дня они летели вдоль берега и именно только в этом направлении — и не было видно ни одной птицы, которая шла бы на север. На мысах около камней держались бакланы. Длинные, с вытянутыми шеями они сидели на камнях, зорко всматривались в приближающегося врага — человека и ни разу не подпускали к себе на расстояние обыкновенного ружейного выстрела. От воды они подымаются еще тяжелее, чем нырки, но летают хорошо и подолгу могут держаться в воздухе. Эти «веслоногие» в стае придерживаются порядка и при полете выстраиваются вереницей, как гуси, но никогда не поднимаются так высоко, как последние, чаще же всего они летают над самой поверхностью воды и, когда снимаются, то подолгу хлопают по ней своими крыльями. Если одинокий баклан обгоняет лодку, он непременно над ней станет описывать большие круги, то залетая далеко вперед, то возвращаясь назад до тех пор, пока где-нибудь в стороне не покажется другая такая же или похожая на него птица. При полете он сильно машет крыльями. Когда он летит над головой, и если в это время смотреть на него снизу, то видно, как при каждом взмахе крыльями весь корпус его тела вздрагивает, и это вздрагивание передается и на вытянутую его шею. Когда баклан плывет, все тело его погружено в воду так, что только верхняя часть спины, шея и голова находятся над поверхностью. Поэтому дробью трудно убить баклана, н нетерпеливый охотник будет вынужден выпустить много зарядов в подраненную птицу, пока случайная дробинка не попадет ей в голову и не остановит ее бегства и нырянья в воду. Из винтовки с дальнего расстояния нам удалось убить двух птиц. Это оказались Phalaerocorax carbo. Этих птиц, как и каме-нушек, можно было бы назвать «бакланами-каменщиками». Хотя они, подобно первым, и не устраивают своих гнезд в камнях, в расщелинах между ними, зато они постоянно в большом количестве держатся на мысах, далеко выдающихся в море. Тут они сидят и на карнизах, и иногда очень высоко над водой во время прибоя. Тут же у них и гнезда, где-нибудь на выступе, но непременно на таком месте, чтобы ни снизу, ни сверху хищные четвероногие не могли бы его достать и разорить. Однако ниже той границы, до которой достигают волны во время самого большого волнения, бакланы гнезд себе не устраивают. Такие места заметны еще издали; вся скала белеет от помета, точно вымазанная известью. Часто можно видеть, как птицы эти подолгу кружатся около мысов. Они то подымаются на воздух, выше, чем при обыкновенном полете, то опускаются низко к воде, летят над самой ее поверхностью, едва не задевая волны и, описав большой круг, снова подлетают к скале, начинают учащенно махать своими крыльями и, видимо, хотят сесть на место, но вдруг неожиданно быстро отлетают в сторону, опять несутся от берега, опять описывают огромный круг, вновь подлетают к той же скале и снова, как бы оборвавшись, летят обратно в море. При самом внимательном осмотре моря, неба, самой скалы и всей вообще окружающей обстановки нельзя заметить ничего такого, что могло бы им внушать чувство страха и не позволяло бы им сесть на камни. Ни орлов, ни других каких-либо мелких хищных животных, вроде лисицы, хорька или ласки, нигде не видно. А так как некоторые из них после долгого летанья по воздуху все же садились на свое место для отдыха, то отсюда можно вывести только одно заключение — такие странные полеты бакланов около своего жилища доставляют им, видимо, просто удовольствие и забаву. Охотничья ли страсть или просто вандализм, свойственный вообще человеческой натуре по отношению ко всем прочим обитателям земного шара, побудили наших людей сделать несколько выстрелов по сидящим в гнездах бакланам. Раскатистые звуки выстрелов гулко раздались по всему побережью и несколько раз с перекатом пронеслись от одной горы к другой и из распадка в распадок. Пули ударились о камни… Испуганные птицы тучей поднялись со скалы и общей массой полетели в море. Чайки тоже с криком начали кружиться над лодкой. Что выражал их крик? Испуг или гнев, недоумение или любопытство? Встревоженные стрижи, каменушки, топорки и «моумэ» с торопливой быстротой стали бороздить воздух по всем направлениям. С одинокой скалы снялся орлан-белохвост. Медленно и плавно махая своими большими крыльями, царственная птица не торопясь полетела вдоль берега и скоро скрылась за поворотом. Лодки ушли уже далеко, а пернатое царство долго еще не могло успокоиться. Раньше других вернулись к гнездам каменушки, а за ними топорки и бакланы. Одни только чайки все еще продолжали кружиться над камнями около берега. Стремительные, порывистые движения их и резкие пронзительные крики раздавались в воздухе. Возбужденное настроение их передавалось и тем чайкам, которые случайно в это время пролетали мимо. Они тотчас же присоединились к общей стае и также начинали кружиться и кричать, как будто бы здесь и их были гнезда, как будто бы и они были пострадавшими от руки человека.XXV
Если подняться на мыс Св. Николая и посмотреть на побережье моря по направлению к Тумнину и затем перенести свой взор к устью Копи, наблюдателю бросится резкая разница в строении берега по отношению к рельефу суши: к северу от Императорской Гавани тянутся берега, слагаемые из базальта. Отсюда они кажутся пологими, низменными; береговая линия развита очень хорошо; мысы выступают в море; между мысами обширные, глубоко вдающиеся в материк заливы и бухты. К югу представляется иная картина: большой горный хребет Доко тянется вдоль самого берега, отделяя бассейн реки Аггэ от моря. Хребет размыт вдоль оси своего простирания, вследствие чего образовались берега высокие, скалистые с обрывами, круто падающими в море и с резкими очертаниями мысов и вертикальных утесов, иногда очень причудливой формы. Горы состоят исключительно из пород массивных кристаллических, Выходы гранита и порфиров на дневную поверхность видны со стороны западной по склонам к Аггэ. Граница, где базальтовые берега соединяются с гористым берегом, будет бухта Труженик близ маяка Св. Николая. Здесь серый гранит выступает в виде мощного штока метров около 100 вышиной. Дальше к югу гранитных обнажений нет, но вплоть до мыса Мафаца (орочское название, по-русски оно означает «почтенный старичок») огромные гранитные валуны сплошь усеивают все побережье. Сверху с высоты мысов и обрывов, насколько позволяет прозрачность воды и сила зрения, видно, что дно моря на большом протяжении покрыто теми же гранитными валунами. Однообразно белесоватый цвет этой породы и на поверхности суши, и в воде настолько типичен и руководящ, что ошибиться невозможно. Известно, что большие глыбы камней не могут быть выброшенными на берег силой морского прибоя и что они являются только результатом пропахивания льдин, бороздящих дно во время прибоя зимой, а потому самое нахождение гранитных валунов в таком большом количестве около береговых обрывов свидетельствует о том, что граниты эти здесь залегают глубоко и во всяком случае ниже поверхности воды в море. Исключение составляют мыс Св. Николая и гора Охровая, о которой будет сказано ниже. Слой глины и чернозема, покрывающий мыс Св. Николая, настолько тонок, что, глядя на общую массу гранитного штока, он кажется не толще листа папиросной бумаги. Тощая, чахлая растительность едва находит в земле себе пищу. Корни деревьев стелятся поверху, оголяются и подсыхают. Сильные ветры раскачивают деревья, отчего они рано гибнут и в таком виде остаются стоять на корне, венчая всякую прибрежную опушку леса широкой полосой сухостоя. Острые гранитные глыбы всюду торчат на поверхности, отчего вся площадка имеет вид «карстового поля» в миниатюре. С другой стороны мыса Св. Николая находится небольшой изгиб береговой линии, носящий название залива «Базарного». Здесь, в обрывах поверх гранита, видны в виде бесформенной массы пласты конгломерата общей мощностью около, 100 метров. Валуны этого конгломерата хорошо окатаны и состоят главным образом из вулканических туфов чрезвычайной твердости. Туфы эти мелкопористые и обломки их величиной с кулак и с куриное яйцо. Цемент очень твердый и состоит из раздробленного вещества пород изверженных. Выше этого конгломерата залегают тоже слои конгломерата, но рыхлые с песчанистым цементом и с ясно выраженной слоистостью. Главная масса — порфиры: валуны и плоские величиной с человеческую голову. Среди этих последних встречаются и граниты; они размерами превосходят конскую голову; края их хотя и хорошо окатаны, но форма заметно несколько угловатая. Кроющим пластом над конгломератами является базальтовая лава. Мощность ее не более 1,5 метра. Судя по ее структуре, по ровному цвету и микроскопически мелкому зерну видно, что остывание происходило очень быстро. Более грубая по строению лава находится внизу, у воды, более тонкая — в верхних слоях покрова. Взятые три образца одной и той же лавы из различных горизонтов очень разнятся даже на глаз друг от друга. Эти образцы должны заинтересовать геолога. И конгломерат и базальт выклиниваются на поверхности гранитного штока. Это ясно видно в профиле берегового обрыва. Здесь они были уничтожены денудационными процессами и оголили материковую почву. Дальше от мыса Мафаца вплоть до реки Гыджу массивные кристаллические породы сменяются красивыми пестрыми песчаниками, брекчиями и конгломератами. Все слои лежат горизонтально и параллельно поверхности моря и только местами имеют весьма слабый уклон в ту или другую сторону вдоль берега. Вследствие резкости их окраски по слоям всякое малейшее нарушение в их залегании резко бросается в глаза. Так, например, не доезжая реки Гыджу, можно видеть сброс — классический образец сбросовой впадины. На половине пути между Императорской Гаванью и озером Гыджу выделяется гора Охровая, состоящая, как и мыс Св. Николая, из серого гранита. Под влиянием туманов, дождей и ветров гранит сильно подвергся метаморфизации, превратился в дресвяник и принял желтую окраску, отчего гора и получила свое настоящее название. Несмотря на прочность и твердость пород, составляющих берег, он все-таки подмывается и обрушивается. По словам орочей, сразу исчезают целые участки суши. О том, что берег обваливается в воду, свидетельствуют каменные береговые ворота недавнего образования. Их трое: двое ворот около реки Мафа; одни на берегу, не доходя речки; другие — в воде в 10 саж. от берега, несколько южнее; третьи ворота, большие по размерам и состоящие из гранита, находятся также в воде около горы Охровой, против самого мыса. Около устья реки Гыджу гранитные валуны на побережье сменяются такими же громадными валунами зеленокаменной породы. Несколько южнее мысы, окаймляющие маленькую бухточку, не имеющую названия, состоят именно из этой глубинной породы. Распадение глыбное — полиэдрическое. Орочи с рек Самарги, Ботчи, Копи, Тумнина и Императорской Гавани показали, что года три тому назад было довольно большое землетрясение. Явление это произошло днем и, как всегда, сопровождалось подземным шумом. Они рассказывают, что не только они ощущали сотрясение почвы, но даже и видели самое колебание земли. Реки залили низменные берега; вода в котлах, повешенных на огонь, расплескалась и залила уголья; люди не могли стоять на ногах и падали на землю. Землетрясение это охватило большой район и замечалось даже на реке Такэме и около мыса Лессепса. Весьма возможно, что оно распространилось и далее к северу, но так как после реки Тумнина к заливу Де-Кастри на берегу моря никто не живет, то указать эту границу, где землетрясение уже не замечалось, никто не мог. Хотя Уссурийский край и находится в области сейсмических явлений, тем не менее такие землетрясения здесь большая редкость. Там, где они редки и очень слабы, люди склонны их преувеличивать. Хотя, с другой стороны, орочам нет смысла сгущать краски. Во всяком случае, описываемое землетрясение на побережье моря было самое большое из всех, какие только помнят старожилы.XXVI
Область, заключенная между Амуром, Уссури, Японским морем и Татарским проливом, представляет страну, сплошь покрытую густыми лесами. Бесчисленное множество больших и малых рек бороздят Уссурийский край по всем направлениям. Стоит лишь спуститься с любой горной вершины в первый попавшийся распадок, чтобы найти обильный водой источник, и достаточно пройти по этому ключу один только день, чтобы достигнуть такой речки, по которой возможно уже плавание и на лодках. Все реки богаты водой даже и в сухое зимнее время года. Множество болот, густой бархатный ковер мхов, сильно пропитанный водой, создают полнейшую формацию тундры. Такова в общих чертах тайга Уссурийского края. Большое количество воды, задерживаемой растительностью на поверхности почвы, не могло не отозваться и на климате всей страны. Таким образом, обилием влаги климат этой области обязан не только своему географическому прибрежному положению около моря, но и тому обстоятельству, что нижние слои воздуха постоянно и непосредственно соприкасаются с огромной испаряющей поверхностью бесконечных лесов и бесчисленного множества болот, находящихся не только по низинам в долинах рек, но и по склонам гор и даже на самых перевалах. Летом сырость климата усугубляется еще и деятельностью муссонов, дующих с моря со стороны юга и юго-востока и несущих с собой всегда дожди и туманы. Зимой же сухой северо-западный ветер, пробегая над сырыми лесами Уссурийского края, быстро поглощает всю влагу и уносит ее в море. Вот почему одну половину года (весна и лето) климат чрезвычайно влажен, другую (осень и зима) — он чересчур уже сух. В первом случае климат будет сырым, морским, во втором — сухим, континентальным. Туманы в Уссурийском крае, и в особенности в прибрежном районе, обычное явление, но образование их и условия, при которых они появляются, настолько разнообразны и интересны, что вопрос этот заслуживает того, чтобы ему было отведено здесь несколько строк для описания. Чаще всего появляются туманы при ветрах с юга и юго-юго-запада, реже со стороны востока июго-востока, еще реже с северо-востока и никогда не бывают от запада, северо-запада и севера. Оно и понятно: достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, что по отношению к Уссурийскому краю со стороны северо-востока — юго-запада раскинулся Великий океан со своими краевыми морями около восточных берегов Азии, противоположная же сторона (северо-запад) занята обширным материком с пустынями и с великой Сибирской низменностью, обращенной к Ледовитому океану. Итак, если ветер начал дуть с моря, надо ждать тумана. В таких случаях действительно резко очерченная линия горизонта постепенно становится неясной, расплывчатой, неопределенной. Кажется, будто она затянута мглой. Мгла эта двигается к берегу и как будто подымается все выше и выше, постепенно становится гуще и, наконец, превращается в туман. Иногда туман образуется на горизонте сразу и в таком случае он двигается стеной. Медленно ползет он к берегу, взбирается по распадкам в горы, заволакивает мысы и заполняет собой долины. Горные вершины кажутся разобщенными одинокими островами, а самый туман… наводнением. Впечатление это настолько сильно, что неохотно и с робостью спускаешься с озаренного солнцем возвышенного места и с опаской погружаешься в море тумана. Другой раз, несмотря на сильный попутный ветер, туман долго держится в море и крайне медленно надвигается на берег. Часто туман неподвижно лежит на самой поверхности воды, так что верхушки мачт судов остаются им не закрыты. Это хорошо бывает видно, если судно проходит близко от берега. Бывает и обратно: туман идет поверху и задевает только вершины гор. В последнем случае он похож на тяжелые дождевые тучи циклонического характера. Туманы в Уссурийском крае редко бывают сухими, часто они влажны и сыры настолько, что трава становится мокрой, как бы от росы, иногда же туман моросит и обильно смачивает землю, как бы дождем, подряд в течение нескольких суток до тех пор, пока не переменится ветер и не угонит его обратно в море. Наконец, бывает и так, хотя очень редко, что несмотря на сильный ветер с той стороны, откуда постоянно бывают туманы, тумана нет. Это совсем идет в разрез с вышеприведенными описаниями. Начальник гидрографической экспедиции Великого океана генерал-майор Жданко отрицает существование холодного течения из Охотского моря в Японское через Татарский пролив около острова Сахалина, а между тем в обществе и в литературе существует мнение, что именно это-то течение является источником дождей и туманов. Из сказанного видно, что условия появления туманов на побережье моря в Уссурийском крае и самое их образование относится к очень запутанным вопросам климатологии, разобраться в которых возможно только после продолжительного их изучения и целого ряда многолетних специальных наблюдений. Из физики известно, что конденсация водяного пара в воздухе происходит тогда, когда температура воздуха быстро понижается ниже «точки росы», то есть той температуры, при которой свободный пар в воздухе имеет наибольшую упругость. На основании этого закона можно объяснить некоторые местные явления, находящиеся в тесной связи с образованием туманов на побережье моря. Например, при появлении туманов около самого берега обстановка такова: небо над материком покрыто слоистыми тучами в виде «скатерти»; дальше от берега небо чистое, безоблачное. Море освещено солнцем. На крайнем востоке по горизонту видны белые кучевые облака; края их закруглены. Утренний штиль сменяется ветром со стороны моря. В это время вдруг, совершенно неожиданно, у самого берега, где-нибудь около скалистого утеса, начинает образовываться маленькое облачко. Оно быстро увеличивается в размере, и скоро все побережье затягивается туманом тогда, как в море совершенно чисто. В данном случае образование тумана происходит от соприкосновения влажного, теплого воздуха с холодной поверхностью камеей и с поверхностью мысов, с низкой температурой лесной тундры. Явление это нам удалось воспроизвести и экспериментальным путем, хотя и совершенно нечаянно. Надо было найти воду, поэтому приказано было копать яму. Рабочие углубились на три с половиной фута и вскоре достигли до мерзлоты. Едва яма была очищена от мусора и щебня и тем самым был дан свободный доступ наружному воздуху, как тотчас же она наполнилась паром, а через минуту густой туман покрывал и всю местность вблизи самой ямы. Температура воздуха в стороне на открытой местности в тени была плюс 21° по Цельсию и на поверхности земли плюс 14° по Цельсию; небо чистое, безоблачное; день светлый, солнечный, теплый, и ни в море, ни у берега — нигде тумана не было видно. Трудно даже допустить водяной пар в таком чистом воздухе, а между тем конденсация его в холодной яме красноречиво говорила за то, что воздух был действительно насыщен парами. Случается, что туман образуется около берега и при другой обстановке. Небо и над морем, и над материком совершенно безоблачное. Воздух вполне чист и прозрачен: отдаленные мысы и мельчайшие складки гор с поразительной ясностью видны отчетливо ясно на большом расстоянии (это последнее обстоятельство указывает на то, что воздух сильно насыщен парами). Температура воздуха плюс 22° по Цельсию, гидрометр = 100, штиль. Но вот слабый ветерок потянул с моря, и вдруг между лодкой и берегом быстро начинает образовываться белое облачко. Через несколько секунд в разных местах около мысов камней и утесов появились такие же полоски пара. Они быстро увеличивались в размерах, и не успели люди сделать и несколько взмахов веслами, как весь уже берег утонул в густом тумане, а море попрежнему было чистое, и линия горизонта видна так же ясно, отчетливо, как и раньше. В этом случае конденсация водяного пара в атмосфере произошла от смешения воздуха различных температур: теплого — с материка и холодного — с моря. И тот и другой были насыщены парами. Этим и объясняется то поднятие тумана (восходящее течение), то опускание его и перемещение местообразования: то у берега близ материка, то вдали на линии горизонта. Отчасти туман действительно переносится ветром, но главным образом он «указывает лишь место, где происходит постоянное сгущение и охлаждение паров воздуха» (Ганн)[348]. Вот почему часто можно видеть, как во время сильного, ровного ветра, дующего на материк с моря, туман в виде густого облака неподвижно лежит на высоких мысах, более других выдающихся в море. Влажный воздух гонится ветром с моря, и когда коснется холодного сравнительно воздуха, находящегося над мысом (лесная тундра), он быстро и сильно конденсирует пар; но, пронесясь дальше, он опять выходит из области пониженной температуры, и потому пар опять становится невидимым для глаза. Между тем все новые и новые слои воздуха надвигаются на мыс с моря; водяной пар все время сгущается, проходит и испаряется без перерыва и, кажется, будто одно и то же облако тумана все время держится около одного и того же места. Туманы с моря не проникают далеко на сушу, если условия для образования их там неблагоприятны. В таких случаях они едва ли проникают более одной-полутора верст с моря. В то время, как метеорологической станцией на маяке Св. Николая облачность была в течение 18 суток отмечена 10 баллами и знаком тумана, в полутора верстах от берега тумана не было вовсе — это обычное явление, хорошо знакомое местным инородцам и тем русским старожилам, кои живут около самого берега моря. Естественно, что воздух, насыщенный парами и охлажденный водами Татарского пролива ниже точки росы, конденсирует пар в туман и в таком виде достигает берега, но едва он успеет отойти от береговой линии на одну-две версты, как он начинает нагреваться сам от соприкосновения с нагретой поверхностью земли (преимущественно на местах горелых, сухих или каменистых), и потому пар становится опять невидимым для глаза. Ночные туманы нисколько не изменяют вышеприведенных положений. Вследствие лучеиспускания земля остывает очень быстро, а вместе с ней охлаждается и воздух, находящийся над ее поверхностью. Над морем воздух сохраняет более высокую температуру. Соприкасаясь с холодными берегами, туманы сгущаются сильнее, и если ветер с моря сильнее и преодолевает бризы, дующие с суши, туманы ползут по самой земле и далеко проникают в горы. В противном случае они подымаются выше и становятся видимыми лишь во вторую половину ночи, перед рассветом (см. статью о бризах).XXVII
А вот и Копи. Издали устья реки не видно — оно хорошо маскируется лесом, только прибой волн о песчаные наносы бара указывает место, где пресная вода вливается в море. Со стороны залива, если можно только назвать заливом небольшое углубление береговой линии в суше, берег кажется пустынным, и только, когда лодки войдут в самую реку, можно увидеть шесть орочских балаганов, построенных с той и с другой стороны реки около самой воды. Балаганы крыты корьем и видно, что они сделаны на скорую руку. Вытащенные из воды и опрокинутые вверх дном лодки, жерди и стеллажи для сушки рыбы, весла, остроги и сети — все это указывает на то, что здесь орочи живут только летом, ловят рыбу, сушат ее и вообще делают себе запасы юколы на год. Осенью же с наступлением холодов они подымаются вверх по реке на лодках: там у них свои зимние жилища, там они занимаются охотой и соболеваньем. Несколько дальше, с правой стороны реки и (с левой руки, если смотреть вверх по течению) около гор, в одной версте от устья, виднеются, старые, полуразрушенные деревянные домики. Они брошены, теперь там никто не живет. Несколько лет тому назад здесь от какой-то повальной болезни умерло много народу. Вся обстановка внутри этих домиков сохранилась в том виде, в каком она была еще при жизни их обитателей. Есть болезни, которым орочи чрезвычайно подвержены. Особенно сильно свирепствует среди них оспа. От оспы они быстро вымирают. В течение одних или двух суток от целого стойбища не остается ни одного живого человека. Главные распространители заразы — вода, грязь в жилище и грязь на теле самого ороча, и то обстоятельство, что здоровые люди, находясь под одной кровлей с больными, имеют постоянное с ним общение. Орочи с Тумнина, Хади и Копи ведут более оседлый образ жизни, чем родственные им орочи с рек Имана, Бикина, Хора, Самарги и Ботчи. Они подолгу живут на одних и тех же местах, где родились и выросли и где жили их отцы и деды; самые постройки их прочнее, балаганы обширнее, и ставятся они с большими удобствами, чем у «кяка» (кекари). Многие из них имеют настоящие деревянные домики, хотя сами строить их не умеют, для чего всегда нанимают плотников корейцев или русских. Орочи Императорской Гавани считают орочей, живущих на реке Копи, настоящими орочами. Действительно, даже глаз самого опытного исследователя не нашел бы разницы между теми и другими. Однако орочи с Тумнина и с реки Уй говорят, что язык копинских орочей хотя и такой же, как и у них, но все же он немного отличается от языка чистых орочей. Это отличие так ничтожно, что от слуха европейца оно совершенно ускользает, и разницу в произношении того или другого слова подметить может только сам ороч. Поэтому орочей с реки Копи они считают «другими» орочами и называют их «Орочи-ко-пинка». На Копи орочи ждали рыбы и не торопились уходить в горы. Погода нам не благоприятствовала, море снова разбушевалось; грузовые лодки не могли итти при таком волнении, потому мы снова были вынуждены ждать, когда непогода утихнет и море успокоится. Можно было воспользоваться случаем и поэкскурсировать по окрестностям. Весь морской берег состоит из песка. Море наметало широкий пологий вал и отделило этим валом обширную заводь Копи от залива, оставив только узкий проход для выхода пресной воды в море. Песок мелкий, сыпучий, приходящий в движение от ветра. Там, куда вода не достигает даже и во время самых больших волнений, пески находятся в состоянии покоя, они заросли крупной жесткой осокой и низкорослыми кустами шиповника. Дальше весь береговой вал покрыт корявым низкоствольным лиственичным лесом. На берегу врыты в песок два столба с японскими письменами. Это могилы японских рыбаков, умерших на чужбине. Орочи рассказывают, что покойники были закопаны в сидячем положении, лицом к востоку в сторону далекой родины. Тощий вид деревьев, шум ветра по вершинам хвои, листопад, полузасохшая, пожелтевшая трава и пасмурное небо, брошенные орочские жилища и японские могилы — все это создает очень печальную картину. От созерцания этой картины смерти и разрушения невольно хочешь скорее отделаться, стараешься перенести свои мысли, слух и зрение на что-нибудь другое, что говорило бы о жизни, о красоте природы. На отмели валялось много буреломного леса, вынесенного рекой во время половодья в море и выброшенного морем опять на берег. Частью этот валежник занесло уже песком, кое-где засыпало мелкой галькой и завалило морской травой. Среди этого хлама сухого дерева белели кости кита: огромные ребра величиной более сажени, шейные позвонки весом около пуда и т. д. Один из стрелков поднял такую кость и с любопытством начал ее рассматривать. Сопровождавшие нас орочи с испугом и тревогой на лице начали просить его, чтобы он положил кость на место. Не понимая в чем дело, солдат бросил кость в сторону. Орочи бережно взяли ее в руки и осторожно положили на прежнее место, старательно придав ей то именно положение, в котором она находилась ранее. На вопрос по этому поводу, они серьезно отвечали, что костями мертвого кита нельзя играть, нельзя их даже трогать, потому что море рассердится, подымет сильный ветер и большое волнение, море будет бушевать несколько суток и непременно, если не теперь, то потом накажет виновного. К вечеру свежий ветер превратился в жестокий шторм. Море забелело от пены, небо покрылось тяжелыми тучами циклонического характера, пошел сильный дождь — непогода разгулялась как следует. Орочи были убеждены, что причиной этому было то обстоятельство, что солдат трогал кости кита. У орочей вообще много предрассудков и разных примет. Многие из них убеждены, что нож, которым случалось свежевать медведя (а другие говорят, сивуча и нерпу), не может быть употребляем в дело и носим при себе на охоте, в сопках и в особенности при охоте на медведя. Они считают сивуча морским медведем и убеждены, что сухопутный и морской медведь живут в вечной вражде между собой. Охотнику, который не соблюдает этого правила, грозит смертельная опасность или е горах или на море. Экономическое благосостояние орочей на реке Копи находится в упадке. Раньше они жили лучше. Причина обеднения — плохое соболевание и недостаток рыбы. Они с трудом перебиваются и за работу просят дать им вместо денег муки и рису. Редко у которых есть небольшие запасы продовольствия. Особенно тяжелым для них был 1907 год. Безрыбица прошлого года — это общее явление по всему краю. По подсчету самого ороча, на семью, состоящую из пяти человек (его самого, жены, старухи-матери и двух детей), для круглого оборота на весь год надо 15 пудов муки, пять пудов рису и два пуда соли. Кроме того, ему надо купить еще порох, дробь, патроны, спички, табак, одежду и мыло. Считая покупку и продовольствие и все то, что было сказано выше, чтобы ороч чувствовал себя в достатке и не терпел нужды, ему ежегодно надо около 200 рублей. Эти 200 рублей он должен добыть охотой и главным образом соболеваньем.XXVIII
Главная масса прибрежного леса состоит из пихты, приблизительно 50 %, затем ели — около 30 %, лиственицы — 15 % и березы-остальные 5 %. Этот лес густой, корявый, низкорослый. Особенно часто растут деревья около опушки. Ветви их сильно искривлены и изогнуты в сторону леса. Более крупные ветки в свою очередь дают от себя во все стороны густые кусты мельчайших веточек с хвоей. Эти последние произрастают в огромном числе и сидят настолько плотно и густо, что издали становятся очень похожими на паразитирующие кусты омелы. Вся эта масса ветвей и деревьев образует сплошную стену зарослей. Пробраться сквозь нее человеку не везде возможно. Природа, так сказать, позаботилась о том, чтобы воспрепятствовать проникновению губительных морских туманов в глубь леса, пожертвовав для сего краевыми[349] деревьями и вместе с тем из них же создав преграду и против ветра. Под прикрытием такой опушки молодые деревца растут спокойно, прямо, и только другие причины, о которых будет сказано ниже, ломают и уродуют некоторые из них в раннем их возрасте. Если наблюдатель будет итти лесом около берега, то он невольно обратит внимание на то обстоятельство, что чем ближе он будет подходить к береговым обрывам, тем чаще и чаще будут встречаться деревья с кривыми, изогнутыми стволами, причем эта уродливость в строении ствола во всех случаях донельзя однообразна, а следовательно, и причины, вызывающие такие искривления, одни и те же, а судя потому, что изуродованные деревья попадаются и молодые и старые, сила, вызывающая эти уродства, действует временно и случайно, отнюдь не постоянно и притом не на каждое дерево. Стволы деревьев искривлены трояким способом: или изогнутее произошло в сторону (см. ниже), или ствол изогнут так, что он образует дугу, равную половине окружности, или же он совершенно загнут так, что образует полный круг и снова подымается кверху. Несмотря на такое изогнутие, деревцо не гибнет. Жизненная сила его очень велика. Оно снова стремится выпрямить ствол, насколько это возможно. В крайнем случае деревцо старается поднять только свою вершину, если нижняя часть уже одеревенела и не в состоянии выпрямиться. Это-то последнее чаще всего и наблюдается. 1. Более 70 % встречаются деревья, у которых ствол на грудной высоте человека резко, под углом в 90°, изогнут в сторону. В изгибе иногда замечаются следы поломки, покрытые наростами и смолой. Величина колена около 3 футов. Затем ствол снова под прямым углом изгибается кверху, и дерево растет уже в этом направлении. 2. Реже встречаются стволы, которые после нормального роста вдруг изгибаются по кривой, описывая полуокружность кверху и, выйдя в прежнее свое положение, снова делают излом и подымаются уже вертикально. 3. Наконец, встречаются и такие стволы, которые на высоте 3–4 футов круто изгибаются по спирали книзу и, описав полную окружность, снова подымаются кверху, сохраняя это последнее направление уже без отклонений в сторону. Во всех этих случаях уродливые изменения в росте деревьев объясняются тем обстоятельством, что гибкий молодняк пригибается к земле то мощным слоем снега (первый случай), то придавливается случайно повалившимся деревом (второй случай), то пригибается и снегом и упавшим деревом одновременно, так что вершина его загнется настолько, что до вертикального подъема ее остается меньше расстояния в ту сторону, куда дерево изогнулось, чем в обратную сторону, откуда действовала сила, изуродовавшая его (третий случай). Все это можно видеть во всех стадиях развития: там молоденькая пихточка придавлена деревом, там другая освободилась от валежника и стала выправляться, там загнулась так, что вершина ее совсем скрылась в мху и в хвое и т. д. На другой день к полудню дождь перестал; ветер начал стихать. Море заметно успокаивалось: беляков уже не было видно, и волны не так уже неистово метались на песчаный берег. К вечеру сильный верховой ветер разорвал тучи. Кое-где проглянуло небо. Около жилищ показались люди: орочам надоело сидеть около дымных костров в балаганах — они вышли подышать свежим воздухом и расправить онемевшие от долгого лежания и сидения члены. Вышел и Карпушка. Он потянулся, посмотрел на небо, поглядел в море и объявил, что завтра утром будет совсем тихо, но после обеда снова задует «пунела» (то есть ветер со стороны юга) и потому надо выезжать раненько до восхода солнца, чтобы заблаговременно поспеть к мысу Успения, где и ожидать непогоды. Через несколько минут он уже копошился около лодок, закреплял доски, делал новые уключины из сучков деревьев и замазывал щели смолой, которую набрал тут же, поблизости, из лесу. Через час работа была окончена. Карпушка решил посмотреть, не течет ли где-нибудь лодка, а кстати ему надо было съездить и за дровами к старой японской рыбалке. Уезжая, японские рыбаки оставили на берегу много заготовленных дров. Около балаганов сухого леса нет вовсе. Здесь уже давно все сожгли орочи. Он смело один поплыл в море. Его лодка то совсем скрывалась в волнах около устья, то вдруг вся сразу подымалась кверху и казалась висящей в воздухе над водой, и чем дальше удалялась она от берега, тем труднее было ее заметить. Карпушка направился к южному мысу. В сумерки он воротился обратно. Лодка его была до половины наполнена водой, в которой плавали дрова и палки. По его словам, в то время, когда он проходил буруны в устье, огромный вал обрушился на лодку сзади. Ладно, что груз был дрова, а не что-нибудь другое, а то лодку затопило бы наверное. Каждый раз, глядя на «орочей-намука» (то есть приморских), невольно удивляешься их бесстрашию и привычке рисковать жизнью на море. Тем более это удивительно, что среди этих людей нет ни одного человека, который умел бы плавать или хотя немного мог бы держаться на воде. Если ороч попал в воду, он как камень пойдет ко дну. Вот почему орочи никогда не купаются — боятся. Его никогда нельзя уговорить войти в реку, если ее надо перейти вброд и она более или менее глубока. А между тем в море на лодке, несмотря на явную, грозящую опасность, он покоен, не теряет головы даже и в таких случаях, когда и хороший, опытный пловец почувствовал бы страх и не рискнул бы ехать. Действительно, море приучает человека спокойно смотреть в глаза смерти, приучает к храбрости, родит энергию и закаляет характер. Между тем солнце закатилось. На земле было уже темно, — а на западном горизонте все еще светилось небо: это были последние проблески вечерней зари. Дальние горы приняли темно-фиолетовую окраску. Разорванные тучи казались горной цепью с дикими и угловатыми очертаниями вершин. Они принимали причудливые, фантастические формы: то казались в виде великана с протянутыми руками и одетого в какую-то мантию, то — в виде зверя, корабля и птицы и, бог весть, чего не создаст фантазия, если долго станешь рассматривать облака на небе. Ветер стих окончательно. Вода в лагуне в массе казалась черной, как чернила. В чистом влажном воздухе отчетливо был слышен каждый звук. Вверху над головами быстро пронеслись один за другими два табунка уток. Их не видно… Слышно только, как одна стайка с шумом опустилась на воду совсем близко от берега. Кто-то охотился…» Эхо подхватило и широко разнесло звуки выстрела. Испуганно поднялись две цапли и, оглашая криками, полетели по направлению к болоту. Последняя полоска угасающей зари становилась все тоньше, все краонее и слабее, а в воздухе и на земле — все темнее и темнее… Но вот, далеко, на той стороне лагуны на воде мелькнул огонек. Мелькнул и пропал… и снова вспыхнул. Он то замирал, то горел ярким пламенем и длинной светлой полосой отражался в воде через всю лагуну. Отблеск огня начинался внизу, дрожал, волновался и как будто по ступенькам взбирался кверху. Огонек этот двигался вдоль берега и медленно приближался к устью. Прошло много времени, прежде чем можно, было различить улимагду (орочская речная лодка), яркий факел сбоку и человеческую фигуру на носу ее. Человек держал в руках острогу и опирался ею в дно реки. Через несколько минут подошла лодка. При свете горящего смолья и бересты обрисовалась коренастая фигура Карпушки. Это он лучил рыбу. На дие улимагды лежало два тайменя и несколько штук зубатки. Удивительный человек! Когда он успел все это сделать: и починить лодки, и съездить за дровами на японскую рыбалку, сделать факелы для лученья и наколоть рыбу? На другой день мы поехали дальше…XXIX
В воздухе было еще темно, а на востоке небо уже светилось и бледнело. Месяц был на исходе. В чистом утреннем воздухе неполный диск его серебрился и, казалось, тоже становился прозрачнее и светлее. Ярко блестели большие звезды и быстро угасали одна за другой, точно опасаясь, что солнечные лучи могут застигнуть их еще на небе. Обильная роса пала на землю и сильно смочила водой и траву, и кусты, и деревья. Всюду кругом царила удивительная тишина… Люди еще спали тем сладким утренним сном, который в эти часы всегда особенно крепок, и с которым так не хочется расставаться. Костры давно уже погасли и не давали более тепла, спящие жались друг к другу и плотнее завертывались в одеяла. Но вот на крайнем восточном горизонте появилась тоненькая багрово-красная полоска света, предвещавшая скорое появление солнца. Кому приходилось бывать в это время в поле, в лесу и на море, тот, вероятно, видел, как радостно встречает рассвет все живое. Две каменушки копошились в воде около берега, они постоянно ныряли и доставали что-то со дна реки. На стрежне плескалась рыба… С дальней сухой лиственицы красиво снялся большой орел. Широко распластав свои могучие крылья, он медленно полетел над рекой в поисках за добычей. Особенную жизнь проявляют мелкие птицы: давно уже длиннохвостые синицы бегали у воды, прыгали с камня на камень и грациозно покачивали своими долгими хвостиками. Не в меру суетились и поползни; они быстро лазали по стволам деревьев в разных направлениях и торопливо, внимательно заглядывали под кору, за каждый сучок или листик. В лесу застучали дятлы; появились пеночки, камышовки и свиристели… На биваке заметно тоже движение. Первым всегда просыпается очередной артельщик. Стряхнув с одеяла налетевший от костра пепел, он наскоро обулся и, ежась от холода, стал усиленно раздувать ртом уголья и подкладывать дрова в костер. Тотчас появился дымок, а через несколько мгновений дрова уже горели ярким пламенем. Артельщик повесил над огнем чайник и стал будить товарищей… Услышав шум и заметив людей, уточки перестали нырять. Оглядываясь назад и по сторонам, они торопливо поплыли на другую сторону реки, где опять занялись купаньем, но уже не так беззаботно, как раньше: вынырнув из воды, они каждый раз встряхивались, приготовлялись к полету и с беспокойством озирались, не грозит ли им опасность с противоположного берега. Люди идут мыться прямо к реке. Среди них слышны смех и шутки. Орочи давно уже не спали. Из дымовых отверстий, проделанных в крыше их балаганов, подымался дымок. Около одного ближнего балагана на земле, сидя на корточках, орочка чистила на доске рыбу. Две молодые собаки сидели против нее, и, наклонив набок свои востроухие головки, внимательно следили за движениями рук орочки и ловко подхватывали на лету брошенные им подачки. Дальше с нами Карпушка не поехал, а послал вместо себя другого ороча — Саввушку, человека уже немолодого, очень молчаливого и тихого. Все грузы были уложены в лодки еще накануне вечером, чтобы утром не было проволочки. Наскоро напившись с сухарями чаю, мы не мешкая тронулись в путь, памятуя совет Карпушки: добраться до мыса Успения поскорее. Когда солнце взошло, мы были уже далеко от Копи и, не подходя к берегу, остановились на короткий отдых. Море «дышало», как выражаются моряки. Широкая, пологая зыбь чуть заметно колебала спокойную поверхность воды и медленно и плавно подымала и опускала лодки на одном и том же месте. Люди стали закуривать и оправляться, начали передвигать сиденья, перекладывать поудобнее груз и меняться веслами, В свежем воздухе дышалось легко, свободно… При утреннем восходе солнца, морское побережье было очень красиво: как в колоссальном калейдоскопе одни картины безостановочно сменялись другими… Днем этого не увидишь. Описать их нельзя. Не всякий художник сумеет и передать их красками. Взошедшее солнце разом осветило и воду, и берег, и лес, и горы. Кое-где по долинам держался еще туман. Точно злой дух, застигнутый на месте преступления, он жался, клубился и прятался в тень, стараясь поскорее укрыться от страшного, непримиримого и сильного врага своего — солнца. Ороч не обращал внимания на красоты природы; чувство эстетики в нем было мало развито. Он давно уже привык и к морю, и к горам, и к туману — все это для него было так обыкновенно и естественно, и он никак не мог понять, чем мы восхищались и на что смотрим с таким удовольствием. Его занимало другое. Он молча стоял на руле и, прикрыв рукой глаза от солнца, пытливо всматривался в чернобурую полоску на море. Около 9 час. утра лодки пришли на мыс Песчаный, а к 12 часам достигли и реки Аку-до мыса Успения было недалеко. Между тем виденная на горизонте черная полоска постепенно все увеличивалась в размере и все более и более захватывала спокойную гладь моря. Ороч объяснил нам, что черная полоска — это волнение и ветер, дующий навстречу, и потому надобно торопиться. В этом месте морской берег представляет скалистые обрывы. Кое-где у подножия их есть узенькая намывная полоса прибоя, но она заливается водой даже и во время небольшого волнения. Рассчитывать пристать к ней нельзя. Люди могли бы еще взобраться по круче на берег, но лодки и грузы должны были бы немедленно погибнуть. Стрелки налегли на весла, и лодки пошли быстрее. Через полчаса ветер начал дуть гребцам в затылок, и появившаяся беспорядочная зыбь давала знать, что и самое волнение уже недалеко. Действительно, скоро нос лодки стал бить по воде, сбоку у бортов стали вздыматься острые гребни волн. Грести становилось вое труднее — встречный ветер все усиливался, становился порывистым и задерживал лодку. Море почернело. Кое-где по волнам замелькали уже белые, пенистые султаны. Вот и мыс Успения! Еще несколько сот шагов и мы в безопасности. Люди употребляли все усилия, чтобы пройти это расстояние, обогнуть мыс и войти в бухту. Становилось плохо. Отбойная волна от берега, встречая волны, идущие с моря, сталкивалась с ними и образовывала в этом месте «толчею». Лодку стало захлестывать, пришлось откачивать воду. Наш ороч по-прежнему стоял на руле и, видимо, нисколько не волновался: ни один мускул не дрогнул на его неподвижном, бесстрастном лице. Эти люди удивительно умеют владеть собой! Наконец, мыс пройден… Вдруг нашим глазам представилась странная картина — огромный, разбитый пароход был около самого берега. Волны неистово бились о его нос, бока и высоко вздымались кверху. Еще несколько минут, еще несколько взмахов веслами, и лодки наши подошли к погибшему судну и встали под его прикрытием с подветренной стороны к борту. Люди облегченно вздохнули. Опасность миновала… Пароход стоял носом к северо-востоку, несколько под углом к берегу, прибой за ним был не так силен, и потому вытащить лодку на берег удалось нам без особых затруднений. Карпушка был прав. Ветер поворачивал с юга, становился очень резким и порывистым. После полудня небо заволокло тучами, и пошел крупный дождь. Время было осеннее — люди промокли и сильно озябли. На берегу валялось много железа, снятого с разбитого парохода. Наскоро была поставлена маленькая палатка. В защиту от дождя пошли листы железа, доски и т. д. Люди стояли у костра, протянув к огню руки, другие, расставив ноги и поворотившись спиной к костру, старались обогреться и обсушить рубашку. Сухое белье и кружка горячего чая в таких случаях доставляют неизъяснимое наслаждение: приятная теплота согревает окоченевшие члены, зубы перестают стучать, лихорадочная дрожь исчезает сразу и пережитые невзгоды забываются тотчас. К вечеру дождь перестал, но ветер дул с прежней силой. Приходилось волей-неволей оставаться здесь на ночь и ожидать, когда стихнет непогода. «Хедвинг» разбился лет 15 тому назад. Это был норвежский пароход совершенно новый, только что спущенный на воду и только что прибывший на нашу дальневосточную окраину. Зафрахтованный торговым домом Чурина и К°, он с различными грузами шел из Владивостока в Николаевск. В непогоду, во время густого тумана «Хедвинг» сбился с пути и выскочил на камни около мыса Успения. Попытки снять его с камней не привели ни к чему, и судно осталось стоять около берега и по сие время, частые бури и сильное волнение довершили его разрушение. В прошлом, 1908 г., пароход еще раз пытались снять Гепнер и Карпушевский; затратили на это дело около 10–12 тыс. руб. и вынуждены были бросить судно в том виде и на том же самом месте, как оно стояло и раньше. И немудрено! 15 лет пароход брошен в море на камнях близ берега. Днище его занесло песком и камнями. Уж не говоря о сильном разрушении его корпуса деятельностью волн во время прибоя, так и химическое действие морской соленой воды не могло не отозваться разрушительно на листах железа, давным-давно лишенных всякой окраски. С виду корпус еще крепок, но внизу, там, где были машины, дно пробито, протерто. Оно проржавело и развалилось. Судно стоит, накренившись набок. Две мачты без верхних частей и с обрывками снастей, вскрытая палуба, оторванные листы железа, гремящие при каждом порыве ветра, всюду разбросанный каменный уголь, поломки и общий развал и хаос, царящий на всем судне, — придают ему очень печальный облик. Каждый раз, глядя на такое разбитое судно, невольно жалеешь погибших капитанов; становится жутко при мысли о самой катастрофе… Разбитое брошенное судно! Ни души людей… Точно гигантский труп, выброшенный морем на берег! Люди ушли, оставив его на произвол стихии. Явились хищники и все, что можно было разграбить, унесли с собой. На берегу валяются части машин. Они заросли травой; многие из них занесены песком. Видно, что судно старались облегчить, торопились снять все тяжелое. Грузы и уголь бросались прямо в воду. Впоследствии уже и машины были свезены на берег, да так и оставлены около самой воды под присмотром дождя, морских брызг и туманов. Теперь они проржавели и никуда уже не годятся. Более мелкое имущество (гайки, болты, шестерни, поршни, насосы и станины) было сложено в наскоро сделанные из подручного материала сараи. Но это было очень давно: давно уже сюда никто не заходил и не поправлял разрушающихся построек. Сараи развалились, заросли травой и погребли под своими обломками проржавевшие материалы. Несмотря на большую и ровную глубину Японского моря и Татарского пролива, плавание около русского побережья вдоль берегов Уссурийского края не только в то отдаленное время, к которому относится гибель парохода «Хедвинг», но даже и теперь еще сопряжено с большими затруднениями и риском. Особенно тяжело приходится морякам во время ночных штормов; если таковые сопровождаются еще и туманами, необходимо укрыться в какую-нибудь гавань от разбушевавшейся непогоды и в то же время опасно подходить наугад к берегу. Приходится руководствоваться указаниями часов и лага, а эти показания сплошь и рядом бывают ошибочны, приходится, делать предположения и угадывать по карте свое местонахождение, приходится «щупать» берег до тех пор, пока не наткнешься на искомые, желанные «ворота». Тут нужно быть до крайности осторожным. Даже тому моряку, которому приходилось много раз совершать рейсы между Владивостоком и заливом Де-Кастри, которому хорошо знакомо все побережье, и то случалось ошибаться — он не мог ориентироваться, и при всем желании зайти в гавань он вынужден был проходить мимо того или другого залива. Теперь представьте себе положение командира судна, который попал в эти места первый раз в жизни и на беду которого в дороге застигли пароход туман и непогода. Капитан 2-го ранга Тигерстедт, много лет проживший на Дальнем Востоке и хорошо знающий условия плавания вдоль берегов Уссурийского края, полагает, что на склонение судового компаса немалое влияние оказывают магнитные железные руды, находящиеся близ берега моря. Этому обстоятельству тоже надо отвести должное место в истории гибели судов у русского побережья. Наконец, и самые карты, которыми руководствуются моряки, в некоторых местах составлены неправильно. Например, часть побережья севернее залива Опричник более выдается в море, чем это показано на карте, а мыс Туманный (около мыса Золотой Суфрен), наоборот, на картах более выдвигается к востоку, чем это есть на самом деле. Прочитав все вышеизложенное, гибель «Хедвинга» и других пароходов становится понятной… Нужны маяки. На всем протяжении от Владивостока до Императорской Гавани на обычном пути следования пароходов построены три маяка (Аскольдский, Поворотный и Низменный), и все они находятся между Владивостоком и заливом Св. Ольги и ни одного нет между этим последним пунктом и Императорской Гаванью. Гибель парохода добровольного флота «Владимир» принудила Главное гидрографическое управление ассигновать деньги на постройку маяка Св. Николая, но гибель трех судов в районе между заливом Св. Ольги и Императорской Гаванью осталась забытой. В самом деле, кроме упомянутого «Хедвинга», в 1906 г. пароход «Викинг» выскочил на берег немного южнее залива Опричник, другой пароход приблизительно в то же время, когда погиб и «Хедвинг», разбился о береговые утесы севернее бухты Терней, недалеко от устья реки Адими и реки Худя (фанза Дун-Тавайза). Этот перечень погибших трех пароходов красноречиво говорит о небходимости поставить хоть какой-нибудь маяк, где-нибудь около мыса Туманного или в другом месте, на половине пути к Императорской Гавани. Отсутствие сирен, колоколов или пушек у входа в залив Св. Ольга, Владимира, Джигит и в Императорскую Гавань также доставляет морякам немало хлопот в разыскивании этих пунктов во время туманов. Постройка маленьких деревянных домиков при одном стороже и постановка колокола в этих местах у самого входа в гавань стоит гроши, а между тем это очень облегчило бы плавание и, быть может, предотвратило бы случайную аварию с судном, могущую произойти так близко от стоянки. Устройство механизма, который при помощи сильной спиральной пружины, заводимой раз или два в сутки, сам бы мог автоматически делать известное число ударов по подвешенному рядом колоколу с известными промежутками времени, очень несложно и особых денежных затрат на это не требуется. В частном разговоре жалобы моряков на отсутствие таких звуковых сигналов у входа в гавани и заливы приходится слышать постоянно.XXX
Около самого мыса Успения есть небольшое мелководное озеро с топкими и болотистыми берегами, отделенное от моря только узкой намывной косой, состоящей из песка и гальки. Орочи называют его Аку. Оно не более версты в окружности. Две маленькие горные речки впадают в дальнем углу его: одна из них течет с юго-запада, а другая с севера. Густые хвойные леса спускаются с гор в низины, тянутся по долинам и теснятся к самой воде так, что речек совершенно не видно, только у болот, что с левой стороны озера, ель и пихта уступают место тощей и корявой лиственице с засохшими вершинами, имеющими какой-то тоскливый и болезненный вид. Летом на Аку никого нет, осенью же и зимой сюда приезжают орочи. Здесь условия для жизни их благоприятные. В озере в глубоких ямах всю зиму держится кета и кунжа; охота на лосей, медведей и кабарожку, обилие морской птицы, убой морского зверя и добычливое соболевание издавна привлекают сюда инородцев даже с Тумнина. Когда мы приехали, здесь была уже одна их семья. Орочи тоже только что прибыли и жили еще временно в палатке. Мы пошли к ним в надежде найти у них мясо или купить рыбу. Как только мы стали подходить к стойбищу, привязанные на цепи ездовые и охотничьи собаки встретили нас так недружелюбно и таким неистовым лаем, что можно было подумать, что они никогда, должно быть, не видели никого другого, кроме своего хозяина. Из палатки поспешно выбежал человек. Это был старик лет 60, невысокого роста и с большой для ороча седой бородой. Одет он в типичный орочский халат (тэга) и унты из рыбьей кожи, на голове старика не было никакого покрывала. Халат его не был застегнут и он, запахнувши полы одна на другую, придерживал его на груди левой рукой. На красивом лице его была выражена тревога, но, узнав в чем дело, он прикрикнул на собак, лицо его улыбнулось, беспокойство исчезло, и он с любопытством начал нас рассматривать. Еще более пронзительный лай несся из палатки. Старик предложил пройти в его временное жилище. Мы вошли, вернее, вползли на руках и коленях под намокшие от дождя полотнища, сшитые из китайской дрели и натянутые на поставленные кое-как доски и палки. Посередине палатки горел огонь. Дым не успевал еыходить в отверстие, нарочно для этого оставленное вверху; клубился, ел глаза и потому сразу принудил нас опуститься на землю. В котле, подвешенном над костром на сучковатой палке, варилась жидкая рисовая кашица с икрой (любимое орочское блюдо). Штук шесть маленьких белых гладкошерстных комнатных собачонок выходили из себя, лаяли, задыхались, хрипели, бросались на людей и хватали зубами за полы одежды и за обувь. Орочки держали их на руках и старались успокоить ласками. Наконец, собаки угомонились, и явилась возможность разговаривать людям. Вся семья состояла из четырех человек: самого старика Игнатия (так звали нашего нового знакомого), его сына и двух женщин, из которых одна приходилась матерью, а другая женой молодого ороча, ушедшего на охоту. Старик оказался очень разговорчив. Из его слов выяснилось, что они были последними чистыми орочами, что далее к югу живут уже «кяка» и что первые кекари — это отпрыски орочей, близко к ним родственные, многочисленные, но мало известные — живут на реке Ботчи. Он охотно говорил нам о рыбной ловле, об охоте, рассказывал, как раньше они жили хорошо, что теперь стало жить труднее и что поэтому он хочет навсегда перекочевать на Аку и жить здесь постоянно. «Наша раньше Хади (Императорская Гавань) живи, — говорил Игнатий. — Твоя понимай: Хади? Теперь совсем не могу так живи: рыбы мало, соболя нету, бую (лось, сохатый) русские далеко гоняй; золото искай, лес тоже руби. Совсем наша люди ходили другое место. Какой люди Тумнин ходи, какой Уй ходи, какой Хоюль, какой Хунгари — моя сюда ходи. Теперь моя гоняй — куда наша ходу!». Старик задумался и покачал головою, грусть выразилась на его лице: детство, дом, могила отцов — все это брошено, оставлено там без призора на произвол судьбы, на расхищение!.. Разговор постепенно перешел на другую тему. На вопрос, зачем они завели себе таких собачонок, которые никакой пользы им принести не могут, женщины поспешно отвечали, что собак этих им подарили японцы и что они их очень любят, потому что они очень маленькие, больше не растут, что они боятся дождя, холоду и т. д. «Другой орочи такой собака нету» — (они делали ударение на последнем слоге); говоря это, орочки гладили собачонок, ласкали их и прикрывали полами своих халатов. «Такой собака живи, кушай, спи мало, мало. Такой собакаработай не надо». Напившись чаю, мы все вместе вышли из палатки на свежий воздух. Цепные собаки не могли выносить нашего присутствия; они ворчали, рвались с привязи, скалили зубы и, не обращая внимания на присутствие своего хозяина, продолжали лаять. Стрелки стали проситься на охоту. Игнатий начал отговаривать. Он предупреждал, чтобы они не ходили близко к озеру или по берегам речек, потому что там у него поставлено много лочков (самострелы) на медведей, которые приходят каждую ночь к воде лакомиться мертвой рыбой. Говорил ли он правду или ему просто не хотелось, чтобы русские распугивали дичь «в его собственных заповедниках», но только благоразумие требовало воздержаться и обуздать свои охотничьи страсти, а поэтому вместо охоты на зверя решили пойти по птице. На озере держалось много уток; они постоянно перелетали с места на место: то они улетали так далеко, что казалось более не вернутся, то вдруг неожиданно снова возвращались обратно, кружились в воздухе и с шумом опускались опять на воду. Это подзадоривало людей. Они взяли у орочей лодку и поехали на охоту. Но утки не допускали их близко, и едва лодка подходила на расстояние ружейного выстрела, они сперва отплывали, затем снимались все разом и, отлетев немного, снова садились около противоположного берега. Охотники выпускали один за другим заряды, и чем более они горячились, тем более «мазали» и тем менее шансов было на успех. Наконец, одна из уток была ранена. Она поднялась, полетела было к морю, но скоро опустилась в озере недалеко от берега. Бросив остальную стаю, стрелки поплыли за ней, но она постоянно ныряла и не подпускала близко лодку. Неизвестно, долго ли продолжалась бы эта стрельба и погоня за подранком, если бы на выручку не явился Игнатий. Заметив, куда плывет утка, он, схватив острогу, побежал по кустам к протоке. Как только утка ныряла, он подвигался вперед, как только она всплывала на поверхность воды, он приседал на одно колено, ждал и не шевелился. Раненая птица направлялась в протоку, намереваясь уйти в море. Тут и ждал ее Игнатий. Заметив врага, утка нырнула в последний раз и быстро с течением пошла под водой. Сверху с крутого берега, сквозь чистую прозрачную воду хорошо было видно, как утка, вытянув голову и шею и сложив крылья вдоль тела, управляя только одними ногами, торопилась перескочить опасное место. Она думала, что вода прикроет и спасет ее от человека. Вдруг ороч поднял руку, коротко взмахнул ею назад и с силой бросил острогу в воду. Булькнула острога, мелкие пузыри вспенились на поверхности. Острога всплыла и на острие ее беспомощно билась птица. Пришлось довольствоваться одной рыбой, благо в ней не было недостатка.XXXI
На другой день утром орочи не решились ехать. Старик Игнатий советовал обождать восхода солнца. Приметы были какие-то неопределенные, сбивчивые: облака как-то шли вразброд, одни шли к востоку, другие им навстречу, иные казались совсем неподвижны; по морю кое-где темнели полоски ветра, кружились вихри… Нечего делать, приходилось подчиняться и ждать погоды… Известно, что ничего нет хуже, когда приготовишься к отъезду, снимешь палатку, уберешь все, уложишь вещи и вдруг тебе объявляют, что надо подождать чего-то. Ждешь… Время тянется удивительно долго; чувствуешь себя выбитым из колеи, начинаешь высказывать свои предположения, делать расчеты, в десятый раз принимаешься расспрашивать вожатых о причине задержки. Поэтому можно себе представить, с какой радостью мы приняли объявление, что скоро можно будет ехать, что к вечеру море будет тихое и что придется плыть и ночью, потому что, кто знает, какая завтра погода. Наконец, мы тронулись. Было около четырех часов пополудни. Так как одна из наших лодок была очень стара и сильно текла, мы оставили ее Игнатию, а взамен ее взяли у него такую же другую лодку, но и она оказалась не лучше первой: рассохшаяся она цедила, как решето, — приходилось постоянно откачивать воду и законопачивать щели тряпкой. Море было сравнительно спокойно, только сильные и короткие порывы ветра сразу и неожиданно набегали то спереди, то сбоку и мешали грести. Издали кое-где показывались нерпы. Выставив на поверхность воды блестящие на солнце гладкие и мокрые свои головы, они с любопытством разглядывали лодки, иногда плыли сзади, ныряли и вновь появлялись уже совсем близко. — Раньше нерпа здесь много было, — говорил ороч Савушка. — Наша постоянно сюда ходи — стреляй. Теперь мало: один, два есть — много нету! — Отчего же теперь нерп мало? — спросил кто-то из стрелков. — Не знаю… Так! — отвечал он равнодушно. — Я думаю постоянно люди ходи, люди постоянно стреляй, гоняй, постоянно пугай. — Его не хочу тут живи. Сюркум (Мыс Сюркум на пути к заливу Де-Кастри) нерпа много. Твоя понимай. Сюркум? — он указал рукою на север. — Наша орочи туда каждый год ходи. Много убей; один лодка сто, больше, таскай! Он весь оживился, глаза его заискрились — врожденная охотничья страсть в нем заговорила. Вдруг одна из нерп вынырнула так близко от лодки, что люди едва не задели ее веслом по голове. Сильно испугалась она и снова проворно нырнула в воду. Стрелок схватил ружье и выстрелил в то место, где только что была голова животного, — пуля булькнула и всплеснула воду… А нерпа снова всплыла и появилась уже дальше от лодки: с недоумением глядела она своими большими черными глазами и, казалось, не понимала, в чем дело. Снова выстрел и снова промах… На этот раз нерпа исчезла совсем: она поняла опасность, которая ей угрожала. Стрельба по нерпе — очень тонкая стрельба. С берега стрелять несравненно легче; с лодки попасть в голову ее очень трудно, трудно потому, что и цель, и стрелок постоянно качаются, и много выпустит зарядов опытный стрелок прежде чем удастся ему убить или ранить животное. Кстати, несколько слов о нерпе. Встречающиеся у берегов Уссурийского края нерпы, по-орочски «хоота» (буквы «о» произносятся глухо с оттенком буквы «ы»), относятся к семейству так называемых «ушастых тюленей». Взрослое животное чаще всего весит пуда два-три, не более, но некоторые экземпляры достигают и пяти-шести пудов. Орочи говорят, что сильный человек один такое животное поднять не может. Измерения, сделанные с двух убитых нерп обыкновенного среднего размера, дали следующие цифры:| № п/п | Длина тела | Наибольшая окружность | Окружность тела | Окружность головы | Длина головы | Длина хвоста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 4ф. 9 Д. 4 ф. 1 Д. | 3 ф. 4 д. 2 ф. 8 д. | 2 ф. 1 д. 1 ф. 11 д. | 1ф. 9д. 1ф. 5д. | Ид. 9 д. | 6д. 5д. |
Дополнительные сведения, касающиеся главным образом конечностей, таковы: длина переднего ласта 8,5 дюйма, длина заднего 1 фут 2,5 дюйма; ширина переднего ласта, когда он развернут, 6,5 дюйма; ширина заднего 1 фут 2 дюйма. Затем длина шеи 2,5 дюйма; окружность тела у хвоста 1 фут 4 дюйма; окружность под передними ластами 2 фута 6,5 дюйма и, наконец, окружность головы на конце морды 8 дюймов. В настоящее время в Южноуссурийском крае нерп действительно стало очень мало. Главная причина исчезновения этого животного — массовое его избиение без разбора возраста и пола до и после спаривания (см. ниже). Теперь эти ластоногие держатся по побережью Татарского пролива, севернее Императорской Гавани. Тонкие кишки нерп очень длинны. У первой нерпы они были 28 м 75 см, у другой 20 м 10 см. Орочи рассказывают, что у большой нерпы кишки бывают длиной более 30 сажен. Вероятно, цифра эта преувеличенная. Тело молодых (новорожденных) нерп покрыто шерстью белого цвета. Шерсть эта, длиной в 3/4 дюйма, густая, мягкая, похожая на пух. Если ее выщипать, внизу становится видной блестящая пятнистая шкура животного, покрытая гладкой, но грубой и жесткой шерстью. Приблизительно через месяц белая пушистая шерсть вылезает; к этому времени под кожей нерпы образуется достаточно толстый слой жира, предохраняющий тело от холода. В погоне за рыбой нерпы входят и в устья рек. Особенно часто их можно видеть в реках в то время, когда лососевые рыбы идут в пресные воды метать икру. Если в море буря, нерпы стараются укрыться в бухтах, защищенных от ветра и волнения, в противном случае они погружаются на дно, изредка всплывают на поверхность, высоко подымаются из воды, задрав кверху свою морду, стараются побольше набрать в себя воздуху, побольше надышаться. Если нерпа будет убита в морской соленой воде, она будет плавать на поверхности, если же ее убить в опресненной воде (лагуны или близ устьев больших рек), она тонет. Вполне понятно: тело нерпы приспособлено к жизни в такой плотной среде, какой является соленая морская вода; поэтому вес ее тела к весу такого же объема воды будет в таком состоянии, что животное находится, так сказать, постоянно во взвешенном положении. Изменение веса тела нерпы в ту или другую сторону было бы крайне невыгодно для животного, потому что оно не могло бы с такою легкостью плавать, подыматься на поверхность и опускаться опять в глубину, как это мы видим теперь. Когда животное будет убито, в его легких всегда остается немного воздуха, и потому оно плавает; в пресной же, менее плотной воде равновесие сильно нарушается и нерпа тонет. Орочи знают это и потому, если им приходится охотиться в устье реки, то они стараются бить зверя тогда, когда он будет на мелком месте, поближе к берегу, — в таком случае убитое животное подымают со дна острогой, нарочно для этого с собой взятой. Охота за нерпами начинается с марта месяца. В это время нерпы выходят из воды «гоняться»; они взбираются на лед и греются на солнце. Такая охота бывает очень добычливой. Еще издали, заметив животных на белом снегу, орочи скрадывают их, обходят, прикрываясь неровностями льда, и в этом случае бьют наверняка. Рев нерпы очень неприятен — он похож на сильное звучное хрипение. Орочи с удивительным искусством подражают ему, заставляя этим животное дольше держаться на воде, пока товарищ целится из ружья, а иногда даже удается приманить ее и поближе. Лучшие места охоты: Бохи («х» с оттенком «г»), Хоие, Удзунгари и бухта Старика. Туда ежегодно весной отправляются орочи на своих лодках и бьют нерп в большом количестве. Если охота была удачной, одна лодка привезет до 100–150 голов зверя и более. Мясо нерп совершенно черного цвета с фиолетовым оттенком. Инородцы употребляют его в пищу только тогда, когда нет другого; обыкновенно же они берут от убитого животного только жир и шкуру, а мясо бросают. Разрезая нерпу вдоль по брюху, они снимают с нее кожу вместе с жиром, стараясь вынуть только тушу. Уже дома орочские женщины очищают кожу, снимают жир кусками и топят его в котле. Когда он немного остынет, его сливают (Нерпичий топленый жир не стынет даже и во время больших морозов.) в нерпичий желудок, взятый от того же убитого животного и завязанный с одного конца. Шкварки пожираются людьми. Именно «пожираются!» Глядя с какой жадностью они на них набрасываются, другой термин, право, подыскать трудно. Орочи чрезвычайно суеверный народ. Вся жизнь их наполнена разными приметами, условностями и описаниями. Этим они себе отравляют жизнь. Так, например, когда ороч снимает шкуру с нерпы, нос обходят, оставляя его на туше (то же самое некоторые делают и с соболем); тронуть нос животного — худая примета; охотник, позволивший себе это, мало того, что сам лишается в будущем добычи, но он принесет непоправимое зло и своим товарищам — односельчанам. Нерпы совсем уйдут из этих мест навсегда и ни за что не будут жить там, где они нашли убитое животное с отрезанным носом. Жир идет в пищу, а кожа на продажу от двух до трех рублей за штуку. Кожи скупают больше китайцы и русские, японцы их не берут. Орочи употребляют кожу на торбаза, унты (обувь) на чехлы к ружьям и на шаманскую короткую юбку — единственный костюм, надеваемый ими поверх обыкновенной одежды в таких случаях.
XXXII
Было далеко за полдень… Несмотря на это, наши проводники орочи объявили, что нужно укладывать лодки и собираться в дорогу. Или они торопились возвратиться поскорее обратно на реку Копи, или у них были другие свои какие-нибудь соображения и расчеты (кто их знает), но, во всяком случае, они настаивали на том, чтобы не задерживаться и ночью. Через четверть часа лодки наши были уже в дороге… Погода стояла удивительно тихая. Море дремало… Дальние мысы, затянутые слабой синевато-белой мглой казалось отделились от земли и повисли в воздухе; казалось, будто небо узкой полосой вклинилось в берег и отделило его от моря. Часа через три пути решено было сделать небольшой привал в одной из маленьких бухточек, которыми изобилует эта часть побережья. Наши собаки, как только заметили, что лодки подходят к берегу, стали выказывать беспокойство: они подымались на скамейки, вставали на борты лодок и визгом, и лаем выражали свое нетерпение. Наконец, они не выдержали, спрыгнули в воду, поплыли к берегу и, выбравшись на отмель, стали носиться по песку, как сумасшедшие. Людям тоже надоело сидеть в лодке. Все с удовольствием вышли на берег, чтобы размять онемевшие от долгого сиденья члены. Кто начал играть с собаками, кто стал бросать вдоль по воде плоские камни и любоваться всплесками, которые оставляла позади себя ловко пущенная галька; некоторые просто растянулись на песке и беспечно поглядывали в бесконечную даль моря и беспредельно глубокое небо… «Садись!»-раздается команда; люди поднимаются, окликают собак и идут к лодкам… Было уже под вечер. Солнце быстро склонялось к горизонту… На воду от гор легли длинные тени. Сразу стало прохладнее… Морские птицы все вообще рано садятся на ночь. Первыми успокаиваются топорки, чистики и каменушки. Как-то вдруг их не стало видно. Они забились в трещины камней и завтра рано на заре проснутся первыми. После нырков перестают летать бакланы. Они садятся на окруженные водой камни и на карнизы мысов, на такие места, куда не могли бы проникать хищники вроде соболя, хорька или лисицы. Этих птиц очень много. Кажется, будто камни кто-нибудь нарочно уставил кеглями или длинногорлыми кувшинами. Тут же среди бакланов можно видеть и чаек. Своей снежной белизной они резко выделяются из среды черных птиц. Бакланы их не трогают и как будто совершенно не замечают их присутствия. Одни только стрижи все еще с криками носились около берега, и чем ниже опускалось солнце, тем выше они поднимались в воздух. Для них еще не скоро настанет ночь, они еще не скоро успокоятся. Был один из тех чудесных вечеров, которые в это время гак редко бывают в прибрежном районе. Внизу, на земле было уже темно, а вверху небо все еще не скрылось за горизонтом; робко, нерешительно, одна за другой стали показываться звезды. Часов в восемь вечера сделали привал снова-лодки вошли в маленькую бухточку и пристали к берегу. В таких случаях людям не надо говорить, что делать: они сами знают, что нужно разложить костер и варить чай возможно скорее. Через минуту вспыхнуло веселое пламя и сразу осветило все то, что было от него поблизости: лица людей, собак, прибрежные утесы, нос лодки, вытащенной немного на берег, и конец бревна, бог знает откуда сюда занесенного водой. Кругом стало как будто вдвое темнее… Все хотят пить и потому смотрят на чайник. Более нетерпеливые, стоя на коленях и прикрыв рукой лицо от жары, подкладывают сучки и мелкий хворост и ртом стараются раздуть уголья сильнее. — Кипит! — торжественно заявляет один из жаждущих. — Где сахар? Кто укладывал? — волнуется артельщик. — Тащи хлеб, — кричит другой кому-то в темноте, кто роется в лодке, не может что-то найти и потому бранится. Наконец, все уладилось. Люди пьют чай. Настроение сразу изменяется к лучшему. Едва чаепитие было кончено, как приказано было тотчас же снова укладывать все на свое место. Нижние чины, ослепленные резким переходом от света к тьме, идут, вытянув вперед руки, и ощупывают ногами землю, чтобы не оступиться и не попасть в воду. Лодки стали отходить от берега. Некоторое время слышны разговоры и шум разбираемых весел, и затем все опять погрузились в величайшую тишину ночи. На месте прежнего костра остались одни только красные уголья. Откуда-то налетел короткий порыв ветра, снова раздул пламя, подхватил искры и понес их наискось к морю. Скоро лодки завернули за угол мыса, и огня не стало видно… Мы шли вдоль берега, не желая очень к нему приближаться из риска разбить лодки о камни и опасаясь далеко уходить в море, чтобы не заблудиться. Морской берег ночью! Какая мрачная таинственная картина! Краски исчезли. Темные силуэты скал слабо проектируются на сравнительно светлом фоне неба. И утесы, и горы, и море, и берег — все это приняло одну общую не то черную, не то серую окраску. Прибрежные камни кажутся живыми, и кажется, будто они шевелятся и тихонько передвигаются с одного места на другое. Море тоже кажется темной бездной, пропастью. Горизонта нет — он исчез: в нескольких шагах от лодки вода незаметно сливается с небом. Какая знакомая картина!.. Где-то раньше удавалось все это видеть? Невольно вспоминаются Густав Дорэ, «Божественная комедия» Данте Алигиери и «Потерянный рай» Мильтона. Звезды разом отражаются в воде, мигают, колеблются, как будто тонут, уходят вглубь и как будто снова всплывают на поверхность. По небу мелькнула падающая звезда, оставив позади себя длинную полосу яркого света. Несмотря на то что небо было совершенно безоблачным, в воздухе вспыхивали едва уловимые глазом зарницы. При такой обстановке все кажется таинственным. Наш проводник ороч, как мраморное изваяние, неподвижно стоял на руле и, «вперив глаза во тьму ночи», казалось, совсем не замечал того, что вокруг него происходило. Неужели чувство эстетики, способность наслаждаться природой свойственны только культурному человеку?! Неужели у этих людей нет чувства и фантазии!… Бесстрастное лицо рулевого, вся фигура ороча, лодка, сидящие на ней люди — все это удивительно гармонировало с окружающей обстановкой, с мрачными береговыми скалами и с темной водой моря… Как все это опять знакомо?! Невольно вспоминается подземная река Стикс, Харон и души умерших… В стороне вспыхнул огонек. Это вторая лодка. Кто-то там закуривает трубку. Зажженная спичка осветила на мгновение лицо и руки курящего. Огонь пропал, и лодка снова утонула во мраке. В такие тихие теплые ночи всегда можно наблюдать свечение моря. По мере того, как становилось темнее, вода фосфоресцировала все больше и больше. Как клубы светящегося пара, бежала вода от весел; позади лодки тоже оставалась светлая полоса. Она замирала, вспыхивала и точно вспыхивало разом все море. В тех местах, где вода приходила в быстрое вращательное движение и образовывались маленькие водовороты, фосфоресценция была особенно интенсивной. Точно светящиеся насекомые, яркие синие искры кружились с непонятной быстротой, гасли и замирали, как будто тонули в море и исчезали бесследно, и вдруг снова появлялись около лодки, где-нибудь в стороне и снова разгорались еще с большей силой. Все очарованы этой картиной — у каждого свои думы, свои мысли, свои воспоминания… «Отчего это светится вода», — спрашивает один из стрелков, но видя, что никто ему не отвечает, он молчит и усиленно налегает на весла. Начала всходить луна. Из-за туч, столпившихся на горизонте, появился сперва красноватый свет, точно зарево от пожара. Наконец, выглянула и сама она, по мере того как подымалась она все выше и выше, светлее и яснее становился ее задумчивый лик, светлее и веселее становилось в природе… А лодка все еще шла около берега…XXXIII
Река Бутчи была недалеко. Там, где она впадает в море, береговая линия немного вдалась в сушу и, если бы не мыс Крестовоздвиженский, бухты не было бы. Это углубление берега носит название бухты Гроссевича. Так это вот та самая бухта, в которой в 1872 г. военный топограф Гроссевич едва не погиб от голода!.. Мы сидели на камнях и смотрели в море. Наше внимание было привлечено двумя предметами: это были две черные точки. Одна из них — дальняя, была на воде, другая — ближняя — на берегу; первая казалась неподвижной, вторая передвигалась в нашу сторону. Через несколько минут стало ясно, что это человек, идущий к нам по берегу. Пока мы варили чай, человек этот подошел настолько близко, что в нем без труда можно было узнать китайца, одетого по-дорожному. В руках у него были палка и топор. Он объяснил, что он единственный из китайцев, который проник в эти места, что в краю он живет давно, уже более 30 лет, что он все время занимается скупкой пушнины у инородцев, что он подолгу живет среди орочей, знаком с их языком, снабжает их продовольствием, которое завозит сюда на лодке, а подсчет с ними производит зимой по окончании соболевания. Поговорив немного с переводчиком, китаец встал, взял топор и собрался было итти. — Куда ты? — спросил его мой переводчик. — Осмотреть ловушки, — отвечал китаец нехотя. — Разве ты и сам занимаешься звероловством? — спросил я. — Да, занимаюсь, — сказал он, — у меня есть билет. Он полез за пазуху и достал оттуда кожаный самодельный бумажник. Открыв его, он вытянул документ, сложенный в несколько раз и завернутый в бумагу, не торопясь, осторожно развернул он его и подал мне. Это было промысловое свидетельство, выданное владивостокской городской управой на право скупки пушнины и пантов в пределах Приморской области. Странно! Какое отношение имеет городская управа ко всей Приморской области вообще и к бухте Гроссевича в частности!? — Приехал я сюда, — продолжал рассказывать китаец,- рано; делать нечего; орочи пошли на охоту, а назад возвратятся они только зимой, к Новому году; вот я и сделал себе ловушки тут недалеко. Чего напрасно терять времени?… — А много у тебя ловушек? — спросил опять я китайца. — Нет, немного — ответил он. — Восемьсот будет, а может немного и больше. Сказав это, китаец поднял свою палку и быстро пошел по направлению к лесу. Видно было, что расспросы эти были ему не по душе. Вслед за китайцем и мы тронулись в дорогу. Другая черная точка та, что была на воде, все время находилась на одном и том же месте. По мере приближения к ней она увеличилась в размере и становилась яснее. Казалось, что она как будто немного подвигалась вперед, кружилась и вновь возвращалась обратно. Через час можно было уже ясно различить оморочку и в ней одного человека. Наконец, мы поровнялись с ней. Это был ороч. Он сидел в лодке на дне ее по-турецки и длинной острогой ощупывал дно моря. — Что ты здесь делаешь? — окликнули мы его. — Нерпу ищу, — отвечал ороч. — Моя стреляй попади — его утонула… — Может быть, она только ранена, жива и ушла в море, — сказал кто-то из сидящих в нашей лодке. — Нет, моя хорошо понимай, его пропади есть, — говоря это, указал на большое кровавое пятно, расстилавшееся по поверхности воды позади его лодки. Мы предложили ему ехать с нами. Ороч тотчас же согласился. У него было одно весло с двумя лопастями с обеих сторон. Держа его перед собой двумя руками, он работал им то правой, то левой рукой по очереди. С поразительной ловкостью он управлялся с лодкой. Легкая, как перышко, она быстро скользила по воде. Надо было видеть, как искусно он увертывался от волн, взбирался на них, нырял между ними, останавливался, дожидал нас, опять, словно птица, летел вперед. Он ехал, говорил с нами, а сам все время следил за волной, чтобы она не опрокинула бы его и не накрыла случайно. Наконец, мы подошли к реке. Белая пена отмечала линию бара, отмечала то место, где быстро бегущая пресная вода смешивалась с морскими волнами. Ороч не пошел в устье, а направился прямо к берегу. Не доходя нескольких саженей до прибоя, он остановился и стал глядеть назад. Наконец, уловив момент затишья, он быстро двинулся вперед и в мгновение ока лодка его вместе с пеной была выброшена на гальку, и в тот момент, когда отливное течение волны готово было утащить лодку назад в море, он выскочил из оморочки, схватил ее за носовую часть, как перышко, поднял ее на плечо, снес в траву и положил на катки дном кверху. Все это было проделано с удивительной быстротой и ловкостью. Неопытный пловец непременно поломал бы оморочку, разбил бы себе колени о камни и вымок бы до последней нитки. Мы подошли к устью, не без труда преодолели буруны — правда, черпнули воды, но все же вошли в реку.XXXIV
Ботчи была первая наша база, первый пункт к югу, где сложены были наши запасы продовольствия. Надо было отпустить капинских орочей и нанять другие лодки, поэтому здесь была назначена дневка. Реку Ботчи орочи называют «Ыкки». Слово «ботчи» есть искаженное название одного из орочских родов «боса» («с» следует произнести с оттенком «ц»). По их рассказам, при устье «Ыкки» давно жили орочи рода «боса». Один раз они поехали в море на охоту за нерпами. В море их застигла буря и они заблудились. Ехали до ночи и в темноте наткнулись на плавучий лед. Тогда они высадились на него и стали ждать, когда стихнет непогода. Ветром их унесло на остров Сахалин, где они живут и по сие время. Предание говорит дальше: случилось так, что с Сахалина в свою очередь бурей тоже занесло в Уссурийский край двух чужих людей из племени «куйни», похожих на орочей, но говорящих на другом языке (Вероятно — ороки). От них-то они и узнали, что орочи «боса» там за морем живут на чужой земле хорошо и ни в чем не нуждаются. Эти «куйни» (окончание «ни» означает — «человек») не захотели остаться на новом месте и потому, придерживаясь берегов, кружно поехали на Сахалин обратно. Как только доехали они до дому, так сразу заболели и умерли. Тогда все люди поняли, что это бог менял людей. «Боса» послушались бога и стали жить хорошо, а два «куйни» не захотели жить там, где им было указано, и потому были наказаны смертью. Раньше при устье реки Ботчи японцы постоянно хищничали, ловили рыбу, рубили лес и отправляли его в Японию. Но в один прекрасный день они были пойманы шхуной «Сторож»; часть японцев бежала в горы, а остальные были арестованы, шхуна их и рыболовные снасти были конфискованы, а лес и все постройки сожжены. Следы этого пожарища видны там и по сие время. К югу от Императорской Гавани риасовый тип берега создал при устьях всех рек лагунные образования. Эти лагуны можно видеть во всех стадиях развития. На Ботчи, например, такая лагуна заполнилась наносами реки, дренажировалась ее притоками и обсохла. Процесс закончен. Река текла вдоль береговой плотины и имела выход в море у левого края долины, пока сильное наводнение не прорвало этот вал около мыса Крестовоздвиженского. В прежнем устье течение ослабело и море тотчас заметало его песком. Эта часть реки превратилась в слепой рукав, отчего береговой вал стал выступать еще яснее. Быть может, река несколько раз уже меняла место своего выхода в море, вероятно и впредь она будет еще блуждать то к правому, то к левому краю долины. Горы, окаймляющие долину реки Ботчи, покрыты густым хвойным лесом. Около моря он корявый, замшистый. Внизу по болотистым местам-длинные тощие лиственицы и березняки, около речки растут в изобилии ольшаники в виде отдельных деревьев и густая кустарниковая поросль. На картах сорокаверстного масштаба река Ботчи показана большой рекой, берущей начало с водораздельного хребта Сихотэ-Алинь. Это неверно, она не так велика. Бассейн ее охватывается со всех сторон притоками рек Самарги и Копи. Поэтому с Ботчи перевалить непосредственно к Уссури и Амуру никак нельзя. Река Ботчи имеет следующие притоки: Большая Иоаса, Малая Иоаса, Кукчи и Дулингья. Длина всей реки 68 верст; ширина в нижнем течении 15 сажен и средняя глубина 6 футов; течение быстрое- 10 верст в час; вода чистая, холодная; дно каменистое. Вверх по воде в лодке на шестах можно подыматься шесть дней, считая по 10 верст в сутки. Далее до водораздела итти пешком с котомкой еще один день. На спуск по воде к морю потребуется только одни сутки. В средней части ее течения, в трех днях пути от моря, есть теплый источник химического происхождения. Температура воды +28 °C. Вода насыщена сероводородом, отчего на вкус она противная, вонючая. Горный инженер Петров полагает, что источник этот вулканического происхождения, и столь незначительную температуру его он объясняет тем, что источник этот находится в состоянии медленного остывания вследствие общего угасания в стране тектонических процессов. С реки Ботчи на Самарги и на Копи не всегда можно попасть, то есть не всегда есть дорога. Летом нет никакой дороги. Зимой же, если снег выпадает небольшой, орочи идут с нартами на собаках. Обычными путями их будут: один путь — на Копи. Сперва надо итти по реке Ботчи до притока ее Мук-па, затем по этой реке через перевал реки Тепты и уже по этой последней спускаться на реку Копи. Берегом моря никто не ходит, потому что около устья Копи зимой никто не живет. Все люди уходят вверх на охоту. Кроме того, местность здесь чрезвычайно пересеченная: все время приходится то подыматься в гору, то спускаться вниз, что сильно утомляет собак и человека. Другой путь — на реку Самарги. Сперва надо итти по правому верхнему притоку Ботчи по реке Дулинга через водораздел на реку Исими и по ней спускаться до орочского стойбища того же имени. На тот и другой путь нужно времени от трех до четырех дней, в зависимости от сил собак и от состояния дороги. Лет десять тому назад на Ботчи жило еще много орочей, в 1909 г. там мы застали уже только шесть юрт с населением в 46 человек (15 мужчин, 11 женщин, 8 мальчиков и 12 девочек). В 1909 г. туда переселились староверы с реки Кузнецовой. Один из них, Долганов, привез с собой человек 12 корейцев и пустил их соболевать в горы. Орочи разбежались: кто — на Копи, кто — на Нельму, Самарги и даже на хребет Си-хотэ-Алинь в верховья Хора. В настоящее время на Ботчи нет ни одного инородца. По слухам, и сами староверы не намерены там засиживаться и хотят подыскивать себе уже другое место. Вышло так, что как будто староверы нарочно пришли на Ботчи лишь для того, чтобы разогнать людей, живших там испокон веку. Можно ожидать, что в недалеком будущем река Ботчи будет такой же пустынной, как и река Холонку, Сунерл, Свайн и др. Несколько в стороне от нашего бивака, на самом берегу протоки, стояла небольшая, палатка. Здесь жил наш новый знакомый ороч Вандага. Обыкновенно в течение всего лета орочи живут около моря, при устьях рек в юртах, сделанных из корья. Здесь они ловят рыбу и заготовляют запасы юколы на год. С наступлением же осени они оставляют морские берега и уходят в горы для охоты и соболеванья. Вандага задержался здесь случайно — ради нас. У него хранилось наше имущество и запасы продовольствия, он знал, что осенью мы должны приехать на Ботчи и потому решил нас дождаться. Мы пошли к его палатке. Навстречу нам вышел сам хозяин и двое его сыновей, лет по 20 каждому. Вслед за ними из палатки появилась жена его и трое маленьких ребятишек. Они тотчас же нас окружили. На вид Вандаге было лет сорок. Он был среднего роста. Немного скуластое лицо его было слегка желтовато-оливкового цвета, темнокарие глаза с небольшой монгольской складкой век смотрели умно и выразительно, нижняя часть его лица была покрыта густой черной бородой, что вообще довольно редко встречается даже и у орочей Императорской Гавани. Волосы его были зачесаны в две косы, плотно закрученные красными шнурами. Косы лежали спереди на плечах, по обе стороны головы, а чтобы они не лезли в лицо и не мешали, сзади на шее ниже затылка они были связаны бисерной перемычкой, украшены мелкими раковинами и блестящими бусами. Присматриваясь к нему поближе, мы заметили, что одежда его жены и старших сыновей состояла из смеси черных японских костюмов с нашитыми орочскими халатами (тэга). В палатке тоже всюду виднелись вещи японского производства. Это было отрадно! Из расспросов скоро выяснилось, что не только сам Ван-дага, но и отец его и дед всегда жили на Ботчи, что он не ороч, а Удэ (he произносится чуть слышно), то есть что он принадлежит к тому когда-то многочисленному народу, который орочи Императорской Гавани называют Кяка, Кекари и что сами себя они называют «Удэ ени намука», то есть народ «Удэ приморский» и что еще три семьи их народа живут на реке Копи, в среднем ее течении. На побережье моря река Ботчи и отчасти река Копи будут, следовательно, северной границей обитания этой интересной, «о мало известной народности.XXXV
Из разговоров с орочем Вандага мы узнали много интересного. Оказалось, что он имеет японскую медаль и документ на право ношения ее. Дело в том, что однажды в 1906 г. Вандага спас двух японцев. Охотясь в море за нерпами, он увидел, как одна какая-то японская лодка перевернулась. Ороч был в оморочке. Подъехав к утопающим, он помог японцам добраться до берега. Результатом этого было то, что весной на следующий год японцы привезли Вандаге медаль, грамоту и подарки. Это так на него повлияло, что он тотчас же стал учиться говорить по-японски и принудил детей своих тоже изучать японский язык на соседней рыбалке. Осенью 1907 г. Вандага владел японским языком отлично, носил японскую одежду, два раза ездил в Японию и тем окончательно закрепил с японцами дружбу. Совсем другое видят орочи со стороны русских (властей). Вот один характерный случай. При устье реки Копи живет старик ороч Иван Михайлович Бизанка (Ванька-кузнец — в молодости). Этот старик имеет огромное влияние на своих сородичей. За свою прямоту характера и честность орочи выбрали его пожизненным судьей (чжанге): ни одно судное дело не разбирается, без его участия. Все окрестные жители прислушиваются к его голосу и исполняют все, что им прикажет. Этот самый Бизанка от юных дней своих до старости был горячим сторонником русских. Он первый научился говорить по-русски, первый построил себе русский дом, первый крестился и принял русское имя. Полезная деятельность этого человека особенно ярко проявилась во время несчастья, постигшего пароход Добровольного флота «Владивосток», разбившийся 16 лет назад около мыса Св. Николая. Чтобы облегчить пароход, в надежде снять его с камней, командир судна приказал выбрасывать в море уголь, весь груз и даже продовольствие. Но это не спасло судна. На другой день налетел тайфун, и пароход разбило вдребезги. Все пассажиры, в том числе и женщины и дети, были высажены на совершенно пустынный берег. Уже на следующие сутки начал ощущаться недостаток в продовольствии; как раз в это время возвращался с охоты Иван Михайлович Бизанка. С двумя товарищами он ехал на лодке около берега. Орочи везли с собой мясо сохатого. Подъехав к берегу и узнав в чем дело, Иван Михайлович тотчас же отдал пассажирам все, что имел с собою, затем отправился в Императорскую Гавань; здесь, по его распоряжению, все окрестные орочи съехались к месту крушения и привезли для пассажиров мясо, рыбу и сало. Затем он снарядил лодку и отправил ее в Де-Кастри. Это был в то время ближайший пункт, где находилась телеграфная станция. Орочи ехали днем, ехали ночью, отдыхали урывками, ели и спали в лодке, торопились дать знать о происшедшем несчастье; наконец, они достигли мыса Клостер Камп. Если бы не Иван Михайлович Бизанка никто бы из орочей не тронулся с места, и среди пассажиров, высадившихся на берег, началась бы страшная голодовка. В 1910 г. я видел этого ороча и говорил с ним. Не получая поощрения, он начал уставать и стал просить, чтобы его освободили от звания старшины. «Не хочу больше, — говорил он мне. — Моя много работал — спасибо нету. Моя напрасно сорок года работал!» По возвращении в Хабаровск, мною было об этом доложено бывшему в то время приамурскому генерал-губернатору сенатору Унтербергу. Бизаика тотчас же был награжден золотой медалью на шею. Можно было бы еще привести несколько таких примеров, но, к сожалению, место и время не позволяют мне этого сделать, и я думаю, что и эти два случая ярко иллюстрируют отношение русских и японцев к нашим инородцам. На другой день мы решили плыть дальше. Полдня прошло за починкой лодок. Они текли, и потому следовало их хорошенько осмотреть и проконопатить. Около часу дня было уже все в порядке. Копинских орочей мы отпустили, и теперь с нами пошел Вандага и еще один ороч-удэхе с реки Нимми. Сначала наши проводники не соглашались было итти, они о чем-то совещались между собою и часто поглядывали в море, потом вдруг оба сорвались с места, побежали к лодкам, столкнули их в воду и стали торопить нас садиться. Такой быстрый переход от апатии к делу нисколько нас не удивил… Это так в характере орочей! Они экспансивны: переход от мысли к делу — моментален… Мы поехали… Обогнув мыс Крестовоздвиженский, мы направились к югу. Здесь береговая линия развита слабо — мысов много, но они мало выдаются в море, а потому бухты и заливы совершенно отсутствуют. Когда едешь на лодке вдоль берега, то кажется, что мысы эти выступают кулисами, кажется, что обогнешь сейчас первый мыс и войдешь в бухточку, но вот доходишь до мыса и — печальное разочарование. Бухты нет — это просто слабо изогнутая линия берега. Дальше такой же мыс, опять кулисы, за вторым мысом виден во мгле третий, четвертый и т. д, В общем здесь весь берег высокий, скалистый. Намывная полоса завалена глыбами, свалившимися сверху. Глыбы эти так велики, что в щели между ними свободно может проходить человек и лошадь. Такое разрушение берегов происходит главным образом от действия пресной воды. Ручьи стекают сверху в виде маленьких водопадов. Вода тонкими струйками падает вниз с высоты 60–80 метров, но, не достигая подошвы, превращается в мелкий дождь, развеваемый ветром в ту и другую сторону. Дальше, верст на пять южнее бухты Гроссевича, выступает мыс Базальтовый. Он действительно слагается из базальтов с характерным для них столбчатым распадением. С левой стороны столбы стоят прямо, вертикально, но с правой они все однообразно изогнуты внутрь. Интересно, что во всем Уссурийском крае, кажется, нигде не наблюдается вторичного распадения столбчатости базальтов в горизонтальном направлении на шестигранные призмы. Обыкновенно столбы разрушаются полиэдрически. Так было и в данном случае: прекрасные образцы столбчатости в обнажении, и ничего, кроме неправильных глыбных обломков, внизу, около воды. Часа через два лодки наши дошли до реки Ампи и вслед за сим — доехали и до мыса Бакланьего. Судя по названию мыса, здесь должно было быть много птиц. И действительно, весь мыс был покрыт ими. От помета вся скала была белой, как будто бы ее нарочно побелили известью, Грузные черно-серые гагары и длинношеие с черно-синим металлическим отливом большие и малые бакланы сидели по карнизам, по выступам, в трещинах между камнями и всюду, где только можно было поставить ноги. Птицы были настороже: подавшись вперед всем корпусом, вытянув шеи, слегка согнув ноги и распустив немного крылья, они готовы были слететь при малейшем намеке на опасность. Мы поровнялись, птицы сидели все в том же положении, лодки прошли мимо, и вдруг все птицы рванулись вниз и полетели в море.XXXVI
Миновали мыс Бигней. Это нейтральный низменный берег, образовавшийся из наносов реки того же имени. Площадь мыса величиной около трех квадратных верст покрыта редколесьем корявого дуба и низкорослой березы. Дальше версты на четыре будет река Гинугу. На русских картах она названа Быстрой. Гинугу длиной в восемь верст, орочи подымаются по ней на своих долбленых лодках версты на три. Река рыбная — идет только одна горбуша, но зато в большом количестве. Вследствие этого река Гинугу является излюбленным охотничьим местом орочей с реки Ботчи. Заготовив здесь себе запасы юколы на год, они складывают ее в амбары и оставляют здесь в тайге до зимы. С наступлением холодов орочи перекочевывают к Гинугу, расходятся по окрестностям и занимаются охотой и соболеваньем. После полудня погода стала заметно портиться, небо приняло серый оттенок; начали налетать маленькие шквалы; в море появились беляки… На половине пути между реками Гинугу и Луговой есть одиноко стоящая гора в виде сахарной головы. С правой стороны ее, если стоять лицом к берегу, небольшой, но красивый водопад, а слева широкая полоса прибоя, заваленная огромными глыбами, скатившимися сверху. Эти глыбы настолько велики, что человек перед ними кажется пигмеем. В щелях между глыбами можно ходить как в коридорах — это целый лабиринт пещер, которые посещать небезопасно. Достаточно малейшего сотрясения, чтобы глыбы, чуть-чуть державшиеся друг за друга, сдвинулись бы со своего места и обвалились, бы вторично. Несколько глыб скатилось в море и образовало вроде маленькой бухточки, защищенной от волнения. Непогода принудила нас высадиться на берег как раз в этом месте. Легкие лодки были вытащены из воды и на руках подальше оттянуты от морского прибоя. К полудню погода заметно ухудшилась: барометр быстро падал. Тучи спустились ниже — горизонт исчез. Нельзя было рассмотреть, где кончается вода и где начинается небо. Часа в два дня буря разразилась с полной силой. Вода в море приняла грязно-желтую окраску; она пенилась, как в котле; волны неистово бились о берег и вздымали водяную пыль. Вдруг завеса туч разом разорвалась. На мгновение показался неясный диск солнца. Вслед затем сильным порывом ветра сорвало нашу палатку. В этот момент с юга вдоль берега быстро двигалась какая-то мгла — не то дым, не то пар, не то мелкий песок с пылью. Через несколько секунд налетел сильный вихрь. Трудно было рассмотреть, что делается вокруг. Крупный песок нестерпимо хлестал по лицу. Закрыв голову чем попало, люди бежали спрятаться за скалы. Подхваченные с камней слоевища морской капусты, мелкие ветки, сухая трава, листья и морская пена — все это кружилось в воздухе и неслось куда-то с сумасшедшей быстротой. Одинокая молодая чайка тщетно пыталась сохранить равновесие и удержаться в воздухе. Она приняла было в сторону, вновь повернула и опять было направилась против ветра, но ее снова отнесло назад и на этот раз еще более, чем прежде. Наконец, она устала, круто повернула на север и быстро вместе с ветром понеслась вдоль берега. В это время раздался крик: «лодки, лодки, держите лодки!» Произошло нечто невероятное. Лодки двигались. Сильный ветер, несмотря на то что они поставлены были без каткое на песок и гальку, тащил их к морю. «Держите лодки! давайтескорее веревки! кладите камни!..» Люди бегут, падают, опять бегут и спешно исполняют приказание. Наконец, лодки удалось привязать. Все снова побежали и укрылись за скалы. В той стороне, где берег был загроможден большими глыбами, творилось что-то невероятное. Огромные волны с шумом разбивались о камни; вода с грохотом вырывалась наружу. Сверху сыпались камни. Они прыгали точно живые и перегоняли друг друга. Некоторые из них, ударившись о землю, рассыпались на мелкие части. На месте падения, как от взрыва, тотчас же образовалось облако пыли. Ветром сейчас же относило их в сторону… Через полчаса ветер достиг наивысшей силы. Анемометр показывал 19 метров в секунду. По шкале Ганна это был настоящий ураган. Так вот почему утренняя и вечерняя зори были необыкновенно красными, вот почему при восходе солнце было такое деформированное. Вечером буря стала стихать понемногу.XXXVII
Трое суток море не могло успокоиться… Это предвидел Вандага: еще за несколько часов до бури он говорил, что волна разольется большая. Направление волнения в море очень часто не совпадает с направлением ветра, а иногда бывает и совершенно ему противоположное. На маяках, где ведутся метеорологические наблюдения и отмечается направление ветра, следовало бы записывать и направление, в котором идет волнение, а также и продолжительность его и величину по пятибальной системе. Насколько мне известно, таких наблюдений нигде не ведется, а между тем это чрезвычайно интересное явление и выводы из этих наблюдений могут дать совершенно неожиданные результаты. У моряков есть примета: «Раз только неожиданно появилось волнение, с той стороны нужно ждать ветра». Волнение распространяется по воде очень быстро и всегда обгоняет ветер, как бы он силен ни был. В данном случае было несколько иначе. Море разволновалось после бури. Нужно было бы, чтобы появилась другая волна сбоку, но отнюдь не с противоположной стороны, только такая волна могла бы разбить эту мертвую зыбь и море успокоилось бы. Теперь резкий ветер дул с юго-запада, а волны шли с востока. Интересно было наблюдать, как сильные порывы ветра срывали гребни волн и сносили их назад в море. Получалось впечатление, что волны как будто дымятся… Вандага отлично знал, что на этом месте мы будем сидеть очень долго, а это было не в их расчетах. Он и так уже потерял много времени, ожидая нас на Ботчи и потому естественно торопился. Он хотел поскорее сдать нас другим орочам, а сам возвратиться назад для охоты и соболевания. Поэтому в тот же самый день, как мы пристали к этому берегу, он сейчас же стал проситься итти пешком на реку Нимми, взять там новых проводников и привести их с собой. Он полагал пройти туда пешком берегом моря, а назад возвратиться на лодке. Получив разрешение, Вандага в тот же день выступил в дорогу. Где он был во время бури, что делал — неизвестно. Но вот уже прошло три дня, а Вандага все еще не возвращался. Мы начали беспокоиться. Без дела всем надоело сидеть на одном месте. Все знали, что река Нимми близко, что там живут орочи и что оттуда уже недалеко и до мыса Туманного. Время было позднее, осеннее: в горах выпали снега, по утрам стали появляться крепкие заморозки; вода в лужах начала мерзнуть. Одетые по-летнему люди начали зябнуть и потому торопились добраться поскорее до реки Самарги, где была сложена наша теплая одежда и новые запасы продовольствия. Мы ждали Вандагу с нетерпением. Подолгу сидели на камнях и подолгу смотрели на воду. После бури в море была огромная мертвая зыбь, которая создавала у берега чрезвычайно сильный прибой. Точно живые, двигались волны одна за другой — тихо, беззвучно, но настойчиво и грозно они шли в атаку на береговые обрывы. Достигнув мелководья, эта мертвая зыбь сразу превращалась в крупную волну. Волна эта втягивала и собирала в себя всю воду с намывной полосы прибоя, взбиралась все выше и выше и вдруг, как разъяренное чудовище, с неистовым шумом бросалась на берег. С рокотом отступала вода назад в море, но, подхваченная новой волной, пенилась и вновь взбегала наверх по гальке. Теперь по морю ехать было бы можно, но как отойти от берега и, если удастся отойти, то как опять пристать к нему, когда придет время останавливаться биваком на ночь? Хотелось ехать, а ехать было нельзя… — Надоело сидеть на одном месте, — говорил один из стрелков. — Хоть бы пешком итти, — отвечает другой. — Ничего не поделашь, — возражал казак-уссуриец. — Никуда, брат, не денешься. С богом спорить не будешь. — Право, море точно вздурело, — говорил солдатик опять свое. — А ты думал, что это пруд, — отвечал ему снова казак. — По морю надо ездить с умом, а то как раз вон на том мысу… Он не докончил фразы, вскочил на ноги и, прикрыв рукой глаза от солнца, стал напряженно смотреть в море. — Лодка! — закричал он, — я вижу парус. Все стали смотреть в ту сторону, куда указывал казак. Действительно, в море около мыса Туманного чуть-чуть виднелась маленькая белая точка. До нее было верст десять. Она то совсем исчезала в воде, то снова мелькала на волнах. Через полчаса стало ясно, что это была орочекая лодка (улимагда), лодка эта шла в нашу сторону. В ней было четыре человека. «Это Вандага едет» — радовались стрелки. Слава богу, наконец-то! Все ожили — можно было подумать, что Вандага может успокоить море и позволить нам ехать дальше, точно это от него зависело. Между тем лодка поровнялась с нами. Сидевшие в ней начали спускать парус. Лодка остановилась; рулевой повернул ее носом к берегу. Легкое суденышко сильно качалось на волнах: то оно вздымалось носом, то ныряло, то круто подымалось вверх кормой, Человек, сидящий на корме, встал на ноги: это был Вандага. Он напряженно смотрел на прибой у берега и что-то говорил своим товарищам. Орочи зашевелились и стали приводить в порядок свои вещи, чтобы все было под рукой; каждый из них клал около себя шест и весло. Сумасшедшие! Ехать морем на маленьком плоскодонном челноке да еще приставать к каменистому берегу во время прибоя- какой риск!?. Как они пристанут? Как высадятся? Неужели их не перевернет? Это казалось невероятным. Но приставать так или иначе надо было. День клонился к вечеру, назад против ветра ехать было нельзя. Это понимал и Вандага и потому делал соответствующие распоряжения. Наконец, у них видимо было все готово: гребцы снова взялись за весла. Они употребляли все усилия, чтобы развить наибольший ход. Очевидно, их план был таков: возможно сильнее разогнать лодку и вместе с прибоем как можно дальше выброситься на берег. Стоящие на берегу замерли в ожидательной позе. Как птица понеслась легонькая лодочка. Два-три раза она как будто совсем исчезала в воде, один раз высоко взлетела на воздух и подошла к месту прибоя. В это время огромный вал, украшенный белым пенистым султаном, обрушился на лодку сзади. Вандага заметил опасность вовремя и с удивительной быстротой поставил лодку по отношению к валу под углом в 45°. В следующий момент произошло что-то такое, что трудно поддается описанию: крики, пена, лодка на боку, люди в воде, плавающие около берега шесты и весла — все это смешалось в одну общую кучу. Дружно все бросились помогать: кто ловил имущество, кто тянул лодку, которую отличное течение волны готово было снова утащить обратно в море. В это время нашла новая волна. Все в один миг очутились по пояс в воде и в пене; людей сильно толкнуло и вместе с лодкой выбросило их далеко на берег. Вандага был весь мокрый с головы до ног. Длинные волосы его растрепались; в густой бороде были клочки морской травы. Стоя по колено в пене, он держал в руках трехзубую острогу, только что вытащенную им из воды. Заходящее солнце яркими пурпуровыми лучами сразу осветило весь берег и осветило Вандагу. В этот момент он очень был похож на того сказочного старика, властителя морей, который вместе с пеной прибоя при вечерней заре выходит на пустынный берег. Но не все обошлось благополучно: тоненькая долбленая лодочка дала широкую трещину по всему левому борту. Много было криков, много было шуму! Кричали больше всего нижние чины, — именно те, кто был на берегу. Ко всему происшедшему орочи отнеслись совершенно равнодушно. Они молча подошли к огню, не торопясь подбросили в него дров, не торопясь стали раздеваться и молча начали сушить свою одежду.XXXVIII
Наконец, в октябре мы снова тронулись в путь… Разбитую лодку бросили на месте. Часть людей и вновь прибывшие орочи пошли на лодках, а я с двумя казаками решил итти берегом. Расставаясь, мы условились, что сойдемся на реке Нимми. Вандага ушел еще накануне вечером, несмотря на позднее время. Видимо, он очень торопился. Ему не хотелось упустить осеннего соболевания, которое он считал самым добычливым. Пока мы увязывали свои котомки, лодки успели уже далеко уйти, а когда мы поднялись на гору, они уже обогнули мыс и скрылись за его поворотом. Мы пошли по хребту вдоль берега моря. Влево от нас были крутые обрывы, вправо — пологие скаты к рекам Луговой и Быстрой. Горы, по которым мы теперь шли, слагаются из известняков и серых песчаников. Кроющим пластом поверх песчаников является базальтовая лава с чередующимися мощными прослойками красно-бурых туфов. Вершина хребта представляется в виде слабовсхолмленной площадки, так что когда идешь по ней, то совершенно забываешь, что находишься на горах, и только когда мы начали спускаться к реке Луговой, то увидели, как высоко от воды мы были. Внизу около моря массы упавших сверху камней образовали целые завалы. Внизу в известняке вода промыла глубокие пещеры. Некоторые из них были до шести-семи сажен длины, сажени четыре ширины и около двух сажен высотой. В пещерах этих холодно и сыро. И, как всегда, со стен спускаются наплывы, с потолка сталактиты. По хребту итти было довольно легко. Лесу нет, он давно уже здесь уничтожен пожарами, из старых деревьев сохранился только один дубняк, но и он уже подсох, вершины его омертвели. На месте пожара вырос березняк, но его стволы около корней уже опалены и закопчены дымом. Очевидно, новый пал был здесь уже после того, как вырос этот березняк. Этот пал окончательно уничтожил тот валежник, который остался от прежнего пожарища. Кто бы мог думать, что обвалы эти тянутся на протяжении двенадцати верст до самой реки Нимми… И мы остановились и стали совещаться: назад возвращаться не хотелось и потому решили опять итти дальше. Солнце низко опустилось к горизонту, когда мы вошли в эти камни. День клонился к вечеру; стало заметно прохладнее; от гор со стороны востока медленно поднимался темносиний теневой сегмент земли с пурпуровой окраской по наружному краю. Итти по таким обломкам скал очень трудно. Надо иметь большую сноровку. Приходится все время прыгать с одной глыбы на другую. Нога становится то на острое ребро камня, то на сильно наклонную его плоскость. Является положение крайне неустойчивое; задерживаться нельзя, потому что больно и потому что тотчас же теряется равновесие, надо скорее переносить ногу на другой камень и, чуть только коснувшись его, прыгать дальше и дальше, пока не устанут ноги. Минутный отдых и опять прыжки. По сторонам нельзя смотреть, надо внимательно смотреть вперед и под ноги. Сперва это кажется интересным; люди увлекаются, смеются. Им забавно, что они прыгают через глубокие ямы и щели, но скоро смех прекращается, люди идут молча, а затем начинают ругаться: — Ишь ты! Чорт в свайку играл, — высказывает вслух свои мысли один из моих провожатых. — А ты ногу-то долго на камне не держи, — отвечает ему другой казак. — Ты ступай на него легонько, как будто бы он хрупкий, стеклянный. — Я и так ногу отдергиваю, как от горячего железа, — говорит начавший разговор. — Лучше бы я лишних пять верст кружной дорогой прошел, — отвечает ему опять второй. Часам к четырем дня мы дошли до реки Луговой. Орочи называют ее Кинэо. Это маленькая горная речка, длиной около восьми верст. Узкая лесистая долина около моря сразу расширяется. По всему видно, что раньше это была маленькая, но довольно глубокая бухточка и что она сравнительно очень недавно превратилась в долину. У берега наметен вал из песка и гальки. Раньше здесь была лагуна; она заполнилась наносами и образовала болотистую низину, изрезанную извилинами и протоками реки и густо поросшую высокой травой (вейником). Маленькое озеро около берегового вала с сильно заболоченными берегами было самым глубоким местом этой лагуны, и потому вода сохранилась здесь по сие время. На берегу стояла пустая орочская юрта; она была брошена. В 1895 г. здесь жили три семьи орочей. Теперь на реке Луговой никого нет. Около устья речка оказалась и глубокой, и широкой — с трудом нам удалось перейти на другую сторону. Отсюда берег поворачивает к югу и далеко выступает в море. Это место: Омодуони. Нам казалось, что мы успеем его обогнуть и к сумеркам дойти до бивака. Не хотелось ночевать отдельно от людей, тем более что все наше имущество было в лодках, да вообще, выступая с бивака, мы не рассчитывали на ночевку и потому бодро пошли дальше. Скоро мы нашли тропинку, но она поворачивала в сторону и шла в горы. По виду она не была похожа на дорожку, проложенную людьми, а скорее напоминала зверовую тропу, и потому мы оставили ее и пошли по намывной полосе прибоя. Теперь слева от нас было море, а с другой стороны совершенно отвесная каменная стена высотой до двухсот метров. Узенькая полоска земли между морем и той стеной, по которой нам предстояло теперь итти, была вся сплошь завалена огромными каменными глыбами, значительно превышающими рост человеческий. Мы полагали, что эти груды камней, обвалившиеся сверху, тянутся недалеко, что за следующей «кулисой», мы вновь выйдем на песок и гальку. Так можно пройти одну — две версты, но затем начинаешь сильно уставать и чем больше устаешь, тем неправильнее становится нога и все чаще и чаще срываешься. Люди оступаются, падают, ушибаются. Острые края камней сильно режут подошву ноги. Ближе к воде есть окатанные гладкие камни, но по ним итти еще хуже, так как они всегда покрыты мелкими зелеными водорослями и потому чрезвычайно скользкие. Обыкновенно после такой дороги все руки и все ноги покрыты ссадинами и синяками. Через час мы дошли до первого мыса. Любопытство, что за ним мы увидим, надежда, что камней уже больше не будет и что река Нимми близко, придавали нам силы — мы торопились. Еще шагов с полсотни — и мы на мысу. Не без труда мы взобрались на скалу и стали смотреть. Впереди был тот же берег, те же камни, дальше опять кулиса, за ней другая, третья, четвертая и т. д.XXXIX
Между тем солнце скрылось за горизонтом — начало смеркаться. Пора была остановиться на бивак, но где? Для бивака нужны были прежде всего дрова, а затем пресная вода, но здесь среди этих скал не было ни того, ни другого. Если бы еще было лето, то можно было бы как-нибудь с грехом пополам скоротать ночь, но теперь в октябре, когда по ночам уже стала замерзать вода, без теплой одежды, в одних легких рубашках — это было немыслимо. Мы поняли свою ошибку: надо было ночевать на реке Луговой. Теперь же оставалось только одно-это итти вперед, итти до тех пор, пока где-нибудь мы не встретим буреломный лес, выброшенный волнением на берег. Обыкновенно в бухтах, на песчаных наносах и около устьев рек его всегда бывает очень много; здесь же как на грех, не было ни одной щепки, ни одной палки — одни камни, голые камни… Мы начали уставать, пробовали садиться и отдыхать, но тотчас же холод и сырость давали себя чувствовать. Это принуждало нас итти дальше. Прыгая с одной глыбы на другую, мы согревались, а согреваясь, зябли еще более, если останавливались хоть на минуту. Через час мы добрались до второй «кулисы». За ней были опять скалы, все тот же едва заметный изгиб берега и все та же пустынная полоса прибоя, заваленная камнями. Недалеко от берега, несколько в стороне, на большом плоском камне сидело множество бакланов. Птицы собрались на ночлег, но, услышав шум, они все повернули головы в нашу сторону и приготовились слетать при малейшем намеке на опасность. Теперь они плохо видели и потому еще более насторожились. Наконец, один баклан не выдержал, тяжело взмахнул крыльями и взлетел на воздух и тотчас же вслед за ним, как по команде, сразу снялись все птицы и полетели стороной вдоль берега к тому мысу, который остался у нас позади. Чем больше сгущались сумерки, тем итти становилось все труднее и труднее. Глаза стали плохо уже различать, где грани камней, где щели. Люди все чаще и чаще оступались и падали… Камни быстрее лучеиспускали свою теплоту — становилось все холоднее и холоднее. Стоячая вода стала покрываться тонким слоем льда; мокрые водоросли замерзли и хрустели под ногами. На небе кое-где зажглись крупные звезды. Море было тихое-тихое — волнение улеглось совсем так, что даже у берега совершенно не было слышно всплесков прибоя. В природе воцарилась какая-то особенная мертвящая тишина. Такая тишина как-то особенно гнетуще действует на душу. С неимоверным трудом мы дотащились до третьего мыса. Здесь отвесная стена преградила нам дорогу. Мы попали в тупик, скалы прямо обрывались в море. С каким бы удовольствием мы остались здесь на ночь. Казаки начали шарить в камнях руками в надежде найти дрова ощупью, но дров не было. Что делать? Собрали маленький совет. Было только два выхода: или надо было возвращаться назад к реке Луговой, или же надо было обойти мыс вброд по воде и итти вперед до тех пор, пока мы не найдем дров или пока не дойдем до своих лодок, то есть до бивака. У всех у нас у троих ноги сильно болели, руки были исцарапаны, колени разбиты. А что, если дальше мы опять не найдем дров, если до бивака еще далеко, что если нам всю ночь придется лазить по этим ужасным камням?! Да мы и не выдержим! Усталость возьмет свое, тогда не только можно будет простудиться, а прямо-таки замерзнуть. Обидно итти назад, когда с таким трудом пройдено так много. А может быть, наш бивак находится тут сейчас же за этим мысом. Неизвестность того, что находится впереди, надежда на счастье и риск решили вопрос в пользу последнего предположения, и мы пошли опять. Скалу можно было обойти только вброд. Мы начали раздеваться. Прибрежные камни уже обледенели. В темноте не видно, какой глубины вода. С опаской мы вошли в нее по колени — она сразу охватила голое тело; кости заныли от холода и боли. Придерживаясь за выступы скалы, медленно и осторожно мы подвигались вперед, ощупывая дно ногами. На дне были такие же глыбы, с такими же острыми краями, такие же щели и провалы, как и на берегу. Черная, как чернила, вода казалась страшной. В одном месте было очень глубоко — это была большая выбоина, яма. Нам удалось обойти ее после долгих поисков и обоюдных усилий, помогая друг другу. По мере того как мы подвигались вперед, вода поднималась все выше и выше, и, наконец, дошла до пояса, теперь нам оставалось пройти шагов тридцать. Впереди в темноте виднелось два огромных камня, сложенных друг на друга, еще дальше — острый край мыса, за которым сразу начинался пологий берег. Вдруг один из камней — верхний — шевельнулся и вслед затем с сильным шумом и всплеском рухнулся в воду. Большая круговая волна разошлась во все стороны! и обдала нас до самой груди. Мы все разом вскрикнули, как это всегда бывает при неожиданной холодной ванне, и остановились на месте испуганные. Это оказался сивуч. Он спал на камне, но разбуженный нашим приближением, бросился в воду и обдал нас водой. Одежда наша была подмочена. Еще десять шагов и мы обогнули мыс и вышли на берег. Все тело горело, как в огне. На воздухе было еще холоднее, чем в воде. Мокрая одежда шуршала — она начинала замерзать; надо было одеваться как можно скорее. Люди дрожали, как в лихорадке, и щелкали зубами. Меньше чем через пять минут мы были уже готовы, быстро без проволочек захватили свои котомки и снова полезли на камни. Стало совсем темно, так темно, что в нескольких шагах нельзя было разглядеть ни скал, ни человека. Ночь обещала быть морозной. Яркие звезды горели на небе, они искрились и переливались всеми цветами радуги. И вода, и камни, и береговые обрывы — все это слилось в один общий тон вместе с темнотой ночи. Вдруг мы опять натолкнулись на камни. В темноте их не видно, мы ощупывали их руками, куда-то лезли, куда-то опускались, падали, теряли друг друга, опять подымались, вновь падали и, наконец, взобрались на главный мыс. Жуткое чувство стало закрадываться в душу: неужели и за этим мысом мы не найдем дров?! Хоть бы немного, хоть бы только просушить одежду?! — Я вижу огонь! — закричал казак Крылов радостным, не своим голосом. — Огонь! Огонь! — Он указывал рукой на юг. Действительно, в той стороне, далеко-далеко, как маленькая звездочка, мигал огонь. Он то замирал и, казалось, угасал совсем, то вновь вспыхивал и разгорался ярким пламенем. — Идем скорее, — торопили мы друг друга и начали спускаться вниз. Крылов шел впереди. Он полз на руках и на ногах. Вдруг он на что-то споткнулся и упал. — Дрова! — закричал он, — дрова есть, давайте скорее спички! Через несколько минут мы весело стояли вокруг большого костра, грелись и сушили свою одежду.XL
Судя по расстоянию, на котором мы видели огонь, до реки Нимми было, вероятно, версты четыре. Поэтому мы решили остаться на том месте, где нашли дрова, а итти дальше только тогда, когда взойдет солнце. За мысом, который мы только что обошли, море наметало много плавникового леса. Мы могли, следовательно, жечь дров сколько угодно — их хватило бы на несколько суток. Скоро из одного огня казаки разложили три. Они то и дело подбрасывали в костры охапки сухого хвороста. Пламя разом охватывало сухие сучья и ярко освещало усталые лица людей, одежду, развешанную для просушки, завалы морской травы, выброшенной на берег, и в беспорядке нагроможденные камни. Кругом стало как будто вдвое темнее. Светлые полосы от огня и черные тени ночи плясали вокруг костра, дрожали в воздухе, ползали по земле, исчезали где-то в пространстве и затем вновь появлялись откуда-то со стороны моря… Казаки стояли у костра и, отвернувши в сторону от огня свои лица сушили на руках тельные рубашки. Они делились впечатлениями пройденного пути. — Ну и поход! — говорил один из них. — А плохо было бы нам сегодня, если бы мы не нашли дров, — отвечал ему другой. — Очень просто, пропадешь — беда! Теперь я рад погреться у огонька, — говорил опять первый. — Я рад, что рубашка просохла, зато сейчас простыл больше, чем в походе… Он не договорил фразы — сильный шум, похожий на треск ружейной пальбы и грохот орудийной канонады, донесся до нашего бивака. Произошел где-то обвал. Спать было негде. Всю ночь мы просидели на камнях, дремали и, как говорится, клевали носом. Наконец, начало светать. Не дожидаясь восхода солнца, мы тронулись в путь. Красной полосой зажигалась заря на востоке. От воды подымался пар. Ночью был крепкий мороз. Все камни покрылись белым матовым налетом, сухая трава заиндевела. Вода, скопившаяся в трещинах и в углублениях между камнями, замерзла. Берег моря, сплошь заваленный камнями, казался совершенно пустынным и безжизненным, только в одном месте на берегу сидело несколько каменушек. Заметив людей, уточки спрыгнули в воду и, оглядываясь назад, быстро поплыли прочь от берега. Сегодня мы чувствовали себя еще более разбитыми и усталыми, чем накануне: кружилась голова, болели ноги, ломило спину. Однако утренний мороз подбадривал нас; мы знали, что река Нимми недалеко, и это заставило нас итти скорее. Недалеко от реки Нимми мы увидели одну кабаргу. По чрезвычайно крутому оврагу она спускалась к морю. Земля ехала у нее под ногами и дождем сыпалась книзу. Каждый раз, глядя на этих двукопытных, когда они бродят по кручам среди скал и осыпей, невольно удивляешься, до какой степени они приспособились не терять равновесия? И это делается легко, непринужденно, без всякого страха, как будто бы она была не на обрывах, а внизу на земле, на ровном месте. Услышав посторонний шум, кабарга остановилась и, насторожив свои уши, стала пристально смотреть в нашу сторону. Сообразив в чем дело, она вдруг круто повернула назад и сильными прыжками стала подыматься обратно в гору. Достигнув вершины, она опять остановилась, еще раз посмотрела вниз, два раза крикнула пронзительно и скрылась в лесу. Один из казаков хотел было стрелять — я остановил его. Правда, у нас не было мяса, но убитую кабаргу пришлось бы нести на себе, а мы сами едва тащили ноги. К восьми часам утра мы обогнули последний мыс и подошли к Нимми. На другом берегу реки стояла большая орочская юрта. Из отверстия, сделанного в крыше ее, подымался дым. Рядом с юртой на песке лежали опрокинутые вверх дном две лодки, а в стороне, шагах в двадцати, на берегу моря тлелся угасающий костер. Очевидно, этот огонь был сигнал, нарочно для нас разложенный на самом видном месте, — его-то мы и видели сегодня ночью. Из юрты вышел ороч и направился к реке. Левой рукой он за жабры держал большую рыбину, в правой руке у него был нож; хвост рыбы волочился по земле. Ороч, видимо, собирался ее чистить… Мы окликнули его. Он остановился, посмотрел на нас, узнал, бросил рыбу и побежал к юрте. Тотчас же из нее поспешно вышли два других ороча и подали нам лодку. В юрте оказалось много народу. Тут были и наши стрелки и сопровождающие нас орочи, два китайца-соболевщика, прибывшие в эти места, как они говорили, для сбора долгов и для скупки пушнины; был один кореец, неизвестно зачем сюда приехавший, и человек восемь орочей-удэхе, спустившихся с гор к морю вместе со своими женами и детьми, — всего было человек тридцать. О нашем приезде орочи узнали от Вандаги дня два тому назад, когда он ходил за проводниками себе на смену. Вот почему они все собрались к устью реки в эту единственную юрту. Дела у них никакого к нам не было. В этом сказывалось гостеприимство, уважение и внимание к посетителям — этого требовала орочская этика. С каким наслаждением мы переоделись, умылись, напились чаю и легли спать. Вся тягота ночного похода, холод, брод, напугавший нас сивуч, испуганная кабарга-все это осталось теперь где-то позади как одно только воспоминание.XLI
На другой день все небо было покрыто тяжелыми тучами циклонического характера. Дул резкий порывистый ветер со стороны острова Сахалина. Дождь шел не переставая всю ночь. Дождевые капли, падая на землю, тотчас же превращались в лед; вся земля, деревья, опавший лист, камни, дрова — все покрылось ледяной корой. Порой сквозь густую завесу туч, в виде неясного матового пятна, робко выглядывало солнце и, словно испугавшись того, что натворила на земле непогода, тотчас же пряталось за дождевыми облаками. И орочи, китайцы и наши люди — все сбились в одну юрту, все толпились у огня и отогревались его лучистой теплотой. В юрте было чрезвычайно дымно. Ветер налетал то с одной стороны, то с другой, трепал корье на крыше и завевал дым обратно. Сколько мы ни старались урегулировать дым, чтобы он выходил правильно, ничего не помогало. У всех слезились глаза, веки были сильно воспалены — было такое впечатление, как будто в них насыпали песку. Приходилось терпеть и выбирать одно из двух: или коптиться в дыму, или перейти в палатку. Мы выбрали последнее. Как ни холодно было, но мы все же вышли на свежий воздух и принялись устраивать бивак около юрты. На наше счастье около часу дня дождь перестал. Тяжелая завеса туч разорвалась; выглянуло солнце и разом осветило всю обледенелую землю. Живительные солнечные лучи тотчас же разбудили жизнь: откуда-то взялись мелкие птицы; в воде заплескалась рыба; в каменистых осыпях начали перекликаться сеноставцы и бурундуки, и высоко на небо, описывая правильные круги, всплыл орел. Люди тоже не отставали. Всем надоело сидеть в тесной и дымной юрте, все вышли наружу и стали шумно выражать свою радость по поводу перемены погоды. «А та- та! — вскричал один ороч. — Ы бяза дыони сачды уо ммаха ачдэ би!» (то есть «В вершине реки в больших горах выпал глубокий снег!»). — Он указывал на запад. Интересное явление! Весь западный небосклон градусов на 20 от линии горизонта как будто светился. Кругом со всех других сторон и в зените небо было густого синего цвета (такое синее небо в Уссурийском крае бывает только осенью, когда воздух сух и не имеет влаги), а также на западе оно было бледно-зеленое, белесоватое и, действительно, как будто светилось. На задаваемые вопросы инородцы объяснили, что каждый раз, когда на хребте Сихотэ-Алинь неожиданно выпадает большой снег, небо в той стороне бледнеет и ярко светится. Это очень возможно. Если снег выпадает только в одном месте, солнечные лучи, освещая его, отражаются в небе, отчего оно издали и кажется бледнозеленым; если же снега выпадут повсеместно, это отражение происходит всюду и, так как оно не выделяется из общего фона неба, его и не видно. Значит, в то время, когда ночью у нас на берегу моря шел дождь, в глубине материка эти же тучи разряжались снегом. Это тоже понятно. Глубже на материке, в особенности в горах, температура должна быть гораздо ниже, чем на берегу моря. Теперь этот снег, выпавший на Сихотэ-Алине, таять уже не будет, он станет рефлексировать, понижать температуру всюду, поэтому следующий раз надо будет и на берегу моря ждать не дождя, а снега. Так оно впоследствии и было. На реке Нимми у нас опять вышла дневка. Отчасти в этом была виновата непогода, а кроме того, надо было привести в порядок лодки. Старенькие, слабые они сильно износились. Постоянное вытаскивание их на камни, спуск в воду, приставанье к берегу во время прибоя — все это сильно их расшатало, и они цедили как решето. Пока орочи починяли лодки, мы пошли экскурсировать по окрестностям. Река Нимми длиной около 40 верст. Русские называют ее «Нельма». Река течет все время в широтном направлении; притоков имеет четыре: три с правой стороны и один с левой. Ближайший из правых притоков находится в пятнадцати верстах от моря. Истоки реки Нимми охватываются, с одной стороны, притоками реки Самарги, с другой — притоками реки Ботчи. По правым притокам Нимми можно в один день дойти до перевала и выйти к речкам Чяфи, Чжалу и Агза, впадающим в Самарги с левой стороны. Чяфи будет ближайшая к морю (10 верст), Агза — дальняя (25 верст). Орочи ходят по всем трем речкам в зависимости от цели, куда они на Самарги намерены выйти. Левый приток Нимми приведет на Ботчи в 30 верстах от моря. Зимой орочи сообщаются именно этим путем и совершенно избегают ходить на лодках по морю. Скорость течения реки Нимми — 10 верст в час. На орочских лодках можно подниматься вверх верст на восемь не более, далее помехой являются мелководье реки, извилистость ее течения, порожистость и сплошные завалы буреломного леса. Около устья река разбивается на протоки и образует много заводей и слепых рукавов. Здесь раньше тоже была лагуна. Из наносов реки образовались острова, между которыми остались глубокие протоки с солоноватой или с пресной водой, смотря по тому, откуда дует ветер и есть ли в море прибой. Так как все осадки реки остаются около островов и в протоках, то у устья Нимми нет бара. Поэтому выход ее в море очень глубокий, течение медленное, покойное. Это дает возможность лодкам свободно входить в реку и выходить обратно в море. Сама по себе бухточка небольшая, но глубокая, поэтому здесь никогда не бывает такого большого прибоя, как в других местах, где есть мелководье. Эти качества бухточки и реки позволяют делать погрузку рыбы на суда и выгрузку имущества с пароходов на берег во всякое время суток и независимо от погоды. Орочи считают Нимми рыбной рекой. По их словам, кета здесь держится в глубоких ямах до половины зимы, а куржа и форель — всю зиму. В голодные годы, когда улов рыбы в других местах бывает недобычливый, они съезжаются сюда отовсюду, ловят бычков, камбалу и занимаются охотой. Острова, о которых говорилось выше, покрыты густой травой, порослью ольхи и редкими, жидкими, полузасохшими лиственицами. Такая растительность бывает всегда на местах сырых и болотистых. На одном из островов каким-то орочским шаманом поставлено священное дерево ту. Оно украшено грубой резьбой, изображающей змею, человека, жабу, ящерицу и какую-то птицу. Это место-пристанище черта. Орочи боятся ходить на этот остров, так что когда мы хотели ехать туда на лодке, они сопровождать нас отказались, поехал только один молодой ороч, но и он не высадился на остров, а остался дожидать нас в лодке. Если встать лицом в горы, а спиной к морю, то с левой стороны в углу, ближе к берегу, находится небольшая лиственичная роща. В ней — старинное орочское кладбище. С тех пор, как орочи отодвинулись дальше в горы, они стали хоронить своих родственников на новом месте, а старое кладбище предали забвению. Лет двенадцать тому назад на реке Нимми жило много орочей-удэхе. В настоящее время население уменьшилось почти наполовину. Сейчас там все население состоит из двадцати четырех человек (шесть мужчин, восемь женщин и десять детей — пять мальчиков и столько же девочек).XLII
Холодный, сильный, западный ветер, дувший всю ночь с материка в море, не прекращался и весь следующий день. В море всюду кружились вихри; ветер налетал порывами, вздымал воду на воздух и в моменты затишья обдавал ею, как дождем, лодку, людей, сидящих в ней, и все наше имущество. Все небо было покрыто перистыми растянутыми облаками, как паутиной, и имело какой-то грязный белесоватый вид. Вокруг солнца держалось большое гало с интенсивной хроматизацией по внутреннему его краю. Из опасения, что ветер может унести наши лодки в открытое море, мы все время держались под защитой береговых обрывов. Около устьев маленьких речек скалистый берег прерывался. В этих местах ветер дул с такой силой, что нам стоило многих трудов добраться до противоположных обрывов. Пока речки были маленькие, можно было еще кое-как с грехом пополам проскакивать мимо их устья, но когда мы дошли до реки Сонье, то это стало уже небезопасно. Два раза мы пытались пройти мимо ее устья и дважды были вынуждены возвращаться назад и прятаться под скалистый берег. Долина реки Сонье довольно широка. Левый берег ее крутой, нагорный, правый — пологий, ровный. Однообразно желтый ковер трав и тощие одинокие лиственицы с отмерзшими вершинами свидетельствуют о заболоченности всей низины. Об этом же говорят и мелкие протоки, на которые разбивается река около устья. Базальты и глинистые сланцы, из которых слагаются окрестные горы, после разрушения своего дают весьма вязкие глины. Бывшая здесь раньше лагуна давно превратилась бы в сухую плодородную долину, если бы не эти пластические осадки. Смываемые дождями, они отлагаются здесь в виде мощных напластований, обусловливая этим заболачивание всей почвы. Здесь около реки Сонье мы прождали до полудня. Наконец, нам показалось, что ветер как будто немного стих. Последнее время мы тащились крайне медленно, и потому перспектива опять сидеть на месте нам не улыбалась и мы решили в третий раз настойчиво попытать счастья. — Кто его знает, какая завтра будет погода и позволит ли еще ехать дальше, — говорили между собой стрелки и казаки. Они дружно налегли на весла — и легкая лодочка быстро опять понеслась по морю. Едва мы вышли за обрывы, как сильным порывом ветра сразу накренило ее на левый борт. Вода, вздымаемая при гребле, подхваченная ветром с каждым ударом весла обдавала нас с головы до ног и захлестывала лодку. Скоро мы заметили, что как ни старались гребцы, лодку сносило все больше и больше — берег от нас удалялся. Около самого берега не было волнения, но на линии горизонта видно было, как вздымались водяные горы, перегоняли друг друга, шли куда-то к югу. Люди поняли, что если им не удастся пересилить ветер — они все погибли. Все бросились грести, никто не сидел сложа руки, все работали, кто запасным и сломанным веслом, кто лопатой, доской и чем попало. Так продержались мы два с половиной часа. Люди начали уставать. Надо было дать маленькую передышку и разделиться на две смены. Меньше всех растерялся ороч, он сначала волновался так же, как и другие, но потом успокоился и даже начал смеяться: «Оды би наму то ая!» (то есть «Ветер есть, но море хорошее»), — говорил он с улыбкой. Его спокойствие тотчас же передалось и людям. Очевидно, он что-то заметил, что опасность миновала. Ороч указал рукой на лодку и затем па берег. Действительно, лодка перестала удаляться в море и двигалась теперь вдоль берега, хотя и на значительном от него расстоянии. Причина этого явления скоро разъяснилась. Ветер, направляемый по долине реки Сонье, сжатой с боков горами, как по трубе, дул со страшной силой. В эту-то сильную его струю и попала наша лодка. Но как только мы отошли от берега, где простору было больше, ветер дул ровнее, шире, и потому явилась возможность бороться с ним и итти вдоль берега. Это и заметил ороч, но не сказал ничего людям, дабы они, обрадовавшись, преждевременно не бросили бы весел все сразу, потому что ветер был все же еще достаточно силен, и для того, чтобы не сносило лодку дальше, надо было продолжать грести энергично. Скоро стало заметно, что лодка приближается к берегу, а через полчаса мы были уже опять под защитой береговых обрывов. В Уссурийском крае самые большие обнажения можно наблюдать на берегу моря. Здесь прибрежные горные хребты, размытые вдоль оси вкрест простирания, раскрывают перед геологом тайны своего строения. С лодки, в особенности если немного отойти от берега, с поразительной ясностью до мельчайших подробностей выступают перед зрителем все антиклинали и синклинали, частные сбросы, береговые террасы, флецы, слоистость пород и трещины, по которым произошло их распадение. Правда, приходится часто подъезжать к берегу, высаживаться, брать образцы и сличать породы, но зато с лодки сразу охватываешь зрением весь берег и сразу видишь, какое место в данной свите занимает тот или иной пласт, какой из них будет кроющим, какой подстилающим и т. д. Строение берега от устья реки Нимми до мыса Туманного довольно однообразное: здесь развиты главным образом лавы и их туфы. Эти туфы лежат слоями как осадочные породы, и из общей сырой массы лавы, чрезвычайно плотной и непористой, они резко выделяются своей пестрой окраской: фиолетовой, черной, желтой, темнокрасной и т. д. Около мыса Киптомадуони лавы двух цветов — серая и бурая. Серая лежит тремя слоями, бурые полосы занимают среднее место между ними. Вероятно, эти лавы вылились неодновременно и, быть может, появились на дневную поверхность земли не из одного и того же источника. Все туфы лежат флецами совершенно горизонтально и параллельно берегу моря и только изредка делают небольшие изгибы в вертикальном направлении, образуя длинные пологие антиклинали.XLIII
Береговые обрывы сильно разрушены главным образом деятельностью пресной воды, стекающей сверху. Другие факторы, как то: ветры, разность температуры осенью и весной и морское волнение играют второстепенную роль. В дождливое время года здесь все время происходят такие большие обвалы, что в короткие промежутки времени они совершенно изменяют физиономию берега. Сопровождавшие нас орочи не узнавали места. Там, где была раньше одинокая скала, имеющая вид человека, там, где был острый мыс, образовалась узкая расщелина. Вода прорыла глубокое ложе и вынесла к морю массу щебня. И все это произошло на глазах людей в какие-нибудь полтора-два года. Орочи объяснили это по-своему: «каменный человек окарауливал горы; Какзаму — худотелый великан на тонких, кривых ногах и с редькообразной головой, обращенной острым концом кверху — злой дух, обитающий в густых лесах, разбил каменного человека и разрушил берег». Они долго шептались между собой и долго оглядывались назад, на проклятое место. Между реками Адами и Буи на расстоянии семи верст есть трое береговых ворот недавнего образования. Последние к югу — будут самыми большими. Они стоят не в воде, а на полосе прибоя. Раньше это был мыс, прорезанный вдоль какой-то жилой, состоящей из весьма сложной и твердой изверженной породы. Основная порода, бывшая с той и с другой стороны, размылась и обвалилась, а жила, как наиболее устойчивая, осталась стоять в виде стены. Затем, в наиболее слабом месте ее волнением пробило брешь, произошел внутренний обвал г образовались ворота. Впоследствии море наметало сюда песок и гальку и ворота очутились в стороне от воды. Дальше от реки Ниме вплоть до реки Лозаа опять тянутся базальты с характерным для них столбчатым распадением. Около самой реки Ниме эта столбчатость находится в виде венчающего карниза на самом верху обнажения, а около реки Лозаа они видны в трех ярусах: внизу, вверху и посередине. Обыкновенно такое столбообразное распадение распространяется и на соседние породы, хотя бы те состояли совершенно из другой структуры (например песчаники). Здесь же оказались те же лавы, но они почему-то распались иначе и разбились неправильными трещинами на глыбы. На берегу самой высокой точкой в этих местах будет гора Скалистая высотой в 280 метров над уровнем моря. Для моряков она служит ориентировочным пунктом. Часа в два дня мы миновали реку Неме. Судя по тому что мы видели с лодки, долина этой речки будет такая же болотистая, как и долина реки Сонье. Все описываемое побережье оголено от леса пожарами. Однообразно серые стволы деревьев, лишенные ветвей и зелени, поваленный ветрами сухостой, обгорелые пни и голые камни придают всей местности чрезвычайно унылый и тоскливый вид. Чувствуется отсутствие жизни, чувствуется, что всякое живое существо, дошедшее до границы пожарища, непременно должно повернуть в сторону и уйти из этой мертвящей пустыни. Под защитой береговых обрывов около самого берега было совершенно тихо. Мы часто отдыхали и, опустив весла в воду, любовались чудесными картинами, которые, как в гигантской панораме, все время сменяли одна другую. За горой Скалистой от берега выступал одинокий утес, похожий на горбатого человека, за ним был виден острый мыс, напоминающий голову великана в какой-то странной шапке, дальше два камня торчали из воды точно ослиные уши, затем опять каменные бабы, за ними опять мысы, обрывы и т. д. Когда мы подъезжали к ним, иллюзия пропадала, и горбатый человек и голова великана снова принимали форму утеса и уже совершенно не были похожи на то, что мы видели раньше. Несмотря на то чтомы не гребли, лодка наша, хотя и медленно, но равномерно двигалась вдоль берега. Нас несло береговое течение. В Татарском проливе оно наблюдается около всех мысов у берегов Уссурийского края. Направление движения воды происходит всегда вдоль берега от северо-северо-востока к юго-юго-западу. Эти течения бывают главным образом летом тогда, когда дуют муссоны. Они гонят волнением воду к материку, вследствие чего в бухтах около устьев рек повышают уровень моря фута на два или на три. Если мы примем во внимание почти замкнутый пролив Татарский (в данном случае говорится о мелководье лимана), если мы примем во внимание еще и движение воды из Амура по фарватеру около острова Сахалина, то станет понятным, почему течение, о котором говорилось выше, происходит вдоль берега не на север, а к стороне открытого моря. Раз только воде был дан толчок к югу, она неизменно продолжала и продолжает в силу инерции двигаться в этом направлении. Это особенно заметно, когда бросишь в воду с берега какой-либо предмет или убьешь птицу, и она упадет в море. Несмотря на ветер, дующий к материку, птицу не прибивает волнением к берегу и всегда уносит к южному мысу. Так было и с нашей лодкой. Вся разница была только в том, что ветер дул не с моря на материк, а обратно с материка на море. Отсюда мы вправе заключить, что в образовании берегового течения принимают участие не одни только муссоны, дующие со стороны юго-юго-запада, но и другие факторы, которых мы пока еще не знаем. Сегодня мы имели случай наблюдать, как бакланы сушат свои крылья. Около одного из мысов в воде между камнями плавало множество этих птиц. Они постоянно ныряли в воду и доставали со дна какую-то мелкую рыбешку, которую тут же и глотали. Некоторые из них, видимо, уже насытились. Они взобрались на камни и, усевшись лицом против ветра, распускали по очереди то одно крыло, то другое. Во время нырянья за рыбой в перья бакланов попала вода и теперь они их сушили. Оба крыла сразу баклан распустить не может, потому что ветер тотчас же заставит его подняться на воздух, но одно оно не мешает ему сидеть спокойно. Птицы инстинктивно это понимают и потому развертывают крылья по очереди. Как ни не хотели усталые птицы лететь, но приближающаяся лодка заставила их подняться с камня. Они шумно снялись и стали кружиться на одном месте. Впрочем, как только мы прошли эти камни, они тотчас же спустились на них и снова принялись за просушку своей одежды. Часа в четыре дня наша лодка дошла до реки Лозаа. Мы хотели было итти дальше, но орочи заявили, что здесь надо ночевать непременно, что дальше будут большие мысы, на протяжении сорока верст пристать будет негде и что ночь нас застигнет раньше, чем мы успеем обогнуть их и дойти до реки Адими. — Надо хорошую погоду, надо тихое море, — говорили орочи, — если ветер захватит нас на половине дороги, то морское путешествие наше может окончиться крушением. Доводы орочей были настолько серьезны и убедительны, что мы не стали им противоречить и направились в устье реки Лозаа.XLIV
Оказалось, что орочи разошлись друг с другом. Услышав звуки топора и увидев зарево от огня на берегу моря, местные орочи сели в лодку и пошли на разведку. Немного не доходя до нашего бивака, они остановились и высадились на берег, тихонько обошли нас в темноте и стали наблюдать. Заметив на биваке орочские вещи и убедившись, что они имеют дело с людьми, которые их не обидят, орочи вышли из своей засады, смело подошли к костру и стали дожидаться возвращения своих земляков и наших провожатых. Из расспросов мы узнали, что орочи действительно разминулись в дороге, но «наши» все же нашли их юрту. В ней они застали одну только испуганную женщину. Сообщив ей о цели своего приезда и узнав, что мужчины все ушли на разведки, они успокоили ее и позвали с собой на бивак отряда. Все четверо мужчин были братья одной семьи из рода Каза (Ландыка, Янгуй, Вензи, Неодыга). Женщину звали Кимони, Она была женой старшего из них Ландыка. Они сказали нам, что живут по другую сторону мыса Туманного на реке Самарге и сюда на реку Лозаа приходят только осенью на время охоты. Пока варился для гостей ужин, наши провожатые уже успели с ними сговориться, успели дать нам аттестацию, объяснили наше социальное положение, куда мы идем и какая от них, орочей, требуется работа. Решено было, что дальше с нами пойдет проводником только один Янгуй, а что остальные три брата и женщина останутся на месте для соболеванья, чтобы не терять дорогое время. К обоюдному удовольствию это устраивало и нас и их. На ночь казаки разложили большой костер. Какой русский не любит большого огня в лесу! Тепло, светло, весело! Яркое пламя высоко вздымалось кверху. Горячий воздух трепал ветки деревьев и срывал засохшие листья. Они кружились, вспыхивали и, подхваченные горячим вихрем, быстро исчезали в темноте… Глядя' на то, как наши люди подбрасывали в огонь все новые и новые охапки хвороста, орочи покачивали головами и вслух выражали свое удовольствие. «Наша так нету, — говорили они. — Наша маленький огонь клади, ночью спи — огонь не надо!..» Действительно, орочи никогда большого костра не раскладывают. Или им лень собирать дрова, или они придерживаются косных привычек своих отцов и дедов, но во всяком случае, ложась спать, они в огонь дров не прибавляют и, как бы ни зябли, ночью они ни за что уж не встанут его поправить. Многие спят без огня и зимой. Глядя на их плохонькую одежонку, невольно удивляешься, как они могут по ночам выносить такую стужу, спать и не просыпаться. Наши люди долго укладывались и приспособлялись. Они клали под голову порожние мешки из-под риса и сухарей, подстилали под себя козьи шкурки и, плотно прижавшись друг к другу, старались все вместе покрыться одним полотнищем палатки. Через час мы уже спали. У огня сидел один только очередной дневальный. Он что-то починял иголкой. Орочи устроились в стороне. Они утоптали мох ногами и легли как-то странно, без подстилки и в разные стороны головами. Скоро на биваке воцарилась полная тишина. Слышно было только храпение спящих и треск горящих в костре сучьев. Где-то за рекой все еще ухал филин, и в соседнем болоте попрежнему глухо стонала выпь…
Путевые заметки
1912 г.

I
Село Кремово находится в одной версте от станции Ипполитовки Уссурийской железной дороги. Раньше эта станция называлась Невельская. Имя Невельского славное, оно записано на страницах истории Приамурья. Зачем понадобилось заменить его фамилией неизвестного Ипполитова? Грубый анахронизм! Образование села относится к 1885 г. В настоящее время в нем насчитывается 106 дворов. В селе есть церковь, церковноприходская школа, две китайские лавки и кабак, дающий доходу ежегодно около 5000 р. Крестьяне — выходцы из Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний. Окрестности села Кремова представляют совершенную пустыню. Представьте себе местность слабо всхолмленную. Холмы пологие, пространные. Нигде не видно ни одного дерева, ни одного кустарника… Дальше к востоку в горах растет какая-то заросль дубняка и березы — редкая, корявая, низкорослая, которую никак нельзя признать за лес. Можно подумать, что здесь никогда лесов и не бывало, а между тем старожилы рассказывают, что когда они пришли сюда первые, кругом их деревни была сплошная тайга. Затем лес этот беспощадно начали рубить во время постройки Уссурийской железной дороги. Кремовцы просили не рубить лес вблизи их деревни, но так как земля им не была тогда отмежевана, то жалобы их остались гласом вопиющего в пустыне, и просьбы их не были уважены. В истории исчезновения кремовских лесов надо отвести большое место и лесным пожарам, которые в долине Уссури да и вообще во всем Уссурийском крае за последнее десятилетие стали обычными явлениями не только осенью, но даже и летом. Весна настоящего года была сырая, дождливая, но тем не менее палы были повсеместные. Днем место пала обозначалось густыми клубами дыма. Этот дым наполнял весь воздух; всюду ощущался запах гари. Не только отдаленные, но и ближайшие горы тонули в синевато-белой мгле. Солнце на безоблачном небе казалось желтым кругом с резко очерченными краями, так что на него можно было свободно смотреть простым глазом. Тени, бросаемые предметами, имели тоже красноватый оттенок. Днем пал не имел такого вида, как ночью. Как только солнце скроется за горизонтом и сумеречные тени начинают покрывать землю — разом все горы украшаются огнями. Грандиозная иллюминация! Красивая и жуткая картина! Куда ни глянешь — всюду огонь. Пламя длинными языками, точно живое взбегает на горы и все уничтожает на своем пути. Огонь заглядывает во все закоулки и во все распадки. Казалось, он на время замирал, гас совсем, но вдруг вновь разгорался большим пламенем и ярко отражался в небе кровавым заревом. Надо отличать пал от лесного пожара. Пал, когда горит сухая трава, — одно; горение буреломного леса, кустов и молодняка — другое, а когда горит лес — третье. В Уссурийском крае горят именно леса; местными жителями различий не делается и всякий лесной пожар называют «палом». За последние десять лет пожары очень участились. Уже и теперь старожилы начали замечать, что реки стали сильно размывать берега, начали отмывать хлебородные земли и заносить пашни песком и камнями. Они стали замечать и то, что после дождей вода стала быстрее скатываться с гор в реки. Раньше после дождей вода в реках подымалась на вторые, даже на третьи сутки. Теперь гораздо скорее; если утром шел дождь, к вечеру, ночью и в крайнем случае на следующее утро надо ждать подъема воды в реке. И не мудрено! Верховья всех рек уже обезлесены. Уссурийский край горит! Надо считать, что в настоящее время уже третья часть всех лесов уничтожена пожаром. Если так будет продолжаться дальше, Уссурийский край очень скоро очутится без лесов, но зато с очень стремительными наводнениями. Нигде не страшны так лесные пожары, как в гористой стране. Тонкий растительный слой земли, на котором растут деревья, мхи и подлесье, быстро смывается водою. Оголяется мертвая материнская порода, и образуются целые безжизненные области наподобие «карстовых» полей Италии. Стоит только посмотреть, что делается в верховьях рек Такэмы, Сяо-Кэмы, Амау, Наины, Кусуна и т. д. Можно было бы всю страницу эту испестрить названием рек, где в настоящее время после пожаров происходят постоянные обвалы и осыпи, и места открытые, плодородные заваливаются щебнем. Пожары происходят главным образом от неосторожного обращения с огнем. Много вреда приносят и охотники во время белкованья, стреляя из ружей и употребляя вместо пробочных пыжей паклю, вату и тряпки. Немало я наблюдал случаев умышленного поджога лесов. Степняки-малороссы, переселившиеся в край, не любят леса, тяготятся им, боятся тайги и уничтожают ее всюду на каждом шагу не столько топором, сколько огнем. До тех пор, пока сами крестьяне не проникнутся сознанием, что лес есть то же хозяйство, только в больших размерах, что река, а в частности и их пашни находятся в тесной зависимости от лесов, никакие лесоустроители, пристава, лесничие, объездчики и лесники помочь не могут. Тушение пожаров должно быть общее и повсеместное. И до сих пор есть еще чудаки, которые говорят о пользе пожара. Так ли это? С исчезновением лесов исчезают и звери, и птицы. Только в Уссурийском крае растет женьшень, ценимый китайцами выше золота, и он растет только там, где не было пожара. Зачем же лишать край этого миллионного дохода!? Сравните лес, где не было пожаров (теперь крайне редкое явление) с местами, где они постоянны. Разница в том и другом и для неспециалиста бросится в глаза. В настоящее время в Уссурийском крае начинают работать партии таксаторов по лесоустройству. Какой может быть разговор о лесоустройстве, когда кругом горят леса? Не с этого надо начинать. Сперва надо остановить пожары. Какое же это устройство лесов, когда сгорает весь молодняк, все то, что за год успеет засеяться и дать ростки!? Как только пожары прекратятся, даже такие пустыри, как окрестности села Кремова, сами зарастут и без содействия человека. Геология этих мест очень проста. Село Кремово находится в долине реки Лефу, окаймленной с северо-запада горами, а с востока цепью холмов, переходящих к реке в пространные пологие увалы; к северу далеко виден горизонт, в том направлении, куда течет Лефу. Денудационные процессы сильно изменили первоначальную физиономию страны. Здесь геология выразилась в сильнейших размывах (эрозия). Сглаженные контуры, плоские холмы и валуны, хотя и угловатые, но с закругленными краями, говорят об этом. Невольно пытаешься представить первоначальный вид этих гор: высокие острые гребни, причудливые вершины, глубокие овраги, шумящие ручьи и т. д. — такая картина рисуется в воображении. Северо- восточные увалы и холмы (в направлении от Кремова) состоят из какой-то породы очень красивой, блестящей, волнистой, мягкой и на ощупь маслянистой, наподобие талькового камня. Южнее, с той же правой стороны реки обнажаются порфиры. Если итти по дороге в д. Ляличи, то с левой стороны в одной версте от нее и в шести верстах от Кремова есть следы древнего поселения. Здесь дорогу пересекает извилистый сухой и мелкий овраг. Вода в нем бывает только в дождливое время года. В этом овраге есть две небольшие ямки, или болотники, со стоячей водой. Это дало повод предположить, что ямки не что иное, как старинные колодцы, занесенные песком и илом. Раскопки болотинок подтвердили это предположение. В глубине ям под водой оказался деревянный дубовый сруб. Дерево почернело от времени и перегнило уже настолько, что легко раздавливается руками. Как раз против колодцев на краю оврага видны какие-то бугры, своим белым цветом резко отличающиеся от окружающей их черной пашни. При ближайшем знакомстве с ними выяснилось, что эти бугры — места старинных покинутых жилищ; в середине бугров были слабые намеки на углубления. И земляные бугры и колодцы нельзя отнести к глубокой древности. По всей вероятности раньше здесь жили инородцы.II
Село Кремово был наш сборный пункт. Сюда должны были съехаться все участники экспедиции. Надо было купить лошадей, приучить их к седловке и приспособить вьюки. На все на это ушло времени около семи суток. 19 апреля все было готово, выступление было назначено на 20-е число. Однако еще с вечера 18 апреля видно было, что в близком будущем погода должна измениться к худшему: все небо было затянуто паутиной высоких слоистых облаков; около солнца появились венцы (гало) с внутренней хроматизацией. Надо было ждать дождя. И действительно, в ночь с 19 на 20 апреля пошел сильный дождь, который не прекращался и весь следующий день. Мы попробовали было итти, но увидели, что будет трудно, тем более что все чины отряда были одеты по-летнему, в одни только рубашки. Как это ни было неприятно, но пришлось этот день провести в Кремове. К вечеру 20 апреля дождь начал стихать, и на другой день посветлело. От села Кремова к реке Лефу есть две дороги. Одна кружная- через село Осиновку — большая, широкая дорога, но грязная, сильно разбитая; другая прямая проселочная, проложенная самими крестьянами через горы. Местные жители говорили, что эта дорога удобна только в сухое время, что на пути она пересекает ручьи и болота, которые теперь после дождей стали непроходимыми. Наш выбор остановился на этой последней. 21- го числа мы оставили сборный пункт. Дорога наша шла на север по «ключику», медленно подымаясь в горы. Дожди промыли в ней глубокие рытвины. Во многих местах лежал еще снег. Сначала люди выбирали, где посуше, но потом, промочив ноги, шли уже без разбора, где попало. Обыкновенно в этих местах уже в конце марта появляется зелень. Теперь же несмотря на то что был конец апреля, зелени нигде не было видно. — Весна запоздала. Даже почки на деревьях и те оставались еще нетронутыми. И немудрено, при такой низкой температуре! Около полудня на короткое время выглянуло солнце и разом осветило соседние горы. Они более чем наполовину были покрыты снегом. Холодный ветер и низкая температура воздуха сразу стали понятны. Значит, в то время, когда в долинах шел дождь, в горах падал снег. Можно было вперед сказать, что пока снег этот не стает, погода все время будет стоять холодная. Через несколько минут солнце снова скрылось в тучах. После перевала дорога поворачивает на восток-северо-восток и идет по долине «Горелого Ровка». Здесь в горах растут редкие дубняки, даурская береза, ольха и осина. Ветви деревьев ветрами загнуты в одну сторону, к западу. Пока дорога шла горами, она была твердая, каменистая, но на спуске в долину реки Лефу сразу стала топкой и вязкой. В канавах в уровень с дорогой по обе ее стороны стояла вода. Ручьи, стекающие с гор, разлились и снесли мостики; местами вода шла прямо по дороге. Движение по такой дороге утомительно и для людей и для лошадей. Нога скользит, проваливается в хворост и вязнет в грязи. Часа через два мы дошли до почтового тракта, идущего от Анучина через д. Осиновку к Никольску-Уссурийскому. Здесь, у соединения обеих дорог расположились две деревни: Лефинка и Казакевичева, разобщенные только рекою. На этом почтовом тракте грязь стояла еще более невылазная. Навстречу нам попались «обывательские». Две тощие лошаденки, запачканные грязью выше чем по брюхо, надсаживаясь и вытянув шеи, тянули такой же грязный тарантас с кузовом сзади. Мужичок славянского типа с русой бородой в рваном зипуне, перешитом из солдатской старой шинели, сидел на козлах, усиленно дергал вожжами и криками, свистками и всем своим существом старался подбодрить лошадей. Тарантас переваливался из стороны в сторону; колеса вязли по самую ступицу. Из глубины тарантаса выглянуло на нас чье-то испуганное и измученное лицо. Седок держался руками за стенки кузова, чтобы не ушибиться и не вывалиться совсем из тарантаса. Во время распутицы по такой дороге лучше итти пешком, чем подвергать мучениям себя самого, лошадей и возницу. Наконец, лошади остановились. Как ни старался подбодрить их мужик, ничего не помогало. Лошади стояли, раздув ноздри, и тяжело и порывисто дышали. Мужичок слез с тарантаса и стал что-то поправлять на конях. Мы пошли дальше и через четверть часа вошли в деревню. Деревня Лефинка на левом берегу реки, а Казакевичева — на правом. Достаточно было переехать только через мост, чтобы очутиться в другой деревне. Река Лефу разлилась и затопила дорогу; вода обошла мост с обеих сторон так, что мост очутился как будто посередине реки. Сообщение между деревнями было прервано. Деревня Казакевичева имеет смешанное население. У самой речки на месте бывшей почтовой станции Лоренцовой теперь поселился местный старожил, крестьянин Степан Кулеш со своими сыновьями. Рядом с ним живут китайцы — пять фанз, а дальше хуторами вплоть до деревни Николаевки разбросались 69 корейских фанз. Одна из китайских фанз, находящихся на земле Кулеша, была притоном опиекурилыциков и игорным домом. В ночь с 22 на 23 апреля к опиекурильне пытались пробраться хунхузы. Слух о большом количестве опия, хранящегося в фанзе, и деньги игроков были хорошей приманкой. Но, узнав о прибытии нашего отряда в Лефинку, хунхузы отложили свое нападение и скрылись в одной из корейских фанз. На рассвете корейцы узнали об этом и стали их искать. Хунхузы бросились бежать и начали из револьверов отстреливаться от преследователей. Они бежали к реке Лефу, к тому месту, где накануне видели лодку. Но лодки там не оказалось: ее случайно перевели в другое место. Корейцы задержали одного хунхуза и обезоружили его, а двое других бросились вплавь через реку. Корейцы открыли по ним огонь из ружей. Судьба этих двух хунхузов неизвестна. По всей вероятности, хунхузы были убиты, только корейцы не хотели об этом говорить. Корейцы торжествовали: пойманного хунхуза они привязали к столбу у самой дороги. Вид разбойника был ужасный. Веревки, опутавшие его, глубоко врезались в его руки и ноги, лицо было избито, из носу шла кровь; он слабо шевелил губами, время от времени выплевывал выбитые зубы и злобно глядел на окружающую его толпу. Отобранный у него револьвер был у корейцев и переходил из рук в руки. Как и надо было ожидать, китайцы относились к поимке хунхузов весьма равнодушно. Интересно, что местные китайцы, как об этом говорили все, еще за несколько дней вперед знали о предполагавшемся на них нападении, но ничего не дали знать русским властям и сами никаких мер не приняли. Чем это объяснить? Очень просто. Китайца, который выдал хунхузов, который не оказал разбойнику гостеприимства или своевременно не дал знать о действиях и намерениях русских, ждет мучительная смерть от руки мстителя. Бывали случаи, когда китайцы, выведенные из терпения тяжкими поборами хунхузов, выдавали их русским властям. Начиналась судебная волокита. А кто виноват, что эти хунхузы резали человеку горло и отбирали у него деньги? А кто может доказать, что оружие, найденное при них, предназначалось именно для разбоя, а не для самообороны? В результате за недостатком прямых улик хунхузы оправдывались судом и выпускались на свободу. Й первым делом освобожденных хунхузов была месть, если эту миссию не успели еще выполнить их сообщники. Китайцы убеждены, что русские покровительствуют хунхузам или в лучшем случае терпят их, что хунхузов «наплодили» сами русские и что русские, если бы пожелали, давно освободились бы от них. Пожалуй, в этом есть и доля правды!.. Вот другой случай, ярко иллюстрирующий, насколько «не» целесообразно поставлена борьба с китайскими разбойниками в крае. Крестьяне-охотники с Сучана, получив от китайцев сведения о движении большой шайки хунхузов, собрались вместе в числе 12 человек и отправились за ними в погоню. Хунхузы были настигнуты в истоках реки Улахэ. Охотники, убедившись, что перед ними действительно вооруженные китайцы, напали на них врасплох. Произошла перестрелка, и хунхузы были перебиты. В результате вот уже скоро два года, как крестьян этих таскают по судам, держат под надзором, отрывают от работы и тем дают новое оружие в руки хунхузов. После этого вряд ли кто из крестьян-охотников на будущее время пойдет разыскивать хунхузов.III
Около деревни Казакевичевой левый берег реки Лефу высокий, правый — низменная равнина. Возвышенный левый берег представляет мощную речную террасу, состоящую из серой нейтральной лавы с включениями обсидиана величиной с малое куриное яйцо. При остывании этой лавы сильно выделялись газы, которые и образовали в ней многочисленные пустоты, вытянутые в направлении движения лавы. Эти-то пустоты и выполнились обсидианом и другой какой-то стекловатой лавой серовато-голубого цвета. Целые включения найти трудно, но обломки их встречаются во множестве. До села Ивановского на протяжении 10 верст направление реки широкое, отсюда река поворачивает на север. Дальние береговые террасы переходят в пологие холмы, а еще дальше тянется равнина. Теперь новые террасы появляются уже с правой стороны. На их возвышенном плато расположилось село Ивановское. В пяти верстах от деревни Лефинки на высоком левом берегу реки виднеется двухэтажный деревянный дом. Это заимка Н. С. Введенского. Близ этого дома от реки вверх на террасу подымается старинная дорога. Введенский воспользовался ее откопом и подновил ее. Дорогу эту хорошо видно издали. Тут же поблизости находится курган — старинная могила. Вернемся опять на правый берег. Здесь около дома крестьянина Степана Кулеша (место бывшей почтовой станции Лоренцовой) находится большая крепость. С версту к югу от дома Кулеша река Лефу вправо от себя отделяет небольшую протоку. Эта протока пересекает почтовую дорогу как раз около дома Кулеша и, пройдя в этом направлении 100 сажен, поворачивает влево и впадает снова в реку. Таким образом, между самой рекой и ее протокой образовался довольно обширный остров. На этом-то острове и построено укрепление. Оно имеет закругленную форму, только один северный конец его оканчивается острым углом. Строители укрепления старались расположить его таким образом, чтобы река с одной стороны и протока с другой служили бы естественными препятствиями и имели бы значение рвов, наполненных водою. Этому укрепление обязано своей странной формой. Протока в настоящее время мелководна, но видно, что раньше она была значительно глубже. В том месте (северо-западный угол), где река отклоняется немного в сторону, строители искусственным водяным рвов соединили реку с протокой. Соединений два, и протока находится близ угла укрепления. О том, что во рву раньше была вода, свидетельствуют выросшие на его дне густые ивняки с тростниками и водяные растения. Вся крепость имеет в окружности 504 сажени. Вал сложен из камней и засыпан землею; по всему валу выросли большие деревья. Высота вала четыре сажени, ширина у основания — пять сажен. Вероятно, раньше вал был несколько выше. В крепость ведут пять ворот: одни ворота находятся в 43 саженях от угла к востоку, другие — в 110 саженях от первых ворот в том же направлении, третьи — в юго-восточной части укрепления, четвертые — на юге и пятые на западном фасе. В настоящее время внутри крепости поселились корейцы и пашут землю. Третий памятник старины, не описанный покойным Ф. Ф. Буссе,- укрепление четырехугольной формы, находящееся тоже на правом берегу реки на заимке того же крестьянина Кулеша в полутора верстах от деревни Казакевичевой с левой стороны почтового тракта, ведущего к урочищу Анучино. Внутри укрепления — китайская фанза и пашни; валы распаханы так, что почти сравнялись с горизонтом земли и едва заметны. Лучше всего сохранился восточный фас, примыкающий к старице. Здесь раньше текла река, а в настоящее время — болото. Во время половодья протока эта очень многоводна. Одной стороной (северной) укрепление служит для реки водоотводным каналом. Очевидно, и в этом случае строители старались расположить укрепление так, чтобы протока явилась искусственным препятствием. Вообще заметно, что маньчжурские племена, обитавшие ранее в Уссурийском крае, часто строили укрепления в таких местах, чтобы вода окружала если не со всех сторон, то по крайней мере хоть частью тот или иной фас. Это укрепление имеет следующие пределы: 1) по западному фасу: ширина вала две сажени, высота два с половиной фута. От рва не осталось и следа. Длина фаса 58 сажен. Самый вал и местность по обе стороны распаханы; 2) по северному фасу: ширина вала две с половиной сажени, высота три фута. Внутренний ров исчез, снаружи болотистая протока; длина фаса 75 сажен. По рву и внутри крепости распашки; 3) по восточному фасу: ширина вала три сажени, высота три с половиной фута. С внутренней стороны вала пашни следов рва не видно. Этот фас длиною 77 сажей и сохранился лучше других; снаружи после вала идет горизонт пять сажен и затем ров шириною три сажени и глубиною четыре фута; вероятно, раньше этот ров был значительно глубже. Ров этот сообщается с сухой протокой и поэтому можно заключить, что раньше, когда в протоке была вода, ров был также наполнен водою, и, наконец, 4) южный фас имеет такие же размеры и находится в таком же состоянии, как и северный фас крепости. Вход в укрепление был с этой стороны. Такое расположение укреплений большого около реки Лефу (деревни Казакевичевой), малого (только что описанного) вблизи большого (в полутора верстах от него) и след старинной дороги за рекой на террасе кажется странным. Были ли строители и того и другого укрепления одного лагеря или одни из них были атакующими, другие обороняющимися, или укрепления эти принадлежат разным эпохам и разным народам, которые из них древнее и которые выстроены позднее, сказать трудно. Только обстоятельные археологические раскопки могут ответить на эти вопросы. Пока же мы находимся только в области догадок — я думаю, что оба укрепления построены одними и теми же людьми, в одно и то же время. Большое укрепление — было городище, малое — застава, прикрывающая дорогу со стороны другого враждебного лагеря (реки Даубихэ и Улахэ). Об этом я буду говорить ниже при описании границы Чикитки-Мудки около деревни Орловской. Что же касается до того, что одно укрепление сохранилось хорошо, а другое почти разрушено, то это вполне понятно. Вал большого городища сложен из камней, вал малого — из рыхлой наносной земли. Плуг земледельца нивелирует землю, разрушает валы, засыпает рвы. Еще. несколько лет и такие укрепления совсем исчезнут с лица земли. Надо торопиться с их изучением и описаниями. Инженеры, техники, топографы, землемеры, чиновники переселенческого управления, священники, учителя, врачи, пристава и начальники уездов, словом, все те лица, которые волею судеб живут не в городах, а по деревням, урочищам и селам, все те, кто бывает в разъездах по краю по делам службы, всегда могут уделить время для этой работы. Остатки древности разбросаны по всему краю. Их надо описать; желательно и фотографирование, зарисование и топографическая съемка. Указать места этих укреплений могут старожилы-крестьяне, охотники и старики-китайцы. Наши крестьяне охотно внутри этих городищ разрабатывают землю. Они часто выпахивают там старинные мечи, топоры, металлические и глиняные сосуды, монеты и т. д. В их глазах вещи эти не имеют никакой денежной ценности, а научной ценности их они не понимают. Найдя проржавленную монету, крестьяне интересуются ею только одну-две минуты, а затем бросают ее в сторону, как вещь совершенно негодную. Сбор такого материала обогатил бы археологию местных музеев. Не надо задаваться большими задачами. Следует только обстоятельно изучить ближайшие окрестности, свой район. Чем подробнее будет описание памятников старины одного какого-либо, хотя бы Иманского, района, тем лучше. Как бы ни был плохо начерчен план укрепления, он все же лучше, чем ничего. Издание атласа памятников, оставленных в нашей стороне древнейшими маньчжурскими племенами, всех в одном и том же масштабе вместе с их описаниями (археография) и с описанием находок, сделанных при раскопках (археология), нанесение этих памятников на карты 10-верстного масштаба, определение группировки этих крепостей и городищ на план — вот ближайшие и неотложные задачи по изучению истории Приамурского края. В первую голову надо закончить изучение памятников старины в окрестностях Никольска-Уссурийского и затем по долинам рек, где околонизировались наши земледельцы. Памятники эти быстро исчезают. Надо торопиться.
Восхождение на Авачинский вулкан

История Авачинского вулкана
Авачинская сопка расположена в тридцати километрах к юго-западу от Петропавловска-на-Камчатке и в двадцати от моря. Это четвертый с юга вулкан, высотою в 2660 метров, находящийся в действии с отдаленнейших времен. Он принадлежит к типу Везувия и стоит в одном ряду с Кроноцкой сопкой, будучи отдален от нее расстоянием в пятнадцать километров. Первоначальный конус Авачинского вулкана разрушен давно, вторичный также. Нынешний конус насыпан далеко не до прежних размеров. Если стоящую рядом Козельскую сопку рассматривать как остаток первоначального конуса вулкана, то кольцевой вал сопки — Сарай, Монастырь, Игореву и Южную Сомму — надо рассматривать как остатки вторичного конуса — вал вторичного кратера. Современный конус Авачинской сопки находится в одном и том же положении с 1828 года, несмотря на целый ряд, правда небольших, извержений с того времени. Этот вулкан один из самых красивых. Внешним своим видом он весьма напоминает сахарную голову. Центральное место занимает деятельный конус, вокруг которого находится кольцо, разорванное в трех местах. Остатки этого кольца и есть сопки Сарай, Монастырь, Горка Фауста и Игорева. С южной стороны Соммы находится скала Кутхи (древнего божества камчадалов, обитавшего, по их преданиям, на вершинах огнедышащих гор). Здесь есть утес, имеющий форму человека в кухлянке и малахае. Это место было священным у камчадалов. Края Козельской сопки и Соммы изборождены глубокими барранкосами[350], деятельный же конус почти гладкий. Вершина его сильно усечена. С нее вниз на юго-запад свешиваются, явственно видимые за тридцать километров, три потока лавы, которые в 1909 году застыли, дойдя только до подножия конуса. Вблизи эти потоки представляют собой чудовищные глыбы черновато-бурой лавы, хаотически нагромождённые друг на друга. Авачинская сопка — постоянно действующий вулкан. Грозная ее деятельность наводила ужас на ительменов[351] и на русских в XVII столетии. Извержения этого вулкана отмечены в следующих годах: 1737, 1773, 1827, 1828, 1829, 1855, 1878, 1881, 1894 и последнее — в 1909 году. О некоторых из них сохранились довольно подробные описания. Так, 27 июля 1827 года, в четыре часа утра, жители Петропавловска увидали, что с севера неслось и сыпалось так много пепла и песку, что затмилось солнце. На другой день в три часа дня слышались необыкновенно сильные удары и гул наподобие грома. То же повторилось и 29-го числа в восемь часов утра. Затем появился такой удушливый запах серы, что нельзя было пробыть и четверти часа на открытом воздухе. Тогда большая часть Авачинской сопки обрушилась в кратер, откуда, точно из бездны, тучами вылетали песок и камни. К утру 30 июля атмосфера немного очистилась, но запах серы стал еще более удушливым. Подземные удары были так сильны, что жители ежеминутно ждали гибели. По словам очевидца Степана Крашенинникова, Авачинский вулкан до этого извержения был много выше Коряцкого (теперь обратно), но во время землетрясения он при страшном взрыве провалился. Фирновые поля[352], накопившие в течение многих лет громадные толщи льда и снега, приняв на себя потоки лавы, мгновенно растопились. Внезапно образовавшаяся от таяния льда вода, нагретая до состояния кипятка, прорвав Сомму, страшным разрушительным потоком устремилась вниз, увлекая за собой пепел, песок и пемзу, и достигла океана, пройдя тридцать с лишним километров. За этим первым энергичным извержением последовал более спокойный период, хотя темные клубы дыма поднимались вверх из кратера и, не переставшая, шел грязный дождь. Этот второй период продолжался до октября. Следующее большое извержение было 28 мая 1855 года. В этот день с семи часов утра вдруг послышался страшный грохот, и тотчас из кратера Авачинской сопки поднялось густое облако дыма и пепла, застлавшее большую часть неба; вслед за тем кверху взвился высокий столб огня. В течение многих дней продолжалось сильное извержение, от которого содрогалась земля. На сотню километров кругом вулкана было все засыпано пеплом. Так образовались сухие тундры, только последнее время начинающие зарастать кедровым стланцем[353] и можжевельником. Извержение 1909 года принадлежало к слабым и никаких несчастий людям не принесло. Оно продолжалось всего лишь несколько дней, но зато картина была замечательно эффектная, особенно ночью, когда лава лилась по склону, обращенному к Петропавловску. Внизу, вокруг вулкана, горели леса. Из кратера все время взвивались кверху длинные языки пламени и огромные снопы раскаленных добела камней. Небосклон, покрытый густо-черными тучами, изрыгнутыми сопкой, освещался кровавым заревом кратерного огня. Это извержение сопровождалось сильным подземным шумом и колебаниями почвы, явственно шедшими от действующего вулкана. С 1909 года по настоящее время извержений более не было, но тем не менее вулкан принадлежит к числу постоянно действующих. Все время из жерла его вырываются пары и газы. Деятельность сопки то усиливается, то ослабевает. Правильной периодичности между усилением деятельности вулкана и ослаблением ее не наблюдается. Иногда явственно виден высокий столб паров и газов, подымающийся к небу; иногда же, наоборот, сопка только чуть курится. Вследствие этого восхождение на Авачинский вулкан и в особенности спуск в его кратер сопряжены с некоторым риском.Восхождение
Экспедиция на Авачинскую сопку вышла экспромтом. Пароход Совторгфлота «Томск» прибыл в Петропавловск 21 июля 1923 года, имея намерение простоять в гавани лишь двое суток, но, по независящим от него причинам, откладывая со дня на день свой выход в море, пробыл в Авачинской бухте три недели. Так как пароход мог сняться с якоря неожиданно, то уходить от него далеко было рискованно. Но вот 1 августа стало известно, что «Томск» простоит в Петропавловской гавани до 7-го числа включительно. Тотчас же был составлен план экспедиции на Авачинскую сопку. Главное задание заключалось в том, чтобы угадать погоду так, чтобы в день поднятия на вулкан не было дождя и тумана. Задача эта трудная, так как при всех почти ветрах, кроме западного и юго-западного, высокие горы полуострова Камчатка бывают покрыты густыми облаками, и тогда восхождение на них не только не интересно, но даже и небезопасно. Второго августа день был теплый и солнечный, но местные жители, посматривая на небо, говорили, что скоро надо будет ждать дождя. В экспедиции на Авачинскую сопку решили принять участие автор настоящих записок, затем местный исследователь, ботаник Новограбленов, уже совершивший дважды восхождение на тот же вулкан и один раз на Вилючинскую сопку. Потом в состав маленького отряда вошли: Савченко, оказавшийся отличным альпинистом, военный комиссар Марков, надежный товарищ во всякого рода опасных предприятиях, и фотограф Колмаков. Кроме того, в экспедиции приняли участие еще два лица: капитан парохода «Томск» Дублицкий и Кириллова. Последняя не имела намерения совершить восхождение на Авачинскую сопку и пошла вместе со всеми с тем, чтобы остаться на биваке у подножия вулкана. С собою мы взяли трех вьючных лошадей, две палатки, крепкую обувь, легкую теплую одежду, один топор, компас, два фотографических аппарата и запас продовольствия на пять суток. Так как Новограбленов по прежним своим восхождениям хорошо знал высоты над уровнем моря различных частей Авачинского вулкана, то решено было барометра не брать. Никакими другими инструментами экспедиция не располагала. Третьего августа день был солнечный, но отправиться в дорогу не удалось, Новограбленов настаивал на выступлении 4 августа рано утром. Накануне вечером со стороны северо-восточной опять появился туман, что предвещало непогоду. Но на рассвете подул противоположный ветер, и туман рассеялся. Тем не менее большая часть небосклона была покрыта слоистыми облаками, которые лежали неподвижно в виде скатерти, и только на западе виднелись чистое небо и Коряцкий вулкан, освещенный солнцем. В пять часов утра все участники экспедиции были на ногах, а к шести часам собрались на сборный пункт. Здесь сборы в дорогу и вьюченье лошадей отняли времени немногим, более часа. В семь часов пятнадцать минут небольшой отряд наш, состоявший из семи человек и трех коней, тронулся в путь. Путь к Авачинскому вулкану от Петропавловска сначала лежит по дороге к селению Завойко. Пройдя «ферму» и поднявшись на один из отрогов горы Мишенной, как раз у столба, показывающего расстояние — четыре километра от города, надо свернуть вправо, на плохую проселочную дорогу с едва заметными следами колеи, которая, впрочем, скоро переходит в тропу. Эта тропа проложена охотниками за горными баранами и идет по возвышенному плато, покрытому редколесьем, почти исключительно состоящим из Эрмановой березы (дровяного характера). Километрах в трех от поворота тропа разделяется: левая — торная, много хоженная, идет к Коряцкой сопке, правая — слабая, едва заметная, — к Авачинскому вулкану. Последняя придерживается все время северо-восточного направления и на пути своем пересекает четыре увала и четыре заболоченных распадка между ними, но не очень топких и вполне доступных для лошадей. Здесь кончается лес, и тропа выходит на обширную тундру, покрытую зарослями кедрового стланца. Охотники, хорошо знающие эти места, проложили путь вьючным коням, искусно лавируя между кустарниками и пуская в дело топоры там, где одна полянка отделялась от другой только узкой полосой кустарника. Тем не менее за тропой нужно внимательно следить, чтобы не сбиться на «тракт», протоптанный медведями. Теперь до подножия Авачинской сопки было не более десяти километров. В ясную погоду она вся как на ладони. Отсюда можно было проследить и тот путь, по которому нам надлежало совершить восхождение на вулкан, но туман и густые облака, как стеной, закрывали его. Чем ближе мы приближались к вулкану, тем сумрачнее становилось небо. Солнце проглядывало реже; погода как будто начала портиться. Скоро все разъяснилось: мы медленно поднимались и в то же время приближались к облакам, которые, сгустившись около ледников наподобие туманной скатерти, неподвижно лежали в полгоры. Выше их было чистое небо, и порой сквозь прорывы в тучах ясно и отчетливо виднелись Сомма, Козельская сопка и вершина Авачи. Наша тропа пересекала тундру наискось и затем опять вошла в редколесье, состоящее из березы, ольхи, тополя и кедрового стланца. Здесь уже начали попадаться громадные глыбы лавы с округленными краями, заброшенные сюда последним извержением в 1909 году. Еще два километра хода по едва заметной тропке, заросшей довольно густыми травами, — мы увидели первые явные признаки близости вулкана. Это была балка, доверху наполненная рыхлыми изверженными продуктами, нанесенными водою девяносто семь лет назад. Направление балки на северо-запад; длина ее — километра два. Чем дальше, тем края ее выше, и сама она становится извилистее и у́же. Когда она окончилась, тропа стала лавировать в кустах между деревьями, подымаясь на высокую гряду, сложенную во время наводнений из тех же рыхлых продуктов. Еще двести метров — и перед нами открылся поразительный вид на так называемую Сухую реку, вполне оправдывающую свое название. Сухая река представляет собой ложе шириною от одного до полутора километров, по которому шла вода. Потоки лавы во время извержения вулкана растопили ледники, покрывающие склоны его, и все это громадное количество воды хлынуло по распадку между деятельным конусом, и Соммой. Вода несла с собой песок, пемзу, шлаки в таком громадном количестве, что местами образовала из них целые завалы в несколько десятковметров высотою. По свидетельству местных жителей, поток горячей воды двигался по руслу Сухой реки с такой стремительностью, что катил большие камни и местами представлял собой жидкую, кашеобразную массу. Достигнув увала, на который мы теперь поднялись, поток нагромоздил здесь кучу камней, засыпал их песком, перешел через самый увал и заполнил обе балки, о которых говорилось выше. Отсюда он повернул к востоку и, пройдя километров тридцать, вылился в океан, на значительном протяжении от берега окрасив морскую воду в грязно-желтый цвет. Показания местных жителей о двигательной силе воды не преувеличены. О ней можно судить по окатанным краям громадных глыб лавы, находящихся в русле Сухой реки. Разрушения, произведенные здесь водою, носили более страшный характер, чем обычные наводнения. Их нельзя передать словами, едва ли сможет их передать и фотография. Только личные наблюдения на месте могут дать полное представление о катастрофах, разразившихся при извержениях Авачинского вулкана в 1827 и 1828 годах. От гряды, на которой мы стояли, до подножия Авачинской сопки еще пять километров. Тот, кто пожелает подойти к ней вплотную, должен идти по руслу Сухой реки, придерживаясь правого ее края (левой стороны, если стоять к истокам). Теперь древесная растительность осталась сзади, и потому кажется, будто движение с вьюками происходит легче, но, с другой стороны, рыхлые пески и обилие обломков лавы скоро утомляют как лошадей, так и пешеходов. Говорят, что в предгорьях Авачинского вулкана имеется много горных баранов. Быть может, это и так, но в общем ближайшие окрестности Сухой реки пустынны. За два дня мы встретили только один медвежий след, нигде не видно было птиц, не видно и насекомых. Все это создает полное впечатление пустыни. Глубокая тишина нарушается только глухими звуками оседающей почвы, похожими на подземные вздохи, изредка журчанием ручья, который то появляется на дневную поверхность, то вновь исчезает в песках, да шумом скатывающейся по склонам гальки в тех местах, где подготовляется обвал. Вода, стекающая по руслу Сухой реки во время дождей, грязно-желтого цвета и негодна для питья. Она легко размывает дно и образует овраги, края которых чем дальше, тем становятся все отвеснее и выше и наконец превращаются в настоящие каньоны. Поэтому очень важно перейти через ручей заблаговременно, дабы потом не попасть в тупик, из которого нет выхода. Вот почему рекомендуется придерживаться правого берега реки. Следует остерегаться подходить к краям обрывов во избежание обвалов. Даже в тех случаях, когда нужно бывает спуститься с террасы высотою в полметра, пески сползают всей массой, лошади теряют почву под ногами, пугаются, прыгают, отчего вьюки у них съезжают вперед. Изверженные продукты, заполнившие русло Сухой реки, состоят из крупного песка (мелкий песок и пепел унесены водою), гравия, величиною с орех, окатанных мелких обломков андезита и трахита (размерами в кулак), сильно обожженной пористой лавы, имеющей вид окалины красно-кирпичного цвета, кусков стекловидных шлаков, сильно портящих обувь, пемзы и, наконец, крупных обломков нейтральной лавы[354], слабо насыщенной газами. В стороне от балки есть древесная растительность, состоящая из ольховника и кедрового стланца, а на песках — типичные представители альпийской флоры, но растут они как-то странно — маленькими группами, изолированными друг от друга. На высоте девятисот метров над уровнем моря кустарники сразу исчезают. Переход к мхам чрезвычайно резок, — словно кто провел линию, перешагнуть через которую ни в ту, ни в другую сторону не дано ни мхам, ни цветковой растительности. Здесь надо становиться биваком. Но это не так легко сделать. Надо, чтобы под рукой были вода, дрова и корм для лошадей. Нам повезло. Мы расположились у правого края Сухой реки, по границе ольхового стланца, где была еще кое-какая трава, а воду нашли в местах обвалов, у тающего фирнового льда. Лишь только солнце склонилось к горизонту, как туман начал рассеиваться, и перед нами во всей величавой красоте появился деятельный конус Авачинского вулкана. Он казался в непосредственной к нам близости. Но Новограбленов разочаровал нас, сказав, что до вулкана еще не менее пяти километров. К сумеркам в высших слоях атмосферы установилось равновесие. Даже наверху, у самого кратера, был штиль. Газы, окрашенные лучами заходящего солнца в золотисто-оранжевый цвет, казались пламенем, медленно поднимающимся в высь неба. Отсутствие растительности, фирновый лед, который издали кажется пятнами снега, глубокие каньоны, рытвины, барранкосы и грохот обвалов в горах — все это вместе создавало картину чрезвычайно унылую. Словно это был другой мир, на который пахнуло дыхание смерти. Немудрено, что первобытное население Камчатки боялось подходить к вулканам и считало их местом обитания «пихлачей» (маленьких горных духов — детей Кутхи), из-за козней которых люди часто блуждают в тумане и не могут найти дорогу. На общем совещании решено было после ужина лечь спать пораньше, с тем чтобы завтра встать еще до рассвета, дабы успеть совершить восхождение на вулкан и возвратиться на бивак к началу сумерек. На другой день все поднялись в три часа утра, а в четыре выступили с бивака, захватив с собой на всякий случай продовольствия на двое суток. За ночь погода изменилась к худшему; сзади, насколько хватал глаз, все было покрыто густым туманом. Этот туман казался наводнением, а вершины Вилючинской сопки (2170 метров) и Мутновской (2417 метров) — разобщенными островами. Верхние слои атмосферы были затянуты паутиной перистых облаков, сквозь которые светило солнце, а вокруг было большое гало… Плохой признак! Сразу от бивака начался ступенчатый подъем, наподобие гигантских террас[355], в тридцать — сорок метров высоты, до четырехсот метров ширины и каждая в километр длиною. Таких террасообразных плато[356] четыре. Это огромные толщи фирнового льда, засыпанные сверху песком и заваленные камнями. Здесь же находятся и языки лавы, вылившиеся из жерла вулкана в 1909 году. Мы решили дойти до подножия деятельного конуса, затем подняться на седловину между ним и Соммой, а оттуда повернуть влево и идти к кратеру. Для этого надо было оставить правый край Сухой реки и перейти на левую ее сторону. Теперь уже мы были на высоте 1525 метров, в области лавовых каскадов. То, что издали казалось нам легко выполнимым, на месте представляло невероятные трудности. При подъеме в седловину встречаются серьезные препятствия в виде нешироких, но очень глубоких трещин в фирновом льду. Они непрямые, имеют изгибы по вертикали, и потому конца их не видно; слышно только, как где-то далеко внизу шумит вода. Нередко трещины идут вниз под углом по отношению к поверхности льда, бывают запорошены снегом или засыпаны песком, отчего нависший край их становится тоньше, а противоположный — получает уклон. Неосторожный путник легко может его обломить и свалиться в пропасть. Иногда на поверхности песка встречаются впадины, покрытые сетью мелких трещин. Возможно, что под ними произошло подтаивание льда и образовались галереи, прикрытые сверху тончайшей ледяной коркой. Удары палкой по песку издают звук, свидетельствующий о том, что под нею находятся большие пустоты. Немного не доходя до лавовых каскадов, Дублицкий почувствовал себя не совсем здоровым и решил возвратиться назад, опасаясь своим присутствием связать остальных товарищей и тем помешать им достигнуть вершины вулкана. Нет худа без добра. Возвращение Дублицкого на бивак было как нельзя кстати. У палаток с тремя лошадьми осталась одна Кириллова. Дублицкий застал лошадей запутавшимися в веревках, что могло кончиться весьма печально. Дальнейшее восхождение на вулкан продолжали пять человек: автор настоящих записок, Савченко, Марков, Новограбленов и Колмаков. Снег, который издали мы принимали за белые пятна, оказался большими фирновыми полями до трех километров длиною. Сверху он покрыт слоем пепла, отчего многих фирнов издали вовсе не видно. Часто мы сами не знали, что шли по льду, это обнаруживалось только тогда, когда кто-нибудь, поскользнувшись, срывал ногой защитную окраску глетчера[357]. Вероятно, вследствие непривычки ходить по наклонному льду (уклон в десять — двадцать градусов), а главным образом вследствие того, что обувь наша была неподходящей мы все с первых шагов стали сильно уставать. Автор записок, по неведению, начал глотать фирновый снег и от этого сразу обессилел. Пришлось сделать небольшой привал, подкрепиться едой и напиться воды как следует. После этого восхождение наше на сопку пошло значительно успешнее. Приблизительно на трети пути между подножием деятельного конуса и Соммой виднелись впереди два широких фирновых языка с крутизной падения в тридцать градусов, разобщенных громадным потоком базальтовой лавы. Мы выбрали левый ледопад и начали взбираться на него, придерживаясь мест, занесенных песками. При этом восхождении большую помощь нам оказали длинные палки. Дальше барранкосы имеют вид очень глубоких оврагов, по которым бежит кристаллически чистая вода, образовавшаяся от тающего снега. Чем выше, тем идти становилось труднее: фирновый лед сделался рыхлым. Поэтому мы решили не подыматься до края седловины, а повернуть влево и начать подъем прямо на конус. Странным казалось такое состояние фирна, но вскоре разгадка была найдена. Деятельный конус Авачинского вулкана был нагрет. Уже снизу, глядя вверх по склону его, можно было видеть, как всюду над камнями реет горячий воздух. На подъем от фирнового поля в седловине до кратера мы употребили пять часов. Эта часть пути оказалась самой трудной. Дело в том, что весь конус состоит из свеженасыпанных рыхлых вулканических продуктов. Куски лавы, пемза, стекловые шлаки, будучи выброшены из кратера в раскаленном состоянии и мягкими, скатываясь по склону конуса, приняли более или менее шарообразную форму, величиной от ореха до размеров человеческой головы. Любопытно, что кругляки эти не перемешаны между собою, а как бы отсортированы: то встречаешь целую площадь, засыпанную мелкими лапилли, то несколько десятков квадратных метров, покрытых камнями величиной с кулак, то участки, заполненные крупными окатанными глыбами. Все камни держатся непрочно, и достаточно малейшего толчка, чтобы они покатились вниз под уклон горы градусов в тридцать, развивая все большую и большую скорость и делая гигантские прыжки. Мы следили за ними глазами до тех пор, пока они за дальностью расстояния не скрывались из вида совсем. Савченко ушел вперед, значительно опередив остальных товарищей. Должно быть, из-под ног его вырвался один крупный камень и покатился вниз. К счастью, он обо что-то ударился впереди нас и, наподобие пушечного ядра, с шумом пронесся над нашими головами. Можно представить себе, сколько нужно физических усилий на подъем по такого рода осыпям. Сплошь и рядом работа, затраченная на подъем в течение получаса, вследствие одного неосторожного шага сводилась на нет: путник возвращался к исходной точке, если на старом месте ему удавалось задержаться. Здесь в буквальном смысле слова применимо выражение: «три шага вперед и два назад». На продвижение каких-нибудь четырех-пяти метров затрачивалось столько усилий и времени, что потом являлась необходимость в более или менее продолжительном отдыхе.Спуск в кратер
Уже на половине высоты конуса стало заметно на ощупь, что почва сильно нагрета. Часов в десять утра мы находились в двухстах метрах от кратера. Отсюда ясно были видны струи газов, вырывающиеся из-под камней. Близость цели заставляла нас напрягать все усилия. В течение двух часов мы карабкались по склону конуса, то подвигаясь вперед, то вновь сползая книзу. Можно сказать, что по трудности пути эти последние двести метров равнялись всему пройденному за день пути. Ровно в двенадцать часов мы наконец достигли вершины вулкана. Как ни заманчиво было заглянуть в его кратер, мы должны были сделать привал. Теперь мы были значительно выше облаков. Тучи ползли по долине Сухой реки и подбирались к тому месту, где был наш бивак. Там, внизу, вероятно, шел дождь. Не было сомнений, что туман доберется и до нас. Грозные признаки его уже были налицо: вершины Мутновской и Вилючинской сопок уже покрылись шапками дождевых облаков. По соседству с Авачинским вулканом к юго-западу высился конус Коряцкой сопки, высотою в три тысячи шестьсот пять метров, а к северо-востоку — Жупановский вулкан с кипящим озером в кратере, абсолютной высотой две тысячи семьсот метров. На них тоже кое-где появились клочья тумана. Это принудило нас подняться и идти дальше. Около кратера, к которому мы стремились, было так много мелких фумарол[358], что являлось впечатление, будто вся сопка внутри горит и дым вырывается через щели наружу. В сущности, это так и было, только вместо дыма вырывались пары, слегка окрашенные в желтый цвет. Самая крупная фумарола Авачинского вулкана находится вне кратера, с южной его стороны. Из нее с ревом вырывается громадный столб газов. По краям фумаролы видны мощные желто-зеленые отложения серы. Теперь ясно был слышен глухой подземный гул и ощущалось дрожание горы. С 1731 года Авачинская сопка имела один большой кратер с воронкой в середине, но после извержения 1828 года образовался новый кратер, занявший около двух третей старого, с действующими фумаролами у северо-западного его края, т. е. около или даже на месте прежней воронки. Таким образом ныне на вершине Авачинского вулкана имеются два кратера: новый — объемлемый, круглой формы, с воротами к юго-западу, и старый — объемлющий, подковообразный, но широкий, с заостренными краями и с воротами к северо-востоку. Края старого кратера разрушены, спускаются внутрь полого и в общем имеют вид неправильной треугольной пирамиды, обращенной вершиной вниз, основанием кверху. Глубина кратера невелика (метров пятьдесят); дно его покрыто обломками лавы, величиной с конскую голову. Отовсюду подымается бесчисленное множество мелких струй серных газов. Создается впечатление, будто кратер недавно еще был мокрым и не успел просохнуть как следует, отчего со дна его и подымается пар. По всей внутренней поверхности кратера видны многочисленные белесовато-желтые пятна серы. Почва на дне его нагрета настолько сильно, что долго сидеть на одном месте нельзя. На глубине нескольких сантиметров под камнями рука не выдерживает температуры в течение трех-четырех секунд. Новый кратер представляет собою зрелище, которое оставляет впечатление на всю жизнь. Представьте себе громадную воронку, с километр в окружности и глубиною в сто метров, у которой северный и западный края совершенно отвесные, а южный и восточный хотя и крутые, но дающие возможность по глыбам лавы спуститься внутрь. Со дна воронки с грохотом, от которого содрогается воздух, выделяются огромные столбы сильно удушливых газов и паров. На юго-западном обрыве бросается в глаза очень большое зеленовато-оранжевое пятно, из середины которого с сильным шипением выходит газ, окрашенный в желто-зеленый цвет. Дно кратера закрыто лавовой «пробкой». Оно загромождено большими глыбами базальта, имеющего весьма причудливые очертания. В общей массе они кажутся развалинами горящего замка. В воротах кратера стоят три одиноких лавовых столба, из которых средний имеет вид загнутого пальца, обращенного концом к кратеру. Тут же, поблизости от ворот, находятся две трещины, из которых вырываются зеленовато-желтые газы. Еще левее — множество мелких фумарол, и всюду продукты возгонки и выцветы серы. Мы дважды пробовали приблизиться к центральной фумароле, но удушливые газы и высокая температура каждый раз принуждали нас к отступлению. Иногда сквозь просветы в газах внизу видно было какое-то отверстие неправильной формы, покрытое налетами всех цветов радуги, начиная с оранжевого, красного и кончая изумрудным; отсутствовал только фиолетовый цвет. Иногда появлялись синие перебегающие огоньки, которые вспыхивали на пластах серы, но тотчас же гасли, как только появлялся какой-то газ, от которого сильно першило в горле и кружилась голова. Обойдя кратер с другой стороны, нам все же удалось подойти несколько ближе к главной фумароле, из которой вырывались с необычайно сильным шумом желто-зеленый газ и клубы пара, температура которого равнялась 101 градусу по Цельсию. Неизвестно, следует ли считать эту температуру абсолютной, или надо включать к ней поправку на высоту вулкана (2660 метров). Здесь дно кратера было настолько накалено, что камни во многих местах растрескались от жара. Брошенный скомканный кусок бумаги тотчас обугливался и, вероятно, вспыхнул бы пламенем, если бы не наличие угольной кислоты[359]. Пробыть в кратере Авачинского вулкана нам удалось только один час сорок минут. Грозные признаки перемены погоды к худшему заставляли нас торопиться. Со стороны Козельской сопки с поразительной быстротой по направлению к Авачинскому вулкану двигались большие клубы пара. Они крутились наподобие вихря, увеличиваясь в размерах, и захватывали все большее и большее пространство. Туман, безобидный внизу, представляет страшную опасность на высоких камчатских горах. Около кратера он разряжается снегом, и тогда на склонах вулкана свирепствует пурга. Самый опытный альпинист наверняка собьется с дороги и попадет в такое место, откуда выбраться будет не в состоянии. Перед ним неожиданно открывается щель во льду или отвесный обрыв. Тогда ему снова приходится карабкаться вверх. Имея под ногами подвижную россыпь, он будет не в силах бороться с порывами ветра и вместе с грудой камней скатится вниз.Обратный путь
Как ни заманчиво было еще остаться в кратере действующего вулкана, но благоразумие требовало прекратить исследование и начать спуск. Тогда мы перешли в старый кратер, наскоро закусили и выпили воды, принесенной с собой во фляжках. В это время налетел жестокий шквал, и котловина кратера стала наполняться удушливыми газами. Захватив свои вещи, мы выбежали на край его. Сильным порывом ветра чуть не опрокинуло нас обратно в воронку. Температура начала быстро падать; стал накрапывать дождь. Ветер поднял с земли крупный песок и с силой хлестал им по рукам и лицу, вызывая нестерпимую боль. Спуск наш с деятельного конуса Авачинского вулкана произошел с невероятной быстротой. Насколько альпинистские палки нужны при восхождении на гору, настолько они еще более необходимы при спуске. Даже больше — без палок спуск совершенно невозможен. Глядя на нас со стороны, можно было подумать, что мы все спускаемся на лыжах, только вместо снега имеем под ногами крупный гравий и круглые камни. При спуске надо опереться на палку, держа ее, как правило, назад и несколько в сторону от себя; нужно в то же время перебирать ногами и, создавая искусственную лавину, вместе с нею съезжать книзу. Впереди под ногами образуется вал из катящихся камней: одни камни отстают, другие обгоняют, вал то уменьшается, то увеличивается в размерах, он то движется быстрее, то несколько медленнее, что зависит от величины обломков. Чем быстрее спуск, тем сильнее надо наваливаться на палку. В таких случаях корпус человека по отношению к склону горы находится под таким острым углом, что спина и локти иногда задевают за поверхность земли. Это самое опасное положение, при котором догоняющий сзади камень может разбить голову. Время от времени около какой-нибудь глыбы мы останавливались, чтобы передохнуть. Расстояние, на подъем которого было употреблено пять часов, мы прошли, спускаясь вниз, за сорок минут, считая в том числе и остановки на отдых. В три часа дня мы были у подножия конуса. Здесь стало немного тише, а вверху слышно было, как ревел ветер. Теперь начался спуск по фирну. Опираясь на палки, мы скользили по рыхлому льду, хотя и не так быстро, как с деятельного конуса. Чтобы не провалиться в какую-нибудь трещину, мы придерживались старых следов. Далеко впереди, у правого края Сухой реки, виднелись наши палатки, а сзади — Авачинский вулкан, закрытый тяжелыми дождевыми облаками. Теперь там свирепствовала пурга, а внизу шел дождь. Часам к четырем пополудни мы дотащились до бивака, измученные, усталые и с пораненными ногами. У троих обувь была в таком состоянии, что пришлось ее бросить, а у остальных настолько испорчена, что являлось сомнение, выдержит ли она обратный путь до Петропавловска. Мы хотели пить, но усталость взяла свое. Не дождавшись, когда вскипит вода, все залезли в палатки и тотчас же заснули крепким сном. На другой день к рассвету дождь перестал, но погода была хмурая. Надежда на то, что с восходом солнца погода разгуляется, не оправдалась. К девяти часам лошади были навьючены, и мы тронулись в обратный путь. Чтобы не заблудиться в тумане и не потерять тропу, впереди пошли Савченко и Марков, которым вменено было в обязанность смотреть на песке следы, оставленные позавчера нашими лошадьми. Примятая трава еще не успела подняться, и тем не менее на тундре один раз мы чуть было не потеряли дорогу, но вовремя спохватились и вернулись назад. Вскоре после полудня мы дошли до последней релки, где сделали большой привал и накормили лошадей, а в пять часов сорок пять минут прибыли в город Петропавловск.
Искатели женьшеня в Уссурийском крае

I. Панцуй
Женьшень (панцуй) относится к семейству аралиевых и растет отчасти в Северной Корее и в Восточной Маньчжурии, но главным образом в Уссурийском крае, в таких местах, где давно не было лесных пожаров. Северной границей его распространения является хребет Хехцир, около Хабаровска, и река Санхобе (бухта Терней). Самым близким родственником женьшеня будет дикий перец, элеутерококк, который русские крестьяне называют «чертовым деревом». Оно, как наиболее сильное, вытесняет женьшень. Вот почему последний растет только там, где нет элеутерококка. Листья женьшеня такие же, как и у элеутерококка, — пятипальчатые, расположенные так же, как пальцы раскрытой руки человека. Средний лист длиннее других, и самые крайние будут самыми короткими. От листьев чертова дерева листья женьшеня отличаются тем, что они гладкие, черешки их лишены игл и края мало зазубрены. Растение имеет корневище и цветет в августе; цветы мелкие, немного розоватые; снежно-белые цветы встречаются крайне редко. Женьшень — растение реликтовое и потому чрезвычайно капризное. Достаточно малейшего нарушения условий, благоприятных для его произрастания, чтобы оно погибло. Иногда без всякого видимого повода корень вдруг как бы замирает и в течение многих дет подряд не дает ростка. Самое большое зло — это лесные пожары. С исчезновением лесов пропадает и женьшень. Раньше Уссурийский край был, так сказать, центром женьшеневого промысла. Китайцы судят о величине корня по числу листьев. Сперва женьшень дает два маленьких трехпалых прикорневых листка, которые скоро увядают, и тогда уже появляются настоящие пятипалые листья. Обыкновенно растение дает три-четыре листа, пять-шесть листьев — явление уже редкое. До сих пор никто еще не находил женьшеня более чем с семью листьями. Самый большой женьшень достигает до пояса человека и имеет стебель толщиною в 2 миллиметра. Наиболее ценный женьшень добывается в горах Хехцира. Корень его белый, толстый — диаметром до 8 сантиметров, весом до 200 граммов и более, с черноватой сердцевиной и многочисленными мелкими отростками внизу корневища. Затем ценные корни встречаются в долине реки Баку (левый низовой приток реки Имана), а также и в других местах Уссурийского края. Китайцы обладают удивительной способностью с первого взгляда определить качество корня и сразу узнать, где он рос — на берегу моря или в бассейне Уссури. Определенной цены на женьшень нет. Она колеблется от нескольких рублей до нескольких тысяч. Двадцать корней примерно стоят от 500 до 2000 рублей. Цена на женьшень зависит от места, где корень найден, от того, насколько он мочковат, от его величины и от того, насколько он похож на человека. В 1905 году, при продолжении Сучанской железной дороги, в нескольких метрах от того места, где теперь поставлено здание станции «Фанза», был найден корень, которому китайцы считали 200 лет существования. Он весил 18 лан, т. е. более 600 граммов, и был продан в городе Владивостоке за 1800 рублей, а в Шанхае оценен в 5000 мексиканских долларов. Женьшень всегда в цене, потому что спрос на него превышает количество, имеющееся на рынке. Ежегодно в Уссурийском крае этим промыслом занималось около 30 000 китайцев, которые добывали около 4000 корней. Одна весовая единица женьшеня ценится в 250 раз дороже такого же количества серебра. Лет двадцать назад китайцы вывозили отсюда женьшеневых корней около 36 килограммов на сумму 750 000 рублей. В настоящее время, как я уже сказал выше, вследствие лесных пожаров, промысел этот упал до 1–2 килограммов. И можно думать, что в недалеком будущем он совсем прекратится. Дороговизна женьшеня заставила китайцев заняться искусственным его разведением. Но искусственно выращенный панцуй не имеет той силы, какую имеет дикий. Поэтому цена на огородный женьшень стоит низкая и колеблется от 6 до 12 рублей за лан (36 граммов). Для искусственного выращивания женьшеня надо брать непременно семена свежие, так как лежалые семена скоро утрачивают жизненную силу. Перед посадкой, недели за две, семена кладут в сырую землю и держат их в температуре приблизительно от 1 до 6 °C. В марте приготовляется место для посадки. Для этого роют яму глубиною от 70 до 140 сантиметров и насыпают ее самою лучшею черноземною землею, которую предварительно перед этим перебирают руками и просеивают через сито. Когда земля готова, в нее сажают семена на глубину 13 сантиметров и сверху немного посыпают листвой и сухой хвоей. Желательно, чтобы место для женьшеня было выбрано в смешанном лесу, где есть кедр, чтобы оно находилось на северном склоне горы и отнюдь не на солнцепеке. Может случиться, что в первый год панцуй не прорастет. Если нет ростка, надо ждать терпеливо. Это значит, что корень не погиб и ждет благоприятных условий, которые в данный момент почему-либо отсутствуют. Вообще огородный женьшень годится в продажу не ранее шестилетнего срока. Так как солнце губительно действует на женьшень, то над растением устраиваются из корья навесы с таким расчетом, чтобы солнечные лучи освещали панцуй только с 7 до 9 часов утра и с 5 до 7 часов пополудни. Растение женьшень травянистое, тонкое, очень нежное. Его легко может сломить ветер и испортить такое небольшое насекомое, как муравей. Для защиты от ветра около женьшеня разводят широколиственные травы, кусты и устраивают с боков навесы из досок или бересты. Сильный дождь забивает женьшень. Вот почему после больших продолжительных ливней китайцы прекращают поиски корня. Если дождей больших не было и дождем, так сказать, только моросило, лето считается благоприятным, и искатели панцуя ликуют. Относительно целебных свойств женьшеня мнения европейских ученых расходятся, хотя за последнее время французские естествоиспытатели начинают склоняться к точке зрения китайцев. И в самом деле! Трудно допустить, чтобы все корейцы и все китайцы, численностью около пятисот миллионов, заблуждались. Приобретают женьшень не бедняки, а зажиточные и наиболее образованные классы населения. Для простого народа он почти недоступен. Известно, что европейцы всегда подвергали осмеянию чужую медицину только потому, что ничего в ней не понимали. Как при приемах мышьяка или железа надо соблюдать известную диету, так и при приемах женьшеня требуется изменить режим жизни. Европейцы не знают этого и удивляются, что женьшень не помогает. Непременным условием ставится физический труд на открытом воздухе и устранение всяких излишеств; воспрещается употребление крепких напитков, чая и уксуса. Летом, и в особенности в жаркие дни, приемы лекарства сокращаются более чем наполовину; зимой дозы увеличиваются. Наивысшие приемы делаются в феврале и марте перед весною. Один панцуй употреблять нельзя, — от него может явиться кровотечение из носа и десен, а затем и расстройство всего организма. Обыкновенно панцуй употребляется вместе с другими лекарствами в виде пилюль. В состав этого лекарства входят панты[360], густой клейкий навар из медвежьих костей, корни астрагала и некоторые морские травы, содержащие йод. Пилюли принимаются натощак и перед сном вечером: сперва — по три пилюли, а затем доза увеличивается и доходит до двадцати пилюль в сутки. Днем перед едой пьют по одной рюмке крепкой водки, настоянной на женьшене. Каждый раз, отпив одну рюмку, в бутылку прибавляют столько же чистой водки и т. д. Для настаивания на водке панцуй приготовляется особенным образом: сперва его чистят маленькими щеточками, затем кладут в глиняный горшок и варят в сахарной воде, потом его долгое время подвергают действию горячих паров и, наконец, сушат на горячем воздухе. После этой операции корень становится желтоватым, полупрозрачным и имеет горьковато-сладкий вкус. Если при приемах лекарства человек замечает, что из десен его показывается кровь, надо на время прекратить прием пилюль; настойку же можно принимать, но тоже в уменьшенном количестве.II. Легенды о женьшене
У китайцев есть множество легенд о происхождении женьшеня. Вот та, которую чаще всего можно услышать в Уссурийском крае. Женьшень — это корень, который есть только один на всей земле. Он обладает удивительной способностью превращаться в человека, в тигра, в птицу и во всякое другое животное. Поэтому его никто никогда найти не может. Если человек увидал в лесу какого-нибудь зверя, какое-нибудь растение или даже неодушевленный предмет, например камень, и сильно испугался и если этот предмет тотчас же пропал из глаз, — это был женьшень. Тогда надо молиться, запомнить это место и в будущем прийти сюда за корнем. Раньше женьшень жил в Китае, и никто не знал о его существовании. Но вот великий пророк Лао-цзы открыл его целебную силу и указал людям его приметы. Женьшень бежал к северу в гористые страны. Ученый Лао Хань-ван (князь старых китайцев) при посредстве других целебных трав открыл его местонахождение. Тогда женьшень скрылся в Уссурийский край (Дун-да-шань)… Прошло много веков… И вот три брата — Ван-ганго, Касавон и Лиу-у — пришли к берегам Великого океана искать этот чудодейственный корень. Тут они заблудились и погибли. С тех пор души их бродят по тайге и перекликаются между собой. Каждый женьшенщик, услышав эти стоны и крики, никогда не пойдет в их направлении и непременно свернет в сторону, а если он рискнет туда идти, то ничего не найдет и, наверное, заблудится[361]. Чтобы спастись от преследования людей, женьшень наплодил множество корней, себе подобных, — «панцуй», как говорят китайцы. Вот почему такой «панцуй», чем ближе он будет к истинному женьшеню, тем больше он похож на человека, тем больше он размерами, крепче в нем сила, и тем дороже он ценится. Не раз, слыша эту легенду, я сопоставлял ее с целым сонмом символических легенд, существующих с незапамятных времен у человечества о жизненном элексире. Идея одна и та же. Другая легенда говорит так. «В Восточной Маньчжурии, в горах Нанган-Шаня, жили два знаменитых рода — Си-лянь и Лян-серл, вечно враждующие между собою. Представителем рода Си-лянь был знаменитый воин Жень-Шень; он защищал слабых, угнетенных, отличался удивительной храбростью, был справедлив и великодушен. Он унаследовал от своих предков все душевные их богатства. Сон-ши-хо из рода Лян-серл был редкой красоты мужчина, смелый и энергичный. Он сделался хунхузом, собрал толпу разбойников и с ними совершал нападения на соседей. Жень-Шень давно собирался усмирить Сон-ши-хо, но жизненные пути их нигде не встречались. Но вот Сон-ши-хо вздумал сам напасть на Жень-Шеня. Судьба покровительствовала последнему. Сон-ши-хо был взят в плен, закован в цепи и посажен в глубокую яму. Долго томился Сон-ши-хо в заточении и, вероятно, погиб бы, если бы ему на помощь не пришла красавица Ляо, сестра Жень-Шеня. Ляо влюбилась в разбойника, освободила его из ямы и убежала с ним из дома брата. Как только Жень-Шень узнал об этом, он бросился за Сон-ши-хо в погоню и скоро догнал его в диком ущелье Сяо-ли-фаня. Услышав за собою погоню, Ляо спряталась в кусты, а Сон-ши-хо приготовился к единоборству. Оба врага вступили в страшный бой. Силен был Сон-ши-хо, но искусен и ловок был Жень-Шерь. Он нанес Сон-ши-хо смертельный удар в грудь. В это время Ляо вскрикнула от испуга. Жень-Шень обернулся, и это погубило его. Собрав остаток своих сил, Сон-ши-хо глубоко в горло Жень-Шеню вонзил свой острый меч. И Жень-Шень и Сон-ши-хо оба пали мертвыми. Долго оплакивала красавица Ляо своего возлюбленного и своего брата, плакала она до тех пор, пока не завяла красота ее, и пока она не засохла так же, как засылает растение; а на том месте, где падали ее горючие слезы, вдруг выросло удивительное растение женьшень — источник жизни». Другие китайцы говорят, что женьшень зарождается из молнии. Вверху за облаками царство духов, владеющих всеми силами природы и посылающих на землю дожди, гром и молнию — огонь и воду. Эти две стихии есть два начала жизни: добро и зло, свет и тьма, огонь и вода; движение и покой их находятся в вечной вражде между собою, и эта вражда создала мировую гармонию. Если в то место, где из земли бьет холодный источник, дающий чистую, прозрачную воду, ударит молния, источник иссякает, а могучая сила небесного огня превращается в другую чудесную силу — в женьшень. Здесь появляется растение жизни.III. Искатели женьшеня
Ежегодно в течение всего лета, приблизительно с начала июня, китайцы — искатели женьшеня — отправляются в тайгу за дорогим корнем. Идут они в одиночку, часто без всякого оружия, с одною только молитвою и с твердой верой, что духи гор и лесов окажут им свое покровительство. Отличительными признаками этих искателей является: промазанный передник для защиты одежды от росы, длинная палка для разгребания листвы и травы под ногами, деревянный браслет на левой руке и барсучья шкурка, привязанная сзади на поясе. Шкурка эта позволяет китайцу садиться на землю и на бурелом, поросший сырым мхом, без опасения промочить одежду. Надо удивляться выносливости и терпению китайцев. В лохмотьях, полуголодные и истомленные, они идут безо всяких дорог, целиною. Все время они надламывают кусты или кладут мох и сухую траву на сучки деревьев. Это условные знаки, чтобы другой человек не шел по этому следу, потому что место это осмотрено и делать здесь нечего. Сколько их погибло от голода, сколько заблудилось и пропало без вести, сколько было растерзано дикими зверями! И все-таки чем больше лишений, чем больше опасностей, чем угрюмее и неприветливее горы, чем глуше тайга и чем больше следов тигров, тем с большим рвением идет китаец искатель. Он убежден, он верит, что все эти страхи только для того, чтобы напугать человека и отогнать его от места, где растет дорогой панцуй[362]. Тут, где-нибудь в ущелье, в тени, куда не заглядывает солнце, растет этот удивительный корень жизни, возвращающий истомленному старческому телу бодрость жизни и исцеляющий все недуги. Только чистый, непорочный человек может найти панцуй; это недоступно для человека, ведшего ранее жизнь безнравственную, это недоступно для того, кто постоянно причинял людям зло и обиды. В мгновение ока растение исчезает, корень глубоко уходит в землю, гора, где рос женьшень, начинает стонать и колебаться, и из зарослей выходит грозный охранитель лесов — тигр. Завидев женьшень, китаец искатель кидает в сторону от себя палку и, закрыв глаза рукою, с криком бросается ниц на землю. «Панцуй, не уходи! — кричит он громким голосом. — Я чистый человек, я душу свою освободил от грехов, сердце мое открыто, и нет худых помышлений». Только после этих слов китаец решается открыть глаза и посмотреть на растение. На всех дорогах, идущих через горы, на самых перевалах — всюду можно видеть маленькие кумирни, сложенные из дикого камня, с изображением богов (хуа). Кумирни эти поставлены китайскими охотниками и искателями женьшеня. Тут же где-нибудь поблизости повешены на дереве лоскутки красного кумача с надписями, сделанными тушью, следующего содержания: «Господину истинному духу гор, охраняющему леса. Моя радость сверкает, как чешуя у рыбы и красивое оперение феникса. Владыке гор и лесов, охраняющему прирост богатства. Если просят, непременно обещай — просящему нет отказа». Место, где найден корень, тщательно изучается во всех отношениях. Китаец приглядывается к топографии местности, к составу горных пород, к почве и внимательно изучает сообщество травянистых, кустарниковых и древесных растений[363]. От его внимания не ускользает положение места по отношению к солнцу и по отношению к господствующему ветру. Осмотревшись кругом, китаец становится на колени, разбирает траву руками и самым тщательным образом осматривает растение. Возможно, что найденный женьшень несколько лет назад опылился и дал семена, которые осыпались и, в свою очередь, могли дать ростки. Убедившись, что женьшень растет только один и что рядом нет других таких же растений, китаец осторожно раскапывает землю, чуть-чуть оголяет женьшень и осматривает его. По морщинкам и рубчикам на нем он определяет его достоинство. Если, по мнению женьшенщика, корень еще невелик, он оставляет его расти до будущего года. В этом случае он всячески старается привести все в прежний порядок. Корень вновь засыпается землей, примятая трава поправляется, и если есть вблизи ручей, то поливается водою, чтобы она не завяла. Если панцуй найден в периоде цветения или созревания семян, то ему дают доцвести и осыпать их на землю в той надежде, что здесь со временем вырастут другие такие же растения. Иногда семена собираются и переносятся для посадки поближе к фанзе. Самый женьшень обтыкается кругом тоненькими палочками — знак, что корень этот уже найден. Другой китаец, нашедший такой, обтыканный палочками женьшень, ни за что его не тронет. Делается это не из страха ответственности, не из суеверия — здесь просто сказывается внимание к чужому интересу. Когда пришло время, женьшень выкапывается со всеми предосторожностями. Важно, чтобы не оборвать длинные мочки, идущие от корня глубоко в землю. Самое выкапывание производится особыми костяными палочками (китайское название «панцуй цянцзы»), длиною в 15 сантиметров. Женьшенщики носят ее на поясе вместе со складным кривым ножом. Ножи эти предназначаются для меток во время пути, для очищения места вокруг женьшеня от сорной травы и кустарниковой поросли. Чтобы не потерять место, где находится корень, на тот случай, если бы он на другой год не дал ростка, китаец отмечает его оригинальным способом. Копать землю или делать заметки, которые бросились бы в глаза всякому прохожему, нежелательно. Поэтому искатель женьшеня поступает так. Выбрав какое-нибудь дерево, растущее поблизости, он делает на нем затеску, затем точно измеряет расстояние от дерева до женьшеня и настолько же продолжает линию дальше за женьшень, где и кладет камень средней величины или вбивает деревянный кол так, чтобы он только чуть-чуть торчал из земли. Таким образом, выходит, что половина линии от камня до дерева будет как раз та точка, где находится панцуй. Сюда искатель целебного корня придет в другой раз. Он будет навещать это место ежегодно. Если растение предназначается к пересадке на женьшеневую плантацию, его переносят сюда осенью. Извлеченный корень сохраняется в той земле, в которой он рос. Вместе с землей его обертывают мхом и заключают в берестяную коробку. Лет двадцать назад такие плантации были в верховьях реки Ното и на Фудзине. Одну из них я видел в 1906 году, когда с несколькими вьючными конями я пробирался через горный хребет Сихотэ-Алинь к морю. Помню, мы заблудились в бассейне реки Синанцы и не знали, как выбраться из тайги. Обдумав свое положение, я оставил своих спутников на биваке и возвратился назад к покинутой фанзе (которую мы прошли накануне) с целью посмотреть, не отходит ли от нее другая тропа в сторону. И действительно, здесь я нашел небольшую тропинку, которая привела меня к другой такой же фанзочке. В ней я застал двух китайцев. Один был молодой, а другой — старик. Первый занимался охотой, второй был искателем женьшеня. Молодой китаец был лет двадцати пята, крепкого телосложения. По лицу его видно было, что он наслаждался жизнью, был счастлив и доволен своей судьбою. Он часто смеялся и постоянно забавлял себя детскими выходками. Старик был высокого роста, худощавый и более походил на мумию, чем на живого человека. Сильно морщинистое и загорелое лицо и седые волосы на голове указывали на то, что годы его подходили к седьмому десятку. Оба китайца были одеты в синие куртки, синие штаны, наколенники и улы, но одежда молодого китайца была новая, щеголеватая, а платье старика — старое и заплатанное. На головах у того и другого были шляпы: у первого — соломенная, покупная, у второго — берестяная, самодельная. Старик держал себя с большим достоинством и говорил мало, зато молодой китаец оказался словоохотливым. Он рассказал мне, что у них в тайге есть женьшеневая плантация и что именно туда они и направляются. Я так увлекся его рассказами, что потерял направление пути и без помощи китайцев, вероятно, не нашел бы дороги обратно. Около часа мы шли косогорами, перелезали через какую-то скалу, потом спустились в долину. На пути нам встречались каскадные горные ручьи и глубокие овраги, на дне которых лежал еще снег. Наконец мы дошли до цели своего странствования. Это был северный нагорный склон, поросший густым лесом. Читатель ошибется, если вообразит себе женьшеневую плантацию в виде поляны, на которой посеяны растения. Место, где найдено было в разное время несколько корней женьшеня, считается удобным. Сюда переносятся и все другие корни. Первое, что я увидел, — это были навесы изкедрового корья для защиты женьшеня от палящих лучей солнца. Для того чтобы не прогревалась земля, с боков были посажены папоротники и из соседнего ручья проведена узенькая канавка, по которой сочилась вода. Дойдя до места, старик опустился на колени, сложил руки ладонями вместе, приложил их ко лбу и дважды сделал земной поклон. Он что-то говорил про себя, вероятно, молился. Затем он встал, опять приложил руки к голове и после этого принялся за работу. Молодой китаец в это время развешивал на дереве красные тряпицы с иероглифическими письменами. Женьшень! Так вот каков он! Нигде на земле нет другого растения, вокруг которого сгруппировалось бы столько легенд и сказаний. Под влиянием литературы или под влиянием рассказов китайцев, не знаю почему, но я тоже почувствовал уважение к этому невзрачному представителю аралиевых. Я встал на колени, чтобы ближе рассмотреть его. Старик объяснил это по-своему, он думал, что я молюсь. С этой минуты я совсем расположил его в свою пользу. Оба китайца занялись работой. Они убрали сухие ветки, упавшие с деревьев, пересадили два каких-то куста и полили их водою. Заметив, что воды идет в питомник мало, они пустили ее побольше. Потом они стали полоть сорные травы, но удаляли не все, а только некоторые из них и особенно были недовольны, когда поблизости находили элеутерококк. С уходом китайцев из тайги не все зверовые фанзочки пустеют. Некоторые китайцы живут в них постоянно в течение всей своей жизни. Это в большинстве случаев одинокие старики, давно уже порвавшие всякие связи со своей родиной. Дикая природа этих мест наложила на них свою печать. Вечные опасения за свою участь и безотчетный страх перед этой огромной лесной пустыней как будто подавляют их, — они утрачивают человеческий образ и становятся дикарями. Живут эти китайцы в самой примитивной обстановке и все цели своего существования сводят лишь к тому, чтобы найти чудодейственное растение. Здесь, в глухой тайге, они умирают одинокими, так что некому совершить над ними обряд погребения. Однажды, в 1903 году, я с шестнадцатью стрелками охотничьей команды пробирался по местности совершенно безлюдной (в истоках реки Саядагоу — перевал на Судзухе). После восьми дней пути мы остановились биваком в самых истоках реки Улахе. На другой день утром я пошел на охоту. Отойдя от бивака километра четыре, я совершенно случайно натолкнулся на маленькую землянку-фанзочку, похожую на логовище зверя. Фанзочка была пустая, но по вещам, находившимся в ней, видно было, что в ней живет искатель женьшеня. Я остался ждать. Минут через двадцать пришел хозяин. Это был глубокий старик. Надо было видеть его испуг и удивление. Он сел на землю и закричал, как раненый. Я стал его успокаивать и тут только заметил, что он болен: глаза его горели лихорадочным огнем, он кашлял, стонал и жаловался на грудь. Поохотившись в окрестностях, я пришел к нему ночевать. Мы разговорились. Оказалось, что в краю он живет шестьдесят два года и что здесь в этой землянке совершенно одиноким он прожил подряд около двадцати двух лет. За все это время он знал только двух китайцев. Других людей он не видал. Одни и те же, они один раз в году приходили к нему с вьючными конями, привозили буду, соль и кое-что из одежды, а взамен этого забирали у него ту пушнину (хорьков, белок и случайного соболя), которых он мог поймать на своих 50 ловушках. Питался этот старик только горстью чумизы и тою живностью, которую он добывал своим звероловством. Вечером старик заболел; он стонал и жаловался на грудь. Ночью два раза я затапливал печь. К утру он немного успокоился и уснул. Когда совсем рассвело, я не стал его будить, тихонько вышел и через полчаса присоединился к своему отряду. Через тридцать восемь дней случилось мне возвращаться опять тою же дорогою. Я предложил своим спутникам навестить моего нового знакомого. Когда мы вошли в фанзу, то увидели, что старик лежал на нарах мертвым, в том положении, как я оставил его при уходе. Мы завалили землянку камнями и буреломом. Без малого только через полгода, быть может, к нему пришли опять те же два китайца и тогда похоронили его по своему обряду. Как только подуют сухие северо-западные ветры и деревья под влиянием утренних заморозков разукрасятся всеми цветами радуги, кончается женьшеневый промысел. В это время в тайге разыгрываются кровавые драмы. Осенью, с наступлением холодов, измученные и изнуренные долгим скитанием по лесу, с драгоценной ношей в руках, искатели стремятся к земледельческим фанзам в надежде снискать там себе покой и пропитание. Ужасные голодовки, кровожадные звери и нечеловеческие лишения, которым неизбежно подвергается всякий женьшенщик за попытку бороться с природой там, где она наложила свое вето[364], — все это как будто осталось позади. Но еще большая опасность ожидает его впереди. Там, где долина суживается, чтобы только оставить проход горной речке, где-нибудь за камнями с винтовкой в руках караулит грабитель. Искатель женьшеня знает это и торопится скорее пройти опасное место. Вот он почти прошел его, и вдруг небольшая струйка дыма мелькнула в кустах. Звук выстрела подхватило гулкое эхо. Китаец как-то странно рванулся вперед, ноги его подкосились. Он взмахнул руками и грузно повалился на землю. Тотчас из кустов вышел грабитель-промышленник и торопливым шагом подошел к убитому. Привычной рукой он обшарил его, достал берестяную коробочку с драгоценным корнем и сунул ее себе за пазуху. Затем он поднял свое ружье и, не оглядываясь, быстро направился в горы. Скоро ночная мгла, словно траурная вуаль, стала спускаться на землю. Так иногда погибает искатель женьшеня за то растение, которое он считает источником жизни…
Охота на соболя

Амурский соболь является ближайшим родственником куницы, которая и замещает его в местах исчезновения.
По наружному виду он кажется величиной с небольшую кошку, но на самом деле значительно меньше. Тело его длинное, тонкое и чрезвычайно гибкое, вследствие чего он пролезает в такие маленькие отверстия, через которые другие животные его размеров проникнуть не могут. Относительно сильные ноги соболя снабжены крепкими когтями, дающими ему возможность быстро взбираться на деревья. Конусообразную его головку, с большими опушенными ушами и черным подвижным носиком, можно было бы назвать красивой, если бы впечатление это не портилось злобным выражением черных глаз. Зубы у него мелкие, острые, но тем не менее раны, наносимые соболем, могут быть серьезны.
Голос, издаваемый соболем, похож на фырканье и мурчанье. Поставленный преследователем в безвыходное положение, он смело бросается на врага; даже запертый в клетку, он норовит неожиданно напасть на человека, неосторожно взявшегося руками за железные прутья. В случае неудачи он тотчас же скрывается в самом отдаленном углу своей темницы.
Основной цвет соболя бурый, причем окраска эта сильно варьирует от темно-бурого до рыже-бурого, буро-серого, желтовато-серого и даже белого цвета. Последние две отмастки попадаются очень редко. В Уссурийском крае на окраску соболя влияет и широтное распространение: так, мех соболей к востоку от Сихотэ-Алиня темнее и пушистее, чем в бассейне правых притоков Уссури.
Спина соболя темнее, чем бока; брюшко, как у всех животных, светлее, чем другие части тела. Шейка снизу желтоватая, с нежным розовым оттенком, который у мертвого животного скоро выцветает. Это, так сказать, «живой» цвет меха. Самые дешевые соболи — серо-бурые. Иногда, очень редко, встречаются соболи пегие, с белыми отметинами: пегоголовые, пегоногие, пегохвостые. Эти смешанные окраски присущи только самкам, самцы же всегда бывают однотонны. Мордочка соболя черная; внутренняя сторона лапок светлее, чем снаружи; хвост всегда темный.
В 1909 году на реке Самарге, в местности Кивета (в пяти километрах от моря), в хвойно-смешанном лесу был убит соболь, сидевший на дереве. Этот зверек имел такую оригинальную окраску, что его сначала даже и не приняли за соболя. Он был весь желтовато-розового цвета, и только по спине тянулась едва заметная темно-серая полоска; брюшко было снежно-белое. Месяца через два шкурка выцвела и приняла грязно-белую окраску.
Как редкость, встречаются соболи совершенно белые, но это не альбиносы — это естественная окраска животного, так как губы и нос у них пигментированы и глаза не красные. Такие шкурки имеют лишь интерес музейный. Много их достать нельзя, а одна белая среди темных только мешает и даже некоторым образом обесценивает всю партию.
В Уссурийском крае соболь распространен повсеместно, повсюду, где сохранились большие хвойно-смешанные леса.
Нет сомнения, что соболь водится в Черных горах около Хунчуна, в лесах Северной Кореи и в Сунгарийском крае (сансинский соболь). В общем Уссурийский край во много раз богаче соболями, чем Амгунский район и Амурская область. Здесь путник постоянно встречает соболиные следы в виде экскрементов на колоднике не только зимой, но и летом.
В 1909 году в верховьях реки Самарги трое удэхейцев поставили в шести местах по двенадцати лучков (маленький лук-самострел). Эти семьдесят два лучка в одни сутки дали шесть соболей.
Староверы-соболевщики полагают, что есть соболь «местный» и «ходовой». Это подтверждают и китайцы. «Местным» они называют такого соболя, который постоянно живет на данном месте и от своего жилья далеко не уходит. Подошвы его лапок покрыты шерстью и когти длинные, острые. У «ходового» соболя шерсть на лапках вытерта и когти притуплены. По степени вытертости шерсти на лапках соболевщики судят о пройденном зверьком расстоянии. Следы «ходового» соболя по снегу видны ясно, отчетливо, а следы «местного» соболя видны только на свежей пороше.
Китайские звероловы уверяют, что по качеству меха и окраске они могут определить, откуда пришел соболь и где его родина — прибрежный район или правые притоки Уссури.
Туземцы в большинстве случаев на задаваемые вопросы по этому поводу отвечали так: если следы соболей идут вразброд в разные стороны, то зверьки живут здесь постоянно и бегают лишь за добычей. Но иногда замечают, что большинство следов (в особенности если снег выпадает рано) идет в одном направлении. В этом туземцы усматривают перекочевывание соболя вследствие недостатка корма.
Соболь обитает по верховьям малодоступных рек, в первобытных девственных лесах, где еще не стучал топор дровосека, где пожары не уничтожили подлесья и где достаточно бурелома. Леса Уссурийской тайги по первому впечатлению кажутся безжизненными: ни единый звук не нарушает их торжественной тишины. И вот такие-то глухие места и являются, по-видимому, любимым местопребыванием соболя. Пищею ему служат мыши, бурундуки, сеноставцы, зайцы, белки и разные птицы (чаще всего рябчики). В голодные годы, когда соболь не может найти себе пищу в хвойном лесу, он выходит на поляны и ест все, что ему попадется. Иногда он залезает в амбары туземцев и грызет юколу. Однако он не прочь полакомиться и свежей рыбой и даже предпочитает ее сухой.
Будучи смелым и ловким, соболь решается нападать даже на таких крупных животных, как кабарга. Однажды (на реке Кулумбе, притоке Имана, в ноябре 1906 года) автор видел следы борьбы между этими двумя животными. Прыгнув на спину кабарги, соболь старался перегрызть артерию на шее.
Молодая кабарга обычно гибнет, но взрослая начинает кататься по земле и таким образом сбрасывает с себя маленького, но страшного для нее хищника. Последний, благодаря своим небольшим размерам, ловко прячется в траве, среди мха и мелких веток. Зимой он подкрадывается к своей добыче, совершенно скрываясь в снегу. Он легко переносит голод и может подряд несколько суток обходиться без пищи.
Летом соболь ест кедровые орехи и в особенности любит кишмиш[365]. Подыскивая места для охоты, староверы еще с лета присматриваются, достаточно ли в данном месте бурундуков, мышей и мелких птиц, где именно растет кишмиш, как он цветет и будут ли на нем ягоды.
В лесу соболь мало ходит по земле; он предпочитает бегать по валежнику. Прыгая с колодника на колодник, соболь ухитряется проходить таким образом иногда значительные расстояния. Случается, что на протяжении полукилометра он ни разу не сойдет на землю. Когда туземцы идут за соболем, они ищут следы его не на земле, а на поваленных на землю и запорошенных снегом деревьях. Точно так же и староверы, подыскивая летом места для звероловства зимой, внимательно осматривают бурелом, нет ли на нем соболиных экскрементов.
В Уссурийском крае первыми охотниками на соболей были туземцы: гольды, орочи и удэхейцы. Раньше специальной охотой на соболя они не занимались и убивали только тех соболей, которые случайно попадали в их ловушки.
Мех соболя шел для личных нужд: на головные уборы, наушники, рукавицы и т. д.
Тогда туземцы особенно ценили мех росомахи, и соболей было больше. Старики рассказывают, что лет семьдесят назад в лесах их было так много, что хороший охотник без особого труда в течение зимы мог поймать до полутораста животных.
Но в начале XIX столетия в край прибывают китайцы. Они жадно набрасываются на соболей. С тех пор соболий мех начинает подниматься в цене, а у туземцев появляются ружья — старые, «фитильные», за которые они платили по шестьдесят и семьдесят отборных шкурок, и за четыреста граммов пороху — по два-три соболя.
Следом за купцами в крае появляются китайские охотники и самыми последними — корейцы. Те и другие усвоили сущность звероловства и занялись им повсеместно. Русские стали заниматься соболеванием весьма недавно (лет двадцать пять назад, не далее).
Вместе с тем количество добываемых соболей начинает быстро сокращаться. В 1891 году опытный туземный охотник добывал девяносто семь соболей. В 1904 году трое удэхейцев с реки Такемы за два года поймали восемьдесят шесть соболей, что составляет по 14,4 соболя в год на человека. В 1909 году средняя добыча на охотника исчислялась в девять соболей.
В 1929 году в Уссурийском крае было добыто две тысячи четыреста соболей, оцениваемых в среднем двести пятьдесят рублей за шкурку. Наиболее ценные экземпляры доходили до тысячи пятисот рублей.
В настоящее время поставщиками собольих шкурок являются туземцы, китайцы, корейцы и русские. У каждого народа — свои способы соболевания. Рассмотрим каждый из них в отдельности.
Способы звероловства у всех тунгусских народностей весьма похожи друг на друга. Различие заключается только в деталях.
Соболевание для туземного охотника — это то, что наполняет его жизнь. С малых лет он видит, как с наступлением осенних холодов отец и старшие братья собираются на охоту за соболем, они плетут сетки, починяют нарты, шаманят и просят у своих богов удачи на промысле. Выезд на охоту — это своего рода праздник. Женщины и дети выходят из дому провожать своих мужей и братьев и машут им руками до тех пор, пока нарты с собаками не скроются за поворотом. Соболюют туземцы большей частью в одиночку. Прибыв на место, они разводят огонь и приносят жертвы лесным богам, а затем приступают к постройке юрты. Около нее на дереве вырезается грубое изображение человеческого лица — тору, перед которым в случае неудачи сжигаются сухие листья багульника. Все сказки туземцев полны охотничьих приключений, и нередко в них фигурирует соболь. От удачного промысла зависит многое.
Туземцы консервативны: большинство из них сохранило свои примитивные способы соболевания до сих пор. Сказанное не относится к южноуссурийским удэхейцам, которые совершенно окитаились и ныне ловят соболей китайским способом.
Самый любимый и самый первобытный туземный способ охоты на соболя — это выслеживание его по снегу.
Соболь — животное ночное. Ночью он бегает в поисках добычи, а днем прячется где-нибудь под пнями или в дуплах деревьев. Поэтому успех охоты зависит от того, где найдет соболя охотник. Этот способ требует большого терпения и навыка. Поистине достойны удивления те приемы, к которым прибегают охотники, чтобы выследить и поймать дорогого хищника.
Надо поражаться, как хитрит соболь, путает свои следы, чтобы уйти от преследователя. Он делает петли и старается идти по валежнику, где снег сдуло ветром. Иногда он влезает на дерево с наветренной, запорошенной стороны так, чтобы следы его были ясно видны. Поднявшись до самой вершины, соболь спускается вниз по другой стороне дерева — голой, затем спрыгивает на свой прежний след и возвращается назад. Он осторожно ставит свои лапки в ямки старых следов так, чтобы их не испортить. Найдя поблизости какой-нибудь пень, соболь прыгает на него, затем совсем зарывается в снег и проходит под ним двадцать — тридцать шагов в сторону. Бывает так, что, идя по наклонному валежнику, соболь вдруг делает большой прыжок на соседнее дерево. Завершив круг, он выходит на речку и прыгает с камня на камень, потом уходит под бурелом, нанесенный водою, а иногда забирается под яр реки, где нависшие сверху дернины совершенно скрывают его следы от охотника.
Тут долго приходится искать следы в надежде, что незамерзший песок или случайно нанесенный через какое-нибудь отверстие снег укажут, в какую сторону пошел соболь. Нужно быть чрезвычайно внимательным, нужно хорошо знать все повадки хитрого зверька, нужно быть настоящим следопытом, чтобы расшифровать хитро сплетенные петли соболя.
Трудно сказать, сколько времени займет такая охота. Это зависит от свежести следа и от навыка самого охотника. Иногда соболя удается найти через несколько часов, чаще же всего на преследование его тратится двое-трое суток.
Надо поражаться выносливости туземцев. Зимою в глухой тайге, без палаток, в легкой одежде они подолгу гоняются за соболем — и в результате нередко охота бывает неудачной. Случается, что после долгого преследования охотник обнаруживает совершенно свежий след дорогого хищника, а сумерки принуждают его остановиться. Тогда он ночует без огня, чтобы не испугать соболя, иначе последний уйдет, и охотник будет вынужден вновь гоняться за ним двое суток.
Необходимой принадлежностью охоты на соболя является сетка. Она представляет собою узкий мешок, длиною пятьдесят — шестьдесят сантиметров, заканчивающийся веревкой, при помощи которой вытянутая сетка привязывается к колу или стволу дерева. Для того чтобы она не спадала, внутри ее помещают несколько тонких деревянных колец.
Найдя пень, в котором спрятался соболь, охотник спешит прежде всего заткнуть в нем отверстия. После этого он начинает разрывать вокруг пня снег на тот случай, если бы под ним оказались еще выходы наружу. Если снег не сыпучий, а рыхлый и сырой, то его просто утаптывают ногами. Когда все готово, охотник открывает входное отверстие и вплотную приставляет к нему сетку. Иногда бывает достаточно этого. Человек садится в стороне и, соблюдая возможную тишину, ожидает, когда соболь выйдет из своего убежища.
Напуганный зверек сначала притаится в пне, а затем, когда станет тихо, вылезает и попадает в сеть. Не теряя времени, охотник бросается к соболю и прижимает его к земле палкой от лыж, или рукояткою топора, или же тем, что попадет под руку, и давит его.
Может случиться, что под пень, где укрылся соболь, ведут два хода. В таком случае к одному отверстию охотник ставит сеть, а у другого раскладывает огонь. Тогда дым выживает соболя и принуждает его спасаться бегством.
Когда соболь попадает в сетку, охотник не зевает. Опытные звероловы имеют на руках кожаные рукавицы, джутовый мешок или кусок мягкой кожи и т. п. Схватив одной рукой зверька за голову и зажав ему рот, другой — за задние ноги, охотник прижимает его к земле и давит его коленом.
Если соболь укрылся в дупле, то опять-таки затыкаются в нем все ходы и выходы, а затем дерево внимательно осматривается — как оно стоит и куда при рубке будет падать. Молодняк, который может помешать падению дерева, удаляется. Казалось бы, что при рубке дерева соболь может убежать во вновь образовавшееся отверстие, что он и сделал бы, если бы это было ночью и кругом было тихо. Но днем от шума он забивается в самую верхнюю часть дупла и сидит там притаившись. Поэтому охотники работают без опаски. Наконец дерево падает, нижнее отверстие дупла тотчас закрывается сеткой, полотнищем палатки, одеждой, корьем, травой — одним словом, всем, что попадает под руку. Чаще всего поступают так: когда дерево близко к падению, рядом раскладывается костер. Как только дерево упадет, костер быстро подвигается вплотную к дуплу. После этого охотники прорубают небольшое отверстие в верхней части дупла и приставляют к нему сетку. Спасаясь от дыма, соболь выходит наружу и попадает в ловушку.
Если снег неглубокий, если поверхность земли неровная, а дерево гнилое и охотники знают вперед, что при падении оно разломится на два-три куска, то, как только оно рухнет, они бросаются к верхнему обломку и затыкают чем-нибудь его отверстие.
Если дерево упало все целиком и соболь бегает по дуплу взад и вперед, ища выхода, то охотники, чтобы загнать его в вершину, поступают следующим образом. В некотором расстоянии от комля они прорубают небольшое отверстие, сквозь которое палкой принуждают соболя перейти в верхнюю часть дерева. Ниже этого отверстия дерево перерубается, и дупло затыкается сеткой. Потом опять делается в дереве маленькое отверстие, соболь палкой вновь перегоняется к вершине, опять дерево перерубается, и дупло затыкается. Таким образом соболь загоняется в самый верхний обрубок. Опытные охотники ухитряются обрубок этот сделать не более двух футов. Снаружи они прорубают два-три маленьких отверстия для воздуха и света, сквозь которые виден пойманный зверек. В этом обрубке, как в клетке, живой соболь приносится домой.
Так как в поимке живого соболя у туземцев нужды не было, то вышеописанный способ, как требующий слишком много времени, применялся весьма редко, разве только по специальному заказу или по требованию шамана, когда, по его соображениям, нужно камланить[366] над живым соболем, дабы дать хорошую охоту своим сородичам.
Случается, что при падении дерево раскалывается вдоль. Тогда соболь убегает, и охотнику надо выслеживать его снова.
Если соболь скрылся в каменистых россыпях, туземцы считают охоту потерянной. Россыпи обыкновенно занимают большое пространство, и в камнях есть много ходов и выходов.
В таком случае охотники бросают охоту и ищут другой след или же остаются ждать, пока соболь сам не выйдет наружу.
Другой туземный способ охоты на соболя — это лучковый.
Заметив, что соболь прошел несколько раз по одному и тому же месту, они настораживают на тропе его самострел (лучок). Удэхейский лучок состоит из четырех частей: 1) стойки, к которой прикреплен лучок в вертикальном положении, 2) лука с тетивой, длиною в один метр и десять сантиметров, 3) стрелы с острым железным наконечником и 4) тонкой бечевы. Бечева эта оканчивается с одной стороны петлей, а с другой — волосками, расположенными треугольником, вершина которого находится у нижнего конца бечевы, а третий волосок протянут горизонтально, но на таком расстоянии от земли, чтобы соболь никак не мог пройти, не задев его спиною или головою.
Волосков на фоне снега не видно — они белого цвета. Если соболь и заметит поперечный волосок и пожелает перепрыгнуть через него, он непременно заденет за боковые волоски, малейшее движение которых заставляет петлю соскочить с курка, тетива освобождается, и стрела с силою бьет в то место, где находится животное.
Неудобство этого способа охоты заключается в том, что стрела портит шкурку соболя. Поэтому орочи Советской гавани иногда ставят на следу особые ловушки с петлями.
Эти ловушки устроены так. В землю или на колоднике вбиваются два небольших колышка, на которые кладется поперечина. В середину этой поперечины вставлена палочка, имеющая на нижнем конце небольшую зарубинку. Эта последняя служит для удержания крученой волосяной петли в вертикальном положении. Если ее сдвинуть хоть немного, она тотчас же падает. Соболь, желая проскочить между колышками, задевает петлю, увлекает ее за собой и тем приводит в действие весь механизм ловушки; конец петли прикреплен к согнутому дереву; как только соболь потянет ее за собой, дерево быстро выпрямляется, и пойманное животное повисает в воздухе.
Неудобство этого рода ловушек заключается в том, что если они долго стоят в бездействии, то согнутое дерево теряет свою упругость. Затем, если соболь попал в петлю не головой, а лапкой, то он хотя и повисает на веревке, но иногда может дотянуться до волосяной петли и перегрызть ее зубами. Кроме того, мертвый соболь является приманкой для ворон и других хищников.
Орочи Советской гавани ловят соболей тремя способами: 1) способом, только что описанным, — при помощи петли, привязанной к согнутому дереву, играющему роль пружины, 2) при помощи лучка, настораживаемого на соболином следу, и 3) выслеживанием и ловлей сеткой из-под пня или дупла дерева.
Китайцы ловят соболей ловушками, которые называются дуй. Отсюда и название зверовой китайской фанзы — дуй-фанза. Русские называют эти ловушки плашками и кулемками.
Китайская ловушка дуй устроена следующим образом. На валежнике в два ряда вбиваются колышки от пятнадцати до двадцати пяти сантиметров вышиною, которые образуют нечто вроде коридора, суженного книзу и расширенного вверху, длиною в девяносто шесть сантиметров. Над «лежнем» (так будем называть валежину, на которой устроена ловушка) в висячем положении находится другое бревно, меньшее по размерам, длиною в два метра. Одним концом оно упирается в кол, вбитый в лежень, а другой конец его приподнят и находится на весу на высоте трех-четырех футов. Между рядами колышков положены две тонкие дранки, которые внешними концами приходятся на лежне, а внутренними (в середине коридора) — на двух коротеньких прутиках, заложенных под небольшие вырезки двух ближайших приколышей. Отсюда идет веревочная «снасть» к верхнему бревну, которое удерживается на весу особым рычагом в виде неравномерного коромысла. Рядом с лежнем стоит ствол молодого деревца, вбитого в землю верхней частью (комлем кверху). Все корни его обрублены, кроме одного. На этом-то корне и находится точка опоры рычага. К одному концу его привязана снасть, а другой подходит под крюк, вбитый в верхнее бревно.
Когда соболь бежит по валежнику, он волей-неволей должен идти по дранкам между колышками. Своей тяжестью он сдвигает прутики у приколышей, веревочная снасть освобождает коромысло, верхнее бревна падает и давит соболя.
Неудобство этих ловушек заключается в их сложности, а также в том, что они давят не только соболей, но и белок, бурундуков, ореховок, соек, рябчиков и других мелких животных и птиц. Случается, что по ловушке, которая только что задавила бурундука, следом проходит соболь. Кроме того, убитый соболь находится на виду, и его часто расклевывают птицы, поедают хорьки или мыши.
Ставить такую ловушку (дуй) надо умеючи. Если ее поставить слабо, то она будет давить всех бурундуков, мышей и разных мелких птиц. Если же ее поставить туго, то она не будет действовать даже в том случае, если через нее пробежит соболь. Надо иметь в виду и то обстоятельство, что, проходя по дранкам, соболь, чувствуя зыбкую почву под ногами, идет осторожно, с опаской и не делает прыжков.
Осенью, как только поля убраны и наступают холода, китайцы уходят в тайгу на соболевание. В фанзах остаются только глубокие старики и калеки, не способные работать. Здесь, в глухой тайге, в маленьких фанзочках охотники живут в одиночку, иногда по два и по три человека вместе.
Ловушки их расположены по круговой тропинке, обыкновенно их от трехсот до двух тысяч штук. Работа китайца соболевщика очень тяжелая. Чуть свет он уже на ногах и, несмотря ни на какую погоду, должен ежедневно делать обход своих ловушек. С маленькой котомкой за плечами он бежит по тропе и подходит только к упавшим ловушкам. Быстро, без проволочек, он собирает добычу, налаживает ловушку снова и снова бежит дальше. Уже совсем к сумеркам китаец успевает пройти только половину дороги. Тут у него построен маленький балаганчик из древесного корья. Переночевав здесь у костра, на другой день с рассветом он проходит другую половину дороги, вновь на бегу собирает добычу и только к концу дня добирается до своей фанзы. А назавтра он опять уже на работе и опять осматривает ловушки — и так изо дня в день подряд в течение нескольких месяцев.
Сезон соболевания продолжается до тех пор, пока глубокие снега не завалят ловушки. Тогда звероловы оставляют тайгу и возвращаются к своим обычным занятиям. Раньше уходят те, у кого мало съестных припасов.
За последние пять лет китайцы научились от туземцев ходить на лыжах и выслеживать соболей по снегу. Поэтому многие из них остаются теперь в зверовых фанзах на всю зиму до весны, и если возвращаются в селения, то лишь для того, чтобы пополнить запасы продовольствия.
Корейский способ ловли соболей иной. Корейцы производят ловлю мостами, устраиваемыми в таких местах, где поваленные через речку деревья могли бы достать до другого берега. Дерево не должно быть особенно большим: пятьдесят — семьдесят сантиметров в окружности и метров десять длиною. Отсюда ясно, что корейцы соболюют по верховьям рек, где ширина их не превышает этого размера и где, следовательно, глубина не более одного метра, т. е. как раз в самых излюбленных соболями местах.
Посредине моста (дерево, переброшенное через реку) вбиваются колышки, преграждающие путь соболю. Чтобы замаскировать ловушку, корейцы делают колышки разной длины, не снимают с них кору и переплетают одной-двумя тонкими еловыми веточками. В одном месте оставляется узкий проход, в котором в вертикальном положении ставится плетеная волосяная петля, а для того, чтобы соболь не мог обойти изгородь стороной, дерево на этом месте гладко отесывается с обоих боков на четверть его толщины.
Волосяная петля свободным концом привязывается к небольшой палочке, имеющей маленький выступ, которым она и держится на особом колышке, вбитом сбоку в бревно. К другому концу этой палочки привязан камень от одного и трех десятых до двух килограммов весом.
Такие мосты устраиваются в расстоянии примерно двухсот метров друг от друга, для чего пользуются буреломным лесом по берегам рек. В местах, где бурелом сносится водою, корейцы ежегодно валят новые деревья для устройства соболиных мостов. Обочины речек бывают так оголены корейцами, что для устройства переправ невозможно найти ни одного дерева, которое, будучи повалено, достигло бы противоположного берега.
Хоть соболь и хорошо плавает, но в воду идет неохотно и всегда ищет переправы. Перебегая по мосту, он натыкается на изгородь, пробует обойти ее стороной, но гладко отесанные бока дерева принуждают его направиться к отверстию с петлей. Когда зверек заденет петлю (она нарочно делается малого размера) и потянет ее за собою, он непременно сдвинет палочку с упорца, — камень срывается и увлекает соболя в воду.
Корейцы говорят, что их способ поимки соболей лучше китайского и что их ловушки действуют наверняка. Нельзя с этим не согласиться. У китайцев случается иногда, что плохо придавленный соболь уходит из ловушки, перегрызая колышки по сторонам. В корейской ловушке ему нет спасения: камень всегда его утопит. На дне речки он лежит сохранным, и кореец не боится, что шкурку соболя попортят вороны.
Неудобство корейского способа заключается в том, что ловить соболей этим способом можно только в начале зимы, пока реки не замерзнут. В Южно-Уссурийском крае это возможно до 1 декабря, но по мере движения к северу время соболевания корейским способом сокращается: в районе Советской гавани оно длится не более месяца.
В Приамурье способ охоты на соболя с собакой почему-то не применяется. Несколько раз сюда приезжали охотники из Сибири, но все старания их, несмотря на обилие соболей, не увенчались успехом, и разочарованные соболевщики возвращались обратно на родину. Причины этого, вероятно, надо искать в чрезвычайно пересеченной местности (вследствие чего за горами часто не слышно бывает лая собаки), в густоте подлесья, среди которого много колючих растений, и в заваленности тайги буреломом, затрудняющим движения собаки и охотника, а также и в многочисленных каменистых россыпях по склонам гор.
В Уссурийском крае из русских переселенцев ловлей соболей занимались только старообрядцы, живущие по рекам Даубихе, Улахе и на берегу моря, около мысов Белкина, Арка и Олимпиады. Они убедились, что на одном земледелии далеко не уедешь. Они видели, как на их глазах обогащались китайцы и что главным источником обогащения их было соболевание. Староверы не ограничивались одним каким-либо способом, а использовали все приемы, какие только им были известны.
Так, осенью, пока не замерзли речки, они ловят соболей корейским способом; позже, когда в речках появляются забереги, позволяющие соболю перепрыгивать с одного края льда на другой, они пользуются китайскими плашками, и, наконец, во вторую половину зимы, когда выпадает глубокий снег, они начинают выслеживать соболя так, как это делают туземцы. В последнем случае в дело пускаются соболиная сетка, о которой говорилось выше, и обмет.
Обметом называется тоже сетка длиною в двадцать метров, шириною в один метр, с очком в два сантиметра. Этой большой сеткой окружается то место (небольшая каменистая россыпь, пень, нора бурундука и т. д.), где скрылся соболь. Обмет ставится таким образом, что верхние края его загибаются внутрь (обтягиваются шнурками), что препятствует соболю уйти, если бы он вздумал взбираться по сетке кверху. Охотник садится в стороне и ожидает, когда соболь выйдет из своего убежища. Если сеть оставлена на ночь, то к верхнему краю ее привязываются два-три бубенчика, колокольчики или какие-нибудь побрякушки. Звон их дает знать охотнику, что соболь вышел и старается выбраться из обмета. Тогда он дергает за шнурок, сетка падает внутрь и прикрывает собою зверька. Испуганный соболь начинает метаться и окончательно запутывается в сети.
Охота на соболя сопряжена с риском для жизни. Опасность является совершенно неожиданно и притом с той стороны, откуда ее, казалось бы, и ожидать нельзя.
Так, в 1904 году китаец Лю Сун-тян, с реки Санхобе, отправился на соболевание в верховья реки Кулумбе, берущей начало с западных склонов Сихотэ-Алиня.
Лю Сун-тян был добычливый охотник. Как старожил, он хорошо знал, что в Уссурийском крае первая половина зимы бедна атмосферными осадками и снега обычно выпадают лишь в феврале или в марте. Рассчитывая возвратиться заблаговременно, он взял с собою столько продовольствия, сколько мог унести на себе в котомке.
Лю Сун-тяну вначале повезло. Ловушки свои он осматривал через день, и не было случая, чтобы он возвращался с пустыми руками. Через месяц он уже имел девятнадцать отборных соболей, один другого лучше.
Но вот в начале декабря ночью совершенно неожиданно разразилась жестокая пурга и выпал глубокий снег, заваливший все его ловушки. Для очистки совести Лю Сун-тян хотел было все же обойти их, но с первых же шагов убедился, что это невозможно. Снег был глубиной по пояс. Тогда он решил прекратить соболевание и возвратиться в селение. Целый день он прокладывал себе дорогу по глубокому снегу и за весь день прошел не более полукилометра. Погода хмурилась, можно было ожидать новой пурги, и это принудило его вернуться обратно в зверовую фанзу. Между тем продовольствие быстро приходило к концу. Раньше, до снега, соболиные ловушки ежедневно давали ему рябчиков и белок, а теперь он питался тем, что захватил с собою из дому. Лю Сун-тян стал сокращать порцию с целью растянуть продовольствие на возможно большее число дней и от этого еще более обессилел.
Он слышал, что северные туземцы в таких случаях пользуются лыжами, но он не знал, как они делаются. Никакого другого инструмента, кроме топора, у него не было. Он вытесал две длинных доски, но сломал их с первых же шагов. Наконец настал момент, когда он израсходовал последние крошки продовольствия. Следующие дни он питался отбросами, которые выискивал в снегу около фанзы, а когда иссяк и этот источник пропитания, он принялся есть ремни от обуви. В конце концов очередь дошла и до соболей. Он опаливал их, мелко крошил, варил в котелке и эту своеобразную лапшу глотал с большой жадностью.
Время шло. Солнце поднималось все выше и выше. Пришел февраль. Снег, пригретый солнечными лучами, занастился[367]; потом опять ударил мороз с ветром. Когда Лю Сун-тян изрезал последнюю шкурку, он на глиняной стене фанзы сделал надпись углем, указал число съеденных им соболей, оделся и вышел. Недели через две его нашли другие соболевщики километрах в пяти от зверовой фанзы. Он стоял замерзшим в глубоком снегу, прислонившись к дереву. Одежда его была изодрана в клочки, а вся кожа на ногах, от ступни до колена, была ободрана острыми, режущими краями наста.
Другой трагический случай произошел в 1908 году на реке Тудагоу, притоке Даубихе.
Кореец Чом Ба-ги отправился в тайгу устраивать соболиные ловушки.
Место для охоты он выбрал весьма удачно. Обильный водою горный ручей и густой хвойно-смешанный лес, где было много рябчиков, бурундуков и белок, обещали ему богатую добычу.
К концу недели Чом Ба-ги устроил шестьдесят девять мостов. Он решил поставить еще один, последний мост и вернуться назад в селение, а с наступлением заморозков прийти сюда снова и приступить к соболеванию.
Как раз в том месте, где надо было устроить последний мост, поперек ручья лежала большая старая ель, хвоя с которой уже осыпалась и все ветви были обломаны. Только один сук, как раз на том месте, где нужно было ставить петлю, торчал кверху.
Кореец острым топором отсек его, но не у самого основания, а выше. Удар пришелся наискось, вследствие чего обрубленная ветка свалилась в воду, а на стволе осталась заостренная часть ее сантиметров в сорок длиною.
Чом Ба-ги перешагнул через нее, прошел по всему бревну до комля и затем повернулся назад. В это время подгнившая кора ели не выдержала давления ноги и сорвалась с заболони[368], вследствие чего кореец, потеряв равновесие, упал.
Заостренный сук пронзил его насквозь.
Прошел месяц, другой. О Чом Ба-ги ни слуху ни духу. Тогда сородичи пошли его искать и нашли несчастного зверолова мертвым. Он лежал поперек ели, ноги были свешены на одну сторону, конец заостренного сука торчал из спины, а по телу его, запорошенному снегом, соболь проложил себе дорогу.
Таких примеров можно было бы привести много. Я ограничусь только тремя, из которых последний ярко иллюстрирует, в какое тяжелое положение попадают иногда охотники в глухой тайге, находясь в полной зависимости от окружающего их животного мира.
Старый удэхеец Люрл, с реки Кусуна, в 1907 году рассказал мне следующий случай, который произошел с ним на реке Тахобе, когда волосы его не были так белы и глаза так плохи, как теперь.
Соболевал он на реке Цзаво, где у него была небольшая зверовая фанзочка, сложенная из накатника и обмазанная глиной. Она имела одно только окно, в которое были вставлены два куска стекла, склеенные узкой полоской бумаги. Окно это находилось почти на уровне земли, так как этой стороной фанза была несколько вкопана в землю. Вход прикрывался узкой дощатой дверью с ременными петлицами, надетыми на деревянные колышки. Никакого другого запора не было.
Как-то раз Люрл не пошел осматривать соболиные ловушки. С утра погода хмурилась, дул сильный ветер, — начиналась пурга. Удэхеец весь день провел за домашними работами, но незадолго до сумерек в фанзе вдруг сразу сделалось темно. Он взглянул на окно и увидел, что кто-то заслонил его. Тогда Люрл зажег огонь и поднес его к стеклу. То, что он увидел, заставило его задрожать от страха, быстро погасить огонь, затем тихонько подойти к двери и при помощи веревок начать изнутри запирать ее как можно крепче. В окне он увидел полосатый бок тигра. Страшный зверь, видимо, искал защиты от ветра и привалился к стене фанзы, как раз к тому месту, где было окошко.
Через щели в дверях Люрл видел, как померк солнечный свет и наступила ночь. Он сидел ни жив ни мертв и боялся пошевелиться. Как на грех, он испортил замок своего ружья и потому оставил его в селении. Первый раз в жизни он отправился в тайгу безоружным.
Когда стало светать, тигр встал, встряхнулся и отошел от окна. Люрл обрадовался, думая, что он ушел совсем. Прождав с четверть часа охотник подошел к дверям с целью снять запоры и вдруг увидел пестрое чудовище как раз против себя.
Тигр лежал на брюхе, вытянув передние лапы, и внимательно смотрел на дверь.
Безумный страх овладел звероловом. Он понял, что тигр охотится за ним. К вечеру пурга окончилась, кругом воцарилась тишина, и тогда Люрл ясно слышал, как полосатый хищник ходил вокруг фанзы, и видел лапу его в окне. Один раз тигр даже взобрался на крышу, словно желая проверить, нельзя ли как-нибудь сверху проникнуть внутрь жилища.
Еще одну ночь Люрл провел без сна, вздрагивая от каждого шороха и испуганно поглядывая на дверь и окно. На третьи сутки тигра совсем не было видно. Люрл хотел было открыть дверь и убежать, но когда он стал возиться около двери, страшный зверь одним прыжком опять очутился перед фанзой.
Люрл совсем потерял голову. Он голодал, потому что все продовольствие хранилось снаружи, в особом амбарчике на сваях.
К счастью, в это время послышались голоса. То были охотники из соседней зверовой фанзы.
Тигр тотчас скрылся в зарослях. Люрл вышел из своей темницы и увидел трех вооруженных удэхейцев с собаками. Они разложили три костра вокруг фанзы и сделали несколько выстрелов в воздух. Однако тигр оказался из трусливых и ночью, перед рассветом, задавил всех собак.
На другой день удэхейцы, обсудив положение, решили возвратиться обратно.
Прошло два месяца. Когда стали таять снега, старик Люрл с одним из своих сородичей отправился осматривать ловушки. Немногие из них пустовали, большая же часть была с добычей, преимущественно с белками, колонками[369], рябчиками и сизоворонками; но шесть ловушек поймали соболей.
Долго ждали пойманные соболи своего хозяина, пока сойки и вороны не растащили их по частям. В ловушках остались кости да клочки шерсти.
По следам на стаявшем снегу видно было, что тигр продолжал посещать фанзу, часто ложился перед дверью и взбирался на крышу.
Такая настойчивость зверя напугала старика Люрла. Онбросил это место совсем и перекочевал на реку Чеэ-Бязань.
* * *
Прежде чем попасть в какой-либо меховой магазин, шкурка соболя претерпевает много мытарств, о которых часто не знают не только покупатели, но и сами продавцы пушнины. С соболя шкурка снимается тотчас, как только животное убито и не успело еще окоченеть. Для этого от заднего прохода вправо и влево делается два небольших разреза по два и пять десятых сантиметра длиною каждый, и затем, осторожно действуя ножом, стараются, сколько возможно, отделить шкурку около разрезов, в особенности около корня хвоста. Потом принимаются и за самый хвост. Это процедура довольно трудная: стержень хвоста сидит очень прочно, а плотная кожа его, покрытая длинными волосами, будучи сложена вдвое, с трудом выворачивается. Чтобы совсем не оторвать хвост, действуют так: захватив одним или двумя пальцами левой руки за основание стержня хвоста, правой равномерно тянут за шкурку, пока она не сойдет. Затем берут струганую палочку такой же толщины, как стержень, и при помощи ее вновь выворачивают хвост шерстью наружу. Палочка остается в шкурке хвоста до тех пор, пока он не высохнет. Затем тушку соболя привязывают веревкой за стержень хвоста, вешают на гвоздь (приколыш), вбитый в стену, или на ветку дерева головой книзу и снимают шкурку чулком, препарируя лапки и уши. Орочи нос соболя оставляют на тушке. Обычай этот основан на поверье, что соболь узнает (учует), кто именно поймал его. Человек, позволивший себе снять нос вместе со шкуркой, навсегда лишается удачи в охоте. Китайцы едят соболя только в том случае, если нет другого мяса, а растительная пища надоела. Обыкновенно же они бросают его около фанзы, предоставляя дальнейшую заботу о нем сойкам и воронам. Орочи и удэхейцы, опять-таки из тех же соображений, чтобы соболь не узнал, где живет виновник его гибели, относят тушки подальше от жилища, а некоторые, наиболее суеверные, даже не приносят ее домой и бросают на месте охоты. Впрочем, в китайских зверовых фанзах приходилось иногда видеть засохшие тушки соболей, повешенные в амбарах, а также хорошо отпрепарированные собольи черепа. Покидая фанзы, китайцы не уносят их с собой, но любят собирать и нанизывать на веревочку, как украшения. Как только шкурка с соболя снята, ее тотчас же, пока она еще сырая, надевают на пялку шерстью внутрь, а кожей наружу, за исключением хвоста, который уже более не вывертывают. Китайская и корейская пялки делаются из дерева и имеют вид меча с тупыми краями, а орочская и тунгусская состоят из двух или трех соединенных у основания прутиков, свободные концы которых связаны ремешком. Они часто бывают украшены резьбой, причем основание обделывается в виде головы медведя, соболя, лисицы и т. д. Русская пялка по внешнему виду такая же, как и китайская, но состоит из трех частей: двух боковых пластин, вставляемых внутрь сырой шкурки соболя, среднего клина, который вдвигается до тех пор, пока она не растянется на желаемую ширину. Очень часто шкурку не только не растягивают, а, наоборот, «ссаживают». Тогда ее редкая темная ость сближается, отчего она кажется лучше, чем есть на самом деле. Когда шкурка подсохнет как следует и нет опасений, что мех станет подопревать, ее снимают с пялок и мнут руками до тех пор, пока она не сделается мягкой. В таком виде ее и хранят в сухом месте и только для осмотра покупателем выворачивают мехом наружу; при этом ее раза два сильно встряхивают, чтобы помятая ость легла ровнее. Собольи шкурки по качеству меха делятся на четыре сорта: 1. Головка — одиночные экземпляры высшего качества. 2. Первый сорт — имеет густую шерсть однотонного темно-бурого цвета, с густым подшерстком с серым, слегка синеватым отливом; не более четырех-пяти процентов общего количества соболей в партии. 3. Второй сорт — при такой же шерсти имеет более или менее часто разбросанные по всему телу белесоватые остинки (искру) — двадцать пять — тридцать процентов всей партии. 4. Третий сорт — отличается шерстью среднего размера, темно-бурого цвета на спине (как бы в виде широкого продольного ремня) и светло-бурого по бокам и на брюхе. Подшерсток довольно густой, серого цвета — сорок — пятьдесят процентов всей партии. 5. Четвертый сорт — имеет светло-бурый цвет, переходящий в грязно-желтый, с редкой черной остинкой или без нее. Подшерсток серого цвета — пятнадцать — двадцать процентов всей партии. 6. Хвост — одиночные экземпляры худшего качества. Скупщики пушнины соболей третьего сорта делят ее еще на две-три группы и расценивают их сообразно с качеством ости и подшерстка. Смешанных мехов никто не продает и никто не покупает. И в самом деле, соболь с искрой, затесавшийся среди однотонно-темных, мешает, режет глаз и даже некоторым образом обесценивает последних. То же самое можно сказать и про плохих соболей. Как бы малоценны они ни были, но в хорошо подобранной партии всегда пойдут дороже, чем в одиночку или будучи смешаны с другими. Дешевые сорта соболей китайцы подвешивают над очагом для подкапчивания, отчего действительно их мех становится немного темнее; но зато шкурка на долгое время приобретает запах дыма, и красивое розовато-оранжевое пятно на нижней части шеи животного блекнет, принимая грязноватый оттенок. С течением времени копоть стирается с ости, и тогда шкурка, вшитая среди настоящих темных соболей, начинает выделяться своим непривлекательным видом. Раньше, до знакомства с русскими и китайцами, туземцы вовсе не занимались соболеванием; мех случайно убитого соболя шел на рукавицы, головные уборы или для наушников. Тогда туземцы больше ценили мех росомахи. Но вот прибывают маньчжуры и жадно набрасываются на соболей. Спрос на мех дорогого хищника создал промысел. Раньше всех с маньчжурскими купцами познакомились амурские гольды и значительно позже туземцы, обитающие в Уссурийском крае, к востоку от Сихотэ-Алиня. Обычно меха у туземцев выменивались: 1) на товары и предметы первой необходимости, как то: железные котлы, копья, ножи, топоры, фитильные ружья, порох, свинец; 2) на наркотические вещества — спирт, табак; 3) на предметы роскоши — шелковые ткани, фарфоровую посуду, серьги, браслеты, медные украшения, нашиваемые на одежду, и 4) на продовольствие — муку, рис, чумизу, бобовое масло и пр. Особенно высоко ценились котлы и копья. Эти вещи имели громадное значение в жизни туземцев. Они играли большую роль при рождении ребенка; при внесении калыма (тори) во время заключения брака, при наложении штрафов (байтá), а также при снаряжении покойника в загробный мир. Они добывались с большим трудом, через третьи руки — от маньчжурских купцов или от японцев через посредничество сахалинских айнов. Любопытно, что этот меновой способ торговли держался чуть ли не до последних лет. В 1910 году туземцы кое-где начинают впервые продавать соболей на наличные деньги, но затем, во время революции, когда началось катастрофическое падение денежных знаков, снова обращаются к первобытному способу торговли. По подсчету ороча, ему на свою семью, состоящую из него самого, его жены, старухи матери и двух его детей (пять человек), для круглого обихода на весь год, кроме юколы и мяса, необходимо: около 165 килограммов муки, 82 килограмма рису, 16 килограммов соли и 4 кирпича чая. Кроме того, он должен купить патроны, порох, спички, одежду, топор, нитки, иголки. На все это ему нужно в год около двухсот пятидесяти рублей золотом. Эти двести пятьдесят рублей он должен добыть охотой, и главным образом соболеванием. Торговля соболями в Уссурийском крае имеет по крайней мере столетнюю давность. Первые свои шаги скупщики соболей начали с обманов. Маньчжурские купцы не замедлили воспользоваться неведением туземцев. Заметив, какую ценность для них представляют котлы, они стали требовать за каждый котел столько собольих шкурок, сколько он мог вместить их до краев, уминая рукою. Старообрядцы, поселившиеся в Уссурийском крае, рассказывали, что когда они впервые прибыли на реку Амгу, то соседи их, удэхейцы, не знали цены на соболий мех и охотно выменивали его на обыкновенные жестяные чашки, стоимостью в двадцать копеек, принимая их за серебряные. Низкая цена на соболий мех и большой спрос на него заставили туземцев энергично взяться за охоту. Расхищая свои природные богатства, туземцы вели соболиный промысел без должной осмотрительности и, сдавая меха за бесценок купцам, сами от этого не делались состоятельными. Площадь обитания соболя стала быстро сокращаться, и в конце концов дело дошло до того, что был поднят вопрос об ограждении дорогого хищника от полного его истребления. В 1912 году был издан закон, воспрещающий охоту на соболей в течение трех лет. Закон этот имел целью дать зверьку отдых от постоянного преследования и дать возможность вновь наплодиться. Лица, которые ко дню опубликования закона имели на руках собольи шкурки от охоты предыдущих лет, должны были явиться в канцелярию ближайшей лесной администрации для наложения на них печатей. Хотя этот закон сохранял соболей, все же результат получился обратный. Дело в том, что для туземцев звероловство является столь же необходимым средством к жизни, как и рыболовство. Без соболевания они будут терпеть такую же нужду, как и земледельцы, которым запретили бы обрабатывать землю, а потому одним запретом невозможно было остановить туземцев от соболиного промысла. К тому же скупщики пушнины стали уговаривать их не обращать внимания на запрет и продолжать работу. Китайцы прекрасно учли беспомощное положение туземцев. Они знали, что туземцы продать русским мехов не могут, держать их у себя долго не станут, и потому предлагали цены значительно меньше, чем в прежние годы, мотивируя риском потерять незаконно добытую пушнину во время перехода через русские селения, где возможны обыски и задержания лесной стражей. Таким образом запрет охоты на соболя без субсидирования туземного населения продовольствием привел к тому, что туземцы, чтобы заработать ту сумму, которую получали ранее от охоты, должны были удвоить энергию и в действительности стали ловить соболей больше, чем прежде. Китайцы, скупив собольи шкурки почти за бесценок, не везли их по дорогам, а пробирались в Маньчжурию тайком, минуя таможенные посты и обходя деревни. Таким образом все соболя, пойманные во время запрета, ушли в Китай, и только ничтожный процент их остался в крае. Теперь посмотрим, как производилась скупка пушнины в таежных районах. Ею занимались русские, якуты и китайцы, а позже — корейцы и японцы. Мелкие скупщики пушнины скупали пушнину на свой счет, за свой страх и риск, а потом уже перепродавали ее крупным торговым фирмам. Русские сами соболей не ловили (за исключением старообрядцев), но охотно скупали их у туземцев, редко у корейцев и еще реже у китайцев. Русские скупщики мехов просто отправлялись в тайгу и покупали меха за наличные деньги, при этом старались убедить туземцев, что во Владивостоке и Хабаровске цена на соболей упала и потому дорожиться не следует. Они придумывали и причины падения цен, иногда настолько наивные, что в них могли поверить разве только простодушные люди, живущие вдали от населенных пунктов. Достойны удивления и те способы, к которым прибегали скупщики пушнины, чтобы сбить с толку туземцев. Иногда они объявляли, что новая мода требует соболей светлых и потому черные не в цене, при этом нарочно за плохого соболя давали большие деньги. Весть о новой расценке быстро распространялась в тайге. Этого только и надо было скупщику пушнины. Потеряв в одном месте несколько десятков рублей, он в других стойбищах наверстывал потерянное сторицей. Русские скупщики пушнины стремились использовать свое знакомство с туземцами следующим образом: они брали у них соболей без денег, не уславливаясь о цене (кредит в тайге — вещь самая обыкновенная). Продав соболей в городе, скупщики объявляли туземцам цену, какую находили для себя выгодной, и по этой цене производили расчет. Так, в 1906 году старообрядец Леонтий Бортников, с реки Амгу, собрал у местных туземцев соболей на четыре тысячи рублей, а продал их в городе за семь тысяч рублей, заработав таким образом сразу около трех тысяч рублей золотом. В том случае, если по настоянию охотника скупщик должен заранее договориться с ним о цене, он все-таки брал соболей, и, если ему в городе не удавалось продать их с выгодой для себя, он просто возвращал их хозяину, и сделка считалась несостоявшейся. Особенно большие проценты имели скупщики пушнины в период с 1913 по 1920 год, когда в обращении у населения имелись «сибирские» денежные знаки, ценность которых падала не по дням, а по часам. Скупая пушнину у туземцев, скупщики иногда убеждали их, что курс «сибирских» денег начал повышаться и что в свое время они достигнут своей настоящей цены на золото. Приобретенная таким образом, буквально за гроши, пушнина в городе продавалась на валюту, и притом по небывало высокой расценке. Другие (как, например, Берсенев на Амуре и Степанов в Уссурийском крае) снабжали туземцев оружием, огнестрельными припасами, продовольствием и предметами первой необходимости в кредит в течение целого года и только один раз, в конце зимы или ранней весной, отправлялись к своим должникам для сбора пушнины. Туземцы могли уплачивать долги и деньгами, продавая соболей на сторону, но на практике мало кто пользовался этим правом. Туземцы боялись продавать меха случайно заехавшему к ним скупщику из опасения продешевить соболей и потерять доверие своего кредитора. Русские торговцы, собрав соболей у туземного населения Уссурийского края, отправлялись во Владивосток или Хабаровск, где у них в свою очередь приобретали собольи шкурки более крупные скупщики. Бывало и так, что эти последние иногда сами ехали к мелким скупщикам в целях предупредить конкуренцию и получить товар из первых рук. Интересно со стороны наблюдать, как два скупщика продавали друг другу шкурки. Мелкий скупщик, спрятав с десяток лучших соболей, показывал городскому скупщику все остальные шкурки. Та и другая сторона горячо спорила. Наконец сделка заключена, соболя приобретены, и деньги приняты. Тогда мелкий скупщик вынимал спрятанных соболей, вследствие чего покупщик оказывался поставленным в такое положение, что должен был приобрести и эту вторую партию, ибо без нее первая являлась обесцененной. Чтобы лучшие соболя не попали в руки конкурентов, он должен их иметь, хотя бы и по дорогой цене. Само собой разумеется, что мелкий скупщик пользовался безвыходным положением горожанина и запрашивал втридорога. При такой системе он иногда выигрывал на пятьдесят процентов больше того, чем мог бы получить, если бы предъявил к торгам всю партию сразу. Китайское соболевание в Уссурийском крае и скупка пушнины китайцами у туземцев имеют свою историю. Звероловы-китайцы прекращали свою работу, как только выпадали глубокие снега, что обыкновенно происходило для бассейна Уссури и ее притоков в январе, а для Уссурийского края — в декабре. Возвращение соболевщика в деревню становилось известным в тот же день. Тогда все другие охотники устремлялись к нему, и начинались расспросы. Пришедший не скрывал, сколько он поймал соболей, и охотно показывал свою добычу. Шкурки переходили из рук в руки, их осматривали и оценивали. Когда приходил последний зверолов, то все уже знали, кто в текущем году имел успех и кого постигла неудача. Лет двадцать назад китайские звероловы оставляли собольи меха в фанзах открыто. Они знали, что никто их не тронет, а если бы кто и решился позариться на чужую собственность, то его ждало страшное наказание — закапывание живым в землю. Не крали и первые русские переселенцы, попавшие в Уссурийский край в 1859 году. Но затем, после 1906 года, когда число переселенцев возросло, пропажа мехов сделалась обычным явлением. Китайцы стали укупоривать их в жестяные банки и закапывать под земляной пол в фанзах. Скоро, однако, грабителям этот секрет стал известен. Тогда китайцы придумали другой способ хранения пушнины. Они стали складывать собольи шкурки в мешки и прятать их в дуплах деревьев, в стороне от жилища, а для того, чтобы не протаптывать к ним тропы, подходили к дуплу каждый раз новой дорогой, иногда делая значительные обходы. Во всякую вновь приобретенную страну всегда идет сперва элемент, который не мог ужиться у себя на родине. Людьми этими главным образом руководит алчная нажива. Великие бедствия терпит туземное население от таких завоевателей. Уссурийский край в этом случае не представлял исключения. Как только приморская окраина стала заселяться, колонисты начали «прижимать» китайцев и под разными предлогами отбирать у них пушнину. Скоро дело перешло к открытым насилиям. Китаец выслеживал соболя, а «промышленник» выслеживал китайца. Началась настоящая охота за людьми — стрельба по «лебедям», так называли одетых во все белое корейцев, и по «фазанам», т. е. по китайцам, одетым в темные цвета. И те и другие были заманчивыми «объектами» для охоты. У них всегда можно было найти женьшень, собольи меха, кабарожью струю и панты. Грабители стали караулить соболевщиков в то время, когда те выходили из тайги. Тогда китайцы стали делать ночные переходы горными тропами, целиною, без дорог; ночью они шли, а днем отдыхали. В ясные светлые дни грабители взбирались на высокие горы и оттуда смотрели в долины, — не видно ли где дымка, который указал бы место привала соболевщиков. При столкновениях дело доходило до перестрелки, в результате которой всегда были жертвы с той и с другой стороны. Грабители, расширяя свой район действий, начали делать нападения и на туземцев. Эти последние старались сперва откочевывать подальше в горы, но смерть следовала за ними по пятам. Многие из них тогда побросали веками насиженные места и ушли в Маньчжурию. В Уссурийском крае тайга оживает зимою. Тогда китайцы, корейцы и туземцы устремляются в горы. Ради маленькой собольей шкурки они забираются в самые глухие дебри и здесь, перенося голод, холод, проводят долгую зиму, иногда в совершенном одиночестве. Но вот возвращались китайцы, приходили с охоты и туземцы. Лихорадочная деятельность охватывала все население. Это — время скупки пушнины, время расчетов, расплаты с должниками. Изголодавшийся удэхеец озабочен не тем, как бы повыгоднее продать своих соболей (китайцы брали их по цене, которую находили для себя выгодной), а тем, как бы при подсчете с кредиторами они не отобрали у него жену и ребенка. Наконец расчеты кончены. Китайцы расходились по своим фанзам и предавались азартным играм в «банковку». В это время проявляли усиленную деятельность хунхузы. Они появлялись то здесь, то там, нападали на соболевщиков и отбирали у них меха, деньги и все, что есть ценного. Если китайцы не хотели указать, где спрятаны соболя, хунхузы прибегали к пыткам. При царском режиме китайцы немилосердно эксплуатировали туземцев, при этом пускались в ход и обман, и насилия, и побои. Так, скупая соболей, они платили туземцам за меха номинально, хотя бы цена и была высока, но никогда не выдавали денег на руки, а списывали их с общей суммы долга, выдавая в кредит новый товар по такой расценке, которая сторицей окупала всякие затраты. Немудрено, что при этой системе туземец всегда оставался в долгу у китайцев. Так, например, в 1906 году удэхеец Чан Лин с реки Такемы должен был китайцу три тысячи рублей. Он в два года сдал ему восемьдесят шесть соболей, и долг не только не уменьшился, а возрос еще более. Конечно, честность амурских туземцев стала падать. Теперь они уже не говорили, сколько поймали соболей. Уплачивая долги скупщикам пушнины, они отдавали им худших соболей, а двух или трех лучших старались спрятать, чтобы потом тихонько продать их где-нибудь на стороне. Туземец привык, что его обманывали на каждом шагу, и потому такой невинный обман с его стороны являлся единственным средством борьбы с хищниками-торгашами. Если он не поступал бы так, то умер бы с голоду. Туземцы пускались и на другие хитрости, от которых начинали страдать сами скупщики пушнины. Так, при всяком удобном случае они старались набрать в долг побольше, в расчете затянуть его, вывести из терпения кредитора и тогда вручить ему соболей похуже и по высокой цене. Последний рад был взять хоть что-нибудь, лишь бы разделаться с обанкротившимися должниками. Когда китайский скупщик пушнины отправлялся к туземцам, живущим далеко в горах, он вез с собою легкий мелочной товар, как то: маленькие складные зеркала, перочинные ножи, бусы, шелк для вышивания, табакерки, трубки, иголки, наперстки, ножницы, бисер, серьги, кольца, браслеты и кое-какие сласти. Прибыв к туземцам, китаец прежде всего угощает их немного спиртом и всем присутствующим делает небольшие подарки. Без подарков нечего к туземцам и ездить и никакой скупки пушнины произвести нельзя. После угощения китаец сообщал новости из политики, рассказывал о том, что случилось у русских, в Японии и у американцев и как к этому относятся в Китае, причем вовремя умело подчеркивал трудность приобретения товаров, говорил также вскользь, что все вздорожало, и тут же придумывал, почему вздорожали товары. Все это выходило у него кстати и вполне правдоподобно. Каждый китайский купец — дипломат и психолог. Он желанный гость у туземца. Его ожидали с нетерпением. После ужина он вручал хозяину юрты заказ и лично ему делал еще какой-нибудь подарок. Вечером они курили трубки, как друзья, и вели деловой разговор. Китаец осторожно расспрашивал туземца об охоте и здесь узнавал, сколько поймано соболей. Вслед за тем начинался осмотр пушнины и ее оценка. Обыкновенно все соболя в тот же вечер переходили в руки китайца, а на другой день он обходил все юрты и везде таким образом собирал пушнину. Потом он опрашивал туземцев, что надо привезти им на будущий год. Заказы всегда выполнялись аккуратнейшим образом. Все туземные районы китайцы распределяли между собою так, чтобы не мешать друг другу. И не было случая, чтобы один скупщик соболей забрался в район другого. Вследствие того что один и тот же китаец из года в год посещал одних и тех же туземцев, он приобретал среди них друзей и старался всеми силами сделаться им необходимым. Если китаец — скупщик пушнины — проживал от туземцев на расстоянии ста — ста пятидесяти километров (где-нибудь около устья реки, в большом селении, близ железной дороги и т. п.), то он уславливался с ними, когда те должны были приехать к нему за продовольствием. Если же он жил далеко или туземцы не могли сами приехать к нему по каким-либо причинам, то по возвращении домой он снаряжал одну или две нарты для срочной доставки в их стойбище тех заказов, в которых обитатели его особенно нуждались. В тех случаях, когда продовольствие нужно было туземцу срочно, китаец писал записку китайцу же, земледельцу, живущему поблизости (в сибирском масштабе), с просьбой отпустить за его счет муки, бобового масла, табаку, чумизы, соли и т. п. К записке прикладывалась красная мастичная печать с фамилией скупщика соболей. Туземец с этой запиской шел к адресату и получал все, что ему нужно. Не было случая, чтобы китаец земледелец отказал своему собрату — скупщику мехов, даже если знал его только понаслышке. Отпустив товар, он делал на обратной стороне записки свою надпись о сумме, которую должен получить со скупщика пушнины, и прибавлял к ней известный (установленный обычаем) процент. Раз в год (обыкновенно дней за десять до Нового года) китайцы обменивались этими векселями и подсчитывали, кто кому и сколько должен. Случалось часто, что такая записка, как верный денежный знак, попадала в другие руки, но в конце концов она обязательно доходила до скупщика пушнины, который и выкупал ее обратно. Люди, бывавшие по делам службы или случайно в тайге и доброжелательно настроенные к туземцам, неоднократно убеждали их игнорировать китайцев и везти пушнину прямо в город, чтобы там самим выгодно продать соболей, минуя посредников. Этим лицам казалось все так просто: часть денег, вырученных от продажи пушнины, пойдет на уплату долга кредиторам, а на остальные туземцы закупят себе вперед на год и продовольствие, и все, что необходимо для охоты. Дававшие эти советы упускали из виду, что все мелкие китайские торговцы были тесно связаны с китайскими фирмами в городах. Даже европеец, приехавший с партией мехов в чужой город, не сразу мог ориентироваться. Что же можно сказать про обитателя тайги, попавшего, положим, первый раз во Владивосток! У туземцев в городе нет знакомых, а если и были, то те же самые китайцы. Им негде остановиться, и к тому же соблазны на каждом шагу. Тем не менее попытки эти они делали, и каждая из них, как и надо было ожидать, кончалась неудачей. В первый раз по прибытии в город туземцев на пристани встретили услужливые китайцы и предложили им остановиться у них; вечером за ужином они уговорили подвыпивших туземцев продать им соболей за полцены и вместо хороших товаров снабдили их всякой завалью, нажив на этой операции еще сто процентов. Во второй раз туземцы остановились в какой-то харчевне на окраине города, где их начисто обокрали. В третий раз (в 1909 году) случилось происшествие, которое навсегда отбило у туземцев охоту ездить в город для продажи соболей. Один китаец, скупщик мехов в северной части Ольгинского района, считавший местных туземцев своими поставщиками пушнины, узнав о том, что они решили помимо него продать соболей во Владивостоке, сообщил об этом китайским купцам в городе. Эти последние тотчас же дали знать китайским агентам, бывшим в то время на службе у городской полиции, о том, что якобы привезенные туземцами собольи меха краденые. Туземцы были арестованы. Впрочем, их скоро освободили, но пушнину задержали до выяснения ее происхождения. Бедные туземцы испугались и убежали, бросив своих соболей на произвол судьбы. Прибыв к своим сородичам, они сообщили, что туземцам в город ездить нельзя, что и там хозяйничают всесильные китайцы и поэтому следует сдавать им пушнину на месте, как было раньше. Незадолго до мировой войны подымался вопрос о прекращении выдачи китайцам промысловых свидетельств на право скупки пушнины у туземцев, причем исходили из тех соображений, что эти скупщики являются главными пособниками китайцев браконьеров, снабжая их всем необходимым для незаконного промысла. Имелись в виду и другие соображения: эксплуатация туземного населения и утечка пушнины за границу. В 1910–1912 годах были посланы отряды лесной стражи для уничтожения зверовых фанз и выселения из таежных районов китайских соболевщиков. Как только китайцев стали «прижимать» в тайге, а крестьяне начали удалять их с заимок, они бросились на мелочную торговлю. Надо поражаться, с какой быстротой китайцы сумели сорганизоваться, покрыв своими торговыми предприятиями, как сетью, весь Уссурийский край. Китайские купцы Владивостока, Никольска-Уссурийского (ныне город Ворошилов. — Ред.) и Хабаровска кредитовали купцов в урочищах и больших селах; эти посредники в свою очередь снабжали продовольствием и предметами первой необходимости мелких китайцев торговцев, устроившихся в маленьких деревушках, расположенных на границе лесных насаждений. В их лавках постоянно ютились искатели женьшеня, охотники и звероловы, здесь процветали курение опиума и азартные игры. Было бы ошибочно думать, что скупка пушнины у туземного населения дело легкое. Скупщику соболей приходится ежегодно покрывать многие сотни километров, зимой ночевать под открытым небом, часто голодать и подвергаться всевозможным случайностям, с которыми всегда связано путешествие по тайге, где иногда целыми неделями нельзя встретить ни единой души человеческой. Скупщики соболей — это народ дошлый. Алчная нажива — вот тот стимул, который заставляет их рисковать жизнью. Очень часто предприятия их рушатся, и нередко дело доходит до человеческих жертв. Для иллюстрации приведу два примера. Однажды, в 1905 году, два китайца — Су Лян-тэн и Чан Сун — отправились в прибрежный (Ольгинский) район за скупкой соболей. Они захватили с собой десять ящиков ханшина[370], который намеревались выгодно променять на пушнину. До залива Джигит свой ценный товар они доставили на пароходе. Здесь они наняли удэхейца Сале, который должен был везти их далее на лодке, вдоль берега моря, от одного селения до другого. Первые дни плавание их было благополучным, но, когда они подходили к реке Амгу, ветер засвежел и вскоре перешел в шторм. К самому берегу лодка подойти не могла, потому что ветром сюда нанесло много раздробленного льда. Оценив положение, Сале надел лыжи, привязал к поясу конец тонкой веревки и по волнующейся, кашеобразной массе мелкого льда бегом добрался до берега. Вступив на твердую землю, он привязал лыжи к бечеве, которую тащил за собой, и стал китайцам кричать, чтобы они тянули их к себе. Китайцы поняли, что Сале предлагает им проделать то же самое. Но им жалко было расстаться с ханшином. Ведь за него можно получить много соболей! Они решили не покидать лодки, взяли шесты в руки и стали делать попытки еще продвинуться к берегу. Пока они пререкались, нашла огромная волна. Сале видел, как лодка взметнулась кверху, корма ее осела и в следующее мгновение из нее посыпались ящики. Когда волна докатилась до берега, лодка плавала среди льда дном кверху. Оба китайца погибли. О том, каковы нравы промышленников, всегда склонных променять звероловство на охоту за человеком, свидетельствует следующий случай, имевший место в 1909 году в тайге между реками Бикином и Иманом. На станцию Губерово прибыли два охотника. Один из них был рослый детина лет сорока, с рыжими волосами, другой — коренастый, с темно-русой окладистой бородой, лет тридцати пяти. Первый имел угрюмый характер и был молчалив, второй — степенный, но словоохотливый. Рыжеволосый говорил тихо и всегда озирался по сторонам; человек с бородой был, как говорится, себе на уме. Своими разговорами он вызывал других на откровенность и из слов собеседников делал нужные для себя выводы. Охотники объявили в соседних деревнях, что приехали они на соболевание и намерены пробыть в тайге всю зиму. Место, выбранное ими на реке Силане, оказалось удачным. Тут было старое зимовье. Они привели его в относительно жилой вид и затем отправились на осмотр ближайших окрестностей. Через несколько дней они точно знали, что на реке Бэйцухе соболюют тазы, на реке Ханихезе — два китайца и на Малом Силане — один кореец. Оба охотника вели себя очень странно: ловушек на соболя не устраивали вовсе, вставали поздно, изредка ради забавы ходили на охоту за рябчиками, после обеда отдыхали и рано ложились спать. Прошел месяц, другой. Соболевание близилось к концу. Не сегодня завтра китайцы должны были оставить свои зверовые фанзы и с богатой добычей уйти за реку Уссури. Тогда оба промышленника проявили энергию. Они решили идти на охоту. Дня через три они вернулись не с пустыми руками. Рыжеволосый человек принес одиннадцать соболей, сто шестьдесят девять белок и восемь колонков, а промышленник с окладистой бородой — шестнадцать соболей, сто двенадцать белок, трех выдр и одного колонка. Как раз в это время к ним приехали два скупщика пушнины — родные братья. Они знали о существовании заброшенного зимовья и намеревались устроить здесь свою базу, чтобы отсюда делать поездки ко всем соседним зверовщикам. Охотники обрадовались приезду скупщиков пушнины и в тот же день продали им все свои меха. Дня через два один из братьев решил поехать на реку Силан, а другой на следующий день должен был отправиться на Ханихезу. Провожать первого вызвался рыжеволосый охотник. К сумеркам последний вернулся один и на вопрос скупщика, где его брат, в свою очередь спросил: «А разве он не дома?» Получив отрицательный ответ, он выразил крайнее удивление и при этом сказал, что его спутник, почувствовав себя больным, с половины пути возвратился обратно, а сам он отправился дальше, посетил китайскую зверовую фанзу и назад к зимовью шел другой дорогой. Скупщик пушнины встревожился за брата и просил рыжеволосого промышленника проводить его к тому месту, где он оставил больного. Утром рано они оделись, взяли ружья и пошли по тропе на реку Силан. Дома остался охотник с окладистой бородой. Минут через двадцать после их ухода он услышал выстрел, но не обратил на это внимания. Спустя некоторое время он переобулся, взял свою винтовку и только что хотел выйти из зимовья, как увидел рыжеволосого промышленника, который целился в него из ружья. Привыкший к такого рода вещам, он сразу сообразил, в чем дело, и бросился назад в зимовье. Но в это мгновение грянул выстрел, и пуля пробила ему бедро. Раненый пробрался к окну. Рыжеволосый промышленник заметил это и спрятался в кустах. Оба боялись и следили друг за другом. Теперь все зависело от того, кто первый увидит врага. Такое осадное положение длилось несколько часов. Незадолго перед сумерками человек с окладистой бородой заметил рыжеволосую голову. Он тщательно нацелился и спустил курок. Его противник, сидевший на пне, покачнулся и вслед за тем сунулся вперед — лицом в снег. Он умер в позе человека, который как бы делал земной поклон в сторону зимовья. Человек с бородой сделался обладателем всей пушнины, но это не спасло его. Дня через три его нашли другие охотники и доставили в ближайшую деревню. Рана, полученная им в бедро, оказалась опасной. Он получил заражение крови и вскоре умер в сильных мучениях. Весной китайцы зверовщики обнаружили в двух зверовых фанзах убитых китайцев, а на тропе к зимовью обоих скупщиков пушнины, застреленных в спину рыжеволосым промышленником. Умри охотник с окладистой бородой в зимовье, — все эти убийства приписали бы китайским разбойникам. А сколько в горах ежегодно совершается кровавых драм, о которых никто не знает… Суровая тайга хранит такие тайны!
Быгин-Быгинен

Однажды вместе с антагинскими тунгусами я пробирался в бассейн реки Олгона[371]. Наш отряд состоял из одиннадцати мужчин, четырех женщин и шестерых детей. Ехали мы на шестидесяти оленях. Среди тунгусов был один старик, которого звали Ингину и к которому все прочие туземцы относились с большим почтением. На вид ему было, вероятно, около семидесяти лет, если не больше. Он был несколько сутуловат и так слаб, что без посторонней помощи не мог взобраться на оленя.
Из якутского поселка Талакана мы пошли на восток и через трое суток достигли водораздела между реками Урми[372] и Олгоном, который здесь высок и величествен и называется Быгин-Быгинен.
До сих пор стоявшая хорошая погода вдруг стала портиться: небо заволокло тучами, и задул холодный ветер. Он поднимал снег с земли и уже дважды менял направление. Тунгусы тревожно поглядывали по сторонам и подгоняли оленей. Однако от непогоды нам уйти не удалось. Она захватила нас на самом водоразделе, и поэтому, как только мы спустились с перевала, тотчас стали выбирать место для бивака.
Ночь обещала быть бурной. Сильный порывистый ветер раскачивал деревья и гудел в лесу. Спины оленей, вьюк на них, плечи и головные уборы людей — все забелело от снега. Мело… Тунгусы шли, повернув головы от ветра. Обледеневшие мелкие снежинки, как иглами, кололи лицо и мешали смотреть прямо перед собой.
Посланные вперед люди место для бивака выбрали довольно удачно. Это была небольшая полянка на опушке леса, густо покрывавшего склоны хребта Быгин-Быгинен. Она имела пологий уклон к востоку и через перелески незаметно переходила в тундру, по которой нам надлежало идти дальше.
Тунгусы быстро развьючили оленей и принялись ставить палатки. Я любовался их работой. Все они представляли как бы один сложный организм, части которого двигались и работали вполне согласованно. Когда палатки были поставлены, мужчины побежали в лес: одни за дровами, другие за еловыми ветками для подстилок, а женщины тем временем нарезали целые вороха сухой травы. Я обратил внимание на детей. Прикрытые кухлянками, малютки спокойно сидели на вьюках и терпеливо ждали, когда родители отнесут их в теплые помещения. Старик Ингину, опершись на палку, стоял у огня и только изредка отдавал приказания, но не вмешивался в работу, если она шла гладко и без перебоев.
Минут через тридцать мы все — и мужчины и женщины с детьми — сидели в палатках около железных печек и пили чай. А снаружи злобно неистовствовала пурга. Ветер яростно трепал палатку и обдавал ее мелким сухим снегом. Он жалобно завывал в трубе, вдруг бросался в сторону и ревел в лесу, как разъяренный зверь.
После ужина все рано улеглись спать. У камина остались только мы вдвоем со стариком. Слушая его рассказ, я поражался громадным расстоянием, которое он проходил со своими табунами. Он бывал и в Якутии, ходил к мысу Сюркум[373], дважды пересекал тундры у южных берегов Охотского моря и доходил до Чумукана[374]. Почти каждый вечер мы беседовали с ним, и он очень охотно рассказывал мне про невзгоды своей страннической жизни. Так и в этот раз. Воспользовавшись тем, что завтра непогода принудит нас простоять на месте, и тем, что женщины и дети, утомленные переходом через Быгин-Быгинен, улеглись спозаранку, я напомнил ему о том, что он обещал мне рассказать о трагедии, разыгравшейся на реке Уркане[375].
Ингину согласился. Он закурил свою трубку, придвинулся поближе к печке, подбросил дров в огонь и начал говорить. Старик плохо владел русским языком и часто употреблял не те слова, которые надо, но все же понять его можно было. Я мысленно исправлял его речь и на другой день записал ее в свой дневник в том виде, как она изложена ниже.
— Это было давно, очень давно, — говорил он, не торопясь. — Я был еще совсем мальчиком и из детского возраста едва переходил в юношеский. Кочевали мы тогда в горах Ян-де-янге. В это время сюда прибыл один русский. Он был золотоискатель — молодой человек, лет двадцати пяти, среднего роста, с белокурыми волосами и голубыми глазами. Одет он был в кухлянку, торбаза, на голове имел меховую шапку, а на руках — рукавицы. Этот человек возвращался с приисков, где старательским образом намыл столько золота, что мог безбедно прожить до глубокой старости. Но судьба решила иначе.
В этом году был сильный падеж оленей. Ожидалась голодовка, грозные повестки которой были уже налицо. Отовсюду шли нехорошие вести. Отец мой решил тогда уйти подальше от зараженного района. Накануне нашего выступления в поход молодой приискатель обратился к нам с просьбой взять его с собой. Отец подумал и согласился. На другой день мы тронулись в путь, и белокурый человек пошел с нами. Я не знаю его имени, но помню хорошо. Он, как живой, стоит передо мной. Это был удалый парень, он не сидел сложа руки, помогал вьючить оленей, ставить палатки. Отец очень любил его, и я с ним подружился тоже.
Дней через шесть мы вышли в верховья Горина, и тут, в старой небольшой юрасе, застали бедную тунгусскую семью, состоявшую из одного мужчины, одной женщины и двух малых детей. Они потеряли своих последних четырех оленей и теперь на лыжах хотели дойти до Уркана, где тоже стояли тунгусы, их сородичи.
Мой отец предложил им присоединиться к отряду, но они отказались, заявив, что надеются благополучно дойти до своих земляков на Уркане и там до весны промышлять рыбной ловлей. Молодой приискатель пожелал тоже остаться с бедняками, чтобы с ними добраться до реки, впадающей в озеро Болон-Оджал. Тогда мы оставили им одного оленя на мясо, а сами пошли дальше на реку Уд.
После нашего ухода тунгус с русским человеком пошли на разведку, чтобы на лыжах проложить дорогу, по которой они намеревались, когда она занастится, перевезти семью и имущество на нартах. Женщина с детьми осталась в юрасе. На третий день они достигли Уркана, но тунгусов там не нашли, зато встретили гольдов-зверовщиков. Они заночевали у них и на другой день хотели было идти назад, но неожиданно разразившаяся пурга принудила их остаться на месте. На вторую ночь тунгус скоропостижно скончался. Тогда приискатель, захватив у гольдов немного сухой рыбы, решил один идти за женщиной и за детьми, но новая пурга застала его в дороге. Она продолжалась несколько суток подряд и пресекла всякую возможность сообщения. С невероятными усилиями он прокладывал путь через сугробы, но не суждено ему было спасти семью умершего тунгуса. Зима в том году была суровая, пурга следовала за пургой. В третий раз снежная буря опять захватила его на полпути. Ветром замело старую лыжницу, он сбился с дороги и, по-видимому, заблудился. Что случилось с женщиной и детьми — неизвестно: их не нашли вовсе. Вероятно, они тоже заблудились в тайге и погибли от голода.
Весной, когда появились первые признаки оттепели, — продолжал свой рассказ Ингину, — мы оставили реку Уд и спустились на Уркан.
Как-то раз два тунгуса пошли по тундре искать оленей и там увидели чьи-то ноги, торчащие из сугроба.
Отец велел разгрести снег. Велико было наше горе, когда в покойнике мы узнали того самого молодого приискателя, которого все так любили. Из осмотра выяснилось, что он хотел было развести костер, но это ему не удалось. Сухую рыбу, которую он нес с собой, погрызли мыши.
Старик на минуту замолк.
В это время снаружи раздался страшный рев. Наша палатка заколыхалась. Где-то упало сухостойное дерево. С диким завыванием налетел ветер на наш бивак и точно злился, что с нами он не может расправиться так, как со светло-русым юношей-приискателем, пытавшимся спасти бедную вдову с детьми.
Одна из девочек, самая маленькая в отряде, проснулась и начала плакать. Тунгуска взяла ее на руки и стала укачивать.
Я взглянул на старика. Он сидел, закрывши глаза, и левой рукой как бы старался отодвинуть от себя страшные видения. Я дотронулся до его плеча. Он вздрогнул и испуганно огляделся, потом поднялся и молча стал расстилать свою постель. Я тоже лег на свое место, но долго не мог уснуть. К ночи метель разразилась еще сильнее. Иногда казалось, что ветром вот-вот сорвет палатку, но порывы его с шумом проносились мимо, и тогда грозный рев в трубе камина снижался до жалобного воя тоненьким голоском. Мне грезились маленькая палатка в лесу, занесенная снегом, и в ней несчастная мать с двумя малютками, и белокурый золотоискатель, прокладывающий дорогу через сугробы вот в такую же бурную ночь…
Гора Лао-Хутун

Во время моих скитаний по Уссурийской тайге в бассейне реки Идоана мне приходилось часто слышать рассказы туземцев о какой-то таинственной пещере, являющейся своего рода штабом тигров. Люди говорили о ней с нескрываемым благоговением и даже страхом.
Пещера находилась невдалеке от того места, где я бродил. Очень часто в рассказах туземцев и китайцев мелькало имя Лао-хутун. Вскоре мне объяснили, что Лао-хутун — гора, одна из вершин Сихотэ-Алиня. Туземцы и особенно китайцы произносили это имя с каким-то трепетом. Это меня заинтересовало.
Как-то вечером при свете костра мне удалось услышать довольно связный рассказ о чудесах горы Лао-хутун. В представлении удэхейцев и китайцев она была обиталищем священных тигров. Мне поведали любопытную легенду. Вот она.
«Это было очень давно, ни один человек не помнит, когда это началось. Люрл — старик, ему скоро сто двадцать лет, а он не помнит. Его отец жил сто пятьдесят лет, но и он не помнил. Его дедушка был старый, старый человек, но и он не помнил. Никто не помнит!
В горе Лао-хутун есть громадная пещера. Такого большого дома нигде нет. Построить такой большой дом человеку невозможно.
Если зайти в эту пещеру, выйти уже нельзя. Она уходит далеко в горы, и выход из нее на той стороне, где садится вечером солнце.
Жили в этой пещере четыре тигра. Жили много-много лет. Как верные стражи, они охраняли от злого духа то, без чего человек жить не может. Здесь были собраны лучшие одежды для человека, оружие, которым он может защищать самого себя, острая пила и острый топор, чтобы срубить и обделать дерево, снасти для рыбной ловли, силки для ловли птицы и зверя, тушь и кисточка для письма.
Тигры никого не трогали. Их можно было видеть около пещеры, когда они грелись на солнце или ходили пить к реке, можно было заходить в пещеру и осматривать хранящиеся в ней предметы, чтобы по их виду сделать такие же для себя. На все можно было смотреть в пещере, даже на то, как старая тигрица кормит грудью своих детей. Но ни к чему нельзя было дотронуться, а тем более что-либо взять или унести с собой. Тот, кто осмеливался на это, совершал жестокое преступление, и его ожидала кара — или болезнь, или смерть.
Но нашелся человек, который нарушил правило. Он вошел в пещеру и, пользуясь тем, что тигры ушли на охоту, взял себе лопату и пилу, которые там были, и незаметно ушел с ними. Но они не пригодились ему: по дороге он был раздавлен упавшим деревом.
Еще десять, а может быть, и пятнадцать лет назад тигры жили в пещере Лаo-хутун, но потом куда-то ушли. Теперь их нет в пещере, но и сейчас там находится тушь в баночке и кисточка для письма».
Легенда была произнесена с пафосом и таинственностью и произвела на туземцев потрясающее впечатление. Глубоко тронула она и меня своей наивностью и непосредственностью. Во мне загорелось желание немедленно посетить этот кабинет тигра, легендарную гору Лао-хутун. Как следовало ожидать, все присутствующие стали отговаривать меня от безумного шага. Я разъяснил, что даже тогда, когда в пещере жили тигры, человеку разрешалось заходить в нее, почему же этого не следует делать теперь? Туземцы опасались, что я унесу тушь в чернильнице и кисточку, а лесные люди иногда пользуются ими. Они думают, что все, написанное этой тушью, — прочно и долговечно. Я убедил их, что ничего не возьму из пещеры.
Лао-хутун меня интересовала, как и все другие пещеры Сихотэ-Алиня. Незадолго перед этим я посетил Макрушинскую пещеру, и мне хотелось побывать в этой: может быть, она окажется интереснее первой. Двое туземцев, подумав, вызвались меня сопровождать. Наутро мы двинулись в путь.
Нельзя не признать, что авторы легенды были одарены наблюдательностью и фантазией, которые помогли им избрать местом действия своей легенды именно гору Лао-хутун. Лишь только мы стали приближаться к хребтам, как попали в такие лесные дебри, что продвигались с величайшим трудом. Никогда я не встречал таких зарослей в Уссурийской тайге. Нам пришлось делать большие обходы, и мы долго плутали, пока наконец попали к горе. Поблизости действительно пробегала речка, но она текла так тихо и бесшумно, что только дополняла своим смирением зловещую тишину, царившую вокруг. Два грандиозных камня, брошенные здесь природой в глубокие времена древности, образовывали своеобразные ворота к пещере.
Мы разыскали вход в пещеру. Он был невелик. Мои спутники не решались войти первыми, и это должен был сделать я. Слегка нагнувшись, я прошел в мрачное подземелье, откуда на меня пахнуло запахом заброшенного хлева. Это была смесь запахов преющего назема и гниющего дерева.
В глубине я заметил луч света и невольно подался ему навстречу. Так я попал во вторую часть пещеры, почти светлую комнату, небольшого размера, имевшую выход наружу в виде трубы, пробитой в горных породах. Это была настолько маленькая пещера, что в ней едва ли мог жить даже один тигр, четверым же здесь поместиться было бы негде.
В комнате стоял неуклюже сделанный ящик, имевший назначение заменить стол, а на нем действительно чернильница с высохшей тушью и засохшая, негодная для письма, а тем более для рисования кисточка. Вот и все убранство священной пещеры. Мы осмотрели все ее стены в поисках другого входа, но ничего не нашли. По сравнению с гигантом лабиринтом Макрушинских пещер Лао-хутун оказалась ничтожным пигмеем, микроскопической выемкой в грандиозных горных складках.
На меня ни самая пещера, ни ее священные атрибуты не произвели особого впечатления, но не так были настроены мои спутники. Один из них взял кисточку и долго мочил ее слюной, в то время как другой разводил тушь в баночке. Откуда-то у них нашелся кусочек белоснежной бересты, они взяли его и долго выводили иероглифы. Один из иероглифов напоминал собою линии рисунка, которыми обладают самцы уссурийских тигров. Впоследствии я узнал, что этот иероглиф по-китайски называется «Ван», что значит «господин, повелитель».
— Что вы написали? — спросил я удэхейцев.
Они прочли мне написанное. Иероглифы гласили:
— Великий повелитель гор и леса! Мы просим твоей защиты!
Кусочек бересты с надписью был оставлен в пещере на столе.
Возвращаясь назад, мы обходили гору Лао-хутун с противоположной стороны. Недалеко от входа в пещеру нам перегородила путь кумирня — одна из тех, которые так часто приходилось встречать мне в тайге. На высоких кольях, вбитых в землю, болтались выцветшие тряпки с остатками каких-то письмен, разобрать которые было уже невозможно. Очевидно, в недалеком прошлом долина, прилегающая к горе Лао-хутун, была облюбована, как и самая гора, местными шаманами и буддистами для совершения молитвенных обрядов.
Была полная тишина и здесь. Казалось, гигант Лао-хутун главенствует в долине безмолвия.
Фальшивый зверь

С юных лет я заинтересовался Уссурийским краем и тогда уже перечитал всю имеющуюся об этой стране литературу. Когда мечта моя сбылась, и я выехал на Дальний Восток, сердце мое от радости замирало в груди. Среди моих попутчиков оказались люди, уже бывавшие на берегах Великого океана. Я расспрашивал их о тайге и о ее четвероногих обитателях. Больше всего меня интересовал тигр. Он казался мне каким-то особенным существом, и я начинал его почти так же боготворить, как и амурские туземцы. По прибытии в город Владивосток я познакомился со всеми известными зверопромышленниками и с затаенным дыханием слушал их рассказы про полосатого зверя. Мой мозг все время работал в одном направлении. Обыкновенную кошку, разгуливающую между камнями по траве, я мысленно увеличивал в сотню раз, представлял ее себе тигром в лесу около высоких скал. Помню, как первый раз вступил я в тайгу и с чувством благоговения думал о том, что наконец-то я нахожусь в настоящих джунглях, где на свободе разгуливает тигр, который находится, может быть, совсем недалеко от меня. В этот момент притаившаяся в зарослях белка с фырканием бросилась на дерево. Я сильно испугался, сердце мое сжалось в груди, я круто повернулся и чуть было не выстрелил в сторону шума. Потом я стал привыкать к таежным звукам и разбираться в них: рев изюбра, свист пятнистого оленя, крик дикой козули и кабарги и пронзительное взвизгивание бурундука — все стало мне уже знакомо. Среди птичьих голосов я различал крики желны, удода, кукушки, пестрого дятла, ронжи, ореховки и орлана белохвостого. Но тигр не выходил из моей головы. Я часто видел его во сне, и я то в виде зверя, то в виде человека убегал, спасался, влезал на дерево и переживал невероятные приключения. Старые охотники говорили, что это такой зверь, которого чем больше искать, тем труднее увидеть, а потом встретишь его в таком месте и как раз тогда, когда менее всего ожидаешь. Зверопромышленников, которым случалось видеть тигра в лесу, я считал людьми особенными. «Ведь есть же такие счастливцы», — думал я и в тайниках своей души завидовал им. Тогда я решил до тех пор скитаться по тайге, пока мечта моя не осуществится. В конце концов тигр сделался моей навязчивой идеей. В нем, как в оптическом фокусе, сосредоточились все мои помыслы и стремления. Целыми днями бродил я в лесу, забирался в самые дебри, где было много скал и пещер, и рассматривал следы на земле. Я представлял себе тигра лежащим в зарослях винограда. Вот он встал, встряхнулся и зевнул, потом подошел к тополю, поднялся на задние ноги, выгнул спину и потянулся, как кошка, царапая кору дерева, затем он посмотрел влево и вправо и пошел на охоту. Впоследствии, когда мне действительно пришлось видеть тигра на воле, он не произвел на меня такого впечатления, как в первый раз. Однажды, это было в 1900 году, я бродил по широкому распадку к востоку от селения Многоудобного, в долине реки Майхе (впадающей в залив Уссурийский). Время было осеннее, и утренние морозы уже разукрасили древесную и кустарниковую растительность и темно-фиолетовые, пурпурные и золотисто-оранжевые тона. Лес начинал сквозить, и уже появились первые признаки листопада. Ночью был небольшой дождь, и поблекшая буро-желтая трава не успела еще обсохнуть. Солнечные лучи пробирались в самую чащу леса и играли в каплях воды, превращая их в искрящиеся алмазы. Тогда постоянным моим спутником в скитаниях по тайге был сибирский стрелок Поликарп Олентьев, прекрасный человек и хороший охотник. В этот знаменательный день он остался на биваке починять обувь, а я с дробовым ружьем пошел искать рябчиков. Я шел по небольшой дорожке и смотрел по сторонам. Мне вспомнились рассказы зверопромышленников о том, что тигр любит ходить по тропам. Известный в крае охотник Иван Пашкеев на реке Сице (приток Сучана) именно так встретил тигра, которого и убил одним удачным выстрелом прямо в лоб. Я взглянул себе под ноги и вдруг увидел на тропе свежие тигровые следы. Страшный хищник был впереди и шел в том же направлении, как и я. Читатель может себе представить, что со мной сделалось! Чувства мои смешались: я попеременно испытывал то страх одиночества перед опасностью, то благоговение перед царственным грозным зверем, то охотничью страсть и любопытство. Однако чувство страха взяло верх. Я вспомнил, что в руках у меня дробовое ружье и в сумке один только патрон с пулей. Назад возвращаться было далеко и поздно. Я постоял, подумал, перезарядил ружье и пошел дальше. Тропа подошла к небольшой горной речке. С одной стороны берег был обрывистый, а с другой — пологий, галечниково-песчаный. Как только я вышел на отмель, тотчас опять увидел следы больших кошачьих лап. Они были еще влажными и не успели обсохнуть. Наблюдатель со стороны увидел бы, как изменились моя походка и выражение лица. Я не шел, а крался, часто останавливался, прислушивался и озирался по сторонам. За рекой опять начиналась тайга, а за ней старая гарь. Не успел я дойти до опушки леса метров сто, как вдруг увидел того, кого искал. Огромный тигр лежал на брюхе, поджав под себя задние ноги. Голова его покоилась на передних лапах, вытянутых вперед. Он чуть шевелил хвостом и как будто немного поднял голову и посмотрел в мою сторону. Я очень испугался и поспешно спрятался за большой кедр. Что делать? Стрелять? Но такого зверя одним выстрелом не убьешь, а раненый, он еще опаснее. Стрелять в воздух? Но этим только привлечешь его внимание к себе. Тихонько уйти назад? Но как это сделать? Сердце мое готово было выскочить из груди, на лбу выступили крупные капли пота, ноги онемели и отказывались повиноваться, руки дрожали. Вероятно, на лице моем были написаны ужас и отчаяние. Выглянув из-за дерева, я увидел тигра на том же месте. Длинное желтое тело его было испещрено поперечными черными полосами. В это мгновение под ногой у меня хрустнула веточка, и страшный зверь вновь взглянул в мою сторону. Словно электрический ток прошел через мое тело от головы до пяток. Сердце во мне «захолонуло». Я считал себя погибшим безвозвратно. Вдруг я увидел человека, идущего через поляну. Как предупредить его об опасности: стрелять, кричать, бежать навстречу? Я не знал, что делать, растерялся и в то же время чувствовал, что этот человек с ружьем в руках является моим спасителем. Он шел, ничего не замечая, а тигр по-прежнему лежал на брюхе. «Какой, однако, дерзкий зверь!» — подумал я. В это время человек поравнялся с тигром и перешагнул через него и ничтоже сумняшеся пошел дальше. Тогда я вышел из своей засады. Очарование исчезло. Вместо тигра на поляне лежала большая колодина темного цвета и без выступающих частей, которые можно было бы принять за хвост или голову. Мало того, из самой середины спины воображаемого зверя торчал большой узловатый сук. Вновь пришедший, увидев меня, проворно снял с плеча винтовку. Я окликнул его и в знак мирных отношений приставил свое ружье к дереву. Моим спасителем оказался крестьянин из села Шкотово Пырков. Я чистосердечно рассказал ему о том, как меня напугала колодина. — Которая? — спросил он. — Вон та, — сказал я и указал на полянку. — Да она вовсе не похожа ни на какого зверя, — ответил Пырков и искоса посмотрел на меня, как бы желая удостовериться, в трезвом ли я виде и в своем ли уме. — Впрочем, бывают такие случаи, — продолжал он, — когда охотник убивает человека вместо зверя. Я сам один раз стрелял в пень, приняв его за медведя. Пойдемте-ка в деревню, там заночуем. Пожалуй, ночью дождь будет. Мы пошли по тропе, и, когда стали проходить речку, я указал на следы тигра. — Так вы приняли колодину за тигра и испугались? — начал опять Пырков. — Хорошо, что не обратно. — Как обратно? — не понял я. — А вот, если бы вы тигра приняли за колодину и без опаски подошли бы к нему вплотную, так мы не шли бы с вами сейчас рядом. Такие случаи тоже бывают. Этот зверь хитрый. Сообразив, что за ним следят, он сначала уходит, а потом опишет петлю и заляжет около своего следа, чтобы напасть на охотника сбоку или сзади. Одному по тигровому следу ходить не следует. Через полчаса мы дошли до бивака, где Олентьев уже согрел чай и ждал моего возвращения. Мы немного отдохнули, покурили у огонька и втроем отправились дальше. Когда мы подходили к деревне, солнце только что скрылось за горизонтом. Вершины далеких гор порозовели в его закатных лучах. Запах сырости в лесу стал острее. Кое-где над домами появились тонкие струйки белесоватого дыма. С востока надвигалась тихая осенняя ночь.
БИОГРАФИЯ АВТОРА

Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930), подполковник царской армии, натуралист, путешественник, этнограф, писатель-гуманист, популяризатор науки, исследователь Дальнего Востока; член Российского географического общества, почетный член Вашингтонского национального и Британского королевского географических обществ. Родился в Санкт-Петербурге в семье железнодорожного служащего — выходца из крепостных крестьян; мать — крепостная крестьянка. После окончания в 1895 году Петербургского юнкерского пехотного училища служил в полку города Ломжа (Польша), в 1900 году был переведен во Владивосток. В 1902–1903 годах предпринял ряд экспедиций для изучения Южного Приморья, с января 1903-го стал начальником конно-охотничьей команды. Во время русско-японской войны 1904–1905 годов руководил гарнизонной разведкой, был награжден тремя орденами. В 1906–1910 годах исследовал горы Сихотэ-Алиня. По указу Николая II в 1910 году был освобожден от службы и переведен в Главное управление землеустройства и земледелия с сохранением воинского звания и чинопроизводства. Первую сводку о природе и населении Уссурийского края Арсеньев опубликовал в 1912 году. В 1918 году путешествовал по Камчатке. Летом 1922 года посетил Гижигинский район, по возвращении чудом спасся от тайфуна на Охотском море. В следующем году отправился на Командорские острова, а в 1927 году прошел по маршруту Советская Гавань — Хабаровск. Во всех экспедициях изучал быт, обычаи, промыслы, религиозные верования, фольклор народов Дальнего Востока. В 1910–1918 годах Арсеньев заведовал краеведческим музеем в Хабаровске, одновременно преподавал в Дальневосточном университете и во Владивостокском педагогическом институте (стал профессором в 1921 году), а также в народных университетах Хабаровска и Владивостока. Состоял членом 20 научных обществ и учреждений Сибири и Дальневосточного края. Активная деятельность и душевные качества заслуженно принесли ему почти легендарную славу. Арсеньев создал новое, краеведческое направление в отечественной научно-художественной литературе. Его многократно переиздававшиеся книги "По Уссурийскому краю" (1921), "Дерсу Узала" (1923) и "В горах Сихотэ-Алиня" (1937) проникнуты любовью к природе Дальнего Востока, дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги, рассказывают о мужественных людях. По официальной версии, Арсеньев умер от крупозного воспаления легких. Это заключение вызвало недоумение у многих его современников, а скоропалительные (на следующий день после смерти) похороны усилили подозрения в его загадочной гибели. Судьба родных не менее трагична: вдова была расстреляна в 1938 году по ложному обвинению в шпионаже (реабилитирована посмертно в 1958 году); дочь осуждена на 10 лет лагерей (1941–1951); брат, арестованный в 1937 году, бесследно исчез. Именем Арсеньева названы приток Уссури, две горы (в Сихотэ-Алине и на острове Парамушир), вулкан на Камчатке, город и поселок.

(Биография публикуется по полярной энциклопедии школьника "Арктика — мой дом", том "История освоения Севера в биографиях знаменитых людей")
ФОТОГРАФИИ

В.К.Арсеньев (Петербургское юнкерское пехотное училище)

В.К.Арсеньев, офицер царской армии

Арсеньев и др.

В.К.Арсеньев, 20-е годы

В.К.Арсеньев и Дерсу Узала

Дерсу Узала

Арсеньев и Дерсу в экспедиции (1906 год)

Экспедиция 1927 г

В.К.Арсеньев и братья Худяковы

В.К.Арсеньев за работой

В 1928 г. под руководством В.К.Арсеньева проходили съемки кинофильма «Лесные дали»

Н.Арсеньева и В.К.Арсеньев. Одна из последних фотографий В.К.Арсеньева

Братья Арсеньевы Александр, Анатолий, Владимир. 1928 г

В.К.Арсеньев с дочерью Наташей в гостях у брата Анатолия — капитана теплохода «Трансбалт», 1928 г.

В.К.Арсеньев читает популярную лекцию. г. Хабаровск, 1922 г

Страница дневника В.К.Арсеньева

В.К.Арсеньев «Дерсу Узала»

Красное здание слева — Приморский государственный музей им. В.К.Арсеньева в г. Владивостоке

Могила В.К.Арсеньева на Морском кладбище г. Владивостока

Обелиск памяти В.К.Арсеньева
О книге
Серия супер-крупных книг «Diximir» постоянно пополняется. Скачивайте новинки с официальных интернет-ресурсов проекта:Блог проекта «Diximir»:
boosty.to/diximir
Ютуб проекта «Diximir»:
youtube.com/diximir
Это гарантия чистоты и качества!
Подписавшись на эти литературные сайты, Вы сможете «не напрягаясь» отслеживать все новинки и обновления серии «Diximir».
Последние комментарии
2 дней 5 часов назад
2 дней 17 часов назад
2 дней 18 часов назад
3 дней 5 часов назад
3 дней 23 часов назад
4 дней 13 часов назад