СТАНКЕВИЧ



Глава первая
ДЕТСКИЕ ГОДЫ
В утренней осенней тишине громко ударил колокол. Не тревожно, а празднично, напевно. Его раскатистый малиновый перезвон покатился с высокой меловой горы через слегка озябшие густые липовые аллеи, фруктовый сад и луг — прямо к реке. Внизу, у деревянного моста, он настиг телегу с несколькими крестьянами, которые, как по команде, повернули головы к возвышающейся на горе небольшой деревянной церквушке и стали дружно креститься.
— У пана нашего, видать, праздник, — громко сказал один из мужиков. — Чуете, колокол, як пивень, заливается…
Действительно, у пана, как называли отставного поручика Владимира Ивановича Станкевича здешние крестьяне-малороссы, в то утро 28 сентября 1813 года был особый праздник. Ночью его жена Катя, в которой он души не чаял, родила первенца. Владимир Иванович очень надеялся, что супруга подарит ему именно наследника. И надежда эта сбылась.
Молодой хозяин пребывал в прекрасном настроении.
— Хвала тебе, Господи! Хвала тебе, Катя! Хвала за сына! — радостно восклицал он, постоянно повторяя слово «хвала», что в переводе с сербского означало «спасибо».
Добрые и светлые чувства переполняли его грудь, вырывались наружу. С кубком шампанского он бодро расхаживал по двору, напевал песни, необычно много шутил и любезничал с прислугой.
Да иначе и быть не могло у человека, который стал отцом. На радостях Станкевич сделал на обложке старославянского рукописного псалтыря памятную запись: «Славу бога моего родился сын… 1813 года сентября 27, в ночь на 28». Первенца нарекли Николаем.
Обряд крещения был совершен наутро 28 сентября. Крестили младенца в купели Соборно-Троицкой церкви города Острогожска Воронежской губернии, о чем местный священник Михаил Подзорский, творивший молитвы во здравие сына Николая, впоследствии составил соответствующий документ: «Свидетельство… дано сие Острогожского и Бирюченского уездов поручика Владимира Иванова сына Станкевича сыну Николаю в том, что он Николай действительно от помянутого поручика Владимира Иванова сына Станкевича и законной его жены Екатерины, дочери коллежского асессора ФонКрамера от законного брака прошлого 1813-го года сентября 27 дня и того же месяца 28-го числа мною крещен; восприемниками были Острогожского уезда помещик поручик Николай Иванов сын Станкевич и помещица дворянка губернская секретарша Елизавета Дмитриевна дочь Синельникова, о чем и в метрике 1813 года под № 153 записано. Во удостоверении чего, свидетельствуя, подписуюсь…»
Месяц спустя в доме Станкевичей состоялся родильный стол. Приехали из окрестных мест гости — родственники и соседи-помещики из близлежащих имений: Рахмины, Томилины, Сафоновы… Было шумно и весело. Все сидели за большим столом, заставленным обилием напитков, блюд из дичи, баранины, рыбы, грибов и прочей домашней снеди. Гости по очереди произносили речи, дарили подарки, поднимали бокалы с вином за родителей и новорожденного.
В перерыве между застольем счастливый отец пригласил гостей в манеж посмотреть своих лошадей. Их поодиночке стали выводить из конюшни, они дичились, становились на дыбы. Тут же гостям подавали бокалы с шампанским. Один из бокалов хозяин влил прямо в пасть красавцу-жеребцу, только что взвивавшемуся перед ним на дыбы. Жеребец, похоже, с удовольствием выпил вино.
— За первенца! — воскликнул Станкевич, поднимая бокал.
— За первенца! — радостно и дружно прокричали хмельные гости.
Детство Николеньки Станкевича пришлось на те ранние годы XIX века, о которых Лев Толстой написал: «Времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, — те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или в карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и с другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света— наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных…»
Рос Николенька в имении отца — небольшом селе Удеревке, что соседствовало с уездным городком Острогожском и слободой Алексеевкой Воронежской губернии. И хотя местом его рождения считается Острогожск, настоящей «колыбелью» для всей последующей жизни Станкевича стала именно Удеревка. Местность тут была замечательная. Впрочем, ее трогательная и волнительная красота сохранилась и по сей день.
Дом Станкевичей стоял на высокой меловой горе, с которой открывался прекрасный вид на речку с теплым названием Тихая Сосна. На одном из ее крутых изгибов, где течение было быстрое, стояла водяная мельница. На мельнице всегда было людно, особенно осенью. Туда приезжали работники из ближайшей округи, чтобы смолоть пшеницу или ободрать ячмень на крупу.
Под горой, вдоль реки, волнистой лентой тянулась небольшая малороссийская деревенька, тонущая в вишневых и грушевых садах, с аккуратно выбеленными хатами под камышовыми и соломенными крышами. В обеденные и вечерние часы из-за плетней, обросших шиповником и крапивой, тянулись шлейфами ароматные запахи кулеша, борща, вареников, галушек со свиным салом…
В деревеньке в ту пору еще можно было встретить смуглых хлопцев с подбритыми висками и длинными усами, в высоких бараньих шапках и с люльками в зубах. Женский пол тоже сохранял традиции предков. Девушки были одеты в пестрые плахты. Но особый колорит придавала живая и певучая малороссийская речь, которая доносилась из-за плетней селян: «Так як же тому буты, щоб наша Катря була тоби жинкою? Чи вона ж тоби пара?» Или: «Маты, а ты бачила молодого паныча? Вин такий гарный!»
А еще из-за плетней звучали песни, которые часто слышал наш герой:
Сватьба йде,
Пастух в дудку гуде;
Сваха — черепаха,
Светилкою жаба.
Вошь тому рада,
Що йде гнида
За Демида.
Одна из младших сестер Николеньки — Александра, впоследствии вышедшая замуж за сына великого русского актера М. С. Щепкина, в своей книге «Воспоминания» писала: «Близ деревни отца, Удеревки, было в окрестности много малороссийских сел. Встречаясь с малороссами, мы в детстве спрашивали: отчего они так странно говорят?
— Потому что они хохлы, не русские, так они и говорят по-своему, — объясняли нянюшки, и мы довольствовались их кратким ответом».
Рядом с хатами, ближе к реке, находились огороды, обсаженные вербами. В летнюю пору они были похожи на ярко вытканные восточные ковры. За россыпью красных цветов мака поблескивали спелыми боками рябые гарбузы
(тыквы), полосатые кавуны
(арбузы) и золотистые дыни. Словно солдаты в парадных шеренгах, стояли длинные, как на подбор, подсолнухи, задрав к солнцу свои большие желтые шапки.
Дальше, за речкой, зеленели сочные заливные луга с живописно разбросанными по ним купами верб, ольхи и лозы, за кущами простиралась необозримая степь, убегающая ковыльными волнами далеко за горизонт. По этому колосящемуся серебристому морю медленно плыли гурты быков и отары овец, издалека напоминая чем-то огромные плоты. А ночами степь часто светилась огнями, мерцающими, как звездочки. Это вечно кочующие чумаки, остановившись на ночлег, жгли костры, готовя себе ужин. Под глубоким небом слышались их дико-унылые песни, временами сипло напевала скрипка…
О детских годах Станкевича известно, к сожалению, не так много. И тем не менее сохранившиеся в Государственном архиве Воронежской области документы, исторические «раскопки» местных краеведов А. Н. Акиньшина, А. И. Гайворонского, В. Ф. Бахмута, А. Н. Кряженкова, О. Г. Ласунского, других исследователей, письма самого Станкевича, а также воспоминания его младшей сестры А. В. Станкевич, брата А. В. Станкевича позволяют узнать о будущем поэте и философе не так уж и мало.
Николенька был любимцем не только родителей, братьев и сестер, но и всей дворовой прислуги. Это был мальчик веселый, здоровый, общительный и необычно резвый. Приглядывали за ним и занимались его воспитанием не завозные гувернеры, как было принято в дворянских семьях, а няня Зиновьюшка, дворовый дядька Иван и, безусловно, родители. С крестьянскими ребятишками он играл в индейцев и войну, ловил в заводях и на быстрине Тихой Сосны окуней, головлей, щук и сомов. Любил Николенька, как и всякий ребенок, попроказничать.
Однажды, стоя на балконе удеревского дома, он увидел внизу на крыльце отца, который задушевно беседовал с почтенным купцом, обладавшим лысиной необыкновенного размера. Лысина эта тут же привлекла внимание Николеньки, и он никак не мог удержаться от соблазна плюнуть на нее сверху, что вскоре и исполнил, к ужасу купца и к огромному удивлению отца.
В другой раз резвость непоседливого паныча обернулась трагедией — сгорел родительский дом, а по некоторым сведениям, даже вся деревня. Пожар случился в жаркий июльский день, когда Николенька, стреляя из детского ружья, попал в соломенную крышу дома. Попавшая искра тлела незаметно, а вспыхнувшее пламя быстро охватило весь дом, который в одночасье сгорел дотла. Целый день не могли отыскать мальчика: он убежал в соседнюю рощу и собирался там остаться жить, как дикий человек.
Уже будучи девятнадцатилетним юношей, Станкевич вспоминал: «19 июля 1832 года, село Удеревка. Знаменитое число! Сегодня ровно одиннадцать лет, как я сжег деревню…»
На месте сгоревшего дома отец мальчика вскоре построил новый, по составленному им самим проекту — «очень поместительный, с широкими балконами», двухэтажный, с мезонином и под железной крышей. Дом был деревянный, в стиле провинциального ампира. Он был оштукатурен и выкрашен белой краской. У входа в дом лежали три старинные бронзовые пушки, привезенные в подарок отцу Николеньки кем-то из его полковых товарищей из заграничного боевого похода. Внутри дома имелись гостиная, столовая, бильярдная, детские, спальни — всего девять комнат. У хозяина дома был большой кабинет с подобающей обстановкой — письменным столом, креслами, диваном, книжным шкафом. Стены украшали картины, написанные художником из домашней прислуги. Когда приезжали гости, старший Станкевич с гордостью подчеркивал:
— Дом я выстроил сам, без архитектора!
В длинные дождливые осенние и морозные зимние вечера в просторном доме Станкевичей собиралось много детворы: Николенька с младшими братьями и сестрами, а также дворовые ребятишки. Для них это были незабываемые часы. Дружно усевшись на полу, на ковре, они, затаив дыхание, слушали сказки няни Зиновьюшки. Сказки она рассказывала очень осмысленно, изменяя голос, сообразно с характером волка, лисицы или петуха.
Укладывая потом Николеньку спать, нянюшка обычно уговаривала его уснуть поскорее. Но тому спать не хотелось. Тогда Зиновьюшка говорила, что если он не будет спать, его возьмет Хо, который лежит под кроватью. Кто такой был Хо, юный Станкевич не знал, но быстро прятался под одеяло и засыпал.
Делала это няня в шутливой форме, не нагоняя никакого страха на паныча. Вообще эта добрая женщина, наделенная от природы талантом педагога и неистощимой рассказчицы, была душой Николенькиной компании. Няня сумела передать своему воспитаннику всю любовь и нежность, развить пытливый ум и привить любовь к своей земле. Зиновьюшка была малороссиянкой, знала много песен своего народа. Пела она негромко, вполголоса и как-то по-особенному грустно-нежно:
Ой зийшов мисяц над горою,
Та й всю долину освитив…
Нередко отец, а чаще дядя Николеньки — Николай Иванович — вызывал в дом старого казака, который служил в их имении. Казак приходил со своей бандурой, садился на стул в центре зала и пел, как и Зиновьюшка, малороссийские песни. Взрослые располагались в креслах, детвора — на полу. Все слушали этот самобытный концерт. Казак пел выразительно и бесхитростно. Особенно всем нравились песни комического характера, к примеру, такая: «Как посеял казак гречу, — жинка каже: мак! — Нехай так, нехай так, нехай греча буде мак!» Так шло до конца песни, а жинка так и не уступила казаку.
Мальчику полюбились эти песни — душевные, светлые, веселые. Большинство он заучил наизусть, часто их пел, любил цитировать в своих письмах.
Николенька рано выучился читать. Чтение стало его первой страстью с самых ранних дней детства. Сняв книгу с полки домашней библиотеки, он, бывало, запоем прочитывал ее, стоя на коленях перед шкафом. Книги были разные: сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове Королевиче, стихи Державина, Озерова, Хераскова. Интересовала его и приключенческая литература, в которой описывались захватывающие детскую душу путешествия, к примеру путешествие Кука вокруг света.
Кроме того, по совету старших он читал книги религиозного содержания, в частности патерик. Однажды, начитавшись патерика, наш герой даже намеревался «уйти потихоньку из дому и пойти в монахи». Уже тогда искренняя вера в Бога вошла в его сердце. Он часто посещал Покровскую церковь, которая находилась прямо в усадьбе и являлась домовой церковью их семьи. Вместе с родителями, братьями и сестрами, дворовыми людьми Николенька молился, исповедовался, причащался…
В религии он находил утешение, о чем еще будет сказано в повествовании. Церковное пение, зажженные свечи, молящиеся прихожане, торжественность богослужения, православные обряды — от всего этого он получал радость и тепло для своей души.
Увлечение книгами поддерживала в сыне мать Екатерина Иосифовна — дочь уездного доктора, рано оставшаяся сиротой. Известно также, что она быта хороша собой, воспитанной, благопристойной и набожной женщиной. Добрая и ласковая, Екатерина Иосифовна нежно любила своих детей. А их в семье Станкевичей, включая Николеньку, было восемь — сыновья Николай, Иосиф, Иван и Александр, дочери Надежда, Любовь, Мария и Александра. Различие в возрасте было небольшим, поскольку на свет они появлялись чуть ли не каждый год.
Главная сила Екатерины Иосифовны, пожалуй, заключалась в открытом сердце и мягком характере. Но, к сожалению, еще с молодых лет она страдала хроническим недугом и уже в зрелом возрасте очень редко выходила из своей комнаты.
Станкевич, став взрослым, в каждый свой приезд в Удеревку старался как можно подольше побыть рядом с милой маменькой, как ее всегда называл. Он заходил к ней в комнату, осторожно садился около дивана, разговаривал с ней, ободрял ее — и она веселела. С юмором она рассказывала о годах своей молодости, знакомстве с отцом. Ее будущий муж тогда находился на военной службе и носил привязную косу — так того требовали армейские порядки, установленные императором Павлом I. Коса и стала причиной знакомства молодых людей. Играя в горелки, девушка, стараясь поймать офицера, схватила его за косу, и, к удивлению, коса осталась в ее руке. «Вот какая была я шаловливая!» — вспоминала матушка этот курьезный эпизод, положивший начало их любви.
Николай всегда отзывался о матери с трогательным чувством. От нее он унаследовал лучшие черты характера — доброту, открытость, незлобивость, самопожертвование, которые впоследствии привлекали к нему друзей и близких на протяжении всей жизни.
Но, безусловно, наибольшее влияние на Николеньку оказал его отец Владимир Иванович. О нем следует рассказать более подробно. Старший Станкевич был высокого роста, смуглый, с прямым носом с небольшой горбинкой, черными волосами и живыми карими глазами.
В здешних местах Владимир Иванович являлся заметной фигурой. Он принадлежал к числу богатых или, как тогда говорили, «великодушных» помещиков. За его плечами была служба в армии, а именно в прославленном Ахтырском гусарском полку. Ему довелось участвовать в 1805–1807 годах в русско-французской кампании, а также в походе в Пруссию.
Из-за болезни он в чине поручика вышел в отставку и занялся хозяйственной деятельностью. Не раз служил по дворянским выборам, был исправником, уездным предводителем дворянства. Его отличали прямота и честность характера, природная деликатность. Хитрости и высокомерия он не выносил, со всеми обходился ровно и уважительно, как с помещиками, так и с крестьянами.
В его обращении с людьми не было ни малейшей чопорности; он говорил просто и шутливо с людьми всех сословий. «Часто, входя в зал, — вспоминала Александра, его дочь и сестра Николая Станкевича, — я видела сидевших с ним (отцом. —
Н. К.) посетителей по делам, остриженных в кружок с пробором и в длинных чуйках. Я успевала только раскланяться. «Пойди, вели дать сюда чаю!» — говорил мне отец, и я спешила исполнить его поручение. Людей нечестных, мелочных наживателей и взяточников на службе отец не принимал или принимал очень сухо и спешил отплатиться от них. «Кляузники», — говорил он, иногда представляя их манеру говорить или кланяться».
По свидетельству Александры, среди помещиков — соседей их семейства — встречались люди бессердечные и жестокие. К примеру, за плохо вытертую пыль с комода или не так поданную чашку хозяину горничных отправляли на тяжелые работы. А за сорванный кем-то цветок на клумбе пороли всех садовников. «Прогнать сквозь строй», «сослать», «обрить под красную шапку» — для иных помещиков это были не просто угрозы; подобные фразы являлись нормой бытия в отношении своих крестьян.
Так, неподалеку от имения Станкевичей находилась деревенька, о владелице которой ходили страшные рассказы. Высокая, довольно полная, с грубым лицом и мужскими ухватками, здешняя помещица буквально наводила ужас на подвластных ей крестьян. Она собственноручно колотила скалкой горничных, одна из которых с бритой головой как-то несколько дней ходила с рогаткой вокруг шеи. Эта феодальная дама любила также собирать гостей, особенно офицеров из квартировавшего поблизости полка. В народе говорили, что она охотно угощала гостей не только сытными обедами и наливками, но и ублажала их своими женскими прелестями. В конце концов за свою жестокость помещицу осудили и сослали в Сибирь.
Владимира Ивановича подобные вещи возмущали. Он с отвращением воспринимал тех, кто бесчеловечно относился к людям, чья жестокость сопровождалась развратом. У него были «другие взгляды и понятия, более справедливые, чем нравы окружающих помещиков».
О сердечном отношении помещика Станкевича к людям, и в частности к крепостным крестьянам, красноречиво говорит такой факт. Богатый помещик из соседнего уезда решил продать оркестр — шесть музыкантов вместе с их семьями. Житье-бытье у них там было никудышное. Выкупил музыкантов Станкевич. Можно себе представить, каково им было менять одного хозяина на другого, совершенно незнакомого.
К счастью, им не пришлось ни о чем жалеть. Новый хозяин очень сочувственно отнесся к их положению. Семьи музыкантов были расселены по отдельным и чистым хатам, специально предназначенным для служивших в имении людей. Каждому музыканту была назначена помесячная денежная плата, а также определена провизия.
Такую заботу о своих работниках отец Станкевича проявлял постоянно. Это было чертой его характера. И что бы ни случалось — свадьба или похороны, новоселье или болезнь, — он никогда не оставался безучастным к радостям и бедам людей, всегда старался им помочь. В то время из-за погодных условий нередко случались неурожаи, из-за чего люди просто оставались без куска хлеба. В один из таких неурожайных годов, когда хлеб стоил очень дорого, Владимир Иванович распорядился отпускать зерно и муку по низким ценам. Кроме того, наиболее бедным крестьянам хлеб был выдан бесплатно.
Добавим еще несколько штрихов к портрету Владимира Ивановича. По словам Анненкова, «отец Станкевича был высокого практического ума, здравого смысла и благородных правил». Он рачительно вел хозяйство, следил за техническими новинками в России и за границей, применял эти новшества у себя в имении. Когда его сын вырос и находился на учебе и лечении за границей, то он, что называется, нагружал его конкретными поручениями и вопросами относительно цен на хлеб, постановки дела на сахарных заводах, просьбами выслать брошюры по сельскому хозяйству. Иными словами, это был помещик новой формации, который, выражаясь современным языком, сумел организовать успешный бизнес.
«Надо заметить, — вспоминала дочь Александра, — что отец наш, легко приобретая деньги, не имел к ним страсти и не приобретал их только для себя; он любил доставить выгоды своим друзьям, и знакомым, и служившим у него по делам. Он считал справедливым уступать и другим, и поднять семью, вывести из стеснения, — это доставляло ему большое удовлетворение».
Из документов, хранящихся в Государственном архиве Воронежской области, известно, что в начале 1820-х годов семье Станкевичей принадлежало более 300 крестьян в селах Удеревке, Муховке, Погибелке, хуторе Чесношном, деревне Матренке, два винокуренных завода, конный и салотопенный заводы, мельница, манеж, конюшни, овчарни… В 1821 году отец Станкевича и его брат Николай Иванович (хозяйство они вели вместе. —
Н. К.) выкупили у титулярного советника П. И. Гарденина 68 крестьян в селе Пирогове и основали новую деревеньку, названную ими Зара. Столь непонятное для здешних мест название — Зара, а не Заря — было очень родным и близким для братьев: в далеком сербском местечке Зара родился их отец Иван Семенович Станкевич. Непосредственно в самой Удеревке, по описанию 1829 года, семье Станкевичей принадлежало 312 десятин земли и 45 десятин леса, фруктовый сад на пяти десятинах.
Большое хозяйство давало и солидную отдачу. Станкевич-старший поставлял муку, крупы, вино, сало, другой провиант Войску Донскому, Черноморскому флоту. Породистых лошадей орловской породы — конногвардейским и уланским полкам, расквартированным в уездах Воронежской губернии.
В годину суровых испытаний, когда полчища Наполеона вторглись в Россию, Владимир Иванович участвовал в организации воронежского народного ополчения и занимался снабжением армии продовольствием. В частности, он обеспечивал провиантом 3-й и 4-й Воронежские егерские полки, которые принимали участие в Тарутинском сражении, других военных операциях. За труды в деле защиты и спасения Отечества был награжден бронзовой медалью «В память Отечественной войны 1812 года» на владимирской ленте, о чем написано в книге «Воронежское дворянство в 1812 году».
В последующем отец Станкевича еще не раз удостаивался наград и поощрений. Одну из благодарностей ему объявил воронежский губернатор за расследование дела об ограблении помещицы Костомаровой, матери известного впоследствии российского историка Н. И. Костомарова.
Дело было так. Помещица уехала в Воронеж, а ночью в ее дом проникли грабители. Они связали сторожа, покалечили нескольких дворовых людей, при этом жгли их свечками, пытая, есть ли у барыни деньги и где она их хранит. Потом преступники сорвали замки в комодах и шкафах и унесли все ценные вещи. Станкевич-старший, являясь в ту пору исправником Острогожского уездного суда, сумел по горячим следам найти воров. Виновником разбоя оказался помещик соседнего Валуйского уезда, отставной прапорщик Заварыкин, а соучастниками преступления стали местные крестьяне. Виновных вскоре осудили и сослали на каторгу в Сибирь.
Имелось у Станкевича поощрение и от самого государя. Когда в 1834 году в Туле произошел сильный пожар, в результате которого выгорел почти весь город, Владимир Иванович пожертвовал погорельцам около 100 тысяч рублей. Деньги по тем временам, надо заметить, большие, сродни нынешним миллионам. За жертвенное служение он получил «выражение удовлетворения» от Николая I.
Безусловно, такой человек, как Владимир Иванович, являл собой пример для других людей, а тем более для своего первенца. И хотя отец Станкевича редко бывал дома — торговые дела требовали от него постоянных разъездов — он много внимания уделял семье, воспитанию любимого сына.
Его власть как родителя чувствовалась в доме не как гнет, а только как ограничение воли, еще необузданной размышлением, и почти всегда как ограничение разумное и снисходительное. Если взять эпоху, в которой проходило детство Станкевича, то можно постичь характер и достоинство человека, так понимавшего в то время свои обязанности семьянина. Поэтому и молодой Станкевич рос с открытой душой, что было обыкновенным следствием честного обхождения с детьми. Мелких пороков, скрытности, притворства, лжи и лицемерия он никогда не знал благодаря своему воспитанию.
Так что от отца Николенька унаследовал не только внешнее сходство, но и ум, усердие, честность, благородство и красоту души. От него он впервые узнал и о своей родословной, откуда и когда появились Станкевичи в этом ковыльно-солнечном крае.
С огромным интересом слушал любознательный Николенька рассказы отца о своем деде Иване, основателе рода Станкевичей в России. Дед был выходцем из далекой, но в то же время такой близкой для России по славянским корням и православной вере Сербии. «Где кто родится, там и пригодится», — гласит пословица. Но дед Николеньки пригодился в России, которая стала для него второй родиной. И служил он ей верой и правдой, по совести, как и подобает служить родному Отечеству.
В России род Станкевичей отнюдь не уходил своими корнями в седую древность. Он начал отсчет с XVIII века. Именно в то время по призыву Петра Великого немало выходцев из Сербии, Боснии, Черногории, Далмации, Словении изъявили желание послужить России «в воинских делах против врагов христианского имени и святого креста».
Были и другие причины. После австро-турецкой войны часть территории Сербии стала австрийской провинцией, в результате чего сербы начали подвергаться не меньшим гонениям, чем при турецкой оккупации. При новом режиме коренным жителям запрещалось отмечать День святого Саввы, другие православные праздники, петь родные песни, играть на гуслях и носить национальную одежду. Сербы начали покидать обжитые места, поток беженцев хлынул и в сторону братской России.
К этому же периоду относится и основание первых сербских военных поселений по реке Северский Донец, что протекает по нынешним южным приграничным областям России и Украины. Поселения эти получили название «Новая Сербия». А среди тех первых сербов, кто тогда встал в строй и присягнул новой родине, были Милорадович, Княжевич, Божич, Стоя-нович, Виткович, Наталич, Депрерадович, Попович-Текелли, Милошевич, Маркович, Зарич, Мирович… Кстати, в России эти фамилии достаточно известны и по сей день.
Всего же, как подсчитали современные историки, в Россию в XVIII веке прибыло почти 10 тысяч сербов. Многие из них имели военное образование и были хорошими офицерами. В таком качестве их присутствие способствовало повышению боеспособности русской армии. Уцелев в боях и походах, они потом пустили корни в России, и уже их сыновья и внуки, родившись здесь, умножили дела своих дедов и отцов как на военном, так и на иных государственных поприщах.
И. С. Станкевич принадлежал к числу благородных единоверцев, пришедших на службу Российской империи. Происхождение он имел шляхетское, то есть знатное. Существует даже версия, что семья Станкевичей состояла в родстве с королем Сербии Стефаном Душаном. Но это лишь версия.
За плечами Ивана Семеновича были учеба в университете в Италии, служба в сербской армии. Это был образованный и храбрый офицер. Как принято говорить, настоящая военная косточка. После принятия «вечного подданства в России» его зачислили в Острогожский гусарский полк, который квартировался в казачьем городке Острогожске Воронежской губернии.
Армейская служба прапорщика Станкевича совпала с многочисленными и затяжными, как надоедливые осенние дожди, военными кампаниями, которые вела Россия с Пруссией, Польшей, Турцией. Молодой гусар всегда находился в передовых порядках. Именно там, где вздымались прошитые картечью и пропахшие пороховым дымом боевые знамена полководцев Румянцева, Потемкина, Суворова… Словно ему и были посвящены эти вдохновенные пушкинские строки:
О громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.
Станкевич участвовал в нескольких заграничных походах-сражениях в 1760–1767 годах в Пруссии, в 1769 году в Польше и Турции. Особенно он отличился при взятии Берлина, где проявил себя храбрым офицером. «Состоя в полку, — сказано в аттестате на него, — вел себя добропорядочно, так, как честному офицеру надлежит, и был во всех случившихся в прошедшую кампанию с неприятелем сражениях с Острогожским гусарским полком». К сожалению, из-за ранений и контузий Станкевич, ставший к тому времени капитаном, не мог уже дальше продолжать службу и поэтому вышел в отставку. Получив ее, он занялся сугубо мирными делами на земле, которая чем-то напоминала ему далекую родину.
В 1772 году деда Николеньки назначили земским комиссаром в Меловатке, что находилась в нескольких верстах от Острогожска. Должность земского комиссара считалась почетной и прибыльной. В распоряжении Станкевича находились значительные средства и большие права. По сути, он представлял в одном лице три должности — судьи, казначея и полицейского. Однако основными обязанностями чиновника такого ранга были сбор податей и распоряжение землей.
Конечно, на такой должности разбогатеть и обзавестись землей не представляло большого труда. Но, как пишет в своих «Воспоминаниях» его внучка Александра, меловатский комиссар не воспользовался такой возможностью. «По службе, — пишет она, — деду нашему поручалось наделять новых поселенцев Острогожского уезда казенными землями в степях; ему поручалось также и продавать эти земли; причем он отличался честностью убеждений и не старался приобрести для себя ни одной десятины казенных земель. Помню, что, рассказывая о деде, отец наш вспоминал об этом и к памяти его относился с большим уважением».
Поступали в Меловатку и не совсем обычные распоряжения. О выполнении одного из таких указаний написали известные белгородские краеведы В. Ф. Бахмут и А. Н. Кряженков в книге «Философ с душою поэта», изданной в 2003 году в Воронеже.
Прочитаем их рассказ: «В 1773 году комиссару вменялось в обязанность повсеместно распространить «земляное яблоко», то есть картофель. Иван Семенович повелел раздать клубни местным жителям для возделывания новой культуры на своих участках. Понятно, что отношение «казенных войсковых обывателей» к заграничной гостье было более чем прохладное и первое время ничего толкового из этой затеи не получилось. Тогда-то и сочинили в канцелярии комиссарства любопытный документ. Под диктовку И. С. Станкевича писарь вывел: «земляные яблоки» по посажении на полях и в огородах либо от бывшей весной стужи или по нынешнему сухменному лету от великих жаров без остатку семенами пропали». А затем добавил: «Не поведено ли будет их (посадки картофеля. —
Н. К.) отменить?» На это Острогожск прислал вновь клубни и строго предписал за посадками прилежное иметь смотрение. Не думал тогда Иван Семенович, что «земляное яблоко» станет ценнейшей продовольственной культурой…»
Находясь на гражданском поприще, дед Станкевича немало сделал для Острогожского края. Особо он был отмечен «за пресечение морового поветрия смертоносной язвы». В рапорте провинциальной канцелярии подчеркивалось его «особое усердие, радение и попечение, яко прямого сына Отечества». В 1786 году указом Воронежского наместнического правления «за беспорочную службу» Станкевич получил гражданский чин коллежского асессора. А спустя два года, в 1789 году, он единогласно был избран острогожскими дворянами своим предводителем.
Должность предводителя дворянства считалась почетной и уважаемой. Однако никакого жалованья предводитель не получал, хотя обязанностей у него хватало с избытком: сбор и распределение земских повинностей и снабжение населения продовольствием; организация депутатского собрания и рекрутских наборов; развитие медицинского обеспечения и народного образования… Но с этими и другими обязанностями Станкевич успешно справлялся.
В воронежском привольном краю Иван Семенович Станкевич обрел свое семейное счастье. Он взял себе в жены дочь сотника Острогожского казачьего полка Дмитрия Синельникова — Марию. Супружество оказалось удачным. Мария Дмитриевна подарила своему мужу шесть сыновей и дочь. Самым младшим среди них был Владимир — будущий отец Николеньки.
Дед также стоял у истоков создания герба семьи Станкевичей. Герб представлял собой щит. На нем, разделенном на три части, вверху были изображены полумесяц и бычья голова, внизу — идущий лев. Щит был также увенчан рыцарским шлемом, короною с пышными страусиными перьями и декоративными листьями. Вся эта геральдическая символика свидетельствовала о следующем: лев — о храбрости и благородстве носителей герба, бычья голова — об источнике богатства степного края, а нарождающийся месяц — о молодости дворянского рода.
Многие рассказы отца о деде крепко запали в сердце любознательного и пытливого мальчика. Впоследствии внук не раз об этом вспоминал и всегда очень гордился своим сербско-русским происхождением.
Между тем пора вольного и безмятежного детства Николеньки подходила к концу. Не к окончательному, конечно. Но уже наступал тот период, когда серьезно надо было заниматься учебой. Владимир Иванович, став к тому времени одним из самых богатых помещиков губернии, мог, безусловно, пригласить для обучения сына учителей на дом. Однако этого не сделал, поскольку хотел, чтобы Николенька с младых лет привыкал к самостоятельности. Чрезмерная родительская опека, окружение учителей и гувернанток, по его разумению, могли только избаловать сына.
Да к тому же старший Станкевич не слишком доверял домашним учителям, особенно из числа иностранцев. Хотя на последних в России тогда была мода. Но здесь, вдали от столиц, среди иностранцев трудно было найти грамотного наставника. Француз-гувернер и француз-учитель редко серьезно относились к своим педагогическим обязанностям. В глубинке домашними учителями являлись главным образом мелкие жулики и авантюристы, актеры, парикмахеры, беглые солдаты и просто люди непонятных занятий. Поэтому, когда Николеньке исполнилось девять лет, отец определил его в Острогожское уездное училище, находившееся в двух десятках верст от Удеревки. Свои учителя были как-то роднее и ближе, больше было к ним и доверия.
Начиналась новая страница в жизни юного Станкевича. Как пишет Анненков, он «без всякого изумления очутился между детьми всех сословий, начиная с бедного чиновничьего до мещанского и цехового: он и прежде в деревне, по системе, заведенной в доме, был только сверстником всех других мальчиков и весьма часто их товарищем. Пребывание в уездном училище не осталось без последствий: там привык он к общительности, отличавшей его позднее, и к понятию о достоинстве и самостоятельности каждого человека».
Глава вторая
«ВОРОНЕЖСКИЕ АФИНЫ»
Казачий город Острогожск, куда Николеньку отправили учиться, являлся уездным центром Воронежской губернии. За счет пригородных слобод Лужковки и Песок город был растянут на несколько километров. Его прорезывали прямые улицы с деревянными и каменными домами. Проживало в нем около десяти тысяч человек. В основном это были малороссы, переселенные сюда из Украины еще в царствование Алексея Михайловича для защиты южных окраин Руси от вторжения ногайцев и крымцев.
При Алексее Михайловиче Острогожск был вольным городом. Казаки, не жалея живота своего, отражали набеги ворогов. За верность и преданность престолу служивые люди получили грамоты и всевозможные права от Петра Великого, Екатерины II, Павла I и Александра I.
Город был красив своими бесчисленными яблоневыми и грушевыми садами, высокими колокольнями церквей с блиставшими на солнце золотыми куполами и крестами. За городом зеленели луга, а по ним петляла неспешная река Тихая Сосна, что протекала через Удеревку и впадала в широкий и неторопливый Дон.
Будущий декабрист и замечательный поэт Кондратий Рылеев, в ту пору служивший в здешних местах, так написал о городе в своей поэме «Петр Великий в Острогожске»:
Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились,
Где дубров тенистых рощи
Над потоком разрослись…
Где в лугах необозримых
При журчании волны
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны;
Где в стране благословенной
Потонул в глуши садов
Городок уединенный
Острогожских казаков.
Сохранились также его прозаические записки об Острогожске. «Не излишне считаю сказать, — писал Рылеев, — что на землях острогожских не видали крепостных крестьян до конца прошедшего столетия. Полковые земли, доставшиеся впоследствии разным чиновникам Острогожского полка, были обрабатываемы вольными людьми или казаками. Некоторые частные беспорядки от свободного перехода сих людей, побеги на Дон и некоторые другие причины были поводом к разным прошениям Екатерине Великой и императору Павлу, вследствие которых и состоялся указ 12 декабря 1796 года. Но прикрепленные к земле малороссияне по сие время называют себя только подданными, как бы в отличие от крепостных, коих они зовут и дразнят
крепаками».
Этот некогда пограничный город, несмотря на незначительную отдаленность от губернского Воронежа, заштатным не считался. А глухоманью его тем более нельзя было назвать. В нем, к слову сказать, после взятия в 1696 году Азова побывал царь Петр Первый. Тогда же туда приезжал гетман Малороссии, как в ту пору называлась Украина, Иван Мазепа, изменивший потом России, и чье имя станет у украинского народа олицетворением предательства. В Острогожске будущий иуда поднес царю турецкую саблю, оправленную золотом и осыпанную драгоценными камнями, и на золотой цепи щит с такими же украшениями.
В сравнении со многими уездными городами, Острогожск жил полнокровной духовной и общественной жизнью. Недаром в губернии его возвышенно величали «Воронежскими Афинами». В этом городе находился и дом Станкевичей, построенный еще дедом Николеньки и в который семья обычно перебиралась на всю зиму.
Тогдашний житель Острогожска, а впоследствии главный российский цензор, академик словесности и автор знаменитого «Дневника» Александр Васильевич Никитенко вспоминал: «Замечательный город был в то время Острогожск. На расстоянии многих верст от столицы, в степной глуши, он проявлял жизненную деятельность, какой тщетно было бы тогда искать в гораздо более обширных и лучше расположенных центрах Российской империи».
Примечательно, что и материальный, и умственный уровень Острогожска находился значительно выше не только большинства уездных, но и многих губернских городов. В нем процветала заводская промышленность. Он торговал овцами, мясом, салом… Местное купечество ворочало большими капиталами. Большинство зажиточных помещиков этого уезда проводили часть года в городе, где имели дома. Они, как и всё острогожское дворянство, были одушевлены особым корпоративным духом. Как свидетельствовал современник, оттого образ действий их отличался достоинством, малоизвестным в те времена развращающегося крепостничества. О взяточничестве между ними и помину не было. Служившие по выборам были истинными и нелицеприятными слугами общества.
Городничим Острогожска в то время являлся Григорий Николаевич Глинка — брат героя битвы при Аустерлице, Бородинского сражения и замечательного русского поэта Федора Глинки. Это был просвещенный человек, к тому же неплохой администратор. Жена его, как писал современник, тоже «весьма любила литературу». Среди острогожских жителей, известных «не одною родовитостью, но и полезной деятельностью», выделялись фамилии дворян Томилиных, Веневитиновых, Тевяшовых, Сафоновых, Станкевичей, Астафьевых, купцов Должикова и Панова… Они не только радели о пользе своего сословия, но отличались благородной общественной деятельностью, просвещенными и гуманными идеями. Их волновали литературные, политические и общественные вопросы.
В библиотеках местных дворян и купцов в массивных «шкапах» хранились сочинения Вольтера, Дидро, «Персидские письма» и «Дух законов» Монтескье, «О преступлениях и наказаниях Беккариа». В «шкапах» этих были и комплекты «Московских ведомостей», единственной газеты, доходившей в ту пору до провинции. В местных гостиных предпочтение отдавали не свежим сплетням, а последним политическим и литературным новостям. Кроме того, в «Воронежских Афинах» в небольших типографиях печатались поэтические сборники, книги, брошюры.
Такая атмосфера в городе была связана еще и с тем, что в Острогожске и его окрестностях — Бирюче, Коротояке, Ва-луйках квартировала 1-я драгунская дивизия, состоявшая из четырех полков: Московского, Рижского, Новороссийского и Кинбургского. Эта дивизия прославилась в Отечественной войне 1812 года. Беспощадно громя французов, она победным маршем дошла до Парижа. Дивизионная квартира (по сегодняшним понятиям — штаб дивизии) размещалась в Острогожске. А командовал дивизией Дмитрий
Юзефович, высокообразованный смелый генерал. В свободные от службы часы, по вечерам, он любил читать вслух в кругу друзей и знакомых произведения современных поэтов: Державина, Мерзлякова, Батюшкова, Жуковского. Его интересовала всякая новая мысль, радовал и всякий счастливый стих, удачное выражение, оборот.
Под стать своему командиру были и большинство офицеров. Именно они во многом способствовали тому, чтобы общественная и духовная жизнь здесь била ключом.
Никитенко вспоминал: «Офицеры этих полков, особенно Московского, где в штабе был сосредоточен цвет полкового общества, представляли из себя группу людей, в своем роде замечательных. Участники в мировых событиях, деятели не в сфере бесплодных умствований, а в пределах строгого, реального долга, они приобрели особенную стойкость характера и определенность во взглядах и стремлениях, чем составляли резкий контраст с передовыми людьми нашего захолустья, которые за недостатком живого, отрезвляющего дела витали в мире мечтаний и тратили силы в мелочном, бесплодном протесте. С другой стороны, сближение с западноевропейской цивилизацией, личное знакомство с более счастливым общественным строем, выработанным мыслителями конца прошлого века, наконец, борьба за великие принципы свободы и отечества — все это наложило на них печать глубокой гуманности — и в этом они уже вполне сходились с представителями нашей местной интеллигенции. Немудрено, если между ними и ею завязалось непрерывное общение».
Служивший в слободе Белогорье в конно-артиллерийской батарее уже упоминавшийся прапорщик Рылеев рассказывал в письме матери: «Время проводим весьма приятно: в будни свободные часы посвящаем или чтению, или приятельским беседам, или прогулке — ездим по горам и любуемся восхитительными местоположениями, которыми богата сия страна; под вечер бродим по берегу Дона и при тихом шуме воды и приятном шелесте лесочка, на противоположном береге растущего, погружаемся мы в мечтания, строим планы для будущей жизни и чрез минуту уничтожаем оные».
С большой долей вероятности можно утверждать, что маленький Станкевич вполне мог видеть этого подтянутого офицера с темными глазами и задумчивым выражением лица. Рылеев часто бывал в Острогожске, не пропускал ярмарок, на которых всегда приобретал книги. Они могли встречаться как на ярмарке, так и просто на улицах этого небольшого городка.
Огромную роль в жизни города играло духовенство. По словам одного из современников, оно поистине стояло на высоте своего призвания. В Острогожске насчитывалось восемь каменных церквей. Например, Соборная церковь была красивой архитектуры и славилась хорошими образами работы известных художников. Из священников особенно почитались отцы Симеон Сцепинский, Михаил Подзорский, Петр Лебединский… Все они обладали редким даром слова, были умны, всесторонне образованны и начитанны. Проповеди их, особенно Подзорского, привлекали массу прихожан. Имя этого священника уже было упомянуто в самом начале нашего рассказа. Именно он крестил юного Станкевича.
В этом, по словам Рылеева, «замечательном городе», там, где «волны Острогощи в Сосну Тихую влились», начались ученические годы Николеньки Станкевича. Впоследствии он тоже не раз добрым словом вспоминал Острогожск. «Не имейте дурного понятия об Острогожске, — сообщал Станкевич в письме своему другу Михаилу Бакунину, — здесь чувства, и дела, и мнения совсем не те, что в Миргороде. Правда, у нас есть Иваны Ивановичи и Иваны Никифоровичи, зато они засмеют в глаза всякого, кто скажет им, что турецкий султан заставляет нас принять свою веру, что доказывает их сведения в современной политике и здравый ум. Они ссорятся, но не тягаются — что доказывает их доброе сердце. Они не лежат под навесом, а пускаются в коммерческие обороты, курят вино и ставят свиней на барду, что доказывает их способность к практической деятельности…»
Уездное училище, куда определили мальчика, было открыто в 1778 году. Сначала оно называлось малым народным училищем, а с 1808 года получило более высокий ранг — уездное училище. Размещалось оно в каменном двухэтажном доме на углу улиц Воронежской и Большой Площадной, напротив домов купца Ростовцова и мещанина Тищенкова. Учебное заведение имело нижнее (подготовительное) отделение, первый и второй классы. По количеству учеников оно среди других уездных училищ губерний было средним: в нем обучалось тогда 58–85 человек. Училище располагало собственной библиотекой, в которой в 1823 году насчитывалось 396 книг, строго учтенных и записанных в «особую шнурозапечатанную книгу». Имелась в училище и книжная лавка, где можно было купить книги, учебники.
Курс наук насчитывал чуть больше десяти дисциплин и основывался в первую очередь на чтении Священного Писания и на различных правилах — слога, чистописания, правописания. Кроме того, в училище преподавались география, краткая всеобщая история, грамматика, арифметика, латинский и немецкий языки, рисовальное искусство.
Учеба Николеньке давалась легко. Математику, грамматику, Закон Божий, иностранные языки, другие предметы он осваивал быстрее и лучше своих сверстников.
В архиве сохранилась ведомость об учениках первого и второго классов Острогожского уездного училища, составленная штатным смотрителем Федором Ферронским. В ней записано, что Николай Станкевич поступил в училище 2 августа 1822 года. Там же есть графа: способности учеников. Против фамилии Станкевича стоит оценка «остр». Это самая высокая из оценок. Она означала, что ученик очень способен, легко и быстро усваивает материал. Из двадцати мальчиков первого класса, вместе с которыми учился Николай, только два имели высшую оценку «остр», один — «очень понятен», пять — «понятен», шесть — «способен», один — «средствен», два — «слаб» и три — «туп».
Мальчик был очень трудолюбив, о чем свидетельствует выставленная ему высшая оценка — «рачителен». В то же время прилежание других учеников учитель оценил как «старателен», «средствен», «неприлежен», «нерадив» и «ленив».
Поведение Станкевича также отмечено высшей оценкой «благонравен», которая, надо заметить, не имела тогда никакого политического оттенка. Необычные оценки по поведению были выставлены другим ученикам: «похвальнаго», «хорош», «честнаго», «тих», «изряднаго», «средствен», «нехудого», «недурного», — ими учитель хотел показать различие в поведении своих подопечных.
Кроме того, из архивных документов можно узнать, чему, скажем, учился наш герой в первом классе. Из учебных дисциплин в первом полугодии им было пройдено: «Из арифметики — до умножения именованных чисел. Из чистописания — упражнялись в письме с прописей. Из немецкого языка — упражнялись в чтении и письме с прописей. Из рисовального искусства — занимались изображением различных частей человеческого тела».
Во вторую половину учебного года Станкевичем было изучено: «Из росс[ийской] грам[матики] — до словосочетания. Закон Божий и правописание — окончены. Арифметика — первая часть окончена и повторена. Из чистописания — упражнялись в письме с прописей. Из латинского и немецкого языка — упражнялись в чтении и письме с прописей. Чтение из евангелистов — прочитано. Из рисовального искусства — упражнялись в [изображении] различных частей человеческого тела».
В архиве нашлась и «Ведомость о состоянии Острогожского уездного училища за вторую половину учебного течения 1823 года». Из нее следует, что за полугодие ученик первого класса Николай Станкевич не был в классе 18 раз, в церкви — 5 раз. Его одноклассники также имели пропуски и занятий, и церкви, одни — больше, другие — меньше.
Надо сказать, что училищное окружение Станкевича было достаточно пестрым. В классе учились дети дворян, священников, офицеров, купцов. Вот лишь некоторые имена — Христофор Подольский, Яков Щедрин, Александр Платонович, Иван Астафьев, Николай Чеботаревский, Андрей Мерчинский, Александр Симонов, Александр Ростовцев… С ними и другими однокашниками Станкевич сошелся с первых дней учебы. Они вместе играли, обменивались ножичками, старыми монетами. А их отцы, как и родитель Станкевича, в тот период были известны не только в Острогожске, но и во всей Воронежской губернии.
И вот наступила долгожданная дата, 28 июня 1824 года. В этот день одиннадцатилетний Николай Станкевич вместе с другими учениками второго класса Острогожского уездного училища держал открытые испытания.
Как свидетельствуют документы, они состоялись «в присутствии г. городничего, дворянскаго предводителя, градского головы и многих других как из дворян, так купечества и мещанства». Естественно, присутствовали здесь и родители учеников.
Штатный смотритель и педагоги поручили юному Станкевичу, как лучшему из лучших, сказать приветственную речь. В пункте первом заранее составленного штатным смотрителем «Порядка испытаний» говорилось: «Ученик второго класса уездного училища Николай Станкевич откроет испытания приветственной речью». Так оно и было. Затем начались экзамены.
Испытывали учеников два учителя: X. Бутков в «науках исторических» и И. Сорокин в «науках математических». Первый экзаменовал по российской географии, всеобщей географии, российской истории, всеобщей истории, грамматике и Закону Божьему. По каждому из этих предметов было установлено наивысшее количество шаров (баллов), сумма которых равнялась 40. Станкевич набрал 38 шаров, недобрав по одному шару по всеобщей истории и по российской истории. 23 из 24 шаров он получил у своего любимого учителя Сорокина, который спрашивал по арифметике, географии, физике, латинскому языку, немецкому языку и рисовальному искусству.
По итогам открытых испытаний Станкевич оказался самым лучшим и прилежным учеником выпускного класса. Из 64 возможных шаров на испытаниях он получил 61 и занял первое место по успеваемости среди выпускников. По сложившейся в училище традиции состоялось награждение лучших учеников. Станкевичу была вручена высшая ученическая награда — похвальный лист.
Грустно было прощаться с друзьями, преподавателями. Многие из них, как штатный смотритель Федор Федорович Ферронский, учитель Илья Ефимович Сорокин, заронили в сердце мальчика любовь к литературе, истории… Ферронский излучал вокруг себя столько тепла и доброты, что их хватало не только на его собственную многодетную семью — жену и пятерых детей, но и на множество учеников. По словам современника, Ферронский был человек с трезвым, просвещенным умом, с таким благородством сердца, что можно бы пожелать побольше таких не только штатных смотрителей, но и директоров высших учебных заведений.
Летние и осенние месяцы Николенька проводит в родной Удеревке, много и усиленно читая. Круг его интересов значительно расширился. Он запоем читает Виланда, Гофмана, Гёте, Жуковского, Державина…
Увлечение книгами нередко вызывало у мальчика самые неожиданные представления. После прочтения одной «ученой» книги некого Штиллинга он узнал, что в 1836 году должно произойти светопреставление. Открытие это произвело удручающее впечатление на мальчика и надолго врезалось в память, вплоть до назначенного срока. Его успокоило поначалу лишь то, что конец света наступит не скоро и он еще долго поживет в этом мире. «Я рассчитывал, что мне тогда будет 22 года, и утешал себя мыслью, что до этого далеко, — вспоминал Станкевич. — Ведь в самом деле! Расстояние в 12 лет казалось мне вечностью — и вот наступил 36 год, свет не преставился, но в нем многое переставил ось с тех пор, как был учеником уездного училища, до той поры, когда велением судьбы сделался его почетным смотрителем».
Еще одной страстью, помимо литературы, у мальчика было увлечение родной природой. Долгими часами Станкевич бродил с ружьем и собакой Дианой по зеленеющим разливам лугов, густым дубравам. Живностью тогда кишели здешние места. Перепела в густых овсах, бекасы и утки в небольших озерцах, зайцы в ярах…
Охота, как писал Анненков, была продолжением его прогулок и той родственной связи с природой, которая началась с младенчества: охота только дала им более определенную цель.
С детства и до конца жизни Станкевич оставался заядлым охотником, неутомимым и упорным. Дни, недели проводил он на охоте и возвращался домой усталый, с обветренным лицом, пропитанный запахом полей, костров и
с запасом анекдотов, рассказов, баек о встречах с разными людьми. Естественно, в охотничьей сумке всегда находились добытые им трофеи — зайцы, дичь… Легавые собаки не отходили от него в деревне. С одной из них — Дианой он жил душа в душу. Диана спала на его постели и часто, свободно раскинувшись, сталкивала с нее хозяина.
По природной веселости и врожденному юмору, сбереженным им тоже до конца жизни, Станкевич иногда вдруг отрывался от занятий и один с глазу на глаз начинал беседу с любимой собакой.
— Что вы задумались, Диана? Что за меланхолия такая? Не хотите ли кушать? Чего хотите? Щец, кашки, хлебца или, может, сладеньких косточек? Да отвечайте же!
Верхом на лошади Станкевич также ездил много и хорошо. Детские годы его были бодрыми, свежими, здоровыми — естественное следствие благоразумной свободы, предоставленной ему.
Но вскоре пришла пора расставания с родными пенатами. Родители решили направить его для дальнейшего продолжения учебы в пансион. Сам Владимир Иванович в отрочестве постигал науки и преуспел в них в Харьковском благородном пансионе. Однако дорога до Харькова была не ближняя — без малого верст под триста, а до Воронежа, где тоже находилось подобное учебное заведение, вполовину короче. Поэтому, после недолгих раздумий, родители выбрали местом учебы сына Воронежский благородный пансион.
Глава третья
В БЛАГОРОДНОМ ПАНСИОНЕ
В Воронеж Николай приехал вместе с отцом. Город еще не очень древний, но помнящий набеги кочевников, жить начинавший, как и все порубежные русские города, — трудно, до-зорно, застроенный слободами Казацкая, Пушкарная, Стрелецкая, Ямская, поразил юного Станкевича своей красотой. Позолота куполов множества церквей, соборов, величественное здание русского адмиралтейства, строгие корпуса гимназии и рядом находящего с ней на Большой Девиченской улице пансиона — все это производит на него сильное впечатление.
Правда и то, что прежде Воронеж не отличался хорошим благоустройством. В слякотные осенние и весенние дни даже главные его улицы напоминали непроходимые топи. От сильных дождей тучный воронежский чернозем превращался в тесто и буквально засасывал брички, кареты, телеги… Станкевич-старший с юмором рассказывал сыну, как прежде здешняя публика разъезжала по Большой Дворянской улице на лодках, запряженных волами. Лишь к середине двадцатых годов брусчаткой вымостили центральные улицы, проложили тротуары и установили фонари.
Ко времени поступления Станкевича в благородный пансион Воронеж действительно стал красивым. «Вид города из-за реки Воронеж, — свидетельствовал современник, — и представляет горы, украшенные вышиною церквей и колоколен, а скаты и долины усыпаны пестротою разных зданий».
Разнородные и смешанные чувства бродят в душе Николая, когда он ходит по улицам, знавшим Петра Великого, Александра Меншикова, поэта Кондратия Рылеева, автора бессмертной комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова. «Я жил здесь прежде пять лет, каждый уголок мне знаком», — сообщал он позже в письме своей невесте Любови Бакуниной.
Воронеж являлся типичным губернским городом, в нем жило немало высокообразованных людей. Тут и родовитый дворянин Веневитинов, в семье которого родился известный поэт Дмитрий Веневитинов, и ученый Г. Успенский — автор популярного «Опыта повествования о древностях русских». Во многих дворянских и купеческих домах читали «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» Дениса Фонвизина, сборники с переписанными стихотворениями Михайлы Ломоносова, Гаврилы Державина, а также запрещенную трагедию Княжнина «Вадим Новгородский». В рукописях ходили по рукам комедия Фонвизина «Недоросль», отдельные главы из сочинения Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»…
Время, когда Станкевич уже учился в Воронеже, было тяжелым для России. Власть достаточно жестоко наказала тех, кто вышел 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь Санкт-Петербурга и сомкнул свои ряды в мятежном каре. Под пушечной картечью погибли сотни офицеров и солдат, окрасив своей кровью стены домов и лед на Неве; свыше пятисот бунтовщиков были заточены в казематы Петропавловской крепости.
По образному выражению Герцена, в тот роковой день дворяне-декабристы разорвали на Сенатской площади свои дворянские грамоты. Среди активных участников декабрьского выступления были и люди, еще недавно жившие или служившие в здешних краях, — Кондратий Рылеев, Владимир Раевский, Федор Вадковский, Петр Муханов… Им, доблестным и блестящим офицерам русской армии, что выстояла против Наполеона и прошагала затем победным маршем до самого Парижа, выпало видеть не только, как тягостно живет Россия, но и как могла бы жить. Так, как Европа. Не вышло. Сменить режим оказалось труднее, чем сменить золотые эполеты на пеньковые петли виселиц и чугунные кандалы. В стихотворении «14-е декабря 1825» Федор Тютчев написал:
О, жертвы мысли безрассудной!
Вы уповали, может быть,
Что хватит вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить.
С другой стороны, самодержавная, то есть законная власть вполне адекватно отреагировала на мятеж, причем не выходя из «цивилизованных» рамок того периода. Надо заметить, в Европе аналогично поступали со смутьянами. «Революция была на пороге России, — написал прямой и деятельный Николай I. — Но она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я буду императором».
Однако Воронеж не выглядел присмиревшим и тихим. Жизнь в городе текла по своему привычному руслу: работали губернские учреждения, на базарах бойко шла торговля, в храмах и церквях проходили службы, в театре играли новые пьесы, а в Дворянском собрании устраивали концерты и балы…
Пансион для благородных детей мужского пола П. К. Федорова размещался, как уже было сказано, на Большой Девиченской улице, в живописном месте — на высокой горе над рекой Воронеж в доме княгини Касаткиной. Оттуда просматривались старые корабельные верфи, построенные еще при Петре Первом, а также цейхгауз и развалины царского домика.
В этом здании Станкевич учился до начала зимы 1828 года. А потом воспитанников пансиона перевели в новый дом, недалеко от гимназии. Прежнее здание княгиня Касаткина передала в дар школе кантонистов — солдатских сыновей, которые с рождения числились за военным ведомством и обязаны были отбывать долгую армейскую службу.
К сожалению, из окон нового помещения уже не открывались красивые городские виды. Зато при доме находился огромный тенистый сад с длинными аллеями из лип и лещины, с плодовыми деревьями и заброшенной беседкой, представлявшей собой четыре комнаты и круглую залу. Юный Станкевич и его друзья-пансионеры не сомневались в том, что эта беседка, бывшая ранее барским павильоном, — свидетель эротических и других сцен. Дети верили, что беседку теперь населяют привидения, а по ночам в ней бродят мертвецы. Начитавшись тайком от учителей романов Редклиффа и Вальтера Скотта, ученики пансиона шепотом передавали друг другу, что в беседке слышали странный стук, из нее доносились вздохи и стоны.
Благородный пансион имел репутацию неплохого учебного заведения, в котором воспитанники получали среднее образование. Подобные пансионы тогда существовали во многих крупных городах и пользовались почти равными с университетами привилегиями.
По окончании учебы его выпускники получали две возможности: либо идти в чиновники, заняв должностное место согласно учебным заслугам и петровской Табели о рангах, либо продолжить учебу дальше, то есть в университетах или военных училищах. Однако часть детей, обучавшихся в пансионах, считала, что русскому дворянину унизительно заниматься науками. Их идеалом была военная служба, которую можно проходить в короткий срок, лишь бы дослужиться до какого-нибудь чина. Потом, получив чин, скажем, корнета или прапорщика, они возвращались в свои имения к холопам и охотничьим собакам. Женились, заводили детей, занимались хозяйством и жили в свое удовольствие. Станкевич, наоборот, мечтал о другой жизни, грезил планами на будущее. На первом месте, безусловно, была учеба. Сначала в пансионе, потом — в университете.
Основу обучения в пансионе составляла общеобразовательная программа, но большое внимание уделялось изучению российской словесности, истории, языков… Расписание занятий и распорядок дня были достаточно насыщенными. Пансионеров поднимали в шесть часов утра. От семи до восьми они шли в классы и садились за утреннюю репетицию — готовить уроки. В восемь пили чай и вновь отправлялись в классы. В час обедали, а с двух до четырех опять шли на занятия. В семь пили чай, а с восьми до девяти, как и утром, снова репетиция уроков. В десять — ужин и отход ко сну. Иными словами, при таком режиме много не нагуляешься.
Однако, по свидетельству современников, наставники Воронежского благородного пансиона больше заботились о придании светского лоска своим воспитанникам, нежели о их знаниях. В почете были начетничество и зубрежка. Бессмысленное заучивание текстов наизусть, слово в слово по книге, служило зачастую основой учения воронежских пансионеров.
Впоследствии известный российский историк Н. И. Костомаров, учившийся в том же пансионе, писал в «Автобиографии»: «В числе моих соучеников был Станкевич, оставивший по себе самую добрую память во всех, знавших его, и в особенности в кругу своих товарищей, на которых он оказывал громадное влияние своей симпатичной и честной личностью и недюжинным умом. Наши отцы были очень дружны между собой…»
Далее Костомаров рассказывает, что содержатель пансиона, учитель математики Федоров, «обыкновенно дремал, лежа в классе, а если ученики шумели, то ругался и дрался». Мало чем отличались от «начальства» и другие преподаватели: один был известен тем, что усердно рекомендовал от укусов собак «Отче наш», другой славился безудержным хвастовством, третий отличался беззастенчивым взяточничеством.
Безусловно, нельзя отрицать: среди наставников благородного пансиона встречались неучи, люди пустые и грубые. Станкевич и его однокашники спустя годы будут рассказывать и про околесицу, которую несли преподаватели, и про зуботычины, щедро ими раздаваемые, и про их неуместные выходки и всякие причуды.
К примеру, преподавал в пансионе француз Журден. Он был из числа «выморозков» — так тогда называли оставшихся в России после Отечественной войны 1812 года солдат разгромленной наполеоновской армии. Бывший капитан Журден почему-то на дух не переносил немцев и очень любил вспоминать свою военную службу, былые бои и походы. Рассказывая однажды в классе о битве при Йене, в которой сам участвовал, француз до того увлекся и предался воспоминаниям, что снял штаны и стал показывать ученикам шрам от ранения. Пансионеры едва не лопнули от смеха.
Кажется, нет оснований не верить Костомарову. И тем не менее следует с известной долей осторожности отнестись к подобного рода сведениям. Дело в том, что сам Костомаров как раз не блистал ни знаниями, ни поведением, из-за чего доставлял немало хлопот учителям.
Вот как он сам описывает в «Автобиографии» свою учебу: «Верхом воспитания и образования считалось лепетать по-французски и танцевать. В последнем искусстве я был признан чистым идиотом: кроме моей физической неповоротливости и недостатка грации в движениях, я не мог удержать в памяти ни одной фигуры контр-данса, постоянно сбивался сам, сбивал других и приводил в смех и товарищей, и содержателей пансиона, которые никак не могли понять, как это я могу вмещать в память множество географических и исторических имен и не в состоянии заучить такой обыкновенной вещи, как фигуры контр-данса».
А другой эпизод из той же «Автобиографии» как нельзя лучше характеризует его поведение. «Однажды гувернер, — рассказывает Костомаров, в рисовальном классе, заслышав шум в том месте, гдс я был, вообразил, что непременно шалю я, а никто другой, так как я был из самых задорных, не разобрав, в чем дело, подскочил сзади и рванул меня за ухо до крови. Ничего не ожидая, я вспылил, пустил в лицо гувернеру толстейшую грамматику Ломонда и подшиб ему глаз. За это решено было меня высечь, но часть учителей, и в том числе содержатель пансиона Федоров, восстали против этой меры; меня заперли в карцер, а гувернера удалили».
Примечательно, пансион Костомаров так и не окончил. Его выгнали «за знакомство с винным погребом», куда он с 32 товарищами тайком проникал по ночам за вином и ягодными водицами. Его высекли, посадили на тележку и отправили домой к матери.
Поэтому можно сделать однозначный вывод о том, что оценки Костомарова не лишены субъективизма. И трудно все-таки поверить, что «тупицы, придурки, рекомендовавшие от укусов собак «Отче наш», воспитали целую плеяду замечательных людей! В том числе историка Костомарова, чьи книги об истории Отечества массовыми тиражами издаются, читаются и по сей день. А его имя включено в реестр великих сынов Украины. Опять же выучили и вывели в люди поэта, просветителя и философа Станкевича, без упоминания имени которого не обходятся ныне учебники литературы XIX века, а тем более современные словари, пособия, монографии по философии.
В пансионе было немало учителей, которые щедро передавали свои знания воспитанникам, прививали любовь к естественным наукам, литературе, философии. Тот же Павел Кондратьевич Федоров, как свидетельствуют документы, считался хорошим педагогом. Выпускник физико-математического факультета Харьковского университета, он многое сделал для организации учебного процесса и обучения своих воспитанников. Во времена учебы Станкевича в пансионе Федоров получил благодарность попечителя Московского учебного округа как учитель гимназии и «совершенную признательность за отлично-хороший порядок в содержимом им мужском пансионе». Было это в феврале 1828 года. В том же году наставник Станкевича был откомандирован в Санкт-Петербург в батальон военных кантонистов «для узнания способа взаимного обучения по методе Ланкастера». Изучив эти передовые способы, он проводил их демонстрацию для студентов и преподавателей Харьковского университета.
В год окончания Станкевичем пансиона Федоров по рекомендации «визитера» — проверяющего из Московского университета профессора Давыдова был награжден бриллиантовым перстнем, что являлось признанием его заслуг на ниве образования.
Уместно привести и слова Анненкова: «Директор обладал искусством управлять детьми без насильственных средств, облегчающих управление в ущерб характеру и нравственности как подчиненных, так и начальников. Всего более поражала воспитанников его стойкость и сильно развитой point d’honneur, не допускавший придирок и легкомысленных замечаний, откуда бы они ни выходили. Затем, обращение его с детьми имело в себе что-то торжественное и эффектное, действовавшее благотворно на молодые умы. Он казался глубоко огорченным, расстроенным и даже больным, когда приходилось разбирать школьнические проделки и изрекать осуждение; он умел также затрагивать самолюбие мальчиков, стыдить их без уничижения, употребляя иронию, к которой дети, может быть, еще чувствительнее, чем взрослые. Все это произвело сильное впечатление на Станкевича, который у директора своего учился даже и математике порядочно».
А вот еще одно свидетельство о Федорове, оно принадлежит сестре Станкевича — Александре: «Федоров был хороший, серьезный человек, отец мой и брат Николай Влад, всегда говорили о нем с большим уважением».
С большим интересом и желанием входит Станкевич в новую для себя жизнь. Наступает пора раздумий, исканий. По словам Анненкова, в то время юноша прочел всех классиков и проявил «признаки неутомимой жажды к поэзии, обнаружившейся страстью к стихотворчеству».
О его огромном стремлении к поэзии свидетельствует в «Воспоминаниях» и сестра Александра: «В Воронежском пансионе писал он свои юношеские стихотворения». Сам же Станкевич позже рассказывал: «В 17 лет я еще бродил в неопределенности; если думал о жизни и о своем назначении, то еще больше думал о своих стихах».
Неслучайно поэтическая муза часто посещает Станкевича. Он действительно ощутил в душе своей неодолимую тягу к стихотворному слову. Эта тяга постоянно его томила, словно взывала: писать, писать… Стихи, выходившие из-под пера Станкевича, наполнены романтизмом, мыслями об Отечестве, переживаниями о первой любви. Для многих поэтических строк юного Станкевича характерны лиризм, красота найденных образов. Вот строки из стихотворения «Луна»:
Как бы стыдливая краса
Сребристым облаком прикрыта,
Луна взошла на небеса:
Земля сиянием облита.
И дочь счастливая небес,
На светло-яхонтовом лоне,
В огнисто-золотой короне
Течет, златит и дол и лес,
Блестящей свитой окруженна.
В пансионе поощрялись сочинительство и переводы. Под патронажем Федорова здесь регулярно собирались «любители российской словесности», одним из которых был наш герой. Свои стихотворения он читает однокашникам в минуты отдыха. Они первые и самые искренние судьи его поэтических опытов. А на одном из литературных вечеров, где пятнадцатилетний поэт прочитал несколько своих новых стихотворений, содержатель пансиона не удержался от восторженных эпитетов:
— Славные стихи! У вас, юноша, талант!.. Да, да! Продолжайте писать, продолжайте…
В ряде стихов Станкевича воронежского цикла звучат искренние мотивы любви к Отечеству. Молодой поэт воспевает подвиг русского народа. Особенно ярко это проявляется в глубоко патриотичном стихотворении «Надпись к памятнику Пожарского и Минина»:
Сыны Отечества, кем хищный враг попран,
Вы русский трон спасли, — вам славы достоянье!
Вам лучший памятник — признательность граждан,
Вам монумент — Руси святой существованье!
В стихотворении «Избранный» Станкевич в духе рылеевской идеи противопоставления славы завоевателя славе мирного деятеля воспевает мир и истинную славу того, кто «не жаждет битв и крови»:
Ты не будешь враг природы,
И у ног твоих народы
С рабским страхом не падут;
Ни стенанья, ни железы,
Ни убийственные грезы
Дух спокойный не смятут.
Но с слезой в очах отрадной,
Освященный, благодатный,
Счастливый любовью чад;
Сердцем чист, душою светел,
Тих и свят, как добродетель,
Сладко будешь созерцать
Добрый плод твоих деяний.
Крови чужд, завоеваний,
Не померкнет твой венец…
Как и всякий юноша, Станкевич в тот период испытал волнения и тревоги первой любви. Рождаются стихи, полные теплых чувств и, наоборот, беспокойных разочарований.
Теперь… прости! Прости навек!
Любви мне тяжко вспоминанье!
Не вырвешь более признанья;
Но сердца горестный упрек
Тебе напомнить лишь заставил
О том, что было… Полно! Я
Свой жребий небу предоставил…
Прости! Ты больше не моя!..
Кто была эта таинственная незнакомка, которой он бросает горестный упрек и у которой просит прощения? Сегодня, за горизонтами лет, ее имя трудно установить. Но доподлинно известно, что Станкевич, будучи уже 25-летним человеком, хранил в своих бумагах цветок, нарисованный нежной женской рукой, с таинственной подписью: «К…». Художницей была девочка, с ней Станкевич не раз танцевал на так называемых актах пансиона. Может быть, эти стихи и были посвящены юной художнице, встречаясь с которой он пережил незабываемое чувство первой любви.
«Голос этой поэзии тих и сосредоточен. В ней нет тех мятежных порывов, кипения страстей и напряженного психологизма, которые свойственны лирике Лермонтова, — писал один из исследователей творчества Станкевича С. И. Машинский. — Поэзия… исполнена мягкого лиризма, это исповедь сердца, реагирующего на боли и радости мира. Она привлекает непосредственностью своего задушевного тона, простотой и сердечностью выраженного в ней чувства».
В полной мере эту оценку можно отнести и к стихотворной повести «Царевна София», которую Станкевич написал незадолго до окончания благородного пансиона. Отрывки из повести были опубликованы в 1830 году в журнале «Бабочка. Дневник новостей, относящихся до просвещения и общежития».
Однако первоначально эта повесть была отправлена в журнал «Московский вестник». В сопроводительном письме содержатель благородного пансиона писал издателю «Московского вестника» М. П. Погодину: «Если между прекрасными стихотворениями Вашего «Московского вестника» может иметь место слабое произведение юного таланта, который-страстно любит словесность и посвящает ей все свободные часы, то я смею утруждать Вас, милостивый государь, моею покорнейшею просьбою — поместить в Вашем издании прилагаемые при сем два стихотворения: «Весна» и отрывок из драматической повести «Царевна София». Г-н Станкевич, автор прилагаемых пиес, кончил курс в моем заведении и скоро поступит в Московский университет…» Впрочем, рекомендация не сыграла никакой роли: оба стихотворения, как уже было сказано, увидели свет на страницах «Бабочки».
Тогда же юноша, а ему шел семнадцатый год, создает одно из своих крупных и значительных произведений — трагедию «Василий Шуйский». Ее первые главы начала публиковать «Бабочка» в марте 1830 года. «Василий Шуйский» написан в стиле, близком к героико-патриотической трагедии начала XIX века. На этом произведении еще лежит печать классицистической драматургии, но в то же время оно не лишено новых начал, свойственных вольнолюбивой манере письма поэтов-декабристов. В частности, многое роднит «Василия Шуйского» с рылеевскими историческими «Думами», с их героико-патриотическим и гражданским пафосом.
В основу трагедии Станкевич положил исторические события, которые развертываются в 1610 году, в последний год царствования Василия Шуйского, взошедшего на престол в результате народного восстания против Дмитрия Самозванца. В своем произведении поэт показывает заговор коварного и властолюбивого Димитрия Шуйского против умного и талантливого полководца Михаила Скопина-Шуйского и самого царя — Василия Шуйского. Бояре хотят вовлечь в свои интриги народ, ясно осознавая, что народ — это огромная сила, с помощью которой можно добиться поставленной цели. Неслучайно один из заговорщиков Захарий Ляпунов наставляет Димитрия Шуйского:
Так, прав ты, князь: народ наш беспределен
В любви и в верности, как и в отмщеньи!
Станкевич достаточно правдиво рисует своих героев, в числе которых царь Василий Шуйский — сложная, противоречивая личность. Царь искренне желает «сделать счастливым свой народ». Но для этого нет у него ни внутренней силы, ни внешней возможности, ибо он отгорожен от народа не только своим саном самодержца, но и сонмом «обманчивых и хитрых царедворцев». В результате Василий Шуйский убеждается в иллюзорности своих благих намерений, с которыми вступал на престол с помощью тех же вероломных царедворцев. В своем ключевом монологе он заявляет:
Я… хотел народу блага,
Желал знать истину — не мог узнать;
Хотел быть правосудным — клевета,
Ненависть, злоба вкрались неприметно.
И, ползая вокруг ступеней трона,
Шипеньем заглушали глас закона!
Народ в неведенье, и мятежи
Смущают всех и разоряют царство;
Я пасть готов всечастно…
Достоверно изображает Станкевич Димитрия Шуйского — брата Василия, шведского военачальника Иакова Делагарди, заговорщиков князей Воротынского, Засекина, других действующих лиц трагедии. Достаточно ярко и выразительно показан образ Михаила Скопина-Шуйского. Это — бесстрашный воин на поле брани, верный гражданин своего Отечества и чистый рыцарь в любви. Предчувствуя свою гибель от рук могущественных недругов, Михаил отвергает предложение шведа Делагарди бежать
с ним из Москвы. Его решение мотивировано тем, что он русский и землю родную оставлять не собирается:
Исполню долг как человек, как русский.
Пусть зависть на меня лиет свой яд;
Боязни чужд и совестью спокоен,
Я не стараюсь козней замечать:
Порочный лишь презрения достоин!
Перед нависшей над Россией бедой, из-за которой страна может оказаться в мрачной пучине, Михаил незадолго до своей смерти призывает царя к самым решительным действиям против внутренних и иноземных врагов:
Молю тебя, о царь мой, со слезами,
Которые струятся в первый раз
По загорелым воина ланитам, —
За благо родины, любезной сердцу,
Мы повели с бесстрашными сынами
Решительным ударом кончить подвиг,
Врага смирить правдивою рукой;
О, лучше пасть под вражьими мечами,
Чем зреть позор страны своей родной.
Жалкими, трусливыми интриганами, предательски торгующими интересами родины, изображены Станкевичем некоторые бояре. Ради достижения своих корыстных целей они готовы на все, даже на то, чтобы для «самобытья, счастия России» «в Швеции царя избрать». На иноземного властелина вся их надежда: «его владычество не так опасно», и именно он защитит от врагов «святую Русь». Боярам противостоит народ, для которого интересы Отечества превыше всего. И только народ на своих мечах несет «правдивое, священное отмщенье».
Полностью трагедия в пяти действиях «Василий Шуйский» вышла отдельным изданием в первой половине 1830 года в московской типографии Августа Семена при Императорской медико-хирургической академии.
Произведение открывалось посвящением сочинителя известному литератору, попечителю Московского университета, члену Российской академии наук Александру Александровичу Писареву: «Ваше превосходительство, милостливый государь! Осмеливаясь поднести Вам первый мой опыт на поприще словесности, следую чувствам глубокого к особе Вашей уважения, как председателю знаменитого европейского Общества и как покровителю отечественной литературы. Снисхождение Вашего превосходительства к моему слабому труду поощрит меня к дальнейшим занятиям на поприще прекрасном и близком сердцу каждого истинно русского. Примите благосклонно сей несовершенный труд мой как слабый знак того душевного к Вам уважения, которым совершенно проникнут Вашего превосходительства покорнейший слуга Николай Станкевич».
Примечательно, что «Василий Шуйский» Станкевича появился за год до опубликования пушкинского «Бориса Годунова». И Пушкин, и Станкевич черпали материал для своих трагедий из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, по-своему художественно его перерабатывая. Но в одном важном моменте — в отношении к роли народа в исторических событиях (при всей несопоставимости художественных методов и уровней изображения) — они сближались. И в трагедии Станкевича народ присутствует на сцене или как действующая сила, или в мыслях, словах и поступках персонажей как отражение «мнения народного». Однако если Михаил Скопин-Шуйский в своем поведении действительно им руководствуется, то большинство бояр ссылками на «глас народа» лишь прикрывают эгоистически своекорыстные, преступные замыслы.
Трагедия Станкевича далека от художественного совершенства, в ней немало недостатков, которые идут как от канонов классицизма, так и от юношеской неопытности автора. Отсюда схематизм в обрисовке большинства характеров, их внутренняя статичность, обилие риторически звучащих монологов, вялость сценического действия, основные моменты которого происходят за пределами сцены.
Тем не менее литературная критика вполне доброжелательно приняла произведение молодого автора, о чем свидетельствуют сочувственные отзывы в ряде московских и петербургских изданий. «Литературная газета» в номере от 30 июля 1830 года под рубрикой «Русские книги» писала, что стихи в пьесе «везде хороши, чувств много и две-три сцены счастливо изображены». Но для исторической трагедии, подчеркивал неизвестный критик, этого недостаточно. Он также напомнил о том, «как трудно быть историческим писателем», и привел в пример неудачный опыт «Дмитрия Самозванца» Фаддея Булгарина.
И все же, по словам критика, трагедия при некоторых ее погрешностях и несовершенствах стала «очень приятным явлением в нашей литературе», дающим основание ждать от автора в скором будущем «больших успехов на просторном поле русской драматургии».
Через длинные версты времени трудно представить реакцию Станкевича на эту рецензию. Но, вне всякого сомнения, можно предположить: молодой поэт не мог не оценить того факта, что рецензия на его произведение была напечатана в пушкинской газете и вышла из-под пера человека из его литературного окружения.
Одно время некоторые исследователи считали, что автором статьи был не кто иной, как сам Александр Сергеевич Пушкин. Правда, последние литературные раскопки этот факт не подтверждают, но и не отвергают. Более вероятно, рецензия была написана редактором «Литературной газеты» А. А. Дельвигом — поэтом и критиком, другом Пушкина еще с лицейской поры.
Благожелательную рецензию на пьесу Станкевича опубликовал в «Северных цветах» и известный критик того времени, ставший вскоре редактором «Литературной газеты» О. М. Сомов. Он, в частности, писал, что «среди драматических произведений В. Н. Олина, Д. А. Струйского, И. Б. Чеславского, Н. Ф. Остолопова с их длинными монологами и разговорами вместо действия трагедия Станкевича выделяется из общего потока ремесленных поделок,
отличается от устаревших чужеземных образцов». В ней, «несмотря на погрешности плана и характеров — следствие неопытности автора», критик увидел поэтическую теплоту, лиризм.
Радуясь первым добрым отзывам на свое произведение, Станкевич в письме родным писал: «Трагедию, по выходе из печати, может быть, сыграют…» Но вскоре эта радость угасла. Молодой поэт сам пришел к выводу, что трагедия ему не удалась. Близкие его друзья в своих воспоминаниях потом рассказывали, как он, будучи студентом Московского университета, скупал нераспроданные экземпляры трагедии и сжигал их.
— Паныч, а может, их снести в библиотеку или раздать народу на улице, — говаривал не раз Станкевичу его слуга Иван. — Хоть какая-то польза будет…
Однако Станкевич оставался непреклонным.
Но продолжим рассказ о воронежском периоде его жизни. В свободное от учебы время Станкевич часто бывал в здешнем театре, любовь к которому у него пробудилась с первой встречи, с первого спектакля. И до конца своей короткой жизни он беззаветно любил театр.
В то время спектакли местного театра пользовались огромным успехом. Еще в 1820 году на главной улице города было сооружено в два этажа с шестиколонным портиком специальное театральное здание, у подъезда которого по вечерам под большими навесами собиралось множество карет и повозок, толпились зрители разных сословий и возрастов. На его сцене тогда ставились пьесы как русских, так и зарубежных авторов — А. П. Сумарокова («Дмитрий Самозванец», «Синав и Трувор»), А. И. Клушина («Алхимист»), Вольтера («Магомет»)…
«В Воронеже четыре раза в неделю играют большие оперы, трагедии, драмы и комедии. Начало в 7½ часов. Театр находится под управлением г-на Соколова», — сообщала о провинциальной Мельпомене в 1829 году газета «Северная пчела».
Станкевич старался не пропускать ни одного спектакля. Театр пробудил в душе юноши чувство восхищения искусством, помог ему впоследствии сформулировать важный принцип: «Искусство делается для меня божеством, и я твержу одно — дружба (или любовь — последний род, лучший из видов и священнейший) и искусство! Вот мир, в котором человек должен жить, если он не хочет стать в ряду с животными! Вот благородная среда, в которой он должен поселиться, чтобы быть достойным себя! Вот огонь, которым он должен согревать и очищать душу!»
Сохранилось его стихотворное послание, посвященное игре актрисы воронежского театра. Станкевич назвал его «На игру госпожи Остряковой»:
Талант нас твой обворожает,
Твой нежный взгляд, твой милый вид
Невольно в душу проникает
И сердцу внятно говорит.
Равно в Амалии, Аглаевой прелестна,
Как и свободы дочь в толпе цыган.
Ты обрела в природе талисман
Неподражаемый, чудесный.
Приятен голос твой и нежен, как свирель.
Ты всех собой очаровала;
Искусства ты постигла цель
И тайну сердца разгадала!
Предметом обожания юного театрала стала не кто иная, как вскоре получившая известность Любовь Ивановна Млотковская. Она будет восхищать многих своих современников и станет в 1830—1840-х годах самой популярной среди провинциальных актрис.
Это стихотворение Станкевича важно и для биографии популярной актрисы. Оно предшествует всем дошедшим до наших дней воспоминаниям и рецензиям, связанным с ее творчеством. Воздаваемая им дань благодарности и восхищения — первое свидетельство не только ее успехов, но и вообще жизни в искусстве.
Нет сомнения, что благодатный огонь, который зажегся в ту пору в сердце Станкевича, помог ему впоследствии профессионально оценивать игру артистов и вообще быть знатоком театральной жизни как в России, так и за границей.
Станкевич и сам обладал недюжинными актерскими способностями. Часто, приехав в родную Удеревку, он устраивал домашние спектакли, вовлекая в них своих младших сестер и братьев. Зрители, а ими были родители и соседи-помещики, награждали его бурными аплодисментами и неизменно считали лучшим исполнителем заглавных ролей. Роли у него были разные. То он играл старика-мельника, то колдуна, то сумасшедшего…
Много еще интересных страниц можно отыскать в биографии Станкевича в период его учебы в Воронеже. Все они по-своему увлекательны. Важно то, что этот период стал для юноши временем напряженных раздумий, формирования его открытого и доверчивого характера, первых философских исканий и поэтических опытов. Но есть еще одна страница и, пожалуй, самая волнующая в его воронежской жизни. О ней рассказ в следующей главе.
Глава четвертая
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОЛУМБ
В «Былом и думах» А. И. Герцена читаем: «В Воронеже Станкевич захаживал иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он встречал бедного молодого человека простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын прасола, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека; сын прасола был большой начетчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним. Застенчиво и боязливо признался юноша, что он и сам пробовал писать стишки, и, краснея, решился их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, не уверенным в себе. С этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с восторгом перечитывала песни Кольцова. Весьма может быть, что бедный прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, изошел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных, кровно-родных песен, если б на его пути не стоял Станкевич».
Приведенная выдержка — одна из многочисленных версий знакомства двух славных сынов земли российской.
Вот следующая. «Брат мой Николай до поступления в университет воспитывался в Воронеже, в пансионе Павла Кондратьевича Федорова, — рассказывал в одном из писем Александр Владимирович Станкевич. — Еще во время своего последнего пребывания там он познакомился с молодым Кольцовым. Поэзия тогда сильно занимала брата, а о молодом поэте он мог узнать у воронежского книгопродавца (Кашкина, если не ошибаюсь), да Кольцов и сам бывал в пансионе иногда, так как, помнится, он ставил Федорову дрова».
С утверждением брата согласна и сестра Александра: «Уже в Воронежском пансионе писал он свои юношеские стихотворения, в Воронеже также познакомился он с поэтом Кольцовым и оценил талант его. Своими советами он помогал его дарованию, сблизившись с поэтом, окруженным темною средой».
Аналогичную аргументацию приводит Анненков: «Мы убеждены, что стихотворство сблизило Станкевича с Кольцовым. Кольцов брал книги из единственной тогда в Воронеже библиотеки, куда часто заходил и Станкевич; да по разнообразным перекупкам и поставкам своей фамилии Кольцов бывал и в пансионе. Не надо обладать большой долей фантазии для предположения, что их связала тайная страсть к стихотворству, взаимно открытая друг у друга. По преимуществу образования Станкевич сделался покровителем поэта-торговца, указывал ему книги для прочтения…»
Действительно, Станкевич сам или с друзьями-пансионерами часто бывал на углу Сенной площади в единственной в то время в Воронеже книжной лавке и библиотеке при ней. Ее хозяином был Дмитрий Антонович Кашкин. По словам Белинского, книгопродавец этот «был человек необразованный, но не глупый и добрый». Но люди, знавшие Кашкина лично, дают иное представление о нем.
Известный воронежский краевед и биограф Кольцова М. Ф. де Пуле вспоминал, что «Дмитрий Антонович Кашкин был в своем роде и в свое время замечательностью. Воронежский уроженец, принадлежа к купеческому сословию, он вел сначала довольно выгодную торговлю хлебом, но страсть к чтению и самообразованию заставила его обратиться к новой (кажется, еще небывалой в Воронеже) деятельности — книжной торговле… Ставши «книжником» (так тогда называли книгопродавцев), он предался страстно чтению и достиг по времени замечательных успехов в самообразовании; он довольно правильно владел литературным языком и даже… писал стихи». Кроме того, он выучился рисовать, играть на гуслях и на фортепьяно. Это был художник по натуре, никогда не заботившийся о своей выгоде.
Именно этот скромный книгопродавец сумел стать для многих посетителей своего магазина чутким и заботливым наставником. Дмитрий Антонович обсуждал с ними их первые поэтические опыты, предлагал последние литературные новинки, а завсегдатаям не только разрешал бесплатно пользоваться своей библиотекой при лавке, но даже дарил книги. К числу таких постоянных посетителей относился и юноша, обычно одетый в засаленный нагольный полушубок. Это был сын прасола Алексей Кольцов.
Вполне вероятно, что у книжных развалов магазина и состоялось знакомство двух молодых людей. А может быть, сам Кашкин представил Станкевичу начинающего стихотворца Кольцова. К моменту встречи воспитанник благородного пансиона был, по местным меркам, известным литератором, поскольку уже опубликовал в столичных «Бабочке», «Атенее», «Северных цветах» с десяток своих стихотворений. И об этом Кашкин знал. Еще одно свидетельство находим у известного критика и друга Станкевича — Виссариона Григорьевича Белинского: «Слух о самородном таланте Кольцова дошел до одного молодого человека, одного из тех замечательных людей, которые не всегда бывают известны обществу, но благоговейные и таинственные слухи о которых переходят иногда и в общество из тесного кружка близких к ним людей. Это был Станкевич, сын воронежского помещика, бывший в то время в Московском университете и приезжавший на каникулы в свою деревню, а оттуда иногда в Воронеж. Станкевич познакомился с Кольцовым, прочел его опыты и одобрил их».
Примерно такой же рассказ приводит в 1858 году в своей статье «Николай Владимирович Станкевич» известный критик второй половины XIX века Николай Александрович Добролюбов: «Любовь к чтению умевшая такое благодетельное влияние на всю жизнь Кольцова, содействовала, кажется, и сближению его со Станкевичем. Едва ли не в единственной книжной лавке воронежской в первый раз сошлись они и познакомились друг с другом. Николай Владимирович Станкевич был сын воронежского помещика, совершенно одних лет с Кольцовым (он родился в 1809 г.). В то время (около 1830 г.) он был студентом Московского университета и приезжал в Воронеж на вакации. Он узнал о стихотворных опытах Кольцова, прочитал их и одобрил. И это было уже очень важно для молодого поэта».
Один из биографов Кольцова — Василий Васильевич Огарков также склонен считать, что знакомство Станкевича с поэтом-прасолом произошло в Воронеже. В очерке «Алексей Кольцов. Его жизнь и литературная деятельность», написанном в 1892 году, Огарков рассказывает: «…Кольцов познакомился с человеком совсем иного калибра. Это знакомство имело громадное влияние на всю его последующую жизнь и литературную известность и ввело скромного воронежского прасола в круг людей, при имени которых благоговейно сжимается сердце у всякого образованного русского. Это был Николай Владимирович Станкевич… Знакомство его с поэтом-прасолом произошло в 1830 году, в один из приездов Станкевича, бывшего в то время студентом Московского университета, в свою деревню (Острогожского уезда) на каникулы. Из деревни Станкевич довольно часто приезжал в Воронеж, где, вероятно, и познакомился с Кольцовым в единственной книжной лавке, у Кашкина».
Такой же точки зрения придерживались и некоторые более поздние исследователи жизни и творчества Станкевича и Кольцова — С. И. Машинский, В. А. Тонков, ряд других литературоведов.
В частности, в сборнике «Очерки литературной жизни Воронежского края» Тонков пишет: «В 1830 году у себя на родине Кольцов знакомится с Николаем Владимировичем Станкевичем, а через год, приехав в Москву, устанавливает тесные связи с кругом его друзей».
У известного исследователя литературы первой половины XIX века Машинского в статье «Станкевич и его кружок» читаем: «В Воронеже Станкевич встретился с поэтом А. В. Кольцовым».
В изданной в 1918 году в Петрограде книге «А. В. Кольцов (Полное собрание сочинений)» автор критико-биографического очерка А. И. Введенский, рассказывая о поэте-прасоле, вообще не называет место встречи Станкевича и Кольцова. Но поскольку сначала он пишет о воронежском знакомстве Кольцова с семинаристом Сребрянским, видимо, надо полагать, что встреча наших героев тоже состоялась в Воронеже: «Другое знакомство, повлиявшее сильно на Кольцова, было связано с известным Н. В. Станкевичем, сыном богатого острогожского помещика, разбогатевшего от винных откупов. Знакомство это было случайное, близких отношений не вызвавшее; но талантливый юноша, впоследствии глава известного московского кружка, очень заинтересован был «поэтом-прасолом» и оказал ему… некоторые услуги в смысле облегчения ему выступления на литературном поприще».
Однако Януарий Михайлович Неверов, близкий друг Станкевича, пишет о их встрече совсем иначе: «Не помню точно, в 1835 или 1836 г., Станкевич сообщил мне о своем знакомстве с Кольцовым, которое произошло следующим образом. Отец Станкевича имел винокуренный завод, куда местные торговцы скотом (прасолы) пригоняли свои гурты для корма бардою. Разумеется, молодой Станкевич не имел никаких сношений
с этими лицами. Однажды, ложась спать, он долго не мог найти своего камердинера, и когда последний явился, то, на замечание Станкевича, привел такое оправдание, что вновь прибывший прасол Кольцов за ужином читал им такие песни, что они все заслушались и не могли от него отстать. При этом камердинер сказал несколько оставшихся у него в памяти куплетов, которые и на Станкевича произвели такое впечатление, что он пожелал лично узнать от Кольцова, откуда он достал такие прекрасные стихи. На другой день он пригласил его к себе и, к удивлению своему, узнал, что автор этих стихов сам Кольцов. Разумеется, Станкевич тотчас же попросил его передать ему все стихотворения и, напечатав их отдельно брошюрою, прислал ко мне в Петербург».
Он же, Неверов, после появления версии Анненкова, что знакомство Станкевича и Кольцова состоялось в книжной лавке Кашкина или в пансионе Федорова, ответил одному из исследователей жизни Кольцова де Пуле со всей определенностью: «Анненков положительно ошибается, говоря, что Станкевич познакомился с Кольцовым в книжной лавке или в пансионе; знакомство могло поддерживаться там, но началось именно так, как я писал Вам. Рассказ Станкевича у меня живо сохранился в памяти, я не могу только сказать, когда именно состоялось это знакомство, и, конечно, не помню, какие именно песни читал Кольцов людям Станкевича».
Иными словами, близкий друг Станкевича настаивал на знакомстве в имении Станкевичей — Удеревке.
Дореволюционный историк литературы, библиограф, он же автор-составитель и редактор первого академического издания сочинений Кольцова
(Кольцов А. В. Полное собрание стихотворений. Вып. 1 / Под ред. и с прим. А. И. Лященко. СПб.: Императорская Академия наук, 1909. —
Н. К.), А. И. Лященко придерживается свидетельства Неверова: «Счастливые обстоятельства сблизили поэта в это время с человеком, давшим Кольцову не менее, чем Сребрянский. Это был блестящий по уму и способностям, хорошо образованный и влиятельный среди московской учащейся и мыслящей молодежи Николай Владимирович Станкевич, сын воронежского помещика. Знакомство с ним состоялось при оригинальных обстоятельствах…» И далее Лященко полностью приводит рассказ Неверова.
Известный современный исследователь жизни и творчества Кольцова Н. Н. Скатов также склонен верить Неверову: «…В 1830 году, в острогожской деревне он (Станкевич. —
Н. К.) так чутко воспринял талант Кольцова и так точно и раньше всех понял, в чем заключается суть этого таланта, а к 1831 году эта суть уже вполне определилась: достаточно сказать, что была написана «Песня пахаря».
Свидетельство Неверова имеет некоторое сходство с легендами, которые вот уже 180 лет передаются из поколения в поколение земляками Станкевича. Причем излагают они их живо, увлеченно, как будто все это произошло совсем недавно, а сами рассказчики при сем незабываемом событии присутствовали.
Впрочем, послушаем «очевидцев». По их словам, встреча Кольцова и Станкевича произошла необычно и случайно. Было это летом. Кольцов гнал по степи гурт скота. Думая, что его никто не слышит, распевал песни на собственные стихи. Близ села Верхний Ольшан его встретил едущий в коляске барин во фраке, цилиндре и белых перчатках. Именно в белых перчатках, любят подчеркивать земляки. Это был старший сын местного пана Станкевича — Николай, возвращавшийся из своего имения, села Удеревки. Он подозвал смущенного Кольцова, спросил, что за дивные песни тот поет. Узнав, что прасол распевает песни собственного сочинения, пригласил его в свое имение, попросил показать имеющиеся стихи, которые были написаны карандашом на обрывках листов, и взял их себе. Было это в 1830 году.
А вот вторая легенда. Ее рассказала автору книги его покойная бабушка Пелагея Акимовна, в девичестве Даньшина, чей отец владел большой пасекой и был вхож в семейство Станкевичей. По признаниям других родственников, он даже состоял в каком-то родстве с этой дворянской семьей.
Итак, неподалеку, километрах в семи от усадьбы Станкевичей, есть упомянутое село Верхний Ольшан. Некогда это был город-крепость Олыпанск, входивший в число крепостей Белгородской засечной (оборонительной) черты для охраны южных границ от ногайцев и крымцев. Там жила тетка Станкевича — Мария Федоровна Бояркина. Племянник часто у нее гостил. Бывало это тогда, когда Станкевич ехал в Воронеж или возвращался оттуда. Дорога шла через Верхний Ольшан, и миновать дом тетки никак было нельзя. Навещал он ее в каникулы, что обычно случалось во время охоты. Набродившись с ружьем по окрестным перелескам и лугам, он вместе с собакой Дианой любил отдохнуть у родственников.
Бывал в этих краях и Алексей Кольцов. Однажды зимой он гнал гурты скота в имение к отцу Станкевича. В дороге его и спутников застала сильная метель. Уставшие, измученные и замерзшие, они нашли временное пристанище в Холодном Яру, где их обнаружили мужики из дома Станкевичей.
Как водится в таких случаях, мужики пришли на выручку, помогли гуртовщикам, привели их в дом. Отогревшись, Кольцов в знак благодарности стал с искренним удовольствием петь свои песни спасителям.
Станкевич в это время находился дома и собирался ложиться спать, но никак не мог дозваться придворного дядьку Ивана. Когда тот пришел, Николай спросил его, где он был так долго.
— Скот отцу вашему Владимиру Ивановичу пригнали, — объяснил камердинер. — Не окажись в Холодном Яру наших мужиков, померзли бы гуртовщики в такую стужу. Прасол среди них есть. Алексеем зовут. Он на радостях нам пел песни свои… Очень хорошие. Я не слыхал таких раньше. Вот я, паныч, их и заслушался…
И слуга прочитал запомнившиеся ему строчки:
Вьюги зимние,
Вьюги шумные
Напевали нам
Песни чудные,
Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный…
Как дальше гласит легенда, Станкевич немедля послал Ивана за прасолом. Тот вскоре привел малорослого, коренастого юношу со скуластым лицом и с очень пытливым, наблюдательным взглядом. При виде барина Кольцов растерялся. От нахлынувшего волнения не знал, что и сказать. Начал заикаться. Но надо было знать Станкевича. Простой в общении и добрый по натуре, он сразу расположил к себе Кольцова. После знакомства начался их разговор, продолжавшийся до самого утра. Станкевич, как и его дворовые люди, тоже заслушался дивными песнями прасола. Одну из них — «Песню» — он трижды просил Кольцова повторять вслух. А тот, потеряв смущение, звучным голосом пел:
Если встречусь с тобой
Иль увижу тебя, —
Что за трепет-огонь
Разольется в душе!
Если взглянешь, душа, —
Я горю и дрожу,
И бесчувствен и нем,
Пред тобою стою!
Если молвишь мне что,
Я на речи твои,
На приветы твои,
Что сказать, не сыщу.
Расставаясь, Станкевич попросил Кольцова принести ему все имеющиеся при нем стихи и песни.
— Я попробую их издать, — сказал Станкевич, подавая на прощание руку и дружелюбно улыбаясь новому знакомцу.
Не ведал скромный прасол, что совсем скоро он будет знаменит. Очень знаменит. Его песни — величавые, как родные степи и поля, звонкие, как церковные колокола, теплые и отзывчивые, как души русских людей, — будет знать и петь вся Россия.
Совершенно очевидно, в ту памятную ночь Кольцов рассказал Станкевичу и о том, как в первый раз сочинил стихи. Брать под сомнение этот факт трудно, поскольку кольцовский рассказ можно встретить в мемуарах, письмах людей, в разное время встречавшихся с поэтом. Ясно, что Станкевич, являясь едва ли не первым профессиональным слушателем стихов Кольцова, по определению, не мог его об этом не спросить.
В данном контексте процитирую рассказ Кольцова, записанный известной русской писательницей Авдотьей Панаевой и напечатанный в 1889 году в ее книге «Воспоминания». «Я (Кольцов. —
Н. К.) ночевал с гуртом отца в степи, ночь была темная-претемная и такая тишина, что слышался шелест травы, небо надо мною было тоже темное, высокое, с яркими мигающими звездами. Мне не спалось, я лежал и смотрел на небо. Вдруг у меня стали в голове слагаться стихи; до этого у меня постоянно вертелись отрывочные, без связи рифмы, а тут приняли определенную форму. Я вскочил на ноги в каком-то лихорадочном состоянии; чтобы удостовериться, что это не сон, я прочел вслух свои стихи. Странное я испытывал ощущение, прислушиваясь сам к своим стихам».
Вполне возможно, легенду о встрече Станкевича и Кольцова удеревцы рассказали побывавшему в этих местах воронежскому писателю Владимиру Кораблинову, и она стала эпизодом его повести «Жизнь Кольцова». Вот отрывок из этой книги:
«И он стал читать. Сами стихи и его манера чтения поразили Станкевича. Он слушал не перебивая, точно боясь неосторожным словом спугнуть певца.
Кольцов прочел ему «Путника», «Соловья», «Терем» и, наконец, последнее, что сочинил, — «Повесть моей любви».
Скучно и нерадостно
Я провел век юности,
В суетных занятиях
Не видал я красных дней,
Жил в степи с коровами,
Грусть в лугах разгуливал,
По полям с лошадкою
Одно горе мыкивал…
Весь подавшись вперед, Станкевич глядел на Кольцова, как на чудо, а тот все пел, пел и, казалось, не видел ни Станкевича, ни богато убранной комнаты — ничего: одна степь струилась перед глазами, ветер посвистывал в ушах да серебряные волны ковыля плыли и плыли вдаль, уходя к горизонту…
— Но где же все это записано? — изумленно спросил Станкевич. — Где тетради, бумаги ваши? Дома, конечно?
— Тетрадки мои со мной в седельной сумке.
— Как? Вы их с собой возите?
— А как же, — просто ответил Кольцов. — Маранье мое — радость моя единственная, а дома, глядишь, их еще и на обертку пустят».
Таковы лишь некоторые документальные и художественные доказательства (если их таковыми можно считать) встречи двух замечательных личностей. Но кому из написавших людей все-таки верить? Близким родственникам? Друзьям? Биографам? Литераторам? А может быть, даже легенде?
Автору этой книги наиболее близкой к истине кажется изложенное выше утверждение одного из самых близких друзей Станкевича — Януария Неверова, которому Станкевич сам сообщил о своем знакомстве с Кольцовым, а также о том, как и при каких обстоятельствах оно произошло. В свою очередь, другие приведенные версии людей, знавших и Станкевича, и Кольцова, таких доказательств не содержат.
Вместе с тем точного ответа на поставленные автором вопросы нет и, скорее всего, не будет никогда, поскольку ни Станкевич, ни Кольцов не оставили после себя письменных свидетельств о времени и месте своего знакомства. Поэтому сегодня, думается, не столь принципиально, где же все-таки оно состоялось: в книжной лавке или в имении Станкевичей? Главное, что оно состоялось. И особенно важно значение самой встречи. Оно просто неоценимо. Неоценимо уже хотя бы потому, что благодаря Станкевичу Россия обрела настоящего народного поэта.
Именно Станкевич стоит у истоков кольцовской поэзии как ее первооткрыватель. По сути, он стал литературным Колумбом, который открыл поэта, чей голос зазвучал искренне и звонко. Именно так, как должна звучать настоящая поэзия.
Уместно здесь привести оценку известного исследователя жизни и творчества Кольцова российского академика Скатова: «…Важнейшее значение Станкевича здесь сказалось прежде всего в том, что он определил истинный поэтический род Кольцова и представил поэта именно в этом роде». И, безусловно, вновь напрашиваются слова Герцена: «Весьма может быть, что бедный прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, изошел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных, кровно-родных песен, если б на его пути не стоял Станкевич».
Впрочем, не станем опережать ход дальнейших событий. О первых опубликованных стихах воронежского прасола в столичных изданиях, его дружбе со Станкевичем пойдет речь в последующих главах. А пока вернемся в благородный пансион, занятия в котором для Станкевича близились к завершению.
За время учебы юноша заметно повзрослел и, естественно, многое приобрел. К основным итогам почти пятилетнего пребывания Станкевича в пансионе, включая успешную учебу, необходимо отнести также то, что получит в его последующей жизни и деятельности дальнейшее развитие. По словам Анненкова, это — признаки глубокой религиозности, запавшей в душу его и уже никогда не покидавшей ее; признаки нежного сердца, рано открывшегося для ощущений дружбы и любви; наконец, признаки неутолимой жажды к поэзии, обнаружившейся страстью к стихотворству.
В начале мая 1830 года Станкевич отправляет своим родным письмо, где с радостью сообщает о том, что курс наук он успешно прошел и во всех имеет отличные сведения. Теперь его цель — поступить в Московский императорский университет на словесный факультет.
Четырнадцатым июля того же года датировано прошение Станкевича в правление университета о допуске его к экзаменам. Документ этот сохранился до сегодняшних дней в студенческом деле Станкевича, а копия его находится в музее Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Вот его полный текст: «Прошение. Окончив учение в Воронежском благородном пансионе, я желаю продолжать оное в здешнем университете; не имея возможности явиться к сроку, назначенному членами университета для экзаменов поступающим в число студентов, я по необходимости должен был воспользоваться представившимся мне случаем и прибыл в Москву в настоящее время, а потому, прилагая при сем свой аттестат равно как и свидетельства о крещении и дворянском моем достоинстве, покорнейше прошу правление университета, допустив меня к экзамену из пройденных мною предметов, поместить меня в число студентов словесного факультета; свидетельство же о дворянском моем достоинстве по рассмотрении прошу мне возвратить. Пансионер Воронежского благородного пансиона Николай Станкевич. Июля 14 дня 1830 года. г. Москва».
Вскоре знания «в языках и науках, требуемых от вступающего в университет в звании слушателя» выпускника Воронежского благородного пансиона Николая Станкевича, получили на вступительных экзаменах самые высокие оценки, и он был зачислен в университет своекоштным студентом.
Глава пятая
ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!
Итак, Николай Станкевич — студент словесного факультета Московского университета. Ему семнадцать лет. Он высок, строен. В движениях — какая-то особенная грация и благовоспитанность, точно он царский сын, не знавший о своем происхождении. У него прекрасные черные волосы, спадающие до самых плеч. Глаза карие, небольшие, но живые и выразительные; нос тонкий, с горбинкой. Улыбка чрезвычайно приветлива и добродушна, хотя и немножко насмешлива.
Станкевич умен, мягок, деликатен и очень красив. Его внешность, унаследованная от отца, отвечает духу 1830-х годов — времени возвышенных чувств и романтических идеалов. Он полон желания овладевать науками, служить высоким целям, а именно — Отечеству. Это желание пробуждает в нем и место, куда он приехал учиться, — в первопрестольный град, сердце России.
Москва начала XIX века была одним из самых крупных деловых и культурных центров страны. Одних только журналов здесь выходило не менее 25 наименований!
Станкевича, конечно, поразило разнообразие столицы. Это и роскошные дворцы в разных частях города, и стоявшие рядом с ними убогие деревянные домишки. Это и прекрасные сады, разбросанные среди домов, конские бега и места для знаменитых кулачных боев, охота на медведя и волка, а рядом театры на европейский лад. Улицы то широкие, то узкие настолько, что двум телегам не разъехаться…
Но огромное впечатление на юношу производят священные стены Кремля, его высокие башни, Успенский собор, Красная площадь, величественная набережная и Каменный мост, храм Василия Блаженного и Петровский театр…
«Особая печать лежала в ту пору на всей Москве, не только на зданиях, не походивших на петербургские, на улицах и движении по ним, но на всем укладе жизни, — писал потомок древнего дворянского рода, преподаватель Московского университета Н. В. Давыдов. — В тогдашней Москве еще сказывались черты прежнего обихода, от нее веяло стариной. Здесь не было влиятельного правящего чиновничества, военщины, но было достаточно много… патриархальности».
«Москва будет всегда истинною столицею России. Там средоточие царства, всех движений торговли, промышленности, ума гражданского. Москва непосредственно дает губерниям и товары, и моды, и образ мыслей. Ее полуазиатская физиономия, смесь пышности с неопрятностью, огромного с мелким, древнего с новым, образования с грубостью представляют глазам наблюдателя нечто любопытное, особенно характерное. Кто был в Москве, знает Россию», — написал известный историк Н. М. Карамзин.
Московский университет, порог которого переступил Станкевич, располагался на Моховой улице (это здание сохранилось и по сей день, в нем размещается факультет журналистики МГУ. —
Н. К.) и представлял собой дом в четыре этажа, с передним двором и боковыми корпусами, обращенными к Моховой (правое крыло) и к Никитской (левое крыло) улицам. Это здание было одно из самых красивых зданий в Москве. Построенный в 1786–1793 годах русским архитектором Казаковым, Московский университет сильно пострадал во время пожара 1812 года, но был восстановлен.
В те годы, когда в нем учился Станкевич, университет разделялся на четыре отделения: нравственно-политическое, физико-математическое, медицинское и словесное. На первом этаже в огромном зале размещалась столовая с двумя рядами столов, в ней могли обедать одновременно 150 студентов. На втором этаже квартировали профессора, а на третьем находились аудитории, где читались лекции. Последний этаж был устроен под общежитие. Студенческие комнаты (номера) и дортуары (спальни) тянулись по обеим сторонам коридора — от левого крыла до правого. Тут же, на четвертом этаже, находились библиотека, а также карцер, куда заключали под арест проштрафившихся студентов.
Учеба Станкевича в Москве совпала с тем временем, когда Первопрестольная становилась центром умственной жизни. Тогда как Петербург, являвшийся до этого таковым, на какой-то период свое значение потерял. Связано это было с разгромом 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга выступления декабристов, жестоким наказанием его участников, как известно, людей просвещенных и прогрессивных. Воцарение на престол Николая I, сразу взявшего под неусыпный контроль всю идеологическую жизнь страны, также способствовало угасанию свободолюбивых идей.
После 14 декабря, когда, по словам Герцена, «явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом», когда «все пошло назад, кровь обратилась к сердцу, деятельность, скрытая снаружи, закипала, таясь внутри», — в эти тяжелые времена Московский университет «устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана».
Действительно, Московский университет был особым миром, непохожим на весь мир тогдашней России. Он, как подтверждают документы, мемуары его питомцев, чем-то напоминал давно ушедшую в былое вечевую новгородскую вольницу. Устав университета был очень демократичен: ректор и деканы факультетов избирались сроком на один год. Всеми делами вершил совет, имевший право выбирать профессоров для кафедр. Над собою университет знал только власть Сената и так называемого попечителя, назначаемого Сенатом для наблюдения за деятельностью университета. И, напротив, во всем учебном округе университету подчинялись все учебные заведения — гимназии, пансионы, воспитательные дома и детские приюты.
Один из питомцев университета Николай Сазонов рассказывал: «…Почитание цивилизации, привязанность к истинно народным традициям и современные свободолюбивые идеи нашли себе в этом учреждении последнее пристанище».
Для Москвы университет являлся, пожалуй, едва ли не основным центром общественной и умственной жизни. Сама атмосфера его аудиторий была особенной — в них отсутствовали чинопочитание, лесть, фискальство, лицемерие.
«Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства», — писал позднее в «Былом и думах» товарищ Станкевича по университету Александр Герцен. И далее: «Опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».
«Наш университет, — вспоминал впоследствии автор романа «Обломов» замечательный писатель Иван Гончаров, учившийся одновременно со Станкевичем, — был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств и для всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества. Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе симпатию и уважение. Они важно расхаживали по Москве, кокетничая своим званием и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и те, при встречах, ласково провожали юношей в малиновых воротниках».
По словам того же Гончарова, юная студенческая толпа составляла собою маленькую ученую республику, над которой простиралось вечно ясное небо, без туч, без гроз и без внутренних потрясений, без всяких историй, кроме всеобщей и российской, преподаваемых с кафедр. Все было патриархально и просто; ходили в университет как к источнику за водой, запасались знаниями.
Станкевич поселился на Большой Дмитровке, неподалеку от университета, в доме профессора Михаила Григорьевича Павлова. Там ему предоставили небольшую комнату для проживания и занятий. Одновременно он пользовался общим столом с семейством профессора.
Конечно, его жизнь, как своекоштного студента, отличалась от жизни тех, кто состоял на казенном коште. Он не знал надзора, мог всю ночь напролет сидеть за книжками, вести задушевную беседу с друзьями, пировать с ними и распевать песни, а потом весь день спать, и никто не требовал с него отчета. Тогда как казеннокоштные студенты жили в общежитии и всегда находились под неусыпным оком начальства.
Да и условия их быта были схожи с казарменными. В комнатах обитало по восемь, а то и по двенадцать студентов. Столики для занятий стояли так плотно, что можно было читать книгу, лежащую на столе своего соседа. Разумеется, ни о какой тишине и речи не было. Один школяр, к примеру, читал вслух, другой играл на гитаре, еще несколько человек о чем-то спорили… Как тут заниматься!
С другой стороны, казеннокоштным студентам было грех жаловаться на свое житье-бытье. Они находились на полном материальном обеспечении: им предоставлялись отапливаемое жилье, трехразовое питание в университетской столовой, обмундирование, канцелярские принадлежности, учебная литература. Была при университете и своя больница. Примечательно и другое. К. каждому номеру был приставлен солдат, который делал уборку и прислуживал студентам: чистил платья, сапоги, пришивал пуговицы на вицмундирах, менял постельное белье.
Вот как описывал свое пребывание в университете казеннокоштный студент Федор Буслаев, впоследствии выдающийся русский филолог, академик: «Живя в своих нумерах, мы были во всем обеспечены и, не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему довольству завидовали многие из своекоштных. Все было казенное, начиная от одежды и книг, рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, карандашей, чернил и перьев с перочинным ножичком. Тогда еще перья были гусиные и надо было их чинить. Без нашего ведома нам менялось белье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундире… Наши дни и часы были подчинены строгой дисциплине. Мы вставали в семь часов утра, в восемь пили в столовой чай с булками, а в девять отправлялись на лекции, возвращались в два часа и в половине третьего обедали, а в восемь ужинали, в одиннадцать ложились спать. Кто не обедал или не ужинал дома, должен был предварительно уведомить об этом дежурного субинспектора, а также испросить у него разрешение переночевать у родных или знакомых с сообщением адреса, у кого именно. Кормили нас недурно. Мы любили казенные щи и кашу…»
По прошествии месяца учебы Станкевича в университете страну постигла страшная беда — эпидемия холеры. Болезнь, словно пожар, вспыхнула в Оренбурге, перекинулась на Астрахань… А дальше, через степи, унося на своем пути десятки тысяч жертв, пожаловала в Белокаменную. Какую тревогу сеяла она среди населения, красноречиво говорит запись, сделанная одним из современников, приятелем А. С. Пушкина Вульфом: «Никакие меры предосторожности не в силах, кажется, остановить распространение сего бедствия, — писал он, — от пределов Сибири она все подвигается к западу, и едва ли не дойдет она до сердца Европы. Она мне кажется губительнее чумы, которая по крайней мере весьма редко прокрадывается через карантины».
Университет закрыли 27 сентября. Казеннокоштным студентам вообще запретили выходить за ограду университета. «Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице, — пишет А. И. Герцен. — Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены; возле него лежал сторож, занемогший в ночь».
Москва выглядела мрачной и напоминала осажденный город. Присутственные места были закрыты, разного рода публичные увеселения запретили, торговлю приостановили. Кто мог и успел, покинул город. Улицы обезлюдели. На них можно было встретить лишь полицейских, сопровождавших окрашенные в белый цвет кареты с больными и черные повозки с покойниками. Редкие прохожие в страхе шарахались от этих траурных кавалькад, прятались в ближних подворотнях.
В церквях духовенство служило молебны об изгнании проклятой заразы. Над Первопрестольной плыл несмолкаемый скорбный звон колоколов. Новодевичье, Рогожское, Ваганьковское и другие кладбища не успевали «расселять» жертв госпожи
холеры. Город опоясали военные караулы. Солдаты круглые сутки несли охрану и стреляли в тех, кто пытался тайком проникнуть в Москву или выбраться из нее. Даже пристрелили дьякона, пробиравшегося в столицу через реку.
Холера неохотно покидала Москву. Боязнь ею заразиться была у всех. Но страха настоящего, панического москвичи не испытали. «Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии», — свидетельствовал современник. Буквально за несколько дней на средства купцов было открыто 20 больниц. Университет тоже внес свою посильную лепту. Все 70 человек медицинского отделения — студенты и лекари привели себя в распоряжение холерного комитета; их направили в больницы, и они работали там ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоносцами до ликвидации холеры. Для них это был серьезный экзамен. Станкевич смотрел на своих однокашников как на героев и через всю свою короткую жизнь пронес чувство восхищения самоотверженностью и бескорыстием русского человека.
С наступлением зимы, а точнее с января, университет вновь открыли. Однако лекции как самими профессорами, так и студентами посещались плохо, надлежащий учебный процесс еще не был восстановлен. Поэтому этот год студентам не засчитали, они остались, как двоечники, на прежних своих курсах. Станкевич был в их числе.
Жизнь вошла в свою колею лишь с началом нового учебного года. Каждое утро университет, как и прежде, стал наполняться студенческой братией. Сотен восемь-девять будущих учителей, врачей, юристов в форменной одежде, со шпагами, в треугольных шляпах растекались подобно звонким и говорливым весенним ручьям по своим аудиториям познавать науки.
Словесники — обычно сразу два курса, человек сто — слушали лекции в большой аудитории, над дверью которой золотыми буквами, как на смех, было написано:
«Словестное отделение». Станкевич среди них — представитель сыновей дворян, разночинцев, мещан… Со всех концов страны, часто пешком, без всяких средств к существованию, собрались здесь представители «молодой России». Константин Аксаков, друг Станкевича, потом скажет:
И вместе мы сошлись сюда
С краев России необъятной,
Для просвещенного труда,
Для цели светлой, благодатной!
Здесь развивается наш ум
И просвещенной пищи просит;
Отсюда юноша выносит
Зерно благих, полезных дум.
Здесь крепнет воля, и далекой
Видней становится наш путь,
И чувством истины высокой
Вздымается младая грудь!
Учеба Станкевичу давалась легко. Он почти не испытывал трудностей при изучении наук. Повезло ему и на учителей. Тогда на всех отделениях, в том числе и на словесном, лекции читали видные профессора.
Русскую историю и статистику, к примеру, читал Михаил Трофимович Каченовский — ученый, сыгравший в отечественной исторической науке заметную и полезную роль. Именно он основал свою школу в историографии, которую и по сей день называют скептической школой. Каченовский призывал пересмотреть русскую историю, проанализировать заново ее источники — в первую очередь данные летописей.
«Древний», как называли Каченовского студенты, был сторонником строгой точности в изложении фактов и событий. «Для науки, — писал профессор, — нет ничего приличнее, чем скептицизм — не поверхностный и легкомысленный, но основанный на сравнении текстов, на критике свидетельств. Исследуйте, сомневайтесь, изъясняйте сами, если имеете довольно мужества, ибо нет необходимости верить всему…»
Вольности, неточности в отображении того или иного периода русской истории, которые зачастую допускали некоторые историки, Каченовский беспощадно разоблачал и осуждал. Он терпеть не мог никаких мифов в истории и начинал лекции русской истории с Владимира, предупреждая студентов о том, что не станет повторять басен, которые они слышали до прихода в университет. Например, об оригинальном мщении Ольги за смерть Игоря, о змее, ужалившей Олега, о кожаных деньгах, — особенно о кожаных деньгах.
В списке «разоблаченных» оказался даже автор «Истории государства Российского» Николай Карамзин. Об этом пишет в своих воспоминаниях Гончаров, приводя слова Каченовского: «Как мог Карамзин, человек с необыкновенным умом, допустить, чтобы могли быть в обращении кожаные клочки, не обеспеченные никакой гарантией!»
И хотя свои лекции Каченовский читал довольно скучно и утомительно, тем не менее студенческая братия его любила, побаивалась его строгости и одновременно дружеским и нежным образом над ним подсмеивалась.
Станкевич как раз был не прочь подшутить над профессором. Однажды он, будучи у себя дома с несколькими сокурсниками, передразнивал Каченовского. А тот, как назло, в это время проезжал мимо по улице.
— Вот тебе раз, — взволнованно сказал Станкевич. — Не видал ли он меня?
— Не переживай, братец, — успокоил его однокурсник Осип Бодянский. — Каченовский подумал, что это зеркало стояло…
И все дружно рассмеялись.
Доказательство того, что Каченовский оказал благотворное влияние на юного Станкевича, находим в письме последнего к Неверову: «Каченовский еще не давал нам тем, но я непременно намерен написать что-нибудь о Новгороде или о его торговле. Описание торговли и отношения голландских городов в Шиллеровой истории «Отпадения Нидерландов» увлекло меня: я воображаю, как много можно открыть любопытного в истории сношений Новгорода, приняв за основание достоверные факты и держась оных добросовестно. Для этого предмета есть и источники. Признаюсь, меня не достанет на брожение в бессущной пустоши первого периода русской истории».
Однако неизвестно, написал или нет Станкевич свой трактат о Новгороде. Но есть другое свидетельство. В «Ученых записках Московского университета» за 1834 год была опубликована его статья
«О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III». В этой научной работе чувствуется дух скептической школы Каченовского. В статье Станкевич подверг сомнению документальную достоверность русских летописей, посчитав их ненадежным историческим источником. И тут же вызвал к себе резко отрицательное отношение со стороны противников школы Каченовского, в частности профессора М. П. Погодина. «Читал с досадою выходки молодых глупцов об «Истории», — записывает Погодин в своем дневнике. — Я начинаю и начну преобразования в русской истории, а они говорят о Каченовском, который долбит им только без всякого основания: «не верьте».
Профессор Каченовский был сложной, противоречивой фигурой. Журнал «Вестник Европы», который он издавал, довольно резко выступал против Пушкина, Баратынского, издателя «Московского телеграфа» Полевого. Правда, и «жертвы» нападений Каченовского не оставались перед ним в долгу. Один только Пушкин написал с десяток язвительных эпиграмм на своего обидчика. Их названия говорят сами за себя: «Охотник до журнальной драки», «Клеветник без дарованья», «Хаврониос! Ругатель закостенелый»… Вот строки одной из таких едких, жалящих эпиграмм:
Словесность русская больна.
Лежит в истерике она
И бредит языком мечтаний,
И хладный между тем зоил
Ей Каченовский застудил
Теченье месячных изданий.
Примечательно, крылатая пушкинская фраза «Жив Курилка» посвящена все тому же литературному недругу Каченовскому:
Как! Жив еще Курилка журналист?
— Живехонек! все так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью размучен,
Все тискает в свой непотребный лист —
И старый вздор, и вздорную новинку.
— Фу! надоел Курилка журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет. — Да… плюнуть на него.
Но, наверное, так и должно быть в творческой среде. Без литературных ристалищ, столкновений разных идей, взглядов, кипения споров и мнений, нападок друг на друга жизнь в ней была бы скучной и неинтересной.
Не оставил без внимания своего учителя и Станкевич, также посвятив ему эпиграмму. Правда, вполне безобидную, без
пуанта. Пуант — это в эпиграмме острая концовка, которая должна быть, кроме всего прочего, неожиданной, ошеломляющей.
Пуант — как удар шпаги: можно долго греметь и звенеть железками, но если не последует завершающего укола — кровь не прольется. Эпиграмма Станкевича беззлобна, в ней много общего с дружеским шаржем:
За старину он в бой пошел,
Надел заржавленные латы.
Сквозь строй врагов он нас провел
И прямо вывел в кандидаты.
Благотворное воздействие оказали на молодого Станкевича и другие профессора. К их числу следует отнести Михаила Григорьевича Павлова. Это был необычайно разносторонний человек. Он учился в Харьковском университете, затем в Московской медико-хирургической академии; прошел курсы двух отделений Московского университета — медицинского и математического. Потом изучал естественную историю и философию за границей. Будучи доктором медицины, Павлов редактировал художественный и научный журнал «Атеней», на страницах которого печатались многие известные поэты и писатели. Среди авторов журнала был и Станкевич. В частности, на страницах «Атенея» он опубликовал стихотворения «Избранный», «Желание славы».
В «Былом и думах» Герцен нарисовал достаточно выразительный портрет Павлова, встречавшего студентов у входа в университет вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?..» Ответом на эти и другие вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена
с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова можно обвинить в том, что он не прошел суровым искусом Гегелевой логики. Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич.
«Ни один из наставников наших — хотя все они действовали на нас благотворно, хотя ко всем не погасло у нас чувство признательности, — ни один из них не действовал на нас так сильно и так прочно, как Павлов», — вспоминал бывший студент университета, впоследствии писатель А. Е. Студицкий (Студитский).
И далее он пишет о профессоре: «…Только он взойдет на кафедру, только скажет, задыхаясь, несколько слов, только коснется в первый раз своего предмета, вы уже не видите более его тела, вы не замечаете более его одышки. Огонь в глазах, движение в каждой черте лица, непрерывная смена неудовольствия и торжества, волнение речи — иногда спокойной и льющейся, часто обрывистой, восторженной, патетической — все это показывало страстную любовь к своему предмету — а может быть, и к своим слушателям… Из полутораста человек едва ли можно было найти двух-трех, которые бы утомились на его лекции».
Для первокурсников всех отделений лекции по физике, которые читал Павлов, были обязательны. Но Станкевич посещал и другие лекции профессора, о чем свидетельствует его записка другу Неверову: «Сегодня Павлов читает у себя лекцию опытной физики, на которую съедутся много — я сказал, что буду».
Однако чисто физика мало занимала Станкевича на этих лекциях. Его интересовали идеи философии, которые доносил профессор через призму естественных, физических наук. Именно во многом благодаря Павлову Станкевич и его однокашники впервые прикоснулись к германской философии.
Подтверждение этому факту находим в автобиографической повести Герцена «О себе»: «Он (Павлов. —
Н. К.) своим преподаванием начал новую эпоху в жизни университета. В Германии Павлов сроднился с натурфилософией, с многообъемлющими взглядами на науку и, в особенности, с ее динамичной физикой. Он открыл студентам сокровищницу германского мышления и направил их ум на несравненно высший способ исследования и познания природы… но, что еще важнее, Павлов своей методой навел на саму философию. Вследствие этого многие принялись за Шеллинга и за Окена, и с тех пор московское юношество стало все больше и больше заниматься философией…»
Еще одно имя из славной профессорской когорты — Николай Иванович Надеждин. Он был профессором на кафедре изящных искусств и археологии, причем под археологией в то время подразумевалось историческое изучение художественных памятников. Свои лекции Надеждин читал, как правило, без записей. Но это не мешало ему с точностью доносить до слушателей даты, события, рассказывать удивительные, захватывающие истории о прошлом и настоящем живописи, литературы, археологии…
Гончаров писал, что Надеждин, благодаря своей исключительной, фантастической эрудиции, «один заменял десять профессоров». «Излагая теорию изящных искусств и археологию, он излагал и общую историю Египта, Греции и Рима. Говоря о памятниках архитектуры, о живописи, о скульптуре, наконец, о творческих произведениях слова, он касался и истории философии».
Сам Станкевич всегда с теплом отзывался о своем учителе.
— Надеждин многое пробудил во мне своими лекциями, и если я буду в раю, то Надеждину за то обязан, — как-то сказал он.
А в письме своему другу Тимофею Грановскому написал: «Лекции Надеждина… развили во мне — сколько могло во мне развиться — чувство изящного, которое одно было моим наслаждением, одно моим достоинством и, может быть, моим спасением». Кроме того, он назвал его лекции «в числе важнейших факторов, способствовавших его развитию».
Надеждина еще любили за то, что он всегда был деликатен со студентами, не требовал обязательного посещения своих занятий и вообще не прибегал к полицейским методам. Видимо, сказывались его происхождение, воспитание и образование. Надеждин был выходцем из среднего духовенства, учился в духовном училище и семинарии, потом — в Московской духовной академии. Интеллигентность, благожелательность Надеждина студенты очень ценили.
Еще один весьма красноречивый штрих: ни у кого из университетской профессуры не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Современник вспоминал: «Обладая текучей речью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку, — и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать». Как-то Надеждин затянул чтение на два часа с лишком, и завороженные студенты не напомнили ему, что время лекции давно истекло.
Надеждин был вдобавок и известным литератором. Еще в конце 1820-х годов много шума в литературных кругах наделали его смелые критические статьи, подписанные псевдонимом Никодим Надоумко. И наконец, Надеждин — редактор одного из лучших и популярных журналов — «Телескоп» с приложением газеты «Молва». В этих изданиях печатали свои произведения лучшие поэты и писатели того времени. Тесно с «Телескопом» и «Молвой» сотрудничал и Станкевич, о чем рассказ пойдет ниже.
Нельзя обойти стороной еще одного наставника Станкевича — Степана Петровича Шевырева. В литературе 40-х и 50-х годов XIX века он прославился своими весьма реакционными взглядами. Через журнал «Московитянин» Шевырев вел яростную борьбу с Белинским, резко выступал против либеральных идей. Однако во времена Станкевича это был совсем другой человек, которого высоко ценил Пушкин и которого уважали студенты. В университете Шевырев читал лекции по теории литературы, истории западноевропейской и древнерусской литературы. И читал весьма свободно, интересно и умно, что, безусловно, нравилось слушателям. Правда, симпатии студенчества он скоро утратил. «Шевырев обманул наши ожидания, — позже напишет Станкевич, — он педант».
Однако сказать, что вся профессура университета состояла исключительно из таких людей, как Павлов, Каченовский, Надеждин, Шевырев, было бы неправильно.
Рутинеров, начетчиков, невежд тоже хватало
с избытком. Им нечего было сохранять и нечего реализовывать. Однообразно, как часовые меняют друг друга на постах, занимали они свои места на кафедрах с тем, чтобы кануть в небытие, не оставив о себе доброй памяти. Когда, к примеру, одного из них, профессора Котельницкого, однажды спросили, как он будет читать свой предмет, по собственному руководству или по чужому, тот невозмутимо назвал имя автора учебника Пленка.
— Все равно умнее Пленка-то не сделаешься, хоть и напишешь свое собственное, — ответил Котельницкий.
В письмах Станкевича встречаем имя архаичного профессора российской словесности Петра Васильевича Победоносцева. Он преподавал риторику, российскую словесность. Но черпать знания из его скучных и холодных лекций было крайне сложно. Для Победоносцева не существовало современной русской литературы, на олимп которой уже всходили Пушкин, Гоголь… Он же все еще жил «преданиями старины глубокой».
Как-то один из студентов преподал профессору поучительный урок. Во время экзамена Победоносцев, выслушав ответ, с негодованием заявил:
— Я вам этого не читал!
— Да, вы нам этого не читали, — признался строптивый студент. — Потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользовался источниками из собственной библиотеки, снабженной современной литературой.
Этим студентом был будущий прекрасный поэт и писатель Михаил Лермонтов, учившийся со Станкевичем на смежном — нравственно-политическом отделении университета. Лермонтов и Станкевич не состояли в друзьях-товарищах, но часто сидели рядом на лекциях.



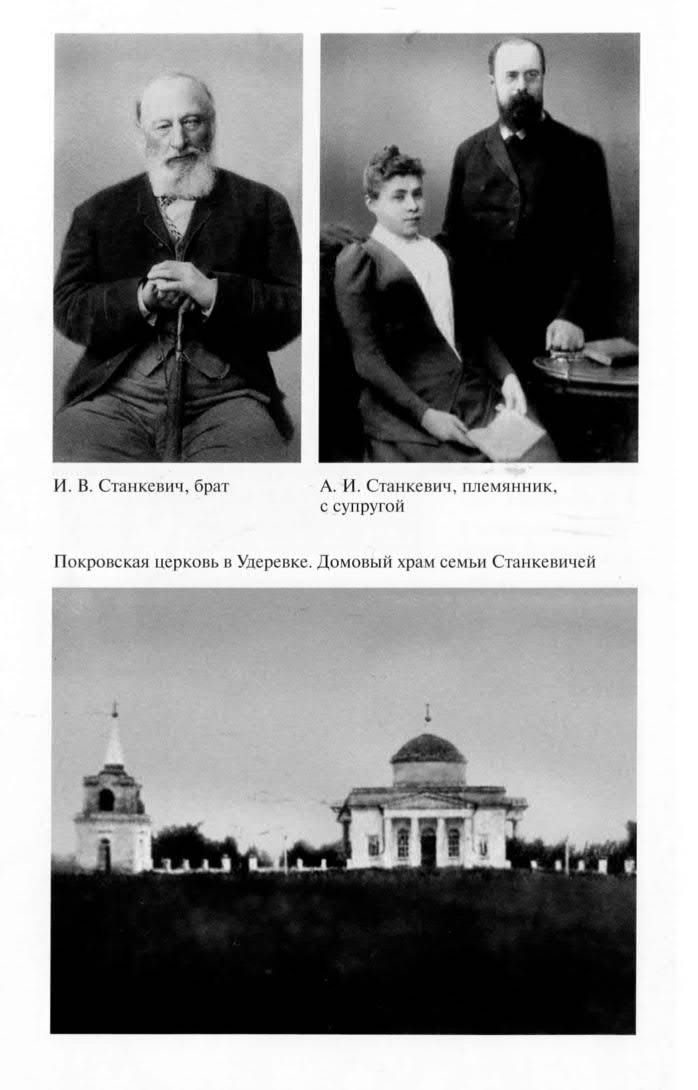
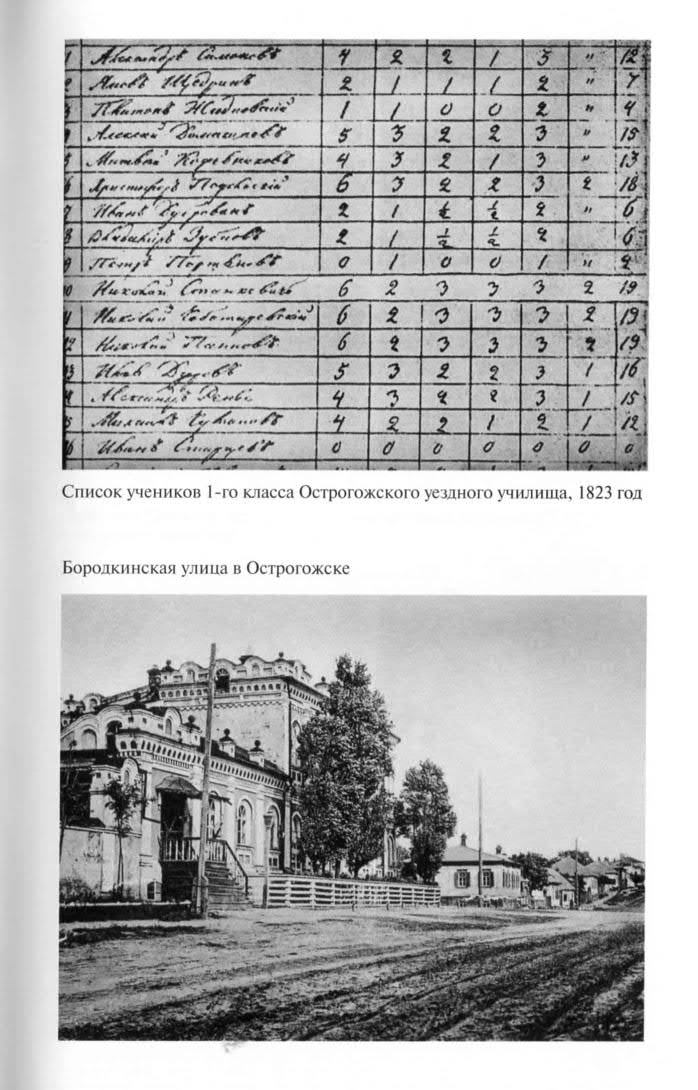


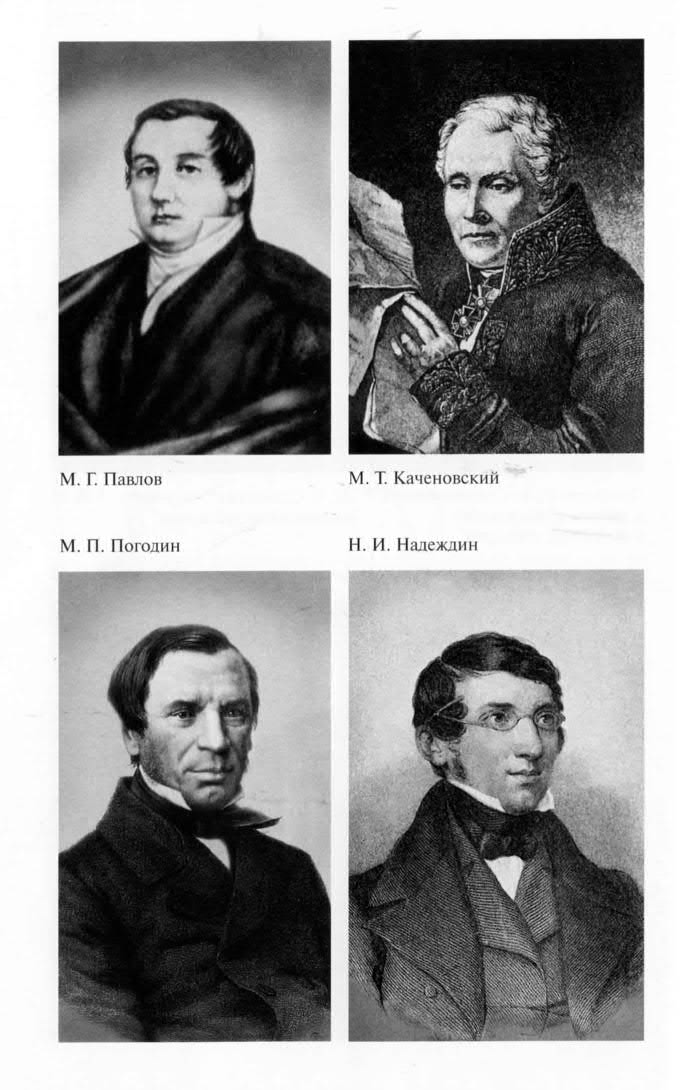






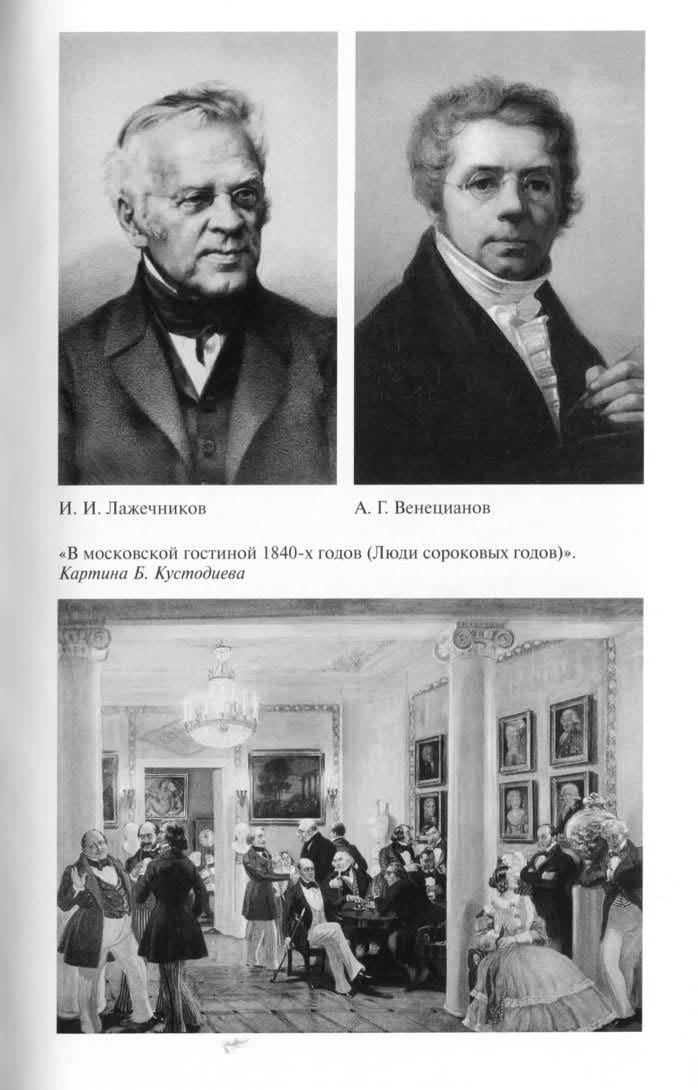
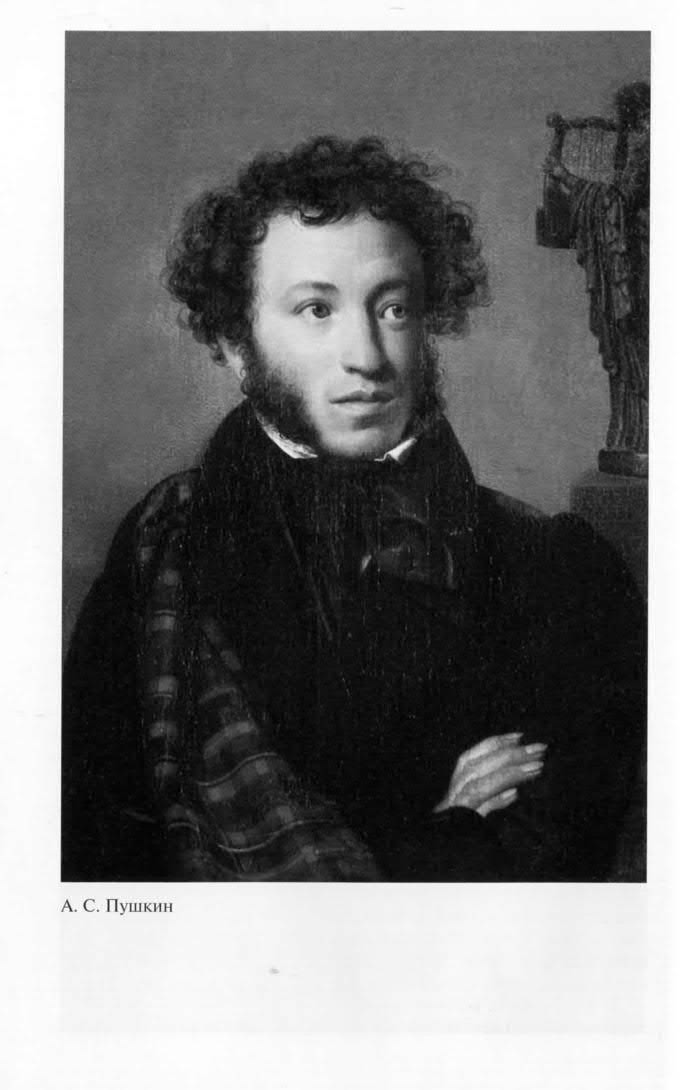
В. П. Вистенгоф, их однокурсник, писал в своих воспоминаниях: «Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя отдельно от всех своих товарищей… Его не любили, отдалялись от него… Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотись, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение». И, тем не менее, позже, в поэме «Сашка» Лермонтов так высказался об университете и своих однокашниках:
Святое место! Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками…
Разумеется, ни Победоносцев, снившийся по ночам Станкевичу, ни Котельницкий, ни другие им подобные профессора и преподаватели не определяли политику университета. Ее делали ученые, которые действительно могли дать своим воспитанникам знания, научить их жизни. И давали, и учили. Таких было немало. Впрочем, с теми и с другими учителями Станкевича читатель уже познакомился.
Первый год обучения в университете стал для Станкевича периодом, пока еще только предшествовавшим поре его зрелости. Как и во время обучения в Воронежском благородном пансионе, стихи занимают в его жизни особое место.
Несмотря на занятость учебой, Станкевич продолжает их писать и публиковать в «Библиотеке для чтения», «Молве», «Атенее», «Литературной газете». В своих произведениях Станкевич выступает как романтик, в его поэзии сильно влияние немецкого романтизма, особенно Гёте. «Романтизм — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии, — писал позднее Белинский, один из самых близких к Станкевичу людей, — его источник в том, в чем источник и искусства, и поэзии — в жизни. Жизнь там, где человек, а где человек, там и романтизм… Романтизм не принадлежит исключительно одной только сфере любви… Сфера его, как мы сказали, — вся внутренняя задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда подымаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному».
В этих словах Белинского содержится характеристика литературно-художественного творчества Станкевича, как стихов, так и прозы. Станкевич стремится раскрыть «внутренний мир души», «сокровенную жизнь сердца, и все, что он пишет, проникнуто стремлениями к лучшему и возвышенному».
Из-под его пера выходит ряд патриотических, философских и лирических стихотворений. Вчитываясь в них, можно ощутить и время, их породившее, и существенные, значимые черты духовного облика человека, их написавшего. Вот строки из стихотворения «Кремль»:
Склони чело, России верный сын!
Бессмертный Кремль стоит перед тобою:
Он в бурях возмужал и, рока властелин,
Собрав века над древнею главою,
Возвысился, могуч, неколебим,
Как гений славы над Москвою!
О чернь! пади! страшися осквернять
Твоею пылью эти стены:
На них горит бессмертия печать,
Они веками освященны!
Примечательно, что первые строки этого стихотворения: «Склони чело, России верный сын! Бессмертный Кремль стоит перед тобою…» можно сегодня прочитать на электронных банерах, размещенных на некоторых станциях московского метро, в частности, на станциях «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», то есть рядом с Кремлем.
Патриотические мотивы, гордость за свое Отечество, желание служить ему звучат у поэта также в стихотворениях «Желание славы», «Бой часов на Спасской башне».
Теплом, светом, а иногда грустью веет от его лирических и философских стихов. В них нет мятежных порывов, кипения страстей. Поэзия эта тиха, спокойна, раздумчива:
Жизнь на празднике природы,
Цвет и зелень на полях,
Неба радужные своды
Блещут в солнечных лучах,
И текут, красуясь, воды.
Из-за своей скромности Станкевич большинство своих стихотворений подписывал криптонимной подписью «Н. С — ч». Только близкие друзья и родители знали, кто скрывается за ней.
В январе 1831 года на страницах «Литературной газеты» было опубликовано стихотворение никому не известного Алексея Кольцова «Перстень» (более позднее название — «Кольцо»). Оно было сопровождено следующим предисловием: «Вот стихотворение самородного поэта, г. Кольцова. Он воронежский мещанин, и ему не более двадцати лет от роду; нигде не учился и, занятый торговыми делами по поручению отца, пишет часто дорогою, ночью, сидя верхом на лошади. Познакомьте читателей «Литературной газеты» с его талантом». Рекомендательные строки были подписаны все той же криптонимной подписью: «Н. С — ч».
Я затеплю свечу
Воску ярова,
Распаяю кольцо
Друга милова.
Загорись, разгорись,
Роковой огонь,
Распаяй, растопи
Чисто золото.
Без него — для меня
Ты ненадобно;
Без него на руке —
Камень на сердце.
Что взгляну — то вздохну,
Затоскуюся,
И зальются глаза
Горьким горем слез.
Возвратится ли он?
Или весточкой
Оживит ли меня,
Безутешную?
Это было первое стихотворение, увидевшее свет из той самой, пропахшей степными травами и ночными кострами тетрадки, которую подарил Кольцов Станкевичу в день их знакомства. К слову сказать, тетрадка эта имела необычное название: «Незабудки с долины моей памяти». Опубликование стихотворения, безусловно, дало молодому поэту уверенность в своих силах, подбодрило его, а также принесло ему даже некоторую известность. Во всяком случае, в Воронеже к нему стали относиться уже как к «печатавшемуся» литератору. И «печатавшемуся» в столице, в «Литературной газете», авторами которой были Василий Жуковский, Александр Пушкин, Петр Вяземский, Владимир Одоевский, Евгений Баратынский, Николай Языков, Дмитрий Веневитинов…
Весной того же года Кольцов собственной персоной заявился к своему литературному покровителю в Москву. Молодой стихотворец остановился у Станкевича, который принял его сердечно, как родного, и ввел в круг своих товарищей.
Из той первой поездки Кольцов вернулся окрыленный. Встречи с людьми добрыми и светлыми и в первую очередь со Станкевичем, Белинским оставили в его сердце неизгладимое впечатление. От новых друзей, собственно, и получил Кольцов благословение на свое дальнейшее поэтическое творчество.
Глава шестая
СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО
Студенческие годы — особенная и неповторимая пора. Всего слушателей на словесном отделении было около ста пятидесяти человек. Настоящая студенческая братия — вольная, искренняя, благородная. Уже с первых дней учебы все слушатели сделались своими людьми, более или менее сошлись друг с другом, а некоторые сразу подружились.
Станкевичу повезло на друзей. В то время с ним на одной скамье училась, без всякого преувеличения, целая фаланга юношей, о которых вскоре будет говорить Россия. Даже непросвещенному читателю имена этих людей должны быть и сегодня хорошо известны. Они — на обложках книг, в учебниках истории, философии и литературы, в названиях улиц и площадей, учебных заведений и библиотек… И какие имена! Поэты Михаил Лермонтов, Николай Огарев, Василий Красов, Константин Аксаков, Иван Клюшников, писатели Иван Гончаров, Александр Герцен, Иван Тургенев, литературный критик Виссарион Белинский, педагог Януарий Неверов, публицист Василий Боткин, славист Осип Бодянский, филолог-санскритолог Каэтан Коссович, переводчик Николай Кетчер…
«Молодежь была прекрасная в наш курс», — напишет впоследствии Герцен. И в этих словах не было никакой натяжки.
Со многими из этих людей Станкевича связала крепкая дружба, верность которой он и его однокашники сохранили на всю жизнь. Но поначалу Станкевич подружился не со своими однокурсниками, а только со студентом старшего курса Януарием Неверовым.
Неверов на три года был старше Станкевича. Выходец из бедной дворянской семьи, он по окончании Арзамасского училища служил канцеляристом в уездном суде. Затем, минуя гимназию, благодаря своему упорству подготовился к экзаменам и поступил в университет. Этот немного взбалмошный, но с открытой, чистой душой и покладистым характером человек с первой встречи вызвал у Станкевича самые добрые и светлые чувства. Такая же взаимность была и со стороны Неверова. Духовное общение с Январем, или Генварем, как его в шутку окрестил Станкевич, стало для последнего насущной потребностью.
В объемном эпистолярном наследии Станкевича сохранились практически все его письма и записки к своему другу. Именно они служат лишним свидетельством их духовного братства.
Неверов жил неподалеку от Станкевича — за Садовым кольцом, в доме известного московского литератора Николая Мельгунова. Сюда и присылал Станкевич через своего слугу Ивана записки Неверову. И в каждой — настоятельнейшая просьба:
«Любезный Генварь! Приезжай, прошу тебя, ко мне побеседовать о бессмертии души и о прочем. Сегодня пятница: мы всегда видимся в этот день; меня так и тянет побеседовать с тобою. Брось диссертацию, поболтаем — мысли посвежеют».
«Любезный Генварь! Сделай милость, приезжай ко мне хоть на короткое время — да привези Телеграф, если можешь!
Я сегодня в пароксизме чуть было не написал фантастической сказки под заглавием: «Девица стихотворка, Длинный Нос и Синие Очки, или Как должно говорить с дамами». Если Небо не пошлет тебя ко мне, то пришли Телеграф. Если же можно, приезжай сам, сам, сам».
«Любезный Генварь! Сейчас, по получении письма моего, отправляйся ко мне: я уже исповедался, заутреню будут у нас служить очень поздно, в 8 часов — и во время ее ты посидишь хоть у меня…»
Станкевич и Неверов были похожи характерами. Оба отличались жизнерадостностью, любили всякие проделки, каламбуры. Их духовные интересы и стремления также были очень близки. Неверов, к примеру, хотел стать писателем. Станкевича тоже влекла литература: он сочинял стихи, пробовал себя в прозе. Часами друзья могли обсуждать новые книги, свежие номера журналов. Но круг их интересов не замыкался только на вопросах литературы и искусства. Обоих волновали проблемы тогдашнего общества.
В 1832 году, когда Станкевич перешел на очередной курс, Неверов, закончив университет, был определен на службу в Министерство народного просвещения, которое находилось в Санкт-Петербурге. Наряду с исполнением своих чиновничьих обязанностей, Неверов участвовал в издании «Журнала Министерства народного просвещения», публиковался в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», в «Энциклопедическом лексиконе»…
Станкевич тяжело переживал отъезд дорогого человека. Однако отдаленность друг от друга еще больше укрепила их отношения. Об этом свидетельствует их переписка, полная рассуждений о литературе, искусстве, смысле жизни. Процитируем одно из десятков посланий Станкевича к Неверову:
«Мой Генварь! Не знаю, как благодарить тебя за твои письма! Кроме того, что они приносят мне известие о тебе, о жизни души твоей, они еще очищают мою собственную душу! Мне досадно, что ты (не досадно, ибо я хочу, чтобы ты был всегда хорошего мнения обо мне, но как-то совестно) представляешь меня себе гораздо лучше, нежели я в самом деле есть. Ты полон чувств возвышенных и смотришь в стекло этих чувств на все тебя окружающее: они для тебя расцвечивают жизнь — ты оптимист! Если бы другие обстоятельства твоей жизни шли иначе, то я мог назвать тебя счастливым! Небо в душе твоей, и ты не постигаешь состояние души, когда это небо одевается мрачным покровом, и враждебный дух льет отраву на лучшие дни жизни. Конечно, этот враждебный дух не загадка в XIX веке. Он не рогат и без хвоста! Не бегает черным пуделем и не берет кровавых расписок. Мы сами создаем себе демона-мучителя, мы и мир, который губит или все прекрасное в душе человека, или его самого!»
Неверову Станкевич посвятил и несколько своих стихотворений. Вот одно из них:
Его зовут Январь,
Но смотрит он веселым Маем,
За то мы песнь ему поем
И велегласно величаем.
Его пленяете не вы,
Невы красавицы младые, —
Он верен прелестям Москвы
И вам, студенты удалые.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Кто верен так друзьям, как он,
Хоть называется Неверов.
Своего любимого друга Неверов пережил на пятьдесят три года. Вся его жизнь прошла на педагогическом поприще. Он был известен как педагог-писатель, автор многих историко-литературных, педагогических и критических статей. Кроме того, в разные годы являлся директором гимназий в Москве и Риге, Лазаревского института, был попечителем Кавказского учебного округа, членом совета Министерства народного просвещения.
До конца дней своих Неверов сберегал память о друге и оставался верен дружбе. Своего рода талисманом этих отношений были хранимые Неверовым письма и стихи Станкевича. Неверов переплел их в красивую книгу и носил ее при себе постоянно, как святыню.
«Станкевич для меня не умер, а будет всегда жить со мною, — напишет он, — потому что большая часть моего внутреннего содержания есть плоды его дружбы, его влияния на меня — и в этом-то мы с ним навсегда неразлучны».
Крепкую привязанность Неверов испытывал и ко всей семье Станкевичей. В воспоминаниях сестры Станкевича — Александры читаем: «В преклонном возрасте он (Неверов. —
Н. К.) оставался на службе и жил в Петрограде. Но летом он пускался в путешествия, чтобы посетить своих знакомых из семьи Станкевичей. Он бывал в Воронежской губернии у сестры нашей Надежды, в ее имении, где она жила, уже овдовев, окруженная сыновьями. Зимой бывал Неверов в Москве и посещал меня в моей семье. Он по-прежнему питал особое благоговение к памяти Ник. Влад… и, умирая, он завещал из своих сбережений десять тысяч на учреждение школы в память Н. Влад…»
Завещанию этому суждено было сбыться. В фонде Воронежской губернской земской управы Госархива хранится дело под названием «О пожертвовании в неприкосновенный капитал тайным советником Януарием Михайловичем Неверовым 28 тыс. рублей, на % которого должна быть открыта и содержима в селе Муховке двухклассная школа имени Николая Владимировича Станкевича».
Первый подшитый в этом деле документ написан в Петербурге 11 июня 1893 года душеприказчиком завещателя Е. И. Матисеном и представляет собой письмо, адресованное председателю Воронежской губернской земской управы. В нем сообщается, что 24 мая 1893 года в столице скончался Я. М. Неверов, который завещал:
«Губернскому земству Воронежской губернии на открытие в Бирюченском уезде в селе Муховке школы, которой должно быть испошлено высочайшее разрешение именоваться школою Николая Владимировича Станкевича, уроженца Удеревки, покойного друга его, завещателя, в неприкосновенный капитал двадцать восемь тысяч рублей. Проценты с завещаемого упомянутому земству неприкосновенного номинального капитала в двадцать восемь тысяч рублей должны употребляться только на учреждение и содержание в селе Муховке двухклассного сельского Николая Владимировича Станкевича училища с тем, что, если нельзя будет на проценты с этой номинальной суммы содержать двухклассное сельское училище, а откроется только одноклассное, то при нем устроить ремесленное отделение и приют для приходящих из окрестных селений учеников…»
Дальше душеприказчик писал, что он безотлагательно вышлет по почте завещанный Я. М. Неверовым губернскому земству капитал в процентных бумагах. 15 июня того же года все ценные бумаги были им высланы в Воронеж.
Но, как водится у нас в России, из-за неповоротливой бюрократической машины и жуткой волокиты исполнение завещания Неверова затянулось не на один год, а на целых… 15 лет. Одним словом, сделано было все по-нашему, в лучших расейских традициях. И все же школа имени Н. В. Станкевича была построена, а ее учениками стали сельские ребятишки из сел и хуторов ближайшей округи. В середине семидесятых годов теперь уже прошлого века в школе учился и автор этой книги.
Имя Неверова еще часто будет упоминаться в повествовании, а пока продолжим рассказ о других друзьях Станкевича, среди которых были поэты Василий Красов, Иван Клюшников, Константин Аксаков… Все они часто бывали на квартире Станкевича в доме профессора Павлова. Конечно, у каждого из них были различия и в характерах, и в происхождении, и в привычках, и в склонностях. Однако сближали молодых людей сходство интересов, душевные симпатии, примерное равенство в интеллектуальном развитии.
Наверное, Станкевичу судьбой было уготовано его главное предназначение в жизни — помогать людям, отдавать им частицу своего просторного и бескорыстного сердца. Эти качества Станкевича отмечали все, кто его знал.
Говорили, что он обладал особым талантом дружбы. Еще говорили: если такой талант существует на белом свете, то у Станкевича он действительно был и шел от сердца, от необыкновенного обаяния и человеческой доброты, огромного желания выслушать и глубоко понять собеседника, от абсолютной искренности и отзывчивости. И как только он начинал разговор, лицо его оживлялось, умные, проницательные глаза приковывали к себе внимание, и весь вид его становился таким притягательным, что хотелось с ним общаться и общаться.
Особенно тесно Станкевич был дружен с Василием Кра-совым, которого полюбил с первых дней знакомства. Красов был небольшого роста, плотный, хотя и немного угловатый, зато необычно подвижный, «превосходный пловец, смелый наездник и даже ловкий танцор». По характеру это был мягкий, добрый, отзывчивый на чужую беду человек. Красов импонировал Станкевичу безукоризненной чистотой своего нравственного облика, абсолютной отрешенностью от прозаической обыденности, благородной мечтательностью своей натуры.
Станкевич, по словам Анненкова, никогда не забывал о своем Красове, любил его искренне, как «любят существо, живущее по своим особенным, почти исключительным законам». Кроме того, он считал, что жизнь «не полна без Красова». «Как же я рад, — писал он своему «любезному Васютке», — что мне не трудно будет ждать зимы, чтоб поговорить с моим Красовым; что, приехавши в Москву, я ту же минуту найду тебя, ветрогона, и притащу к себе за шиворот и задушу вопросами и ответами, рассказами о былом и несбывшемся, о том, чего не будет и не должно быть. Ты, в свою очередь, наговоришь мне много…»
Красов был сыном бедного вологодского священника, соборного иерея. До поступления в университет он окончил духовное училище, а затем учился в духовной семинарии. Это, безусловно, наложило на юношу особый отпечаток как в плане воспитания, так и образования.
Неслучайно Красов слыл одним из лучших и прилежных студентов, даже помогал Станкевичу в изучении латыни и греческого. Вместе они также «учили Кистера», то есть немецкий язык (в те годы студенты Московского университета обозначали предмет фамилией преподавателя), зачитывались немецкими поэтами, обсуждали стихи популярного поэта-романтика Ивана Козлова. И, разумеется, читали друг другу свои собственные стихи. Главной темой Красова была героика прошлого. В своих стихах, которые охотно печатали журнал «Телескоп» и газета «Молва», он описывал подвиги предков в борьбе с татаро-монголами, поляками, шведами…
Одно из своих патриотических стихотворений «Куликово поле» Красов посвятил Станкевичу:
И он вскипел, вскипел упорный бой;
Сразилися тиранство и свобода;
И ты, любовь российского народа,
Носился здесь, воинственный Донской!
Ты здесь летал, виновник ополченья,
Для милой родины, при зареве сраженья!
Для родины! Прекрасен твой удел,
Благословен твой подвиг незабвенный
Для родины несчастной, угнетенной!
Хвала тебе! Прекрасен твой удел!
Обращается Красов к своему другу и в стихотворениях «Булат», «Стансы к Станкевичу». Стихи эти отличаются непосредственностью чувства, задушевностью, искренностью интонации, простотой формы:
О! Сколько дум, воспоминаний,
Какие жаркие мечты!
И сколько в грудь младую ты
Вдохнул возвышенных желаний!
Греми, труба, уж я точу
Булат, подъятый из забвенья!
Дай руку, К<оля>, я лечу
С тобой на зарево сраженья!
Примечательно, Василий Красов — одно из самых часто упоминаемых имен в «Переписке» Станкевича. Василию он поверяет свои тайны, он его судья и советчик. «Общество, в котором я беседую еще о старых предметах, согревающих душу, — пишет Станкевич Неверову, — ограничивается Красовым и Белинским: эти люди способны вспыхнуть, прослезиться от всякой прекрасной мысли, от всякого благодарного подвига!» В другом письме — Михаилу Бакунину — Станкевич говорит: «Поверишь ли? Я не могу видеть ровно никого из самых близких друзей, кроме Красова, который живет со мною и делит мою жизнь…»
Красноречивым примером их бескорыстной дружбы может служить такой эпизод. Однажды Станкевича вызвали в университет по какому-то срочному делу. А он в это время находился дома и занимался с Красовым. Станкевич, ничего не говоря ему, быстро оделся и отправился на Моховую. На полпути он слышит, что кто-то его догоняет. Обернувшись, Станкевич увидел Красова, который был при полном параде — в студенческом мундире и со шпагой.
— Ты куда бежишь? — спросил его Станкевич.
— За тобой, за тобой, — запыхавшимся голосом и со слезами на глазах ответил ему Красов. — Я буду защищать тебя до последней капли крови.
Станкевич с трудом успокоил друга, убедив его в том, что он вызван в университет по пустяковому делу и сражаться ему ни с кем не требуется.
Выйдя из университета, Красов не стал ни знаменитым профессором, ни известным поэтом. Тем не менее, имя друга Станкевича вписано в историю литературы. Еще при жизни Красова его лирическая поэзия имела успех у современников, стихи поэта ходили в списках, заучивались наизусть, перепечатывались в хрестоматиях. Особой популярностью пользовались романсы на его слова. К примеру, романс «Опять пред тобой я стою очарован» исполняется и в наши дни. Издаются сегодня и его стихи.
Давая оценку творчества Красова, Белинский писал, что поэтический талант Лермонтова не был в его время одинок: «Подле него блестит в могучей красоте самородный талант Кольцова, светится и играет переливными цветами грациозно-поэтическое дарование Красова».
Что касается «профессорской» карьеры Красова, то она сложилась менее удачно, чем литературная. Некоторое время он учительствовал в гимназии в Малороссии, то есть в нынешней Украине. Потом из Чернигова был переведен в Киевский университет, где занял должность адъюнкта (помощника профессора. —
Н. К.) по кафедре русской словесности. Находясь в Киеве, Красов свои силы сосредоточил на написании докторской диссертации, в которой он решил раскрыть основные направления в развитии английской и немецкой литературы XVIII века и влияние их «на нашу отечественную поэзию». Однако университет отказал Красову в получении докторской степени, посчитав, что при защите его ответы были неудовлетворительны.
Правда, сам Красов несколько иначе оценивал причины отказа ему в докторской степени. «Я держал на степень доктора словесных наук, — сообщал он Станкевичу, — написал диссертацию, долго, черт возьми, с нею возился; но наши университетские киевские клячи не дали мне степени по диспуту, хотя признали диссертацию вполне достойную степени. Они, мерзавцы, не дали потому, что сами были все только магистры, и когда просили у министра, чтоб им, то есть ординарным профессорам (здесь я разумею Максимовича, Новицкого — профессоров нашего факультета), позволено было без всякого экзамена — только написав диссертацию — искать докторской степени, им министр отказал наотрез. Они торжественно дали слово не сделать и нас докторами — так и сделали».
Как свидетельствовал современник, сразу после той публичной защиты Красов в сердцах заявил ректору:
— Ноги моей с нового года не будет в вашем скверном университете!
И слово свое сдержал. Вскоре Красов оставил «ученую службу» и уехал в Москву, где занимался литературой, а в последние годы жизни целиком посвятил себя педагогической деятельности. Он преподавал русский язык в I Московском кадетском корпусе, а потом в Александровском сиротском военном корпусе. Будущие офицеры и генералы очень любили и уважали своего учителя.
Во время учебы добрые и теплые Отношения сложились у Станкевича с Иваном Клюшниковым. Иван был на два года старше Станкевича. Родом он был из Харьковской губернии. Когда Клюшников приехал в Москву и стал студентом университета, Станкевич еще учился в Воронежском благородном пансионе. Лишь спустя два года судьба их сведет вместе и надолго. Мастер на шутки, каламбуры, эпиграммы, Клюшников забавлял ими своих друзей. Он умел снять доброй шуткой и напряженный спор, и полусонную атмосферу какой-нибудь пресной университетской лекции. Но писал Иван и серьезные стихи, которые публиковались в журналах «Московский наблюдатель», «Современник», «Отечественные записки».
Со Станкевичем Клюшников сошелся не только на ниве
поэзии. Вместе они изучали философию. «С Клюшниковым мы читаем один раз в неделю Шеллинга», — сообщал в одном из писем Неверову Станкевич. В другом послании он писал: «Иван Петрович сейчас будет ко мне, читать со мною Канта».
«Он был Мефистофелем небольшого московского кружка, весьма зло и едко посмеиваясь над идеальными стремлениями своих приятелей, — писал о Клюшникове в книге «Н. В. Станкевич. Переписка его и биография» Анненков. — Он был, кажется, старее всех своих товарищей, часто страдал ипохондрией, но жертвы его насмешливого расположения любили его и за веселость, какую распространял он вокруг себя, и за то, что в его причудливых выходках видели не сухость сердца, а только живость ума, замечательного во многих других отношениях, и иногда истинный юмор».
После окончания университета Клюшников, вышедший оттуда кандидатом словесных наук, преподавал историю в дворянском институте. Однако ученая кафедра его не прельщала, как он сказал, «профессором быть не хочу». К тому же Клюшников пережил тяжелый психический недуг. В одном из писем он сообщал Станкевичу: «Ты часто пророчил мне передрягу; она случилась со мной — и была ужаснее, нежели я мог вообразить себе… два или три месяца я был сумасшедший, потом медленно (почти год) оправился, и теперь уже в дверях, уже в передней новой жизни».
Дальнейшая жизнь Клюшникова была полна загадок. Ходили слухи, что он умер. А между тем «покойный» жил-поживал себе среди белых украинских хат и среди «земляче» в своем имении на хуторе Криничном, что в Сумском уезде Харьковской губернии. До глубокой старости Клюшников, а он пережил Станкевича на 55 лет, продолжал писать стихи, в последние годы взялся за прозу.
Кстати, стихи писал Клюшников пророческие. Он, словно провидец, увидел, как Россия будет умываться кровью в начале XX века и какие смутные времена ей придется пережить в конце того же века:
Над всею русскою землею,
Над миром и трудом полей
Кружится тучею густою
Толпа нестройная теней.
Судьбы непостижимым ходом —
Воздушным, бледным, сим теням
Дано господство над народом,
Простор их воле и мечтам.
Когда насилие с соблазном
Пошли на Русь рука с рукой,
Когда, смущаясь в духе разном,
Сдавался русских верхний строй.
Соблазн, насилие, коварство
До цели избранной дошли,
И призраков настало царство
Над тяжким сном родной земли.
А ты молчишь, народ великий,
Тогда как над главой твоей
Нестройны раздаются крики
Тобой владеющих теней…
Произведения Клюшникова хотя и редко, но появлялись в «Литературной газете», «Отечественных записках», «Русском вестнике». Правда, подписаны они были необычным псевдонимом «Θ» (первой буквой греческого слова «феос» — бог).
Клюшников всегда с огромным уважением относился к Станкевичу. Сохранилось несколько его писем Александру, брату Станкевича, написанных в 80-х годах XIX века. Они говорят о том, как прочно продолжали сохраняться в Клюшникове старые привязанности. Вот строки из одного такого письма: «…Сам падал, сам вставал, хотя по большей части оставался верным памяти тех прекрасных людей, с которыми судьба свела меня в молодости. В числе их первое место занимает ваш усопший Коля. Последнее слово машинально сорвалось с пера, и в душе моей встала такая масса видений и звуков — что мне не хочется писать даже». И далее он продолжает: «Теперь, по прошествии 40 лет труднопрожитой жизни, — я изменил свои понятия о многом, но чувства мои к бывшим спутникам моей молодости остались неизменными…»
Но еще раньше, в 1840 году, когда не стало Станкевича, Клюшников написал замечательное стихотворение, посвященное памяти друга:
Его душа людской не знала злобы:
Он презирал вас — гордые глупцы,
Ничтожества, повапленные гробы,
Кумиров черни грязные жрецы!
Друг истины, природы откровений —
Любил он круг родных сердец,
И был ему всегда доступен гений,
И смело с ним беседовал мудрец.
В «Переписке» Станкевича многократно находим слова о том, что он живет для дружбы и искусства и не видит возможности какой-либо другой жизни для себя. Потребность передать другому все богатство собственного сердца, всю собственную способность к любви и доброжелательству не оставляла его никогда.
К числу студенческих друзей Станкевича относился и Константин Аксаков, чье имя еще не раз будет упоминаться в нашем повествовании. И. И. Панаев в своих «Литературных воспоминаниях» весьма живописно нарисовал портрет Аксакова: «Его открытое, широкое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражалась честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство…»
Аксаков не учился со Станкевичем на одном курсе, он поступил в университет на год позже. Но его, как и других студентов, привлекла к себе яркая личность Станкевича. Практически сразу их связали узы дружбы.
Он был выходцем из знаменитой семьи. Его отец Сергей Тимофеевич Аксаков уже в ту пору слыл известным писателем. А литературную славу ему впоследствии принесут произведения «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Записки об уженьи рыбы». К слову сказать, издаваемые и читаемые по сей день.
Как и Станкевич, Константин Аксаков писал стихи, прозу. Темы его раннего и последующего творчества — родная земля и русский народ, которые он безмерно любил. Многие из его стихов студенческого периода, где поэт прославляет любовь, природу, счастье, «прелестное земное бытие», публиковались в «Телескопе», «Молве», «Московском наблюдателе», других московских и петербургских изданиях.
Станкевич относил Аксакова к числу наиболее образованных своих друзей и шутливо именовал его «зевающим энтузиастом». Тот не обижался на Станкевича, хотя и был очень обидчив. Хорошо зная это, Станкевич даже предупреждал резковатого Белинского: «Надобно с ним быть поделикатнее… в нем есть многие стороны, стоящие уважения, и он малый умный!»
После окончания университета Аксаков плодотворно трудился на литературной и общественно-политической ниве. Поэзия, публицистика, драматургия, литературная критика, филология — вот области, в которых проявился его незаурядный талант. Станкевичу он посвятил много добрых и теплых страниц в своем произведении «Воспоминание студентства 1832–1835 годов».
Однако в историю России друг Станкевича вошел как главный идеолог славянофильства. «Русская история имеет значение всемирной исповеди. Она может читаться, как жития святых», — считал Аксаков. Он неоднократно подчеркивал, что назначение России было явить на земле христианский народ по верованию, стремлению, по духу своей жизни и, сколько то возможно, по своим действиям. Именно по началам веры и зовется Русь «Святой Русью». Но этому христианскому стремлению, по мнению Аксакова, нанес тяжелый вред «важнейший из всех переворотов» — петровский, коснувшийся «самых корней родного дерева». «Петр захотел образовать могущество и славу земную, захотел, следовательно, оторвать Русь от родных источников ее жизни, захотел втолкнуть Русь на путь Запада… путь ложный и опасный».
Хранитель народных устоев, Аксаков ходил с бородой и носил исключительно русскую одежду — сапоги, красную рубаху, мурмолку… Из-под острого пера Аксакова выходили публицистические статьи, свидетельствующие о внутренней свободе его духа и понимании им многих недугов страны. Он, как и его друг Станкевич, был искренен и благороден в своих помыслах во благо России.
«Не подлежит спору, — писал он Александру II, — что правительство существует для народа, а не народ для правительства. Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Народ не имеет доверенности к правительству, правительство не имеет доверенности к народу. При потере взаимной искренности и доверенности все обняла ложь, везде обман. Взяточничество и чиновный организованный грабеж — страшны. Все зло происходит главнейшим образом от угнетательной системы нашего правительства. Такая система, пагубно действуя на ум, дарования, на все нравственные силы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная система из государя делает идола, которому приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы».
Читая сегодня эти аксаковские строки, особенно о взяточничестве и чиновном организованном грабеже, нельзя не видеть их актуальности для современной России. Впрочем, вернемся к нашему герою.
В числе других друзей и товарищей Станкевича, входивших в студенческое братство, также были Алексей Беер, Иван Оболенский, Дмитрий Топорнин, Осип Бодянский, Яков Почека… Все тянулись к нему, словно к источнику…
В определенной степени тайну удивительного обаяния этого человека сумел раскрыть И. С. Тургенев. «Станкевич, — писал он, — оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его вслед за собой в область идеала…»
Университетская жизнь Станкевича не замыкалась лишь рамками учебы. Нашему герою и его друзьям приходилось сталкиваться с многообразными проблемами тогдашней действительности.
В студенческой среде повсеместно все больше и больше пробивались ростки вольномыслия, распространялась ненависть ко всякому насилию, к правительственному произволу. Неприятие деспотического своеволия, раскрепощенность мысли, идеи свободного волеизъявления народа, его широкого просвещения — вот вопросы, которые вызревали и выносились в ней на повестку дня.
В университете и за его пределами начали возникать кружки, «тайные общества», участники которых искали новые пути развития России. «Мы были уверены, что из этой аудитории, — писал Александр Герцен, — выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней».
Однако над всей этой университетской вольницей уже собирались тучи. Царь Николай I не жаловал университетский дух, особенно когда ему доложили, что многие участники выступления 14 декабря 1825 года на Сенатской площади столицы получили образование в университетах. Кроме того, царю услужливо уточнили, дескать, это Никита Муравьев, Петр Каховский, Иван Якушкин, Николай Тургенев, Михаил Фонвизин… Так что ничего хорошего не могло быть по определению, о чем красноречиво свидетельствуют многочисленные факты. Вот лишь некоторые.
Еще до поступления Станкевича в университет, в 1827 году, царь Николай I расправился с университетским кружком братьев Критских, составивших «тайное общество» и задавшихся целью продолжить дело декабристов. В соответствии с высочайшей резолюцией два брата Критских были отправлены на Соловки — в тамошний монастырь, третий брат — в Швартгольмскую крепость. В приговоре по делу братьев Критских говорилось: «Лушников, Петр Критский и Попов произносили к портретам государя императора дерзкие и оскорбительные слова; притом Лушников был ожесточен до такой степени, что дерзнул на портрете блаженные памяти государя императора выколоть глаза».
А в начале 1830-х годов, когда Станкевич уже был студентом, университет пережил еще ряд громких потрясений, связанных с работой политических конспиративных кружков, члены которых за вольнодумство и прогрессивные настроения угодили в тюрьму.
В середине 1831 года полицией была раскрыта неугодная правительству деятельность еще одного «тайного общества» Н. П. Сунгурова — конспиративной организации, возникшей вскоре после выступления декабристов. По доносу студента Полоника Сунгуров и его товарищи — Яков Костенецкий, Павел Антонович, Юлий Кольрейф — были арестованы жандармами.
На следствии выяснилось, что члены «тайного общества» мечтали о конституции для России, хотели организовать поход на Тулу с тем, чтобы захватить арсенал, раздать оружие народу и призвать его к восстанию. Участникам кружка также инкриминировались и другие преступления. В частности, у них были найдены «писанные ими бумаги с дерзкими выражениями против особы К. В. короля Прусского».
В центре этого громкого дела оказались Станкевич и его некоторые близкие друзья. Один из арестованных, член кружка Сунгурова Яков Костенецкий, был хорошо знаком со Станкевичем, неоднократно бывал у него на квартире у профессора Павлова.
После завершения судебного процесса сунгуровцев отправили в ссылку. Самого руководителя «тайного общества» Сунгурова, лишенного прав состояния, пустили с партией арестантов пешим этапом в Сибирь — в Нерчинск, на рудники. Костенецкого с Антоновичем отправили в солдаты. У них не было ни теплой одежды, ни денег. Студенты, в том числе и Станкевич, собрали вещи, деньги и передали их по назначению. С дороги Костенецкий и Антонович направили письмо своим бывшим товарищам по университету, в котором упоминались имена Станкевича, Почеки, Оболенского, Сатина, Неверова, Кетчера и других друзей. Однако письмо было перехвачено сотрудниками Третьего отделения.
Связь названных лиц с государственными преступниками была налицо, хотя в письме не содержалось ничего предосудительного, с точки зрения властей, а только выражалась благодарность однокашникам за оказанную помощь одеждой, продуктами и деньгами. Но и этого было достаточно, чтобы начать новое расследование.
Начальник корпуса жандармов Московского округа генерал-лейтенант С. И. Лесовский докладывал начальнику тайной полиции графу А. X. Бенкендорфу: «Означенные Почека, Станкевич, Сатин и Огарев, хотя есть люди молодые, но… отлично образованы и хорошей нравственности, и они с прискорбием видят, что подверглись высочайшему замечанию чрез одно токмо письмо Костенецкого, с коим совершенно не участвовали во вредных его замыслах и даже не имели особенно коротких связей с ним, кроме того, что были товарищами ему по университету».
В другом донесении Лесовский сообщал: «Станкевич Николай, студент Московского университета, сын воронежского помещика, отставного поручика; отличается превосходными успехами по всем предметам проходимых наук; скромный, и ни в дурном поведении, ни в каких-либо предосудительных поступках и намерениях замечен не был».
Бенкендорф, тем не менее, доложил о письме и о тех, кто в нем упоминался, непосредственно царю. Николай I приказал вызвать студентов, сделать им соответствующее внушение и потребовать от них решительно прекратить всякие сношения с Костенецким, а кроме того, учредить «строгий надзор».
Вскоре Станкевич, Топорнин, Оболенский, Огарев, Сатин, Кетчер, Неверов, Кольрейф, Почека были вызваны к жандармскому генералу, который вытребовал у них письменные обязательства не иметь никогда больше никаких дел с Костенецким и другими «государственными преступниками».
— На первый раз государь так милосерд, что он вас прощает, — заявил Лесовский, — только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны. Я вам особенно рекомендую не совершать более опрометчивых поступков, ибо в следующий раз так легко вы, наверное, не отделаетесь…
Генерал благосклонно улыбнулся, вновь осмотрел всех значительным взглядом, прибавил:
— Вам-то, милостивые государи, в ваших званиях как не стыдно?
Можно было думать, как свидетельствовал один из современников, что перед жандармским генералом стояли кавалеры высших российских орденов, а они всего лишь были студентами, хотя и из приличных сословий. «Угроза эта, — писал впоследствии Александр Герцен, — была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты a la Karl Sand и повязали на шею одинакие трехцветные шарфы».
И все же, несмотря на усиление полицейского надзора, или, выражаясь словами все того же Герцена, игру голубой кошки с мышью, студенческие кружки рождались, в них произрастали семена свободомыслия и вольнодумства.
Современник Станкевича, впоследствии известный историк, юрист и публицист К. Д. Кавелин, писал: «Образованные кружки представляли у нас тогда, посреди русского народа, оазисы, в которых сосредоточивались лучшие умственные и культурные силы, искусственные центры, со своей особой атмосферой, в которой вырабатывались изящные, глубоко просвещенные и нравственные личности».
Подобную оценку находим у дореволюционного исследователя литературы первой половины XIX века С. А. Венгерова: «Время его (Станкевича. —
Н. К.) студенчества (1831–1834) совпадает с переворотом во внутренней жизни Московского университета, когда с профессорской кафедры вместо монотонного чтения старых тетрадок послышалось живое слово, стремившееся удовлетворить нарождающимся потребностям жизни. Большая перемена происходила и в московском студенчестве: студент из бурша превращался в молодого человека, поглощенного высшими стремлениями. Прежние патриархальные нравы, когда московские студенты более всего занимались пьянством, буйством, задиранием прохожих, отходят в область преданий. Начинается образование среди московских студентов тесно сплоченных кружков, желающих выяснить себе вопросы нравственные, философские, политические».
Именно такой, тесно сплоченный кружок, состоящий исключительно из единомышленников, жаждущих достать истину хоть со дна морского, вскоре создает Станкевич.
Глава седьмая
ГЛАВА КРУЖКА
Дом профессора Павлова на Большой Дмитровке, где, как сказано, обосновался Станкевич на время своей учебы в университете, стал основным пристанищем встреч членов его кружка.
Благо условия «ученого заведения профессора Павлова» это позволяли делать. Помимо основного корпуса и флигеля вдоль улицы, владение включало еще восемь строений, которые рассекали его на три почти изолированных двора. Этот большой дом и духом был пропитан особенным. Прежде владение принадлежало генералу Н. Н. Муравьеву. Здесь у Муравьева неоднократно останавливался поэт К. Н. Батюшков. Тут же помещалось основанное Муравьевым училище для колонновожатых (офицеров Генерального штаба. —
Н. К.). В 1813–1831 годах в доме находился Английский клуб, который регулярно посещали Грибоедов, Пушкин, другие известные люди той поры.
Так что место, где собирал обычно по субботним и воскресным дням Станкевич своих другое, самым благоприятным образом располагало к литературным и философским беседам. Кружок сложился как-то незаметно. В обычных дружеских разговорах выяснилась общность интересов, нашлись вопросы, которые одинаково всех волновали.
Впрочем, представим это «сходбище», как его называл сам Станкевич, глазами его непосредственного участника — Константина Аксакова:
«В 1832 году лучшие студенты собирались у Станкевича. Это были все молодые люди, еще в первой поре своей юности. Некоторые из них даже не имели права называть себя юношами. Товарищество, общие интересы, взаимное влечение связывали между собой человек десять студентов. Если бы кто-нибудь заглянул вечером в низенькие комнаты, наполненные табачным дымом, то бы увидел живую, разнообразную картину: в дыму гремели фортепианы, слышалось пение, раздавались громкие голоса; юные, бодрые лица виднелись со всех сторон; за фортепианами сидел молодой человек прекрасной наружности; темные, почти черные волосы опускались по вискам его, прекрасные, живые, умные глаза одушевляли его физиономию…»
А вот еще важный штрих: «Вы представьте, сошлись человек пять, шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии — говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!.. Покорский сидит, поджав ноги, подпирает бледную щеку рукой, а глаза его так и светятся. Рудин стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, ни дать ни взять молодой Демосфен перед шумящим морем; взъерошенный поэт Субботин издает по временам и как бы во сне отрывистые восклицания; сорокалетний бурш, сын немецкого пастора, Шелер, прослывший между нами за глубочайшего мыслителя по милости своего вечного, ничем ненарушимого молчанья, как-то особенно торжественно безмолвствует; сам веселый Щитов, Аристофан наших сходок, утихает и только ухмыляется; два-три новичка слушают с восторженным наслаждением… Аночьлетит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе… Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они ближе стали и понятнее… Эх! Славное время было тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром! Да оно и не пропало, — не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом… Сколько раз мне случалось встретить таких людей, прежних товарищей! Кажется, совсем зверем стал человек, а стоит только произнести при нем имя Покорского — и все остатки благородства в нем зашевелятся, точно ты в грязной и темной комнате раскупорил забытую стклянку с духами…»
Это говорит Лежнев — герой романа Ивана Тургенева «Рудин», рассказывая о своей юности, годах учебы в Московском университете.
Безусловно, Лежнев — вымышленное лицо романа, но именно его словами выражен дух философского кружка, главой которого в романе показан Покорский. Сам Тургенев называл прототипом Покорского Станкевича. Он вспоминал: «Когда я изображал Покорского (в «Рудине»), образ Станкевича носился передо мной…»
Действительно, многие черты свойственны и тому и другому. Как и Станкевич, Покорский — человек необыкновенный. Он и чрезвычайно умен, и очень добр. И Станкевича и Покорского все любили, они привлекали к себе сердца людей. Приветливость и добродушие отличали и того и другого.
О Станкевиче Тургенев рассказывал: «В нем была наивность, почти детская — еще более трогательная и удивительная при его уме». И почти то же самое он пишет о Покорском: «Поэзия и правда — вот что влекло всех к нему. При уме ясном, обширном он был мил и забавен, как ребенок». По своей натуре оба были очень веселыми людьми.
Эти два приведенных эпизода из воспоминаний Аксакова и романа Тургенева важны прежде всего тем, что в них весьма точно изображены портреты главы самого кружка и его активных участников. В частности, в образе Рудина легко угадываются черты Михаила Бакунина, в поэте Субботине виден облик Василия Красова, в Шеллере узнаваем Николай Кетчер, а в Щитове — Иван Клюшников.
Само рождение кружка относится к периоду зимы 1831/32 года. Как свидетельствуют документы, у его истоков стояли три студента — Януарий Неверов, Иван Оболенский и Иван Клюшников. Эта группа назвала себя «Дружеское общество». Студенты собирались всего несколько раз «для совокупных трудов на поприще образованности». Но вскоре был арестован Иван Оболенский. В это время, считают исследователи, возникла мысль перенести занятия кружка на квартиру Станкевича, который и стал его руководителем.
Первыми, кого принял под свое крыло Станкевич, были, конечно, уже упомянутые члены «Дружеского общества» Неверов и Клюшников, другие его близкие друзья и товарищи по университетской скамье. Кто старше курсом, кто младше. Часть этих имен известна из предыдущих глав, но есть и новые фамилии. Поэтому есть смысл перечислить всех.
На начальном этапе ядро кружка составили Януарий Неверов, Иван Клюшников, Алексей Беер, Василий Красов, Сергей Строев, Яков Почека. К концу 1833 года состав кружка претерпел некоторые изменения. Выбыл из его рядов в связи с переездом в Петербург ближайший друг Станкевича Януарий Неверов. Но зато «полку прибыло». Кружок пополнился значительными силами молодых людей. В их числе — Виссарион Белинский, Алексей Кольцов, Константин Аксаков, Дмитрий Топорнин, Осип Бодянский, Александр Ефремов, Павел Петров, Александр Келлер. Чуть позже, в 1835 году, в кружок влились Василий Боткин, Михаил Бакунин, Каэтан Коссович, Николай Ровинский, Михаил Катков, Николай Кетчер…
Некоторые исследователи полагают, что первоначально в состав кружка также входил Михаил Лермонтов. В частности, такие сведения содержатся в «Истории русской философии» Н. О. Лосского, ряде словарей и энциклопедий. Однако в воспоминаниях непосредственных участников сходбищ у Станкевича имя Лермонтова не упоминается.
Спустя несколько десятилетий об этих именах очень глубоко и точно скажет в «Очерках гоголевского периода» Н. Г. Чернышевский: «Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим и душою которого был Н. В. Станкевич… вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой словесности, от Кольцова до г. Тургенева…»
Весьма точную характеристику той знаменательной эпохе дал в 1914 году в статье «Поэтическая исповедь русского интеллигента 30—40-х годов» известный русский литературовед Н. Л. Бродский: «Никогда русская интеллигенция не пыталась так страстно, «волнуясь и спеша», разрешить основные вопросы бытия, никогда в нашем обществе поиски цельного, всеобъемлющего мировоззрения не были столь напряженными, как в знаменательные 30—40-е годы. В кружках и в одиночку, в студенческой комнате и в салоне ставились великие проблемы личности и общества, тревожно думали о смысле жизни, назначении мира, связи личности с мирозданием, об основах общественной жизни, о национальных ценностях, об отношениях России к Европе, о путях будущего развития своей страны. И ответы на эти вопросы искали всюду — в различных системах немецкой идеалистической философии, во французском утопическом социализме, в идейных исканиях погибших 14 декабря, в изучении прошлых судеб России, в наблюдениях над современной действительностью. Охваченная горячим дыханием идеалистических порывов, молодая Россия жадно стремилась к личному совершенствованию, с исключительным разметом бросила свои духовные силы на разработку своего я, беспримерно много потратила умственной энергии для достижения совершенного, ясного представления о том, что ее волновало, что властно требовало разрешения. Подобно взволнованному морю, долго не могущему улечься в стройно-тихие ряды волн, мысль русской интеллигенции беспокойно бродила… Но личность требовала самоопределения, и роды ее были мучительными, исполненными глубокого страдания. Дерзновенные взлеты часто терпели крушение, идеалистические устремления подтачивались острым жалом во всем сомневающейся мысли, но та же мысль, раздавив многих, лишив их душевной целостности, навсегда оставив на перепутье между разрушенной традицией и мерцающим о недоступной дали точным мировоззрением, иным дала верное противоядие против бесплодного скепсиса, утвердила в предчувствиях, оформила искания, дала твердый фундамент философско-этическим и социальным запросам».
Разумеется, жизнь кружка в его начальной стадии не была такой, какой она, скажем, станет спустя несколько лет. Много еще неопределенности бродило тогда в уме как самого Станкевича, так и в умах его друзей. Свои занятия они не ограничивали какой-либо наукой, отраслью знаний. Их интересовало буквально все: история, философия, география, литература…
Но именно это было основой для последующей интенсивной работы кружка, когда в нем в горячих всенощных спорах будут искаться и находиться ответы на животрепещущие вопросы тогдашней действительности.
Сам глава кружка был горячей, увлекающейся натурой. Подобно средневековым алхимикам, которые искали философский камень — чудодейственное средство для получения золота, возвращения молодости и излечения болезней, Станкевич упорно отыскивал в философских системах истину. Для него мысль была высшей поэзией и работой. Он всегда был убежден: занятия философией — обязательная и необходимая ступень к любому другому роду духовной деятельности.
«Я хочу знать, — говорил он, — до какой степени человек развил свое разумение, потом, узнав это, хочу указать людям их достоинства и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки одушевить единою мыслию».
Существенную роль в развитии мировоззрения Станкевича оказала философия Фридриха Вильгельма Шеллинга. Ничего удивительного в этом нет. В начале 1830-х годов шеллингианством переболели многие выдающиеся умы России. Учение объективного идеализма Шеллинга талантливо пропагандировалось профессором М. Г. Павловым, у которого в то время жил Станкевич. Еще один наставник Станкевича — Н. И. Надеждин также был ревностным последователем этой философской системы. Идеи Шеллинга гуляли по университетским аудиториям, о них писал журнал «Атеней». Словом, все тогдашнее окружение Станкевича дышало поэтическим воздухом шеллингианства.
Стремление Станкевича и членов его кружка овладеть идеями немецкой философии объясняется в конечном счете тем, что они, отталкиваясь от ее принципов, пытались формировать цельное мировоззрение. Правильное воспитание и просвещение должны, по их мнению, содействовать развитию общества и противостоять невежеству, злу и насилию, которые царят в нем. Человек обязан готовить себя к тому, что в будущем ему предстоит самостоятельно решать все жизненные вопросы. Главный из них — вопрос о путях освобождения и развития личности.
Известно, что идеализм связан с религиозным миросозерцанием. Для Станкевича, вторично перечитавшего Шеллинга, религия — это прежде всего радостное утверждение мира. В ней одной все диссонансы разрешаются в гармонию, через нее душа примиряется с Божеством, благодаря ей жизнь снова одевается в радужные одежды, становится прекрасною и высокою. Мир есть стройное целое, одушевленное разумом, и человек — частица этого гармоничного целого; ощущать эту разумную стройность мирового порядка и свою принадлежность к ней — неискоренимая потребность человеческого духа, и это достигается через религию, ибо она одна в состоянии перешагнуть бездну, которая всегда остается между бесконечностью и человеком и которой не может наполнить никакое знание, никакая система.
Станкевич часто любил повторять: «Всеведущее добро господствует над миром». Это философское изречение было и убеждением юноши. Он считал, и это исповедовалось в его кружке, что человек должен или делать добро, или приготовлять себя к деланию добра. Делать добро — это значит всеми силами способствовать восстановлению в человечестве того идеального образа, который ныне затемнен; и это священнейший долг человека. Но исполнять этот долг может лишь тот, кто сам чист, а средства исполнения указует наука; поэтому ближайшая обязанность человека — совершенствовать самого себя в нравственном, а затем и в умственном отношении. Очистить свою душу и образовать свой ум, потом заключить с единомышленниками союз дружбы и чести и общими силами трудиться на пользу Отечества, указывая ближним истинный путь, давая им понятие о чести, о религии, о науках.
Между тем, приняв положения идеализма Шеллинга, Станкевич отверг его мистицизм, критически отнесся к хаосу метафизических взглядов. В неоконченных философских заметках, озаглавленных «Моя метафизика», он возражал тем, кто представлял «силу творящую» отдельно от природы: «Не знаю, как можно представить природу трупом, в который входит нечто чуждое и одушевляет его; не знаю, почему не сказать — природа есть Сила, Жизнь, Творчество».
Путь познания был для Станкевича тернистой дорогой сомнений, поисков и открытий. Он искал ответы на различные философские вопросы у Спинозы, Бутервека, Канта, Фихте, Гегеля, Рейнгольдта, Круга… «Система сменялась системою», — писал он.
Однако, восхищаясь глубиной мыслей немецких ученых, молодой философ никогда не считал их идолами. К примеру, высоко ценя Канта и особенно Гегеля, Станкевич не относил их системы к абсолютно истинным, а видел в них лишь одну из ступеней познания.
В одном из писем Неверову он признается: «Философию я не считаю моим призванием; она, может быть, ступень, через которую я перейду к другим занятиям, но прежде всего я должен удовлетворить этой потребности. И не столько манит меня решение вопросов, которые более или менее решает вера, сколько сам метод как выражение последних успехов ума. Я еще более хочу убедиться в достоинстве человека и, признаюсь, хотел бы убедить потом других и пробудить в них высшие интересы».
Эти мысли прослеживаются и в других письмах, где Станкевич говорит о том, что философия окончательно не может «…решить все наши важнейшие вопросы, но она приближает к их решению, она зиждет огромное здание, она показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расширяет его ум… Философия не должна быть исключительным занятием, но основным». И далее: философия заставит его «с большим жаром изучать историю и искусство», и все это вместе подготовит его к гражданской деятельности.
Какое место для себя в обществе он готовил? В чем он видел свое предназначение? Впрочем, эти вопросы задавал себе не только Станкевич, но и члены его кружка, товарищи из стана Герцена.
Станкевич не был бойцом, как, скажем, его друг Белинский, он же — «Неистовый Виссарион». Кстати, это прозвище на манер известной исторической поэмы «Неистовый Роланд» дал Белинскому именно Станкевич. Бунтарь Белинский абсолютно не исключал применения террора в целях скорейшего решения политических и социальных проблем. «Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья…» — грезил он. Равенство, по мнению Белинского, может быть достигнуто только после уничтожения господства буржуазии, которую он называет «сифилитической раной» на теле общества. Неспроста за Белинским пристально приглядывала тогдашняя власть. Много позже комендант Петропавловской крепости генерал Иван Скобелев, встречаясь с критиком на Невском проспекте в Петербурге, говорил тому с усмешкой: «Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу».
Он не был сторонником взглядов еще одного своего друга — Михаила Бакунина, который призывал к немедленному социальному перевороту и требовал «не учить народ», а «бунтовать его». Бакунин говорил, что всем истинно свободным людям государственная власть не нужна, так как эти люди и без того заинтересованы в том, чтобы помогать друг другу. В этом человек видит смысл развития собственной личности (теория гуманного эгоизма). Все общество в целом должно составлять свободный союз свободных общин. Кроме того, будущий отец русского, а затем и вдохновитель международного анархизма, ни много ни мало проповедовал идею «немедленного разрушения государства», в результате чего будет открыт вход «в анархистско-коммунистически-атеистический рай».
Станкевич не собирался бороться против «России подлой», подготовлять «Русь к топору» и совершать «народную революцию», как это впоследствии стал делать его однокурсник Александр Герцен, он же «поджигатель», «генерал от революции», «непримиримый враг самодержавной власти». Находясь в туманном Лондоне, Герцен звоном своего «Колокола» пытался разбудить к действиям всю грамотную Россию. И не только Россию. Поэтому издаваемый Вольной русской типографией его «Колокол» был запрещен в Германии, Италии, Франции… В России — тоже.
Не разделял наш герой и убеждений декабристов. А затеи отчаянных голов, подобные упоминавшимся в нашем повествовании намерениям братьев Критских и членов кружка Сунгурова совершить государственный переворот, свергнуть законную власть, также ему казались бессмысленными. В то же время, не разделяя политических взглядов многих из своих современников, Станкевич не только искренне и глубоко сочувствовал им, но даже помогал им словом и делом, о чем уже выше рассказывалось.
Станкевич, если судить по его обширной переписке, воспоминаниям знавших его людей, придерживался совершенно иных взглядов, за что и получил в советскую эпоху клеймо «дворянский просветитель». В «Кратком философском словаре», изданном в 1952 году, читаем: «Русский философ-идеалист, игравший видную роль в московском философском кружке 30-х годов, так называемом «кружке Станкевича». По своим общественно-политическим воззрениям Станкевич являлся дворянским просветителем… рассчитывал на мирное, постепенное уничтожение крепостничества».
Безусловно, у нашего героя были иные цели и задачи по переустройству общества. В этом, кстати, Станкевич и большинство его товарищей по кружку расходились в мировоззрениях с кружком Герцена.
С одной стороны, Герцен патетически восклицал: «Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седели волосы, а стремления — вечно юны. Где? Укажите, — я бросаю смело перчатку, исключая только на время одну страну, Италию, и отмерю шаги поля битвы, т. е. не выпущу противника из статистики в историю».
С другой стороны, он, в частности, писал: «…Между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами».
Отличалась друг от друга и атмосфера самих собраний. «Запорожская сечь» Герцена и Огарева не чуралась пирушек с вином. Кружок же Станкевича собирался обычно за чаем с сухарями, и комната освещалась не призрачным огнем жженки, а желтоватыми отблесками сальных свечей. Но песни пели и те и другие. Однако репертуар был разный. Содружество Герцена распевало «Марсельезу». Братия Станкевича предпочтение отдавала русским песням, например, пела «За туманною горою» из трагедии Алексея Хомякова «Ермак» — песня сподвижников Ермака о набегах, пирах и хмельном застолье. Музицировал на рояле обычно Станкевич. Он же, как правило, разряжал обстановку, когда горячие споры другов начинали выплескиваться из берегов.
— Господа, — вмешивался он в кипение дискуссии, — а не пора ли нам грянуть «За туманною горою»?
Споры затихали. В этом смысле авторитет Станкевича был непререкаемый. И вслед за ним все дружно подхватывали слова песни, которая стала чем-то вроде гимна не только кружка, но и всего словесного отделения:
За туманною горою
Скрыты десять кораблей;
Там вечернею порою
Будет слышен стук мечей.
Злато там, драгие ткани,
Там заморское вино.
Сладко, братцы, после брани
Будет пениться оно.
Татьяна Пассек, жена Вадима Пассека, члена кружка Герцена, видимо, со слов мужа подтверждает эти слова: «Кружки эти (Станкевича, Герцена, Сунгурова. —
Н. К.) были юны, страстны и потому исключительны. Они холодно уважали друг друга, но сближаться не могли».
Действительно, Герцену, Огареву и их единомышленникам виделось светлое будущее России и ее граждан через бунт и революционные потрясения. Но разве это единственный маршрут к цивилизованному обществу? — задавались вопросом Станкевич и его друзья во время своих долгих ночных бесед и споров.
Кружок Станкевича не меньше, чем кружок Герцена и Огарева, волновали проблемы тогдашнего общества. В нем ревностно защищалась идея свободы человеческой личности. Условия крепостнической России, темные стороны ее общественного бытия давали обильный материал для размышлений. Сам Станкевич мучительно переживал дисгармонию мира, трагические противоречия между человеком и действительностью. Он не скрывал своего возмущения всеобщим падением нравов, повсеместно наблюдаемым им великосветским хамством и торжеством фарисейской морали. «Если хочешь быть принятым с почестью, — пишет Станкевич Неверову, — вооружись медным лбом, отращивай пузо, заводись хозяйством и веди стороною дело о скуке жизни холостой».
Деликатный и мягкий по натуре, Станкевич считал, что искоренить несправедливость, создать идеальное общество можно несколькими путями. Одним из направлений общественного развития России он считал
просвещение. По его убеждению, честный человек должен желать распространения знаний. Они только приведут к избавлению народа от крепостной зависимости.
Многим людям, делится он своими идеями с Михаилом Бакуниным, подобный вывод может показаться нереальным, слишком «мечтательным, поскольку до сих пор не было таких прецедентов в истории»; однако, далее подчеркивает Станкевич, история никогда не стоит на месте, «в каждом веке бывает то, чего никогда не бывало, и я уверен, что будет то, о чем никто и не думает».
Сегодня в современной России политики, ученые, общественные институты упорно ищут национальную идею. Кипят жаркие дискуссии: идти по западному пути, развивать и углублять демократию, или, может быть, возвратиться на круги своя, чуть ли не к допетровской Руси. В этих спорах ищется для России и какой-то особый, третий путь, по которому еще никто не ходил в мире. Подобные споры были и во времена Станкевича. В горячих схватках участвовали любомудры, западники, славянофилы… И все хотели как лучше, а получалось, как всегда.
Станкевич, как уже было сказано, одним из путей общественного развития России считал
просвещение. Кроме того, говорил он, в обществе должны быть незыблемыми такие устои, как
религия и любовь к Отечеству, ибо они составляют их существо.
О религии Станкевич как-то написал: «Я… понимаю религию. Без нее нет человека». Еще высказывание: «Моя религия тверда… она во мне чиста, чужда суеверия и непоколебима. В наше время всякий человек с порядочным образованием и с душою признает ее за основание жизни. — Любовь к Отечеству также тверда во мне, потому что я люблю в
нем хорошее, не считаю нужным восхищаться соложеным тестом и терпеливо смотрю на недостатки, которые должны изгладиться временем и образованием… Я уважаю человеческую свободу, но знаю хорошо, в чем она состоит, и знаю, что первое условие для свободы есть законная власть».
Авторитет Станкевича признавали все — и друзья, и идейные противники. Мнение Константина Аксакова — тому подтверждение: «Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии, и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто свободною любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы».
Станкевич был идеалистом. Это было признано еще при его жизни. В то же время, несмотря на абстрактно-гуманистические взгляды Станкевича, никто из современников, как, впрочем, и последующие поколения философов, литераторов, общественных деятелей, никогда не считал его деятельность на ниве философии безрезультатной. Ведь именно благодаря Станкевичу, работе его кружка, сформировались общие, философские позиции мировоззрения людей 1830-х годов, были заложены основы новой эстетики.
Он был первым. Поэт Аполлон Григорьев писал о 30-х годах, о Станкевиче и его кружке именно в этом аспекте, в аспекте далеко идущих последствий их философских интересов и увлечений: «…В сознании его, то есть в нашем общем критическом сознании, совершился действительный, несомненный переворот в эту эпоху. Новые силы, новые веяния могущественно влекли жизнь вперед: эти силы были гегелизм, с одной стороны, и поэзия действительности, с другой. Небольшой кружок немногим тогда, не всем еще и теперь известного, но по влиянию могущественного деятеля — Станкевича… разливал на все молодое поколение… свет нового учения. Это учение уже тем одним было замечательно и могуче, что манило и дразнило обещаниями осмыслить мир и жизнь…»
Для всякого проницательного ума в ту эпоху диалектика Гегеля становилась ключом, открывавшим самые сокровенные тайны бытия и духа, а в опытных руках превратилась в неотразимое оружие, способное разрушить любую твердыню. Недаром Герцен назвал диалектику «алгеброй революции». Откроем «Былое и думы», послушаем самого автора. Его рассказ о гегельянском периоде развития отечественной мысли давно стал хрестоматийным и вошел (полностью или в изложении) во многие учебные пособия:
«Станкевич… был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский…Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был «победный венок», выступавший на бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь…
Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее по себе бытии»…
Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте»… Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Йене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город».
Действительно, философия Гегеля была в России не менее популярной, чем в Германии. Афанасий Фет, учившийся в то время в Московском университете вместе с другим будущим поэтом — Аполлоном Григорьевым и квартировавший в его доме на Полянке, в своих воспоминаниях рассказывает, что имя Гегеля было на устах у всех студентов и профессоров, и даже у простолюдинов, коим образованные господа постоянными разговорами о своем кумире буквально заморочили головы. Однажды слуга, сопровождавший друзей в театр, так задумался, что после спектакля, подзывая экипаж своего хозяина, вместо «Коляску Григорьева!» выкрикнул: «Коляску Гегеля!»
Один из современников не без ехидства свидетельствовал: увлечение это доходило до того, что у русских гегельянцев отношение к жизни, к действительности сделалось совершенно школьное и книжное. Скажем, человек, который шел гулять в Сокольники, не просто гулял, а отдавался пантеистическому чувству единства с космосом, и если ему попадался по дороге солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народности в ее непосредственном и случайном проявлении. Слеза, навертывавшаяся на глаза, также относилась к своей категории — к трагическому в сердце.
В 1833 году жизнь кружка Станкевича стала еще более насыщенной. Кипели жаркие дружеские споры, обдумывались и обсуждались философские проблемы. Не менее основательно рассматривались вопросы, связанные с состоянием современной русской поэзии, прозы, журналистики, с представлением роли художника в общественной жизни. Гомер и Шекспир, Шиллер и Гёте, Пушкин и Гоголь — вот далеко не полный список властителей дум и воспитателей истинного вкуса кружка Станкевича.
В том же 1833 году Станкевич приступает к написанию своего философского трактата «Моя метафизика». Опираясь на положения диалектико-идеалистической философии Шеллинга и других мыслителей эпохи, Станкевич вскоре создает во многом уникальный и глубокий философский труд. В нем автор поставил почти все основные вопросы и проблемы, которые тогда волновали просвещенных людей.
Трактат написан в эпистолярном жанре. В первом письме Станкевич ставил себе целью уяснить, что такое природа, «определить по возможности отношения человека к природе». Во втором — выяснить, «каково может и каково должно быть его (человека. —
Н. К.) воздействие (обратное действие) на природу, на всеобщую жизнь», а в связи с этим — в чем сущность, место и назначение человека в этом мире, в чем заключается его идеал, каковы наиболее общие пути совершенствования его и мира.
В «Моей метафизике» следует выделить наиболее ключевые точки. В частности, первоосновой бытия Станкевич считает природу, развивающуюся по законам, глубоко диалектичным по своей сути. «Жизнь природы есть непрерывное творчество, и хотя всё в ней рождающееся умирает, ничто не гибнет в ней, не уничтожается: ибо смерть есть рождение», иначе говоря, «перехождение из одного состояния в другое». Пребывая в целом на идеалистических позициях, Станкевич ни разу не употребил здесь слово «Бог», предпочитая такие понятия, как «Разум» и особенно «Разумение».
«Разумение, — пишет он, — есть законы, составляющие сущность жизни, самую жизнь». Бог для него — это сущность и законы самой природы, извечно в ней существующие, от нее неотъемлемые и ниоткуда извне в нее не привносимые. Прямо не отрицая Бога, Станкевич обходится без представления о нем как об особом существе, целиком растворяя его в природе. «Не знаю, — размышляет он, — почему говорят многие: в природе есть сила творящая; не знаю, как можно представить природу трупом, в который входит нечто чуждое и одушевляет его…»
Таким образом, из известных ему идеалистических учений Станкевич взял два наиболее ценных момента — диалектику и пантеизм, сливающий Бога с природой. Свой трактат Станкевич не закончил, сказав: «Буду писать дальше». Видимо, почувствовал, что имеющихся знаний ему явно мало, поэтому он намеревался изучить другие философские первоисточники. Что вскоре и сделал, обратившись к Гегелю.
Но не только вопросы философии и литературы глубоко занимали Станкевича и его друзей. Увлечение немецкой идеалистической философией и немецкой романтической литературой отразилось на их интересе к немецкой музыке. В частности, в кружке любили произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена, а немного позже в нем стал популярен и Шуберт. «В то же время, как воцарился в искусстве романтизм, — вспоминал Боткин, — всякий старался настроить себя на возвышенный тон, и чем в сфере философии были имена Шеллинга и Гегеля, тем же в сфере музыки стали имена Моцарта и Бетховена».
И опять главным идеологом здесь являлся Станкевич, с детства отличавшийся страстной любовью к музыке. Он хорошо играл на фортепиано. «Слух у него был прекрасный, и музыкой он занимался охотно, — вспоминала его сестра Александра. — Не знаю, кто давал ему первые уроки музыки, но он учился и в Москве, когда жил уже там. Его любимой пьесой была увертюра из оперы Моцарта «Дон Жуан», и соната Бетховена «Pathetigue». Игра его была выразительна и сильна».
В то время уроки ему давал известный пианист и композитор Ф. Гебель. По словам Пыпина, биографа Белинского, «музыка составляла для Станкевича необходимое дополнение поэтических изучений. Любимая музыка, как и любимая литература, была немецкая, прежде всего Бетховен, затем Шуберт».
Впрочем, музыкальными способностями обладали и другие члены кружка. К примеру, Бакунин прекрасно играл на скрипке. Боткин устраивал в своем доме квартетные вечера, в которых участвовал «собственною персоною, со скрипкой под подбородком». Неслучайно поэтому музыкальные и литературные образы становятся источником построения философских концепций, в которых художественное явление получает философско-эстетическое обоснование.
С особым почитанием в кружке относились к Э. Т. А. Гофману. От него и других романтиков кружковцами было унаследовано умение облекать свои философские построения в звуковые музыкальные образы, а также особое отношение к музыке, как искусству, «возвышающему человека над миром обыденных чувствований и ощущений и увеличивающему его стремление к бесконечному и универсальному». Образы музыкального философствования можно встретить как в письмах Станкевича, так и в письмах его друзей. Вот что писал Бакунин: «Музыка одна имеет место в нынешнем мире именно потому, что не претендует на высказывание чего-либо определенного и выражает только общее настроение, великое тоскующее стремление, коим преисполнено наше время».
И все же Станкевич был одним из первых, кто сразу же, вне впечатлений, вынесенных с концерта, вне моды, оценил психологическую тонкость и глубину шубертовских песен. В 1835 году он познакомился с балладой «Лесной царь» и был потрясен: «Иначе, кажется, нельзя было выразить это фантастическое, прекрасное чувство, которое охватывает душу, как сам Лесной царь младенца, при чтении этой баллады. Уже начало переносит тебя в этот темный таинственный мир, мчит тебя durch Nacht und Wind…»
А несколько позднее, в 1837 году, потрясенный шубертовским посмертным циклом «Лебединая песнь» («Schwa-nengesang»), он спешит познакомить с этим сочинением свою невесту Любовь Бакунину. В письме к ней 1 марта 1837 года Станкевич дает характеристику песен из этого собрания: «Мудрено решить — какая из них лучше, каждая в своем роде прекрасна. Музыкант, который учит моего брата, Лангер, выше всего ставит «Atlas» («Атлас»). В самом деле, это превосходная музыка, особенный характер и какая мысль пьесы… Впрочем, боюсь, как бы она не попала в категорию запрещенных, так же как и «Doppelganger» («Двойник»). Это — фантастическая, чудесная музыка!..Вам, я знаю, больше всего понравится «Аm Мееr» («У моря» — настоящая молитва. Первая мелодия так проста, и в ней столько души, — потом заметьте места: «fielen die Tranen nieder» и «mich hat das ungluckstige Weib» — они делают необыкновенный эффект. «Fischermadchen» («Рыбачка») и «Abschied» («Прощание») — чудо в своем роде…»
Станкевич регулярно отправлял своей невесте ноты с произведениями Шуберта. В семейном архиве Бакуниных и по сей день хранятся две песни Шуберта на слова Рельштаба — «Fruhlingssehnsucht» («Весеннее упование») и «Kriegens Ahnung» («Предчувствие воина»). Эти ноты были переписаны самим Станкевичем.
В кружковский период Станкевич выкраивал время и для занятия литературным трудом. Он, как и раньше, продолжает сочинять стихи. Именно тогда им были написаны стихотворения, содержание которых отражают его философские искания и настроения. Герой стихов Станкевича размышляет над проблемами мироздания, ищет выход из трагических противоречий бытия:
В борьбе напрасной сохнет грудь,
Влачится юность без отрады;
Скажи, судьба, куда мой путь?
Какой и где мне ждать награды?
Беспечный, дикий, полный сил,
Из урны я свой жребий вынул, —
И тяжкий путь благословил,
И весело людей покинул.
Я знал: не радость мой удел —
По ней душа не тосковала,
Высокой жаждой дух горел,
Надежды неба грудь питала…
На примере этого стихотворения видно, что «поэзия мысли» Станкевича становилась всё более зрелой философски и совершеннее художественно.
По оценке известного российского литературоведа Удодова, они могут быть по праву поставлены в один ряд с произведениями философской лирики Баратынского. В них все меньше обольщений и надежд, все больше трезвости ума и драматизма в его столкновениях с правдой сердца. Насыщенность антиномиями придает им своеобразную внутреннюю диалогичность. Диалогичными становятся и связи между отдельными стихотворениями, когда главная истина заключается не в одном из них, а возникает из их «спора», открытого в будущее.
Образец такого «диалога» правд и голосов дает сопоставление двух стихотворений 1833 года — «Слабость» и «Подвиг жизни». Уже в названиях стихотворений как бы присутствует их диалогическая обращенность друг к другу. «Беспечный, дикий, полный сил» вступает лирический герой первого из них в мир, но скоро убеждается, что беспечная радость жизни не его удел, его томит жажда истины. Но существует ли она? Есть ли смысл в ее поисках? Сомнения грозят здесь перейти в полное безверие:
Давно, давно я на пути;
Но тщетно цели ищут взгляды.
Судьба! Что мне твои награды?
Былую веру возврати!
В «Подвиге жизни» — иной голос, иная тональность. Пусть конечный результат исканий неизвестен, но, каков бы он ни был, важна верность себе, своей неукротимой жажде знаний, ибо только в ней и в любви — залог единения с «миром дольним» и «миром горним». А посему будь «себе всегда пред всеми верен, / Иди, люби и не страшись! / Пускай твой путь земной измерен — / С непогибающим дружись!». Нетленное, непогибающее начало жизни человека — его духовность, залог его прижизненного приобщения к жизни вечной и «повсюдной». Только в неустанных исканиях истины, в духовном развитии и совершенствовании человек не ниже себя, своего предназначения:
Тогда свершится подвиг трудный:
Перешагнешь предел земной —
И станешь жизнию повсюдной,
И все наполнится тобой.
Здесь вспоминается более позднее — тютчевское: «Всё во мне, и я во всём». А образ жизни «повсюдной», слияния с ней человека предсказывает призыв того же Тютчева:
И жизни божеско-всемирной,
Хотя на миг причастен будь!
Несмотря на трагическую конечность своего существования, человек для Станкевича по своим духовно-творческим возможностям — величайшее чудо, «земной бог», и он благословляет его на подвиг воплощения и развития этих потенций:
Пусть смертный ждет судьбы со страхом,
И чем бы ни был бог земной —
Повсюдной жизнью или прахом —
Благословение с тобой!
В человеке поэт видит малую вселенную, вмещающую в себя всё богатство и противоречивость большой вселенной. В одном из своих последних стихотворений, скорее всего 1834 года, он писал:
Вздымают ли бури глубокую душу,
Цветет ли улыбка на светлом лице —
Я вижу в тебе необъятность природы,
Я вижу незыблемый мир божества!
Ты образ вселенной…
Вообще философская мысль в поэзии Станкевича в своей основе глубоко гуманистична. Она имеет не только этическое, но и художественно-эстетическое значение. Еще в 1834 году Станкевич точно определил направление своих поисков: «Я ищу истины, но с нею и добра». Но предметом его исканий была вовсе не отвлеченная истина, а истина, говоря словами поэта, «любви, добра и красоты».
Глава восьмая
СРЕДИ ПЛЕЯДЫ ЗОЛОТЫХ ИМЕН
Учеба Станкевича в университете и годы его жизни в Москве отмечены многочисленными встречами с писателями, художниками, актерами, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю русской литературы и культуры.
Время донесло до нас достаточно много суждений, оценок Станкевича об этих людях, а также об искусстве и литературе. Они, без всякого преувеличения, актуальны и по сей день, поскольку являются своеобразным ключом к пониманию творчества поэтов, писателей, художников, актеров первой половины XIX века.
Один из них — Николай Васильевич Гоголь. Никого из писателей так не любил Станкевич, как Гоголя. Он очень верно и тонко ценил художественность его творчества, называя Гоголя «лучшим романистом», а произведения писателя «истинной поэзией действительной жизни». Прочитав повесть «Старосветские помещики», Станкевич с восторгом написал: «Это прелесть! Как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни…»
Пожалуй, ни в одном московском салоне или кружке не читали так Гоголя, как в кругу Станкевича. А читали его запоем. Всем без исключения нравился его совершенно новый язык, подкупающий своей простотой, силой, меткостью и поразительной точностью. Настоящий же восторг у членов кружка вызывал тонкий гоголевский юмор.
Константин Аксаков вспоминал: «…Станкевич достал как-то в рукописи «Коляску» Гоголя, вскоре потом напечатанную в «Современнике». У Станкевича был я и Белинский; мы приготовились слушать, заранее уже полны удовольствия. Станкевич прочел первые строки: «Городок Б. очень повеселел с тех пор, как начал в нем стоять кавалерийский полк…» — и вдруг нами овладел смех, смех несказанный; все мы трое смеялись, и долго смех не унимался. Мы смеялись не от чего-нибудь забавного или смешного, но от того внутреннего веселия и радостного чувства, которым преисполнились мы, держа в руках и готовясь читать Гоголя. Наконец смех наш прекратился, и мы прочли с величайшим удовольствием этот маленький рассказ, в котором, как и в других созданиях Гоголя, и полнота, и совершенство искусства. Станкевич читал очень хорошо».
Тургенев также свидетельствует о том, что Гоголь для Станкевича был любимым писателем, и приводит в своих воспоминаниях («Записка о Н. В. Станкевиче». —
Н. К.) такой эпизод: «…Никогда не забуду, как он однажды смеялся, прочтя в «Тарасе Бульбе», что жид, снявши свою верхнюю одежду, стал вдруг похож на цыпленка».
«Брат Н. Вл. очень ценил Гоголя, — пишет его сестра Александра. — «Ревизора» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» часто читал он вслух, и они веселили его, он много смеялся. Многое из Гоголя входило как бы в поговорки в нашей семье. Помню, что в массе публики еще были против Гоголя, считая неприличными многие из его выражений».
Такой же вывод делает в биографии о Станкевиче Анненков: «Станкевич и весь крут его поняли с первого раза смех, производимый созданиями Гоголя, весьма серьезно, почти так, как понимал его впоследствии сам автор».
В обширной «Переписке» Станкевича часто находим знаменитые гоголевские обороты, выражения, восклицания типа: «черт возьми», «черт вас знает»… Это, безусловно, свидетельствует об искренней любви нашего героя к творчеству великого русского писателя.
Приведем лишь несколько строк из его письма Неверову, ожидавшему в Берлине вместе с Грановским приезда Станкевича. В своей, часто используемой в посланиях друзьям юмористической манере он писал: «О нечестивцы! Дайте мне приехать в Берлин, я вас отпотчую! Ты уже трусишься, как городничий в «Ревизоре»! А Грановский готов на тебя ябедничать, как Земляника! Погодите, я вас приберу к рукам. Я приеду восстанавливать нравственность в Берлине…»
Станкевич и Гоголь родились и жили в одно время. И не только жили в одно время, но неоднократно встречались друг с другом.
С. Т. Аксаков рассказывал: «В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь; с веселым дружеским выражением лица, какого мы никогда у него не видели, протянул мне руку со словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин (Боткин. —
Н. К.), едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, кто это у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза, также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь! Гоголь!» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал».
Спустя некоторое время, а было это в мае 1835 года, состоялась еще одна встреча Станкевича с Гоголем. В тот день писатель решил прочитать у Аксаковых свою новую комедию «Женихи» — первый вариант будущей «Женитьбы». В назначенный час в хлебосольной семье Аксаковых собралось много гостей, в том числе Станкевич и Белинский, все ожидали автора. Гоголь должен был подойти к обеденному столу, но он опаздывал, что, кстати, нередко с ним случалось. Было уже пять часов, и хозяин Сергей Тимофеевич Аксаков велел подавать проголодавшимся гостям кушать. И тут появился Гоголь. «Но, увы, наши ожидания не сбылись, — вспоминал позже С. Т. Аксаков. — Гоголь сказал, что никак не может прочесть нам комедию, а потому и не принес с собой». Почему Николай Васильевич не стал читать комедию — так и осталось тайной. Но все же Станкевичу удалось снова повидаться с любимым писателем, пообщаться с ним, пусть даже и во время обеда.
Не исключено, Станкевич и в последующем виделся с писателем. Эти встречи могли вполне состояться в Брюсовом переулке у известного московского доктора, ординарного профессора Московской медико-хирургической академии Иустина Евдокимовича Дядьковского, пациентами которого были Щепкин, Гоголь, другие известные люди. Лечился у него и Станкевич, что, безусловно, наталкивает на мысль о их встречах.
Еще любопытный штрих. В одном из своих писем Станкевич, будучи почетным смотрителем Острогожского уездного училища, сообщал о своем намерении пригласить писателя в свои края для того, чтобы тот описал быт и нравы здешних учителей. Разумеется, в жанре комедии. Но задумка так и осталась на бумаге…
В последние годы жизни Станкевич, находясь за границей, с нетерпением ждал посылки с книгами, журналами из России. И всегда радовался, если ему присылали новые произведения Гоголя. После смерти Станкевича один из его друзей, Грановский, писал: «Иногда мне, право, слышится его голос. Чтение «Мертвых душ» Гоголя вызвало во мне странное сожаление об Станкевиче. Мне стало жаль его, что он не читал этой книги, она доставила бы ему столько наслаждения; он так любил Гоголя, так радовался всякому его сочинению».
Конечно, можно понять сожаление Грановского, что Станкевичу не пришлось прочитать «Мертвые души». Гоголевская поэма наверняка поставила бы перед Станкевичем массу вопросов, над которыми он много размышлял. И, в частности, о современной литературе, о современном искусстве, их роли в обществе. Но судьба распорядилась жизнью Станкевича по-своему.
После Гоголя вторым романистом в России Станкевич считал Ивана Лажечникова, автора популярных в то время исторических романов «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого», «Ледяной дом», а также «Походных записок русского офицера». С Лажечниковым Станкевич познакомился в 1834 году в Москве через Белинского, который знал того по Чембару. Дело в том, что с 1821 по 1823 год Лажечников занимал должность директора училищ Пензенской губернии. В 1823 году, проверяя Чем-барское училище, он заприметил там способного ученика Белинского, запомнил и в дальнейшем всячески его поддерживал.
В начале 30-х годов Лажечников перебрался поближе к Москве — был директором училищ Тверской губернии. А потом, выйдя в отставку, писатель поселился в имении Коноплино Старицкого уезда.
«Человек не молодой, за 40, седой еще с молода, приятной наружности, небольшого роста, тихий, добрый, умный, но какой-то нерешительный в мнениях, — так описывал его портрет Станкевич. — Последнее понятно: начав жить в 18 веке и упитанный его началами, он подался, однако, за молодежью, хоть совершенно сравняться
с нею ему было трудно. Но он все-таки приобрел лучшие достояния XIX века и должен любить его за то, что он венчает его седую голову. В его романах… умный, серьезный взгляд на вещи, чувство истинное и благородное, любовь к России и правде. Он затевает еще два романа: «Колдун на Сухаревой башне», в котором главное лицо Брюс, а другой из времен Иоанна III. Герой его — немецкий лекарь, казненный за то, что не вылечил татарского князя, героиня — русская девушка, которая любит этого немца по-своему; здесь же будет и Аристотель Болонский. Лица преинтересные, но наши летописи не дадут ему никакого понятия о их характере, а создавать он не мастер. Впрочем, он все-таки лучший романист после Гоголя…»
Станкевич нередко заезжал к писателю в его имение Коноплино. Лажечников в тот период работал над новым романом «Басурман» и драмой «Опричник». Обычно в гостях у Лажечникова Станкевич бывал вместе с Белинским. Писатель всегда радушно привечал своих молодых друзей, читал им отрывки из произведений, принимал или, наоборот, отвергал их замечания.
Как-то Станкевич через своего друга Неверова, который служил в Петербурге в Министерстве народного просвещения, помог добыть для Лажечникова архивные материалы о генерале Артемии Волынском, казненном во времена бироновщины за попытку совершить государственный переворот.
Но если любимым писателем у Станкевича являлся Гоголь, то любимым поэтом был, безусловно, Пушкин. Правда, изначально отношение не только Станкевича, но и его друзей к творчеству поэта было противоречивое. Что явилось причиной такого отношения? Вероятнее всего, здесь не обошлось без влияния на Станкевича и его однокашников университетских преподавателей, весьма критично настроенных против Пушкина. Одним из них являлся уже не раз упоминавшийся в повествовании профессор Каченовский. Он был яростным противником Пушкина и других новых писателей, за что имел репутацию литературного старовера. Но Каченовский в студенческой среде пользовался непререкаемым авторитетом, и поэтому к его слову о творчестве того или иного писателя прислушивались. Не исключено, что в тот период молодой Станкевич поддался влиянию своего преподавателя и в какой-то степени стал выразителем его неоднозначных оценок. Как, впрочем, и другие.
В письме Неверову Станкевич, в частности, написал, что прочитал в первом номере журнала «Библиотека для чтения» «безжизненное стихотворение Пушкина и чуть живое Жуковского». В другом письме, анализируя сказку «Конек-Горбунок» Павла Ершова, Станкевич выразился куда более резко: «…Что это? что звучного в этих стихах… вялых и натянутых? что путного в этом немощном подражании народным поговоркам, которые уродуются, искажаются стиха ради и какого стиха! Пушкин изобрел этот ложный род, когда начал угасать поэтический огонь в душе его. Но первая его сказка в этом роде еще имеет нечто поэтическое, другие же, в которых он стал просто рассказывать, не предаваясь никакому чувству, дрянь просто…»
В таком же духе об угасании таланта Пушкина писал и друг Станкевича Белинский в знаменитых «Литературных мечтаниях»: «Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска, где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии, вместо злой и тоскливой».
А в другой публикации Белинский умудрился даже «похоронить» «солнце русской поэзии»: «Пушкин царствовал десять лет. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время…»
Кстати, не в восторге от поэзии Пушкина был и их преподаватель Надеждин. Достаточно только вспомнить его нападки на «Евгения Онегина» (для гения мало создать Евгения, язвил Надеждин), на «Графа Нулина» (это просто «нуль» и больше ничего), на «Домик в Коломне» (он «несравненно ниже Нулина: это отрицательное число с минусом!»).
Однако пройдет некоторое время, и Станкевич, и Белинский, и Надеждин изменят свое отношение к поэту, откроют высокое содержание его прекрасных произведений. Например, Станкевич, разбирая творчество стремительно взлетевшего на литературный олимп поэта Бенедиктова, написал: «Он не поэт, или, пока, заглушает в себе поэзию. Из всех его стихотворений мне нравятся два: «Полярная звезда» и «Два видения». Во всех других одни блестки, мишура. Увлекая тремя, четырьмя счастливыми стихами, он вдруг холодит тебя каким-нибудь вычурным словом, которое он считает за прелесть! Что ни стих, то фигура; ходули беспрестанные. Чувство выражается просто: ни в одном стихотворении Пушкина нет вычурного слова, необыкновенного размера, а он — поэт. Бенедиктов блестит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми стихами».
В обширной переписке Станкевича можно найти еще немало теплых слов о Пушкине и о его творчестве. Он часто цитирует поэта, а это свидетельство того, что Станкевич знал наизусть многие его стихотворения. В ряде писем наш герой приводит строки из поэмы «Граф Нулин», стихотворения «Второе ноября» и других произведений. Уехав впоследствии в Германию, Станкевич пишет оттуда Неверову, благодарит его за присланные стихи Пушкина и сообщает другу, что переведет для немецкого профессора Вердера «Зимнюю дорогу» прозою, как сможет, и еще прочтет ему стихи по-русски. «Тут такая целостность чувства, — восклицает он, — целостность грустного, истинного, русского удалого!»
В свою очередь Пушкин знал о молодом поэте Станкевиче, стихи которого публиковались в «Литературной газете». Правда, письменных отзывов на его стихи классик не оставил, хотя одно время существовала версия, что рецензию на поэму Станкевича «Василий Шуйский» написал и опубликовал в июне 1830 года в «Литературной газете» именно Пушкин.
Более близко с творчеством Станкевича Пушкин познакомился, когда выступил в роли издателя и редактора литературного альманаха «Северные цветы» на 1832 год. Следует сказать, что этот альманах был самый долговечный и лучший по содержанию среди других отечественных альманахов: он выходил регулярно с 1825 по 1832 год. Трудно перечислить все поэтические шедевры, увидевшие свет на страницах этих миниатюрных, любовно и со вкусом оформленных сборников. Неслучайно Гоголь назвал «Северные цветы» «благоуханным» альманахом, в котором «цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова».
Альманах, изданный Пушкиным, получился самым объемным и содержательным за всю восьмилетнюю историю «Северных цветов». Сегодня это издание является литературным памятником. Его ценность определяется необычно высоким для альманаха количеством шедевров, впервые ставших достоянием читателей после его выхода в свет. В альманахе помещены произведения в прозе Константина Батюшкова, Ивана Лажечникова, Федора Глинки, Александра Никитенко, Владимира Одоевского, Михаила Погодина, Ореста Сомова и других авторов.
Большая россыпь именитых авторов представлена и в разделе «Поэзия». И какие имена! Антон Дельвиг, Иван Дмитриев, Василий Жуковский, Николай Языков, Федор Глинка, Петр Вяземский, Евгений Баратынский, Николай Прокопович… И в этом почетном ряду, в соседстве с произведениями Языкова и Пушкина, помещены два стихотворения Станкевича: «Песнь духов над водами» и «Бой часов на Спасской башне».
И хотя автору всего 19 лет, его стихи достаточно зрелы. В стихотворении «Бой часов на Спасской башне» поэт, слушая бой курантов с «высот священных» древнего Кремля, слышит в их «гуле красноречивом» не просто отсчет времени, а «отцов завет великий»:
Как часто вечером, часов услыша бой,
О Кремль, с высот твоих священных,
Я трепещу средь помыслов надменных!
Невольным ужасом, мольбой
Исполнена душа, и, мнится, надо мной
Витают тени незабвенных!
В сих звуках жизнь, сей гул красноречив!
В нем слышится отцов завет великий!
Их замогильный глас, их неземные клики
И прошлых лет задумчивый отзыв.
Пушкин, отбирая для сборника стихи девятнадцатилетнего поэта, словно чувствовал, что малоизвестное имя Станкевича будет вписано в новую главу истории литературы и общественной мысли XIX века.
К сожалению, ни в деловых бумагах и письмах Пушкина, ни в переписке Станкевича нет свидетельств того, что эти два замечательных человека были знакомы друг с другом.
Однако они вполне могли встречаться во время прогулок по Москве. Скажем, где-нибудь на Варварке или на Солянке. Не подлежит сомнению и факт их встречи 27 сентября 1832 года. Читаем у Пушкина: «…Сегодня еду слушать Давыдова, профессора, — пишет он супруге Наталье Николаевне. — Но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник — а в Московском Университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие».
Попытаемся восстановить этот день. Итак, 27 сентября. Не было еще девяти часов утра, а казеннокоштные и своекоштные студенты уже сидели в аудиториях в ожидании лекций. Все знали, что прибудет министр просвещения С. С. Уваров, и поэтому постарались без опозданий прибыть в университет и занять свои места за партами. Станкевич тоже здесь. В одной из самых больших аудиторий лекцию по истории литературы читал известный профессор Иван Иванович Давыдов. В его аудиторию и вошел министр вместе с молодым человеком невысокого роста, с выразительным лицом, осененным густыми, курчавыми, каштанового цвета волосами. Все узнали в молодом госте Пушкина.
«Когда Пушкин вошел с министром Уваровым, — вспоминал позднее однокурсник Станкевича и будущий автор «Обломова» Иван Гончаров, — для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии… Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы. «Вот вам теория искусства, — сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, — а вот и само искусство», — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию. Речь шла о «Слове о полку Игореве». Тут же ожидал своей очереди читать после Давыдова и Каченовский. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о полку Игореве», разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор.
«Подойдите ближе, господа, — это для вас интересно», — пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров… Я не припомню подробностей их состязания, — помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки… Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслышать».
Как свидетельствовали другие участники встречи, «бой» был неравен, победа осталась на стороне опытного профессора. Однако у Пушкина была иная точка зрения, о чем он сообщил Наталье Николаевне: «На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранились мы, как торговки на Вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления».
Мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем, почему Пушкин не сказал Наталье Николаевне всей правды о встрече с Каченовским. Вероятнее всего, в лице женщины честолюбивый Пушкин не хотел выглядеть проигравшим. Но это лишь догадки.
Пушкин был сложной и противоречивой фигурой. Об этом после смерти поэта будет написано множество исследований и книг, особенно в XX веке. Да и в нынешнем столетии жизнь и творчество великого поэта остаются в центре внимания историков и литературоведов.
Станкевич тоже оставил после себя немало записей о Пушкине, которые, как ни странно, не привлекали до настоящего времени внимания специалистов и поэтому дополнят пушкиниану новыми сведениями.
В частности, в феврале 1837 года в письме своей невесте Бакуниной он сообщает подробности смерти поэта. Казалось бы, ничего нового Станкевич не рассказывает, но для нас важна его оценка случившейся трагедии.
«В продолжение двух суток ужасных мучений, — пишет Станкевич, — он (Пушкин. —
Н. К.) не стонал, чтобы не беспокоить жены своей и в последние часы жизни стать выше физических страданий. За полчаса до смерти Даль (доктор. —
Н. К.) взял пульс больного — пульс едва бился, концы пальцев начали холодеть. Это было верным знаком, что его прекрасная жизнь догорала. Даль позвал всех. Пушкин открыл глаза, догадался, улыбнулся и спросил стакан воды. Жуковский подал. «Нет, друг, — сказал Пушкин, — пусть последнее питье подаст мне жена». Она вошла, стала на колени у изголовья и подала воду. Пушкин выпил, улыбнулся и поцеловал ее. «Не плачь, все будет хорошо». После этих слов начался бред, и он догорел. Я плохо верю слухам, которые везде ходят о причине его дуэли, потому что знал сам несколько случаев, сделавшихся предметом общей молвы: об них говорили еще хуже, между тем как я очень хорошо знаю совершенно противное. За всем тем, очень вероятно, что жена его не любила. Не знаю, что заставило ее выйти за него: может быть, она была увлечена его талантом, может быть, представила его себе в идеальном свете. Можно вообразить себе человека в каком-то особенном образе. Узнавши его короче, можно увидеть, что он лучше, нежели мы об нем думали, лучше — да не тот. Любовь не раздается по числу нравственных достоинств: любят все, что составляет человека, а эти составные части представляются иногда совсем иными, нежели в самом деле. Мужчина не рискует в таком случае: на его стороне опыт и не совсем благоприятный взгляд на жизнь, от него не укрывается все, что в ней есть прозаического. Но женщина чем выше, чем святее, тем наклоннее к ошибкам. И если говорят, что она не может никогда понимать вещей в настоящем их виде, так это потому, что душа ее нуждается в лучшем… Неприятная, страшная мысль — позднее разочарование — лучше забыть об этом!»
В другом письме, в том же 1837 году, он делится своими переживаниями по поводу гибели Пушкина с Неверовым: «Смерть Пушкина… глубоко поразила меня в первые минуты и потом оставила во мне какую-то неопределенную грусть. Признаюсь, я не постигаю для себя возможности того положения, в котором находился Пушкин, и не ценю его поступка, не знавши порядочно, что привело его к этому, да и ценить поступок великого человека на основании какого бы то ни было закона для меня отвратительно. Он умер не пошло; если он и жертвовал жизнью предрассудку, все-таки это показывает, что она не была для него высочайшим благом. Если жизнь становится пустою формою, без всего, что должно ее наполнить, тогда, может быть, и легко ею пожертвовать, но потерять все в жизни и не утешиться ее пошлостями, — для этого нужна душа получше. Я примирен с Пушкиным. Спокойствие было не для него: мятежно он прожил и мятежно умер. Не хочу обвинять и жены его; в этом событии какая-то несчастная судьба. Говорят здесь, будто она посажена в монастырь. Жаль, если это правда. Зачем стеснять ее свободу? Если в ней есть человеческая душа, пусть она страдает; если она, в самом деле, от души любила другого, все-таки она будет выше добродетельных женщин, которые никого не любят».
В этом письме Станкевич оставил ряд загадок для современных исследователей своей жизни. И жизни Пушкина тоже. Что означает его фраза «не знавши его порядочно»? Сразу напрашивается ответ: Станкевич, наверное, знал Пушкина, но не столь близко. Предположим, знал как Гоголя. Но сегодня мы можем лишь выстраивать версии. Не более. Поэтому требуются новые литературные раскопки, которые, возможно, и помогут открыть тайну этой фразы. Далее наш герой говорит: «Я примирен с Пушкиным». А что кроется за этим
высказыванием? Не исключено, что Станкевич чувствовал свою вину за прежние резкие высказывания, прежде всего о его творчестве, и поэтому, пусть даже после смерти, нашел примирение с великим поэтом.
Однако мы опять ушли литературными тропами немного вперед. Вернемся на четыре года назад. В 1833 году Станкевичу исполнилось 20 лет. Славный возраст, когда хочется ярко жить, безумно любить, горячо страдать.
Наш герой мечтает о разгульной грозе, которая пронеслась бы над жаждущей душой, о страсти пламенной и бурной, о любви грозной и палящей: «Пускай бы опустошительный огонь ее прошел по всему ничтожному бытию моему, разрушил слабые узы, которыми оно опутано, испепелил томительное горе и рассеял беспокойные призраки, блуждающие во мраке душевном! Я бы воскрес, я бы ожил! Если б эта любовь была самая несчастная… кажется, все я был бы лучше. Да будет воля Божья!»
Так оно и случилось. В самый канун двадцатилетия в сердце Станкевича громко постучалась любовь.
Глава девятая
ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН
Во второй половине июня 1833 года Станкевич приехал в родную Удеревку на каникулы, прихватив с собой Алексея Беера — своего однокурсника и закадычного друга. Вместе они замечательно проводили время: охотились в окрестных дубравах и лугах, ловили рыбу в Тихой Сосне, отдыхали в саду, расположившись в тени яблонь или в палатке.
Впрочем, лучше прочитаем несколько рассказов самого Станкевича другу Неверову о своем пребывании в отеческих пенатах:
«Вот уже больше двух недель мы живем в деревне. Алексей со мною. Он делит охоту, делит все, и жизнь в деревне мне вдвое приятнее с ним… Разумеется, охота уже началась, но дичи еще мало и потому нет у меня такого Sehnsucht на охоту, как прежде, но придет еще. Алексей подает блистательные надежды: зоркий глаз, твердая рука и жар прямо охотничий — из него выйдет егерь! Вот мой ему приговор».
И дальше: «Сию минуту пришли мы с охоты, на которую убили целый сегодняшний день; Алексей лежит на постели и ест груши, а я столько уже их съел, что могу только завидовать его блаженству, а разделять оное не в состоянии. Какое анти-поэтическое положение обоих!»
А продолжение еще интереснее: «На этой неделе я также имел удовольствие видеть несколько красивых дам, которые провели у нас несколько дней и скоро опять вернутся. Но — никакой страсти, милый друг, к сожалению, никакой! Ты, вероятно, читал стихотворение Гете и помнишь восклицание: какое счастье быть любимым и любить, о боги, что за счастье! К сожалению, сейчас я не имел повода повторить это восклицание. Дурацкие нежности эти мне чересчур скучны. Ты знаешь меня и мои требования».
Если судить по этим полным тонкого юмора письмам, Станкевич действительно был беззаботен и безмятежен. И его душа не знала никаких переживаний и волнений. Но до того дня, пока он не увидел одну женщину. Точнее будет сказать, старую знакомую, которую впервые встретил еще в Воронеже во время своей учебы в благородном пансионе Федорова. Она училась в пансионе Журдена. Правда, тогда это была четырнадцатилетняя худая, нескладная, белобрысая девочка в кисейном платьице.
Теперь же перед Станкевичем предстала милая, стройная, белокурая особа с голубыми, словно весеннее небо, глазами. Настоящая красавица, при виде которой сердце сначала обычно замирает, а потом начинает биться трепетно и страстно. Судя по всему, нечто подобное произошло и с нашим героем.
«Представь себе белокурую красавицу, с голубыми глазами, наполовину закрытыми, томными и заставляющими томиться. Но так как я умею, в случае надобности, стать выше самого себя и заставить молчать мое чувство, из гордости или по осторожности, то я всегда держался от нее. В разговоре я ограничивался одними фразами… ну, только фразами! Но, чем меньше женщину мы любим, тем больше и т. д. Эта мера с моей стороны — держаться вдали, лишь оскорбляла честолюбие в этой женщине и возбуждала в ней желание победы», — едва ли не на следующий день после встречи со старой знакомой делился Станкевич своими впечатлениями в письме Неверову.
Так совсем неожиданно завязался его «деревенский» роман, мыслей о котором прежде и не возникало. Наоборот, за две недели до отъезда из Москвы он заявил всё тому же Неверову: «Я волочиться не способен, а для любви возвышенной… о! Условий слишком много даже для того, чтоб искренно интересоваться девушкою, любить ее душу и погружаться в наслаждение ее образом, видеть в ней истинно прекрасное произведение, льстить самолюбию своему, что это прекрасное умеет меня оценить и чувствует ко мне влечение! Этаких я не вижу — от этого я лишен многих наслаждений; но я выше человека, который посвящает пыл души своей заклятой кокетке…»
Однако любовному увлечению не прикажешь… Получилось так, как написал Пушкин в стихотворении «Зима»:
Зима. Что делать нам в деревне?..
Вот вечер: вьюга воет;
Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет;
По капле, медленно глотаю скуки яд.
Но дальше, пишет поэт, скуке приходит конец, поскольку в деревню приехали две белокурые красавицы-сестрицы и сразу «оживляется глухая сторона», а «жизнь, о боже, становится полна!»:
Сначала косвенно-внимательные взоры,
Потом слов несколько, потом и разговоры,
А там и дружный смех, и песни вечерком,
И вальсы резвые, и шепот за столом,
И взоры томные, и ветреные речи,
На узкой лестнице замедленные встречи;
И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!
Женщина (к сожалению, имени ее мы не знаем) была ровесницей Станкевича. Но, увы, женщиной замужней. Станкевич хорошо понимал: как бы ни были скрыты их отношения, вне всякого сомнения, к добру их роман не приведет. И хотя Станкевич всячески себя сдерживал, старался изгнать из души греховные думы — все это, наоборот, только усилило его влечение к ней. Сам того не желая, Станкевич оказался в роли Евгения Онегина, подтвердив истинность пушкинских слов: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».
Они начали встречаться.
В один из июльских дней дама пригласила Станкевича и его сестру Надежду посетить дальнее имение своих друзей. В путь отправились без мужа — у него болели зубы. Как воскликнет позже Станкевич: «Судьба!»
В карете, пока ехали, Станкевич придерживался выбранной тактики — не оказывал спутнице знаков внимания, сохранял сдержанность. Эта картина повторилась и в имении. За ужином Станкевич совершенно не разговаривал с ней, чем сильно рассердил ее. С нескрываемой обидой, глотая слезы, она заявила своему незадачливому кавалеру:
— Я с вами рядом уже столько часов, а вы не желаете даже смотреть на меня…
«Что мне оставалось делать? — признавался позже Станкевич. — Вся моя тактика полетела к черту, я отдался весь во власть ее глаз — мало сказать томных, — они поглощали все мои силы, всю жизнь мою, когда глядел на них… С этого дня началось
crescendo…»
Продолжение последовало дальше. На обратном пути в Удеревку их настигла сильная гроза. Небо внезапно почернело. Тяжелые грозовые тучи, низко опустившись к земле, казалось, хотели раздавить их карету. От мощных раскатов грома и острых, слепящих молний лошади вдруг понесли. Испугавшись, красавица прижалась к Станкевичу. В карете было темно, и губы их сами собою встретились в жарком поцелуе. Одна рука Станкевича почти машинально обняла ее гибкую, слегка подрагивающую от нахлынувшей страсти талию, другая — легла на ее стройные ноги… «О, как прекрасно было это», — напишет он.
После той ночи у них еще было много встреч, исходивших, как правило, от подруги Станкевича. В беззаботной помещичьей жизни любилось желанно и сладко. Они были пьяны от любви, как от доброго вина.
Судя по всему, эта замужняя женщина чувствовала себя глубоко одинокой, жаждала любви, страсти и поэтому с тоскою взывала к Станкевичу. Вне всяких сомнений, она любила его куда более искреннее и нежнее, чем он.
Станкевича же беспрестанно одолевали вопросы. Действительно ли он ее любит? На самом ли деле это настоящее, глубокое чувство, а не прихоть?
В подобных случаях советы трудно давать. Тут самому надо разбираться со своими чувствами, что Станкевич и делает: «Она мила, как цветок, как дитя». В то же время принять ее любовь он не считает себя вправе, резко порвать отношения — далеко не лучший выход, который, наоборот, приведет к еще большим мукам и страданиям. «Видишь себя принужденным
думать и
казаться, между тем как мог бы
чувствовать и
быть, видишь себя запутанным в мирские сети, чувствуешь свое ничтожество».
Станкевич рассчитывал, что после своего отъезда в Москву их союз сам собою распадется. Героиня его романа вернется в прежнюю жизнь, к мужу. А он, как и раньше, окунется с головой в учебу и в свою любимую философию. Иными словами, все станет на круги своя. «Теперь я люблю этот призрак, а ее — потому, что она его напоминает. Я более люблю ее, когда не вижу», — писал вскоре Станкевич по возвращении в Белокаменную.
Между тем судьба послала двум пылким молодым сердцам новые свидания. Теперь уже в Москве.
Как-то осенним днем, по возвращении домой после занятий, Станкевича ждал сюрприз. Слуга сообщил, что барыня приказала кланяться и просит вечером повидаться по известному московскому адресу. Видимо, она действительно его любила! И ради своего возлюбленного приехала в Москву.
«Что мне делать, друг мой? — спрашивал он у Неверова. — Будь моей совестью! Я не люблю — она мила, как цветок, как дитя — новая Mademoiselle de Coulanges (помнишь «Histoire de puce enrage»)… Совершенно устраниться я от нее не могу: здесь может быть два случая — удаление мое или отравит жизнь ее горестью, или заставит искать лучшей забавы. Первое — бесчеловечно… второе — обидно для моего самолюбия и, кроме того, что я буду причиной ее развращения. Да, мой друг, ее вольности со мною никто не смеет назвать развратом. Если она и не соблюдает своих обязанностей, то, по крайней мере, стоит снисхождения, как женщина без радостей, имевшая слабость предаться первому отрадному чувству, которому, впрочем, она не должна предаваться. Вот узы, связывающие меня с нею…»
Вновь последовали встречи. Но, к сожалению, кроме взаимного разочарования, они ничего не принесли. После нескольких мучительных сцен, сопровождавшихся долгими объяснениями и морем слез, Станкевич и его подруга решаются завершить роман мирным разрывом.
«Она поехала отсюда без всякого укоризненного воспоминания… Но, Бог над нею! Я не люблю ее; память о ней будет мне вечно дорога… Кончено! Любовь уже не существует для меня. Я узнал, чем оканчивается страсть двух людей, предающихся всею полнотою чувства без предосторожности, без кокетства, без боязни друг другу! Знаю, как ничтожно делается это чувство впоследствии, когда в груди, которую прижимаешь к своей, находишь сердце иное, чуждое тех святых дум, которые так любишь! Знаю, как мучительно видеть любовь к себе существа, полного всем прекрасным, полного чувствами какого-то высшего мира, — видеть, не разделяя ее!» — с грустью подвел итог Станкевич.
Вообще нашему герою, вероятно, не слишком трудно было расстаться со своей подругой, о чем он, словно победитель, написал в одном из своих писем: «Как отрадно разбить упоительный сосуд, поднесенный любовью, и сказать: я выше толпы счастливцев, я имею право сделать упрек судьбе…» И далее прибавил: «Есть прелесть в отчаянии, с которым смотришь на прелестное создание, с которым никогда, никогда не соединишься, с которым разлучила тебя твоя мысль, высокая, благородная!»
Так завершилась эта короткая, словно бабье лето, любовная история. Один из исследователей русской общественной мысли XIX века и, в частности, некоторых страниц жизни Станкевича, Михаил Гершензон в своей книге «История молодой России» писал: «В этом эпизоде для нас важно не то, что Станкевич не полюбил своей знакомки, — в этом человек не волен, — а то, что, ощутив приближение действительного чувства, он поспешно ретировался. Вся его хитрая расчетливость — не что иное, как средство замаскировать собственную трусость; очевидно, любовь манила его лишь в отвлечении, реальная же страсть пугает его пуще всего».
С оценкой Гершензона можно согласиться, но лишь отчасти. Дело здесь не в трусости Станкевича. А скорее в том, что он не хотел разрушать чужую семью, в которую, сам того не желая, вторгся. Человек глубоко религиозный, Станкевич видел в своих действиях большой грех. Этого не допускали и его искреннее и горячее сердце, и положение того философского и нравственного кодекса, который он сам, подобно селекционеру, прививал членам своего кружка.
Станкевич признавал чистую и светлую любовь. Он готовил себя к любви искренней и возвышенной. И вроде бы еще не зажила в нем недавняя любовная рана, а он, в промежутках между университетскими занятиями, бурными философскими и литературными спорами в кружке, вновь мечтает о любви.
Осенью того же 1833 года он сообщает Неверову: «В твою грудь полагаю еще одну тайну, которая для многих уже не тайна. Меня любит одна девушка, которую я люблю братскою любовью от всей души, но к которой более ничего не чувствую. Что может быть отраднее, как беседа с нежною, кроткою душою, после волнения бурного, после разрыва с миром! Но я должен, следуя правилам чести, лишать себя этого удовольствия. Если б эта девушка была на манер многих московских, хотя и с добрым сердцем и с маленькою способностью чувствовать, я бы не опасался никаких последствий. Но она любит, как только женщина, неиспорченная ложным воспитанием, может любить, она любит, потому что создает идеалы и в их таинственном свете созерцает людей. Она любит так, что я опасался иногда за жизнь ее… но я делаю вид, что этого не замечаю, и ты, если будешь писать к ней о счастье, не подавай виду, что ты знаешь что-нибудь. Я должен подавить эту страсть, развлечь ее, если можно, не позволить себе наслаждаться часто братской беседой. Ты сам знаешь ее, знаешь, что нельзя ее не любить, и знаешь, что не всякий, впрочем, может, как говорят все,
влюбиться в нее…»
Станкевич не называет имени девушки, но Неверов знает, о ком идет речь — о Наташе Беер, сестре друга Станкевича. В доме Бееров Станкевич бывал часто и, видимо, во время этих визитов Наташе приглянулся и полюбился этот симпатичный молодой человек с тонким одухотворенным лицом, живыми карими глазами, ниспадающими до плеч черными волосами. «Можно себе представить, как подобный молодой человек мог действовать на воображение пылких и мечтательных девушек 30-х годов, воспитанных на романтической литературе», — писал в начале прошлого века еще один исследователь жизни Станкевича — Корнилов.
Наташа Беер тоже была девушкой приятной наружности. Вдобавок девушкой умной, с мечтательным характером. Она хорошо знала литературу, любила стихи Пушкина, Гёте, Шиллера, писала акварели. Со Станкевичем ей было интересно проводить время. Но довольствоваться с ним лишь дружескими, братскими отношениями Наташа не хотела. Девушка мечтала о нечто большем.
Станкевич же, наоборот, рассчитывал только на дружеские отношения с ней. И всячески пытался обратить любовь Наташи именно в такое русло. Не более. Он даже разработал план, о котором поведал Неверову:
«Впрочем, теперь она стала поумнее, занимается делом, и я надеюсь постепенно обратить эту любовь в дружеское расположение. Но надобно делать это осторожно: во-первых, не давать ей виду, что я знаю о ее страсти, чтобы не огорчить равнодушием, или не усилить ласковым обращением эту привязанность; во-вторых, обходиться с нею, как с другими, не любезничать и пореже навещать: не навещать нельзя, да и бесполезно! И вот я вырываюсь из объятий земной, чувственной любви и останавливаюсь перед кротким существом, которого дружба могла бы мне быть так сладостнее и Богу его! Если бы даже это была тихая… любовь, я был бы очень доволен и не опасался бы; опять, люби я сам, либо истинно, пламенно, прекрасно бы было обоим погибнуть в огне этого возвышенного чувства. Но я, повторяю, люблю ее, как брат может любить сестру».
В минуты творческого вдохновения Станкевич пишет стихотворение, озаглавив его «Две жизни» и предпослав ему эпиграф из Шиллера: «Что стоит жизнь без сияния любви?» В стихотворении две героини — его возлюбленная из «деревенского» романа и Наташа Беер. Оно и посвящено им обеим:
Печально идут дни мои,
Душа свой подвиг совершила:
Она любила — и в любви
Небесный пламень истощила.
Я два созданья в мире знал,
Мне в двух созданьях мир явился:
Одно я пламенно лобзал,
Другому пламенно молился.
Две девы чтит душа моя,
По ним тоскует грудь младая:
Одна роскошна, как земля,
Как небеса, свята другая.
И мне ль любить, как я любил?
Я ль память счастия разрушу?
Мой друг! Две жизни я отжил
И затворил для мира душу.
В этих строках не столь сложно узнать и деревенскую подругу, и Наташу. Первая роскошна, чувственна, ее он страстно лобзал; вторая — небесная, святая, на которую он молился.
Станкевич полагал, что его план по установлению «братских отношений» с Наташей реализовывается как нельзя лучше. Правда, в реальности все складывалось и так, и не так. Но чтобы узнать, где получалось «так», а где «не так», перенесем наше повествование на пару лет вперед и заглянем в год 1835-й.
Именно в начале этого года в Москву приехали из тверского имения Бакунины: отец и двое его дочерей — Татьяна и Любовь. Бакунины обосновались у Бееров, куда захаживал Станкевич со своей студенческой братией. А с появлением двух новых девушек его компания вообще стала постоянно гостевать у Бееров.
Как раз в это время и у Наташи рождается свой план. Чувствуя, что ей не удается причалить Станкевича к своему берегу, влюбить в себя, она решила «подарить» или «передать» его Любе Бакуниной.
Ох уж эта неразгаданная и непредсказуемая тайна женской души! Однако была ли со стороны Наташи благородная жертвенность, стремление осчастливить подругу или, наоборот, таким «способом» она хотела осчастливить себя — сегодня, через расстояние почти двух столетий, мы, увы, не найдем точных ответов на эти вопросы. Тогда, как известно, «дарение» состоялось. Между Станкевичем и Любовью Бакуниной завязалась теплая дружба, переросшая вскоре в любовь.
Об отношениях Станкевича и Любы еще пойдет речь. Пока же завершим рассказ о Наташе Беер. «С Наташей сделалась страшная перемена, — напишет он Неверову в марте 1835 года, — когда она узнала… что Любовь может быть любима мною… Она сама не знала до сих пор цены той жертвы, которую думала принести. Болезнь ее возвратилась со всеми припадками, головная боль, боли в боку, и всему причиною моя ветреность, мой эгоизм, моя неделикатность!» И далее: «Это — святая девушка! Боже! может быть, страшное угрызение готовится мне на всю жизнь… но Он милостив!»
Действительно, Наташа не предполагала, что Станкевич мог полюбить Бакунину. Для нее это был удар, она впала в болезненное состояние. К счастью, все обошлось благополучно. Наташа не бросилась в омут и не сошла с ума. Через некоторое время она встретила свою любовь, вышла замуж. Ее супруг Владимир Ржевский впоследствии стал крупным чиновником и сенатором.
Вообще Станкевич был неравнодушен к представительницам слабого пола. В его сохранившихся записях есть много мест, связанных с женщинами. Вот что он сообщал в рождественском письме из Удеревки Неверову: «Чтобы не упустить ни одного оттенка деревенской жизни, чтобы не потерять никакой поэтической стороны ее, мы гадали. Несмотря на резкий ветер, морозную ночь, девицы выходили в шубенках наводить зеркало на месяц и бросать башмаки за ворота, причем я обязанностью считал греть такие ножки, которые удобнее могли поместиться в руке моей».
Впрочем, не будем забегать вперед и торопить события, хотя интерес к такого рода фактам всегда вызывает нетерпение у читателей. Тем не менее подождем.
Станкевич в тот год пережил и выдержал не только сердечные бури. Незадолго до начала летних каникул он и его друзья были привлечены к уже упоминавшемуся в предыдущих главах следствию по делу «государственных преступников» Я. И. Костенецкого и П. А. Антоновича. Для Станкевича никаких последствий не наступило.
А во время летних вакаций его имя опять вызвало переполох в университете. Произошло следующее. На имя ректора пришла бумага «О присылке студента Станкевича в Пречистенскую часть». Но потом выяснилось, что разыскивают однофамильца Станкевича — некоего Ивана Петровича, который, как оказалось, в августе 1833 года собирался поступить в университет, но принят не был. Между тем вся переписка по этому вопросу на всякий случай была подшита в студенческое дело Николая Станкевича…
Глава десятая
«НЕБЕСНЫЙ НИКОЛАЙ»
И «НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН»
Университет Станкевич должен был окончить в 1833 году, но из-за нагрянувшей в 1830 году холеры занятия в нем на несколько месяцев были прерваны. Поэтому учебный курс продлили на целый год. Таким образом, стены
alma mater ему предстояло покинуть лишь в 1834 году.
Это обстоятельство оказалось Станкевичу только на пользу. Наш герой продолжает изучать «хвилософию», как в шутку он называл философию, историю искусства, знакомится с последними литературными новинками, вечерами посещает театр, а в минуты вдохновения пишет стихи и прозу. Вынужденно затянувшийся учебный процесс также позволил ему расширить товарищеский круг и еще сильнее породниться духом со старыми друзьями.
В архиве Станкевича, находящемся ныне в Государственном историческом музее, хранится огромное количество записей и конспектов прочитанных книг и прослушанных лекций. Юноша мечтает полностью отдать себя научной деятельности. «Может быть, только на время, — сообщает Станкевич Шевы-реву в октябре 1833 года. — Зато вдвое дороже мне мои занятия: я сижу, работаю и надеюсь работать еще больше. Может быть, науки со временем совершенно заменят мне жизнь; начало этому я уже вижу..»
К этому же периоду относится попытка Станкевича сформулировать основы своего философского вероучения — в незавершенном трактате «Моя метафизика». Отталкиваясь от Шеллинга, благодаря которому он пришел к убеждению, что философия есть система знаний о мире в целом и всяком знании вообще, Станкевич считал достоинством этой системы наличие внутренней связи между различными ее частями. «В
целом природа, — писал он, — есть Разумение». Она рассматривалась им как непрерывное творчество. Все рождающееся умирает, но ничто не гибнет безвозвратно. Смерть есть всегда рождение нового. Жизнь несет в себе самые различные проявления. Все создания есть жизнь, развивающаяся по законам «Разумения», по его законам происходит развитие природы. Расположение различных существ представить в виде некой лестницы, где на последней ее ступени находится человек, в котором «жизнь создала себя отдельно. Он и есть центр этой жизни в миниатюре». Жизнь индивида является концентрацией всей жизни природы.
В теории познания Станкевич отдавал приоритет чувству над разумом и волей, которое обнаруживает в себе любовь. Именно в любви, как он считал, скрыта тайна жизни, и в ней проявляется ее сущность. «Жизнь беспредельна в пространстве и времени, ибо она есть любовь. С тех пор, как началась любовь, должна была начаться жизнь: покуда есть любовь, жизнь не должна уничтожаться, поскольку есть любовь, и жизнь не должна знать пределов». Любовь доступна не только животным и растениям, но и минералам, «если они живут любовью всеобщей жизни». Благодаря любви существует связь между последним звеном творения и его началом: она есть «самовозвратная сила природы — безначальный и бесконечный радиус в круге мироздания».
По определению Станкевича, человек есть высший продукт творения, «ибо он есть вся жизнь». Назначением человека не может быть его возвышение, так как он должен быть равен самому себе. Каждый индивид обладает высшими и низшими свойствами. Поэтому только в результате взаимоотношений между людьми может сформироваться совершенный человек. Для этого есть только единственный путь — приближение к «всеобщей жизни». Слиться с ней полностью он не в состоянии, поэтому необходимо принять от жизни все, что только можно. Для установления правильного отношения к ней надо обладать развитым чувством любви. В любви человек следует одним и тем же законам жизни.
Молодой философ считал, что существует непротиворечивая взаимосвязь между философией и религией, дополняющими друг друга. В тех случаях, когда религия не в состоянии дать ответ на какие-то вопросы, философия приходит ей на помощь, и наоборот. В эпоху развития научного знания философия помогает религии реализовать свое назначение, основанное на началах нравственности.
В воззрениях Станкевича на религию нашло также свое отражение стремление значительной части русской интеллигенции рационалистически подойти к истолкованию сущности веры, внести в ее содержание особый смысл. В первую очередь содержание религии сводилось им к понятию любви, которая трактовалась предельно широко. Вера, согласно его пониманию, не порождает национальных различий. Она должна сближать народы, а не разъединять их.
Философские мотивы, а Станкевич — поэт философского склада, звучат и в его стихах. В соответствии с романтической философией искусства поэт для Станкевича — избранник небес, презирающий земность и постигающий истинную сущность жизни в напряженной, неустанно ищущей мысли. В стихотворении, характерно озаглавленном «Подвиг жизни», Станкевич призывает бежать «от суетных желаний, от убивающих людей». Поэт — провидец, выражающий самые сокровенные стремления человечества. И потому нередко оказывается в конфликте со «светом»:
Когда любовь и жажда знаний
Еще горят в душе твоей,
Беги от суетных желаний,
От убивающих людей.
Себе всегда пред всеми верен,
Иди, люби и не страшись!
Пускай твой путь земной намерен —
С непогибающим дружись!
Пускай гоненье света взыдет
Звездой злосчастья над тобой,
И мир тебя возненавидит,
Отринь, попри его стопой!
Он для тебя погибнет дольный,
Но спасена душа твоя!
Ты притечешь самодовольный
К пределам страшным бытия.
Тогда свершится подвиг трудный:
Перешагнешь предел земной —
И станешь жизнию повсюдной —
И всё наполнится тобой.
В 1833 году Станкевич особенно тесно сближается с будущим знаменитым русским литературным критиком и публицистом Виссарионом Григорьевичем Белинским.
Белинский был на два года старше Станкевича. Он родился в 1811 году в крепости Свеаборг (Финляндия, в настоящее время — Соуменлинн. —
Н. К.), где флотским лекарем служил его отец. Детство и юность Виссариона прошли в городке Чембар Пензенской губернии. Он, как и Станкевич, учился в уездном училище. Потом был гимназистом. В пензенских краях этого угловатого, болезненного вида белобрысого юношу заприметил инспектор гимназий, а впоследствии известный писатель Иван Лажечников. Вот его короткий штрих к тогдашнему портрету Белинского: «Лоб его прекрасно развит, в глазах светлелся разум не по летам…»
Достаточно точный портрет Белинского нарисовал в своих воспоминаниях Тургенев. По его словам, известный литографический и едва ли не единственный портрет Белинского дает о нем понятие неверное. «Срисовывая его черты, — пишет Тургенев, — художник почел за долг воспарить духом и украсить природу и потому придал всей голове какое-то мыслительно-вдохновенное выражение, какой-то военный, чуть ли не генеральский поворот, неестественную позу, что вовсе не соответствовало действительности и нисколько не согласовывалось с его характером и обычаем Белинского. Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалой грудью и понурой головой… Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие, частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками внутри зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша» (строки из стихотворения Н. А. Некрасова. —
Н. К.). Смеялся он от души, как ребенок».
В 1829 году Белинский, на год раньше Станкевича, поступил в Московский университет на словесный факультет. Будучи человеком одаренным, он в 1831 году пишет драматическую пьесу «Дмитрий Калинин». В ней казеннокоштный студент осмелился резко высказаться о социальной несправедливости, существующих российских порядках, а также обличил власти предержащие.
Пожалуй, со времен Александра Радищева, автора нашумевшей и запрещенной потом книги «Путешествие из Петербурга в Москву», в России не появлялось такого рода обличительного произведения. «Кто дал это гибельное право — одним людям порабощать своей властью волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище — свободу? — вопрошает в одном из монологов герой повести. — Кто позволил им ругаться правами природы и человечества? Господин может для потехи или для рассеяния содрать шкуру с своего раба; может продать его, как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, матерью, с сестрами, братьями и со всем, что для него мило и драгоценно… Милосердный боже! отец человеков! ответствуй мне: твоя ли премудрая рука произвела на свет таких змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?..»
Существует версия, и она обнародована в литературе, что Станкевич прочитал драму вскоре после ее написания. Произведение он нашел замечательным, но при этом сказал автору, что ему вряд ли удастся его опубликовать по ряду причин. Во-первых, «Сироту» (так называли драму в кружке Станкевича. —
Н. К.) цензура не пропустит, а во-вторых, драмой могут заинтересоваться в Третьем отделении. Однако Белинский сообщил о том, что драму он уже отнес в цензурный комитет.
— Прежде чем ее отдавать, — с досадой сказал ему Станкевич, — надо было со мной посоветоваться. Ты поступил опрометчиво! Как бы не нажил неприятностей!
Станкевич словно в воду глядел. Скандал разразился после того, как Белинского вызвали в цензурный комитет. Он шел туда с надеждой, ждал признания. Но вышло все наоборот. Несмотря на то, что его сочинению профессор и статский советник Л. А. Цветаев дал весьма лестные оценки, «Дмитрий Калинин» был признан другими цензорами как позорящее университет произведение.
— Ваше сочинение по содержанию и общей направленности более чем безнравственно! — гневно воскликнул присутствовавший на заседании цензурного комитета сам ректор университета И. А. Двигубский. — Вы, как студент, бесчестите университет! Мы не можем допустить, чтобы в священных стенах государственного храма науки появлялись и оставались безнаказанными столь безобразные вещи! Вас надо отправить на каторжную работу! Да, да, на каторгу! Крамольникам, пытающимся подточить основы монархии, у нас нет места!
Как пишут современники, Белинский возвратился в общежитие бледный, словно полотно, и сразу упал на свою кровать лицом вниз. Один из сокурсников стал его расспрашивать, что с ним случилось. Но ничего добиться не мог. Белинский произносил лишь одно:
— Пропал, пропал, каторжная работа!..
После заседания цензурного комитета над Белинским окончательно сгустились тучи. Обвинительная речь Двигубского послужила руководством к действию для изгнания строптивого студента из университета.
И ведь выгнали! «Виссарион Белинский, — сообщалось московскому генерал-губернатору, — уволен с казенного кошта по причине болезни и безуспешности в науках. Поведения был неодобрительного».
Одновременно кем-то из «доброжелателей», а скорее всего, по поручению начальства, была запущена сплетня о том, что вытурили этого ужасной наружности казенного студента, циника и бульдога, за… развратное поведение.
Действительно, Белинский, в отличие от Станкевича, не являлся образцовым студентом. Он часто болел, пропускал лекции, выступал против казарменного надзора, любил выпить «очищенную»… Но Белинский — и развратное поведение! Эта лживая легенда ни у кого из хорошо знавших его сокурсников не укладывалась в голове. К чести друзей, они не клюнули на грязную клевету. Основным же поводом для исключения Белинского из университета, считают его исследователи, послужила названная выше драматическая пьеса «Дмитрий Калинин».
Белинский тяжело переживал случившееся. Но, как часто бывает в подобных ситуациях, — люди либо отворачиваются от человека, злорадствуют над ним, либо подставляют плечо. В числе тех немногих людей, кто не отвернулся от Белинского, был как раз Станкевич.
И по сей день существует несколько версий их знакомства. Общепринято считать, и об этом написал Неверов, что их встреча произошла после исключения Белинского из университета, то есть во второй половине 1832 года.
Неверов рассказывает в воспоминаниях: «Белинский, будучи студентом, написал драму, сюжетом которой было злоупотребление владетельного права над крестьянами. Этот труд — драму «Дмитрий Калинин» — плод юношеской восторженности, он представил в цензуру и за это был лишен права посещать университет. Станкевич, услыхавши об этой истории от общего нашего товарища Клюшникова, пожелал прочесть драму и ознакомиться с автором».
Но свидетельства других современников Станкевича и Белинского убеждают в том, что встреча этих замечательных людей произошла гораздо раньше.
Известный исследователь жизни и творчества Белинского А. Н. Пыпин в книге «Белинский, его жизнь и переписка» написал: «До сих пор не было с точностью известно, когда Белинский в первый раз сблизился со Станкевичем и как определились их отношения. По университету они были почти современники: Станкевич поступил в университет в 1830 году и окончил курс в 1834. По свидетельству брата Николая Владимировича, Александра Владимировича, «Белинский сблизился с Станкевичем в 1832; но первое знакомство было, вероятно, сделано в 1831».
Далее Пыпин утверждает: «Знакомство Белинского с Кольцовым относится к 1831 году и могло произойти только через Станкевича». Это не голословное утверждение, оно подкреплено письмом редактора газеты «Московские ведомости» Е. Ф. Коршем, который 25 апреля 1874 года сообщил Пыпину следующее: «Вчера вечером приезжает ко мне А. В. Станкевич и говорит, что хотя он действительно застал Белинского у своего брата только в 1832 г., но, судя по тому, что Белинский сблизился через него с Кольцовым еще в 1831-м, можно полагать, что знакомство Н. Станкевича с Белинским началось, пожалуй, на университетской скамье».
Обратимся к биографическому очерку «Алексей Кольцов. Его жизнь и литературная деятельность». Его автор В. В. Огарков также считает, что знакомство Станкевича и Белинского произошло в 1831 году. «Вскоре после знакомства со Станкевичем, в 1831 году, в некоторых московских изданиях появились стихи Кольцова, — пишет Огарков. — В это же время Кольцов совершил свою первую поездку в Москву, где остановился у Станкевича. Благодаря последнему поэт приобрел в столице несколько знакомых, впоследствии довольно важных для него. В эту же первую поездку он познакомился и с Белинским, лучшим другом его и утешителем в тяжелую пору жизни».
Таким образом, со всей определенностью можно утверждать: приведенные факты не подвергаются сомнению. Познакомить Кольцова с Белинским мог только Станкевич и никто другой. Именно он, единственный, знал поэта, который впервые приехал в мае 1831 года в Москву в гости к нему, как к своему покровителю. Во время того приезда Станкевич познакомил Кольцова со своими друзьями и товарищами, среди которых был и Белинский. Следовательно, есть все основания полагать, что встреча Станкевича и Белинского произошла до изгнания последнего из университета, то есть на студенческой скамье.
В 1831 году их встречи еще не были частыми. Что у Станкевича, что у Белинского была своя сфера общения. В то время вокруг Белинского образовался кружок, известный как «Литературное общество 11 нумера». Этот кружок объединил таких же, как и он, разночинцев, детей мелких чиновников, учителей, врачей, священников.
Круг же Станкевича состоял в основном из своекоштных студентов, как правило, детей из богатых семей. Но постепенно отношения между юношами становились все более тесными. Особенно они сблизились после исключения Белинского из университетских списков.
В тот период положение бывшего казеннокоштного студента было хуже некуда: ни одежды, ни денег, ни работы. По сути, он был изгой, выброшенный, по словам Александра Герцена, «на мостовую большого города, без куска хлеба и без средств добыть его».
Это подтверждает в своих воспоминаниях выпускник словесного отделения Московского университета П. И. Прозоров: «Без всяких средств к существованию, Виссарион Григорьевич обратился тогда с просьбою к прибывшему в Москву попечителю Белорусского учебного округа Карташевскому об определении его в уездные учители, в которых тогда очень нуждалась Белоруссия. Попечитель, просмотревши незавидный его аттестат, усомнился исполнить просьбу исключенного студента…»
Жилье у Белинского также было ужасное. Он квартировал в Рахмановском переулке в одной из каморок, громко называемой им бельэтажем. Пробраться к нему можно было по грязной лестнице; рядом с каморкой находилась прачечная, из которой беспрестанно шли испарения мокрого белья и вонючего мыла, неслась нецензурная брань прачек. Под прачечной, в подвале, работали кузнецы, и оттуда слышался беспрерывный стук молотов.
Комнатка не закрывалась из-за бедности обстановки — в ней нечего было украсть. «Сердце мое облилось кровью, — написал один из посетителей этого убогого жилища, — я спешил бежать от смраду испарений, обхвативших меня и пропитавших в несколько минут мое платье; скорей, скорей на чистый воздух, чтобы хоть несколько облегчить грудь от всего, что видел, что я прочувствовал в этом убогом жилище…»
Белинский, правда, пытался не терять оптимизма. «Я нигде и никогда не пропаду, — гордо сообщал он матери. — Несмотря на все гонения жестокой судьбы — чистая совесть, уверенность в незаслуженности несчастий, несколько ума, порядочный запас опытности, а более всего некоторая твердость в характере — не дадут мне погибнуть. Не только не жалуюсь на мои несчастия, но еще радуюсь им: собственным опытом узнал я, что школа несчастия есть самая лучшая школа. Будущее не страшит меня…»
Однако это была не более чем бравада. В реальности Белинский, как уже сказано, очень нуждался в моральной и материальной поддержке. Он сильно бедствовал, сидел в долгах и без работы. В те трудные времена свою руку ему протянул именно Станкевич, он же душевно и нравственно его обогрел. Иными словами, взял под свое крыло.
Белинский сразу покорился обаянию Станкевича и почувствовал к нему нечто вроде магнетического тяготения. Висяша, Сиверион, как потом тепло и мило называл Станкевич Белинского, сам стал искать с ним встреч, и Станкевич отвечал полной, открытой взаимностью.
Человек ума незаурядного, Станкевич был абсолютно лишен честолюбия, с Белинским держался просто и с большим тактом, отличался чуткостью и бескорыстной добротой. Белинскому по-настоящему было хорошо и радостно со Станкевичем, о чем он будет помнить до конца своей жизни.
Станкевича и Белинского сроднили общность духовных интересов, наклонность к анализу, любовь к литературе. И все же они, может быть, потому стали так нужны друг другу, что натуры их во многом были различны, они дополняли одна другую. Уже сами прозвища «Небесный Николай» и «Неистовый Виссарион», которыми их величали друзья, служат тому подтверждением.
Один мягкий, деликатный, чуткий сердцем, благородный и преисполненный возвышенных чувств. Другой, наоборот, мятежный, бурный, не зависящий от общественного мнения и не признающий никаких авторитетов. А между тем мягкий и деликатный Станкевич имел огромнейшее влияние на мятежного Белинского. Он ему был и учителем, и наставником, и братом. «Будь чем хочешь — хоть журналистом, хоть альманашником, — писал он ему, — все будет хорошо, только будь посмирнее».
Учение в университете не дало в полной мере Белинскому системы и должного образования, не помогло осмыслить жизнь, понять ее закономерности, объяснить ее противоречия. Поэтому многие знания ему пришлось не только наверстывать, но и получать заново от Станкевича или непосредственно в его кружке.
Впрочем, обратимся к источникам. Читаем у Н. А. Добролюбова, замечательного критика второй половины XIX века: «…Кроме своей прекрасной, благородной личности, столь привлекательной в самой себе, Станкевич имеет еще иные права на общественное значение, как деятельный участник в развитии людей, которыми никогда не перестанет дорожить русская литература и русское общество. Имя его связано с началом поэтической деятельности Кольцова, с историей развития Грановского и Белинского: это уже довольно для приобретения нашего уважения и признательной памяти».
Далее в письме Н. Турчанинову, ученику Н. Г. Чернышевского, Добролюбов говорит: «…С Николаем Гавриловичем толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как
Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский — Забелина и т. п.».
Писатель Иван Лажечников, со ссылкой на высокопоставленного чиновника по особым поручениям Третьего отделения М. М. Попова, пишет: «Верно, что в Москве умный Станкевич имел сильное влияние на своих товарищей. Думаю, что для Белинского он был полезнее университета. Сделавшись литератором, Белинский постоянно находился между небольшим кружком людей… Эти люди, большею частию молодые, кипели жаждою познаний, добра и чести. Почти все они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русские книги и журналы. Каждый из них не был профессор, но все вместе по части философии, истории и литературы постояли бы против целой Сорбонны. В этой-то школе Белинский показал огромные успехи. Друзья и не замечали, что были его учителями, а он, вводя их в споры, горячась с ними, заставлял их выкладывать перед ним все свои познания, глубоко вбирал в себя слова их, на лету схватывал замечательные мысли, развивал их далее и объемистей, чем те, которые их высказывали. Таким образом, не погружаясь в бездну русских старых книг, не читая ничего на иностранных языках, он знал все замечательное в русской и иностранных литературах. В этой-то школе вырос талант его и возмужало его русское слово».
Еще одно свидетельство находим в «Литературных воспоминаниях» Панаева: «Влияние Станкевича на Белинского было глубоко. Белинский всегда сознавался в этом. Первые критические статьи его, где выражался его взгляд на искусство и на жизнь вообще, писаны, без всякого сомнения, под влиянием Станкевича… Станкевич своей кроткой, примиряющей натурой несколько смягчал и сдерживал кипучую натуру Белинского и хотел принудить его учиться языкам, особенно немецкому. Он предугадывал в Белинском сильного литературного бойца и хотел расширить его миросозерцание…»
Так, собственно, и произошло. В конце 1834 года в еженедельнике «Молва» — приложении к журналу «Телескоп», издававшемся преподавателем Станкевича профессором Надеждиным, была опубликована первая крупная статья Белинского «Литературные мечтания. Элегия в прозе». Статью он подписал загадочным псевдонимом «он-инский».
Это было обозрение российской словесности, в котором давалась характеристика эпох и лиц. Необычный тон статьи с философским оттенком, заимствованным из системы Шеллинга, придал ей особую оригинальность.
Публикация имела большой успех. Мало кому из начинающих литераторов случалось начинать свой творческий путь именно так — смело, ярко и сильно. Реакция читателей на статью была неоднозначной. Одни ею восторгались, другие негодовали, узнав, что дерзким автором является недоучившийся студент.
Недавний университетский преподаватель Белинского — профессор Каченовский, прочитав статью, сразу пригласил автора к себе. Старый профессор долго жал руку Белинскому и с доброй завистью говорил:
— Мы так не думали, мы так не писали в наше время…
Санкт-Петербург в лице известного реакционного издателя Греча отреагировал на выступление молодого критика зло и обидно. Не зная близко автора, Греч написал о Белинском: «Умный человек, но горький пьяница, и пишет свои статьи, не выходя из запоя». Это было в стиле литературного бандита Греча и его подельника Булгарина.
Статья «Литературные мечтания. Элегия в прозе», вызвавшая такой резонанс, по сути, была манифестом кружка Станкевича на сущность литературы и ее предназначение. Известно, что в процессе работы над статьей Белинский советовался со своими друзьями и в первую очередь со Станкевичем. Многие мысли и идеи, высказанные им, Белинский положил в основу своей статьи.
К сожалению, в советскую эпоху некоторые историки и литературоведы в угоду коммунистической идеологии неоднократно пытались принизить роль Станкевича и его кружка в развитии и становлении Белинского. Как известно, тогда в почете были «кухаркины дети», то есть выходцы из народа. Потомственный дворянин, коим являлся Станкевич, в эту обойму не попадал. Сын же уездного лекаря Виссарион Белинский, наоборот, был плоть от плоти представителем народных масс.
Марксистских авторов прежде всего интересовали социальные ориентиры Белинского и их классовая сущность. Поэтому именно Белинский, по их определению, и являлся одной из ключевых фигур в развитии русской мысли 1830-х годов, а вовсе не барич Станкевич.
Особенно в таком возвышении Белинского преуспел М. Я. Поляков, автор книги «Белинский в Москве», вышедшей в свет в 1948 году. Вот как он преподнес кружок Станкевича: «Узкий студенческий кружок Станкевича образовался не ранее 1831/32 учебного года, и лишь с 1833 года в него вошли бывшие члены «Литературного общества 11 нумера» (кружок просуществовал всего несколько месяцев. —
Н. К.) — Белинский и Петров, которых мемуаристы не случайно припоминают всегда рядом. Именно с этого времени начинается жизнь того знаменитого кружка, который вошел в историю с именем Станкевича… Белинский пришел к Станкевичу не учеником, жаждущим подобрать крохи мудрости, усвоенной членами кружка, а равноправным участником горячих споров, обладателем еще не устоявшегося, но вполне определенного литературно-политического багажа, который вскоре блистательно обнаружился в его «Литературных мечтаниях». Он принес с собою возбужденность резких, всегда искренних споров во имя истины, в защиту человека, освобожденного от уз авторитарного мышления крепостнического общества».
А далее Поляков заключает, что Белинский вообще «пришел в кружок Станкевича не только учеником, но скорее и точнее учителем. Станкевич был выше всех членов кружка. Ни Красов, ни Клюшников, ни тем более Почека или Неверов не могли быть учителями Белинского. Да и духовный склад их весьма отличался от гордого характера казеннокоштного студента. Со Станкевичем же у него сразу установились особые отношения, при этом влияние Белинского для Станкевича было чрезвычайно благотворно. Белинский помогал ему преодолевать влияние булгаринской школы, обывательского романтизма и романтизма Шевырева и его круга».
Такого рода утверждений о «влиянии» Белинского на Станкевича в книге Полякова много. Немало их и в работах других авторов, которые в разные годы создавали подобные бездоказательные мифы. Иные «исследователи» договаривались до того, что якобы кружок Станкевича занимался бытовыми, а не общественными проблемами. Поэтому Белинский не принимал «участия в домашних делах и дрязгах» кружка, поскольку «ссоры, романы и драмы баричей-дворян» не могли занимать его глубокого ума, погруженного в серьезные вопросы. Культивировалось и мнение о том, что Белинского — будущего революционера-демократа окружали в стане Станкевича либералы и охранители самодержавия. Сам же глава кружка являлся защитником «класса феодалов-крепостников». И ведь еще недавно верили всем этим ложным легендам, считая, что только благодаря изгнанному из университета студенту Станкевич и вошел в передовую когорту «Молодой России».
Однако верится все-таки совсем иным людям. В первую очередь тем, кто хорошо знал Станкевича и Белинского, кто учился или жил с ними в одно время, встречался с их друзьями и товарищами. Приведенные свидетельства Лажечникова, Панаева, Добролюбова являются лишь частью доказательств, в неоспоримости которых трудно сомневаться. Как трудно сомневаться в оценках других современников. Скажем, в оценке того же Герцена. Известно, что он хорошо знал обоих и сидел с ними на той же студенческой скамье.
Вот что говорит Герцен: «…Взгляд Станкевича на художество, на поэзию и ее отношение к жизни вырос в статьях Белинского в ту новую мощную критику, в то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России и заставило с ужасом отпрянуть от Белинского всех педантов и доктринеров. Белинского Станкевичу приходилось заарканивать; увлекающийся за все пределы талант его, страстный, беспощадный, злой от нетерпимости, оскорблял эстетически уравновешенную натуру Станкевича».
Тургенев, друг Станкевича и Белинского, надо полагать, тоже объективен в своих «Воспоминаниях о Белинском»: «Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти, тот идеал, которому он служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и лермонтовский протест, и гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушал он старые авторитеты, наши так называемые славы, на которые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения…»
В связи с этим небезынтересен взгляд Н. П. Барсукова и В. В. Майкова, авторов фундаментальной работы «Жизнь и труды Н. П. Погодина. Книга 4» (Погодин — профессор Московского университета, преподаватель Белинского и Станкевича. —
Н. К.). Передавая отношение Погодина к деятельности московских кружков 1830-х годов, они отмечают: «В среде студентов тогдашнего Московского университета образовалась целая плеяда даровитых юношей… Главным образом замечательны были два кружка, которые составились тогда среди студентов и представляли два разных направления, бродивших в умах… Главою первого кружка был Герцен… Кружок этот увлекался общественными теориями под влиянием преданий двадцатых годов, политической литературы и событий в Западной Европе; знакомство с Сен-Симоном окончательно установило социальное направление его стремлений. Главою второго кружка сделался Николай Владимирович Станкевич. Люди, составлявшие этот кружок, воспитывались по философии, выслушанной у Павлова и Надеждина, и, увлеченные заманчивою перспективой решений глубочайших вопросов человеческой мысли, они отдались исканию этих решений, пренебрегая всем остальным как ничтожным в сравнении с этими всеобъемлющими вопросами… Но истинною главою этих двух студенческих кружков по своему нравственному достоинству и замечательному дарованию был Николай Владимирович Станкевич. Чем был Андрей Тургенев, друг Жуковского, Батюшкова, князя Вяземского, для поколения, предшествовавшего 1812 году; чем был Веневитинов для поколения, принадлежавшего 1825 году, таким стал Станкевич для молодых людей между 1835 и 1840 годами. Кружку Станкевича был много обязан своим развитием прославившийся впоследствии Белинский…»
Не обойтись в нашем повествовании и без лица заинтересованного, а именно Анненкова, первого биографа Станкевича. Написанная им в 1857 году история жизни Станкевича является не только первым опытом создания документальной биографии этой личности, но также и первым актом эстетической стилизации идейного облика идеалиста 30-х годов. Анненкова уже тогда упрекали за то, что он, нарисовав «идеального рыцаря» философского романтизма и прекрасный облик «Небесного Николая», якобы укреплял и распространял мысль о школярской зависимости Белинского от Станкевича и его кружка.
А между тем Анненков, собирая материалы о Станкевиче, опирался на его переписку и свидетельства современников: друзей, товарищей, родных, университетской профессуры, в том числе и на Белинского. К слову, Анненков являлся близким другом Белинского последних лет его жизни. Поэтому Анненков имел все основания говорить о том, что «мысль» и «чувство» Станкевича господствуют среди молодежи его времени, его философское развитие опережает всех друзей, которых он засаживает за философию. «Причина полного неотразимого влияния» заключалась «в возвышенной его природе, в способности нисколько не думать о себе, невольно увлекать всех за собой в область идеала». «Светлый образ Станкевича» являлся «представителем всего направления». Белинский уступал ему и по благородству характера, и по кругу знаний, и, наконец, по склонности к философии. «В круге Станкевича идеи германских мыслителей были в постоянном обращении: друзья его сходились для обсуждения их и взаимного обмена соображений, порожденных неутомимым чтением; из этого первоначального родника своей литературно-критической деятельности Белинский выносил строго обдуманные статьи. Белинский может назваться по преимуществу обобщителем идей», он всего лишь «досказывал» Станкевича.
Ему, Анненкову, принадлежит и эти слова: «…Замечательная личность из кружка Станкевича, хорошо знакомая современникам нашим: мы говорим о В. Г. Белинском. Она посвятила себя на борьбу со всем, что ей казалось обманом, лицемерием, косностью и неоправданным самодовольством в литературе и обществе. Наделенная пылким, огненным характером, она издержала на эту борьбу всю себя до плоти и крови своей и умерла, оставив после столько же преданной любви, сколько и ожесточенной ненависти. Но врожденное отвращение от всякой лжи, претензии и призрака, столь необходимое для литературной борьбы, известный критик наш воспитал и укрепил в сообществе человека, который отвергал их примером собственного существа и не щадил как в себе, так и в самых близких людях».
Наконец, для окончательного установления истины используем авторитетное мнение Добролюбова. И хотя оно достаточно объемно, приведем его полностью. Итак, он пишет:
«Мы не скажем, что Белинский
заимствовал свои мнения до 1840 года у Станкевича: это было бы слишком много. Но, несомненно, что Станкевич деятельно участвовал в выработке тех суждений и взглядов, которые потом так ярко и благотворно выразились в критике Белинского. Мы не станем следить здесь за развитием общих философских положений, обсуждавшихся в кружке Станкевича и сделавшихся потом надолго благотворным источником критики Белинского. Здесь можно было бы найти много данных для определения значения Станкевича в кругу его друзей; но мы уклоняемся от рассмотрения этого вопроса — отчасти потому, что оно завлекло бы нас очень далеко, а главным образом потому, что это дело изложено уже гораздо подробнее и лучше, нежели как мы могли бы это сделать, в одной из статей о критике гоголевского периода литературы, помещавшихся в «Современнике» 1856 г. Мы обратим здесь внимание на явления более частные, касающиеся преимущественно тогдашних литературных явлений. В этом случае замечательно, что в письмах Станкевича встречаются большею частию
раньше общие заметки мнения, которые потом, после небольшого промежутка времени, являются уже основательно и подробно развитыми в статьях Белинского. Видно, что Белинский был наиболее энергическим представителем этого кружка; а может быть, он имел и более материальной надобности высказывать в печати убеждения, выработанные им в обществе друзей, которые менялись своими идеями между собою. Во всяком случае, очевидно, что при образовании литературных взглядов и суждений в кружке друзей своих Станкевич никогда не был лицом пассивным и даже имел некоторое влияние. Степени и подробности этого влияния, конечно, нельзя определить тому, кто не был сам в кружке Станкевича; но что влияние было, свидетельствуют многие черты, сохранившиеся в переписке. Так, еще в 1833 году Станкевич высказывает в письмах свои мысли о театре и театральном искусстве, развитые потом Белинским на нескольких страницах «Литературных мечтаний», напечатанных в «Молве» в 1834 г. В том же году Станкевич высказывает свое мнение об игре Мочалова и Каратыгина, и оно же выражается в статьях Белинского в «Молве» 1835 года и даже позже в «Наблюдателе».
Во всех письмах Станкевича, начиная с 1834 года, постоянно выражается особое увлечение Гофманом; с тем же характером является это увлечение и у Белинского, особенно в статье о детских книгах в «Отечест. Записках» 1840 г., № 3. Тотчас по выходе первого № «Библиотеки для чтения» Станкевич писал (15 января 1834 г.) к Я. М. Н<еверо>ву:
Ты, верно, читал кое-что из № 1 «Б. д. чт.». Боже мой! что это? Так как это журнал литературный, то, прочитав безжизненное стихотворение Пушкина и чуть живое Жуковского, я, чтобы видеть направление его, взглянул в отделение критики. Кажется, это подвизается Сенк<овский>. Он спрашивает, напр., должно ли исторической драме нарушать свидетельства истории? Воображение действует, след., история должна быть нарушена. Какая польза от истории? История полезна одним только: она представляет пример характеров для подражания! А что толкуют о Кукольнике — беда! Великий Байрон, великий Кукольник! Если К. не так слаб душою, чтобы не обольститься лестью, то он должен негодовать; если он доволен — пропал поэтический талант, который я в нем допускал (стр. 83).
Не правда ли, что все эти мысли хорошо знакомы нам по критикам последующего времени? Даже фраза «великий Байрон, великий Кукольник!» неоднократно повторялась потом, в насмешку над слишком решительным критиком! Не будем продолжать начатую параллель мнений Станкевича и Белинского.
В конце 1834 г. Станкевич пишет о Тимофееве, что он не считает этого автора поэтом и даже вкуса не подозревает в нем после «мистерии», помещенной в «Библ, для чтения». В 1835 году Белинский со своей обычной неумолимостью высказал то же в «Молве», и вскоре Станкевич оправдывает критика, говоря в письме к Н<еверо>ву: «Мне кажется, что Белинский вовсе не был строг к Тим-ву, хотя иногда, по раздражительности характера, он бывает чересчур бранчив».
В марте 1835 г. Станкевич писал о Гоголе: «Прочел одну повесть из Гоголева «Миргород», — это прелесть («Старомодные помещики», так, кажется, она названа. Прочти! как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни!)». Именно на этой мысли основан разбор «Старосветских помещиков», помещенный Белинским в статье его «О русской повести и повестях г. Гоголя» в 7 и 8 (июньских) №№ «Телескопа».
В апреле 1835 года Станкевич извещает Не<веро>ва: «Надеждин, отъезжая за границу, отдает нам «Телескоп». Постараемся из него сделать полезный журнал, хотя для иногородних, прибавляет он. По крайней мере, будет отпор «Библиотеке» и странным критикам Ш<евырева>. Как он мелочен стал!»
В начале июня Станкевич уведомляет своего приятеля, что «Телескоп» уже передан Белинскому. «Я, — прибавляет он, — тратить времени на «Телескоп» не стану, но в каждое воскресенье мне остается два-три часа свободных, в которые я могу заняться. Кроме того, мы всегда будем обществом
совещаться о журнале». Тут же говорится, что «Наблюдатель» плох и что Ш<евырев> обманул ожидания Станкевича и его друзей — и оказался педантом. Из этого видно, какое близкое, душевное участие принимал Станкевич в издании «Телескопа» Белинским, и нет сомнения, что он в самом деле много помогал ему своими советами. По крайней мере, на мнения его о Ш<евыреве> в «Московском наблюдателе» последовал отголосок в 9-й книжке «Телескопа», т. е. через два месяца, а в 5-й книжке следующего года помещена специальная статья Белинского: «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя», где много досталось ученому профессору Шев<ыре>ву.
В ноябре 1835 г. Станкевич писал, что Бенедиктов не поэт, а фразер: «Что стих, то фигура, ходули беспрестанные. Бенедиктов блестит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми стихами. Набор слов самых звучных, образов самых ярких, сравнений самых странных, но души нет». Вслед за тем (в XI книжке «Телескопа») явилась статья Белинского о стихотворениях Бенедиктова, великолепно развившая то же самое мнение, которого критик наш до конца держался. По поводу этой статьи приятель Станкевич сообщил ему слухи о том, будто бы удары, наносимые рукою Белинского, направляемы были Станкевичем, и последний отвечал на это с обычной своей искренностью: «Не знаю, откуда эти чудные слухи заходят в Питер? Я ценсор Белинского? Напротив, я сам свои переводы, которых два или три в «Телескопе», подвергал ценсорству Белинского, в отношении русской грамоты, в которой он знаток, а в мнениях всегда готов с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам. Конечно, его выходка неосторожна, но не более; он хотел напасть на способ составлять репутацию и оскорбил человеческую сторону Бенедиктова. Я ему это скажу».
В 1837 г. Станкевич уехал за границу, и литературные суждения в его письмах попадаются реже. Поэтому и мы здесь остановимся. Сделаем только еще выписку из одного письма Станкевича, заключающую в себе его мнение о народности. Вот что говорит он:
Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя — можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит — хотеть продлить для него время детства: давайте ему общее, человеческое, и смотрите, что он способен принять, чего недостает ему? Вот это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом никуда не годится.
Это самое мнение с удивительной близостью, даже к способу изложения, подробно и энергически развил Белинский в статьях своих от Руси до Петра, в «Отеч. Записках» 1841 г., т. е. через три года после письма Станкевича.
Мы не перебирали всех статей Белинского и всех мнений, в которых он сходился со своим другом. Мы называли только те статьи, которые мы могли припомнить и которые относятся к частным явлениям литературы. Но сходство частных суждений, по нашему мнению, еще ярче рисует связь, существующую между людьми, нежели согласие в общих истинах. Поэтому мы полагаем, что и представленных фактов довольно уже для того, чтобы отнять у всякого право сказать: между Белинским и Станкевичем не было взаимной зависимости друг от друга! Чтобы говорить это, надобно не знать деятельности Белинского до 1840 г., т. е. до смерти Станкевича».
Как видим, и Добролюбов беспристрастно оценил роль Станкевича в судьбе Белинского. А что же сам Белинский, что он думал о человеке, который поддерживал огонь на философском алтаре и давал ему возможность ни в чем не отстать от широкого умственного течения?
К чести нашего замечательного критика, он никогда не отрицал огромной роли Станкевича в своем развитии и до конца жизни хранил в своем сердце имя этого человека.
По меткому выражению Белинского, «на умственном руководительстве гипнотизированных им друзей стояла нежная, светлая и гуманная личность Станкевича с ее одинаково чуткой к мышлению и к творчеству, поэзии, искусству, натурой, одаренной способностью не подчинять, не властвовать, а вдохновлять, воспитывать, развивать, — не создавая лично, жить в мыслях и созданиях людей, им просветленных».
Вообще отношения между «Небесным Николаем» и «Неистовым Виссарионом» носили не только интеллектуальный, но и задушевный характер. Пожалуй, в то время не было для Белинского ближе друга, чем Станкевич. Белинский, всегда тянувшийся к личностям «гармоническим», обрел в Станкевиче нравственный тип, составляющий контраст и дополнение к его мятежно-бунтарской натуре.
Об искренности их отношений можно судить по той обширной переписке, которую они вели начиная с первых дней знакомства. Сохранившиеся многостраничные эпистолярные листки позволяют нам еще больше узнать о их большой дружбе и эпохе, в которой они жили и творили.
«Сиверион Григорьевич, ангел ты мой! — пишет ему Станкевич в одном из своих писем. — Ты на меня серчаешь за то, что я не писал к тебе: как быть? Одолели болести… Ты, верно, не получил письма моего из Пятигорска — иначе, наверное бы, отвечал. Каковы твои дела? Я перебираю «Телескоп» и ищу твоей беседы… вот, вот он — кулак, все сокрушающий! На этот раз он гвоздит пресловутого Кони… «Вот тебе раз, вот тебе два, вот тебе три». Славно — но в № 10 нет имени Виссариона!»
«Душенька Белинский! — обращается он в другом письме. — Как мне хочется с тобою увидеться и наговориться! Что каналья, что бестия! Ага, каналья! Тешься подлец, а мне…
Пора, пора, в рога трубят —
Псари в охотничьих уборах…»
Такими же дружескими чувствами пронизаны и письма Белинского Станкевичу. «Друг мой, Николенька!» — этими словами обычно начинал он свои послания. И дальше: «Наконец-то я собрался писать к тебе… Ах, Николай, Николай, когда я увижу тебя, мне это представляется чем-то невозможным, фантастическим. Не сердись на меня, что редко и мало пишу к тебе».
Белинскому тоже не терпелось вдоволь наговориться со своим другом. И хотя он писал редко, но зато много. Некоторые из его изданных писем Станкевичу написаны в один, а то и два авторских листа (примерно 80 тысяч знаков. —
Н. К.). Впрочем, у Станкевича письма не меньше.
По сути, письма Станкевича и Белинского — это литературные произведения, в которых переплелись жанры статьи, рецензии, очерка, рассказа… Сегодня они дают нам возможность узнать то, что происходило в русской общественной и литературной жизни. Одновременно эти письма являются важным источником, имеющим огромное значение для изучения личности и творчества их авторов, эпохи, в которой они жили, людей, которые их окружали и входили с ними в прямое общение.
Но диалог через письма, хотя они и проникнуты лиризмом, философствованиями, непринужденностью стиля, острыми, подчас нескромными шутками, — это все-таки не живое общение. К тому же оно обусловлено определенными обстоятельствами, когда люди по тем или иным причинам вынуждены находиться далеко друг от друга.
Станкевич и Белинский, бывало, не виделись месяцами. А в 1837 году, с отъездом Станкевича за границу, расстались навсегда. И тем не менее много времени, а это не один год, друзья находились рядом. Они вместе ходили в театр, заглядывали в гости к Аксаковым, Боткиным, Беерам, М. С. Щепкину, Мельгунову… Там вели нескончаемые разговоры вокруг новой западной литературы и ее представителей — Гёте, Шиллера, Бальзака, Сю. Из русских авторов наибольший интерес вызывали Пушкин, Гоголь, Баратынский, Кукольник, Полевой.
Друзья часто посещали известный литературный салон Екатерины Левашовой, где бывали Пушкин, Чаадаев… Регулярны были также прогулки по Москве, в ходе которых они продолжали вести свои задушевные беседы на различные темы. Послушаем рассказ Станкевича об одной такой прогулке во время Пасхи:
«До 12-ти мы с Красовым не ложились… В половине 12-го мы вышли во двор и ходили с трубками, погода была тихая, прекрасная, небо ясно и усыпано звездами… Вдруг ударили колокола и вся Москва забалабонила. К нам пришел Белинский и увлек нас в Кремль. Мы подходили к Иверской и услышали пушки: Василий Блаженный вдруг озарится их молнией, и удар рассыпается по Кремлю. Пока дошли мы до места, стрелять уже перестали, но мы издали слышали музыку и пальбу — возвратились к заутрене к Козьме и Дамиану. Потом я целый день славил Христа…»
Случались их совместные поездки и за пределы Белокаменной. Часто, к примеру, бывали в Тверской губернии, где в Прямухине, неподалеку от Торжка, проживало большое семейство Бакуниных. Оно принадлежало к числу редких в те времена семейств, где жизнь не была похожа на обычные нравы помещичьего быта и где, напротив, были знакомы и ценимы умственные и эстетические интересы. Прибытие гостей неизменно оживляло жизнь в усадьбе. Завязывались споры, длящиеся часто до утра; дом превращался то в философский клуб, в котором царили Гердер, Шеллинг, Кант и Гегель, то в музыкальную гостиную, где главенствовали Моцарт, Шуберт, Бетховен…
В этой семье, включая пятерых братьев Михаила Бакунина, было еще четыре сестры — Варвара, Любовь, Татьяна и Александра. Образованные, прекрасно воспитанные, милые и неглупые молодые девушки придавали прямухинскому дому аромат изящества и интеллектуальности. За одной из сестер — Любовью ухаживал Станкевич, а Белинский был увлечен самой младшей — Александрой.
В амурных делах Станкевич был опытнее друга. Белинский в обществе прекрасных дам лишался дара речи и становился сам не свой, считая себя некрасивым и недостойным внимания барышень. Он мучился и паниковал. Но именно Станкевич помогал ему преодолевать робость перед женским полом.
Расставаясь, Станкевич и Белинский жили ожиданием встречи. И даже тогда, когда Станкевич уехал на лечение за границу, друзья мечтали скоро свидеться. Но надеждам не суждено было сбыться. Вдали от России первым уйдет из жизни «Небесный Николай». Ненадолго переживет своего друга и «Неистовый Виссарион». Однако до конца дней своих оба они хранили верность дружбе, которой всегда дорожили.
Панаев вспоминал, как у Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал ему о Станкевиче и знакомил с его «нежною, тонкою, симпатическою личностию». «Станкевич был душою, жизнию нашего кружка, — прибавил Белинский в заключение, — теперь уже не то. Самое цветущее наше время прошло! Он своей личностию одушевлял и поддерживал нас. Бакунин как ни умен, но он не может заменить Станкевича…»
В рабочем кабинете Белинского висел акварельный портрет Станкевича. Он часто, глядя на него, мысленно разговаривал с другом. Буквально за несколько часов до смерти Белинский вновь бросил взгляд на портрет и тихо прошептал:
— Куда делась гениальная личность Станкевича?..
Потом, собравшись с силами, которые все больше его покидали, задумчиво сказал:
— Нам — мне, Боткину, Бакунину, Аксакову, Тургеневу — всем нам казалось невозможным, чтобы смерть осмелилась подойти к такой божественной личности. Подумайте о том, что был каждый из нас до встречи с ним. Нам посчастливилось…
Слова эти Белинский произнесет в мае 1848 года. А пока жизнь продолжалась…
Глава одиннадцатая
«В ОЧАГАХ ОТЕЧЕСКИХ»
Летом 1834 года Станкевич успешно завершил учебу на словесном отделении университета и получил официальный документ, удостоверяющий результаты его четырехлетнего курса: «Был испытываем в науках оного отделения, показал отличные успехи при таковом же поведении; почему определением университетского совета сего 1834 года июля 30 дня утвержден кандидатом отделения словесных наук».
Кандидатское звание, присвоенное Станкевичу, считалось высшим для выпускника университета. У тех же, кто учился не столь прилежно, в выпускном аттестате была совершенно иная запись: «Действительный студент».
Еще в начале мая в письме Неверову Станкевич привел «правила» выпускных экзаменов и порядок получения кандидатского звания: «…Число шаров делится на число предметов, и, смотря по тому, к чему ближе подходит частное их число — к 4-м или 3-м, выпускают кандидатом или действительным студентом. У нас 9 предметов: посему на кандидата дается 32 шара, а на действительного — 23».
Нетрудно высчитать, что для получения звания кандидата необходимо было набрать в среднем более 3,5, а действительного студента — более 2,5 шара (по-современному — баллов). Станкевич без затруднений набрал кандидатские шары. Как впрочем, и его товарищи. В том же году, и тоже кандидатами, закончили университет Красов, Строев, Бодянский, Ефремов… А двумя годами раньше кандидатом был выпущен Клюшников. Самый же молодой из этой когорты — Константин Аксаков — окончил университетский курс и получил кандидатское звание в 1835 году. При этом последний не преминул воскликнуть в своих стихах:
Как быстро годы пролетели,
И, полный грустию немой,
Свершенный путь о колыбели
Я повторяю пред собой.
Как много сильных впечатлений
По сердцу юному прошло,
Как много сладких заблуждений
Губитель — время унесло.
После пролетевших студенческих годов для Станкевича наступил, как он выразился, «возраст деятельности». Но перед тем как возвратиться в отеческие края, где он уже решил посвятить себя службе на педагогическом поприще, Станкевич совершает недолгую поездку в Петербург.
Незадолго до окончания университета он писал Неверову, служившему в столице в Министерстве народного просвещения: «Бог даст, по окончанию курса я отправлюсь в Петербург в последних числах июня или в первых числах июля… На душе моей так много лежит, я хотел бы свалить весь этот груз на твою душу. Мы побеседуем о планах жизни, мы заключим тот союз, которого не могли заключить среди суеты московской, — союз дружбы и чести! С тобою прокатимся мы по Неве, полюбуемся на Каратыгина, посмотрим на Эрмитаж, Казанский собор. Ты будешь моим путеводителем… Душа моя! Мы побеседуем с тобою! Лишь бы здоровье мое поправилось, а то все головная боль отзывается; боюсь, чтобы Петербург не имел вредного влияния на мой организм. Но во что бы то ни стало — еду, еду!.. К тебе, к тебе — в Петербург!»
Действительно, посещение им столицы было обусловлено встречей
с близким и дорогим сердцу другом Януарием Неверовым. Но одно дело — их диалог посредством писем, которые, как бы они ни были часты и подробны, никогда не заменяли им общения. И совсем другое дело — увидеться живьем, крепко обняться, расцеловаться и, наконец, вдоволь наговориться.
Так, собственно, они и свиделись. А потом вместе часами бродили по Петербургу, любовались его улицами и дворцами, посещали музеи, театры, обсуждали философские проблемы, новинки литературы.
В свое время, когда после окончания университета Неверов уехал в столицу, Станкевич писал ему в одном из своих посланий: «И петербургский климат, и его люди — все должно на тебя действовать враждебно. Если нужны сравнения, а lа Киреевский, философские, то я скажу: Москва — идея, Петербург — форма; здесь жизнь, там движение — явление жизни; здесь — любовь и дружба, там — истинное почтение, с которым не имеют чести быть и т. д. Берегись продажных объятий и гладко причесанных друзей; смотри чаще на море, красу и прелесть сухого Петербурга, читай Жан-Поля, гуляй в Петергофе и думай о Сокольниках. Будь Москва в душе, но в Петербурге — Петербург с виду».
Находясь в Петербурге, Станкевич вновь отдает предпочтение Белокаменной: «…Петербург не то что Москва, — и наоборот. Все улицы вытянуты здесь в одну шеренгу, здания стройны, правильны, изящны; во всем вкус, богатство — но к этой красоте надобно привыкнуть или надобно изучить ее, а где найдется
Кремль другой, который бы остановил на себе взор европейца и варвара, который бы повеселил душу своими золотыми головками? Где наша пестрая, беспорядочная, раздольная Красная площадь, с своими бабами, извозчиками, каретами, с своим лобным местом, кремлевскою стеною и чудаком Василием Блаженным? Нет! «Едва другая сыщется столица, как Москва!» Тот, кто бестолков, как Скалозуб, скажет только: «Дистанция огромного размера!» Но мы не станем говорить ничего против Скалозубов! И художник Венециянов говорит, что Москва привлекательна, а Неверов приписывает Петербургу красоту классическую, более нормальную, Москве романтическую — и я с ним совершенно согласен».
В связи с чем Станкевич проводит такие параллели? Что вызывает у него антипатию к Петербургу? Ответы на эти вопросы найти легко, если сравнить состояние тогдашней общественной жизни двух столиц — старой и новой. Оно, безусловно, было различным, при всем том, что и в Петербурге, и в Москве кипела жизнь. Однако в столице империи она была чиновничьей, официальной, деловой. Тогда как в Первопрестольной эта жизнь, несмотря на разного рода запреты властей, текла в ином русле: там увлекались книгами, искусством, рождались идеи, глубоко разрабатывались вопросы истории, философии… Москва опережала Петербург, и опережала значительно.
Так считал не только Станкевич. Остроумный Гоголь писал:
«Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч, и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности…»
А вот еще одно свидетельство современника о чиновничьем Петербурге: «Я вижу столько глупых плутов, достигших высокого положения, что у меня является желание или сделаться негодяем, или застрелиться». Эти слова произнес в 1831 году будущий известный русский историк, а впоследствии друг Станкевича Тимофей Николаевич Грановский.
Не в восторге от Северной столицы был и однокурсник Станкевича Лермонтов, который, бросив в Москве университет, решил продолжить свое образование в Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Первые впечатления от Северной столицы у Лермонтова были крайне тягостными:
Там жизнь грозна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.
Подобная тональность будет присутствовать и в последующих стихах Лермонтова, хотя позже он назовет Петербург «совершенно европейским городом и владыкой хорошего тона». Куда более резко высказался в своих стихах Пушкин: «Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный… Скука, холод и гранит». Ему принадлежат и эти слова:
Пора! В Москву, в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи — лед, сердца — гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.
И тем не менее Станкевич любил Петербург. Разумеется, не за его высокомерие, чопорность и холодность.
Для Станкевича поездка к своему наперстнику Неверову в Петербург была в какой-то степени и знаковой для его последующей жизни. Нельзя забывать: Станкевич решил посвятить себя педагогической деятельности, а с кем, как не с чиновником Министерства народного просвещения, каковым являлся Неверов, нужно было сверить свои мысли, планы.
Иными словами, их встреча не была просто встречей давно соскучившихся друг по другу людей. Станкевичу она помогла окончательно увериться в правильности своего выбора, о чем он позже не преминул написать Неверову: «Я много обязан тебе и Петербургу… Ты — славный дядька!»
Недолгое пребывание Станкевича в Петербурге позволило ему расширить круг своих новых знакомств. Благодаря Неверову он знакомится с замечательным русским художником Алексеем Гавриловичем Венециановым. Ему уже было за пятьдесят, и он являлся известным живописцем, автором картин «Утро помещицы», «На жатве», «Спящий пастушок», «На пашне». В его гостеприимном доме собиралось самое образованное общество художников и литераторов, все находили удовольствие проводить у него вечера. Гоголь, Жуковский, Гнедич, Крылов, Козлов, Пушкин — вот далеко не полный список его гостей.
Однако в тот период художник переживал не лучшие времена. Смерть жены, трудности в делах его школы живописи глубоко удручали Венецианова. Не было сил и работать — сказывалось сверхмерное напряжение предыдущих лет. И вот знакомство со Станкевичем. Для художника, как он потом говорил, эта встреча была отрадой его сердцу и словно бы реализацией во плоти его идеального представления о человеке. Все в Станкевиче было Венецианову близко до боли, все мило. В его пристрастии к высоким идеалам не было ничего выспреннего или напускного, высокий духовный строй пронизывал все его существо.
В свою очередь, глубокий ум и широкая доброта Венецианова сразу покорили Станкевича. Он нашел в этом умудренном годами человеке своего единомышленника и одновременно учителя, который сразу повел молодого философа в академию, в Эрмитаж. В июле 1834 года Станкевич в одном из писем сообщает Красову, что под «руководительством» Венецианова он «поучается над очерками эрмитажных картин, которые обозрел их лётом, а теперь начинает рассматривать в подробности».
Интерес к искусству, который сумел пробудить в душе Станкевича Венецианов, окажется столь серьезен, что два года спустя он напишет из Удеревки Неверову: «Я думаю сблизиться более с искусством… Спроси у доброго Венецианова. Мне хотелось бы познакомиться ближе с живописью, узнать теоретически различные школы живописцев и их отличия, господствующие вкусы эпох, чтобы не соблазняться и уметь отдать кесареву кесарево, а божье — узнает душа, если она не совсем заросла земной корою. Кроме того, хотел бы я узнать биографии художников. Каждое произведение составляет два произведения: одно безотносительное, которое ценится чувством с первого взгляда, и другое — составляющее целое с жизнью художника, отдельное явление в драме его жизни. И много произведений, имеющих небольшую цену безотносительно, получают высокий смысл, рассматриваемые в отношении к их творцу».
Этот маленький факт много дает нам для понимания и личности Венецианова, и отношения к нему Станкевича. Не у кого-либо из академической профессуры или модных столичных живописцев хочет Станкевич постигать тайны понимания искусства, а именно у Венецианова. В этом не только свидетельство признания его творчества, но и знак того, что художник владел еще и даром увлекательно и серьезно говорить о сути искусства.
Уроки Венецианова впоследствии пригодятся Станкевичу. Находясь за границей, он подробно знакомился с европейскими памятниками архитектуры и зодчества, посещал картинные галереи, где видел подлинники произведений великих мастеров, в том числе Рафаэля, Тициана, Микеланджело, Рубенса… Результатом этих посещений стали многочисленные заметки Станкевича об искусстве, художниках. Эти записки и сегодня представляют непреходящую ценность. Кроме того, перу Станкевича принадлежит рассказ «Три художника», написать который его сподвигло увлечение живописью.
Трудно утверждать, испытал ли Венецианов, будучи старше Станкевича на тридцать лет, на себе его влияние. Гораздо важнее другое: каждый шел своим путем, но по прошествии времени оказалось, что не только направление пути было у обоих общее, айв мыслях, в понимании некоторых творческих задач, нравственных проблем у художника и философа оказалось немало родственного.
Станкевич был твердо уверен, что человек не может иначе удовлетвориться, как «полным согласием с самим собою, и что искать этого удовлетворения и согласия всякий не только может, но и должен». Путь к этому один — самопознание, самоусовершенствование. Как раз этим путем старался всю жизнь следовать Венецианов.
Уже в поздние годы Венецианов, подводя некоторые итоги деятельности и утверждаясь в правильности давних своих мыслей, напишет: «Кто привыкнет жить с самим собою, тот вместе приучится жить со всеми, то есть снисходить всем, а через это избавится иметь нужду
городскую льстить, следовательно, избавится от рабства». Так мыслил и Станкевич.
В августе Станкевич, полный впечатлений, приезжает в родную Удеревку. С детских лет не было для него ближе этих мест — красивых и привольных. Не было теплее этих названий — Тихая Сосна, Удеревка, Ближнее Чесношное, Русская Матренка, Верхний Олыпан, Зара, Калинов Яр…
Вся прелесть последнего летнего месяца предстала перед ним. Еще куковали кукушки, ворковали горлинки, пели коноплянки и зарянки. Спелый неповторимый запах яблок и груш висел над садами. В домовом Покровском храме и окрестных церквях чуть ли не через день заливались колокола по случаю праздников. А их в августе, как звезд на небе, много. Ильин день, Медовый Спас, Яблочный Спас, Ореховый Спас…
«Уф! — по-детски восклицает Станкевич. — Теперь, пообжившись здесь, я снова не в состоянии понять, как люди могут жить в городе, взаперти, отказаться от чистого воздуха, от природы!.. Физически я начинаю поправляться. А нравственно? Кажется, тоже… Я живу во флигеле… Мне отведены две небольшие, но хорошенькие комнаты в конце флигеля, против дома. Передо мною луга, поля, а налево — главное жилище. Комнаты мои сельские, дом недавно выстроен и потому не штукатурен, а вымазан — это имеет свою прелесть, придает вид какой-то милой простоты. Одну комнату украшают два зеркала, под ними два маленьких шкафчика, верх которых заменяет столик, а середина наполнена книгами. В другой комнате моя постель, портрет папеньки, ружье, ломберный стол и секретерка, которая мне очень по вкусу».
И далее, в другом письме: «Перед окнами ходят два журавля и четыре собаки:
Фазой, молодой человек с хорошими способностями, но еще мало образованный — я с ним охочусь;
Вадим — не лучше оперы
Вадим — прездоровая собака, черт сущий, глуп! Его даже нельзя назвать и добрым человеком, ибо это имя дается тому, кто не ест сальных свеч, а за ним этот грех водится. Третий —
Фазой же, сын моей покойной Дианки: миры спят в нем — но об его воспитании вовсе не заботятся — он ест, пьет и гоняет свиней. Четвертая собака —
Жучок, черная дворняжка, есть нечто вроде верных оруженосцев в рыцарских романах. Он бескорыстно любит нас и следует за нами на охоту, хотя не принимает в ней никакого участия… Вот мой двор. Все это преважно пародирует перед моими окнами… Деревня мне по сердцу, я нежусь в семействе, хочу
младенчествовать, забывая все неприятное, я далек от всех авантюров, как это называют добрые люди. Брожу по лугу, вспоминаю как бродил прежде, с какими фантазиями, и сознавая тщету их, улыбаюсь…»
Однако уже в конце ноября 1834 года Станкевич направил в Харьковский университет, в ведении которого находились все учебные заведения Воронежской губернии, прошение об определении его почетным смотрителем Острогожского училища.
А 14 декабря он написал своему другу Неверову письмо, в котором содержались такие сведения, пожелания и просьба: «Сегодня послал я в Харьков прошение об определении меня в почетные смотрители Острогожского уездного училища. Представление пойдет к министру, и если он утвердит, то у меня будет прекрасный мундир, а виц-мундир такой, как у тебя. Мне приятно будет, впрочем, заниматься училищем: устав прекрасный! Хорошо, если бы подумали о средствах исполнить его: этого только не достает России, чтобы поравняться с Европой… Будь здоров, покоен, верь моей дружбе и, при случае, замолви у министра словечко за будущего почетного смотрителя, друга твоего
Станкевича».
Не прошло и месяца, как 3 января 1835 года из Харьковского университета пришел документ следующего содержания: «Господину предводителю дворянства Воронежской губернии. Воронежской губернии Острогожского уезда дворянин Московского университета кандидат Николай Станкевич вошел с прошением об определении его почетным смотрителем в Острогожское уездное училище. Вследствие чего университет сей покорнейше просит Ваше превосходительство уведомить оный как о нравственных качествах упомянутого Станкевича, так и о мнении, какое он заслужил в сословии дворян. Профессор Николай Архангельский».
На документе рукой одного из чиновников была нанесена следующая резолюция: «Уведомить, что Станкевич в документе назван кандидатом Московского университета потому, что ему, как успешно закончившему университетский курс, была присуждена ученая степень кандидата».
И 4 февраля 1835 года воронежский губернский предводитель дворянства дал ответ на запрос университета. Вот что он сообщал: «В императорский Харьковский университет. На отношение оного университета… честь имею ответствовать, что острогожский дворянин, Московского университета кандидат Николай Владимирович Станкевич нравственных качеств весьма благородных и мнение о нем дворянства, заключая по известности мне личных его достоинств, не может быть такое, которое бы не делало… Станкевичу чести».
Переписка продолжалась недолго. В апреле 1835 года министр народного просвещения утвердил Станкевича в должности почетного смотрителя Острогожского уездного училища. В соответствии с ней почетным смотрителям вменялось в обязанность «иметь надзор за училищами и оказывать им сообразное со средствами вспоможение».
«Мне это приятно, — сообщает он в письмах Неверову. — Я свободен, мундир хорош, я пристроен к месту и могу сделать что-нибудь для училища».
Станкевич с большим желанием принимается за исполнение своих обязанностей. У него много идей, замыслов, которые он планирует реализовать в скором времени. О них наш герой говорит все тому же Неверову: «Я намерен вывести наказание, так называемыми, палями, т. е. линейкой по рукам, ввести поблагороднее обращение между учителями и учениками, невзирая на звание последних, и, наконец, понаблюсти за учением…»
Кроме того, новый почетный смотритель мечтает ввести в родном училище «Ланкастерову методу» — метод, впервые примененный английским педагогом Ланкастером. Суть его заключалась в том, что старшие учащиеся под наблюдением учителя обучали младших. С этой целью Станкевич собирает необходимый материал по организации ланкастерских школ в Англии и Франции. Примечательно, что в России в тот период создание подобных школ всячески поощрялось. Поэтому Станкевич и намеревался внедрить этот прием взаимного обучения в отеческих краях.
Одной из важных обязанностей почетных смотрителей являлось оказание материальной помощи учебным заведениям. Уже в первый год своей деятельности Станкевич пожертвовал в пользу уездного училища 200 рублей. Надо сказать, по тем временам это были немалые деньги. За сделанное им пожертвование в октябре 1835 года министр народного просвещения граф С. С. Уваров изъявил ему, а также ряду других смотрителей «свою признательность».
Служба почетным смотрителем не сильно обременяла Станкевича. Инспекторские поездки в училище и школы не были каждодневными, что позволяло ему заниматься самообразованием. В свободное время он продолжает изучать историю, философию.
Занимается он много и серьезно, о чем свидетельствует его послание из Удеревки Неверову: «Я тебе писал уже, кажется, о плане моих занятий: я его не изменил и ему не изменил. Но так как мне не высылают до сих пор атласа из Москвы, то я отложил на время Геродота (прочитав первую книгу) и прочел несколько мелких исторических сочинений Шиллера, которые так живописны, так одушевлены, что я в месяц сделал бы удивительные успехи в истории, если бы Шиллер вздумал сам изложить ее всю. Прочел я «Систему трансцендентального идеализма», понял целое ее строение, тем более, что оно было мне наперед довольно известно, но плохо понимаю «цемент», которым связаны различные части этого здания, и теперь разбираю его понемногу. Не смейся! — это одушевляет меня к другим трудам, ибо только целое, только имеющее цель может манить меня. Например, если бы я не читал «Практической философии» Шеллинга, я бы никогда не принялся с такой охотой за историю, как примусь за нее теперь. Прошло время, когда блестящая мысль была для меня истинною, но потребность веры становится сильнее и сильнее, а постепенное воспитание человечества есть одно из сладчайших моих верований. И как отрадно видеть его в согласии с бытием природы, с сущностью человеческого знания, человеческой воли! Только — или я худо понимаю Шеллинга, или мысли его о человеке оскорбительны! Полагая, что натуральное влечение одного человека (эгоизм) ограничивает свободу другого, он говорит, что прогрессивность в истории есть улучшение общественных отношений (законов), т. е. улучшение средств противодействовать эгоизму, уравновешивание эгоизмов через действие и противодействие. Он исключает из истории науки и искусства и допускает только по степени их влияния (больше вредного, по его мнению) направление. Мне больше по сердцу мысль Гизо — представить в истории постепенное развитие человека и общества…
Я читал несколько повестей из «Contes de Jacob Bibliophile a ses petits enfants» («Сказки для внуков» Жакоба Библиофила. —
Н. К.). Что это за прелесть, друг мой! Прочти, ради Бога! Они написаны без всякой нравственной цели, но в них чистая нравственность, и как верно характеризована в них старая Франция, старый французский двор! как живо представлены отношения короля к придворным, отношения принцев и принцесс! Прелесть!»
А вот еще одно подтверждение напряженной самообразовательной деятельности Станкевича. В октябре он сообщает Неверову: «…Вот третье письмо к тебе из деревни — третий рапорт о моей жизни в деревне! Не обвиняй меня, если он содержанием и формою будет сходен с первыми: виновата жизнь моя — ровная, гладкая, сытая, слава богу, — без головной боли и без больших сердечных радостей… Однако я прочел 6 книг Геродота и «Систему» Шеллинга, которую — простите, Януарий Михайлович! читаю во второй раз, а почему и для чего, о том следуют пункты…
В старые годы я ставил единое благо в философии — так и должно было думать, то был возраст непреодолимой жажды к знанию, возраст веры в силы ума и возраст сомнений в старых шатких верованиях, а удобно было дать пищу душе, надобно было смирить междоусобие в ее недрах, надобно было запастись побуждениями к деятельности. Система сменялась системою, но круг знаний расширялся, и высокие предметы исследования поставили душу выше благ мира сего… Но в моем учении недоставало прочности и постоянства. Приблизился возраст деятельности, а я чувствую, что многого не знаю. Интерес наук умалился
с верою в решение высочайших вопросов. Этот интерес принял другой оборот, я ищу истины, но с нею и добра. История обещает мне много, как для одной, так и для другого… Геродот любопытен, но его детская болтливость несносна. Он рассказывает событие, и в него вплетает историю всех мест и народов, участвующих в событии, что развлекает внимание, интерес и чувство, единством которого хотел бы я обнимать каждое событие. Между тем вставки эти иногда важны сами по себе, а их, право, не возьмешься упомнить, ища главной нити в описываемом происшествии».
Сельская жизнь побуждает Станкевича, хотя это редко случается, к творчеству. В минуты вдохновения он продолжает писать стихи. В Удеревке в тот год им были написаны стихотворения «Две жизни», «Вздымают ли бури глубокую душу…».
Однако на фоне ровного и спокойного деревенского уклада жизни было одно весьма неприятное обстоятельство, начинавшее все больше беспокоить Станкевича. Приступами непонятно откуда взявшейся болезни вызывалась тревога. Он старается о ней не думать, не говорить, но близкие, друзья уже замечают часто застывающую печаль на его лице.
Обратимся к воспоминаниям сестры Александры: «Хорошо помню его лицо с серьезным, кротким выражением! С таким выражением лица часто я видела его, проходя по коридору мимо его комнаты… Задумавшись, стоял он иногда, прислоняясь к старинной печи в виде колонны и с бюстом на самом верху ее. Ясно помню его бледное лицо, окаймленное черными волосами, довольно длинными. Его небольшие карие глаза из-под нависших бровей напряженно глядели вдаль, через окна комнаты, выходившие в наш обширный сад. У этих окон стоял стол с его книгами, за которыми он проводил несколько часов в день, и мы, дети, на цыпочках проходили мимо его двери, частью отворенной. В памяти моей ясно сохранился весь образ его, сухощавый, но стройный, и часто с наклоненной на грудь головою. Таким видела я его и позднее…»
Болезнь, которая, подобно клещу, медленно-медленно впивалась в организм Станкевича, называлась чахоткой, а выражаясь современной медицинской терминологией, — туберкулезом. Рецепты лечения этого страшного инфекционного заболевания в российской и зарубежной медицине в то время практически отсутствовали. Поэтому люди, пораженные им, были обречены на долгую и мучительную смерть.
Знал ли об этом Станкевич? Безусловно, о болезни знал. Но вряд ли он верил в то, что сам ею болен. Хандра, головные боли, изредка тяжесть в груди — все это списывалось им на ненастную погоду, многочасовые занятия наукой…
Однако все чаще и чаще в его письмах появляются строки о недомоганиях, докторах, лекарствах. «Здоровье мое мало поправилось, — пишет он, — головные боли сделались слабее, вдвое слабее прежнего, но зато и вдвое чаще. Завтра намерен я поставить шпанскую мушку. Голова болит у меня более по вечерам, и мысль о болезни мучит меня более, нежели сама болезнь, которая физически не так мучительна… Кажется, что я вечно осужден страдать этой болезнью, никогда не чувствовать той жизненной теплоты, того если не изобилия, то достатка сил, который я живо ощущал прежде и за который благодарил Провидение».
Еще более грустные мотивы звучат в другом письме: «Убийственная для меня мысль: болезнь похищает у тебя душевную энергию, ты ничего не сделаешь для людей. Природа, может быть, дала тебе средства стать если не выше толпы, то в передних рядах ее, а болезнь забивает в середину! А болезнью обязан ты себе, твоей небрежности, слабости характера твоего! У меня готово оправдание: зачем же дала мне природа пылкую организацию, зачем не оградила детства моего? Но, на душе тяжко. Очень вероятно, что болезнь моя нервическая — следствие шалостей юношества и детства… Что будет, то будет, а будет, что Богу угодно. Один вопрос я задаю себе: что я должен делать в настоящем положении? Я сделаю все, что от меня зависит».
Но Станкевич не унывает, со свойственным ему чувством юмора он пишет друзьям: «Здоровье мое грошовое, а все-таки живу: скрипучее дерево долго тянется… Вот несколько дней кряду опять побаливала моя буйная, но теперь я опять поздоровел».
Молодой организм Станкевича, хотя и слабый с детства, упрямо боролся с болезнью. Когда она отступала, он чувствовал прилив сил, душа требовала работы. «Часто я, бог знает как, расфантазируюсь о своих подвигах, потребность деятельности не дает мне покоя», — писал он в одном из своих писем.
И далее, в очередном письме, адресованном Неверову, подтверждает свои намерения: «Что тебе сказать о моих планах на зиму, которые ты хочешь знать? Я, кажется, уже писал тебе о них: Москва, история, музыка, может быть, английский язык, общество Мельгунова и братии — вот моя будущность, о которой я думаю не без удовольствия! В Москву я должен ехать потому, что она представляет более средств моим занятиям, нежели Удеревка, и потому, что там братья; история — я писал почему; общество Мельгунова (литературный критик. —
Н. К.) — потому что я его люблю, что он умен, добр, честен, чувствует, играет на фортепьяно и пишет повести; братию, т. е. бывших товарищей — оттого, что они были мне товарищами и, может быть, будут еще по занятиям, службе, по общему желанию — трудиться на пользу Отечества».
Глава двенадцатая
ДРУЖБА С КОЛЬЦОВЫМ
Новый, 1835 год Станкевич встретил в деревне. Встретил шумно, весело, радостно. Праздник отмечался в дружеском, многочисленном обществе родных, близких, друзей и соседей. Несколько дней, включая рождественские праздники, в имении шли гулянья: все пели, плясали, пили, играли спектакли, вели беседы.
Но уже в конце января Станкевич отправился в Москву. Тогда железной дороги от Воронежа до Москвы еще не существовало, и поэтому путешествие было продолжительным. От города к городу, от станции к станции, преодолев на санях по снежным барханам почти 600 верст, Станкевич под звон колокольчиков-бубенцов и песни ямщиков благополучно прибыл в Первопрестольную.
— В Москве мне отраднее, нежели где-нибудь, — говорит он друзьям. — Я опять московский житель. Здесь стены, из которых я в первый раз стал дышать новой жизнью; здесь люди, с которыми поделился в первый раз идеями…
Планов своих Станкевич не меняет: изучает греческую и римскую историю, занимается другими науками. Первое время он живет у своего приятеля Семена Шидловского на Никольской улице, а к осени перебирается на постоянное место жительства в дом в Большом Афанасьевском переулке. Этот дом, как еще недавно и дом Павлова, стал напоминать улей, был полон «братиями», то есть старыми и новыми друзьями. Вместе они, как и прежде, ведут философские споры, читают вслух Пушкина и Гоголя, обсуждают последние театральные постановки…
Вновь обратимся к воспоминаниям Аксакова, одного из участников этого круга: «Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего общества… В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большею частию отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма, все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказывалось в Кружке Станкевича, быть может, впервые, как мнение целого общества людей. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило здесь до односторонности; но, надобно отдать справедливость, односторонность эта не была крайняя, была искренняя; нападение на претензию, иногда даже и там, где ее не было, не переходило само в претензию, как это часто бывает и как это было в других кружках… Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины».
Наука, уроки для младших братьев Белинского, организация работы кружка — это лишь часть московских дел и забот Станкевича. В марте он сообщает Неверову: «Мы издаем стихотворения Кольцова. Когда они выйдут, пожалуйста, напиши об них в «Северной пчеле», что ты думаешь; а то наврет какой-нибудь неуч. Пиши беспристрастно, ты, верно, найдешь в них хорошее, а недостатков не скрывай, ты выскажешь их так, как может высказать человек, уважающий чувство, в какой бы оно форме ни явилось».
К этому времени Станкевич и Кольцов уже знали друг друга почти пять лет. Их связывала настоящая дружба. Хотя, надо заметить, в ту пору не приветствовались близкие отношения богатых и бедных, «благородное» сословие и «хамов» разделяли чуть ли не крепостные стены. И это, безусловно, делает честь дворянину Станкевичу, для которого был важнее человек, нежели его принадлежность к тому или иному социальному классу.
Вообще чем-то радужным и светлым веет от отношений этих двух замечательных людей. Их встречи не были столь частыми, но и не такими уж редкими. В каждый свой приезд в Воронеж Станкевич обязательно встречался с Кольцовым. В письмах последнего находим тому подтверждение: «Николай Владимирович Станкевич уехал в Острогожск, хотел быть в октябре, но до сих пор еще не проезжал через Воронеж…»; «Станкевич был у меня проездом…».
Брат Станкевича — Александр, один из близких знакомых Кольцова, вспоминал: «Брат семью свою посещал в деревне большею частию летом, а эта пора проводилась Кольцовым в разъездах и хлопотах по делам промысла, а потому брат видал Кольцова в Воронеже, если заставал его в городе… В деревне у нас я Кольцова не видал. Если он бывал там, то это могло быть в моем отсутствии…»
Однако упоминавшийся биограф поэта Огарков относительно поездок Кольцова в имение Станкевичей написал следующее: «…И это бывало».
Историк, уроженец здешних мест В. Ф. Бахмут не выказывает никаких сомнений, наоборот, твердо уверен в том, что поэт-прасол неоднократно посещал имение Станкевичей: «Несколько раз навещал Алексей Кольцов Николая Владимировича в его имении в Удеревке. В одном из флигелей большого дома была комната, которую в память этих приездов в семье Станкевича называли Кольцовской».
В свою очередь, приезжая в Москву, Кольцов всегда останавливался у Станкевича, проводил у него дни, а иногда и недели. Обычно он привозил вяленых и копченых лещей, мясные балыки, сало и устраивал пирушки для Станкевича и его друзей. По радушным степным обычаям, Кольцов обходил с подносом пирующих, приглашал пить и сильно приставал не отказываться от вина. Традиционно поэт-прасол произносил тост и за Станкевича, хотя тот не любил панегирики. Бывало, Кольцов
пел для Станкевича и его товарищей свои неповторимые песни. А иногда даже плясал.
Конечно, сейчас невозможно в деталях воссоздать их личные встречи. Но известно, что Станкевич всегда был рад приезду Кольцова, водил его по улицам Первопрестольной, показывал достопримечательности. Вместе они посещали Кремль, собор Василия Блаженного, бывали у Царь-пушки, у Царь-колокола…
И, понятно, вели многочасовые беседы. Вне всякого сомнения, говорили они обо всем. Как и подобает друзьям. Обсуждали дела житейские. Читали стихи. Так, читая как-то любовную сцену из «Ромео и Джульетты» Шекспира, Кольцов восторженно воскликнул:
— Эфто! Вот был истинный поэт! А я что, какой мой талант? Ледащий! (плохой, негодный. —
Н. К.).
Размышляли о порядках в России. Касаясь темы просвещения народа, Станкевич считал, что все бедствия случаются от невежества большей части граждан. Кольцов соглашался и грезил возвести в центре Воронежа на Дворянской улице большой дом, а в нем устроить книжный магазин и библиотеку для своих земляков.
Но вернемся к книге. Она была напечатана в Москве в типографии Н. Степанова, называлась просто «Стихотворения Алексея Кольцова». Издание было осуществлено при непосредственном участии Станкевича, в том числе и на его деньги. Из упоминавшейся в нашем повествовании увесистой тетрадки Станкевич выбрал 18 стихотворений. В сборник он включил стихотворения «Не шуми ты, рожь», «Удалец» («Мне ли, молодцу разудалому…»), «Люди добрые, скажите», «Песня пахаря» («Ну! тащися, сивка»), «Ты не пой, соловей», другие, которые и по сей день остаются подлинными поэтическими и песенными шедеврами.
Русская поэзия тогда еще не знала такого всплеска и порыва чувств, как их сумел выразить Кольцов. В его песнях искренне и размашисто зазвенела душа народная. Все, в них изображенное, запечатленное, было для поэта не частью чьей-то посторонней судьбы, а своим, увиденным, выношенным в сердце:
Ты не пой, соловей,
Под моим окном;
Улети в леса
Моей родины!
Полюби ты окно
Души-девицы…
Прощебечь нежно ей
Про мою тоску;
Ты скажи, как без ней
Сохну, вяну я,
Что трава на степи
Перед осенью.
Без нее ночью мне
Месяц сумрачен;
Среди дня без огня
Ходит солнышко.
Или:
Оседлаю коня,
Коня быстрова,
Я помчусь, полечу
Легче сокола.
Чрез поля, за моря,
В дальню сторону —
Догоню, ворочу
Мою молодость!
Приберусь и явлюсь
Прежним молодцем,
И приглянусь опять
Красным девицам!
Но, увы, нет дорог
К невозвратному!
Никогда не взойдет
Солнце с запада!
Литературная критика достаточно благожелательно приняла сборник самобытного поэта. Но, безусловно, основную поддержку он получил от своего земляка Станкевича и его друзей.
По просьбе Станкевича Неверов опубликовал сразу две статьи о Кольцове. Первую в журнале «Сын Отечества», одном из старейших и почитаемых печатных изданий России. А вторую — в не менее уважаемом «Журнале народного просвещения». По сути, это была первая попытка оценить творчество молодого талантливого поэта: «Вскоре… случай свел г. Кольцова с другим молодым литератором, который заметил этот талант в тиши, в безвестности напевавший сладкие и приятные песни, вверявший мечты и жизнь бумаге, коей, казалось, суждено было быть безответною могилою этих поэтических отголосков. Кольцов был понят, оценен — и молодой литератор великодушно взял на себя труд и издержки печатания».
Правда, за эти слова Неверову досталось от Станкевича, который хотя и не в резкой форме, но все же выразил тому свое неудовольствие: «Я не сердился, а смеялся за строки, напечатанные тобой в «Сыне Отечества». Шут! С чего тебе вздумалось величать меня литератором и великодушным? Ведь ты очень хорошо знал, что прославление моего великодушия вовсе мне не приятно…»
Станкевич сделал «строжайший выговор» и Белинскому за попытку последнего сказать о нем в предисловии к сборнику как о материальном покровителе издания. После этого Белинский уже никогда не писал о Станкевиче как спонсоре. Зато в рецензии «Стихотворения Кольцова», опубликованной в 1835 году в журнале «Телескоп» (ч. XXVII), он обстоятельно и предметно представил читателям творчество поэта-самородка.
«Немного напечатано их из большой тетради, — написал он о кольцовских стихах, — не все из напечатанных равного достоинства; но все они любопытны как факты его жизни… Большая часть положительно и безусловно прекрасны. Почти все они имеют близкое отношение к жизни и впечатлениям автора и потому дышат простотою и наивностию выражения, искренностию чувства, не всегда глубокого, но всегда верного, не всегда пламенного, но всегда теплого и живого… поэзия Кольцова так проста, так неизысканна и, что всего хуже, так истинна! В ней нет ни диких, напыщенных фраз об утесах и других страшных вещах; в ней нет ни моху забвения на развалинах любви, ни плотных усестов, в ней не гнездится любовь в ущельях сердец, в ней нет ни других подобных диковинок». Завершая критический разбор стихов поэта-самородка, Белинский от имени друзей Станкевича вопрошал: «Не знаем, разовьется ли талант Кольцова или падет под игом жизни? — Этот вопрос решит будущее, нам остается только желать, чтобы этот талант, которого дебют так прекрасен, так полон надежд, развился вполне. Это много зависит и от самого поэта…»
Безусловно, эти лестные и даже где-то восторженные отзывы сыграли свою роль, как бы сейчас сказали, в продвижении имени поэта-самородка. Неслучайно маленькая книжка, всего объемом в сорок страниц, вскоре принесла прасолу известность в литературном мире, дала возможность очутиться в обществе «славной стаи» писателей, подружиться со многими известными поэтами. И опять же во многом благодаря Станкевичу. Через него молодой поэт приобрел полезные и необходимые для себя знакомства сначала в Москве, а в последующем и в Петербурге. Современные исследователи насчитали их порядка полусотни! Например, в Северной столице Кольцов был доброжелательно принят В. А. Жуковским, В. Ф. Одоевским, П. А. Вяземским, другими известными поэтами и писателями. Наконец, Кольцов познакомился с самим «богом поэзии» — Александром Пушкиным. Через полгода Пушкин напишет в «Современнике»: «Кольцов обратил на себя общее благосклонное внимание». Лаконичная и точная формулировка великого поэта. Именно «общее» и именно «благосклонное внимание».
В то же время надо иметь в виду, что далеко не всем, особенно, некоторым вельможным столичным литераторам, пришелся к их писательскому двору
поэт-самородок, поэт-самоучка, поэт-прасол из воронежских степей. Одни принимали его как диковинку, смотрели на него, как смотрят на заморского зверя. Другие взирали на Алексея Кольцова с плохо скрываемым чувством собственного превосходства, высокомерия и пренебрежения, мол, каждый сверчок должен знать свой шесток. Третьи вообще старались его не замечать, поворачивались спиною.
Известный московский литератор (якобы Надеждин), как-то общаясь со Станкевичем и Белинским, издевательски заявил им:
— Что-де вы нашли в этих стишонках, какой тут талант? Да это просто ваша мистификация: вы просто сами сочинили эту книжку ради шутки!
Популярный поэт Нестор Кукольник, автор нашумевшей в то время «Роксоланы», встретившись с Кольцовым, высокомерно протянул ему два пальца. Кольцов в ответ лишь усмехнулся, понимая, что для вельможного Кукольника он всего лишь погонщик скота, степняк, мужик…
Некоторые литераторы не находили ничего поэтического в стихах поэта-прасола. В те годы в почете были другие авторы. К примеру, в обеих столицах чуть ли не захлебывались от восторга, читая трескучие романы Марлинского, и находили величайшую прелесть в таких цветистых строках Бенедиктова, как «мох забвения на развалинах любви», «любовь, гнездящаяся в ущельях сердец». Разумеется, таких «знатоков» поэтического слова простые и искренние песни Кольцова вряд ли могли удовлетворять.
Биограф Кольцова — Огарков писал: «И, понятно, им не мог нравиться подстриженный в скобку, в длиннополой чуйке прасол, слишком походивший по виду на обыкновенного, вульгарного человека. Но если бы эти господа знали, как этот простоватый человек, скромно сидя в уголке на их блестящих собраниях, смотря исподлобья и тихонько покашливая в руку, — как этот прасол отлично видел их собственные недостатки! Как он умел, несмотря на свою необразованность, проницательно угадывать под звоном фраз умственное убожество! Удивились бы сильно они, если бы услышали, с какою иронией говорил и писал о них поэт и как он мастерски очерчивал их спесь и хвастовство».
По словам Белинского, не было человека более зоркого, проницательного и догадливого, чем Кольцов с его спокойным и покорным видом: он распознавал людей сквозь кору наносной культуры и цивилизации и судил о них очень правильно и самостоятельно.
Подтверждение этому находим и в воспоминаниях Панаева, который отмечает в Кольцове блеск ума, тонкость и наблюдательность по отношению к подобного сорта литераторам.
— Эти господа, — сказал с лукавою улыбкой Кольцов Панаеву, — несмотря на их внимательность и ласки ко мне, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мною своими знаниями, пускают пыль в глаза… Я слушаю их, разиня рот, и они остаются очень довольны, между тем я их вижу насквозь… Они на меня совсем как на дурачка смотрят…
Так поэт-самородок в разговорах воздавал должное своим некоторым высокомерным знакомым. Ответы им Кольцов дает и в ряде писем. В частности, в письме Белинскому он довольно резко высказывается о столпах поэзии Василии Жуковском, Павле Вяземском, редакторе «Отечественных записок» Андрее Краевском: «Жуковский принял меня два раза что-то очень холодно, так что к нему пойду разве по делу или проститься. Вяземский тоже холодней прежнего, даже сух. Краевский поважнел и погордел, и немного суше… Да, новость: я в этот раз вдвое поумнел противу прежнего; так славно толкую, говорю уверенно, спорю, вздорю, что беда… В первый раз я все больше разыгрывал молчанку, а теперь — дудки. Нет, братцы, лихо говорю; это правда, что оно поподручней; а мне, ей-богу, что-то хочется и самому кой-кого… одурачить; пусть наши копыты помнят».
Как уже отмечалось, Кольцов обладал природным умом. И все же того образования, какое имел Станкевич, его друзья, ему не хватало. Кольцову в диковинку было слышать ставшими привычными для крута Станкевича слова «абсолют», «субстанция», «воплощение духа в природе», «субъект и объект». Понимание их, конечно, не далось поэту и впоследствии, о чем он признавался в одном из писем В. Г. Белинскому: «Субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта — ни крошечки, — впрочем, о нем надо говорить долго, — а если и понимаю, то весьма худо; хорошо тогда понимать, когда сам можешь передать; без этого понятья не понятья».
Действительно, вопросы «о тайнах неба и земли», которые обсуждались в кружке Станкевича, сильно озадачивали Кольцова. Однако интерес к философским занятиям у него огромен. Неслучайно в тот период поэт пишет много дум. Его думы, по определению Белинского, особый и оригинальный род стихотворений. Конечно, Кольцов не являлся первооткрывателем этого жанра. Написание дум было характерно для украинской поэзии. Но Кольцов знал украинское народное творчество, поскольку во многих уездах Воронежской губернии, которую он изъездил вдоль и поперек, проживали выходцы из Малороссии. От них он впервые и услышал стихи-раздумья. Кольцовские думы того периода — это результат его поездок в Москву, встреч с друзьями и в первую очередь со Станкевичем. Именно влияние последнего ощущается в содержании его стихов. В таких стихотворениях, как «Великая тайна», «Неразгаданная истина», отражены вопросы смысла жизни, сущности и цели человеческого бытия. Например, Станкевич писал: «Смерть есть разрушение, разрушение в природе есть перерождение из одного состояния в другое. Смерть одного звена природы есть рождение другого. Вода, уничтожаясь, переходит в пары, воздух делается водою, человек становится землею, земля перерождается в растение (разумеется, при условиях)». Эти мысли Кольцов довольно точно передал в думе «Великая тайна»:
Тучи носят воду,
Вода поит землю,
Земля плод приносит;
Бездна звезд на небе,
Бездна жизни в мире;
То мрачна, то светла
Чудная природа…
А вот строки из думы «Царство мысли»;
Повсюду мысль одна — одна идея,
Она живет и в пепле, и в пожаре;
Она и там — в огне, в раскатах грома;
В сокрытой тьме бездонной глубины;
И там, в безмолвии лесов дремучих;
В прозрачном и плавучем царстве вод глубоких,
В их зеркале, и в шумной битве волн,
И в тишине безмолвного кладбища;
На высях гор безлюдных и пустынных;
В печальном завываньи вьюг и ветра;
В глубоком сне недвижимого камня;
В дыхании былинки молчаливой;
И в дикой силе львиной мышцы крепкой;
В судьбе народов, царств, ума и чувства, всюду —
Она одна — царица бытия!
В этих строках ощущаются близость и родство тех взглядов, настроений, идей, которые господствовали в кружке Станкевича. Примечательно, что к тому времени литературно-философский кружок стад настоящим центром мысли, где строились умственные плотины и проходили буйные пиры разума. И, понятно, Кольцов получал там хорошую духовную пищу, что способствовало его развитию и как поэта, и как философа.











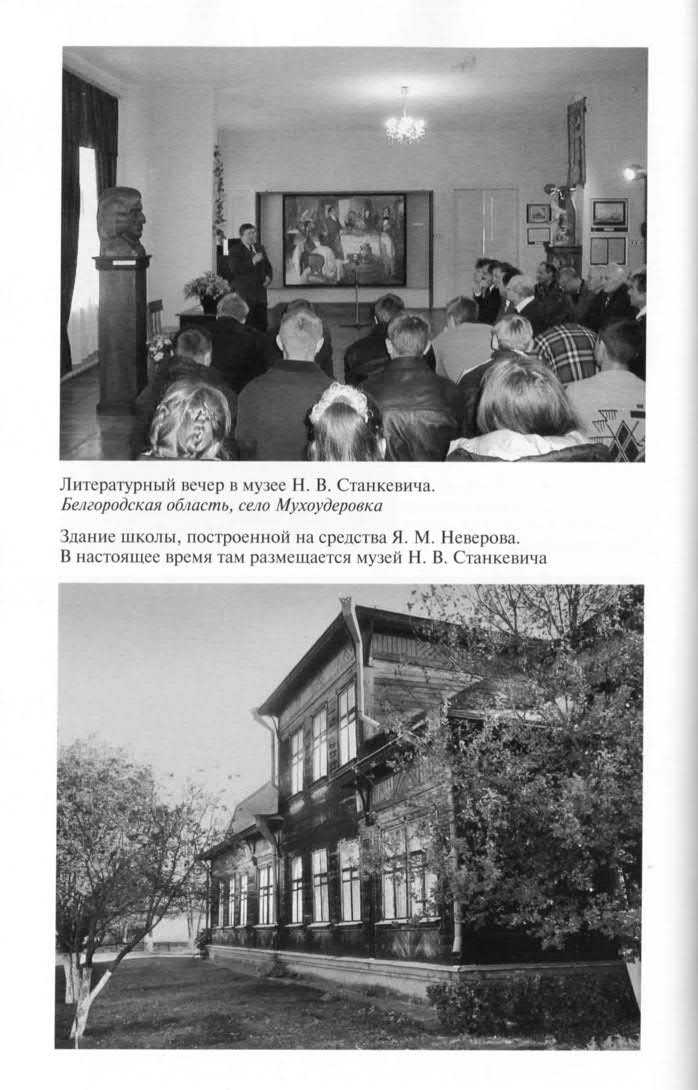




Под влиянием бесед в кружке Станкевича у Кольцова сложились и другие думы, в частности «Человек», «Поэт». Сам Кольцов нередко чувствовал это влияние на свое творчество. Так, по поводу «Думы двенадцатой» он написал; «Она у меня выскочила в минуту; если она не из чего-нибудь, то пусть будет моя. Как-то таким образом у меня написалось, хотя я и не охотник на чужбинку».
Однако надо отметить, что в области философской лирики Кольцов достиг немногого. «Дело не только в том, что автору не хватало специальных знаний, — написал один из исследователей творчества поэта-самородка О. Г. Ласунский. — Сам склад его дарования не располагал к умозрительному, созерцательному характеру творчества. Художник явно подавлял в Кольцове философа… Главная и бесспорная заслуга Кольцова перед родной литературой — его замечательные «русские песни», выросшие наполовину из фольклора».
Много раньше, в 1846 году, в статье «О жизни и сочинениях Кольцова» об этом скажет Белинский. Скажет уверенно, сняв сомнения, озвученные в 1835 году им же самим по случаю изданного на средства Станкевича первого сборника стихов: «Не знаем, разовьется ли талант Кольцова или падет под игом жизни?»
Критик напишет: «…До Кольцова у нас не было художественных народных песен, хотя многие русские поэты и пробовали свои силы в этом роде, а Мерзляков и Дельвиг даже приобрели себе большую известность своими русскими песнями, за которыми публика охотно утвердила титул «народных». В самом деле, в песнях Мерзлякова попадаются иногда места, в которых он удачно
подражает народным мелодиям… Но… в целом его русские песни не что иное, как
романсы, пропетые на русский мотив. В них виден барин, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что же касается до русских песен Дельвига, — это уже решительные романсы, в которых русского — одни слова. Это чистая подделка, в которой роль русского крестьянина играл даже и не совсем русский, а скорее немецкий или, еще ближе к делу, италиянский барин».
И далее Белинский говорит, что даже Пушкин, «несмотря на всю объективность своего гения… не мог бы написать ни одной песни вроде Кольцова, потому что Кольцов один и безраздельно владел тайною этой песни. Этою песнею он создал свой особенный, только одному ему довлевший мир, в котором и сам Пушкин не мог бы с ним соперничествовать, — но не по недостатку таланта, а потому, что мир песни Кольцова требует всего человека, а для Пушкина, как для гения, этот мир был слишком тесен и мал и потому мог входить только как элемент в огромный и необъятный мир пушкинской поэзии».
Через всю свою короткую жизнь пронес Кольцов нежность и уважение к своему другу, умному, доброму учителю и идейному наставнику. В 1840 году, уже после смерти Станкевича, Кольцов посвятил ему стихотворение «Поминки».
«Поминки» — название не хорошо, — писал он Белинскому. — Как хотите, так и назовите. В ней я сначала чертовски хвалю всю нашу братию, но все-таки в ней чистая правда. А о Станкевиче, конечно, надо бы говорить больше, но я этого сделать не сумел. По крайней мере я сделал, что мог, и сказал, как сумел; другие пусть скажут лучше. Но у меня спала тяжесть с души, а то все укоряла меня его безвременная смерть. И эта прекрасная, чистая душа как будто говорила мне все на ухо: «схоронили — позабыли». Поэт в возвышенном стиле сумел передать образ своего друга-покровителя. Станкевич изображен таким, каким он вошел в духовную жизнь России молодой. Рядом с ним — его «младые друзья», его единомышленники:
Под тенью роскошной
Кудрявых берез
Гуляют, пируют
Младые друзья!
Однако это не пикник на лоне природы, а торжество молодости, жар пламенных сердец:
Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи горят.
Давайте веселья!
Давайте печаль!
Давно их не манит
Волшебница — даль!
И с мира, и с время
Покровы сняты;
Загадочной жизни
Прожиты мечты.
Шумна их беседа,
Разумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет.
Но вот к ним приходит
Неведомый гость
И молча садится,
Как темная ночь.
Лицо его мрачно,
И взгляды — что яд.
И весь на нем странен
Печальный наряд.
. . . . . . . . . .
Под сенью роскошной
Кудрявых берез
Гуляют, пируют
Младые друзья!
Их так же, как прежде,
Беседа шумна;
Но часто невольно
Печаль в ней видна.
Кольцов пережил Станкевича всего на два года. Он умер от чахотки, лечить которую в то время, о чем мы уже говорили, не умели ни в России, ни за ее пределами. Умер поэт тихо, держа в ладони теплую руку своей няни.
О подлинной дружбе Станкевича и Кольцова очень точно сказал брат Станкевича Александр: «В письмах своих в нашу семью из Берлина брат просил вестей о Кольцове, поручал передать ему его поклоны. Он также письменно спрашивал о нем друзей, которые нередко пересылали ему стихи Кольцова. Дружеские отношения бывают разные. Уважение, участие, сочувствие со стороны брата к Кольцову были полные. Кольцов платил ему тем же. К
покровительственным отношениям с лицами, для него почему-либо привлекательными, брат не был способен. Кольцов, человек и поэт, был предметом его любви».
Сам же Кольцов за год до своей смерти написал Белинскому: «Если литература дала мне что-нибудь, то именно вот что: я видел Пушкина, жил долго с Сребрянским, видел Станкевича…»
Нет сомнения, что Кольцов назвал имена самых близких для себя людей, которых искренне и горячо любил.
Глава тринадцатая
ПОЛКУ ФИЛОСОФОВ ПРИБЫЛО
Вообще 1835 год для Станкевича выдался урожайным на встречи, события, дела и знакомства. В апреле судьба свела его с Михаилом Александровичем Бакуниным, человеком, чье имя уже упоминалось в нашем повествовании. Правда, ни в России, ни в Европе о нем, будущем отце и вдохновителе международного анархизма, яром приверженце воинствующего
атеизма и материализма, пока еще не были наслышаны. Этот высокий юноша атлетического сложения, с огромной копной волос и звучным голосом только делал первые шаги к поставленной цели.
Биография Михаила была в какой-то степени похожа на биографию Станкевича. Он был всего на каких-то полгода моложе Станкевича и тоже родился в дворянской семье, проживавшей в селе Прямухине Тверской губернии.
Вот как описал место рождения Бакунина писатель Иван Лажечников: «Есть уголок, на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могла только собрать в стране семимесячных снегов. Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях. Да и семейство, живущее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. Как тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному! Художник, музыкант, писатель, учитель, студент или просто добрый и честный человек были в нем обласканы ровно, несмотря на состояние и рождение. Казалось мне, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству».
Такие слова о милой сердцу Удеревке, душистых липовых аллеях, садах с наливными яблоками и грушами, речке в белых кувшинках, меловых горах, которые лучше австрийских Альп, вне всякого сомнения, мог сказать и Станкевич. Как, впрочем, и о своем семействе — уважаемом и хлебосольном, о котором знали
не только в Воронежской губернии, но и в обеих столицах.
Отец Бакунина, Александр Михайлович, в свое время учился в одном из знаменитых итальянских университетов, служил недолго, не гонялся за чинами и званиями, вышел в отставку, обзавелся семьей и с молодых лет нашел пристанище в деревне, под сенью собственноручно посаженных кедров.
Примерно такая же была биография и у отца Станкевича: учился, служил в армии, вышел в отставку, женился, купил новое имение и собственноручно посадил фруктовый сад и липовую рощу.
Нет ничего удивительного в том, что какие-то жизненные пути этих людей имеют сходство. Таким был тогдашний уклад многих дворян-помещиков. И дороги их детей очень часто были одинаковы: домашнее образование или уездное училище; гимназия или благородный пансион в губернском городе; университет или военное училище в одной из столиц. Третьего, как говорится, не дано.
Юный Бакунин не пошел в университет, как Станкевич, но его определили в не менее престижное учебное заведение — Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Так он сам захотел, поскольку мечтал о карьере гвардейского офицера. И в дальнейшем этому все благоприятствовало: огромные способности юноши, особенно в математике, его внешние данные — стройность, подтянутость, строгая мужская красота. Однако военной карьеры Бакунин не сделал. В 1833 году, не закончив курса обучения, он в звании прапорщика отправился служить в армию. А через пару лет вообще вышел в отставку.
В «Былом и думах» Герцен рассказывает о том, что Бакунин потерял интерес к службе, тащить армейскую лямку ему
стало в тягость: «Бакунин одичал, сделался нелюдимым, не исполнял службы и дни целые лежал в тулупе на своей постели. Начальник парка жалел его, но, делать было нечего, он ему напомнил, что надобно или служить или идти в отставку. Бакунин не подозревал, что он имеет на это право, и тотчас попросил его уволить».
Мотивы выхода в отставку Бакунин объяснил так: он, Бакунин, покинул «общую дорогу богатства, света и чинов». Однако этим привел в ужас своих родственников, поскольку стал, как написано в его визитной карточке, «maitre de mathematigue М. Bacounine» (учитель математики М. Бакунин. — Я.
К.).
Бакунин мечтает о жизни-подвиге. «Я человек обстоятельств, — говорит он сестрам Беер, в семье которых произошло его знакомство со Станкевичем, — и рука божия начертала в моем сердце следующие священные буквы, обнимающие все мое существование: «Он не будет жить для себя». Я хочу осуществить это прекрасное будущее. Я сделаюсь достойным его. Быть в состоянии пожертвовать всем для этой священной цели — мое единственное честолюбие».
Сохранившаяся, хотя и не вся, переписка двух молодых философов (в основном это письма Станкевича. —
Н. К.) свидетельствует о том, как быстро они сошлись и подружились. На первых порах стиль посланий был несколько официальным. Например, 22 апреля 1835 года Станкевич пишет: «Милостивый Государь, Михаил Александрович!..Письмо Ваше доставило мне большое удовольствие, обрадовало меня. Если Вы, приняв добрые, может быть, бессильные, желания за настоящие достоинства, цените сколько-нибудь мое знакомство, то поймете, как мне дорого Ваше. Кроме очень натурального желания сблизиться с человеком, которого образ мыслей вполне разделяешь, желания быть в своей сфере, слушать и говорить, что хочется — я имею причины считать подобные сближения долгом для себя. Они поддерживают мою деятельность, сохраняют во мне энергию…»
Но уже вскоре тон переписки меняется: «Вечер. Друг Мишель! Часа три тому назад я получил письмо твое… Благодарю тебя, друг мой, и прошу писать почаще. Как ты ни молод, но у тебя часто бывают грустные мысли; отдавай же половину мне — нам обоим будет легче».
Разумеется, главная тема их писем — высокие эмпиреи, философские материи: «Философия не должна быть исключительным занятием, но основным. Занимайся равно и историею и латинским языком, не отдавайся пустым формам, но верь в могущество ума, одушевленного добрым чувством».
Необходимо отметить, что бывший артиллерийский офицер проявил недюжинные диалектические способности. Поэтому, по словам Герцена, Станкевич и «засадил» его за труды германских философов, разъяснил, как надо изучать предмет, изъявил готовность предоставить свои конспекты. Можно сказать, благодаря Канту и Фихте Бакунин выучился говорить и писать по-немецки, потом принялся за Гегеля, метод и логику которого он усвоил в совершенстве и с успехом их проповедовал.
«Бакунин, — писал Герцен, — обладал великолепной способностью развивать самые абстрактные понятия с ясностью, делавшей их доступными каждому, причем они нисколько не теряли в своей идеалистической глубине. Именно эта роль предназначена, по моему мнению, славянскому гению в отношении философии; мы питаем глубокое сочувствие к немецкой умозрительности, но еще более влечет нас к себе французская ясность. Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без устали с вечера до утра, не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения. И он всегда готов был разъяснять, объяснять, повторять без малейшего догматизма. Этот человек рожден был миссионером, пропагандистом, священнослужителем. Стоит ли говорить, что во время этих споров в уютных московских гостиных рождалась и мужала русская философия.
Независимость, автономия разума — вот что было тогда его знаменем, и для освобождения мысли он вел войну с религией, войну со всеми авторитетами. А так как в нем пыл пропаганды сочетался с огромным личным мужеством, то можно было уже тогда предвидеть, что в такую эпоху, как наша, он станет революционером, пылким, страстным, героическим…Он был молод, красив, он любил создавать себе прозелитов среди женщин, многие были в восторге от него, и однако ни одна женщина не сыграла большой роли в жизни этого революционного аскета; его любовь, его страсть были устремлены к иному».
«Я начал вести трудовую жизнь, — писал Бакунин. — Я много работаю, делаю большие успехи, я в своей сфере, я живу. Большую часть времени я провожу у Станкевича. Мы вместе занимаемся историей и философией».
По сути, под заботливым глазом Станкевича Бакунин набирался философской мудрости, запасался другими знаниями. Через некоторое время Бакунин даже переселился в дом в Большом Афанасьевском переулке, где тогда жил Станкевич.
Кому-то покажется странным, но это факт: друзья жили исключительно философией и ничем другим. Они буквально упивались обсуждением трудов Иммануила Канта. Весь мир
мгновенно превращался для них в конструкцию из трансцендентальных категорий, порожденных гениальным кенигсбергским мыслителем. Знаменитую «Критику чистого разума» Бакунин прочел даже раньше Станкевича и раньше его постиг ее головокружительную глубину. Особенно привлекательным представлялось то, что Кант уравнивал людей в границах общего для всех познавательного процесса. Хотя он и ограничивал человеческий рассудок и разум их собственной несовершенной природой, все же интеллектуальные потенции людей, согласно кантианской критической метафизике, становились целенаправленным, управляемым творческим инструментом для теоретического постижения мира, совершенствования нравственных законов и человеческого бытия в целом.
Столь драгоценное для Бакунина
право на свободу Кант признавал только в интеллектуальной сфере, отрицая саму ее возможность в материальном мире (и, следовательно, считал некорректными такие устойчивые понятия, как «свободное пространство» или «свободное падение тел»). Подобный подход не удовлетворял Бакунина. Содержательность и ценность духовной деятельности он видел прежде всего в ее практической направленности и реальной результативности. В противном случае философия превращается в обычную схоластику. Вот почему философский настрой двух русских кантианцев постепенно менялся, что подтверждает письмо Станкевича от 15 декабря 1835 года:
«…Исполать тебе, Мишенька! Ты опередил меня! Я давно уж не читаю Канта, потому что, по приезде, намерен поговорить об нем подробно с некоторыми людьми, которых мне здесь рекомендовали. На каждое его положение у меня тысяча возражений в запасе; я думал об нем столько, что голову ломило — но посредством своего мышления не доходил до его результатов и заключил, что я дурно понимаю мысль его или не логически мыслю. В том и другом случае мне нужна чужая помощь. Между тем ты меня подзадорил. Я беру Канта с собою и в деревне прочту что-нибудь из него… Есть потребности, не-заглушаемые в душе человека, и нет нелепее предрассудка, как тот, что человек не без чувства не может с успехом заниматься философией. Напротив, до тех пор она и делала мало успеха, пока ею занимались скопцы, с сухим умом, с холодною душою. А Кант нужен как введение к новым системам…»
Под новыми системами подразумевались учения все тех же немецких философов — Иоганна Готлиба Фихте и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. В философии Фихте Бакунина привлекала концепция свободы. Лозунг Фихте «Действовать, действовать — вот для чего мы существуем!» как нельзя лучше отвечал представлениям молодого Бакунина. В одном из писем он перефразирует крылатую фразу немецкого мыслителя: «Действие… вот единственное осуществление жизни». С восторгом цитирует уже в другом письме слова Фихте из трактата «Наставление к блаженной жизни, или Учение о религии»: «Жизнь — это любовь, а вся форма и сила жизни заключается в любви и вытекает из любви. Открой мне, что ты действительно любишь, чего ты ищешь и к чему стремишься со всей страстью, когда надеешься найти истинное самоуслаждение, — и этим ты откроешь мне свою жизнь. Что ты любишь, тем ты и живешь».
Об атмосфере многочасовых занятий, жарких споров и просто дружеском общении красноречиво свидетельствуют сохранившиеся письма Бакунина. Вот некоторые выдержки из них.
«Я почти не выхожу из дому, кроме вечеров, которые провожу у Бееров. Я занимаюсь много. У Станкевича такая
прекрасная душа. Мы все больше и больше сходимся с ним, все больше и больше становимся друзьями».
«…С понедельника до субботы я совершенно не выхожу из дома, если не считать короткого ежедневного визита к Клюшникову, живущему в двух шагах от нас… Мы вместе читаем Фихте… Наши надежды, наши планы на будущее — вот что составляет обычный предмет наших бесед, всегда одушевленных…»
Находясь под опекой Станкевича, Бакунин в тот период перевел четыре из пяти лекций Фихте, прочитанных им в Йенском университете во время летнего семестра 1794 года и опубликованных под названием «О назначении ученого». Бакунинский перевод лекций Фихте был напечатан в журнале «Телескоп», до закрытия которого за публикацию «Философических писем» Чаадаева и расправы над редактором Н. И. Надеждиным оставалось совсем немного.
Уже на склоне жизни Бакунин с ностальгической ноткой вспоминал состояние своей мятежной и свободолюбивой души в молодые годы: «В течение 30 лет рабства, терпеливо переносившегося нами под железным скипетром императора Николая, наука, философия, поэзия и музыка Германии были нашим прибежищем и нашим единственным утешением. Мы замкнулись в этом волшебном мире прекраснейших грез человеческих и жили больше в нем, нежели в окружающей нас ужасной действительности, выше которой мы старались себя поставить, согласно предписаниям наших великих немецких учителей. Я, пишущий эти строки, еще помню то время, когда, фанатик-гегельянец, — я думал, что ношу «Абсолют» в кармане, и с пренебрежением взирал на весь мир с высоты этой мнимо-высшей истины».
Пройдет время, и недавний ученик Станкевича станет достаточно известной фигурой в московских кругах. Позднее имя Бакунина зазвучит и в Европе. Он станет крупным политическим деятелем, ему доведется водить дружбу с вождями мирового пролетариата Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. «Апостол свободы», как его окрестят соратники, выйдет на баррикады Франции, Германии и с оружием в руках будет бороться за свободу трудящихся. Кроме того, он участвовал и в других политических выступлениях, за что его неоднократно судили и приговаривали к смерти.
Тургенев сделает его прототипом главного героя в своем романе «Рудин». Имя Рудина станет таким же нарицательным, как имена Печорина, Чацкого… В этом типе писатель воплотил все лучшие, благородные черты поколения 30—40-х годов, то есть поколения Станкевича и его друзей.
Но это будет потом, а пока жизнь Станкевича продолжала, как и прежде, бить ключом. Практически одновременно с Бакуниным кружок философов пополнился Василием Петровичем Боткиным. В истории России фамилия Боткиных широко известна и в первую очередь благодаря Сергею Петровичу Боткину, известному русскому врачу. Но и его брат, Василий, также оставил свой след в той эпохе.
Станкевич познакомился с Боткиным через Белинского, и вскоре они сблизились. Это был молодой человек с чрезвычайно умными и выразительными глазами, в которых меланхолический оттенок постоянно сменялся огоньками и вспышками, свидетельствовавшими о физических силах, далеко не покоренных умственными занятиями, писал о нем Анненков. Он был немного бледен, очень строен, и на губах его мелькала добродушная, но какая-то осторожная улыбка.
Новый товарищ был старше Станкевича на два года. Он не учился в университете, как большинство членов кружка, не прошел даже курс гимназии. Все его образование ограничивалось лишь частным благородным пансионом, в котором он, тем не менее, овладел европейскими языками, в том числе немецким, французским и английским. Однако Боткину явно не хватало знаний, какими располагали Станкевич и его друзья. Поэтому он, ощущая дружеское плечо Станкевича, с большим желанием начал постигать науки.
О Боткине Станкевич писал: «Он (Боткин. —
Н. К.)… человек, каких я, кажется, не встречал! Столько ума, столько гармонии и святости в душе — мне легче, веселее, когда я его вижу. Досадно, что мы познакомились так поздно… Может быть, я увлекаюсь — но нельзя не увлечься, встретив человека, в котором так много прекрасного».
Ученик Станкевича обладал несомненным, пусть и не ярким, литературным дарованием. Не без помощи Станкевича Боткин активно приобщается к писательской деятельности. В журнале «Телескоп», являвшемся вотчиной «братии», на постоянной основе стали печататься его путевые заметки, рецензии. Например, в течение нескольких месяцев он опубликовал в газете «Молва» больше десяти заметок и рецензий, посвященных книжным новинкам.
Но заметный писательский след. Боткин оставил своими путевыми записками. В частности, и по сей день интерес представляет его двухтомник «Письма из Испании», в котором он рассказал о памятниках этой страны. В других путевых заметках, озаглавленных «Русский в Париже», Боткин описал свою встречу с Виктором Гюго, автором «Собора Парижской Богоматери» и «Отверженных».
В начале 1836 года судьба свела Станкевича с еще одним человеком — знаменитым впоследствии ученым, профессором Московского университета Тимофеем Николаевичем Грановским. Тем самым Грановским, которого справедливо окрестили «Пушкиным русской истории» и который всегда выступал защитником сильной, но гуманной государственной власти. Он же потом стал основоположником государственной исторической науки.
Их знакомству предшествовали следующие события. Выпускник юридического факультета Петербургского университета Тимофей Грановский в сущности был доволен своей жизнью. Он занимал место мелкого чиновника в гидрографическом департаменте Морского министерства. Кроме того, молодой чиновник подрабатывал себе на жизнь переводами и статьями, которые публиковал в «Журнале Министерства народного просвещения». Так и остался бы он чиновником, если бы не познакомился с другом Станкевича — Януарием Неверовым, служившим, как говорилось выше, в Министерстве народного просвещения.
Неверов обратил внимание попечителя Московского учебного округа графа С. Г. Строганова на подающего надежды молодого ученого. Граф, в годы правления которого значительно вырос авторитет Московского университета, как раз искал для него свежие научные и преподавательские кадры. Он и предложил Грановскому отправиться за казенный счет в Германию «за золотым руном европейской науки», с тем чтобы, возвратившись, занять кафедру зарубежной истории Московского университета.
Понятно, такая перспектива показалась небогатому дворянину Грановскому чудом, воплощением несбыточной мечты, и он без раздумий согласился. Приехав в Москву по делам будущей заграничной командировки, Грановский с рекомендательным письмом Неверова явился к Станкевичу. Тот должен был провести его по нужным кабинетам и познакомить с московской профессурой.
Грановский сразу понравился Станкевичу. Его малороссийское лицо, обрамленное длинными черными волосами, было одухотворено неутомимой жаждой деятельности, а темные, глубоко смотрящие глаза словно отыскивали истину и добро. Вспыхнувшая с первой встречи между ними симпатия превратилась вскоре в глубокую идейную и духовную близость.
Станкевич и Грановский были ровесниками. Оба родились в 1813 году. «Благодарю тебя за знакомство с Т. Н. Грановским, — писал Станкевич Неверову. — Это милый, добрый молодой человек, и на нем нет печати Петербурга… Мы подружились с Грановским, как люди не дружатся иногда целую жизнь».
Весьма точно описал этого замечательного человека и ученого Тургенев: «Чуждый педантизма, исполненный пленительного добродушия, он уже тогда внушал то невольное уважение к себе, которое столь многие потом испытали. От него веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано (редкое и благодатное свойство) не убеждениями, не доводами, а собственной; душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого; он был идеалист в лучшем смысле этого слова, — идеалист не в; одиночку. Он имел точно право сказать: «ничто человеческое мне не чуждо», и потому и его не чуждалось ничто человеческое… Станкевич имел величайшее влияние на Грановского, и часть его духа перешла на него…
Все единодушно согласны в том, что Грановский был профессор превосходный, что, несмотря на его несколько замедленную речь, он владел тайною истинного красноречия; но; все-таки иные, судя о нем по литературным его трудам, зная также, что на звание специалиста, ученого в строгом смысле слова, он не имел притязания, — дивятся как бы непонятной тайне, силе и обширности влияния его на людей.
Проникнутый весь наукой, посвятив себя всего делу просвещения и образования, — он считал самого себя как бы общественным достоянием, как бы принадлежностью вся-) кого, кто хотел образоваться и просветиться… К нему, как к роднику близ дороги, всякий подходил свободно и черпал живительную влагу изучения, которая струилась тем чище, чем сам преподаватель меньше прибавлял в нее своего. Он передавал науку, которую уважал глубоко и в которую честно верил…»
В жизни Грановского Станкевич сыграл огромную роль. Принимая самое искреннее участие в судьбе Грановского, он внимательно следил за духовным становлением своего друга, стараясь направить его на единственно правильный путь. Был в жизни Грановского такой момент, когда он, сильно перегрузившись научной работой, начал разочаровываться в избранном для себя деле. Рядом с ним в то время оказался Станкевич, сумевший поддержать молодого ученого и убедить в правильности выбора:
«Мужество, твердость, Грановский! Не бойся этих формул, этих костей, которые облекутся плотью и возродятся духом по глаголу Божию, по глаголу души твоей. Твой предмет — жизнь человечества: ищи же в этом человечестве образа Божия; но прежде приготовься к трудным испытаниям, — займись философиею! Занимайся тем и другим: эти переходы из отвлеченной к конкретной жизни и снова углубление в себя — наслаждение! Тысячу раз бросишь ты книги, тысячу раз отчаешься и снова исполнишься надежды; но верь, верь — и иди путем своим».
В другом письме Станкевич, не поучая Грановского, вновь старается убедить друга в том, что ему ни в коем случае нельзя оставлять занятия наукой:
«…Ты недоволен собою? Поблагодари за это Бога. Ты сомневаешься в себе, в своих силах, ты хочешь дать отчет в самых чистых твоих намерениях, проверяешь свои потребности? Ты начал прекрасно, как не может начать иначе никто, достойный имени человека. Всё затруднение в том, как перейти от этого состояния недоверчивости к себе и сомнений к деятельности — деятельности полной и разумной, которая бы удовлетворяла тебя, дала мир и наслаждение душе твоей. Всякий другой решил бы это дело просто: стремись к тому, что желаешь; ищи ответа на те вопросы, которые с большею силою гнетут тебя; ступай в тот мир, которого гражданином ты себя чувствуешь. Но я не скажу тебе этого — не только потому, что железная необходимость заставит тебя заниматься многим, о чем душа не спрашивала, но и потому, что ясно сознать свои потребности — не есть дело одной минуты, — я это знаю.
Друг мой! Не всякому первое воспитание позволило свободно развить все добрые начала, данные ему матерью-природой; иногда они погибают без возврата. Но если искра Божия долго тлится под пеплом ничтожных сует, если человеческая натура наша долго дремлет под колыбельную песенку ложных правил, предрассудков, самолюбия — и вдруг очнется, она не может разом сознать себя; она чувствует только, что всё предлагаемое ей для потребления не приносит ей никакого удовольствия, не зная, что ей надо. Она нуждается в потребностях. Ей надобно возвыситься до них. Как это делается? Какое-нибудь обстоятельство жизни, какое-нибудь внезапное чувство, иногда долгий опыт, иногда размышление наводит нас на путь — и мы удивляемся, как могли блуждать прежде…
Больше простора душе, мой милый Грановский. Теперь ты занимаешься историею: люби же ее как поэзию, прежде нежели ты свяжешь ее с идеею; как картину разнообразной и причудливой жизни человечества; как задачу, которой решение не в ней, а в тебе и которое вызовется строгим мышлением, проведенным в науку. Поэзия и философия — вот душа сущего. Это жизнь, любовь; вне их все мертво.
Всякое чтение полезно только тогда, когда к нему приступаешь с определенною целью, с вопросом. Работай, усиливай свою деятельность, но не отчаивайся в том, что ты не узнаешь тысячи фактов, которые знал другой. Конечно, твое будущее назначение обязывает тебя иметь понятие обо всем, что сделано для твоей науки до тебя, но это приобретается легко, когда ты положишь главное основание своему знанию, а это основание скрепишь идеею. Тогда, поверь, беглое чтение больше сделает пользы, нежели теперь изучение…»
В этих словах Станкевич предстает как юноша той идеалистической эпохи — мужественный, неустанно мыслящий, убежденный, что человеческая мысль — сильнейшее орудие человеческой природы, и вера в призвание — непреодолимая защита против всех искушений, против малодушия и отчаяния.
Станкевич писал другу, что слышит «голос души, которая понимает твою и невольно стремится слить ее с собою, которая дорожит всяким прекрасным явлением, всяким чистым сердцем и крепко за него держится».
Безусловно, Станкевич сыграл огромную роль в формировании воззрений Грановского, который глубоко впитывал его идеи. К этим идеям следует, прежде всего, отнести взгляд Станкевича на мир, на род человеческий как на единое, на историю человечества, как на единый процесс и на науку о ней, как на монистическую теорию. «Я не понимаю натуралиста, — пишет Станкевич Грановскому в июне 1836 года в Берлин в письме, как бы дававшем общее направление его историческим занятиям, — который считает ноги у козявок, и историка, который, начав с Ромула, в целую жизнь не дойдет до Нумы Помпилия, не понимаю человека, который знает о существовании и спорах мыслителей и бежит их и отдается в волю своего темного поэтического чувства… Нет! Человек может знать, что хочет… и быть в единстве с самим собою, одушевить науку одною светлою идеею — и этого мы в праве ждать и требовать от тебя, милый Грановский…»
Для достижения этой теоретической цельности в понятиях об исторической науке Станкевич советует Грановскому заняться философией. «Грановский! — восклицает он. — Веришь ли — оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания; что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое — призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель переда-мною: я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи. Что бы ни вышло, одного этого я буду искать. Пусть другие
больше моего знали, может быть, я буду знать
лучше, — и тут нет лишнего самолюбия. Пришло время.
Лучше — я разумею — отчетливее, в связи с одною идеею, вне которой нет жизни».
Основное же влияние Станкевича на Грановского состояло в том, что последний воспринял ключевую идею Станкевича — идею нравственно совершенной личности как условие совершенства общества, идею гармонии личности и общества; понятие о долге перед родиной — как понятие личной морали, личных устремлений. Грановский перевел этическую идею Станкевича в социологический план. «Никому на свете, — писал Грановский, — не был я так обязан: его влияние на меня было бесконечно и благотворно. Этого, может быть, кроме меня никто не знает».
Эти слова Грановский скажет после смерти Станкевича. Но еще при его жизни он выражался не менее искренне: «Я не легко и, признаюсь, не охотно поддаюсь чужому влиянию, но Станкевич имел на меня большое, более, чем кто-нибудь после моей матери… Из всех людей, с которыми я сходился в жизни, — а между ними есть много отличных во всех отношениях, — Станкевич самый замечательный. В нем соединяются высшие качества ума и сердца».
Это мнение важно не только тем, что оно высказано во время, когда Станкевич еще жил и оказывал влияние, но особенно тем, что здесь сам Грановский считает его влияние большим, нежели влияние его тогдашних университетских учителей (многими из которых он восторгался) и авторов изучаемых им книг. По сообщению Григорьева, Грановский писал ему после смерти Станкевича: «Ему (Станкевичу. —
Н. К.) было 27 лет, а в голове более гения, чем у всех русских ученых, вместе взятых».
Анненков, основательно исследовавший взаимоотношения наших героев, написал о роли Станкевича в судьбе Грановского следующее: «Грановский называл себя учеником Станкевича, конечно не в смысле добытой от него эрудиции: в этом, по общему приговору, он был сам богат и в помощи товарищей не нуждался; но учеником Станкевича был он в доблестной науке сбережения души, воспитания воли, неослабного бодрствования в благих помыслах. Если бы мы не имели сознания самого Грановского, то могли бы угадать тесную связь, соединявшую его с другом молодости. Никто так полно не сохранил на себе нравственного сходства со Станкевичем в поступках, направлении, отчасти даже в способах выражения своих мыслей, как Грановский. Станкевич отпечатал на нем неизгладимо лучшую часть души своей, духовный образ свой».
Безусловно, дружба Станкевича и Грановского была исключительно чистой и плодотворной. Светлую память о наставнике и друге своей юности прославленный профессор Московского университета неизменно пронес через всю свою жизнь. Незадолго до своей кончины Грановский посетил места, где родился и был похоронен Станкевич. Удеревское лето 1855 года оставило заметный след в творческой биографии историка.
«Пишу тебе из Удеревки, друг Кетчер…» Так начинается письмо Грановского, посланное им из Удеревки 14 июля 1855 года. Сюда, сообщал он тем же летом из Удеревки издателю «Отечественных записок» А. А. Краевскому, «занесла меня страсть к бродяжничеству и зубная боль. Последняя, впрочем, удержала, а не занесла».
В Удеревке он много трудился. На земле своего друга Грановский закончил работу над разделом учебника, посвященным истории Древнего Востока. Кроме того, в деревне им была составлена для Министерства народного образования записка «Ослабление классического образования в гимназиях и неизбежные последствия этой перемены».
В свободные часы «он любил ходить среди засеянных полей, гулял в лесу, купался в реке и иногда сидел с удочкой над водою или отдыхал, валяясь на траве. Он говорил, что мирный характер окружавшей его природы производил на него успокоительное влияние, и после отдыха принимался за труд с освеженными силами».
В неопубликованных воспоминаниях брата Станкевича Александра рассказывается о посещении Грановским могилы своего рано умершего сверстника и духовного наставника. Уже стемнело, когда он вместе с женой отправился через деревню в церковь, возле которой был похоронен Станкевич. Историк «шел молча, долго оставался на могиле и в молчаливом раздумье возвратился домой. В это лето мысли и воспоминания Грановского часто обращались к лицу умершего друга, ко времени, прожитому с ним, к разным, даже мелким событиям их жизни». Вообще личные воспоминания тогда постоянно и живо воскресали в нем. «Он часто говорил о своем детстве, о своей юности, о студенческих годах, о времени, проведенном в Берлине, времени своего профессорства, и в этих воспоминаниях как бы вновь переживал все свое минувшее. Он как бы удивлялся этим частым воспоминаниям. Никогда я так много не говорил, замечал он».
Нельзя обойти вниманием еще одно имя, упоминавшееся в нашем повествовании. Это — Михаил Катков. Будучи студентом словесного отделения Московского университета, он познакомился со Станкевичем и влился в его кружок в начале 1837 года. Юноше в ту пору шел девятнадцатый год, и он всецело был погружен в мир философии и увлечен идеями переустройства России. А личность главы кружка, знатока германской философии его буквально покорила.
Станкевича он считал, как и другие члены кружка, своим учителем и духовным наставником. Его влияние как человека глубокого ума, большого обаяния и благородного сердца на нравственное и умственное воспитание юноши было огромно.
Эти уроки не пройдут для Каткова бесследно. Он станет одной из самых уникальных по своим масштабам фигур русской общественной мысли XIX века. Более тридцати лет ни один сколько-нибудь значимый вопрос социально-политической или культурной жизни России не оставался без внимания Каткова, оказывавшего нередко существенное влияние на ход событий. «Борец за русскую правду», «носитель русской государственной идеи», «создатель русской журналистики», «установитель русского просвещения» — вот лишь некоторые эпитеты, которыми удостаивали Каткова современники.
Кстати, следует напомнить, что Катков не только ввел понятие «нигилизм», но и спровоцировал написание антинигилистических романов Тургенева («Отцы и дети»), Лескова «Некуда», «На ножах», Достоевского «Бесы», опубликовав все эти произведения на страницах журнала «Русский вестник», редактором которого являлся не один год.
Кстати, в последние годы пробудился огромный интерес к наследию Каткова. Переиздаются его книги, возобновлен выпуск «Русского вестника». Ежегодно проводятся «Катковские чтения», участниками которых являются политики, философы, историки, писатели, священнослужители, то есть те, кому небезразлично настоящее и будущее России.
Востребованы и труды других философов круга Станкевича — Бакунина, Грановского, Боткина… А это значит, благодатный огонь разума, который зажег в сердцах своих друзей Станкевич, продолжает гореть…
Глава четырнадцатая
СОТРУДНИЧЕСТВО В «ТЕЛЕСКОПЕ»
В 1835 году Станкевич сообщал в письме Бакунину: «Не стану описывать вам, сколько планов, сколько предприятий рождается между нами; как эти планы горячо принимаются на несколько дней, как исчезают! Теперь, хотя не сильно, однако занимает нас еще попытка: Надеждин, отъезжая за границу, передает свой журнал одному из нас, а все мы беремся помогать ему… Мы намерены сделать его чисто переводным, за исключением библиографии, которая требует у нас прямого человека, с образованием и добрыми намерениями: таков Белинский, которого вы, кажется, у меня видели».
В дневниковой записи Надеждина от 22 апреля 1835 года находим: «Журналом моим занимаются молодые люди, вышедшие недавно из университета, Станкевич, Ефремов, Клюшников и другие. Они будут продолжать его и без меня».
Уточним: речь в письме Станкевича и дневнике Надеждина шла о журнале «Телескоп» и его газетном приложении «Молва».
Этот журнал, как любили говорить современники, возник на развалинах старых и новых журналов — «Галатея», «Вестник Европы», «Московский вестник». Издание занимало одно из ведущих мест в литературном и философском процессе 30-х годов. На страницах «Телескопа» поднимались проблемы народности литературы, публиковались стихи и проза, материалы о западноевропейской литературе, были широко представлены научные и философские статьи.
Журнал сыграл огромную роль в подготовке блестящей литературной и общественной плеяды людей 30—40-х годов. Достаточно сказать, что в нем начинали литературную деятельность Белинский, К. Аксаков, Огарев, Герцен, Гончаров. В нем печатались Пушкин, Чаадаев, Тютчев, Языков…
Начиная с 1831 года в «Телескопе» регулярно печатался и Станкевич. Пожалуй, наиболее плодотворное сотрудничество у него сложилось именно с этим изданием. Он хорошо знал редактора «Телескопа» Николая Ивановича Надеждина, поскольку тот возглавлял кафедру изящных искусств и археологии в Московском университете.
Станкевич, как и другие студенты, искренне уважал и любил своего профессора, готов был слушать часами его интересные и содержательные лекции. Что, собственно, и было. Объединяли учителя и ученика не только наука и искусство, но и литературное творчество. Надеждин, как уже отмечалось в одной из предыдущих глав, был замечательным публицистом, литературным критиком и редактором. Ему, едва ли не первому, и приносил свои сочинения Станкевич.
К 1835 году в «Телескопе» и приложении «Молва» Станкевич опубликовал ряд своих поэтических и прозаических произведений, среди которых стихотворения «Не сожалей», «Калмыцкий пленник», «Ночные духи», «Мгновение», «К месяцу» (перевод стихотворения Гёте). Все эти произведения разноплановые и неоднородные по жанру.
Например, «Не сожалей» — стихотворение философского склада. Поэт размышляет о судьбе одинокого человека, жизнь которого в одиночестве не может быть счастливой.
«Калмыцкий пленник» написан в жанре пародии. В нем он осмеивает бездарных сочинителей романтических поэм, эпигонов Пушкина и Баратынского. Вот заключительные строки:
Он едет, бедный; погляди-ко,
Как он печалию томим,
И сердце пусто, сердце дико,
Как степь, которая пред ним.
Печален он; лихая тройка
Бежит, летит. «Ямщик-пострел!
Товарищ горести! Запой-ка…»
Товарищ горести запел:
«Ах вы, синие глаза!
Ах ты, русая коса!
Присушили, иссушили,
Загубили, уходили
Вы пострела-молодца!
Я ль тебя уж не любил?
Я ль тебя уж не дарил?
Бедным сердцем не крушился,
Не метался, не мутился,
Ночь без сна не проводил…»
Тема смерти и бессмертия звучит в его стихотворении «Ночные духи». Гаснет алая заря, наступает ночь, и толпы духов вылетают из скал на одухотворяющую мир работу. Один дух — зажигать пламень в небесных безднах. Другой — карать злодеев, он осуществит также желания скупых и жаждущих роскоши и тех, кто испытал чары и разочарование в любви. Намерения третьего духа — внимать гласу веков в загробном мире. Возможно, в уста третьего духа Станкевич вложил мысли, особенно волновавшие его в тот период:
Продлись, продлись, час ночи безмятежной!
Резвитесь, братья! Мне идти другим путем:
Минувшего в покровы облеченный,
Я сяду на утесе вековом —
Считать года дряхлеющей Вселенной,
Зреть ветхий мир в его величье гробовом.
Там царства падшие, забвенные народы
Я манием из праха воззову!
Их сонмы дикие заропщут, будто воды…
Заноет грудь земли — и смертного главу
Оледенит непостижимый трепет…
А я — во мрак времен свой углубивши взор —
Торжественно внимать могильный стану лепет…
То глас веков, то с роком разговор!
Лечу., гроба свой алчный зев раскрыли…
Забилась жизнь в груди развалин; гром
Из недр земли рокочет — и кругом
Вертепы дикие завыли!..
Перевод Станкевичем стихотворения Гёте «К месяцу» интересен тем, что переведенные стихи вскоре были положены на музыку известным русским композитором А. Е. Варламовым. Этот романс исполняется и в наши дни. Впрочем, вспомним его строки:
Снова блеск твоих лучей
Землю осребрил;
Снова думам прежних дней
Сердце он открыл.
Ты глядишь печально вдаль
На мои поля, —
Иль тебя, мой друг, печаль
Трогает моя?
Как отрадна для души
Память прежних дней!
Я храню ее в тиши —
Грусть и радость с ней!
В стихотворении «Мгновение» автор ощущает свою причастность к сферам гармонии жизни всемирной. По его выражению, «священные мгновения» рождают поэтическое вдохновение, которое позволяет прозреть глубинный смысл земного бытия, обрести такие его ценности, как надежда, любовь, вера. Только тогда для поэта «стихают сердца муки», только тогда «в нем царствует гармония и мир» и в небе он зрит Бога:
И зрим тогда незримый царь творенья:
На всем лежит руки его печать.
Душа светла… В минуту вдохновенья
Хотел бы я на божий суд предстать!
Это напоминает известное лермонтовское «Когда волнуется желтеющая нива»: стихи Станкевича и Лермонтова близки не только по смыслу, но и по структуре. И в том, и в другом по четыре законченные строфы. Последняя из них скрепляет воедино запечатленные в трех предыдущих нечастые, но тем более дорогие моменты гармонии души и мира.
Впоследствии судьба этого замечательного лирико-философского стихотворения сложилась не совсем обычно. Спустя четырнадцать лет после его опубликования в «Телескопе» и когда Станкевича уже шесть лет не было на свете, эти же стихи, правда, с незначительными изменениями, появились в 1846 году в журнале «Репертуар и Пантеон». Только подписаны они были не Станкевичем, а неким А. Славиным. Вскоре известный журналист и редактор Панаев, знавший творчество Станкевича, в журнале «Современник» разоблачил литературного плутишку и едко его высмеял.
Вообще с сочинениями Станкевича происходили и другие, не менее странные истории. Одна такая история связана с известными реакционными журналистами Фаддеем Булгариным и Николаем Гречем. Этих литературных мошенников и патентованных доносчиков презирали, гнушались с ними кланяться на улицах, а тем более быть с оными в обществе.
В 1834 году в журнале «Сын Отечества и Северный архив», издаваемом упомянутыми Булгариным и Гречем, было напечатано стихотворение Станкевича «На могилу сельской девицы». Появление этого стихотворения в издании, к хозяевам которого Станкевич не испытывал ровно никаких симпатий, вызвало с его стороны, как автора, резкий протест. В открытом письме, адресованном редактору «Молвы», он сообщил следующее:
«Нет ничего неприятнее, как печатно говорить о мелочах, недостойных внимания читающей публики. Но я поставлен в это положение обязательностию издателей «Сына Отечества и Северного Архива», поместивших стихи мои в № 16 своего журнала за нынешний 1834 год. Стихи эти отосланы были несколько лет тому назад к покойному О. М. Сомову вместе с другими, давно напечатанными в «Литературной Газете» и «Северных Цветах». Не думаю, чтобы г. Сомов отдал их г. Гречу при своей жизни (тем менее, отказал в духовном завещании); иначе, для чего печатать их по прошествии нескольких лет? Наследников покойного я не имею чести знать, точно так же, как и отношений, в каких они находятся с издателями «Сына Отечества и Северного Архива»…
Чтобы предупредить недоразумения людей, которым знакомы мои литературные мнения, я должен сказать, что стихи помещены в «Сыне Отечества» без моего ведома и даже против моего желания: зная настоящую цену своим детским опытам, теперь я не решился бы их печатать.
Прошу вас… дать место письму моему в «Молве» — хотя, признаюсь вам, — входя в первый раз в литературные сплетни, я подписываю под ним мое имя с тем же почти неудовольствием, с каким видел его в
журнале, издаваемом гг. Гречем и Булгариным.
Н. Станкевич».
Эти мысли Станкевич повторил и в письме Неверову: «Ты, верно, читал мои стихи в «Сыне Отечества». Представь, что это за штука? Без моего ведома дрянные старые стишонки! Завтра в «Молве» выйдет письмо мое, прочти № 19».
Станкевич был не первый, кто дал отповедь литературным бандитам Булгарину и Гречу.
В 1833 году Станкевич завершает работу над повестью «Несколько мгновений из жизни графа Т***», которая уже в следующем году увидела свет в «Телескопе» под псевдонимом Ф. Зарич. Эта философическая повесть в большей степени автобиографична, ее героя Станкевич списал с самого себя. Поэтому практически все события, изложенные в произведении, совпадают с жизненными вехами Станкевича.
Буквально с первых страниц повести обращает на себя внимание ее язык, далекий от романтических «излишеств», характерных, в частности, для повестей А. А. Марлинского. К слову, Белинский называл этого писателя «идолом петербургских чиновников и образованных лакеев».
В повести Станкевича нет цветистых фраз, изысканных сравнений и риторических прикрас. В то же время язык его повести отличается выразительностью и образностью.
Граф Т*** родился в деревне, куда он возвращается в своих воспоминаниях: «Он улетал мечтой в годы детства. Вот безмятежное утро восходит над благословенным кровом отца его, первый луч солнца румянит волнистые нивы, скрипя тянутся крестьянские телеги по дороге, и добрые поселяне с улыбкой приветствуют доброго владельца; вот он выходит на поле; протяжная песня слышна вдалеке, звонкая коса стучит о камень, косари и жнецы прилежно работают; вдали, подернутый дрожащим туманом, волнуется темный лес и все оживлено улыбкой раннего, утреннего солнца… на душе становится веселей и веселей… полно, свободно дышит грудь, пламя любви разгорается и хочет обнять всю природу…»
В деревне граф получил уроки доброго, умного отца, которому «обязан был… святыми началами, которые без сознания навек залегли в его сердце, составили часть бытия его, образовали из него то, чем он был».
Дальше — Москва, учеба в университете, где «граф успел окончить курс, успел сблизиться со многими людьми, достойными приязни».
Герой и внешне похож на Станкевича: «Граф был высок, статен, умен, бледен, черноглаз, черноволос, богат…» У него есть друг Мануил, ему он поверяет все свои тайны. Был такой верный друг и у Станкевича — Януарий Неверов, который, как и Мануил, вскоре уехал на службу в Петербург.
Но главное, пожалуй, не в сходстве биографических деталей, а в близости духовного, нравственного пути героя «Нескольких мгновений…» и самого Станкевича.
Из повести мы узнаем, что граф Т*** «испытывает» жизнь. Его интересуют «не кресты, не чины, не блистательное положение в обществе; нет!». Его занимает иное: «Душа его жаждала познаний; здесь думал он удовлетворить святому стремлению к истине, найти руководителей и спутников, заключить с ними союз братства и рука в руку переплыть житейское море, победить его бури, укротить безумные волны. Да! Сильно воздымали грудь его эти думы; душа его была открыта миру и людям».
«Без любви слабеет вера, чувство долга становится тяжким бременем, жизнь — мучительною борьбою», — говорит граф.
И тогда он решается испытать одно средство для успокоения своей души. «Он решился честной и трудной деятельности посвятить жизнь свою, как прежде думал посвятить наукам. Занять значительное место в обществе, быть на нем олицетворенною справедливостью, водворять вокруг себя благо — вот к чему он теперь стремился! Желая приготовить себя к этому подвигу, он отправился за границу, был в Германии, Англии, Франции, Италии, изучал людей, общества… Но болезнь души не проходила и произвела наконец опасное расстройство в организме… Глубоки, страшны были эти раны!»
Станкевич тоже прошел подобный путь. После окончания университета он занимался практической деятельностью в качестве почетного смотрителя уездного училища. Однако Станкевич, как и его герой, вскоре оставляет это дело. Потом будут поездка за границу, учеба в Берлинском университете, лечение у известных зарубежных докторов. Возвратиться в родные края графу, как и автору повести, уже не было суждено.
И все же граф Т*** не похож на разочаровавшегося человека, его тянет к веселью, людям, любви, он ищет свою пристань в искусстве и в музыке. Станкевич, обладавший тонким музыкальным вкусом и прекрасно исполнявший на фортепиано произведения Бетховена, Шуберта, Моцарта, наделяет героя повести вдохновением, стремлением к прекрасному.
Если оценивать повесть в художественном плане, то следует сказать, что получилась она несколько шероховатой. Однако этот огрех можно списать на молодость автора. Ведь Станкевичу было тогда всего лишь 20 лет. Тем не менее первая часть повести отличается конкретностью и достоверностью, в ней сделана попытка создать реальный образ молодого русского дворянского интеллигента 1830-х годов с его социальными и нравственно-философскими проблемами. Вторая половина повести (части II и III) представлена отдельными фрагментарными эпизодами и сценами. Здесь использованы характерные романтические приемы: недосказанность, окружение переживаний и поступков героя ореолом таинственности, библейскими мотивами.
Однако это нисколько не повлияло на то, что повесть «Несколько мгновений из жизни графа Т***» получила положительные отзывы критиков. Один из них — университетский профессор Станкевича Надеждин отмечал, что повесть «представляет избранный момент жизни как развитие идеи, как решение умозрительной задачи». Лестную оценку заслужил Станкевич от известного издателя и журналиста А. А. Краевского. А мнение Краевского, вернее, его «Литературных прибавлений» к газете «Русский инвалид», считалось авторитетным.
Сам же автор, искренне не считая себя литератором, скептически отнесся к своему произведению. «Я не ослеплен и знаю, что из многочисленных повествователей русских, которых не терпит душа моя, Зарич едва ли не худший. Я говорю это без всякого жеманства». И в этих словах мы вновь видим Станкевича, его незаурядную, но скромную натуру.
В апреле 1835 года Станкевич начал трудиться над переводом большой статьи Жозефа Вильма «Опыт о философии Гегеля», опубликованной во французской газете «Ревю Германике». И хотя работа несколько подзатянулась, тем не менее статья была переведена и в том же году увидела свет в тринадцатом и пятнадцатом номерах «Телескопа». Это была первая серьезная работа о Гегеле и его философии, появившаяся в российском периодическом издании. А Станкевич стал первым популяризатором учения великого немецкого философа в России.
Надо сказать, что в период редакторства Белинского в «Телескопе» Станкевич был в курсе всех редакционных дел. В письмах, адресованных непосредственно Белинскому, он ободряет редактора, хвалит или, наоборот, ругает его критические статьи. «Впрочем, «Телескоп» довольно интересен, — сообщает он Белинскому, — тем более, что в нем изредка пробивается душа и истина…»; «Я перебираю «Телескоп» и жду твоей беседы, — пишет он в другом письме, — вот он кулак, все сокрушающий». Еще в одном послании Станкевич с восторгом рассказывает, как он с «жадностью хватался за неуклюжую книжку («Телескопа». —
Н. К.), рвал ее толстую бумагу и — не читал, а слушал Белинского».
В тот период Станкевич переводит статью французского историка Франсуа-Огюста Минье «Лютер на Вормском сейме», которая публикуется в очередном номере журнала.
Наверное, сотрудничество Станкевича с «Телескопом» продолжалось бы и дальше, но 22 октября 1836 года журнал был запрещен. И не кем-нибудь, а самим царем Николаем I. Поводом для его закрытия послужила публикация в пятнадцатом номере «Философического письма» П. Я. Чаадаева, которое, по выражению Герцена, было подобно выстрелу в темной ночи. Кстати, в этом же номере было напечатано окончание статьи Жозефа Вильма «Опыт о философии Гегеля», перевод которой сделал Станкевич.
«Философическое письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Пожалуй, после грибоедовского «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое бы имело такое сильное впечатление на общество. По сути, это письмо — горькая исповедь человека, задыхающегося в атмосфере рабства и крепостнического строя. Чаадаев писал о нравственном законе, р стремлении к нравственному совершенствованию, о проблеме свободы.
Против издателя, автора и ближайших сотрудников были приняты достаточно жесткие меры. Издателя «Телескопа» Надеждина арестовали и сослали в Сибирь, в далекий Усть-Сысольск. Цензора Болдырева, допустившего публикацию «Философического письма», отстранили от должности и отправили в отставку. Чаадаева официально признали сумасшедшим и взяли под особое наблюдение.
Перепуганный происшедшим, министр народного просвещения С. С. Уваров, подобно агенту Третьего отделения, сообщал шефу жандармов графу Бенкендорфу: «некий Белинский» был «самым доверенным лицом» Надеждина, следовательно, у него могут иметься бумаги и другие улики, которые интересовали следственные органы. В связи с этим Бенкендорф предлагает московскому генерал-губернатору произвести обыск на квартире критика.
Прямо при въезде в Москву Белинского, а он возвращался из Тверской губернии, задержали и представили обер-полицмейстеру. Но «при тщательном осмотре всего в имуществе Белинского ничего сумнительного не оказалось».
Друзья Белинского, которые гостили в семье Бакуниных в Тверской губернии, сумели предупредить его о случившемся. 3 ноября 1836 года Станкевич в письме Бакунину сообщает не только о закрытии журнала, но и о том, что Неверов, служивший тогда в Министерстве народного просвещения и узнавший из первых рук о грядущих неприятностях, сумел своевременно известить Белинского.
Кроме того, Станкевич, как следует из этого весьма «туманного» и «темного» письма, вероятно, успел «очистить» квартиру Белинского от лишних бумаг, то есть от компромата. Об этом свидетельствует и фраза из письма Станкевича Бакунину: «Я придумал довольно хорошую шутку». Из дальнейшей переписки Станкевича с Бакуниным следует, что они в это время много думали о том, как выпутать Белинского из неприятной истории.
В последующем издание журнала больше не возобновлялось. Станкевич сотрудничал с «Телескопом» почти пять лет и, как отмечено выше, достаточно тесно и плодотворно. На его страницах он успешно выступал в качестве поэта, журналиста, писателя, переводчика. Заявил он о себе и как редакционный работник, помогая Белинскому формировать политику журнала, планировать его очередные номера, рецензировать как опубликованные, так и неопубликованные материалы.
Таким образом, Станкевич, наряду с другими авторами журнала, в числе которых были Пушкин, Белинский, Надеждин, Тютчев, Языков, К. Аксаков, Герцен, Гончаров, внес свой вклад в просвещение российского общества. Именно просвещение народа являлось ключевой задачей издания, просвещение должно было способствовать новому расцвету России, стать благовестом ее великой будущности.
Оценивая работу Станкевича в «Телескопе», Белинский сказал: «Станкевич готов был всегда и написать, и перевести статью для журнала, но не терпел, чтобы его и в шутку называли литератором».
Глава пятнадцатая
ПОЕЗДКА НА КАВКАЗ
К началу 1836 года здоровье Станкевича стало ухудшаться: мучили головные боли, преследовала слабость, стягивала грудь, словно петля, одышка… Доктор Иустин Евдокимович Дядьковский настоятельно советует ему ехать лечиться на Кавказ.
В письме Неверову 15 февраля Станкевич сообщает: «…Кавказ представляется мне в каком-то очаровательном свете. Доктор говорит, что он возродит мой организм, а я тайно надеюсь, что он возродит и душу».
Кавказ в те годы, несмотря на продолжающуюся там войну, был для русских неким романтическим местом. В этом краю, среди покрытых вечным снегом гор, находился небольшой городок Пятигорск, снискавший себе славу целебными термальными водами. Однако вокруг курорта еще было неспокойно: обозы и людей сопровождали казачьи конвои; происходили перестрелки; совершали дерзкие вылазки черкесы… Но несмотря на это, начиная с весны и до осени на чудесные источники тянулся поток людей разных возрастов, званий и сословий.
В первых числах мая 1836 года на Кавказ, прямо из деревни, отправляется и Станкевич. Путь лежал через донские степи. Путешествие было долгим.
Цветистым ковром растилалась бескрайняя, казалось, равнина. Степные орлы, как на страже, сидели на древних курганах, окидывая зоркими взглядами проезжавших путников. Шумел седой ковыль о славных походах казачьей вольницы, оборонявшей когда-то Русь от иноземных врагов. Невольно вспоминались воспетые Рылеевым отважный Ермак и удалые
Товарищи его трудов,
Побед и громозвучной славы…
Почти десять суток наш герой со своими родными — отцом, братьями добирался до Пятигорска. Дольше всего их задержала Аксайская переправа через Дон, разлившийся на десять километров.
Станкевич потом рассказывал: «Когда мы к нему (Дону. —
Н. К.) подъехали вечером, вид был очаровательный: на берегу множество народа, возы, бочки, скот, лошади, шум, крик, на воде суда с распущенными парусами, выстрелы казаков, отправлявшихся в поход. Мы переночевали, подул противный ветер, и мы целый день тянули по берегу судно — жар, ветер и скука! Степи сначала нравятся своею обширностью и новостью, но скоро утомляют — ждешь селения и грустишь… Грустно до самого Кавказа!»
Длинная и невеселая дорога безусловно не способствовала улучшению здоровья Станкевича, скорее, наоборот, еще больше его расстроила. Подтверждение находим в первых письмах из Пятигорска, в котором он поселился на время лечения. В них — настроение нашего героя' «…Эта дикая природа производит на меня враждебное впечатление. Надобно больше привыкнуть, сосредоточиться, чтобы почувствовать эту суровую красоту: до сих пор она давит меня и наводит тоску. Дикий край и дикие люди, далеко от образованного мира и родины — грустно!.. Музыки до сих пор нет, приезжих мало, дам еще меньше».
И далее: «Вот уже две недели, как мы на Кавказе. Но я — индюшка, судьба везде клюет меня. Неделя, как я не пью больше вод, оттого что сделался прилив крови к груди: теперь мне легче — и бог знает, когда это совершенно кончится и, может быть, вода опять его увеличит…»
Однако постепенно Станкевич втягивается в жизнь маленького, но опрятного городка. Расположенный в котловине гор, при реке Подкумке, Пятигорск имел десятка два прорезанных в разных направлениях улиц с примерно тремя сотнями одноэтажных домиков, между которыми были выстроены каменные казенные постройки — ванны, галереи, гостиницы…
Как и все приехавшие в Пятигорск на лечение, Станкевич становится членом «водяного общества»: принимает минеральные воды, совершает прогулки по здешним местам, дышит чистым целебным воздухом. Меняется и его настроение, вроде и здоровье идет на поправку. Он рад этому, грусть не гложет душу:
«Теперь, когда деревня изгладилась немножко из памяти, когда я узнал чего надобно искать на Кавказе, он производит на меня совсем другое впечатление. Вдобавок сюда пришла музыка — и музыка довольно хорошая, которая почти каждый день играет на бульваре. Благодаря всему этому, теперь начинается эмансипация моего чувства, и я прихожу в состояние отдать справедливость Кавказу… Вчера, в первый раз, видел я здесь прекрасную ночь: она похожа на день, как петербургская, вечерняя заря не сливается с утреннею: в 9 часов темно, самый свет луны довольно был слаб, но в этом полусвете равнина и горы делают удивительный эффект. Все это так очаровательно».
Конечно, поездка Станкевича на Кавказ — не более чем маленький эпизод его короткой жизни, хотя он и нашел свое отражение в истории современных Кавказских Минеральных Вод. В музее города Железноводска, наряду с портретами людей здесь побывавших — императора Николая I, поэта Михаила Лермонтова, композитора Михаила Глинки, есть и портрет члена «водяного общества» Николая Станкевича.
Однако даже этот короткий штрих биографии нашего героя весьма важен для истории отечественной литературы. В посланиях, отправленных Станкевичем оттуда Неверову, Белинскому, Бакунину, содержатся наблюдения о здешней природе, культуре, обычаях и нравах жителей горного края.
В настоящее время письма Станкевича известны в основном специалистам — литературоведам, историкам и биографам. А между тем они, без сомнения, представляют интерес и для массового читателя. Это, по сути, короткие рассказы и миниатюры. Написанные живым, образным языком, они в определенной степени дополняют «Героя нашего времени» Лермонтова, «Кавказского пленника» Пушкина и «Хаджи-Мурата» Льва Толстого.
Вот некоторые из его кавказских зарисовок, свидетельствующие об остром уме и завидной наблюдательности их автора.
О горцах: «На днях мы ездили в два аула мирных черкесов… Сорок черкесов составляли наш конвой, скакали, стреляли в шапки около наших экипажей. Мы приехали прежде всего к султанше, вдове Менгли-Гирея; пока мы ехали вброд по реке у самого аула, толпы черкесов скакали по берегу и встретили нас у въезда; среди множества вооруженных азиатцев мы казались пленниками, и некоторые из нас до того живо почувствовали это сходство, что немножко перетрусили, но мне все это нравилось своей необыкновенностью. Сын султанши, прехорошенький мальчик лет девяти, на вопрос наш: можно ли пойти к его матери, поклонился и сделал пригласительный знак; мы пошли, пристав аулов, егерский офицер, сделал ей по-татарски приветствие, и она попросила нас садиться. Домик ее похож на опрятную станцию, какие часто встречаются между Москвою и Воронежем. Она была в России и говорит порядочно по-русски; сын ее учится Алкорану и по-русски еще не знает, старший в Петербурге…
Приехав во второй аул, мы явились к султану Керим-Гирею. Здоровый, высокий, плечистый мужчина, лет пятидесяти, встретил нас в своей сакле — обмазанной избе, без окон, куда свет шел через печку или, правильнее, через некоторого рода трубу, которая делается над полом, где раскладывается огонь. Тут висело оружие и — диво — стоял подсвечник со щипцами. Сын этого султана, малый лет 18-ти — красавец. Благородное лицо, большие глаза, орлиный нос, какая-то дикость и гордость — он немножко смотрит разбойником — и ни слова по-русски. От султана мы пошли смотреть пляс: черкес взял дудку — род флейты — и засвистел мелодию, другой взял дубинку и, стуча по ней палкою, мычал в один тон, м м м… (совершенно не выносить!). Толпа била в такт в ладони с припевом: а-га! а-га! Эта дикая песня, эта дикая толпа странно на меня действовали: мне грустно было смотреть на человека, так близкого еще к животному, который чужд лучших, благороднейших чувств; который не знал и не узнает ни одной чистой радости… Потом явились черкешенки — из них несколько лиц недурных… Пляска их… однообразна. Целую дорогу пелось в ушах у меня: а-га! а-га!»
О природе: «…Поутру открылись снеговые горы, так давно невиданные за тучами; Эльбрус — старый приятель — опять показал свои две головы. Странное чувство испытываю я, смотря на эти горы: тоску и какое-то наслаждение. Думаешь — вот предел Европы, за этими горами другие люди, другие нравы, там Грузия, там Персия, там океан, там полюс… А было время, когда, смотря на свой лес или дальнюю деревушку, воображал за нею какой-то новый чудный мир…
Но когда эти горы, сливаясь с облаками, которые над ними ходят, теряют наконец для тебя свое настоящее значение и кажутся какими-то фантастическими замками — тут вольнее становится душе, начинаешь придумывать черт знает что — тучи, которые ходят по Эльбрусу, кажутся обозами; обозы идут по снегу к селу, в селе дом, сад, какое-то движение. Иногда Эльбрус сам по себе, как есть, кинется в глаза и поразит без всяких фантазий: тогда любуешься одним: как хорошо две головы его врезаются в небо, как тонко они отделились от воздуха!»
«Здесь природа дика и печальна; здесь начинается обширная колыбель человечества; властительницей здесь является природа; перед ней смиряется бедное человечество, чувствует свое детское бессилие и не смеет мечтать о своем первенстве. Все кроткие, отрадные мечты, внушаемые тучными, живыми долинами Малороссии, здесь исчезают; огромность и дикость давят душу и, постепенно, не скоро, ровняется она с этими утесами и беспредельными равнинами…»
О «водяном обществе»:
«Приезжих понемногу начинает прибавляться. Недавно сюда приехала графиня Бенкендорф
с дочерью, племянницей и племянниками; ее пользует почтеннейший наш Иустин Евдокимович (доктор Дядьковский. —
Н. К.). Он здесь тоже в большой славе — от больных нет отбоя. Все ему несут в подарок разных букашек, которых он собирает. Мы послали ему живую черепаху от подошвы горы Бештау, и он ее кормит, хочет живую привезти в Москву: «Экая славная штука! В Москву ее, в Москву!» Скоро придет музыка и, говорят, в воскресенье будет первое собрание…»
«Вчера на бульваре играла музыка. Я пошел гулять, отделился от спутников и пошел на пригорок над гротом — любимое место мое. Мне вздумалось подняться выше — какая картина! С одной стороны, вблизи, Машук, который, кажется, уперся в тучи и полукружием обогнул центр города, в стороне — трехголовый Бештау, подернутый туманом, внизу — куча народу, дамы, черкесы, музыка, все полно жизни и гражданственности…»
О местных женщинах и девушках:
«Сегодня был я на рынке: татары, калмыки и черкесы явились сюда… Я с большим любопытством смотрел на калмычек и… — мне ужасно понравились их лица».
«Когда этот танец кончился, выступили две девушки, одна… с правильными, но старообразными, неприятными чертами. Другая, лет 15-ти, не совсем дурна, не совсем хороша — но с черными, как уголь, лоснящимися волосами и черными, томными глазами — я тут только узнал, что такое восточные глаза! Ух! Какие глаза! — вот что можно сказать с Гоголем».
Месяцы, проведенные Станкевичем на Кавказе, пролетели быстро. В первых числах августа он вернулся в деревню. Надежда, что Кавказ возродит его физически, не сбылась. Улучшения состояния здоровья нашего героя, к сожалению, не наступило. К тому же самочувствие не позволяло ему без врачебного надзора долго оставаться в родных краях. Он был вынужден на продолжительное время уезжать в Москву. Тогда же Станкевич начинает всерьез подумывать о своем лечении за границей.
События зимне-весеннего периода 1837 года красноречиво свидетельствуют о дальнейшем выраженном прогрессировании процесса болезни Станкевича. При этом в клинической картине его заболевания становятся выраженными патоморфологические признаки экссудативно-некротического воспаления.
В его письмах все чаще и чаще звучат слова о недуге. В письме Бакуниной 15 февраля Станкевич сообщал о «небольшом физическом расстройстве», а спустя месяц его новости совсем плохие: «Вот уже две недели, как я болен. У меня сделался жар… лихорадочное состояние продолжается до сих пор. Вы представить себе не можете, что из меня сделалось: восковая фигура».
«Мне писать трудно, — пишет он Неверову 20 марта 1837 года. — Болезнь моя поправляется очень медленно, и Дядьковский велел мне непременно ехать нынешнее лето в Карлсбад… Я никуда не выхожу и ничего почти не ем: аппетиту вовсе нет… Я сделался восковой статуей, кости да кожа… Ничего не могу читать, слабость в глазах, голове и ушах, похожу да полежу — вот все мои занятия».
Буквально через пять дней он опять с горечью сообщает Неверову: «Я не на шутку заболел, мой Генварь. С первой недели поста не выхожу из дому — и хотя основная болезнь понемножку уступает, зато меня так мучит кашель, чисто желудочный без всякой боли в груди, что представить себе не можешь…»
Решение поехать за границу у Станкевича зрело давно, едва ли не сразу после окончания университета. Тогда он связывал свои планы с дальнейшим повышением образования. По примеру учивших его профессоров Надеждина и Шевырева Станкевич собирался послушать лекции крупнейших философов, близко познакомиться с научной и культурной жизнью европейских стран.
По поводу своего заграничного путешествия он делится в январе 1834 года
с Неверовым: «Когда путешествовать? Еще не решено! Шевырев советует мне ехать вскоре по окончании курса; по моему расчету, самый скорый отъезд совершится не ранее, как через год, а прежде я намеревался через два. Мне нужно бы поучиться до отъезда. Я стыжусь своего невежества во многих вещах, да и хочется пожить в России, на воле, без стеснений ферульных…»
Через полтора года, в сентябре 1835-го, Станкевич вновь касается своей дальней поездки: «Я постигаю, мой друг, твое желание ехать за границу. Всеми возможными силлогизмами убедил я себя остаться здесь, но часто они лопаются, и меня манит не синяя даль, а дельная, благородная жизнь, прочное учение, немецкие университеты, расширенный круг познания… Через два года, может быть, отправлюсь и я».
И Станкевич стал готовиться к поездке. В частности, начал изучать итальянский язык. Другими языками — немецким и французским, которые должны были понадобиться ему в Европе, он уже владел, и владел неплохо.
Теперь же отъезд Станкевича за границу был обусловлен в первую очередь ухудшением его здоровья. Он рассчитывал основательно подлечиться и одновременно планировал завершить свое образование, особенно в области философии.
Настоятельный совет доктора Дядьковского только ускорил его сборы для отъезда за границу. Доктор выбирает Триест, где «…ветер с моря, наполняющий воздух соляными частицами, полезен… для слабой груди».
«Мне необходимо, неизбежно ехать, — пишет он незадолго до своего отъезда. — Оставить Россию на срок, для меня неопределенный, оставить в ней так много святого для меня и, Бог знает, в каком положении — это тяжело…»
Станкевич 21 июня 1837 года был официально отправлен в отставку с должности почетного смотрителя Острогожского уездного училища. А в первой половине августа ему оформили 192 и заграничный паспорт, разрешавший его владельцу в течение трех лет проживать в Германии, Италии, Швейцарии, а также разъезжать «по собственным надобностям».
Однако имея на руках паспорт, Станкевич не в восторге от этого, он вновь с грустью говорит: «Сейчас я получил паспорт от губернатора, но не обрадовался ему… Что будет, то будет, а будет, что Бог даст. Гёте заснул спокойно, когда корабль готов был разбиться об утес, думая о Христе, усмирившем бурю. Его кроткий образ, его слова проливают мир и в мою душу…»
Наверное, Станкевич уже предчувствовал что-то неладное в своей дальнейшей судьбе. Он еще мог поменять решение и остаться в России. Но поездка к заграничным докторам давала ему, возможно, последнюю надежду на исцеление и на возвращение на родину…
Глава шестнадцатая
ИСПОВЕДАЛЬНОЕ СЛОВО
В нашем повествовании мы часто обращаемся к письмам Станкевича, приводим оттуда выдержки, цитаты, делаем на них ссылки. Поэтому о письмах Станкевича следует рассказать особо.
Именно в них особенно искренне запечатлена история его личности, а сама переписка, по сути, представляет историю духовной жизни целого поколения передовой русской интеллигенции последекабристского периода. Письма Станкевича ценны тем, что адресованы таким деятелям нашей отечественной культуры, как Бакунин, Белинский, Грановский, Боткин, Неверов, Тургенев, которым он поверял свои мысли, тайны, передавал наблюдения, делился с ними идеями, поддерживал их в трудные минуты. Кроме того, письма имеют огромное значение и как серьезный документальный биографический источник.
Неслучайно Анненков, говоря о переписке как о материалах для определения личности Станкевича, выделил в ней «сердце и
мысль».
В свою очередь, Добролюбов, прочитав письма Станкевича, написал буквально следующее: «Нет сомнения, что большую часть писем Станкевича прочтут
с удовольствием все, кому дорого развитие живых идей и чистых стремлений, происшедшее в нашей литературе в сороковых годах и вышедшее преимущественно из того кружка, средоточием которого был Станкевич… Чтение переписки так симпатично действовало на нас, нам так отрадно было наблюдать проявления этого прекрасного характера; личность писавшего представлялась нам, по этим письмам, так обаятельною, что мы считали переписку Станкевича окончательным объяснением и утверждением его прав на внимание и сочувствие образованного общества».
В эпоху Станкевича письма, безусловно, были единственным средством общения через расстояния. Переписка являлась важной сферой умственной жизни, и поэтому поток корреспонденции был огромен. В жару и холод, в дождь и метель мчались по бескрайним просторам России тройки почтовые, доставляя людям долгожданные послания. Их с нетерпением ждали не только в столицах, губернских и уездных городах, но и в таких маленьких деревеньках, как Удеревка, где прошло детство Станкевича. Точно так же торопились кареты с корреспонденцией и по вымощенным дорогам Европы, во многих уголках которой с разными миссиями находились посланцы России. В их числе был и Станкевич, исправно посылавший на родину письма о своем житье-бытье и ожидавший оттуда теплых и добрых вестей.
Тогда умели и любили писать письма, их читали вслух, ими наслаждались. Они были хрониками новостей, заметных событий общественной жизни и комментариями к ним, изложением сокровенных мыслей и чувств. Письма служили и другой цели, а именно — являлись своего рода опытной площадкой для разнообразных жанровых и стилистических экспериментов.
В частности, письма способствовали разработке литературного языка. Писатели, жившие в одно время со Станкевичем, а это Петр Вяземский, Александр Тургенев, Александр Пушкин, другие, видели в переписке «глубоко литературный жанр» и в собственных письмах культивировали литературные нормы, отвечавшие законам этого жанра.
До нас дошло около 350 писем Станкевича, написание которых относится к периоду 1833–1840 годов. Впервые упорядочил и издал их в 1857 году в журнале «Русский вестник» (№ 7) Анненков. Потом он опубликовал их отдельным изданием.
Более полувека спустя, в 1914 году, в печати появился второй вариант писем Станкевича, изданный его племянником А. И. Станкевичем, профессором Московского университета. Всего было опубликовано 346 писем. Свод этих писем композиционно перестроен в сравнении с тем, что было у Анненкова. Кроме того, их текст во многих местах дополнен и уточнен.
К сожалению, безвозвратно утрачены весьма важные письма отцу. Не уцелели письма Станкевича своим наставникам-профессорам Надеждину, Погодину, немецкому профессору Вердеру, поэту и другу Алексею Кольцову, однокурсникам по Московскому университету Якову Почеке, Сергею Строеву, доктору Дядьковскому… Безусловно,' эти письма могли бы открыть новые страницы для раскрытия личности и истории жизни нашего героя.
«Мы имеем в Станкевиче, — писал Анненков, — типическое лицо, превосходно выражающее молодость того самого поколения, которое подняло все вопросы, занимающие ныне науку и литературу, которое по мере возможности трудилось над ними и теперь начинает сходить понемногу с поприща, уступая место другим деятелям. В Станкевиче отразилась юность одной эпохи нашего развития: он как будто собрал и совокупил в себе лучшие нравственные черты, благороднейшие стремления и надежды своих товарищей. В нем сошлось как в центре все прекрасное, которое было рассеяно в толпе окружающих его друзей…»
А эти слова принадлежат единомышленнику Станкевича — Каткову: «К Станкевичу как нельзя более идет слово поэта:
Gemeine Naturen zahlen mit dera was sie haben, schone — mit dem wassie sind (Вульгарные натуры платят тем, что у них есть, прекрасные — тем, что они есть сами). В этом человеке заключалось что-то необыкновенное, обаятельное, живо говорившее и тогда, когда он молчал. В нем была сила, приводившая в связь и согласие самые разнородные элементы. Мы надеемся со временем познакомить ближе наших читателей со Станкевичем… прекрасный образ которого принадлежит истории нашего образования».
Сказанное Анненковым и Катковым отчетливо и ярко прослеживается в переписке нашего героя. Его письма читаются как исповедальное слово человека, отразившего в себе сущность нравственного развития целого поколения. В сохранившемся эпистолярном наследии затрагиваются не теряющие и в наше время значение «вечные проблемы» философского, нравственного, художественно-эстетического характера, ведется глубокий разговор о культуре и искусстве, то есть о литературе, театре, музыке, величайших памятниках мировой живописи, скульптуры, архитектуры. Впрочем, вновь обратимся к его мыслям, раздумьям, оценкам, взглядам, суждениям…
О жизни. «Вне жизни ничего не лежит, ибо она есть всё; следовательно, постепенное познавание ей чуждо; сознавая себя, она все знает. Ее разум, разумение есть сознание себя самой (сознание в бытии совершающееся), следовательно, бытие она сама. Ее воля не определена ничем, следовательно, свободна, но не отступает от вечных законов разумения, следовательно, воля жизни есть вместе и свобода и необходимость. Если воля непреложна, а препятствий нет и все средства заключаются в том же существе, в каком воля, то воля есть действие; действие природы — жизнь; следовательно, воля жизни есть сама жизнь. Итак, жизнь есть разум и воля, если мы хотим судить ее по-человечески; но это разумение зависит единственно от нашего взгляда на жизнь; в сущности, она ни то, ни другое, но жизнь».
«Если жизнь не полна, если наслаждение бегло и непрочно, значит, мы не так живем…»
О человеке. «Человек выше всего, ибо он есть вся жизнь. Он не может возвышаться (не разрушив сущности бытия своего); он только не должен падать, он должен равняться самому себе. Но он пал… следовательно, опять должен возвышаться. В каждом неделимом человеке есть частицы человека нормального; в каждом есть низшие свойства. Взаимные отношения людей должны очистить, образовать совершенного человека… Отсюда несомненная, хотя и не новая истина: жизнь рода человеческого есть его воспитание».
Такого рода философские отступления заметно выделяются в переписке Станкевича. Некоторые его многостраничные письма своим единомышленникам, по сути, являются законченными статьями, трактатами, эссе.
Вообще философское чувство неискоренимо жило в Станкевиче. Философия для него была наукой о наиболее общих законах бытия и человеческого разума. Он считал ее хранилищем, куда стекаются результаты всех разнообразных наук и где они сводятся к единству. Таким образом, философия — не наука в ряду наук, а высочайшая из всех, служащая им основанием, душою и целью. Она по существу — наука о единстве мира или о мировом разуме, и ее задача — в сознании воссоздать весь мир из единой идеи. Трактовку назначения и роли этой науки Станкевич определил в ноябре 1835 года в письме Бакунину: «Я не думаю, что философия окончательно может решить все наши важнейшие вопросы, но она приближает к их решению… она показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расширяет ум его. Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение, потом, узнав это, хочу указать людям их достоинства и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки одушевить единой мыслию».
Станкевич многое хотел изменить. Он видел несовершенство существовавших социальных отношений и верил в возможность их изменения. Правда, свои надежды он возлагал не на революционную перестройку этих отношений, о чем уже шла речь, а на нравственное усовершенствование каждого человека.
Высшую обязанность человека он видел в посильном содействии этому совершенствованию. «Если у меня теперь есть какая-нибудь
idea fixe, — писал он в одном из писем, — то это о воспитании в духе нравственности и религии, о возможности поддержать ее и об ускорении всеми силами человечества на пути его к царству Божию, к чести, к вере».
Человек, считал он, должен или делать добро, или приготовлять себя к деланию добра. Делать добро — значит всеми силами способствовать восстановлению в человечестве того идеального образа, который ныне затемнен; и это священнейший долг человека. Но исполнять этот долг может лишь тот, кто сам чист, а средства исполнения указует наука; поэтому ближайшая обязанность человека — совершенствовать самого себя в нравственном, а затем в умственном отношении. Очистить свою душу и образовать свой ум, потом заключить с единомышленниками союз дружбы и чести и общими силами трудиться на пользу Отечеству, указывая ближним истинный путь, давая им понятия о чести, о религии, о науках.
В одном из посланий Станкевич написал Неверову: «…Постепенное воспитание человечества есть одно из сладчайших моих верований. И как отрадно видеть его в согласии с бытием природы, с сущностью человеческого знания, человеческой воли!»
Надо заметить, здесь Станкевич отнюдь не выступает неким космополитом-утопистом, заботящимся о воспитании всего человечества. Это воспитание он связывает с усвоением человеком своего родового, общечеловеческого начала. «Если бы каждый из нас, — говорит Станкевич, — вместо человека стал бы человечеством — не о чем было бы печалиться. Но возможность этого существует для нас в некоторой степени».
Общество Станкевич рассматривал как «органическое тело», которое должно развиваться, не разрушаясь, в силу внутренней необходимости. При этом развитие, совершенствование его Станкевич обусловливал, сообразуясь со своими философско-этическими построениями, прежде всего развитием людей, преодолением у них разрушительного эгоизма, воспитанием добра, распространением просвещения.
Находясь за границей, Станкевич отмечал контраст между русской действительностью и европейской жизнью. Это различие он показывает на примере родного городка Острогожска и немецкого Буртшейда. «Я часто фантазирую про наши острогожские пригородные нивы около Харьковской улицы, — пишет он родным в августе 1838 года из Германии. — Разница та, что здесь каждый клочек обработан, обсажен деревьями и, кажется, сам собою любуется; но место очень сходно… Богатое произрастание, и на каждом шагу следы труда, следы людей, правильные группы тополей и лип, домики, из них выглядывающие, делают самое приятное впечатление».
Конечно, западные картины смотрелись веселее и радостнее своих. Не бросались в глаза убогость, покосившиеся избы, мужики-горемыки… И жизнь была здесь как-то правильнее российской. «Я уважаю человеческую свободу, — говорит наш герой, — но знаю, в чем она состоит, и знаю, что первое условие для свободы есть законная власть. В Германии — при общем стремлении к свободе мысли — законная власть уважается больше, нежели где-нибудь, это следствие ее основательного образования». Но Станкевич терпеливо смотрит на недостатки Отечества и любовь к нему у него «тверда и непоколебима», а недостатки «должны изгладиться временем и образованием».
К слову сказать, в отличие от некоторых современных западников, часто страдающих неизлечимой формой русофобии, то есть искренне презирающих и ненавидящих Россию и мечтающих о постоянном месте жительства на Западе, Станкевич, хотя и считался западником, горячо любил свою страну и хотел для нее только блага. Важно, подчеркивал он в одном из писем, пробудить в народе «человеческую сторону», позаботиться о том, чтобы он «сам стал думать, сам искать средства к своему благосостоянию».
Как и большинство передовых людей того времени, Станкевича волновал вопрос освобождения крестьян от крепостной зависимости. Тема эта считалась запретной, поскольку крепостное право являлось одной из важнейших основ общественного порядка. При таком положении дел прогрессивный слой общества мог восставать против гнета крестьян лишь в художественных произведениях. Именно их авторы изображали темные стороны крестьянского быта. Но и тут цензура смотрела, что называется, в оба.
Однако оставались письма, по сути, средства связи для приема и передачи заветных мыслей между доверенными лицами. Именно в переписке Станкевича мы находим то, что, по словам Герцена,
«грамотный может прочесть, что
тогда хоронилось безгласно… Николай (царь Николай I. —
Н. К.) перевязал артерию — кровь переливалась проселочными тропинками. Вот эти-то волосяные сосуды и оставили свой след в сочинениях Белинского, в переписке Станкевича».
Освобождение крестьян придет рано или поздно благодаря действиям правительства, полагал Станкевич, «но и тогда народ не может принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития…». С другой стороны, умственное развитие самих крестьян должно быть важнейшей предпосылкой для их освобождения. В любом случае, «кто любит Россию, тот, прежде всего, должен желать распространения в ней образования».
Безусловно, идеи Станкевича и его единомышленников, пусть идеалистические, сыграли свою роль в дальнейшем развитии общества. И в первую очередь в утверждении свободомыслия, в возвышении человека, значимости его интеллектуальной и духовной жизни. Вот что писал позднее Гершензон: «В них (идеях. —
Н. К.) новый идеал, которому суждено было надолго стать скрытым двигателем всей нашей духовной жизни — эта высокая скрытая мечта Станкевича и его друзей о разумной и прекрасной жизни, о совершенном человеке был перенесен… на социальную почву и выражен на социальном языке. Этим был дан могучий толчок зарождению у нас общественного идеализма». Как известно, движение идеалистов сыграло огромную роль в реформах Александра II.
Незаурядность личности Станкевича сказывается едва ли не в каждом из писем, что свидетельствует о непрерывной духовной и интеллектуальной работе их автора. Большой интерес и сегодня представляют религиозные взгляды Станкевича. Эти взгляды — одни из наиболее глубоких и интимных у человека — имеют очень важное значение для понимания личности нашего героя. В переписке мы находим высказывания о душе и будущей жизни, о божестве и отношении его к миру и человеку, о смысле человеческого существования.
Для Станкевича религия — это радостное утверждение мира. В ней одной все диссонансы разрешаются в гармонию. Мир есть стройное целое, одушевленное разумом, и человек —
частица этого гармоничного целого; ощущать эту разумную стройность мирового порядка, свою принадлежность к ней — неискоренимая потребность человеческого духа, и это достигается через религию, ибо она одна в состоянии перешагнуть бездну, которая всегда остается между бесконечностью и человеком и которой не может наполнить никакое знание, никакая система.
Долг человека — исполнить свое человеческое назначение, и Божий Промысел каждому подает средства на это: тому счастье, другому бедствие. В исполнении этого долга — внутреннее блаженство; правда, оно одно не насытит сердца, но внешнее блаженство не дается тому, кто его ищет. «Да! Кажется нужно что-то от мира для полноты этого счастья, но да будет воля Его! Я не молюсь о своем счастии, — с меня довольно быть человеком. Я говорю: Господи! Буди в сердце моем и дай мне совершить подвиг на земле; и если слезящий взор обратится к нему
с другою, невольною молитвою, я говорю, — но да будет не яко же аз хощу, но яко же Ты хощеши. Когда же вся тяжесть пожертвований без вознаграждения представляется мне, я прибавляю: Господи! Если возможно, да мимо идет чаша сия!»
В переписке есть письмо, где Станкевич сосредоточивает свои мысли на собственном религиозном чувстве. Проникнутый важностью предмета, он перебирает всю свою жизнь до мельчайших движений сердца, до самых тайных своих наклонностей и с упоением говорит о блаженстве чувствовать в себе потребность живой веры. Обеты исправления сыплются из груди, взволнованной сладкой любовью и радостью религиозного одушевления, наполняющего ее.
Характерно, что эти исповедальные слова произносит он накануне Светлого Воскресения Христова: «Сейчас я читал Евангелие Иоанна. Сын Человеческий является мне в каком-то недоступном величии; давно не испытывал тех блаженных минут, когда чувствуешь Его присутствие в душе! Только в такую минуту прилично торжественным обрядом запечатлеть соединение с Ним… Я теперь понимаю религию! Без нее нет человека!»
Далее он пишет: «Какой свет восходит для души, примиряющейся с Божеством посредством благих уставов религии! Вся природа обновляется; тяжелые нравственные вопросы, не разрешимые для ума, решаются без малейшей борьбы; жизнь снова одевается в радужные одежды, становится прекрасною и высокою!»
Об этом свидетельствуют и строки из его письма Белинскому: «Одна вера, одна религия… в состоянии наполнить пустоту, вечно остающуюся в человеческом знании».
В воззрениях Станкевича весьма сильны мотивы, почерпнутые из христианства. «Жизнь есть любовь…С тех пор как началась любовь, должны была начаться жизнь; покуда есть любовь, жизнь не должна уничтожиться, поелику есть любовь, и жизнь не должна знать пределов». Женщину Станкевич считал священным существом. Не напрасно, говорил он, Дева Мария и Божия Матерь суть главные символы нашей религии.
Особую и важную группу в эпистолярном наследии нашего героя составляют письма о культуре и искусстве. Эти послания содержат оценки литературных произведений, театральных постановок и спектаклей, произведений живописи, музыки, раздумья о творчестве писателей, поэтов, актеров, музыкантов, художников. Вот лишь несколько цитат из его переписки.
Об искусстве. «Искусство делается для меня божеством, и я твержу одно: дружба… и искусство! Вот мир, в котором человек должен жить, если не хочет стать наряду с животными! вот благотворная сфера, в которой он должен поселиться, чтобы быть достойным себя! вот огонь, которым он должен согревать и очищать душу!»
О театре. «Театр становится для меня атмосферою; там, в храме искусства, как-то вольнее душе; множество народа не стесняет ее, ибо над этим множеством парит какая-то мысль; она закрывает от меня ничтожных, не внемлющих голосу божественной любви в искусстве… Наше искусство не высоко, но театр и музыка располагают душу мечтать о нем, о его совершенстве, о прелести изящного…»
Станкевич считал, что искусство должно просветлять человека жаждой совершенного, божественного, абсолютного, способствовать его полному разумению себя. Но это совершенное не терпит фальши, нарочитого эффекта, и поэтому важнейшими критериями здесь должны являться естественность, простота, жизненная и художественная.
Неслучайны, например, его оценки игры актера Каратыгина, литературных произведений Бенедиктова, Бестужева-Марлинского, Кукольника, в которых он находил проявления искусственности, ходульности, вычурности. Тогда как, напротив, он высоко оценил Гоголя, назвав его произведения истинной поэзией действительной жизни, а Щепкина пророчески окрестил гением.
В письмах Станкевича есть тема, как может показаться, сугубо личная и не лишенная драматизма. Речь идет о любви. Из переписки перед нами предстает человек, который любил и был любим, страдал, переживал, мучился, разочаровывался в своих чувствах.
В эпистолярном наследии Станкевича мы находим поразительные по своей чистоте и душевности любовные послания к женщинам. Выдержки из этих писем, отличающихся естественностью, трогательной интонацией, неподражаемой прелестью слога, лирическим напряжением стиля, приводятся в книге, в частности Любови и Варваре Бакуниным.
«Для одних любовь — забава, для других — наслаждение духовное, как наслаждение искусством, — признавался Станкевич в одном из таких откровенных посланий, — для меня — она религия; для меня она — жизнь, жизнь такая, какою будет жить преображенное человечество, воздух, которым будет дышать оно. Тот недостоин любви, кто, предаваясь ей всею полнотою сердца, забывает подвиг свой; тот недостоин любви, ибо не понимает еще ее значения. Она должна быть источником подвига, как религия. Но до этого состояния надобно возвыситься».
Нельзя обойти вниманием еще один цикл писем, который можно было бы озаглавить как «Записки русского путешественника». Первые главы этих записок Станкевич написал еще во время своей поездки на Кавказ. Причем написал их живо, увлекательно и с тонким юмором. Последующие заметки создавались им по пути следования за границу и уже непосредственно там.
Географ, философ, художник, критик, литературовед, музыкант постоянно совмещались в Станкевиче с писателем, журналистом. Эта многогранность помогала ему художественно выразительно описывать увиденное, рисовать портреты и характеры людей, диалогизированные сценки, живописные пейзажи, глубоко и тонко осмысливать произведения искусства.
Вот, к примеру, какую емкую и образную характеристику Станкевич дает немецкому городу Потсдаму после его посещения: «Потсдам — город очень чистый и красивый, — точно гвардейский прусский солдат в мундире, с усиками».
В другом письме он не менее лаконично описывает берлинскую публику: «Каждый офицер, каждый студент, который попадается нам навстречу, цветет здоровьем и свежестью — следствие здешнего порядочного и умеренного образа жизни. Девушки имеют что-то такое в лице, чего я не умею назвать, как картофельным — полнота и белизна не совсем привлекательные, но все-таки лучше московской желтизны!»
В приведенных отрывках писем нельзя не видеть простоту и изящность выражения чувств и мыслей их автора. «Письма Станкевича отличаются богатством содержания и разнообразием форм, — справедливо отмечает авторитетный современный литературовед Г. Г. Елизаветина. — В них и размышления, и веселая шутка, и откровенный рассказ о «домашнем быте души», как говорил он о своем внутреннем мире. Некоторые из писем представляют собой, в сущности, путевые очерки, в которых автор рассказывает о Берлине, Праге, Риме и других городах, в которых побывал. Другие — очерки нравов и характеров. Третьи — обзоры театральной и музыкальной жизни тех городов, где жил Станкевич. Четвертые — лирические воспоминания о детстве, об оставленных на родине близких. Во многих — синтез всего перечисленного. И пишет ли Станкевич о философии, о литературе, музыке, театре или живописи, всегда его взгляд отличается свежестью, умением заметить главное и рассказать о нем».
Эпистолярное мастерство Станкевича постоянно оттачивалось и совершенствовалось. В последний период его жизни оно достигло достаточно высокого уровня. Так, письма 1840 года Фроловым и Тургеневу известный русский литературовед Корнилов назвал «шедеврами в своем роде», а послания Грановскому, по словам восхищенного Герцена, «изящны, прелестны».
Положительную оценку письмам Станкевича поставил и великий Лев Толстой. Хотя, как известно, автор «Войны и мира» не был щедрым на похвалы. Но чтение писем его буквально захватило. «Читал ли ты переписку Станкевича? Боже мой! что это за прелесть, — пишет он в августе 1858 года своему приятелю публицисту Б. Н. Чичерину. — Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы на глазах. Я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать. Больно читать его — слишком правда, убийственно грустная правда. Вот где ешь его кровь и тело. И зачем? за что? мучалось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо. Зачем? ты скажешь: «затем, чтобы ты плакал, его читая». Да это я знаю и согласен, но этот ответ не мешает мне все-таки совсем из другого, более цельного, более человеческого источника, спросить: зачем? и с каким-то болезненным удовольствием знать, что ничем кроме грустью и ужасом нельзя ответить на этот
зачем? Тот же
зачем звучит и в моей душе на всё лучшее, что в ней есть; и это лучшее мне тем, не скажу дороже, а больнее. Понимаешь ли ты меня, мой друг? Я бы желал, чтобы ты меня понял; а то на одного много этого — тяжело. Черт знает, нервы, что ли, у меня расстроены, но мне хочется плакать, и сейчас затворю дверь и буду плакать».
Завершая эту главу, нельзя не сказать еще об одном немаловажном достоинстве писем Станкевича. Оно состоит в том, что их интересно читать. Они захватывают. От них трудно оторваться. Отсвет глубокого и яркого интеллекта лежит на этих письмах.
Мы еще не раз заглянем в те далекие 30—40-е годы XIX века. Глазами Станкевича — умными и проницательными — увидим эпоху, в которой он жил и творил.
Глава семнадцатая
ВДАЛИ ОТ РОССИИ
В середине августа Станкевич, простившись с родными, выехал вместе с отцом и слугой Иваном из Удеревки в сторону Харькова. В Харькове он расстался с отцом, а с Иваном направился дальше. Через Полтаву, Киев — к австрийской границе. Свой путь, не лишенный забавных приключений, Станкевич увлекательно, а часто и с юмором описывает в письмах семье и друзьям. Впрочем, прочитаем его рассказы.
«Я не считаю приключением того, — пишет он, — что на первой станции смотритель, ожидающий прибытия Великой княгини, принял меня за фельдъегеря и опрометью побежал из церкви, в то время, когда, по словам его, у него только начали навертываться слезы от Божественного пения. В вознаграждение я должен был дать ему коповика (полтинник. —
Н. К.), и он добродушно признался, что успеет еще выпить
до гласа… До самой Полтавы меня принимали за фельдъегеря; даже и узнавши, что еду по своей надобности, меня окружали, расспрашивали о Великой княгине, о наследнике. Я не скупился на рассказы и тем приобретал расположение смотрителей… Из Пирятина вез меня жид, нанятый от обывателей — и вез очень хорошо; а в Переяславе я больше ознакомился с этим народом и очень не полюбил его. Представьте, что на той площади, где они меняют деньги, совсем особенный запах; не говорю о квартирах. Здесь я принужден был поесть супу, который жидовка выварила, кажется, из своей старой юбки. Я расспросил немного жидков о курсе, и они все бросились предлагать менять деньги, но я отказался. В Браварах русский дворник запряг нам лихую пятерню калужских лошадей, и мы пустились к Клеву…»
Не менее интересно и забавно протекало путешествие Станкевича и дальше. Он побывал в Киеве, где в Печерском монастыре поклонился гробу Святого Владимира, крестителя Руси. Потом были Новгород Волынский, Радзивилов, Броды, Лемберг (так в XIX веке назывался Львов. —
Н. К.), Краков…
«За Бродами, — рассказывает Станкевич, — мне казалось, что я въехал совсем в другой мир, что и трава тут не так растет, и небо не так смотрит, а как почтальон заиграл в рожок, я сам не знаю, что со мной сделалось: так весело, что хоть плясать!» Действительно, заграница была иной. Как, впрочем, и сейчас. А в Лемберге забавную шутку сыграл с ним почтальон. Узнав, что в одном из местечек евреи в очередной раз обманули Станкевича, почтальон, въезжая во двор гостиницы, стал кричать: «Чи нема тут жидов? Пан не може их видзеть».
По пути следования в Берлин Станкевич делает непродолжительные остановки в европейских городах. В Кракове он счел необходимым осмотреть известные Величковские соляные копи. Проводник освещал для него факелами и бенгальским огнем фантастические коридоры и блещущие залы копей. В одной из разноцветных пропастей, внезапно озаренной синим фейерверочным огнем, Станкевич не мог удержаться от чувства страха. «Нельзя не струсить, — говорит он, — видя над собой страшные глыбы». В Ольмюце (в настоящее время Оломоуц — чешский город. —
Н. К.) он впервые видит готическую церковь, слышит музыку громадного органа, который «загремел» для него под ее сводами. И хотя все это было ему знакомо из книг, здесь он начинает чувствовать предметы и определяет к ним свое ощущение.
В Праге Станкевич знакомится с нидерландской натуралистической школой живописи XV века, с чудным Гемлингом, который вместе с братьями Ван Эйками был родоначальником знаменитой школы, воспитавшей Рубенса, Ван Дейка… Там же он встречается с видными учеными и литераторами Тиком, Кюне, издателем «Журнала светских людей» Эхтермейером, издателем знаменитых левогегельянских «Галлеских ежегодников».
В ряду этих встреч особенно важное значение имело знакомство Станкевича с чешским профессором Павлом-Иозефом Шафариком. Станкевич написал о нем в своем дневнике: «Он средних лет, высокого роста, имеет довольно умное лицо, прост и обходителен».
Шафарик являлся в какой-то степени знаковой фигурой для всей тогдашней славянской культуры. В 1826 году им была написана книга «История всех славянских языков», ставшая огромным событием в истории славистики. В фундаментальном труде, созданном этим чешским ученым, славяне впервые увидели себя в стройном порядке на глазах всей Европы, как единый народ.
Несомненная заслуга Шафарика заключалась еще и в том, что он выдвинул новую задачу для истории литературы — изучить все славянские литературы в их сходстве и различии. Этим он отдаленно предвосхитил предложенную в XX веке концепцию единства мировой литературы.
Заглянем вперед и скажем, что Станкевич, Грановский, другие члены его кружка неоднократно потом встречались с Шафариком. Одним из главных вопросов, обсуждаемых с ним, был вопрос о судьбах славянства. И неслучайно, поскольку в начале XIX века только Россия была единственным независимым и мощным славянским государством. Опираясь на авторитет России, который еще больше вырос после разгрома войск Наполеона и победного шествия русских войск по странам Европы, свободу от австрийского, турецкого, немецкого гнета должны были обрести и остальные славянские народы.
Рассматривая проблемы славянства с различных углов зрения, члены кружка Станкевича и Шафарик, безусловно, не были во всем единодушны. Особенно это касалось вопросов политических, когда речь заходила о том, что славянам будет принадлежать будущее. Разбиравшийся в политике Станкевич, но никогда не погружавшийся в ее пучину, был сдержан в подобного рода прогнозах. Его, как и других членов кружка, в первую очередь волновало то, как будут складываться литературные и культурные контакты славянских народов. И надо сказать, что связи Станкевича, Грановского, Неверова, Бодянского с представителями науки, литературы и культуры братских народов оказали впоследствии огромное влияние не только на развитие славяноведения, но и национальных литератур в целом.
Однако продолжим дальше наше путешествие со Станкевичем. После Праги он перебрался в курортный город Карлсбад (в настоящее время Карловы Вары. —
Н. К.), откуда сразу отправил шутливую весточку Неверову и Грановскому, с нетерпением ожидавшим его в Берлине: «Вы думаете, что вы важные люди, потому что стоите в Friedrichstrasse… да мне что за надобность! Знаю я ваши шашни… дайте мне приехать в Берлин; будет вашему брату гонка». Получив известие о благополучном прибытии Станкевича в Карлсбад, оба приятеля на радостях пустились, по выражению Станкевича, в пляс, как гоголевский майор Королев.
В Карлсбаде Станкевич по совету местного доктора Гохбергера начинает пить минеральную воду «Терезиен-бруннен». Нельзя сказать, что курорт оказал сильное влияние на состояние его здоровья. Тем не менее лечение водами не прошло для него бесследно. Станкевич очень хотел выздороветь, поэтому оставался чуть ли не последним и единственным пациентом Карлсбада. Девушки-работницы при источниках дрожали и жались от холода по утрам, когда красивый юноша с бледным лицом из далекой неведомой России подходил к ним за стаканом лечебной воды. «Мое здоровье очень поправилось», — сообщил он в письме Неверову.
По свидетельству Анненкова, в Карлсбаде Станкевич обрел тот немецкий мир, о котором думал с детства, с которым познакомился сперва, как сам говорил, посредством рыцарских романов, затем посредством фантастических повестей, про который и за который говорили ему издавна все его любимые писатели. Понравились ему и простота немецкой жизни, отсутствие праздного барства, легкость сношений между людьми. Он поприсутствовал на их балах, на стрельбе в цель, на вечерних собраниях за пивом. Здесь он повстречал и немецких гелертеров, и студентов, и тех девушек, которые, весело проработав целую неделю, идут, в праздник, в церковь с книжками в руках и с серьезным выражением на лицах, а вечером так же серьезно, но только без книжек — на вальс. Повидал Станкевич и шаловливых пансионерок, которые, узнав в нем иностранца, все в один голос закричали: «Guten Morgen!»
В Карлсбаде Станкевич пробыл три недели, а в двадцатых числах октября он уже был в Дрездене, где первым делом посетил знаменитую картинную галерею. Свою экскурсию он начал со знаменитой «Сикстинской мадонны» Рафаэля. «Я тотчас узнал ее, — написал он Неверову. — Сердце упало у меня — я почувствовал в ту же минуту, что картина для меня не существует. Как мытарь, готов я был бить себя в грудь, поднимая бессмысленные глаза на эту святыню… Я не сознавал даже красоты в лице ее, даже земной красоты. Только что-то странное, что-то чуждое мне, непривычное, видел я в чертах ее лица, в выражениях глаз». Но через какое-то время он снова подходит к картине, снова всматривается в полотно великого художника: «…Как будто она сделала движение! Теперь только заметил я, как она прижалась к своему младенцу; в этой простой позе вся сила и святость материнской любви… Теперь и глаза ее получили для меня часть смысла».
Станкевич полон и других впечатлений о Дрездене, ими он делится в письмах с друзьями, родными, которые с нетерпением ждали от него вестей как в самой Германии, так и на родине.
А вскоре Станкевич прибывает в Берлин. «Внимайте и вы… которые делили с нами душу, споры, веселье и скуку, — сообщает он родным, — внимайте! — Я в Берлине!»
Здесь его ждала долгожданная и радостная встреча со своими закадычными друзьями — Неверовым и Грановским. Он поселился в том же доме на Кирхенштрассе, где жили приятели. Станкевич обосновался в бельэтаже, а Неверов с Грановским проживали в трех комнатах на первом этаже. Как писал Н. Г. Фролов, один из многих находившихся в Берлине русских, «в Берлине Станкевич соединился с друзьями своими Я. М. Неверовым и Т. Н. Грановским; с ними по-братски, в тесном союзе и живом обмене мыслей и чувствований провел он с лишком полтора года».
В 1830-х годах Берлин являлся небольшим и в меру шумным городом. По словам Станкевича, он был «похож отчасти на Петербург. Улицы просторны, здания довольно красивы. Здесь народ посерьезнее; говорить много не любит. Даже извозчики фиакров не торгуются… Весь город живет самым аккуратным образом». А вот еще одно наблюдение: «Иду вдоль бульвара Unter den Linden к университету. Здесь чудесный дворец принца Вильгельма, по-моему, самое красивое здание в Берлине. Против него, вкось — университет, немного похожий на старый московский, подле Openhaus, дальше площадь, которую окружают: арсенал, музей, церковь и огромный замок наследного принца, напоминающий Зимний дворец».
Берлин справедливо считался своего рода Меккой, куда стекались, словно паломники к святым местам, молодые философы из разных уголков Европы и России. Правда, и другие европейские страны были центрами притяжения творческих людей. К примеру, художники ехали набираться знаний и мастерства в Италию, писательская братия оттачивала перья во Франции. А инакомыслящим давала убежище Англия. Как, впрочем, и в наше время. И все же именно Берлин являлся столицей не только европейской, но и мировой мысли.
В силу этого русское правительство охотно поощряло стремление дворянской молодежи заканчивать образование именно в Германии, и сюда съезжалось много русских студентов. Хотя и противников получения молодыми умами такого образования хватало. Небезызвестный Греч во всеуслышание подсказывал тогдашней власти: «Не Франция, а Германия сделалась теперь рассадником извращенных идей и анархии в головах. Нашей молодежи следовало бы запрещать ездить не во Францию, а в Германию, куда ее еще нарочно посылают учиться. Французские журналисты и разные революционные фантазеры — невинные ребята в сравнении с немецкими учеными, их книгами и брошюрами».
Берлинский университет являлся средоточием разработки и преподавания гегелевской философии, это-то и привлекало дворянский молодняк, так как конец тридцатых годов был порою наибольшей популярности гегельянства в России.
Однокурсник Станкевича Герцен, вспоминая эту эпоху, писал, что «все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней».
На немецкой земле жили и творили люди, которые составляли цвет и гордость не только тогдашней германской культуры, но и общеевропейской. И среди них — Кант, Гердер, Шиллер, Гофман, Моцарт, Гегель, Новалис… Станкевич застал здесь тех, кто еще продолжал творить, — Шеллинг, братья Гумбольдты, Бетховен, Шуберт. Славные имена!
Через некоторое время в Берлине у Станкевича возникло некое чувство, будто он опять вернулся в студенческие годы. Так, собственно, и было. Тем более что рядом находился его ближайший друг по университетской скамье Януарий Неверов. Недавним студентом был и Грановский. Теперь они, как и прежде, торопились по утрам на лекции в университет. Молодыми людьми руководило всепоглощающее стремление найти тайники берлинской учености, вобрать в себя все то, чем богат был этот город философов и музыкантов.
«На этих днях, — сообщал Станкевич родным, — я начал уже посещать лекции, записавшись по форме в здешние студенты: мне выдали студенческий диплом (билет. —
Н. К.) и знаменитую карточку, по предъявлении которой студент не может быть арестован, ни в каком случае, полицией: она только доносит начальству. Разумеется, что мне с нею нечего делать, но все это свято бережется, как напоминание. Профессора особенно вежливы к нам, иностранцам, и дают нам всегда лучшие места на лекциях».
Надо сказать, Берлинский университет производил внушительное впечатление. Весьма основательная постановка занятий, обширность программ и пособий — все это выгодно отличало его даже от Московского университета.
«Я с удовольствием расположился здесь, — писал Станкевич из Берлина, — и вместе с Грановским начертал план наших занятий… Нынешний семестр профессор Вердер и проф. Ранке, преимущественно, займут нас с Грановским. Вердер читает логику и метафизику (так называют популярно Гегелевскую логику) по утрам, а после обеда — Историю философии с Декарта. Ранке — новейшую историю, начиная с XVIII столетия… Вердер и Ранке — два таких сокровища, над которыми нам придется работать до кровавого пота, потому что заниматься не значит ходить только на лекции. Представьте, что нам придется думать над логикой, читать Декарта, Лейбница, Фихте и проч. А над новой историей, читать источники — безделица?.. Философия и современный мир — вот два господствующих занятия на нынешний семестр».
Свое пребывание в Берлине описывает, хотя не столь детально, как Станкевич, и Грановский: «…Нам некогда скучать: утром ученье, потом обед, потом читаем, в шесть часов театр, в девять возвращение домой, болтаем и смеемся, как сумасшедшие, пока Неверов, благоразумнейший из нас троих, потому что ему будет скоро 26 лет, не прогонит нас спать. Эта история возобновляется каждый день. Только когда не отправляемся в театр, — читаем, или один из моих товарищей занимает нас музыкой». Один из этих товарищей музыкантов — Станкевич.
В процессе учебы Станкевич особенно подружился с молодым профессором Карлом Вердером. Как писал Анненков, Вердер, хорошо знакомый тогдашней образованной русской молодежи, учившейся в Берлине, был типом добродетельнейшего, доверчивого, по-детски чистого немецкого ученого. Ему тогда было не более тридцати лет, и, сблизившись со Станкевичем, он подпал, как и другие, под влияние его личности. Вердер просто влюбился в своего талантливого и умного ученика, от которого, по его признанию, сколько же получал сам, столько и давал ему. К чести Станкевича, профессор объяснял свое расположение к нему тем, что у его русского друга душа совершенно немецкая.
Высоко ценил и Станкевич расположение к себе этого замечательного человека, который старался отвлеченным формулам Гегелевой логики сообщить жизнь и поэзию, возводя их до нравственных правил, связывая с ними достоинство человека и его эстетическое воспитание. «Он полюбил меня, — как-то сказал Станкевич, — и я его люблю от души». Впоследствии Вердер посвятил весьма теплое стихотворение Станкевичу.
Талантливый пропагандист гегелевского учения, Вердер преподносил это учение ярко, интересно, образно и доступно, используя для иллюстрации цитаты из «Фауста» Гёте. Философские формулы в устах немецкого профессора обретали глубокий нравственный смысл. Для Станкевича это имело важное значение, поскольку в своей деятельности он также уделял огромное внимание нравственному воспитанию людей.
«Профессор Вердер, редкий молодой человек, — говорил Станкевич о нем. — Ему 30 лет от роду, но он так наивен, как ребенок. Кажется, на целый мир он смотрит, как на свое поместье, в котором добрые люди постоянно готовят ему сюрприз. Нельзя не позавидовать этой тишине и ясности в душе, этой вечной гармонии с самим собою. Его беседы имеют на меня всегда спасительное влияние, все предметы невольно принимают тот свет, в котором он их видит, и становится самому лучше, и даже сам становишься лучше. Кроме его лекций, кроме его нравственного влияния, я обязан ему еще хорошим доктором, которого я взял в прошлом году по его рекомендации…»
Примечательно, Станкевич, Неверов, Грановский и другие студенты так были захвачены лекциями Вердера, что даже устраивали для него серенады. А происходило это так. Студенты нанимали за плату музыкантов и вместе с ними приходили к дому профессора. Затем начинали под его окнами петь песни, славя науку, университет и его преподавателей. Вскоре выходил Вердер и горячо благодарил поклонников за оказанную ему честь. В такие минуты профессор был особенно счастлив от внимания, которое ему оказали его ученики.
Станкевич старался основательно усвоить последнее слово европейской науки и выработать свою научную позицию. С этой целью он усиленно работает над первоисточниками. Кроме курса лекций Вердера и Ранке, он слушал эстетику у Гота и еще курс лекций по сельскому хозяйству. Однако курсом сельского хозяйства наш студент не совсем остался доволен: в прослушанных им двух семестрах речь шла в основном об историческом развитии сельского — хозяйства. Тогда как его больше интересовали практические вопросы. Поэтому во время своих поездок по Германии он старался поглубже вникнуть в дела аграрные. Причем в дела, которыми непосредственно занимались его отец и другие воронежские помещики.
К примеру, в Богемии Станкевич познакомился с условиями разведения скота. Там же он интересуется особенностями производства сахара из свеклы, с этой целью приобрел две брошюры о свекле. В Саксонии наш герой решил изучить опыт выращивания овец.
О своих сельскохозяйственных университетах сын подробно рассказывает в письмах отцу. «На днях, — писал он, — добыл себе прусские законы о земледелии, чтобы узнать здешние отношения помещиков к крестьянам, обрабатывающим землю, и потом судить, в какой степени здешние, земледельческие средства помещика могут быть приложены в нашем быту. Забавно, что я даю наставления в этом одному русскому, женатому помещику, который недавно вышел из гвардии в отставку и смыслит не больше моего, но оба твердо уверены, что сделаем успехи и будем хоть не образцовыми, но очень и очень порядочными хозяевами».
В другом письме он сообщал отцу о ценах на хлеб. По специальной таблице Станкевич сравнил русские меры с прусскими и пришел к такому выводу: «…Если эта таблица верна — в чем я почти не сомневаюсь, — то мой расчет верен. Рожь (около 24/12 января), около 1 талера 26 зильбергрошей за шеффель; это значит, четверть до 25 рублей ассигнациями. Пшеница около 3 талер. 20 зильбер. за шеффель; значит, четверть около 48 рублей ассигнациями; овес до 15 рублей. Горох в одной цене с рожью; картофель — шеффель 12 зильбер., т. е. четверть 5 рублей ассигнациями. Здесь никто не знает русских мер; принужден справляться по книгам, а на этих господ не всегда можно положиться».
Безусловно, все эти сведения были необходимы отцу Станкевича для ведения торговых дел. Нет сомнения, что он делился германским опытом с другими российскими помещиками.
Перевернем еще одну берлинскую страницу Станкевича. Существует версия, и она не беспочвенна, что Станкевич слушал лекции в Берлинском университете вместе с основоположником научного коммунизма и одним из авторов «Капитала» Карлом Марксом.
В письмах Станкевича за 1837 год находим, что он слушал лекции по философии права у Эдуарда Гйнса. В этот же период, как свидетельствуют документы, молодой Маркс тоже учился в Берлинском университете и посещал лекции вышеупомянутого профессора. Кстати, на лекции этого уважаемого профессора собиралось до 400 человек всех званий, возрастов и наций. Вывод однозначен: они вполне могли сидеть в одной аудитории. И далеко не один раз, поскольку гегелевская философия, которую проповедовал с кафедры Ганс, являлась едва ли не главным занятием как Станкевича, так и Маркса.
Станкевич, как известно, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи, он вдохновлял ее следовать за Гегелем, «чтоб увидеть, какая жизнь выходит из этой громады, которой разумная гармония понятна только тому, кто вполне обозрел ее; надо быть в системе, чтобы понять ее…». Читаем письмо Станкевича из Берлина: «Я готовлю для энциклопедия. лексикона статью о Гегеле… я с удовольствием принялся за нее…»
Тогда же в письме отцу Маркс сообщал: «Мой последний тезис оказался началом гегелевской системы… Это мое любимое детище, взлелеянное при лунном сиянии, завлекло меня, подобно коварной сирене, в объятия врага», под которым Маркс имел в виду Гегеля.
Еще одна деталь к версии о встрече этих людей, ее находим в письме Станкевича родным: «На днях случилось только мне встретить молодого человека, порядочно одетого, с бородою, чуть не до пояса, и с длинными волосами, разбросанными по спине. Это какой-то щеголь, может быть остаток старинного студенчества». Надо заметить, что это письмо наш герой написал практически сразу после приезда в Берлин. Кто знает, а может, действительно, это был молодой Маркс, с которым они потом встретятся на лекциях у профессора Ганса.
«От берлинской эпохи, — писал Анненков, — остались у Станкевича кипы тетрадей, записок с разбором логических категорий, отвлеченных понятий, всех этих звеньев философской науки, как она была составлена Гегелем. Здесь сбережены необыкновенно острые определения разных представлений ума, понятий о качестве, мере, тождестве и проч., понятий, которые ежечасно рождаются в голове каждого человека; но, будучи переведены в чистое мышление, кажутся существами какого-то другого, недвижного и холодного мира. Перед Станкевичем открывалось уединенное царство мысли, и он начинал распознавать свойства и характер жизни, которая предстоит человеку, обретающемуся в границах этой области. Станкевич принялся искать опоры для сердца и лучших человеческих стремлений в тех самых пределах, которые, казалось, сначала лишены были возможности дать ее. Два года пребывания своего в Берлине употребил Станкевич на эту работу…»
Овладение науками, лечение — это то, чем в основном с утра до вечера был занят Станкевич. Однако времени хватало и на другие занятия. Любил он кататься на санях, бывать на гуляньях, маскарадах, в которых участвовало местное население.
Нередко он заходил в пивной погребок, где некогда пьянствовал и разносил филистеров знаменитый романтик, автор популярной сказки «Крошка Цахес» Эрнст Теодор Амадей Гофман. С произведениями Гофмана Станкевич был хорошо знаком еще в пору студенчества. Сохранились записи, в которых он анализирует творчество немецкого писателя: «…Музыкальные страдания Крейслера (три повести Гофмана. —
Н. К.) — сколько здесь огня, истины. Хорошо фантастическое Гофмана — это не какая-нибудь уродливость, не фарсы, не странности, которыми Бальзак хотел сначала обратить на себя внимание. Его фантастическое естественно — оно кажется каким-то давнишним сном. А там, где он говорит о музыке, об искусстве вообще — не оторвешься от него!»
О другом замечательном произведении писателя-романтика «Необыкновенные страдания директора театра» Станкевич написал: «Чудная книга! Она должна быть евангелием у театральных директоров; как я рад был встретить здесь все, что душа моя издавна таила». Примечательно, что оценки Станкевича произведений Гофмана используются и сегодня, в частности, в современных искусствоведческих и литературоведческих изданиях.
Едва ли не каждый вечер Станкевич отправлялся с друзьями в один из берлинских театров — Оперный или Кенигштадтский. Станкевич часто посещал театр, особенно немецкую оперу. Тогда соперничали две певицы: Лове и Фассманн… Грановский был поклонником Лове, высокой и красивой брюнетки, Станкевич предпочитал Фассманн, блондинку.
В Кенигштадтском театре, где давались преимущественно фарсы, любимцами Станкевича были два комика: Герн и Бекманн; Герн был карикатурист; у Бекманна было много неподдельного, спокойного юмора. Весьма популярен в их исполнении был фарс о смотрителе рынка, который, заметив воров, пытается их задержать. Однако сам подвергается нападению всех собак рынка. Мошенники между тем благополучно стряпают свои дела. Станкевич, не лишенный актерских способностей, умел искусно потом повторять игру немецких артистов, добавляя в нее русский колорит.
Во время берлинской жизни у нашего героя было много различных встреч, знакомств. Причем весьма важных для продвижения русской литературы и культуры, установления и развития русско-германских культурных связей.
Достаточно теплые отношения у Станкевича сложились с прогрессивным писателем, публицистом и дипломатом Августом Варнгагеном (Фарнгаген) фон Энзе. В 1813 году он сражался с Наполеоном под русскими знаменами. Варнгаген был известен в немецкой литературе своей перепиской с Шамиссо, В. Гумбольдтом и, главным образом, как автор «Дневников».
Когда Станкевич и Неверов впервые пришли на квартиру Варнгагена, он сразу тепло принял русских студентов. Варнгаген снабдил их письмом с перечнем знакомых, которых рекомендовал посетить в различных городах Германии. Кроме того, написал рекомендательные письма к сестре Розе-Марии Ассинг, профессору истории права и политэкономии Карлу Риделю, историку и политическому деятелю Карлу Роттеку, Густаву Шлезиеру в Штутгарте, философу и политическому деятелю в Швейцарии Трокслеру и к поэту, ученому, профессору истории восточных литератур в Эрлангенском и Берлинском университетах Фридриху Рюккерту.
Варнгаген проявлял большой интерес к русской литературе, чему активно способствовали Станкевич и Неверов. Они учили Варнгагена русскому языку, знакомили с русской литературой, снабжали русскими книгами, в том числе сочинениями Пушкина, Лермонтова, В. Одоевского. Тот факт, что Варнгаген первым в немецкой критике написал об авторе «Бориса Годунова» как о великом национальном поэте, перевел на немецкий язык произведения Пушкина, Лермонтова, вне всякого сомнения есть огромная заслуга Станкевича и его друзей.
Заметим, что позднее Варнгаген оставит в своих дневниках добрые воспоминания о молодом русском философе. А в 1857 году при содействии все того же Варнгагена в «Ежегоднике» Энциклопедического словаря Брокгауза была опубликована статья о Белинском, в которой содержалось первое в западноевропейской печати упоминание о Станкевиче.
Станкевич часто выезжал из Берлина, чтобы увидеть другие немецкие города. Он побывал в Дрездене, Кельне, Бонне, Эмсе, Лейпциге, Мюнхене, Нюрнберге, Антверпене, Франкфурте… Воспользовавшись своим пребыванием в Кельне, Станкевич нашел время, чтобы познакомиться с сыном Фихте, философию которого он начал изучать еще студентом. Сын, как и его известный отец, тоже был философом, имел звание профессора. С ним Станкевич вел многочасовые беседы о системе преподавания логики.
В Веймаре Станкевич посетил дома своих любимых поэтов Шиллера и Гёте. Там же он познакомился с вдовой сына Гёте. Еще в годы своего учения в Воронежском благородном пансионе Станкевич с увлечением читал произведения немецких авторов, в числе которых был и Гёте. В его «Переписке» можно прочитать слова восхищения о стихотворениях великого немецкого поэта «Бог и баядера», «Лесной царь», «Коринфская невеста». Как мы уже говорили, будучи студентом Московского университета, Станкевич перевел на русский язык стихотворение Гёте «К месяцу», а композитор Алексей Варламов написал к нему прекрасную музыку. Стихи стали романсом, который исполняется и поныне.
Фрау Оттилия фон Гёте очень любезно и ласково приняла Станкевича. Им было о чем побеседовать в тиши кабинета великого поэта, куда тот пускал только друзей и куда даже баварский король не мог попасть иначе как обманом. Король притворился, что у него идет кровь из носа, и таким образом проник в творческую мастерскую Гёте. Об истории с королем и о том, как проходила встреча с фрау Гёте, Станкевич подробно написал родным, подчеркнув, что «вечер прошел довольно приятно в разговорах о новой немецкой литературе, музыке…».
В конце 1837 года в Берлин приехало семейство Фроловых — Николай Григорьевич и Елизавета Павловна. Он — отставной гвардейский офицер, слушал лекции в университете по географии у профессора Риттера. Фролов был известен как издатель трудов по естествознанию и журнала «Магазин землеведения и путешествий». В Берлине Фролов, наряду с занятиями географией и философией, работал над русским переводом «Космоса» Гумбольдта. Супруга Фролова — Елизавета Павловна, урожденная Галахова, стала хозяйкой культурного салона.
Вот как отзывался Станкевич о Фроловых: «Это — доброе семейство, или, лучше сказать, добрая чета, потому что их двое, муж и жена… Они оба очень умны».
Берлинский салон Фроловых, ставший вскоре центром умственной жизни всей русской колонии, был популярен не только среди русских, но даже в дипломатических кругах. В течение двух зим, 1838 и 1839 годов, почти каждый день Станкевич с друзьями проводил здесь вечера, беседуя за чаем обо всем, что может занимать ум человека.
Хозяйка Елизавета Павловна, имя которой в нашем повествовании будет упоминаться еще не раз, была действительно женщиной замечательной и достаточно образованной. Уже не молодая, не красивая, она, тем не менее, невольно привлекала к себе людей своим тонким женским умом и грацией. Елизавета Павловна обладала искусством
mettregens a leuraise — сама говорила немного, но каждое ее слово не забывалось. Русского в ней было мало. Она скорее походила на умную француженку. Фролова очень любила и уважала Станкевича.
Сам Станкевич отмечал выдающийся ум, тонкий вкус, женственное обаяние Фроловой: «Русские и иностранцы дорожат ее знакомством». Он писал сестрам: «Здесь есть некто (в Германии он не некто, а человек очень известный) Варнгаген фон Энзе, старичок, бывший когда-то посланником в Штутгарте, который не знает ей (то есть Фроловой. —
Н. К.) цены: он был женат на знаменитой Рашели, которая обратила внимание всей Европы своим необыкновенным умом; по смерти ее он сделался слаб, подвержен болезням, но, несмотря на это, очень любезен в обществе, любит быть в кругу женщин, и m-me Фролова для него теперь утешение».
Гостеприимный дом Фроловых посещали многие известные люди. И среди них была знаменитая писательница романтического направления Бегтина фон Арним. Это была молодящаяся экзальтированная дама лет пятидесяти. Она с детства была восторженной поклонницей Гёте. В 1835 году вышла ее книга, состоявшая из переписки поэта с ней, под названием «Goethes Briefwechsel mit einem Kind» («Переписка с ребенком»). В 1838 году друг Станкевича — Бакунин перевел дневник Бегтины, приложенный к этой переписке.
Встречи Станкевича и его друзей с Бегтиной чаще всего проходили в доме Фроловых. Умнейшая женщина Европы, Беттина была знакома со всеми мыслящими людьми Германии и России. В числе ее знакомых были, кроме Гёте, Виланд, Гервег, Шеллинг, Якоби, А. Гумбольдт, братья Гримм; композиторы Бетховен, Мендельсон-Бартольди… Из русских она лично знала Жуковского, В. Одоевского, И. Тургенева, Сатина, Огарева, Бакунина, Неверова, Грановского и др.
Беседы с Бегтиной были весьма полезны для Станкевича и его друзей, поскольку в ходе таких разговоров обсуждалось множество разнообразных вопросов. Эти берлинские «собрания» и по сей день представляют нерасторжимое русско-немецкое «литературное бытие», интересное и для исследователей как русской, так и немецкой литературы 30—40-х годов XIX века. Примечательно, что
впоследствии образ Бетгины нашел свое отражение в некоторых произведениях русской литературы, например у Тургенева в романе «Рудин» или в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник».
В берлинский период Станкевич вновь вернулся к стихотворчеству — занятию, к которому не обращался, пожалуй, с университетской скамьи. Причем обратился к жанрам несвойственным его предыдущему творчеству. Он пишет юмористические стихи и веселые пародии. Преимущественно они касаются его друзей и постоянных собеседников в Берлине. Вот строки из его шутливого стихотворения «Опять в Берлине»:
Опять больным, опять невеждой
Я возвращаюся в Берлин;
Опять в душе моей с надеждой
Ведет войну мой старый сплин!
Я стану жить умно, учено,
Я сяду в прежнюю ладью;
Опять увижу Ашерсона,
Опять увижу попадью, —
И Озерова-камергера,
И старца, прусского царя,
Барона Фриша, Рибопьера,
Вар…….. пономаря.
Найду друзей, быть может, новых,
У старых душу отведу,
Напьюся чаю у Фроловых
И ровно в десять спать пойду.
Несколько веселых стихов Станкевич посвятил Грановскому. И вряд ли тот мог обидеться на ироничное послание своего близкого друга:
Профессор будущий! преследуем судьбою,
Скажи, что предпринять намерен ты с собою?
Принял ли рвотное? Что чувствовал потом?
Что с грудью деется? Как можешь животом?
Чем занимаешься? Идет ли в ум ученье?
И долго ли еще пробудешь в заточенье?
Доволен ли судьбой? Глаголешь ли хулу?
Или блаженствуешь, простершись на полу?
Не забыл Станкевич и о себе сказать, написав строки в таком же ироничном стиле:
Я кое-что сказать намерен о себе.
Сегодня лучше мне; уж нету боли в шее,
Живот не тяготит и голова свежее.
Штанов не надевал, в подштанниках хожу
(Одежду эту я удобной нахожу);
Пью чай по-прежнему и все держу диету,
Потею, кашляю немного — денег нету!
. . . . . . . . . .
Прощай! В политике я вижу пустословье —
Пиши о чувствах мне и о твоем здоровье.
Как уже рассказывалось в предыдущих главах, Станкевич был неравнодушен к женскому полу. Отец Бакунина даже назвал его «разрушителем дамских сердец». А поэт Василий Красов, зная слабость своего университетского друга к представительницам прекрасного пола, наставлял его вести за границей правильный образ жизни и подальше держаться от итальянок. «Береги всего больше здоровье, — писал Красов, — боже тебя сохрани связываться с итальянками: они, говорят, почти все в венерической — пфуй им!»
Видимо, следуя этому совету, наш герой так и не закрутил роман с итальянкой. Но едва это не произошло с датчанкой, о которой он тут же сообщил Грановскому: «В Бонне я познакомился с одним датским ботаником, которого племянница со светлорусой, почти белой, головкой — есть лучший цветок в его гербариуме; как бы старик не стал сушить его в какой-нибудь толстой книге! Признаюсь, хотелось бы приобрести себе такой экземплярец».
На любовные подвиги его тянуло и в Праге, о чем он тоже не преминул написать в очередном письме: «…Не лишним считаю заметить, что нигде не встречал я столько прекрасных женских лиц, как здесь».
Однако роман случился в Берлине, где Станкевич познакомился с весьма недурной собой немкой. Звали девушку Берта Заутр. Она жила с дядей, добрым стариком, выдававшим себя за барона. Берта не лишена была остроумия и жаждала, как и многие немки, удовольствия. Как вспоминал Тургенев, эта девица с утра до вечера гостила у Станкевича. Но, заметим, были еще и ночи, проведенные ими вместе…
«Помню я одну ее остроту, переданную Станкевичем: у нее была сестра, которой пришлось раз ночевать у Станкевича, — писал Тургенев. — Берта объявила, что она не хочет, чтобы на эту ночь была «allgemein Pressfreiheit» (
«всеобщая свобода печати»), хотя она и либералка».
Станкевич встретился с Бертой в тот период, когда фактически произошел его разрыв с невестой. И хотя какие-то угольки еще тлели в погасшем костре их чувств, они уже не способны были разгореться и восстановить отношения двух некогда близких людей. Поэтому Станкевич, оказавшись свободным, позволил себе увлечься новой женщиной. Выражаясь словами Анненкова, наш герой, «утомленный поверкой своих чувств и отыскиванием истины в собственных ощущениях, решил предаться простой, безотчетной жизни, насколько было ему возможно это. Но «такого рода язычество» — употребляя его же выражение — совсем не лежало в основе его характера».
Хорошо ли было Станкевичу с Бертой? Ответ на этот вопрос уже дал Тургенев, сказав, что они с утра до вечера были вместе. В письмах Станкевича также не раз встречаем имя девушки. Вот лишь некоторые из упоминаний: «Теперь… опять ужасно радуюсь Берте»; «Сегодня моя божественная обещалась посетить меня на 2 минуты. Удержусь, поверьте. Вчера она чувствовала, как говорит сама,
moralishen Katzenjammer, по случаю тихой пятницы. Но я утешил ее, приняв торжественно грех на себя».
Думает Станкевич о ней и в стихах:
В Берлин! В Берлин! Мне нету мочи!
О друг! В Берлине — шумны дни!
О друг! В Берлине — сладки ночи!
Там Берта, доктор Ашерсон
И доктор Вольф и женский слон…
И все же Станкевич смотрел на свои отношения с Бертой не совсем просто и легко. Он прекрасно знал им настоящую цену и говорил о них с нескрываемой досадой: «Зачем же ожидать было большего! Ведь не любил же я!»
А по прошествии времени к нему вообще пришло разочарование. Берта Заутр оказалась чуть ли не мошенницей и к тому же дамой известного поведения. Деликатный Станкевич в одном из писем Тургеневу, не выдержав, бросил такую фразу: «Будет об этой дряни. Поверьте, тошно думать…» В свою очередь Тургенев тоже дал Берте свою оценку, окрестив ее «прескверным созданием» и «дрянью».
Наивный Станкевич вряд ли мог предположить, что после его смерти эта берлинская «барышня» будет пытаться получить от его друзей, а также от родных и близких компенсацию за якобы понесенные убытки. Берта придумала легенду о том, что будто Станкевич уговорил ее остаться в Берлине, когда она хотела возвратиться в Мекленбург и примириться с родными; что через это она разорвала с ними все связи и даже лишилась не только участка в наследстве дяди, но и всего наследства. За это она и хотела получить вознаграждение. Кроме того, Берта требовала вернуть ей долг 112 талеров, которые она одолжила одному из московских профессоров, приехавшему на учебу в Германию. На самом деле это были деньги Станкевича.
К чести друзей Станкевича, никто из них не пошел на поводу у мошенницы. Сама же она, по словам Тургенева, «плохо кончила» и «была выслана из Берлина чуть ли не за кражу».
Так закончилась эта несколько грустная любовная история, в которой наш герой получил очередную душевную рану. Залечивалась она, как и другие, тяжело и мучительно.
Но еще сложнее лечилась его болезнь физическая. Злая чахотка медленно и мучительно съедала организм Станкевича. В одном из писем он признался: «Я был в бане… На другой день показались у меня две нити, но я пренебрег их появление… Сегодня явилась еще ниточка — ооох!» «Ниточками» Станкевич именует прожилки крови в мокроте, когда он отхаркивался. А восклицание «ооох!» означало тревогу, беспокойство о возможном печальном исходе прогрессирующего заболевания.
Он это понимал, но, как и раньше, держался молодцом, всячески старался скрыть от друзей, родных и близких свои страдания. Лучшие доктора Германии — Ашерсон, Баре, Бессерс, Киршнер, Пех лечили его страшный недуг, используя все средства, какие тогда были в Европе. В письмах Станкевича той поры практически нет жалоб на здоровье, в основном он говорит о том, что «здоровье его хорошее», «здоровье стало лучше»…
Нельзя обойти вниманием еще одну берлинскую страницу жизни Станкевича. Но она требует достаточно подробного рассказа, поскольку речь идет о встречах Станкевича с будущим великим русским писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым. Их отношениям, положившим начало искренней и светлой дружбе, и посвящена следующая глава.
Глава восемнадцатая
ВСТРЕЧИ С ТУРГЕНЕВЫМ
Русская студенческая колония в Берлине была немногочисленной. Жили студенты, выражаясь современной лексикой, как вахтовики. Одни, познав истины немецкого идеализма, отправлялись в Россию сеять семена гегелевского учения. Это про них еще при жизни написал Пушкин:
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.
А другие, наоборот, томимые духовной жаждой, приезжали в столицу европейской мысли им на смену, чтобы утолить ее «чистейшей эссенцией философии».
В конце мая 1838 года на немецкую землю ступил представительный молодой человек огромного роста, весьма приятной наружности, с прядями курчавых волос и особенно задумчивыми глазами. Это был Иван Тургенев, выпускник Петербургского университета и будущий автор «Рудина», «Записок охотника», «Дворянского гнезда», «Отцов и детей» и многих других замечательных произведений, читаемых и по сей день.
Дополним наше вступление словами самого Тургенева:
«Окончив курс по филологическому факультету С.-Петербургского университета в 1837 году, я весной 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Мне было всего 19 лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были ими проникнуты; его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров, посылавшее на свой счет молодых людей в немецкие университеты».
В Германию он приплыл на пароходе. Однако его путешествие не обошлось без приключений. В одну из ночей, когда пароход находился у берегов Любека, Тургенев услышал истошный женский крик: «Горим! Горим!» Наскоро одевшись, он выбежал на палубу. Огонь уже полыхал в нескольких местах. Началась паника, которой поддался и девятнадцатилетний Тургенев. К счастью, все обошлось благополучно. Благодаря шлюпкам с моряками, прибывшим вовремя из Травемюндского рейда, пассажиры были спасены.
Правда, вскоре злые языки распространили слух о том, что во время пожара Тургенев проявил трусость. Якобы он в страхе бегал по палубе и громко взывал: «Спасите меня, я единственный сын у матери!» Был такой факт или нет, но эта грязная сплетня по пятам следовала за писателем, пока тот не описал историю в рассказе «Пожар на море».
Станкевич встретился с Тургеневым в небольшом курортном городке Эмсе, о чем и засвидетельствовал в письме: «Проездом был здесь Тургенев, которого я узнал в Москве в университете и который кончил потом курс в Петербурге. Они с Розеном (сын барона Розена. —
Н. К.) прибыли на сгоревшем пароходе, были свидетелями этого ужасного и неслыханного происшествия, кончившегося, можно сказать, довольно счастливо».
Это была действительно не первая их встреча. Но близко они еще не были знакомы, поскольку во время их учебы Тургенев являлся всего лишь первокурсником, а Станкевич уже готовился к защите кандидатской диссертации. Да и возрастом последний был старше Тургенева на пять лет. Тем не менее они знали друг друга, что и подтверждает Станкевич.
Такой же вывод сделал один из исследователей жизни и творчества Тургенева академик Н. С. Тихонравов. В февральском номере журнала «Вестник Европы» за 1894 год он написал, что в повести «Несчастная» Тургенев вывел Станкевича в лице «студента-поэта». А узнал он этого «студента-поэта» в период своего обучения в Московском университете. Тургенев потом вспоминал, что в одном обществе при нем упомянули о девушке Сусанне, причем самым невыгодным, самым оскорбительным образом. Он постарался заступиться за память несчастной девушки, но его доводы не произвели большого впечатления на слушателей. «Одного из них, молодого студента-поэта, — рассказал Тургенев, — я, однако, поколебал. Он прислал мне на другой день стихотворение, которое я позабыл, но которое оканчивалось следующими четырьмя стихами:
Но и над брошенной могилой
Не смолкнул голос клеветы…
Она тревожит призрак милый
И жжет надгробные цветы».
«Эти четыре строки, — отметил Тихонравов, — представляют буквальную выписку из написанного в 1833 году стихотворения Станкевича «На могиле Эмилии», стихотворения, в котором студент-поэт оплакал «кроткий гений».
Печальная история, невольным участником которой стал Яков Почека, университетский товарищ Станкевича, действительно, имела место. Однажды Почека познакомился с шестнадцатилетней девушкой Эмилией Гебель, приемной дочерью известного в Москве музыканта Ф. К. Гебеля, учителя Станкевича по музыке. Прелестная, чистая девушка страстно влюбилась в Почеку и, не встретив с его стороны взаимности, от горя и душевных страданий умерла. В связи с расследованием обстоятельств смерти девушки к допросу был привлечен Герцен, резко осудивший поведение Почеки. Понятно, что история получила широкую огласку среди студентов. Собственно, благодаря этой истории Станкевич и Тургенев впервые узнали друг о друге. Один вскоре написал стихотворение, второй — впоследствии рассказ.
После Эмса, где Тургенев, как уже сказано, был проездом, они снова встретились, теперь уже в Берлине, в университете. Тургенев присоединился к упоминавшемуся кружку, в который входили Неверов, Станкевич, Грановский, Фроловы, Вердер…
Тургенев в автобиографии об этом написал следующее:
«В Берлине я пробыл (в два приезда) около двух лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции, назову: в течение первого года Н. Станкевича, Грановского, Фролова; в течение второго — столь известного впоследствии М. Бакунина. Я занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера».
Тем не менее отношения между Станкевичем и Тургеневым складывались не так просто. Впрочем, опять послушаем Тургенева:
«Меня познакомил со Станкевичем в Берлине Грановский — в 1838-м году, в конце (видимо, Тургенев забыл, в отличие от Станкевича, о их знакомстве в Московском университете. —
Н. К.). До того времени я слышал о нем мало — помню я, что когда Грановский упомянул о приезде Станкевича в Берлин, я спросил его, не «виршеплет» ли это Станкевич, — и Грановский, смеясь, представил мне его под именем «виршеплета». — В течение зимы я довольно часто видался с Станкевичем… но Станкевич не очень-то меня жаловал и гораздо больше знался с Грановским и Неверовым — я очень скоро почувствовал к нему уважение и нечто вроде боязни, проистекавшей, впрочем, не от его обхождения со мною, которое было весьма ласково, как со всеми, но от внутреннего сознания собственной недостойности и лживости… Здоровье его уже тогда было плохо — мы знали все, что он страдает грудью, — и к нему ездил доктор Баре (Barez), который обращался с ним очень дружелюбно. (Он был тогда первым врачом в Берлине.)… В характере Станкевича было много веселости, и он любил посмеяться. Повторяю, что во время моего пребывания в Берлине я не добился доверенности или расположения Станкевича; он, кажется, ни разу не был у меня — Грановский был всего только раз — и при мне у них не было откровенных разговоров. Берта (подруга Станкевича. —
Н. К.)… была отчасти причиной холодности Станкевича ко мне: я раз поехал с ней кататься верхом в Тиргартен — она очень со мной кокетничала, а, вернувшись, уверила Станкевича, что я делал ей предложение: а она просто мне не нравилась».
Однако упомянутая холодность в отношениях все же не мешала им постепенно сближаться друг с другом. Тургенев, по примеру Станкевича и своих новых товарищей, начал усиленно штудировать философию Гегеля. Но параграфы его учения приходилось брать с трудом.
Как рассказывает в своей книге «Жизнь Тургенева» известный российский литературовед Ю. В. Лебедев, философские беседы, которые вели постоянно Станкевич и Грановский, на первых порах озадачивали Тургенева. К великому смущению своему, он не в состоянии был поддерживать эти разговоры на том уровне, на каком их вели его приятели.
— Грановский! — начинал Станкевич. — Поверишь ли, оковы спали с души, когда я увидел, что вне Одной всеобъемлющей идеи нет знания, что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое — призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи.
— Да, — подхватывал Грановский, — философия не есть наука в ряду наук, но высочайшая из всех наук, служащая им основанием, душою, целью.
— Человек есть житель земли, не чуждый физических потребностей, но он же есть и последнее высшее звено в цепи сознания, — продолжал развивать свою мысль Станкевич. — Его сфера — дух, и все физически натуральное в нем должно быть согласно с духом. Если я люблю женщину всю, как она есть, с ее понятиями, чувствами, наружным образом — я весь соединяюсь с ней — я не профанирую ее. Нет! Меня влечет к ней совокупная жажда природы духа, я узнаю в ней себя, я в этом акте торжествую соединение с целым созданием, я прохожу все его степени — я не делаюсь животным. Я освящаю то, что было во мне животного, и я даю ему смысл.
Как-то Тургенев заявил Станкевичу, что в отрицании заключается подлинная благодать: им жизнь движется вперед, а в доказательство привел образ Мефистофеля из «Фауста» Гёте. Станкевич внимательно посмотрел ему в глаза, а затем достаточно убедительно ответил:
— Отрицайте все, и вы легко можете прослыть за умницу: это уловка известная. Добродушные люди сейчас готовы заключить, что вы стоите выше того, что отрицаете. А часто это неправда. Во-первых, во всем можно сыскать пятна, а во-вторых, если даже вы и дело говорите, вам же хуже: ваш ум, направленный на одно отрицание, беднеет и сохнет. Удовлетворяя ваше самолюбие, вы лишаетесь истинных наслаждений созерцания; жизнь — сущность жизни — ускользает от вашего мелкого и желчного наблюдения, и вы кончите тем, что будете лаяться и смешить. Порицать, бранить имеет право тот, кто любит.
Тургенев признавался, что некоторые обороты речи его приятелей вообще представлялись ему бессмыслицей. Но со временем философские диалоги Станкевича, Грановского, Неверова уже не казались Тургеневу непроходимыми дебрями. Безусловно, здесь свою роль сыграли лекции профессора Вердера и, конечно, наставничество соотечественников.
Станкевич писал о новичке: «Тургенев обыкновенно рисует свои фантазии и очень удачно. Вчера я давал ему библейские темы, наприм.: Адам, который не знает, что ему делать, и проч…. Тургенева никто не сбивает с толку, от этого он говорит связно и хорошо… Право, он умен! Не говорю о степени — он молод, может, и вообще не прыток, но все-таки умнее, чем мог казаться…»
Берлинские занятия Станкевича и его друзей не сводились только к постижению истин немецкого идеализма и поиска в философии всего того, что есть на свете. Была еще реальная жизнь. Здесь, в Германии, она была другой, нежели в малообразованной и крепостной России. Русских энтузиастов, разумеется, волновала судьба родного Отечества, и они искали пути его преобразования. По воспоминаниям самих участников кружка, в Берлине они вели речь «о преимуществах народного представительства в государстве, о всесословном участии народа в несении государственной повинности и о доступе ко всякой государственной деятельности», о просвещении масс.
В один из вечеров в доме Фроловых Станкевич заявил:
«Масса русского народа остается в крепостной зависимости и потому не может пользоваться не только государственными, но и общечеловеческими правами; нет никакого сомнения, что рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, — но и тогда народ не может принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития, и поэтому, прежде всего, надлежит желать избавления народа от крепостной зависимости и распространения в среде его умственного развития. Последняя мера само собою вызовет и первую, а потому, кто любит Россию, тот, прежде всего, должен желать распространения в ней образования».
При этом, свидетельствовал Неверов, Станкевич «взял с нас торжественное обещание, что мы все наши силы и всю нашу деятельность посвятим этой высокой цели».
К слову сказать, именно это «торжественное обещание» часто вспоминал Тургенев впоследствии, называя его своей «анибаловской клятвой». Вернувшись в Россию, писатель в своих очерках, рассказах, повестях достаточно резко обличал крепостное право.
Тургенев написал неповторимые «Записки охотника», книгу, вместившую в себя жизнь тогдашней многострадальной России. Крестьяне, помещики, чиновники, мещане — люди разного достатка и промысла, порядка и произвола стали героями этого произведения. Рассказывают, что царя Александра II до последнего момента мучили сомнения по поводу отмены крепостного права. Но, прочитав тургеневские «Записки охотника», император окончательно пришел к выводу, что указ об освобождении миллионов российских крестьян надо подписывать. И как можно скорее. Что вскоре и сделал.
«Осени себя крестным знамением, православный русский народ… Ныне отпущаеши», — с припевом читали с амвонов священники слова освободительного манифеста. Заслуга Тургенева в освобождении крестьян от векового рабства была огромна. Клятву, данную Станкевичу, он сдержал.
К весне 1839 года круг берлинских друзей и товарищей Станкевича стал редеть. В Петербург уехал Неверов, в Москву — Грановский. К отъезду в Россию стала готовиться семья Фроловых. Станкевич тоже собирался домой, но врачи отсоветовали ему ехать, порекомендовав продолжить курс лечения на юге Европы.
После года обучения в университете вынужден был покинуть Германию, а также расстаться со Станкевичем и Тургенев, у которого в Орловской губернии в его родовом имении Спасском-Лутовинове случилась страшная беда — сгорел дом. Мать выслала сыну на дорогу две тысячи рублей ассигнациями и потребовала срочно прибыть домой.
Известие от матери глубоко потрясло Тургенева, своим горем он поделился со Станкевичем, показав ему письмо. Варвара Петровна (мать Тургенева. —
Н. К.) писала сыну, не стесняясь в выражениях: «Кажется, тебе нечего в Берлине мешкать. Я и прежде об этом писала, а нынче я требую, чтобы ты приехал, не мешкав… Я бы не желала приказывать, но! — мне нечего делать. Я не в силах тебя более содержать за границей. О! Нет! Нет! Не то, не то… Как же не в силах! Боже мой, неужели я отниму от тебя твою карьеру… О! Нет!.. Мне нужно, мне необходимо видеть тебя как можно, как можно скорее. Я упала духом и имею нужду подкрепиться. О! Господи… Господи… Какие кресты ты на меня кладешь… Итак — на пепелище, до сих пор дымящемся… ружье твое цело. А собака твоя очумела…»
Станкевич, зная о непростых отношениях Тургенева с матерью, постарался вывести юношу из состояния, потрясшего его душу, сердечно поддержал и обогрел. Перед отъездом Тургенева на родину они тепло попрощались, выразив надежду на скорую встречу.
Впрочем, наш рассказ о Тургеневе не окончен, встреча с ним еще продолжится в повествовании.
Глава девятнадцатая
ЛЮБА, ЛЮБИНЬКА, ЛЮБОВЬ…
В октябре 1838 года Станкевич получил из России горькое письмо от Белинского.
«Друг Николай, — писал он, — много и во многом и тяжко виноват я перед тобою. Я к тебе не писал, но в этом не виню себя: я был в себе, в своих личных интересах, своих радостях, своих страданиях, я пережил великую эпоху моей жизни, получил от судьбы самый важный урок; не мог писать к тебе — мешали и обстоятельства и судьба…
Наконец, я собрался писать к тебе — и в первый раз письмо к тебе — для меня тяжелый долг. Я бы не стал совсем писать, но вижу, что, кроме меня, этого сделать некому. Приготовься услышать тяжелую весть:
ее больше нет: она умерла, как умирают святые — спокойно и тихо. Катастрофы не было:
тайна осталась для нее тайною. Болезнь убила ее. За месяц до смерти П. Клюшников (брат Ивана Клюшникова, друга Станкевича по университету. —
Н. К.) лечил ее. Он говорит, что для спасения ее опоздали пригласить его целым годом. По крайней мере, он облегчил ее страдания, и она так полюбила его, что ей становилось легче от его присутствия. Если бы не Станкевич (говорила она ему за день до смерти), я вышла бы за вас замуж. Умерла она 6 августа. 15 июля я приехал из Прямухина, где пробыл 10 дней с Боткиным. В это время три раза видел я ее: лицо желтое, опухшее от водяной, но все прекрасное и гармоническое. С ангельским терпением переносила она свои страдания. Тяжело быть вестником таких новостей… но бог милостив — и сохранит тебя. Ах, Николай, зачем не могу я теперь быть подле тебя и вместе с тобою плакать… Я плакал, много плакал по ней — но один. — Будь тверд… Друг, не предавайся отчаянию. Есть fatum (судьба. —
Н. К.), которая, не отнимая нашей воли, играет нами. Наша воля должна состоять в сознании необходимости всего и свободной покорности всему, чего не миновать. Прощай. Обнимаю тебя. Твой В. Белинский».
В письме, которое приведено практически полностью, шла речь о безвременной кончине Любови Бакуниной. Ей было всего 27 лет. Незадолго до отъезда Станкевича за границу она была официально названа его невестой. Свадьбу планировали сыграть сразу после возвращения жениха на родину. Но надеждам не суждено было сбыться.
Что испытал Станкевич после получения этого страшного известия? О чем он думал в те минуты? Какие чувства им владели? Частично ответы на эти вопросы находим в письмах Грановского и самого Станкевича.
Здесь весьма важно мнение Грановского, поскольку он находился рядом со Станкевичем и являлся непосредственным свидетелем переживаний своего друга. Грановский, в частности, написал Белинскому:
«О впечатлении, которое произвела на Станкевича печальная весть, говорить нечего. Ты можешь это понять и без рассказов. Благодаря бога, он теперь здоров, довольно спокоен духом и потому перенес удар гораздо лучше, нежели я ожидал. Несколько месяцев тому назад это известие, вероятно, убило бы его. Ее смерть была для всех нас страшною неожиданностью. О такой развязке никто не думал, а между тем, другая едва ли была возможна. Один из двух должен был очистить своею смертию жизнь другого. Разумеется, что это не утешение…
Признаюсь, у меня камень свалился с сердца, когда я прочел в письме твоем, «что тайна для нее осталась тайною». Если бы не это, то потеря была бы несравненно ужаснее — и я не знаю, что бы было тогда с Станкевичем. Теперь он плачет только о ее смерти. Вчера я попросил его показать мне ее последнее письмо к нему. Он вынул его из ящика; в письме — засохшие цветы, присланные ею. Я также заплакал, хотя вообще не богат на слезы.
Вчера поутру приехал сюда Вердер; его
теплое, чисто человеческое участие в скорби Станкевича благодетельно действует на него. Он лучше нас понимает жизнь. Говорит, что он предвидел подобный конец: «потому что из писем ее ему веял дух другой жизни». Это правда. Припоминая все, что он прежде говорил нам, я вижу, что он давно имел это предчувствие, хотя и не хотел его ясно высказать.
Пиши же. Твои письма всегда доставляли большое удовольствие Станкевичу; теперь они для него нужны…»
В письме от 1 ноября Станкевич написал Белинскому:
«Благодарю, друг Виссарион, благодарю! Твое письмо, несмотря на известие, которое оно сообщает, было для меня спасительно. Ты собрал в нем все, что могло утешить меня. Вы слишком много за меня боялись: смерть ее наполнила меня грустью, но не отчаянием. Она оживила во мне ее образ, сделавшийся страшным сном. Я представляю себе все обстоятельства, все, что сопровождало ее в жизни, и мысль, что она не существует, заставляет меня плакать. — Я не снимаю вины с себя, хоть слова: «тайна осталась тайною», сняли половину горя с души. Наш добрый друг Вердер говорит мне: «если разум оправдает вас, сердце может расстаться с сознанием вины — иначе в нем нет любви», и я сознаю ее. Этот период жизни отрезан, вечное воспоминание будет лежать над другим — дай Бог, чтобы в нем было что-нибудь, кроме воспоминания».
Письмо Станкевича брату Ивану также датировано 1 ноября:
«…Я сегодня не могу писать к тебе много. Благодарю тебя, мой милый! Теперь смело можешь писать и говорить мне обо всем. Не бойся никогда поразить меня: в ней я потерял не ту, которую любил, но которой жизнь, может быть, сделал бы безотрадною. Судьба кончила все, как обыкновенно кончает: она разложила вину. Ее память освещает душу мою, которую сушила неестественность моего положения; я хотел бы долее удержать образ ее, который потускнел в моей памяти. Милый брат! Нам осталось идти вперед!»
Как видно из писем, Станкевич тяжело, но мужественно пережил смерть близкого человека. А именно таким человеком для него была Любовь Бакунина. Что бы потом о их отношениях ни говорили…
Они познакомились в первых числах марта 1835 года на одном из вечеров в гостеприимной семье Бееров. В тот период, как уже рассказывалось в одной из предыдущих глав, Станкевич находился в добрых отношениях с сестрой Алексея Беера Натальей. Он действительно ее любил, но как сестру. Не более. Однако Наталья рассчитывала на совершенно другие отношения. Шло время, но ничего не менялось. Чувствуя, что ей не удастся влюбить в себя Станкевича, она сделала щедрый жест, познакомив его со своей ближайшей подругой, старшей из сестер Бакуниных Любинькой. По сути, Наталья их сосватала, о чем потом написал Станкевич в одном из писем.
Впрочем, попытаемся выстроить хронику их дальнейших встреч и расставаний. 9 марта 1835 года Станкевич не без радости сообщал из Москвы Неверову:
«Я эти дни был очень развлечен; каждый день собирался писать к тебе, даже имел потребность, но разные разности отвлекали. Во-первых, здесь были Бакунины — Любовь и Татьяна с отцом… Весело прошли эти дни: бескорыстно любуешься этими девушками, как прекрасными созданиями божьими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себе удержать эти ангельские лица, чтоб глядеть на них, когда тяжело на душе… еще хочешь… Последний вечер мы провели с ними в собрании очень весело. Если б ты знал тысячу разных ощущений, через которые мне случалось пройти в один день! Но это рассказывается только на словах. Сделай милость, только не подумай, что я влюбился: ей-богу, нет!»
Возможно, автор письма и не кривил душой. Однако стрелы Амура попали ему в самое сердце. Между Станкевичем и Любовью Бакуниной завязалась теплая дружба, которая вскоре переросла в любовь — чистую, трогательную, возвышенную и мучительную. Произошло, собственно, то, о чем прежде мечтал Станкевич.
Любинька (так называли ее все, кто знал), по воспоминаниям современников, хотя и не славилась внешней красотой, зато была богата красотой душевной. Она довольно хорошо разбиралась в философии Канта, Фихте, Шеллинга и способна была поддержать разговор на любую тему. Она могла говорить о музыке, искусстве, литературе. Девушка знала несколько языков, умела музицировать. Все это духовно роднило ее со Станкевичем, его душой. Любинька стала для него «кротким ангелом мира, который послан украсить жизнь». Познакомившись с ней у Бееров, Станкевич захотел побывать в Прямухине.
Имение Бакуниных к этому времени стало притягательным центром для многих молодых людей. Образованные, прекрасно воспитанные, милые и неглупые молодые девушки придавали прямухинскому дому аромат изящества и интеллектуализма. Вот как отзывались о Бакуниных современники: «Это замечательное семейство, состоявшее из нескольких сестер и братьев, — писал И. И. Панаев, — принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит».
В конце октября 1835 года состоялась первая поездка Станкевича в имение Бакуниных, что находилось в селе Прямухине Тверской губернии. Приветливое и доброжелательное семейство во главе с хозяином Александром Михайловичем Бакуниным встретило Станкевича как самого дорогого и желанного гостя. Ему оказывалось всяческое внимание. В этом не было ничего удивительного: отец Любиньки видел в Станкевиче своего будущего зятя.
Однако сама Любинька, хотя в душе и отвечала взаимностью молодому философу, была с ним крайне сдержанна и ничем не выдавала своих чувств. Видимо, это было связано с тем, что к ней уже как-то сватался офицер, и они были даже помолвлены. Но потом жениху показали от ворот поворот.
И все же сдержанность Любиньки по отношению к Станкевичу вскоре прошла. Общность взглядов, убеждений, восторженных настроений сделала их отношения еще более доверительными и близкими. Сегодня трудно сказать, о чем говорили тогда Станкевич и Любинька на балконе бакунинского дома или в саду в промерзлой беседке; на прогулках вдоль извилистой реки Осуги или в ночной тишине при свете холодных звезд. Но, вне всякого сомнения, говорилось немало тех самых слов, которые каким-то особым теплом согревают каждое влюбленное сердце. А те промозглые осенние дни были для них самыми сладкими и жаркими.
Их роман протекал и в Москве, и в Прямухине. А когда они расставались, то он продолжался в письмах, которые Станкевич писал своей возлюбленной из Удеревки, Острогожска, Воронежа… Письма эти пронизаны искренностью и нежностью. По чистоте и поэтичности чувства их, безусловно, можно смело отнести к лучшим образцам любовной эпистолярной лирики не только эпохи, в которой жили наши герои, но и всех последующих периодов. Впрочем, письма нужно не пересказывать, а читать.
«Сегодня такое очаровательное утро, — пишет Станкевич своей возлюбленной. — Солнце делает на меня всегда приятное впечатление, оно отогревает душу: так всему веришь, всего надеешься, пробуждается старое суеверие, старая доверчивость к судьбе и чудесам в божьем мире. Первая мысль о Вас: в этом чудесном свете Вы являетесь мне тихим, кротким ангелом мира, который послан украсить жизнь мою, расцветить ее радужным цветом любви.
Знаете ли, есть минуты, в которые мне странно бывает представить нас вместе в простых, близких, людских отношениях. Вы мне казались так святы, так недоступны. Вы были для меня видимое Провидение, видимое божество. Я не думал, чтобы судьба могла соединить нас когда-нибудь — и вместе питал суеверную надежду на ее милости. И если бы мы не узнали, что необходимы друг другу, все-таки жизнь моя протекла бы под сенью Вашего образа; все святое и прекрасное внушено было бы Вами. И теперь, когда нам предстоит вечный, неразрывный союз, Вы всё остаетесь для меня так же святы; я с таким отрадным чувством благоговения сознаю всё Ваше превосходство надо мною, с таким упоением готов преклониться перед Вами — душа нуждается в этом видимом божестве, ей необходимо в живом образе увидеть мир и любовь, которые потемнели во вселенной!
Зачем я теперь не с Вами? Эти прекрасные дни, эта жизнь, которая пробуждается в природе, были бы для меня вдвойне упоительны — мы бы любовались на чудесный колорит весеннего неба, ощущали живее биение вечной любви в природе!»
Станкевич едва ли не каждый день пишет своей возлюбленной. Его письма полны глубоких мыслей, в них ощущается трепетное дыхание любви: «Для любви забываются все отношения жизни, все связи, все обязанности; она разрывает все оковы. Я не столько бы уважал, любил Вас, если б Вы не сохранили этой привязанности к людям…»
А вот строки из другого послания: «…Берегите себя, берегите для моего счастья, для нашей любви — любви все должно служить, все покоряться; она старшее существо в чине создания, она венец творения».
Михаил Бакунин был в курсе отношений своей родной сестры со Станкевичем. «Он действительно любит, — сообщает Михаил в одном из писем сестрам. — Его любовь проста, и чем она проще, тем прочнее и искреннее. Они будут счастливы, и в этом не сомневаюсь».
И здесь же, обращаясь к Любиньке, говорит: «Он говорил со мною только о тебе, моя милая Любашам Любовь, которую он чувствует к тебе, вернула ему жизнь. Даже доктор Дядьковский не мог бы произвести более чудесного излечения».
Роман Станкевича и Любы стал вскоре предметом обсуждения в кругу знакомых и друзей. Никто из них не сомневался в искренности чувств двух сердец. Поэтому всех, безусловно, волновал лишь один вопрос: скоро ли свадьба? А все шло именно к этому.
Однако по обычаям того времени родители должны были дать согласие на их брак. Станкевич написал письмо в Удеревку, в котором испросил разрешение отца на женитьбу. Но ответа долго не было, что, естественно, вызвало беспокойство в семье Бакуниных. Станкевичу пришлось успокаивать Любу:
«Ради бога, забудьте думать, что между нами может быть какая-нибудь преграда… я знаю отца моего и дядю, как самого себя, знаю их любовь ко мне, для них выше всего на свете мое счастье».
Вообще из переписки Станкевича того периода можно видеть, как чисты были чувства нашего героя:
«…Когда же Вы поверите моей любви? Когда перестанете тревожить себя сомнениями? Каждое Ваше страдание для меня несчастье. Молю Вас, берегите для моего спасения — помните, что только жизнь моя, мое человечество нераздельно с Вашим счастьем. Как бы я хотел лететь в Прямухино, чтобы успокоить, уверить Вас снова. Если бы эти черные, болезненные думы разлетелись бы в одну минуту — Вы бы увидели, что любовь к Вам все та же, прежняя в моей душе. Мы бы опять стали строить домики и играть в пятачки. Да! Эти карты и пятачки наполняют мою душу больше, нежели Фихте. Думайте, что хотите, обо мне, по крайней мере, Вы увидите из этого, перестал ли я любить Вас? Перестал ли любить? Когда всякий ничтожный предмет получает в глазах моих святость, потому что он был близок к Вам! Вы не думали этого, когда я был в Прямухине, когда Вы читали на лице у меня — и я сам виноват: моя слабость, моя болезненная фантазия всему причиною; я не мог писать к Вам, раздираемый непостижимыми для меня самого муками, я боялся Вашу чистую, светлую душу.
Но с этих пор, радость и горе, вся жизнь — пополам! Не должно быть пределов между душами, которые нашли друг друга! Как бы я хотел лететь в Прямухино, чтобы успокоить, уверить Вас снова… Вы бы увидели, что любовь к Вам в моей душе… Как бы я хотел быть в эту минуту подле Вас, сжать Вашу руку, тысячу раз повторить Вам, что люблю Вас, и услышать то же от Вас…»
После томительных месяцев ожидания наконец-то пришло долгожданное письмо от отца. Станкевич переслал его в Прямухино Александру Михайловичу Бакунину. Одновременно он направил другое письмо — в нем он просил руки его дочери. Тот вскоре дал согласие. 23 ноября 1836 года, получив разрешение на брак от одних и других родителей, Николай и Любинька были объявлены женихом и невестой.
Однако дата свадьбы не была определена. Отец Станкевича просил отложить ее до осени, что вызвало понятное беспокойство
в семье Бакуниных. Варвара Дьякова, сестра Бакунина, сообщала брату в Москву из Прямухина: «Маменька не переставая плачет, и слезы ее искренни, потому что она всячески старается их скрыть. Папенька старается казаться спокойным, принимает на себя безоблачный вид, чтоб подкрепить Любашу, но как только думает, что на него не смотрят, он тотчас становится печальным, тревожным, хмурым».
Брат Михаил, посвященный во все перипетии этой любви и огорченный возникшими осложнениями, писал сестрам: «Напрасно вы осуждаете Станкевича. Его любовь — это настоящая любовь, это — любовь святая, возвышенная! Она ныне заполняет все его существование, она согрела и осветила всю его нравственную и умственную жизнь. Нужно послушать его! В нем горит нечто священное, нечто сверхчеловеческое. Во время одной из наших бесед он сказал мне, что тот, кто любит, гораздо лучше того, кто не любит. И я поверил ему, ибо он произнес эти слова с таким святым и возвышенным убеждением и такою простотою! Эта любовь делает его совершенно счастливым. Он нашел в ней личное выражение своей внутренней жизни вовне…»
Между тем шли дни, недели, месяцы, а помолвленные по-прежнему оставались в разлуке, общаясь друг с другом только посредством писем. Этих посланий сохранилось предостаточно. Процитируем лишь несколько писем Станкевича.
«Москва. 1837. 17 января. Говорят, Ваши родители в дурном расположении: молю Вас, не огорчайтесь этим и не думайте, чтобы это могло огорчить меня; будьте спокойны, берегите себя, берегите для моего счастья, для нашей любви — любви все должно служить, все покоряться; она старшее существо в чине создания, она венец творения.
«Москва. 1837. 20 января. Я писал Вам, почему замедлилось дело: убедите Ваших, чтобы они не придумывали своих причин и, ради Бога, сами не поддавайтесь этим фантазиям! Напишите мне, повторите мне, что любите меня, что готовы разделить жизнь… со мною… если это так, то меж нами преград быть не может. Да сохранит Вас Бог!»
«Москва. 1837.27 февраля…Зачем же не сказать мне опять прямо, что Вас мучит? Вы сомневаетесь в моей любви, другие все уверены, что я не люблю Вас… Неужели уж никогда не возможно это прочное убеждение, эта спокойная, блаженная вера друг в друга, которой не нужно больше никаких доказательств и которую смутить ничто не может? Я думал, что мы уже на этой степени, что мы молча понимаем друг друга, и что никакое сомнение невозможно для нас.
Одно меня смущает: я знаю Вашу привязанность к семейству, чувствую, как тяжело Вам будет оторваться от него, и боюсь, что Вы сгруститесь в нашей глухой, татарской стороне, что, сблизившись со мною короче, Вы увидите меня в другом свете, нежели теперь, что Вами овладеет тоска — тогда мне не для чего будет жить, тогда пропало все, что во мне есть человеческого!
…И все, что я могу Вам отвечать — в двух
словах: люблю Вас, люблю от всей души; всякая Ваша маленькая грусть для меня нестерпимая тяжесть, Ваше несчастье убьет меня или отравит всю мою жизнь. Вот все, что я могу Вам сказать на письме. Когда Вы меня увидите сами, то не захотите других доказательств. Я только скажу Вам, что люблю Вас, буду повторять Вам это целую жизнь, и Вы, надеюсь, перестанете сомневаться».
Такого рода признания можно найти едва ли не в каждом письме Станкевича. Свои чувства к нему не скрывала и Бакунина. Однако любовь на расстоянии, согласитесь, хороша для романов, сочиненных где-нибудь в уединенном месте. Разлука Станкевича и Любиньки мало способствовала укреплению их отношений. Постепенно их чувства друг к другу начали охладевать. Как следствие — что в душе нашего героя, что в душе его невесты начинают возникать разнообразные перипетии.
Из переписки Станкевича можно понять следующее: то он убеждается, что его не любят, то счастлив взаимностью, то с ужасом замечает, что в нем самом нет любви. Мучительный самоанализ приводит Станкевича к выводу, что он принял фантазию за действительное чувство и что он не любит Бакунину. Но как сказать ей об этом? Как воспримут их разрыв родители? Вопросов было много, только не находилось на них ответов.
Поэтому Станкевич, воспользовавшись действительно своей тяжелой болезнью, в августе 1837 года, как уже сказано в главе «Вдали от России», уезжает в Германию. Отъезд его был очень скорым, из-за этого он даже не повидался и не простился с невестой. А может быть, Станкевич так хотел, поскольку при личном свидании он не мог бы скрыть тех мучительных переживаний, происходивших в его сердце.
Приехав в Европу, Станкевич продолжал вести переписку с Бакуниной. Он писал ей достаточно большие по объему письма из всех мест, где ему приходилось бывать. Из Кракова, Берлина, Лейпцига, Эмса… В них он подробно рассказывал о своем пребывании за границей — учебе, лечении, посещении театров, картинных галерей, храмов. Правда, писем этих было мало, изменилась и их тональность.
Конечно, Станкевич переживал перемены в их отношениях. Он не мог не спросить себя, в чем же заключается источник страданий, которые мучили его и которые причинил другим, прежде всего Любиньке.
В одном из писем Неверову Станкевич делает следующее признание: «Я надеялся сделаться счастливым, счастливым безгранично, и думал получить это счастье внешним образом. Любовь — ведь это род религии, которая должна наполнить каждое мгновение, каждую точку жизни».
Белинский вообще не понимал Станкевича, его глубоко возмущало отношение последнего к Любиньке. «Как — быть виною несчастья целой жизни совершеннейшего и прекраснейшего божьего создания, — писал Белинский Бакунину. — Посулить ему рай на земле, осуществить его святейшие мечты о жизни и потом сказать: я обманулся в своем чувстве, прощайте. Этого мало: не сметь даже и этого сказать, но играть роль лжеца, обманщика, уверять в… боже мой!..»
Тогдашнее состояние Станкевича хорошо передает один из исследователей, М. О. Гершензон, в книге «Россия молодая». По его словам, юноша давно жаждал любви, ожидал найти в ней полноту жизни, разрешение всех сомнений, силу на подвиг добра: и вот он полюбил — и оказалось, что тревога ума не улеглась, душа не вознеслась на высоту, жизнь не наполнилась. Кто же виновен? Любимая девушка? Нет, она вполне достойна любви. — Виновен он сам: его дух еще не созрел для такой любви. Он хотел быть счастлив и думал получить это счастье внешним образом; и в этом его ошибка, ибо, чтобы полюбить, надо сначала стать человеком. «Потребность любви должна быть вызвана не бедностью души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищет кругом себя помощи; нет, любовь должна выходить из богатства нашего духа, исполненного силы и деятельности и отыскивающего в самой любви только новую, высшую, полнейшую жизнь».
Не менее точно описывает переживания Станкевича и другой исследователь, А. А. Корнилов. В своей книге «Молодые годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма», изданной в 1915 году, он пишет: «Жениться, сомневаясь в истинности своего чувства, он не мог. Это не допускали и его искреннее и горячее сердце и положение того философского нравственного кодекса, который был принят в его кружке. А между тем он ясно должен был видеть и понимать, что отказ его должен был действительно разбить сердце Любиньки и, может быть, погубить это нежное и кроткое существо…»
Знала ли Любинька о переживаниях своего жениха? Скорее всего, нет. Станкевич не посвящал ее в эту тайну. Брат Михаил тоже молчал. Но женское сердце не обманешь. У Любиньки были подозрения, о которых она боялась даже думать, не то что говорить вслух при сестрах, родителях и особенно при отце.
«У нас давно нет никаких известий от Станкевича, — сообщала она семье Бееров. — Боже, не болен ли он опять? Что ждет меня в будущем? Я вижу, что родители мои в большой тревоге, хоть они и стараются скрыть это от меня».
К сожалению, невеста Станкевича тоже была больна. И больна, как и он, безнадежно. К прогрессирующей у нее чахотке прибавилось еще и нервное расстройство, главной причиной которого послужили ее сердечные страдания. Любинька все еще продолжала верить в свое счастье.
Редкие письма, приходившие от Станкевича, поддерживали Любиньку. «Тотчас получила письмо ваше, — писала она 2 декабря 1837 года, — так весело, так светло сделалось на душе. Оно придало мне сил, здоровья — это лучшее лекарство».
Но это «лекарство» приходило все реже и реже. «Когда-то я получу от вас письмо? — писала она незадолго до смерти. — Бог знает, что я передумала в эти два месяца вашего молчания».
Между тем дни Любиньки были сочтены. Опухшая, с желтоватым лицом, девушка уже не вставала с постели. Ее одолевали страшные боли, но она мучительно их терпела. Часто из круглой комнаты, где она лежала, можно было слышать ее тонкое пение:
Не жилица я
На белом свету,
Полетела б я до тебе,
Да крылец не маю,
Чахну, сохну — все горую,
Всяк час умираю.
Пытаясь хоть как-то помочь Любиньке в последние дни жизни, друг Станкевича — Белинский поехал на перекладных в Венёв Тульской губернии и привез оттуда врача Петра Клюшникова, брата Ивана Клюшникова, члена кружка Станкевича. Петр считался тогда одним из лучших специалистов по туберкулезу. Однако усилия доктора, доставленного Белинским, не увенчались успехом.
Любинька умерла 6 августа 1838 года, ровно через год после отъезда Станкевича за границу. Она ушла из жизни, продолжая считать себя его невестой. Ее похоронили в семейной усыпальнице. Как писал современник, старый отец плакал так много, что ослабел, зрение почти покинуло его. За две недели до ее смерти Станкевич писал Грановскому: «…Нет, брак не по любви есть лицемерство. Пожертвование прекрасно, но оно должно быть истинно. Сколько святости, прекрасного, душевного развития имеет Любинька Бакунина. Я вправе спрашивать себя: почему ты ее не любишь? Но есть ли следствие твоей испорченности? Трудно отвечать на такой вопрос; но от этого не больше любви в моем сердце, и я остаюсь при прежнем решении, закрывая глаза перед следствиями».
Искренни ли эти слова? Вне всякого сомнения. Как искренни они были и потом, когда Бакуниной не стало. «Я не снимаю вины с себя», — написал Станкевич, узнав о смерти невесты. Как рассказывал один из его друзей, он тихо плакал. В его руках были цветы, присланные Любинькой. Ему казалось, что она была рядом с ним, его «тихий, кроткий ангел мира».
Закрылись прекрасные очи,
Поблекли ланиты ее,
И сумраком вечные ночи
Покрылось младое чело.
Ты счастья земного не знала,
Одним ожиданьем жила,
Любила — любя ты страдала,
Страдая — в могилу сошла.
Стихи эти написал поэт Иван Клюшников, назвав их «На смерть девушки». Они были посвящены невесте Станкевича.
Глава двадцатая
ДОРОГИ ИТАЛИИ И ПУТЬ В РОССИЮ
К лету 1839 года здоровье Станкевича, несмотря на старания зарубежных врачей, стало еще хуже. Оно сгорало подобно свече. По настоянию докторов Станкевич оставляет Берлин и через Зальцбрунн (ныне польский город Щавно-Здруй. —
Н. К.), Прагу, Нюрнберг, Штутгарт, Берн, Женеву и Карлсруэ приезжает в Италию.
В сентябре, преодолев трудный путь по Симплонской дороге, размытой непрекращающимися проливными дождями, он добрался до Милана. Потом несколько месяцев жил во Флоренции, где встретился с Бенкедом, придворным доктором английского короля Георга. Тот посоветовал ему своеобразный метод лечения — избегать «холода и жаров». «Поэтому, — пишет Станкевич родным, — в конце февраля велит доктор мне ехать в Рим, где нет сильных ветров… лето лучше мне провести в Германии, где оно не так изнурительно жарко».
Во Флоренции Станкевич вновь сошелся со своими старыми и добрыми знакомыми по Берлину — четой Фроловых. Практически ежедневно он стал бывать в этой семье. «Дружба и расположение Е. П. Фроловой, — писал Тургенев, — сделались (для Станкевича. —
Н. К.) уже необходимостью».
Здесь, во Флоренции, Станкевич выступил в качестве редактора публицистической записки, которую в январе 1840 года написала Фролова. Записка называлась «Несколько слов о воспитании женщины в России».
В первых строках записки Фролова объясняет, что толчком к изложению ее мыслей о женском воспитании в России послужил бывший у нее «на днях» разговор с одной русской дамой о ее шестнадцатилетней дочери. Этот «намек» нетрудно понять. Одновременно с Фроловыми и Станкевичем жила тогда во Флоренции видная московская барыня, Марья Дмитриева Ховрина, с мужем и двумя дочерьми, из которых старшей, Александре, или по-домашнему Шушу, было в это время как раз 16 лет. В письмах Станкевича 1840 года часто упоминается имя Шушу Ховриной. Она была необыкновенно хороша собою, и молодежь поголовно увлекалась ею.
Текст этой замечательной работы с правками Станкевича был впервые опубликован в 1915 году в первом томе сборника «Русские пропилеи». И больше ни разу не переиздавался. Хотя мысли, содержащиеся в записке, не потеряли своего значения и вполне могут быть сегодня востребованы для воспитания российских женщин. Особенно по части их просвещения, привития им нравственных качеств и, разумеется, высокой культуры.
Однако продолжим наш рассказ. К тому времени Станкевич уже два года находился за границей. И чем дольше он странствовал по Европе, тем больше его угнетала саднящая тоска по России. В начале 1840 года его университетский друг поэт Василий Красов прислал ему на рецензию стихотворение «Метель». Стихи вообще разбередили его и без того измученную душу.
Поздно. Стужа. Кони мчатся
Вьюги бешеной быстрей….
Ах! когда бы нам добраться
До ночлега поскорей!
У! как в поле темно, бледно.
Что за страшная метель, —
И далек ночлег мой бедный,
Одинокая постель!
Мчуся. Грустно. Злится вьюга
По белеющим полям;
И сердечного недуга
Я постичь не в силах сам.
То прошедшее ль с тоскою
Смутным чувством говорит,
Иль грядущее бедою
Мне нежданно грозит?..
Пусть все сгибло в раннем цвете,
Рок мой мрачен и жесток;
Сладко думать мне: на свете
Есть блаженный уголок!..
И в полуночи глубокой,
Как спешу к ночлегу я, —
Может — ангел одинокий
Молит небо за меня…
После прочтения стихотворения Станкевич едва не разрыдался — так взволновали его стихи друга. Они словно были написаны про него, путника, который много месяцев колесит по чужой земле и хочет скорее добраться до ночлега, то есть до отчего дома. Ах, как хотелось ему «поскакать в Россию», чтобы увидеть ее бескрайние просторы.
Станкевич действительно без ложного патриотического пафоса скучал по рождественским морозам, белым хатам-мазанкам, певучей малороссийской речи, галушкам с салом, золотистым подсолнухам, зеленым дубравам, тихой речке в белых кувшинках и меловым горам… «Грустно, что нигде не увидишь обмерзших усов, как это бывает в России, — писал он, — а величественной бороды, покрытой инеем, и в помине нет». «Через день (после Рождества. —
Н. К.) я позвал наших русских к себе, — сообщает он в другом письме, — и ужасно обрадовал некоторых из них малороссийскими песнями! Один из них, хохол Лукьянович, уверял, что ему в первый раз весело…»
В такие дни Станкевич особенно радовался встречам с людьми из России, тем более если приехали недавно, со свежими новостями и впечатлениями. Но до юга Европы, до Италии, гости добирались весьма редко.
Очень часто он мысленно переносился в Россию. И тогда нестерпимая тоска еще больше сжимала его сердце. «Я думаю теперь в Удеревке довольно многолюдно, — говорит Станкевич в очередном письме, — дом оглашается пением, леса гоньбою и выстрелами, Фазой и Наполитан (собаки Станкевичей. —
Н. К.) приободрились при виде своих покровителей, и, лежа под фортепиано, слушают увертюру из «Семирамиды», которую Ваничка (брат Станкевича. —
И. К.) разыгрывает с Катериной Лаврентьевной (гувернантка в доме Станкевичей. —
Н. К.). В большом кабинете укреплен канат, и Ольга в гусарском костюме, прислонясь к печке, намазывает подошвы мелом (братья и сестры Станкевича упражнялись в хождении по канату, Ольга — молоденькая горничная, участница игр. —
Н. К.). Зиновья (экономка. —
Н. К.), вступившая снова в должность, раздает веревочки и обрывочки для разных художественных употреблений, и Федор-буфетчик медленно отпирает кладовую, в которой хранятся костюмы… Пашка и Колька (дети-сироты, проживавшие в доме Станкевичей. —
Н. К.) довершают торжество, каждый, держа правой рукой за носок левой ноги и подпрыгивая слегка, причем головы их живописно кивают с одной стороны на другую. Мне это так живо представляется, что вдруг иногда кажется, будто я в Удеревке. Но надобно еще подождать…»
Мысли о возвращении в Россию не оставляли Станкевича все время, что он находился за границей. Но чаще они стали звучать в конце 1839-го и в 1840 году. Домой он планировал привезти «лучшее здоровье и, может быть, более порядочную голову». Иногда ему казалось, что вот он пройдет еще один курс лечения у именитых докторов, и наступит долгожданное исцеление. Верил, надеялся и следовал их предписаниям.
В марте 1840 года Станкевич, как и планировал, приехал в Рим, где его лечением занялся Алерц, доктор самого папы римского. По поводу лечения своей болезни он также провел консультации с врачом датской королевы Гартманом, итальянским доктором Маттеисом. Последний заявил, что болезнь «далеко не из легких и вылечить ее трудно». Но, к сожалению, многочисленные консультации зарубежных медицинских светил не предупредили дальнейшего прогрессирования заболевания Станкевича, а привели в итоге лишь к значительной трате его денег.
Станкевич поселился на Корсо, в доме 72, о чем сразу написал своим берлинским друзьям Фроловым: «Все мои подвиги в Риме ограничиваются до сих пор тем, что я отыскал себе квартиру, которою пока очень доволен. Железная печка очень хорошо греет комнату, чистую, веселую и удобную. Маленький Schlafcabinet (спальня. —
Н. К.), по счастию, как раз против печки, следовательно, с этой стороны я обеспечен».
Вообще приезд в древнюю столицу некогда могущественной и величественной империи оказал на Станкевича достаточно благоприятное воздействие. «С моего приезда в Рим я чувствую себя очень хорошо и гуляю очень усердно. Погода еще не установилась, часто перепадают дожди, но стало очень тепло — это мне главное — и тут я совсем здоров», — успокаивал он родителей.
Отдохнув от дороги, он уже через два дня начинает знакомиться с жизнью Рима. Своими наблюдениями об архитектуре, о жизни Вечного города, о пасхальном фейерверке в крепости Святого Ангела, о соборе Святого Петра, о торжественной церемонии выхода на площадь к верующим в день Пасхи папы, о картинах Рафаэля, Доминикино, Гверчино он подробно делится в письмах, посылаемых в Россию родным и друзьям.
Вот что пишет наш путешественник после посещения Колизея: «Не знаю, каков он был в своем цвету, в первобытном виде, но верно не лучше, чем теперь. Я не думаю много о его назначении… я видел только огромную, гармоническую развалину и темно-синее небо, просвечивавшее во все ее окна…» Характерно, что так же описал Колизей и живший тогда в Риме Гоголь.
При виде Моисея Микеланджело Станкевич не может сдержать восхищения: «Что за художник! У него один идеал — сила, энергия, железное могущество, и он его осуществляет как будто шутя, как будто мрамор у него мнется под рукой! Эта статуя — в церкви Св. Петра. Лицо Моисея далеко от классического идеала: губы и вообще нижняя часть лица выставились вперед, глаза смотрят быстро, одной рукой придерживает он бороду, которая падает до ног, другой, кажется, закон. О свободе, отчетливости в исполнении и говорить нечего. Гёте, посмотрев на творение Микеланджело, чувствовал, что не мог таким сильным взглядом смотреть на природу, и от этого в ту минуту она ему не доставляла наслаждения. Правда, что есть что-то уничижительное в этой гигантской силе. В его искусстве нет этой мирящей силы, которая господствует и в греческом христианском искусстве… Я готов был сказать, в его искусстве нет божества… но это несправедливо. Из божества в нем осталась сила…»
В Ватикане Станкевич долго стоял перед статуей Аполлона Бельведерского: «Что после этого абстрактная сила Микеланджело? Там удивляешься таланту, здесь наслаждаешься произведением. Вечная юность, благородная гордость дышит в этих чертах». Всего несколько фраз. Ног какие точные и беспристрастные оценки дает Станкевич произведению!
Станкевич, как уже говорилось в нашем повествовании, умел притягивать к себе людей. Так было в Москве. Так было в Берлине. И вот теперь в Риме вокруг него вновь стал образовываться кружок. Его членами стали русские художники Павел Кривцов, Алексей Марков, немецкий живописец Рунд, польский пианист Брингинский… Люди разные, но талантливые и, что важно, близкие Станкевичу по духу. Алексей Марков, к примеру, считался уже достаточно известным художником и был удостоен за картину «Фортуна и нищий» высокого звания академика Академии художеств. Брингинский, друг Ференца Листа, являлся выдающимся польским пианистом. Вместе они совершали поездки по Риму и его окрестностям, наслаждаясь искусством великих итальянских мастеров, а вечерами спорили о литературе, живописи.
В Риме Станкевич вновь встретился с Тургеневым, который приехал сюда на месяц раньше, в феврале.
Тургенев вспоминал: «Я встретил его (Станкевича. —
Н. К.) в начале 1840-го года в Италии, в Риме. Здоровье его значительно стало хуже — голос получил какую-то болезненную сиплость, сухой кашель часто мешал ему говорить. В Риме я сошелся с ним гораздо теснее, чем в Берлине — я его видел каждый день — и он ко мне почувствовал расположение».
Действительно, их некогда прохладные отношения постепенно стали перерастать в дружеские. По приезде Тургенев подробно рассказывал Станкевичу о России, о пожаре, об однокурснике Станкевича Михаиле Лермонтове, которого видел в Петербурге, а также о делах семейных. Они вместе ходили по развалинам Колизея, спускались в катакомбы, где жили, совершали литургии и где находили свой последний приют первые христиане. Огромное впечатление на обоих произвели собор Святого Петра, произведения великого Микеланджело… Знакомясь с культурой и бытом страны, Станкевич и Тургенев одновременно развивали свои взгляды на искусство.
Следует заметить, что Станкевич хотя и относился к Тургеневу дружески, однако не без покровительства. Случалось, Станкевич «осаживал» его «довольно круто, чего он в Берлине не делал». В своих записках Тургенев вспоминал: «Раз в катакомбах, проходя мимо маленьких нишей, в которых до сих пор сохранились останки подземного богослужения христиан в первые века христианства, я воскликнул: «Это были слепые орудия Провидения!» Станкевич довольно сурово заметил, что «слепых орудий в истории нет — да и нигде их нет». В другой раз перед мраморной статуей св. Цецилии я проговорил стихи Жуковского:
И прелести явленьем по привычке
Любуется, как встарь, душа моя.
Станкевич заметил — что плохо тому, кто по
привычке любуется прелестью, да еще в такие молодые годы».
Был еще эпизод, когда на одну резкую фразу Тургенева по поводу России и дворянской семьи Станкевич деликатно, но весомо произнес слова, которые Тургенев запомнил надолго: «Отечество и семейство есть почва, в которой живет корень нашего бытия; человек без Отечества и семейства есть пропащее существо, перекати-поле, которое несется ветром без цели и сохнет на пути… От этого избави вас Боже, Тургенев! Впрочем, вы слишком знаете цену себе, чтоб допустить возможность такого существования».
Как писал упоминаемый в нашем повествовании литературовед В. Ю. Лебедев, временами казалось, что Станкевич видит собеседника насквозь и прекрасно чувствует, где в нем правда и где ложь. Перед его цельной личностью Тургенев терялся, чувствуя свои слабости. Но в этом «самоумалении» не было ничего унижающего человеческое достоинство, потому что в Станкевиче отсутствовали какие бы то ни было признаки самовлюбленности, сознание своей избранности. Таким сделала его природа, и он носил свой дар легко и свободно, не сознавая, каким сокровищем обладает.
Безусловно, духовно-нравственное влияние Станкевича на Тургенева было огромно и благотворно. Вот одно из признаний Тургенева Грановскому: «Со мной случилось то же, что с бедным человеком, получившим огромное наследство: трудно и запуганно. Целый мир, мне не знакомый, мир художества — хлынул мне в душу… Скажу Вам на ухо: до моего путешествия в Италию мрамор статуи был мне только что мрамор, и я никогда не мог понять всю тайную прелесть живописи».
Для понимания личности Станкевича более важно еще одно его признание, о едва ли не главной роли этого человека в своей судьбе. В одном из писем Тургенев написал Бакунину и Ефремову: «Как для меня значителен 40-й год! Как много я пережил в 9 месяцев! Вообрази себе — в начале января скачет человек в кибитке по снегам России. В нем едва началось брожение — его волнуют смутные мысли; он робок и бесплодно-задумчив… В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот, или нет — начало развития моей души! Как я жадно внимал ему, я, предназначенный быть последним его товарищем, которого он посвящал в служение Истине своим примером, Поэзией своей жизни, своих речей! Я его увидал и прежде, еще непримиренный, я верил в примирение: он обогатил меня тишиной, уделом полноты — меня, еще недостойного… Я видел в нем цель и следствие великой борьбы и мог — отложивши ее начало — без угрызения предаться тихому созерцанию мира художества: Природа улыбалась мне. Я всегда живо чувствовал ее прелесть, веяние бога в ней; но она, прекрасная, казалось, упрекала меня, бедного, слепого, исполненного тщетных сомнений; теперь я с радостью протягивал к ней руки и перед алтарем души клялся быть достойным жизни! Перед одним человек безоружен: перед собственным бессилием — или если его духовные силы в борьбе… теперь враги мои удалились из моей груди — и я с радостью, признав себя целым человеком, готов был с ними вступить в бой. Станкевич! Тебе я обязан моим возрождением: ты протянул мне руку — и указал мне цель… и если, может быть, до конца твоей жизни, ты сомневался во мне, пренебрегал меня, быть может — что я заслужил моими бывшими мелочами и надутыми порывами — ты теперь меня всего знаешь и видишь истинность и бескорыстность моих стремлений. Благодарность к нему — одно из чувств моего сердца, доставляющих мне высшую отраду. Я приехал в Берлин, предался науке — первые звезды зажглись на моем небе…»
В этих словах будущего великого классика русской литературы нет никакого преувеличения. Наделенный природным умом, он дал очень точную характеристику светлой личности Станкевича. Наблюдательный Тургенев, обладающий еще и даром художника, написал, пожалуй, и самый убедительный словесный портрет друга, точными штрихами запечатлел черты его характера:
«Станкевич был более, нежели среднего роста, очень хорошо сложен — по его сложению нельзя было предполагать в нем склонности к чахотке. У него были прекрасные черные волосы, покатый лоб, небольшие, карие глаза; взор его был очень ласков и весел; нос тонкий, с горбиной, красивый с подвижными ноздрями — губы тоже довольно тонкие, с резко означенными углами; когда он улыбался — они слегка кривились, но очень мило — вообще улыбка его была чрезвычайно приветлива и добродушна, хоть и насмешлива; руки у него были довольно большие, узловатые, как у старика; во всем его существе, в движениях была какая-то грация и бессознательная distinction (исключительность. —
Н. К.) — точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении. Одевался он просто — носил обыкновенно палку. Ни разу не слыхал я от него жалоб на свое здоровье; о болезни своей он говорил не иначе, как в шутливом тоне; никогда он не хандрил.
В нем была наивность, почти детская — еще более трогательная и удивительная при его уме. Раз на прощанье с г-жей Фроловой он принес ей в подарок круглую (так называемую геморроидальную) подушку под сиденье — принес — и вдруг догадался, что вид ее неприличен, сконфузился, и так и остался с подушкой в руках — и, наконец, расхохотался. Он был очень религиозен, но редко говорил о религии. По-французски говорил порядочно, по-немецки лучше — немецкий язык он знал очень хорошо. Я забыл сказать, что в Риме я одно время рисовал карикатуры — иногда довольно удачно; Станкевич задавал мне разные, забавные сюжеты и очень этим потешался.
Изредка находил на него, однако, страх — как бы предчувствие близкой смерти. Раз, возвращаясь уже вечером в открытой коляске из Альбано, поравнялись мы с высокой развалиной, обросшей плющом — мне почему-то вздумалось вдруг закричать громким голосом: Divus Gajus Julius Caesar (божественный Гай Юлий Цезарь. —
Н. К.) — в развалине эхо отозвалось будто стоном. Станкевич, который до того времени был очень разговорчив и весел, вдруг побледнел, умолк и, погодя немного, проговорил с каким-то странным выражением: «Зачем вы это сделали?» В то время в Риме беспрестанно случались убийства, чуть ли не по одному на день. Говорили даже, что убийцы пробираются на квартиры иностранцев. Станкевич перепугался, приказал устроить у своей двери железные болты и крюки и баррикадировался с вечера. Раз я его спросил, что бы он сделал, если б вдруг, ночью, открывая глаза, он увидал, что какой-то незнакомый человек шарит по его комнате? «Что бы я сделал? — возразил Станкевич. — Самым нежным голоском, чтобы не подать ему даже мысли, что я могу защищаться — сказал бы я ему: Carissimo signor ladrone! (И Станкевич придал своему голосу самое умоляющее выражение) Carissimo signore! prendete tutto cid che volete — ma lasciate mi la vita, — per carita!» («Дражайший господин грабитель! Дражайший господин! Возьмите, что хотите, — только оставьте мне жизнь — будьте милосердны!» —
Н. К.) В Станкевиче была способность даже к фарсу. Помню раз, из шести поданных ему панталон ни одни не оказались годными; он вдруг принялся отплясывать по комнате в одних подштанниках с самыми уморительными гримасами,
а это происходило месяца за три до его смерти».
В конце апреля 1840 года они расстались. Тургенев уехал в Неаполь, а Станкевич остался в Риме. Их общение было продолжено в письмах — добрых и теплых. Но им уже не суждено было встретиться. Болезнь стремительно добивала Станкевича. Незадолго перед расставанием они шли в гости к своим соотечественникам — в семью Ховриных и говорили о Пушкине. Станкевич начал читать стихотворение «Предчувствие» («Снова тучи надо мною…») своим чуть слышным голосом:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Ховрины жили очень высоко — на 4-м этаже. Поднимаясь по лестнице, Станкевич продолжал читать:
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду…
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.
Потом вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам — на платке отпечаталась кровь… Тургенев невольно содрогнулся, а Станкевич только улыбнулся и продолжал читать прерванное стихотворение.
С такой добродушно-приветливой, немного насмешливой улыбкой и остался Станкевич в памяти Тургенева. На протяжении многих лет его образ не покидал сердце писателя. В упоминавшемся нами романе «Рудин», в повестях «Гамлет Щигровского уезда», «Андрей Колосов», «Несчастная», «Призраки» Тургенев отдал дань благородной памяти этого светлого человека.
После отъезда Тургенева одним из мест общения с русскими стал для Станкевича дом семейства Ховриных — Николая Михайловича, Марии Дмитриевны и двух их дочерей. С этим благородным и гостеприимным семейством Станкевич познакомился еще во Флоренции. Теперь же их отношения стали более дружескими. Станкевич едва ли не каждый вечер бывал в доме Ховриных.
Но, как не раз уже случалось с нашим симпатичным и обаятельным героем, под его влияние попала старшая дочь Ховриных — Александра, красивая и грациозная девушка. Шушу (так в шутку называли Александру) действительно была необыкновенно хороша собою. Станкевич давал читать ей Шиллера и играл с ней в четыре руки на фортепьяно. Забегая вперед скажем: Шушу Ховрина — не кто иная, как известная впоследствии Александра Николаевна Бахметева, автор многочисленных и многократно переизданных духовно-нравственных книг («Избранные жития святых», «Рассказы из истории христианской церкви» и др.). Она была замужем за дмитровским уездным предводителем дворянства и умерла в 1901 году.
Отношения между Станкевичем и Шушу привели к тому, что девушка втайне стала испытывать к молодому человеку огромную симпатию. Сказать, что Станкевич к ней был равнодушен, значит, ничего не сказать. Однако он отвечал Шушу лишь дружеским, почти отеческим чувством.
Впрочем, послушаем откровения самого Станкевича:
«Шушу в самом деле доброе и милое существо; в ней есть врожденное женское чувство, которое (если не заглушат его годы пустоты или сообщество такого супруга, как ее папаша) никогда не позволит развиться в ней чему-нибудь choguant (неприятно поражающего) — все заставляет искренне жалеть о том, как мало в ней развито и как мало разовьется. Дай Бог, чтобы я ошибся. Но… странная мысль пришла мне в голову… Ее нельзя не любить, как доброе дитя. Но, чтобы довершить мою откровенность, я чувствую свою свободу и способность to fall in love, irgendwo anders (влюбиться где-нибудь в ином месте. —
Н. К.), т. е. не в эту, а в какую-нибудь другую — если бы уже это угодно было небесам».
Действительно, Станкевич уже носил в своем сердце имя женщины, которую давно и тайно любил. Он с нетерпением ждал ее приезда. Это была Варвара Александровна Дьякова, сестра его покойной невесты Любови Бакуниной.
Сейчас трудно сказать, когда между Станкевичем и Варварой зародилось то горячее чувство, которое оставалось потом в душе каждого из них до самой смерти. Скорее всего, это произошло еще в Прямухине — имении Бакуниных, где бывал Станкевич с друзьями и где, кроме его невесты Любиньки, были ее сестры. Одной из них была как раз Варвара.
Варвара была всего на год младше Любиньки. Но она уже была замужем, растила сына. Однако ее брак с соседским помещиком Дьяковым, по мнению всей семьи Бакуниных, оказался несчастливым. Брат Варвары, Михаил Бакунин, впоследствии тщетно пытался помочь его расторжению.
Поэтому на фоне ничем не блиставшего и к тому же нелюбимого мужа Станкевич казался Варваре настоящим корифеем мысли (что, собственно, соответствовала истине). К тому же он был красив и обаятелен. В свою очередь, более самостоятельная и опытная по сравнению с остальными сестрами Варвара не могла не привлечь внимания Станкевича. С ней всегда было интересно. Безусловно, чувство долга для Станкевича и Варвары было выше всяких любовных влечений. О сокровенных мыслях никто не говорил. Варвара мечтала соединиться со Станкевичем за границей, но, не видя выхода из крепких пут опостылевшего брака, стала даже подумывать о самоубийстве. Сказался, видимо, характер отца: в свое время он, не найдя взаимности у будущей жены, намеревался пустить себе пулю в лоб. Тупиковая ситуация подробно обсуждалась в переписке Станкевича и Михаила Бакунина. В конце концов Станкевич выслал на имя друга две тысячи рублей для передачи сестре, чтобы та смогла незамедлительно выехать к нему.
В мае 1838 года Варвара вместе с малолетним сыном и гувернанткой пересекла российско-германскую границу. Лето она провела в Швейцарии, на зиму перебралась в Италию, а затем вновь вернулась в Швейцарию.
Где-то рядом находился Станкевич. Но общаться они не могли. И лишь тогда, когда не стало Любиньки, близкого каждому из них человека, они стали переписываться, тем самым приближая долгожданную встречу.
Сохранилось не больше двадцати писем Станкевича к Варваре. Причем большинство из них написаны на немецком языке. Видимо, Станкевич не хотел предавать широкой огласке их отношения. Практически не осталось посланий Варвары к Станкевичу. И все же даже по тем чудом сохранившимся к друг другу письмам можно судить, как долго Станкевич и Варвара ждали этих минут общения, как светлы и искренни были их отношения. И хотя в письмах нет исповедальных объяснений в любви, как это было в отношениях Станкевича с Лю-бинькой, но и без них видно, что эти трогательные и полные нежности строки написаны людьми, близкими друг другу.
В своих посланиях Станкевич стал называть Варвару сестрой, а она его — братом:
«Какой бальзам для моего сердца Ваши слова, названия брата, друга! И все-таки как стыдят они меня, как гнетут они меня… Я не негодяй, я это знаю; существо, которое Вы, изобилуя небесною любовью, возвышаете до себя, не есть какое-нибудь отверженное. Насколько я могу иметь гордости, могу, должен сказать это Вам, если хочу сохранить, хотя немного, Вашего уважения. Я хотя бы сколько-нибудь стою в Ваших глазах потому, что умею ценить Вас, Ваше свободное, любящее сердце и потому могу свободно, не задумываясь, отвечать на Ваши вопросы, на Ваши сомнения: я Вас знаю. Но я знаю также и пропасть, отделяющую меня от той полноты, от той свободы, в которой живет Ваше сердце.
Да, я могу принять эти священные названия брата, друга, ибо знаю, что мое сердце не изменит Вашей божественности, что ему будет свято то, чем Ваше полно, что для него Ваша чистота (это слово недостаточно — богоприсутственность, хочется сказать мне) составляет не только предмет веры, как Вы того требуете, но ясное убеждение — иначе я не посмел бы взяться за перо, чтобы отвечать Вам. Так как я Вас настолько умею понимать, ценить, что Ваше существо мне свято и моя душа способна отдыхать, созерцая Вас — вот что хорошо во мне, и я не хочу отрекаться от него, не хочу отрекаться от своей человечности».
Все письма Станкевича Варваре пронизаны искренностью и открытостью, рассуждениями о самом сокровенном. Чувствуется, что автор стремился как можно глубже осмыслить свои переживания и поступки.
«Я знаю, насколько Вы выше меня, — пишет он в одном из писем, — как я далек от обладания этой полнотою божественности, дышащей в каждом Вашем слове, которою освящено все в Вас — даже Ваши сомнения — но я заслуживаю Ваше доверие, Вашу дружбу тем, что принимаю всякую Вашу мысль, всякое Ваше чувство с благоговением, подобающим святому. Во мне может быть много исковерканного, испорченного, но богохульником (в прямом значении сего слова) я никогда не был и не могу быть.
Но к чему эти объяснения? Ведь теперь между нами все ясно и просто, и я могу спокойно предаваться сладкой надежде — скоро увидеть Вас…»
В свою очередь, письма Варвары настраивали Станкевича на романтическое восприятие окружающего мира. Читая и перечитывая их, он мысленно видел ее грустное и задумчивое лицо, хотел быть рядом с этой прекрасной женщиной. Ее письма успокаивали и лечили Станкевича, добавляли ему здоровья и сил. Это ощущается в строках его писем:
«Я получил Ваше письмо… спасибо, сердечное спасибо Вам за беспредельное доверие, за Вашу братскую любовь; спасибо за священные названия, которые я так охотно принимаю, ибо они благотворны для сердца моего, согревают его, оживляют… Ваша любовь (она не без уважения) для меня так благотворна, так нужна… Вы для меня не далекое, прекрасное явление, — Вы живое, любимое существо, тесно связанное с моей жизнью, принадлежащее к тому священному миру, где началась моя духовная жизнь, которому я обязан всем тем, что есть во мне человеческого; Вы для меня, — наконец, существо, которое я глубоко постиг, которое я понимаю с восхищением, личность которого мне мила и дорога! О, как бы мне хотелось доставить Вам несколько утешения, успокоения, но полная, безраздельная братская любовь сделает свое».
«…Ваше присутствие было бы для меня упоительно, целительно, и при таком обилии любви я чувствую, что и я мог бы доставить Вашему сердцу некоторое утешение. Да, любовь нуждается в любви, и любящие ее дают друг другу…»
Но не все было так просто в отношениях Станкевича и Варвары.
Станкевич переживал и опасался того, что их переписка — это одно, и совсем другое, когда состоится их долгожданная встреча. Об этом он, не скрывая, говорит своей возлюбленной:
«Я скоро увижу Вас, назову сестрою — о, если бы я мог облегчить Вам сердце, не обмануть Ваших ожиданий — я опасаюсь за наше свидание — я беспредельно томлюсь по нем, а вдруг Вы убедитесь, что я не то, что Вы предполагали!.. О сестрица! Тяжко будет мне! Но ведь Вы ищете только любви, и это меня вновь успокаивает и отбрасывает все опасения, я смело явлюсь перед Вами, забуду, чего мне недостает, чтобы быть вполне достойным Вашей любви…»
«Не терзайте, не говорите, что я отвергаю Вас, — нет! Если хотите меня повидать, то приезжайте на короткое время сюда, в Рим, — я буду счастлив, но тверд».
Но встретились они лишь в мае 1840 года, в Риме. «Радостна для Станкевича была эта встреча и эта последняя жертва дружбы!» Так сказал позже Анненков.
Михаил Бакунин, брат Варвары, содействовавший их соединению, писал Станкевичу: «Я давно желал вашего свидания с сестрою, и вот, наконец мое желание исполнилось. Я знаю, вам обоим необходимо было встретиться, и вам хорошо будет вместе. Скажи ей только, чтоб она взяла все нужные предосторожности…»
Последняя фраза касалась Бакунина-старшего. Отец всячески пытался воспрепятствовать воссоединению Варвары с «разрушителем женских сердец» Станкевичем и даже написал приятелю-дипломату в Италию, чтобы тот принял соответствующие меры, препятствующие свободному передвижению дочери по Европе.
К тому времени Станкевич был уже совсем плох. Много систем и докторов было перепробовано для его лечения. Но ничто не принесло ему пользы. Вообще Станкевич не любил рассказывать о своей болезни, и если и говорил о ней, то, как правило, в шутливом тоне. В переписке он не раз заверяет своих друзей о возможности если не скорого, то радикального выздоровления. Родным же неоднократно сообщал лишь о своем физическом состоянии. Сам он, конечно, не мог не чувствовать близости смерти, но не хотел в это верить.
Между тем Варвара писала в те дни своим сестрам: «Станкевич опасно болен. Выживет ли он? Бог нас помилует…»
А в Риме вовсю буйствовала весна. В городе было тепло и солнечно. Черноволосые итальянки в бархатных корсетах приветливо улыбались прохожим. Даже лица суровых сотрудников папской полиции и те излучали свет. Май одел в зелень деревья; в белом цвету, как невесты, стояли яблони, акации…
Весна была самым любимым для Станкевича временем года. Он даже как-то сказал, что весна имеет для него «удивительное влияние», и если он влюбится, то обязательно весною.
Рядом с Варварой он вновь почувствовал прилив сил.
«Теперь ты можешь судить, что такое для меня святое, братское участие сестры твоей, — писал Станкевич 19 мая Михаилу Бакунину, — я не умею тебе сказать ни слова о том, что произвел приезд ее, но она это видит, я в этом уверен. Я только спрашиваю себя день и ночь: за что? за что это счастье? Оно не заслужено совсем. Она окружает меня самою сильною, самою святою братскою любовью; она распространила вокруг меня сферу блаженства, я дышу свободнее, у меня поднялось и здоровье, и сердце, я становлюсь крепче и святее».
В свою очередь Варвара тоже написала письмо брату, в котором, не скрывая радости, сообщила: «Никогда не была я так счастлива, но и никогда счастье не чувствовалось так горестно!.. Я еду с ним вместе, я буду за ним ходить, о нем заботиться, он принимает мою любовь. Все остальное пусть решит господь…»
«Да, Варинька, — соглашается с ней Бакунин, — ты счастлива теперь, ты свободна, ты могла дать полную волю влечению своего сердца. Милая Варинька, как я люблю тебя за то, что тебя ничто не остановило, что ты, несмотря на все препятствия и внешность, решилась поехать к нему… Ты пишешь, что жизнь его в опасности. Нет, Варинька, он не может умереть, — такие люди не должны умирать! Не знаю, как и почему, но я уверен в его выздоровлении».
Они действительно долго ждали этой встречи и теперь не расстаются ни на минуту, все время находятся рядом. Станкевич знакомит ее с достопримечательностями Рима: «Вчера и третьего дня взглянули на Петра, Пантеон и Колизей, — и я благословил небо, которое хочет, чтобы образ Рима дружески покоился в душе моей… Колизей зарос еще более; зелень на нем очаровательна, а небо, которое стало еще темнее, украсило его так, что трудно выйти оттуда: я был рад видеть все это вместе с Дьяковой. Все это действует на нее прямо, просто и живо».
Целый месяц Станкевич и Варвара
живут в Риме. Надежда на исцеление снова оживает в его сердце, успокоенном любовью и той особой заботой, какую может оказать только женщина. Планы будущих работ вновь роятся в голове Станкевича; несколько статей уже обдуманы и совсем готовы к изложению. Мысль о своем главном труде — написать для русской публики простую, добросовестную «историю философии» — не покидает в те дни его душу.
Между тем доктора настаивают на том, чтобы Станкевич покинул Рим и вновь ехал в Эмс, где уже проходил курс лечения. Однако после новых консультаций было решено, чтобы он отправился в Швейцарию, на озеро Комо. Станкевич соглашается и планирует остаться там на все лето, чтобы пить привозную эмсскую воду, а к зиме вернуться в Ниццу.
В начале июня Станкевич вместе с Варварой, ее сыном Сашенькой и однокурсником по Московскому университету Ефремовым отправились в дальнюю дорогу. Маршрут они выбрали следующий: Флоренция, Генуя, Милан, а дальше — Швейцария, озеро Комо.
Из Флоренции Станкевич написал письмо Тургеневу, подробно рассказав ему о своем житье-бытье: «В Дьяковой я нашел настоящую сестру по-прежнему; ее заботы и участие действуют на поправление сил моих больше всего… У меня в голове много планов, но когда их не было? Собираюсь зимой работать над историею философии. Есть в голове также несколько статей — бог знает, как еще все это переварится… А самое главное, напишите о Вердере. Скажите ему мое почтение, скажите, что его дружба будет мне вечно свята и дорога, и что все, что во мне есть порядочного, неразрывно с нею связано… Кому принадлежит 1-я часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», которую Вы мне принесли? Говорят (т. е. верно — пишет Грановский), найдено еще много сочинений Пушкина, кои будут изданы в трех томах!!!»
Судя по содержанию письма, все у Станкевича было благополучно. Однако Варвара сообщала своим сестрам печальные новости. Горькие слезы текли по ее лицу, когда она писала эти строки: «Друзья милые, коротко и жутко будет мое письмо — мало, может быть, нету надежды к его выздоровлению… Эта дорога его утомила. Ему казалось, было так лучше… Теперь он страшно упал — жар, утомительная ежедневная дорога… Но, может быть, ах, может быть — это опять пройдет».
Очередное ухудшение состояния здоровья Станкевича наступило в Генуе, но он настоял на том, чтобы ехать дальше. Через 40 километров наши путешественники оказались в маленьком итальянском городке Нови, при котором в 1799 году войска славного русского полководца Александра Суворова наголову разгромили французскую армию Наполеона Бонапарта. Здесь, в небольшой гостинице, они и решили остановиться на ночлег, чтобы рано утром продолжить свой путь дальше.
В тот теплый июньский вечер Станкевич пребывал в добром настроении, много шутил. Прощаясь с Варварой, пожелал ей и сыну спокойной ночи.
Летняя ночь пролетела быстро. Как и договаривались накануне, Ефремов, Варвара и ее сын проснулись рано и были готовы к отъезду. Ждали Станкевича, но он почему-то не выходил из номера. Тогда Ефремов пошел будить друга, но вернулся оттуда один, весь бледный, с трудом произнеся фразу: «Николай помер».
Это был страшный удар для всех. Никто не хотел верить в случившееся.
Ефремов, войдя в номер, сначала подумал, что Станкевич крепко уснул после утомительной дороги или просто погрузился в мысли. «Следы страдания изгладились, и на бледном лице осталась только немного грустная улыбка, — рассказывал позже он. — Его открытые глаза никак не допускали думать, что он умер — он глубоко задумался, неподвижно устремив их на один предмет».
Безутешная Варвара, убитая горем, часами не отходила от тела Станкевича. Для нее это была катастрофа, в которой погибли все надежды на счастье и обновленную жизнь. Она плакала, взывая Бога разбудить любимого ею человека:
«Я остаюсь одинокой в огромном божием мире… О, брат, брат, как ты мог оставить сестру!.. О, я еще вижу ее, твою милую улыбку, которая так глубоко проникла в мое сердце… Брат мой, ты меня любил — и только теперь я должна была это узнать. Зачем ты об этом молчал? Ты знал ведь сестру, знал сомнения, которые нагромоздила в ее сердце тяжелая жизнь, — ты знал все это! Зовешь ли ты из своей дали сестру? — «Возлюбленная». — Да, позволь мне удержать это имя — я никогда не получала его в жизни… а счастье было так близко! — так возможно! — и разлетелось в прах».
Еще через день после смерти Станкевича Варвара записала на немецком языке (языке романтизма):
«О нет, нет, мой возлюбленный, я не забыла твои слова, мы свиделись, мы узнали друг друга! Мы соединены навеки — разлука коротка, и это новое отечество, которое тебе уже открылось, будет и моим: там бесконечна Любовь, бесконечно могущество Духа!.. Эта вера была твоя! — Она также и моя. Брат, ты узнаёшь меня, голос сестры доходит до тебя в вечность? Я узнаю тебя в твоей новой силе, в твоей красоте… и ты узнаёшь тоже, ты угадываешь ее — твою далекую, оставленную сестру!.. Материя сама по себе — ничто, но лишь через… внутреннее объединение ее с духом мое существо, мое Я получило свою действительность. Лишь при этом непонятном для меня соединении бесконечного с конечным Я становится Я — живым, самостоятельным существом. Когда я говорю Я, — тогда я сознаю себя, я становлюсь известной себе. Через обратное впадение в Общее я должна это сознание самой себя утратить — моя индивидуальность исчезает; Я уже не Я, остается лишь общее, Дух для себя. Таким образом, я ничто! Так вот что такое смерть? Это малоутешительно».
Временно, до отправки на родину, Станкевича похоронили в Генуе. А в Берлин, где проживала большая русская диаспора, и в Россию почтовые кареты уже везли письма с печальным известием.
Двенадцатого июля Тургенев получил письмо от Ефремова: «Иван Сергеевич! Немного собравшись с духом, спешу уведомить вас о несчастии, случившемся со всеми нами. В Нови, городке, миль 40 от Генуи, по дороге в Милан, в ночь с 24 на 25-е умер Станкевич. Он ехал в Комо. Не знаю, что писать, голова идет кругом, хаос. Кончивши все дела в Генуе, я располагаюсь ехать прямо в Берлин, если ничто не остановит. Теперь хлопочу, чтоб приготовить все для перевоза его тела в Россию. Прощайте. Надеюсь скоро с вами увидеться. Прощайте, ваш А. Ефремов».
Смерть Станкевича жестоко поразила Тургенева. Из его груди вырвался в письме Грановскому настоящий стон: «Нас постигло великое несчастие, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждою… 24 июня в Нови скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо… — Что остается мне сказать — к чему вам теперь мои слова? Не для вас, более для меня, продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме, я его видел каждый день и начал оценять его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души… Тень близкой смерти уже тогда лежала на нем… Мы часто говорили о смерти: он признавал в ней границу мысли и, мне казалось, тайно содрогался. Смерть имеет глубокое значение, если она выступает — как последнее — из сердца полной, развившейся жизни: старцу — она примирение; но нам, но ему — веление судьбы. Ему ли умереть? Он так глубоко, так искренно признавал и любил святость жизни; несмотря на свою болезнь, он наслаждался блаженством мыслить, действовать, любить: он готовился посвятить себя труду, необходимому для России… Холодная рука смерти пала на его голову, и целый мир погиб. Вот здесь — die kalte Teufelsfaust… die sichnicht veigebens tuckisch ballt. От 11 июня получил я от него письмо из Флоренции. Вот вам отрывки: «…Во Франции я имею иногда отдых, вообще я поправился и, кажется, дело идет вперед… Наконец решено, чтобы я провел лето на озере Комо… M-me Diakof, услышав в Неаполе о моей болезни… приехала с сыном, и мы вместе пробудем лето». Он (Станкевич. —
Н. К.) мне тут доверяет свое отношение к покойной сестре Дьяковой. Помните: «Закрылись прекрасные очи» — хорал Клюшникова. И он умер, и Станкевич умер! — «В Дьяковой я нашел настоящую сестру; по-прежнему, — пишет Станкевич, — ее заботы и участие действуют на поправление сил моих больше всего». Его мучило тягостное отношение к Берте: он поручал мне сходить к ней, узнать и т. д. — «У меня в голове много планов — но когда их не было? — замечает Станкевич. — Собираюсь зимой работать над историей философии. Есть в голове тоже несколько статей. Бог знает, как это все переварится…» Напишите о Вердере: «Окажите ему мое почтение; скажите ему, что его дружба будет мне вечно свята и дорога, и что все, что во мне есть порядочного, неразрывно с нею связано… Прощайте, пока!» Вот еще отрывок: «Фроловых я застал еще здесь. Лиз. Пав. была ужасно больна, теперь, к счастью, стала поправляться: я думаю, по выздоровлении ее, они поедут в Неаполь. Кени наняли здесь дом на целый год». Через 14 дней он умирал, ночью, в Нови. 12 июля получил я следующее письмо от Ефремова: «Я с нетерпением его ожидаю, узнаю все — и тотчас все вам напишу. Боже мой! как этот удар поразит вас, [Яну-ария Михайловича] Неверова, Фроловых… всех его знакомых и друзей! Я не мог решиться сказать об этом Вердеру: я написал ему письмо. Как он был глубоко поражен. Я ему сказал при свидании: «in ihm ist auch ein Theil von Ihnen gestorben». Он чуть-чуть не зарыдал. Он мне говорил: Ich fiihle es. — Ich bin auf dem halben Wege meines Lebens: meine besten Schiller, meine Jiinger sterben, ob Ich uberlebe sie! Он мне прочел превосходное стихотворение — Der Tod, написанное им тотчас после получения известия. Если он согласится, я его спишу и пошлю к вам. Я оглядываюсь, ищу — напрасно. Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю? Кто достойный примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет итти по его дороге, в его духе, с его силой?.. О, если что-нибудь могло бы заставить меня сомневаться в будущности, я бы теперь, пережив Станкевича, простился с последней надеждой. Отчего не умереть другому, тысяче другим, мне напр.? Когда же придет то время, что более развитой дух будет непременным условием высшего развития тела и сама наша жизнь условие и плод наслаждений — творца, зачем на земле может гибнуть или страдать прекрасное? До сих пор казалось — мысль была святотатством, и наказание неотразимо ожидает все превышающее блаженную посредственность. Или возмущается зависть бога, как прежде зависть греческих богов? Или нам верить, что все прекрасное, святое, любовь и мысль — холодная ирония Иеговы? Что же тогда наша жизнь? Но нет — мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь — дадим друг другу руки, станем теснее: один из ваших упал — быть может — лучший. Но возникают, возникнут другие; рука Бога не перестанет сеять в души зародыши великих стремлений, и рано ли поздно — свет победит тьму. Да, но нам, знавшим его — его потеря невозвратима. Едва ли не Rahel сказала: «Ware noch nie ein junger Mann gestorben, hatte man nie Wehmuth gekannt». Из сердца творца истекает и горе, и радость. Freude und Leid: часто их звуки дрожат родным отголоском и сливаются: одно неполно баз другого. Теперь череда горю…»
Весть о смерти Станкевича все дальше и дальше разносилась по России.
«Зная твою любовь к Станкевичу, — писал Ефремов Белинскому, — я обязан бы был сообщить тебе, но на этот раз ты простишь меня… Я не могу писать об нем — еще слишком свежа рана, и здесь, в Берлине, на каждом шагу, новые грустные воспоминания».
Белинский, получив это письмо, в первую минуту не поверил в случившееся. Он не мог даже представить, чтобы смерть посмела посягнуть на такого человека.
«Странную роль назначено тебе, любезный мой Ефремов, играть в отношении ко мне: вот уже в другой раз уведомляешь ты меня об ужасной утрате, о смерти, которой ты был свидетелем. Станкевича нет, и я уже не увижу его никогда, и никто никогда не увидит его — странная, дикая, неестественная идея! Мне все не верится, все кажется, что смерть не посмела бы разрушить такой божественной личности… О, если бы ты знал, Ефремов, как я завидую тебе: ты жил с ним целый год, ты присутствовал при его последних минутах, ты навсегда сохранишь живую память его просиявшего по смерти лица. Я ничего не знаю, что бы могло сравниться с твоим счастием. Конечно, тебе чувствительнее всех нас его потеря — твоя рана и теперь еще сочится теплою кровью, но — боже мой! — что жизнь и все ее радости, все блаженство в сравнении с счастием — вечно носить в душе такую рану!»
В письме Боткину Белинский долго не решался сообщить горькую весть, уводил разговор размышлениями о том, любит ли Боткин читать письма Белинского или нет. Но потом все-таки не сдерживает себя: «Знаешь ли, Боткин, — ну да что за эффектные предисловия — к черту их и прямее к делу. Боткин, Станкевич умер! Да, каждому из нас казалось невозможным, чтобы смерть осмелилась подойти безвременно к такой божественной личности…»
Очень сильно переживал смерть друга Грановский. Об этом говорит неопубликованное письмо историка Бакунину и А. П. Ефремову от 21 августа 1840 года:
«Я получил почти в одно время два письма от Тургенева, из которых узнал о смерти Станкевича. Я приехал сюда недавно, и меня ожидало в Москве это известие. Теперь прошло уже две недели, а я все еще не опомнился после первого удара и не привык к страшной мысли.
Что тут говорить о моей печали. Разве не все мы равно его потеряли и равно любили. Но он унес с собой многое из моей будущности. Я мало плакал, хожу по-прежнему на экзамены, порой даже весел — но на душе постоянно лежит что-то тяжелое. Боюсь того, что ожидает меня впереди, до сих пор в каком-то забытьи, еще как будто не понял всей потери, и настоящее горе не трогало меня. Не в состоянии ничего делать. Хотел привести в порядок его письма — не могу. Из книг моих каждая чем-нибудь напоминает его. Стал читать Евангелие. Бесполезно. Только теперь вижу, что во мне нет веры в жизнь за гробом. Вот почему мне должна быть тяжелей, чем кому-либо, смерть близкого человека.
Да, Бакунин, вы все потеряли его, а моя потеря более вашей. Я ему обязан всем. Я редко писал к нему: но всякое дело мое было освещено мыслию об нем. Мысленно я привык отдавать ему отчет во всех моих делах и замыслах. Теперь кому? Если бы я еще верил в другую жизнь… Но этой веры нельзя пробудить в себе искусственным образом, а живая замерла во мне, так что я и не заметил.
Александр Павлович! Не сердитесь на меня. Тургенев писал, что вы отправили ко мне два письма. Когда и как? Я не получил ни одного.
Ради бога, скажите мне еще несколько слов об нем, о его последних днях. Помнил ли он обо мне? Скверный вопрос. Но мне хочется ответа. Много писать я ей-богу не могу. Я говорю спокойно со всеми и обо всем — только об нем с вами еще не привык. Еще одно: когда припоминаю его себе, он вечно является мне веселым, с шутками. От этого мнет еще хуже…»
В письме сестрам, отосланном также в августе 1840 года, Грановский заявил, что покойный был для него «больше, чем брат. Десять братьев не заменили бы одного Станкевича… Это был человек гениальный, со святой душой. Все, кто имел счастье с ним встретиться, признавали его превосходство, и никто никогда не был унижен им. Он мог бы покрыть славой десять имен, и он умер в 27 лет, оставив воспоминание только в сердцах некоторых друзей. Его место останется пустым среди нас: никто не посмеет его занять. И как рассказать Вам, что я потерял в нем. Это половина, лучшая, самая благородная часть меня самого опустилась в могилу…
Я бы хотел плакать: не могу. Бог не дает мне слез. У меня еще есть друзья. Но что они в сравнении с покойным. Он был человек гениальный и святая душа. Все, кто к нему приближался, сознавали его превосходство, и никого это не унижало. Он мог бы покрыть славою десять имен…»
Грановскому выпала участь также сообщить о смерти Станкевича самому его ближайшему и близкому другу — Неверову. «Не знаю, как и писать к тебе, милый Януарий! — восклицал Грановский. — Боюсь первым сообщить тебе страшную весть об общей утрате. Станкевича нашего нет более в живых… Теперь все еще не верю в возможность потери. Только иногда сжимается сердце… Он умер в Генуе. Я узнал это от Тургенева… Ты потерял столько же, сколько и я. Тебе нечего говорить о нем: он унес с собою что-то необходимое для моей жизни. Никому на свете не был я так обязан: его влияние на меня было бесконечно и благотворно».
В том же письме Грановский сообщал о покойном: «Тело привезут в Россию. Дай Бог. Мне бы не хотелось, чтобы он спал так далеко от нас».
Траур пришел и на родину Станкевича — в Удеревку, где жила большая и дружная семья Станкевичей, так и не дождавшаяся возвращения живым и здоровым любимого сына, дорогого племянника и старшего брата… Страшную новость отцу Станкевича сообщил все тот же Грановский. Как писал Алексей Кольцов, письмо отец получил в Воронеже «и, как прочел, пришел в страшное исступление и ухватил где-то топор и поколотил в доме весь хрусталь, мебель и образа».
Грановскому принадлежат и эти слова, сказанные однажды Герцену:
— Я все не верю в возможность потери, все кажется, что он еще жив и просто почта плохо ходит, потому нет от него писем…
«В семье нашей были неутешны после тяжелой потери, — вспоминала Александра, сестра Станкевича. — На всех отражалась печать грусти; время медленно заживляло рану первой утраты».
Горе надолго поселилось в доме Станкевичей. А скорбный путь самого Станкевича из далекой Генуи в Удеревку растянулся почти на целый год. Надо было соблюсти все бюрократические формальности, какие требуются в подобных случаях. На это потребовалось немало времени. Несколько месяцев ушло на дорогу.
К сожалению, не сохранилось никаких свидетельств о том, как везли в Россию гроб с телом Станкевича и как проходило перезахоронение. Но есть письмо все того же Кольцова Белинскому, датированное 18 декабря 1841 года: «Гроб его (Станкевича. —
Н. К.) недавно привезен из-за границы в имение Станкевичей и похоронен с торжеством…»
Так вернулся на родную землю и получил в ней вечный покой этот даровитый русский, от роду которому не было и двадцати семи лет…
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
XIX век, в котором жил Станкевич, давно уже занесен в исторический формуляр времени. Как, впрочем, и век XX. Но для нас важно следующее: в этих двух столетиях и уже в новом, XXI имя Станкевича не затерялось на трактах и шляхах неспокойных эпох. Оно осталось и сохранено в названиях улиц, учебных заведений, учебниках по философии, литературе, искусству, в энциклопедиях, фильмах, театральных постановках, экспозициях российских и зарубежных музеев, памятниках, воспоминаниях людей, хорошо его знавших, а также тех, кто после его смерти занимался или сейчас занимается исследованием такой короткой, но яркой жизни. Литературным памятником XIX века стала его «Переписка».
Творчество Станкевича востребовано и сегодня, о чем свидетельствуют издаваемые книги и сборники, в которые включаются его произведения и письма. Не зарастает тропа и к его могиле на семейном кладбище на меловых горах в родной Удеревке, куда приезжают и приходят люди из всех уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. Как и в школу, построенную на деньги его друга Януария Неверова (теперь там музей Станкевича).
Ежегодно, когда наступает золотая осенняя пора, а с ней и день рождения Станкевича, в здешнем радушном краю проходит литературный праздник «Удеревский листопад». Именно там, где бегал он ребенком, где так радовался жизни, где повстречал Алексея Кольцова, где шалил, охотился и любил… В его честь писатели и поэты читают свои произведения.
Такое отношение людей разных поколений и разных веков — лучший из памятников Станкевичу, поэту, философу, просветителю. Наконец, человеку, которого любили и продолжают любить все, кому дорого прошлое и настоящее России, ее лучших сынов.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. В. СТАНКЕВИЧА
1813, 27 сентября — в Острогожске Воронежской губернии у помещика Владимира Ивановича Станкевича и его супруги Екатерины Иосифовны родился сын Николай.
1823–1825 — учеба в Острогожском уездном училище.
1825–1830— учеба в Воронежском благородном пансионе.
1829, 10 июля — в газете «Библиотека для чтения» опубликовано первое стихотворение Станкевича «Луна».
1830, 12 марта — в газете «Библиотека для чтения» опубликован отрывок из стихотворной трагедии Станкевича «Василий Шуйский».
Август — Станкевич поступает учиться на словесное отделение Московского университета.
В Москве выходит в свет отдельным изданием трагедия Станкевича «Василий Шуйский».
Знакомство Станкевича с поэтом-прасолом Алексеем Васильевичем Кольцовым. Начало их дружбы. Участие Станкевича в издании первой книги стихов поэта.
1831, январь — публикация с предисловием Станкевича в «Литературной газете» стихотворения А. В. Кольцова «Кольцо» («Перстень»).
Знакомство Станкевича с Виссарионом Григорьевичем Белинским, начало их дружбы.
В Москве под руководством Станкевича образован литературно-философский кружок, известный в истории литературы и культуры как кружок Станкевича.
1833 — во время летних каникул в родовом имении Удеревке возникает «деревенский» роман Станкевича с замужней дамой.
1834 — встреча Николая Станкевича с Николаем Васильевичем Гоголем.
Успешное завершение учебы в Московском университете, по окончании которого Станкевич получает звание кандидата словесных наук. Поездка в Петербург, встречи с Януарием Михайловичем Неверовым.
Станкевич назначен на должность почетного смотрителя Острогожского уездного училища.
В журнале «Телескоп» напечатана повесть Станкевича «Несколько мгновений из жизни графа Т***».
1835 — живет в Москве, проявление болезни, лечение.
Март — знакомство Станкевича со своей будущей невестой Любовью Александровной Бакуниной.
Знакомство Станкевича с Михаилом Александровичем Бакуниным и Тимофеем Николаевичем Грановским. Начало их дружбы.
1836, май — поездка на лечение на Кавказ.
1837, август — отставка Станкевича с должности почетного смотрителя Острогожского уездного училища и получение им заграничного паспорта. Отъезд на лечение и учебу за границу.
1837–1839 — учеба в Берлинском университете вместе с Я. М. Неверовым, Т. Н. Грановским, И. С. Тургеневым. Посещение лекций известных немецких профессоров Ранке, Гумбольдта, Вердера.
1838, август — смерть Любови Александровны Бакуниной — невесты Станкевича.
1840, январь — обострение болезни, переезд из Германии в Италию. Проживание в Риме, встречи с И. С. Тургеневым, продолжение их дружбы.
Апрель — приезд в Рим Варвары Александровны Дьяковой, сестры М. А. Бакунина и Л. А. Бакуниной. Начало близких отношений Станкевича и Дьяковой.
Ухудшение здоровья, отъезд в Швейцарию на озеро Комо.
24 июня — смерть Станкевича в дорожной гостинице г. Нови (Италия).
Июнь — похороны Станкевича в г. Генуе (Италия).
1841 — тело Станкевича перевезено в Россию и с почестями перезахоронено на семейном кладбище в селе Уцеревке Бирюченского уезда Воронежской губернии.
ЛИТЕРАТУРА
Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. А. Станкевича. М., 1914.
Станкевич Н. В. Поэзия. Проза. Статьи. Письма. Воронеж, 1988.
Станкевич Н. В. Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1890.
Станкевич Н. В. Избранное. М., 1982.
Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. Воронеж, 1994.
Аксаков К. С. Воспоминания студентства 1832–1835 годов /
Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995.
Анненков П. В. Николай Владимирович Станкевич: переписка его и биография. М., 1857.
Афанасьев В. В. Лермонтов. М., 1991.
Бахмут В. Ф., Кряженков А. Н. Философ с душою поэта. Воронеж, 2003.
Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1982.
Бродский Н. Я. М. Неверов и его автобиография. М., 1915.
В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977.
Гайворонский А. И. Золотые архивные россыпи. Воронеж, 1971.
Герцен А. И. Былое и думы. М., 1969.
Гершензон М. О. История молодой России. М.; Пг., 1923.
Добролюбов Н. А. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1. М., 1950.
Елизаветина Г. Г. Н. В. Станкевич и его духовное наследие/Н. В. Станкевич. Избранное. М., 1982.
Иванов И. Иван Сергеевич Тургенев. СПб., 1896.
Кораблинов В. А. Жизнь Кольцова. Жизнь Никитина. Воронеж, 1976.
Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915.
Лебедев Ю. Жизнь Тургенева. М., 2006.
Левандовский А. А. Время Грановского. М., 1990.
Литературное наследство. Т. 56. Кн. 2. М., 1950.
Манн Ю. В кружке Станкевича: историко-литературный очерк. М., 1983.
Машинский С. И. Кружок Н. В. Станкевича и его поэты / Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.; Л., 1964.
Мезенцев П. Белинский. М., 1957.
Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989.
Никитенко А. В. Записки и дневник. В 3 т. М., 2005.
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988.
Тургенев И. С. Воспоминания о Н. В. Станкевиче / Вестник Европы. 1899. № 1.
Тонков В. А. А. В. Кольцов / Очерки литературной жизни Воронежского края. Воронеж, 1970.
Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. Полное собрание сочинений: Т. 3. М., 1947.
Щепкина А. В. Воспоминания. Сергиев Посад, 1915.
Alexandre Bourmeyster. Stankevic et S’idealisme humanitaire des annes 1830. Lille, 1974. T. 1,2.
Ed. Y. Brown. Stankevich end his Moscow circle. 1830–1840. Stanford. California, 1966.
Оглавление
Глава первая
ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Глава вторая
«ВОРОНЕЖСКИЕ АФИНЫ»
Глава третья
В БЛАГОРОДНОМ ПАНСИОНЕ
Глава четвертая
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОЛУМБ
Глава пятая
ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!
Глава шестая
СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО
Глава седьмая
ГЛАВА КРУЖКА
Глава восьмая
СРЕДИ ПЛЕЯДЫ ЗОЛОТЫХ ИМЕН
Глава девятая
ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН
Глава десятая
«НЕБЕСНЫЙ НИКОЛАЙ»
И «НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН»
Глава одиннадцатая
«В ОЧАГАХ ОТЕЧЕСКИХ»
Глава двенадцатая
ДРУЖБА С КОЛЬЦОВЫМ
Глава тринадцатая
ПОЛКУ ФИЛОСОФОВ ПРИБЫЛО
Глава четырнадцатая
СОТРУДНИЧЕСТВО В «ТЕЛЕСКОПЕ»
Глава пятнадцатая
ПОЕЗДКА НА КАВКАЗ
Глава шестнадцатая
ИСПОВЕДАЛЬНОЕ СЛОВО
Глава семнадцатая
ВДАЛИ ОТ РОССИИ
Глава восемнадцатая
ВСТРЕЧИ С ТУРГЕНЕВЫМ
Глава девятнадцатая
ЛЮБА, ЛЮБИНЬКА, ЛЮБОВЬ…
Глава двадцатая
ДОРОГИ ИТАЛИИ И ПУТЬ В РОССИЮ
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. В. СТАНКЕВИЧА
ЛИТЕРАТУРА






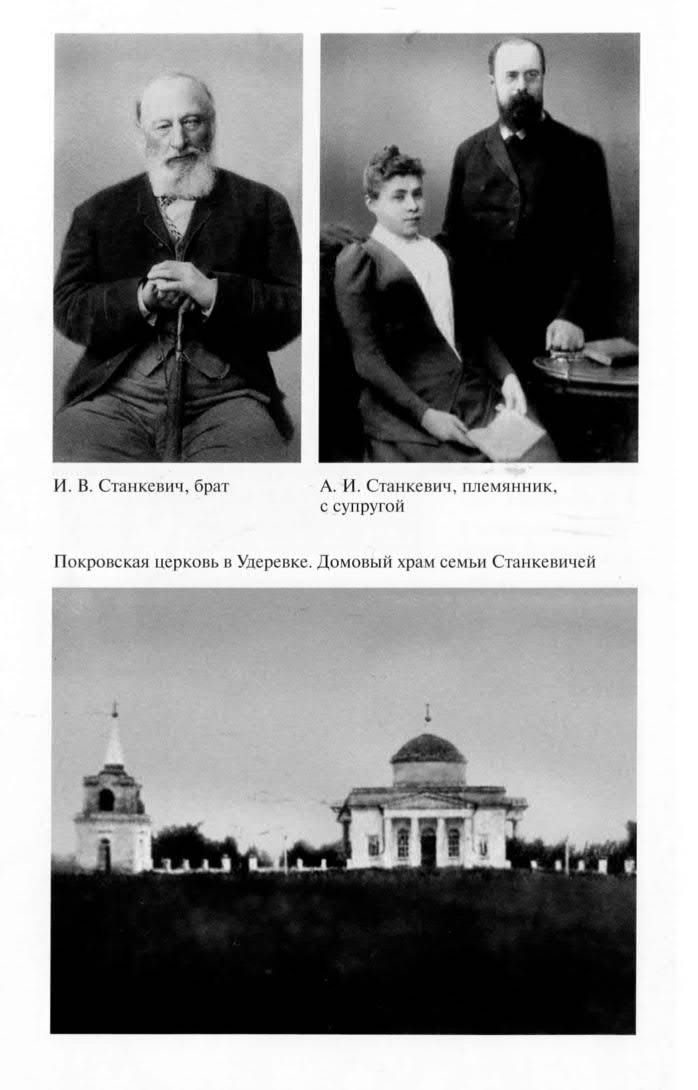
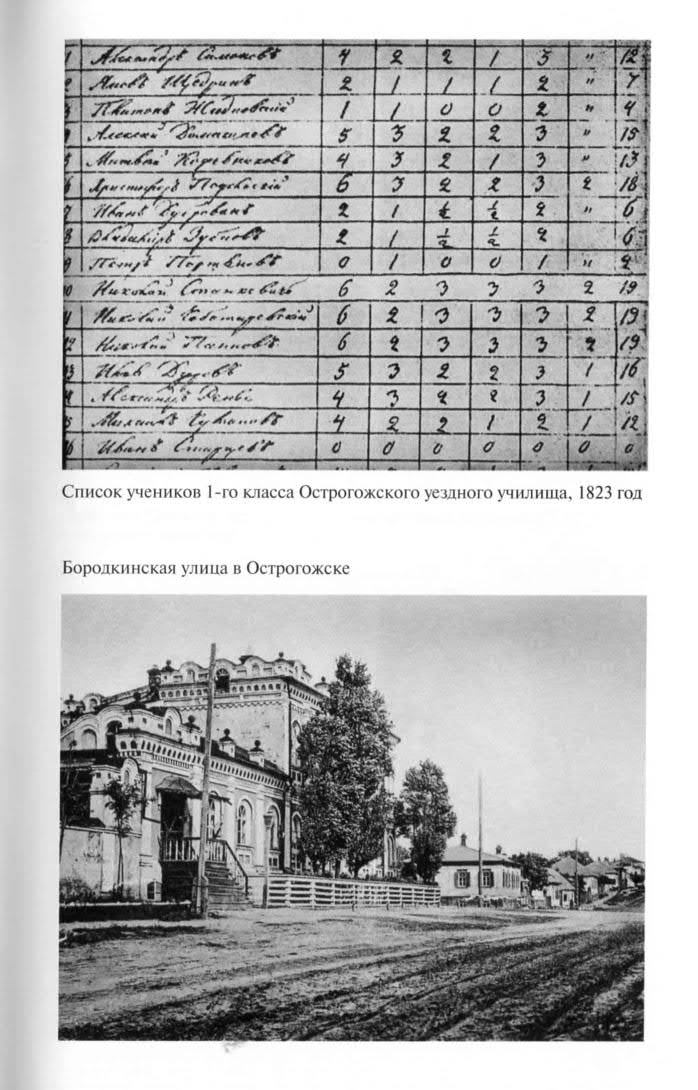


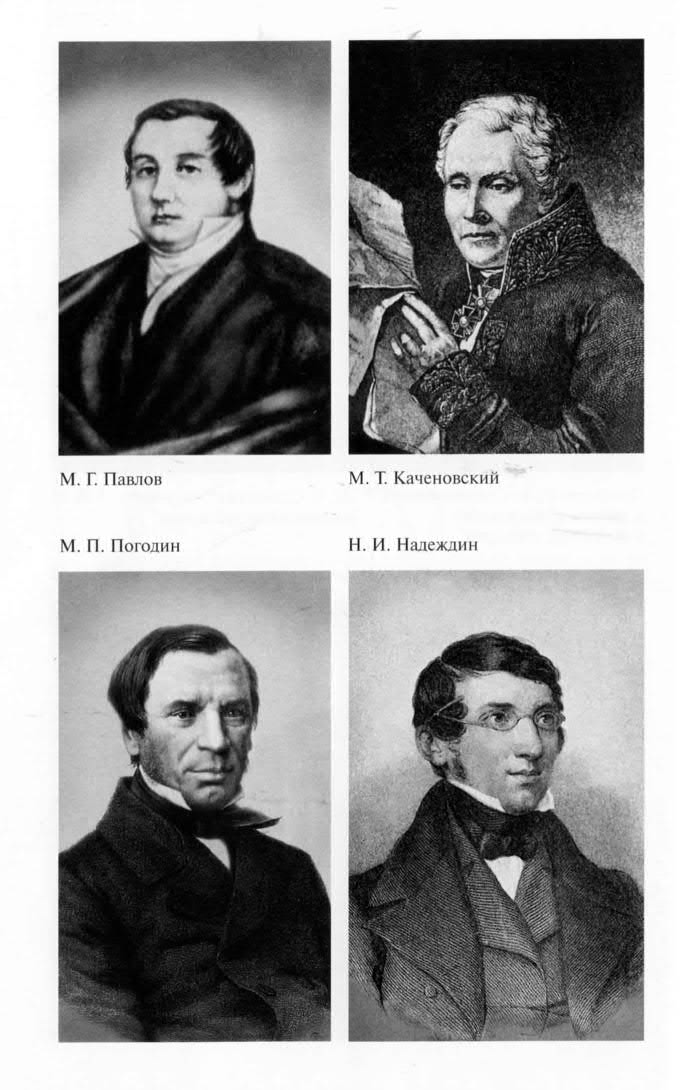






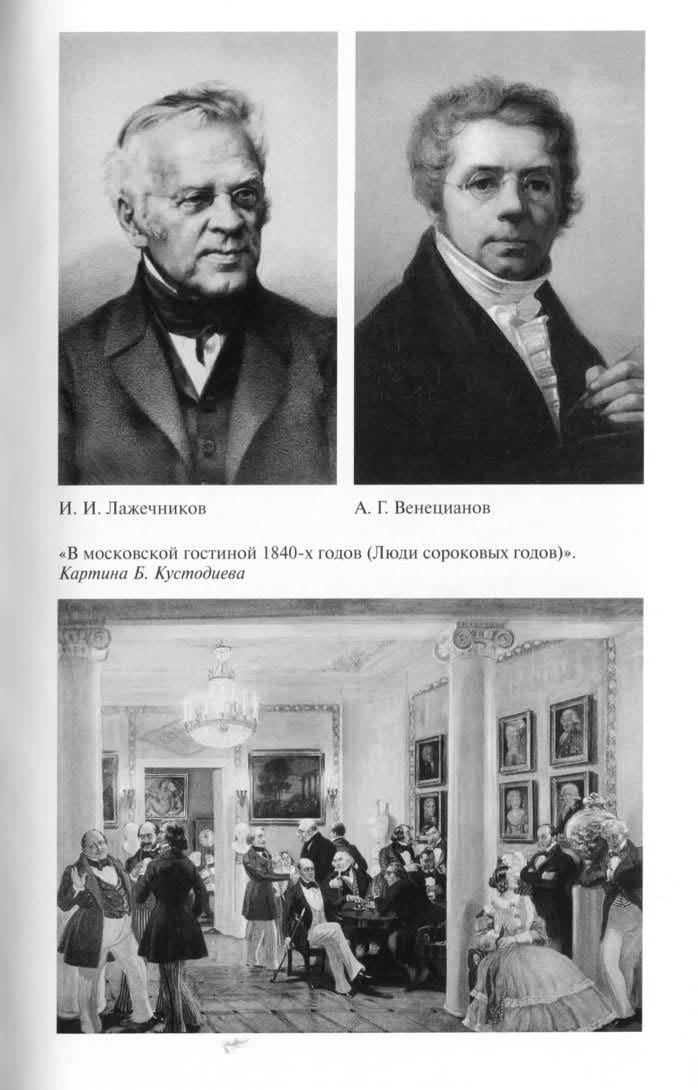
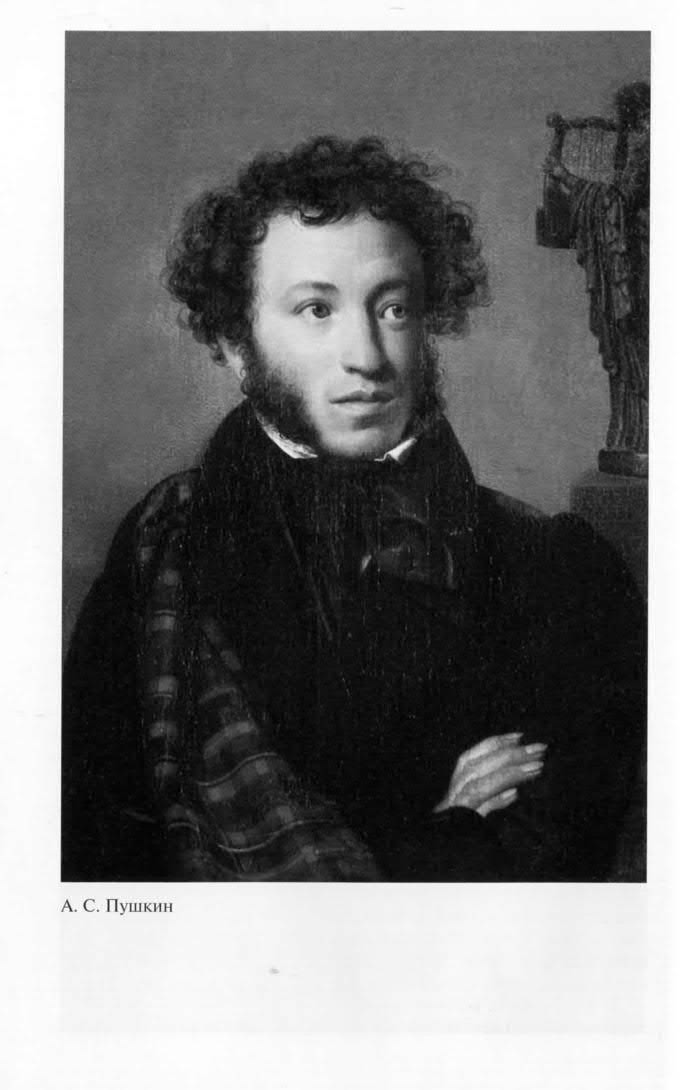 В. П. Вистенгоф, их однокурсник, писал в своих воспоминаниях: «Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя отдельно от всех своих товарищей… Его не любили, отдалялись от него… Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотись, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение». И, тем не менее, позже, в поэме «Сашка» Лермонтов так высказался об университете и своих однокашниках:
В. П. Вистенгоф, их однокурсник, писал в своих воспоминаниях: «Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя отдельно от всех своих товарищей… Его не любили, отдалялись от него… Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотись, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций. Вся фигура этого студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение». И, тем не менее, позже, в поэме «Сашка» Лермонтов так высказался об университете и своих однокашниках:











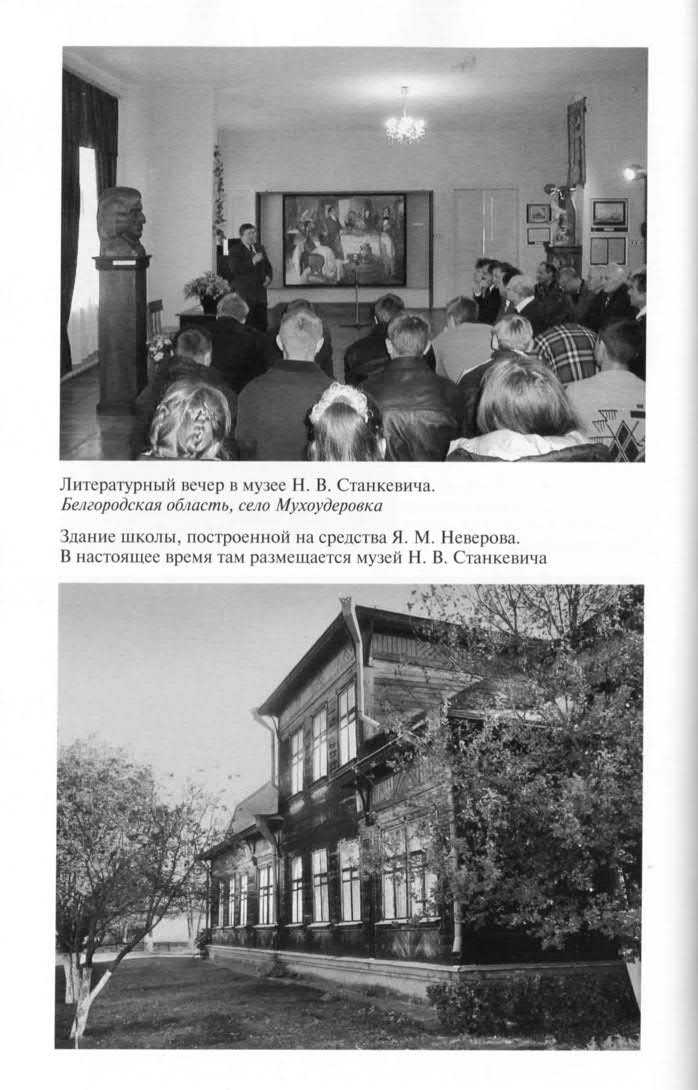



 Под влиянием бесед в кружке Станкевича у Кольцова сложились и другие думы, в частности «Человек», «Поэт». Сам Кольцов нередко чувствовал это влияние на свое творчество. Так, по поводу «Думы двенадцатой» он написал; «Она у меня выскочила в минуту; если она не из чего-нибудь, то пусть будет моя. Как-то таким образом у меня написалось, хотя я и не охотник на чужбинку».
Однако надо отметить, что в области философской лирики Кольцов достиг немногого. «Дело не только в том, что автору не хватало специальных знаний, — написал один из исследователей творчества поэта-самородка О. Г. Ласунский. — Сам склад его дарования не располагал к умозрительному, созерцательному характеру творчества. Художник явно подавлял в Кольцове философа… Главная и бесспорная заслуга Кольцова перед родной литературой — его замечательные «русские песни», выросшие наполовину из фольклора».
Много раньше, в 1846 году, в статье «О жизни и сочинениях Кольцова» об этом скажет Белинский. Скажет уверенно, сняв сомнения, озвученные в 1835 году им же самим по случаю изданного на средства Станкевича первого сборника стихов: «Не знаем, разовьется ли талант Кольцова или падет под игом жизни?»
Критик напишет: «…До Кольцова у нас не было художественных народных песен, хотя многие русские поэты и пробовали свои силы в этом роде, а Мерзляков и Дельвиг даже приобрели себе большую известность своими русскими песнями, за которыми публика охотно утвердила титул «народных». В самом деле, в песнях Мерзлякова попадаются иногда места, в которых он удачно подражает народным мелодиям… Но… в целом его русские песни не что иное, как романсы, пропетые на русский мотив. В них виден барин, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что же касается до русских песен Дельвига, — это уже решительные романсы, в которых русского — одни слова. Это чистая подделка, в которой роль русского крестьянина играл даже и не совсем русский, а скорее немецкий или, еще ближе к делу, италиянский барин».
И далее Белинский говорит, что даже Пушкин, «несмотря на всю объективность своего гения… не мог бы написать ни одной песни вроде Кольцова, потому что Кольцов один и безраздельно владел тайною этой песни. Этою песнею он создал свой особенный, только одному ему довлевший мир, в котором и сам Пушкин не мог бы с ним соперничествовать, — но не по недостатку таланта, а потому, что мир песни Кольцова требует всего человека, а для Пушкина, как для гения, этот мир был слишком тесен и мал и потому мог входить только как элемент в огромный и необъятный мир пушкинской поэзии».
Через всю свою короткую жизнь пронес Кольцов нежность и уважение к своему другу, умному, доброму учителю и идейному наставнику. В 1840 году, уже после смерти Станкевича, Кольцов посвятил ему стихотворение «Поминки».
«Поминки» — название не хорошо, — писал он Белинскому. — Как хотите, так и назовите. В ней я сначала чертовски хвалю всю нашу братию, но все-таки в ней чистая правда. А о Станкевиче, конечно, надо бы говорить больше, но я этого сделать не сумел. По крайней мере я сделал, что мог, и сказал, как сумел; другие пусть скажут лучше. Но у меня спала тяжесть с души, а то все укоряла меня его безвременная смерть. И эта прекрасная, чистая душа как будто говорила мне все на ухо: «схоронили — позабыли». Поэт в возвышенном стиле сумел передать образ своего друга-покровителя. Станкевич изображен таким, каким он вошел в духовную жизнь России молодой. Рядом с ним — его «младые друзья», его единомышленники:
Под влиянием бесед в кружке Станкевича у Кольцова сложились и другие думы, в частности «Человек», «Поэт». Сам Кольцов нередко чувствовал это влияние на свое творчество. Так, по поводу «Думы двенадцатой» он написал; «Она у меня выскочила в минуту; если она не из чего-нибудь, то пусть будет моя. Как-то таким образом у меня написалось, хотя я и не охотник на чужбинку».
Однако надо отметить, что в области философской лирики Кольцов достиг немногого. «Дело не только в том, что автору не хватало специальных знаний, — написал один из исследователей творчества поэта-самородка О. Г. Ласунский. — Сам склад его дарования не располагал к умозрительному, созерцательному характеру творчества. Художник явно подавлял в Кольцове философа… Главная и бесспорная заслуга Кольцова перед родной литературой — его замечательные «русские песни», выросшие наполовину из фольклора».
Много раньше, в 1846 году, в статье «О жизни и сочинениях Кольцова» об этом скажет Белинский. Скажет уверенно, сняв сомнения, озвученные в 1835 году им же самим по случаю изданного на средства Станкевича первого сборника стихов: «Не знаем, разовьется ли талант Кольцова или падет под игом жизни?»
Критик напишет: «…До Кольцова у нас не было художественных народных песен, хотя многие русские поэты и пробовали свои силы в этом роде, а Мерзляков и Дельвиг даже приобрели себе большую известность своими русскими песнями, за которыми публика охотно утвердила титул «народных». В самом деле, в песнях Мерзлякова попадаются иногда места, в которых он удачно подражает народным мелодиям… Но… в целом его русские песни не что иное, как романсы, пропетые на русский мотив. В них виден барин, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Что же касается до русских песен Дельвига, — это уже решительные романсы, в которых русского — одни слова. Это чистая подделка, в которой роль русского крестьянина играл даже и не совсем русский, а скорее немецкий или, еще ближе к делу, италиянский барин».
И далее Белинский говорит, что даже Пушкин, «несмотря на всю объективность своего гения… не мог бы написать ни одной песни вроде Кольцова, потому что Кольцов один и безраздельно владел тайною этой песни. Этою песнею он создал свой особенный, только одному ему довлевший мир, в котором и сам Пушкин не мог бы с ним соперничествовать, — но не по недостатку таланта, а потому, что мир песни Кольцова требует всего человека, а для Пушкина, как для гения, этот мир был слишком тесен и мал и потому мог входить только как элемент в огромный и необъятный мир пушкинской поэзии».
Через всю свою короткую жизнь пронес Кольцов нежность и уважение к своему другу, умному, доброму учителю и идейному наставнику. В 1840 году, уже после смерти Станкевича, Кольцов посвятил ему стихотворение «Поминки».
«Поминки» — название не хорошо, — писал он Белинскому. — Как хотите, так и назовите. В ней я сначала чертовски хвалю всю нашу братию, но все-таки в ней чистая правда. А о Станкевиче, конечно, надо бы говорить больше, но я этого сделать не сумел. По крайней мере я сделал, что мог, и сказал, как сумел; другие пусть скажут лучше. Но у меня спала тяжесть с души, а то все укоряла меня его безвременная смерть. И эта прекрасная, чистая душа как будто говорила мне все на ухо: «схоронили — позабыли». Поэт в возвышенном стиле сумел передать образ своего друга-покровителя. Станкевич изображен таким, каким он вошел в духовную жизнь России молодой. Рядом с ним — его «младые друзья», его единомышленники:
Последние комментарии
1 час 6 минут назад
3 часов 24 минут назад
5 часов 14 минут назад
10 часов 59 минут назад
11 часов 5 минут назад
11 часов 9 минут назад