Верные до конца [Вадим Александрович Прокофьев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Вадим Прокофьев
ИСКРОВЦЫ
*
ВЕРНЫЕ ДО КОНЦА
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ


*
© Издательство «Молодая гвардия», 1977 г.

О тех, кто первыми ступили на неизведанные земли, О мужественных людях — революционерах, Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше. О тех, кто проторил пути в науке и искусстве. Кто с детства был настойчивым в стремленьях И беззаветно к цели шел своей.
ПОДАЛЬШЕ ОТ «РОМАНОВСКИХ ДАЧ»

Весеннее утро никак не может проснуться, словно ребенок в люльке. То улыбается солнечными бликами, то вновь смежает веки темных облаков. В Иркутске всегда так весною.
И Леонид Борисович Красин тоже никак не стряхнет с себя сонную одурь. За столько лет скитаний по студенческим углам, одиночным тюремным камерам, солдатским казармам мягкая постель в отчем доме не отпускает, ласково поскрипывает: «Поспи еще, поспи еще…»
Нужно вставать! Хватит, понежился несколько деньков, отдохнул с дороги, пора и за дело. А все-таки славно получилось! За участие в петербургском марксистском кружке Бруснева долго отсиживал в тюрьмах, последние месяцы отбывал в воронежской, откуда и должен был отправиться на три года в ссылку, в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции. Пока «коротал» время в воронежской одиночке, родные сумели исхлопотать замену Яранского уезда Вологодской губернии на Восточную Сибирь. Это оказалось не так уж трудно — в прейскуранте департамента полиции Восточная Сибирь оценивалась самой высшей ставкой и числилась в графе строжайших наказаний…
Сегодня он обязательно пойдет к главному инженеру строительства Кругобайкальской, Забайкальской и Среднесибирской железной дороги и предложит свои услуги. Хотя он недоучившийся студент-технолог, но перед последней отсидкой в Воронеже работал десятником на строительстве Харьковско-Балашовской железки. Недолго, правда, попытался бороться со взяточничеством и хищениями поставщиков да подрядчиков ну и первым же пострадал — вылетел с треском.
Красин явился в дом инженера слишком рано — главный еще спал. Миловидная горничная предложила Леониду Борисовичу подождать в кабинете.
Огромный письменный стол под зеленым сукном, прямо-таки бильярдный, только луз не хватает, и на столе ничего, кроме двух телефонов. Леонид Борисович с интересом стал разглядывать аппараты, од знает настенные, а вот настольные видит впервой. Американские.
Над столом множество таблиц, графиков, диаграмм Графики, цифры имеют для Красина совершенно особую, притягательную силу. Одного взгляда достаточно, чтобы понять — перед ним итоговые величины. Итог, к которому должны прийти строители Великой Сибирской магистрали. Цифры настолько внушительные, что подобными не может похвастать ни одна железнодорожная компания мира. К концу 90-х годов строители должны уложить 5288 верст рельсового пути, 45,5 версты мостов, соорудить на Байкале две пристани и через каждые 30–50 верст разбросать станции, путевые будки, казармы.
О стоимости этой стройки и говорить не приходится, если сплюсовать все, и в том числе украденное. А ведь строят плохо, из рук вон плохо; Красин уже успел в этом убедиться, Ширина шпал не стандартная, рельсы облегченные, мосты деревянные. Знакомо! Видно, по всей царской России грандиозность, помпезность скрывают брак и казнокрадство. Даже страссировать дорогу как следует не смогли.
Красин еще раз оглядел кабинет. Ба, как это он не заметил — у окна стоит новенький теодолит. Игрушка, каких он никогда еще не видел, наверное, тоже иностранный. Впрочем, в Петербургском технологическом институте, где он учился, геодезию читали в очень скромном объеме, а практики и вовсе не было.
Леонид Борисович, рассматривая теодолит, пропустил момент, когда в кабинете появился хмурый, невыспавшийся главный инженер.
— Вы знакомы с геодезией?
Главный был искренне удивлен, он по себе знал, как плохо изучают эту науку в российских институтах. Сам же он был влюблен в геодезию. И Красин инстинктивно понял это увлечение главного. Что ж, нужно ковать железо, и Леонид Борисович, как бы рассуждая с самим собой вслух, перечислил основные преимущества нового прибора перед его старшими собратьями. Да, недаром о нем, недоучившемся студенте, коллеги говорили, что он инженер божьей милостью.
— Превосходно, молодой человек, прекрасно, а мне говорили, что вы технолог…
Красин решил быть до конца откровенным с этим человеком. Он рассказал ему не только о своей учебе в Петербургском технологическом институте, но и о том, почему учеба была прервана: первый раз в 1890 году за участие в студенческих беспорядках, во второй — через год после восстановления — за участие в марксистском кружке (имени Бруснева Красин не назвал). И новый арест после ссылки в Нижний Новгород — Таганская тюрьма. А затем и не до учебы было — Тула, военная служба вольноопределяющимся, недолгие месяцы отдыха в Крыму, и снова высылка в Воронежскую губернию, где вновь его ждала тюрьма.
— Так что не такой уж я и молодой, минуло двадцать пять, а я все еще не закончил курса…
— Э, батенька, у меня в управлении дипломированных инженеров хоть пруд пруди, сидят, штаны протирают, а на дороге работать некому. Плевать мне на все ваши тюрьмы, ссылки, плевать на то, что вы поднадзорный, мне нужен техник, нужен инженер, а вы, я вижу, в управление не рветесь и практики строительства не гнушаетесь. Вот и прелестно! Для начала зачисляю вас техником, а там будет видно. Кстати, вам известно, что ссыльным, работающим на строительстве дороги, сокращают сроки? Нет? Имейте это в виду.
Красин поимел. Ему вовсе не улыбалось провести в Иркутске все три года ссылки, И даже то, что здесь живут отец, мать, сестра, не могло примирить с перспективой быть оторванным от ставшей уже привычной революционной работы, да и учебы тоже. Из Петербурга, от брата Германа, приходят загадочные письма. Но даже сквозь его иносказания можно понять, что в столице произошли большие перемены и связаны они с именем Владимира Ульянова. Слыхал, слыхал о таком!
Еще два года назад появился в столице помощник присяжного поверенного — Владимир Ульянов, младший брат Александра. Фамилия в революционных кругах России знаменитая. Первым долгом Владимир Ульянов вчистую распушил Германа. Собрались однажды на квартире старого друга по Технологическому — Степана Радченко, и Герман зачитал свой реферат о рынках. Вопрос серьезный, ведь для развития капитализма необходимы рынки сбыта, без них капитализм не может развиваться. А не будет расти капитализм — не будет почвы и для роста пролетариата. Судя по всему, Герман тогда с рефератом не справился.
Слово взял Владимир Ульянов. Всего-то на год старше Германа и одногодок с Леонидом, а какая глубина анализа, какая убежденность. Все поставил на свои места, а под конец вывод. «Мы, — говорит, — должны заботиться не о рынках, а об организации рабочего движения в России, о рынках же позаботится наша буржуазия». Вот и практическое применение марксизма, а не голая теория. Герману бы обидеться, а на деле получилось, что он вернейший последователь Ульянова. Если судить даже по официальной прессе, в Петербурне, Москве, Иванове началась настоящая «промышленная война», стачка за стачкой, забастовка за забастовкой, и, как прозрачно намекает Герман, за этими стачками стоит организация «Союз борьбы», а во главе «Союза» Ульянов.
Об этих союзах, возникших не только в Питере, рассказывали высланные из Москвы, Киева. Организация — это хорошо. А вот он, марксист Леонид Красин, протухает в Иркутске. Впрочем, не совсем так. В Иркутске тоже дискуссируют о рынках, а вернее, о судьбах русского капитализма. Иркутск издавна город политических ссыльнопоселенцев. Марксистов, социал-демократов мало, зато народников полным-полно, и среди них такие «зубры», как Марк Натансон, Дмитрий Любовен, Сергей Ковалик. Они жуют старую жвачку: капитализм в России развиваться не будет, а значит, не будет расти и рабочий класс. Поэтому нечего рассчитывать на пролетария в борьбе за социализм, крестьянин — вот истинный социалист.
Красин ринулся в бой. Передовое сражение произошло на семейном вечере у редактора иркутского «Восточного обозрения». Кто-то из «столпов», театрально воздевая руки к небеси, пожаловался, что после Чернышевского и читать-то нечего, а уж какой там Маркс…
Красин не стал ничего доказывать. Просто высмеял «столпа». He обидно, но достаточно едко. Он знал за собой умение говорить образно и с юморком.
И что неожиданно — до его слуха с диванов донеслось «Обаятельный юноша… Старого типа… Теперь таких мало…»
Ошибаются «столпы», таких с каждым годом становится все больше и больше.
Дни протекали на стройке, вечера же редко кончались без споров. Крепло умение будущего инженера, заострялось мастерство полемиста.
Главный оказался прав. Ссыльным, работавшим на строительстве железной дороги, скостили срок. И зимой 1897 года у Леонида Борисовича появилась возможность выехать в Европейскую Россию, с тем чтобы завершить учебу, прерванную семь лет назад внезапным арестом.
А куда ехать? В Петербург не пустят, так что о родной техноложке придется забыть. Есть еще Технологический в Харькове. Прошение давно отослано, а ответа нет и нет. С точки зрения институтских начальников все понятно — исключен из Петербургского как неблагонадежный, а затем целая вереница тюрем, высылок, опять тюрем…
Была не была! Леонид Борисович решил ехать в Харьков, не дожидаясь бумаги.
Уехал и как в воду канул. В Иркутске тревожатся — нет писем. В Петербурге Герман теряется в догадках. Ужели снова, неведомо за что, Леонида пленила охранка?
И только в феврале 1898 года Герман получает письмо:
«В последние дни, вероятно, чтобы разнообразить хоть несколько мою жизнь, полиция опять завела со мной переговоры… По словам довольно наивного и глуповатого помощника пристава, «министр внутренних дел интересуется знать, поступили ли вы в Технологический институт». Я говорю, что, к сожалению, не могу и полной мере удовлетворить любознательность министра, так как не знаю, что, собственно, следует подразумевать под поступлением. На лекции-де хожу, а каково мое положение в институте, об этом лучше всего там и справиться. Там ему все сказали, как следует, но официальной бумаги, удостоверяющей, что я студент, все же не дали».
Красин не хотел расстраивать брата и не сообщил ему, что принят «под честное слово» не участвовать в каких-либо «запрещенных действиях».
Легко сказать — не участвовать! Не участвовать Леонид Борисович не мог. Он участвовал, но учился это делать так, чтобы полиция не дозналась. Студенческие сходки, демонстрации не обходятся без Красина. И его исключали из института, но исключали символически. Спасибо, директор, профессор Зернов, «спасал для русской техники» талантливого инженера.
В 1900 году, когда Леониду Борисовичу исполнилось 30 лет, он наконец-то закончил институт, но диплома не получил, этот акт отложили еще на год в наказание за верховодство в студенческой забастовке.
Да бог с ним, с дипломом, получит в конце концов. Леонид Борисович приобрел нечто большее, нежели бумажку, — приглашение от старого друга по петербургской техноложке Роберта Классона строить в Баку, на Баиловском мысу, огромную электростанцию. Вот его диплом.
И, недолго думая, Красин отправился в Баку, предварительно позаботившись о том, чтобы полиция потеряла его из вида. И она на некоторое время потеряла того, кто уже давно значился в ее картотеках под кличкой Никитич.
Октябрь Доцветают последние дни поздней осени. Еще золотятся рощи и перелески багряно-медной листвой, но уже по-зимнему хмуро наклонились ели.
Город Орлов Вятской губернии. Да и город ли? Если уж по совести — просто заблудилась в лесной глухомани, как град Китеж, большая деревня на три с половиной тысячи жителей. И куда ни глянешь — лес, лес, и только воды реки Вятки находят себе дорогу в лабиринте сосен, елей и кучных лиственных залесий.
Октябрь. По ночам уже кружатся первые робкие снежинки, а скоро завоет, завертит и надолго и снежно. И от города останутся одни сугробы, из которых к низкому серому небу вытянутся дымные столбы, да от сугроба к сугробу пролягут глубокие траншеи.
Полицейский исправник, примостившись у открытого окна, с наслаждением тянул из блюдечка обжигающий чай. Что бы там ни говорили и как бы ни ворчала жена, кутаясь в шерстяной платок, а вот этакое «сочетание двух стихий» — холода и кипятка — дает истинное наслаждение. И пока не перестанет шуметь самовар, он успеет выпить шесть-семь чашек, а заодно вдоволь налюбоваться природой. Благолепие-то какое! Распаренный чаем, переполненный самыми возвышенными чувствами, исправник налил себе очередную чашку и не спеша обратил взоры к сахарнице, стараясь выудить толстыми, едва пролезающими в ее горловину пальцами кусочек покрупнее. Но окно затенило что-то грузное, и не успел исправник поднять глаза от сахарницы, как по запаху самогона догадался — старший полицейский, один из трех, положенных на весь этот, так сказать, город. — Вашблародь, так что имею честь доложить — поднадзорный Николай Эрнестов Бауман ныне утром в наличии не оказался. А Маланья Неверова, которую и счел долгом препроводить, говорит, что нашла вот энти сапоги и пальто на берегу… — Утоп, как есть утоп, господин исправник… И сапоги его, намеднись мой Иван их подбивал, а я относила, и пальта его же, другова у него и нет. Батюшки спет, спаси и помилуй, пречистая дева богородица… — Да цыц ты, богородица! Оставь-ка мне вещественные улики… А ты, Василий, марш на реку, обшарь кусты, да этим идолам, рыбакам, скажи, чтобы дно баграми пошуровали. — Дык, вашблародь, ежели утоп, то искать мертвеца-то надоть верст за пять, у излучины, потому как несет… — Молчать! Ступай, выполняй что приказано! Исправник в сердцах захлопнул окно. Так хорошо начавшееся утро этого октября 15-го дня тысяча восемьсот девяносто девятого года было вконец испорчено. Нужно прерывать чаепитие, тащиться в дом, где квартировал политический, производить обыск. Дай-то бог, чтобы утоп! Хлопот меньше. А как нет? Что, если убег? Тогда беда! Недоглядел, и прощай утренние чаепития на берегу Вятки. Разжалуют да куда-нибудь в Пырловку или Семендяевку засунут простым городашом… Обыск ничего не дал. Нашли только картину, на которой была изображена кузня, вокруг наковальни, у горна, молодые веселые люди, на заднем плане широко раскрытая дверь, в которую смотрится ярко разгорающаяся заря. Картина явно аллегорическая, а посему ее вместе с рапортом исправника доставили вятскому губернатору. Из Вятки картина, как верный страж, сопровождала в департамент полиции губернаторское донесение: «Состоящий в г. Орлове под гласным надзором полиции ветеринарный врач Николай Эрнестов Бауман, 15 сего октября из места жительства неизвестно куда скрылся». Департамент полиции, не мешкая, составил «справку о революционной деятельности Баумана» и описал его приметы: «Рост 2 аршина 6 3/4 вершка, телосложение хорошее, белокурый, борода слегка рыжеватая, глаза серые, размер их в 3 сантиметра, нос с небольшим горбом, размер его 6 1/2 сантиметра, на переносье рубец, лицо овальное, цвет кожи белый с легким румянцем, тембр голоса — баритон, походка скорая, слегка развалистая». Всем чинам полиции всех губерний Российской империи предписывалось: «обратить особое внимание», «уведомить», «арестовать», «препроводить».
И никто не обратил «особого внимания» на скромного молодого человека, занявшего более чем скромную каюту третьего класса парохода, уходившего из Вятки последним рейсом. Высокие яловые сапоги, рубаха-косоворотка да теплый байковый пиджак ничем не выделяли его из толпы пассажиров — мелких приказчиков, мастеровых-поденщиков, отходников, спешащих, пока не стала река, по домам. Агенты департамента полиции искали Баумана на всех железнодорожных станциях, ждали на родине, в Казани, в Петербурге — ведь именно в этих городах видный деятель «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» мог найти сохранившиеся явки, конспиративные квартиры, где и отсиделся бы до получения новых документов. Да мало ли какие возможности у этого «чрезвычайно опасного» политика. А пароход неторопливо отшлепывал плицами версты. Николай Эрнестович дневал на палубе. Урожденный волгарь, привыкший с детства к просторам и удали великой реки, он с нетерпением ожидал встречи с Волгой, но и не забывал присматриваться ко всему, что творится на пристанях, когда пароход подгребает к причалам. Скоро устье Вятки. Уже чувствуется приближение Камы. Низменные, болотистые берега сменили высокие, облицованные оранжевым песчаником, а то и красным гранитом. Кама открылась внезапно, из-за поворота, да так, что у Баумана дыхание перехватило. Весь берег подернулся красным полотнищем. Тени от низких рваных туч и отблески по-осеннему яркого солнца в облачных просветах создавали иллюзию колышущегося знамени размером во много-много верст. «Красная глина», — понял Бауман, но ему не хотелось отказываться от возникшего образа красного стяга. И сразу вспомнилось 1 мая этого, 1899 года. То была приятная память… Уже апрель был на исходе, и Орлов с часу на час ожидал вскрытия реки. После зимней обывательской спячки ледоход казался явлением иного, динамичного, загадочного мира. 1 мая с утра застреляло, заухало по всей реке. Льдины дыбились, лезли одна на другую, забирались на берег, ломались и с каменистым шорохом осыпались обратно в реку. День стоял ясный, погожий. Весь Орлов от мала до велика на берегу. Тут и пристав, и исправник, городовые, купцы — щурятся на неяркое, но уже по-весеннему теплое солнце, на мириады солнечных зайчиков, отраженных зеркальными разломами льдин. Но неожиданно городовые, нарушая эту весеннюю идиллию, сорвались с места. Придерживая левой рукой «селедки»-шашки, чтобы не били по ногам, они поскакали куда-то вверх по течению. Толпа шатнулась к реке, привстала на цыпочки. Что за оказия? Такого здесь еще не видывали… Бауман, забывшись в воспоминаниях, вздрогнул от резкого посвиста парохода. Тьфу, пропасть! Вот и тогда так же верещали в свои свистульки городаши. Кто может знать — стоило ли дразнить гусей? Ведь рисковал многим и уговорил еще двух ссыльных друзей. А уж если по большому счету, то рисковал он прежде всего жизнью. Забраться на плывущую льдину, когда льду тесно, когда льдины, как норовистые петухи, наскакивают друг на друга, переворачиваются, шипят… Наверное, все же проще было бы пройти с красным знаменем по улочкам городка, тогда и Вацлав Воровский, и Раиса Землячка присоединились бы к ним. А от демонстрации на льдине они отказались, И то верно, Раиса — женщина хрупкая, Вацлав после Таганской тюрьмы ходит согнувшись в три погибели. И все же город, улицы — это не то. Не было бы у них на улицах упоительного чувства свободы. Хоть на время, хотя бы на какие-то полчаса, пока льдина огибала посад. Они стояли и пели. Пели от счастья, от сознания свободы, и красное полотнище закрыло от них берег, исправника с приставом, тупые рожи обывателей. Была в этом поступке и дань мальчишеству. Наверное, последняя, последний порыв сорванца, носившегося когда-то по берегам Волги с рыбачьей ватагой или до синевы высиживавшего с камышиной во рту на дне озера, лишь бы «не полонили татары» лихого «казака». Что и говорить — 27 лет! А вот остался в нем этот неугомонный дух рискового паренька. Нет, право, лихо он этим летом вытащил из воды тонувших курсисток, и только теперь и только самому себе может признаться, что сам чудом тогда не утонул. А ведь за первомайскую демонстрацию он рисковал получить «надбавку к сроку»… Но обошлось, исправник сам боялся неприятностей, потому ограничился «отеческим внушением».

Трое суток по Вятке. Потом по Каме и Волге, а из Казани поездом. Николай Эрнестович хорошо понимал, что после побега ему нужно хотя бы на время исчезнуть из России. Но за два года, проведенных в одиночке Петропавловской крепости, в ссылке, он, конечно же, отстал от практики революционной борьбы — вести о I съезде РСДРП пришли в Орлов с опозданием, и только в Москве он узнал, что после съезда продолжается такая же кустарщина. Узнал о деятельности заграничного «Союза русских социал-демократов» и твердо решил пробраться в Женеву. Нужно приобщиться, оглядеться, чтобы знать, с кем и куда идти.
Ни Красин, ни Бауман не знали, не думали, что в эти дни, когда один пробирался за границу, а другой готовился «затеряться» в Баку, решается их судьба. Решалась она 16 декабря 1899 года, и не где-нибудь, а на Особом совещании царских министров. В Особое входило всего шесть: министр юстиции Муравьев, земледелия — Ермолов;. финансов — Витте, внутренних дел — Горемыкин, народного просвещении — Боголепов и военный — Куропаткин. Ну и конечно же, не обошлось без директора департамента полиции Зволянского. На этом заседании никто не упомянул имен Красина и Баумана, не о них шла речь, но, сами того не ведая, министры, решали и их судьбу. Министры были не на шутку встревожены последними российскими событиями. То в Киеве обнаружена подпольная типография, то в Петербурге на стенах домов, на дверях, в цехах Обуховского завода, в почтовых ящиках появились листки антиправительственного содержания. Студенты и вовсе вышли из повиновения, и это несмотря на принятые тем же Особым совещанием «Временные правила об отбывании воинской повинности воспитанниками учебных заведений, удаляемыми из сих заведений за учинение скопом беспорядков». Скопом?! Толпами! Целыми институтами! За границей подняла голову эмиграция всех мастей и марок. Даже такой эмигрант, как толстовец Чертков, оставил на время свои душеспасительные проповеди и опубликовал «Листок Свободного слова», и все о тех же студенческих волнениях. «Листок» вызвал гнев шестерки. Каждому из них в этой «мерзкой книжке» досталось на орехи. Министр просвещения Боголепов на что уж тупица, но тут же узнал в строках озорной студенческой песенки на мотив «Через тумбу, тумбу раз…» групповой портрет шестерых:
А новый, XX век был уже на пороге. Новый век. Кто устал от старого, кто связывал неудачи, постыдные дела, крушения иллюзий с датами, начинающимися цифрой «18…», тот надеялся, что XX столетие предаст забвению пережитое, для этого достаточно только проснуться 1 января живым, здоровым и улыбнуться обновленному солнцу тысяча девятьсот первого года. Правда, до наступления нового столетия еще целый год, но к такому эпохальному событию, как смена века, готовятся загодя. Одни строят планы, другие мечтают, но каждый по-своему возлагает надежды на грядущее. Царю Николаю II, этому, по словам Л. Толстого, «Чингис-хану с телефоном», мнится, что канули в прошлое народовольцы-террористы с их бомбами, подкопами, револьверами, что охранительные начала самодержавия напугали трусливых, усмирили задиристых, уничтожили смелых, борющихся. И XX век грезился самодержцу в облике старой, допетровской Руси, где так уютно потрескивали свечи и тихо теплились лампады, пахло ладаном, и боярские шапки, собольи шубы да длинные бороды были символами мудрости а власти, а Мономахова корова — недосягаемой вершиной ее под сенью всевышнего. «Назад, к допетровским временам» — вот лозунг придворной камарильи. А это значит — засилье дворянства во всех областях государственной, политической, экономической и культурной жизни страны. «Назад, к Московской Руси» — это значит усиление и патриархальных начал в деревне, или попросту возрождение крепостнических порядков, это православие и самодержавие, как гранитный утес, стоящие на дороге к конституции. А для тех, кто не согласен? Есть Шлиссельбург. Есть Петропавловка. Есть централы, рудники, читинские, карийские, вилюйские остроги. Есть пули. Есть нагайки. И частокол штыков. За этим частоколом император будет чувствовать себя спокойно. В империи установится тишина, в империи будет порядок, в империи воцарится твердая власть. В этом не уверены либералы-земцы, им кажется, что куцая конституция была бы надежным громоотводом, клапаном, через который вышли бы революционные пары России. А так, без конституции, неуютно. Забраться бы головой под крылышко и чувствовать себя в крепости — вот мечта либерала. Увы, пока до него доносится тревожный ритм времени.
Новый министр внутренних дел Сипягин продолжал старую политику, но с еще большим рвением, чем его предшественники — всякие Толстые, Дурново, Плеве, Занки. Оп любил посмеяться над ними, вспоминая едкий стишок:
«ТИХИЙ» ПСКОВ

Князь Василий Оболенский любил эти утренние часы, когда еще не подан завтрак, но уже получены свежие газеты и можно не торопясь просмотреть самое интересное. Серьезные статьи он прочтет попозже, когда в земской управе соберутся статистики.
Ох уж эта псковская земская статистика! И смех и грех! Ни одного человека «без прошлого». Кстати, и он тоже на подозрении, хотя в департаменте полиции о нем наилучшие отзывы. Однажды подглядел: «Ни в чем предосудительном замечен не был, кроме близких сношений с местными поднадзорными». А как не быть в «близких сношениях», если все сослуживцы поднадзорные?
Глядишь, к началу нового, XX века древний, тихий, богомольный Псков станет революционной столицей матушки-Руси. Нет, это вполне серьезно! Не город, а прямо-таки «поднадзорная свалка». Если, положим, попался в Петербурге на полицейскую мушку, то по первому разу обязательно вышлют в Псков. Но охранки тут нет, местная полиция пока еще не пуганная. Оно и понятно — Псков не Питер и не Москва, ни стачек тебе, ни забастовок — бастовать-то некому. Вся промышленность в Пскове — пара свечных заводов, а если уж по совести, не заводы — сплошная кустарщина. Значит, пролетариата нет, кому же бастовать? Обывателю? Чиновникам? А может, монахам — их тут видимо-невидимо.
Князь, конечно, не марксист и в «пролетарскую панацею» не очень-то верит. Но наслышан и «сочувствует». Да и как тут убережешься от разговоров, когда кругом тебя или народники, или соцдеки, или бундовцы, да мало ли еще кто! Где ни сойдутся, там и баталии. И вот что удивительно — все, ну положительно все, хором клянутся в приверженности социализму. И только когда прислушаешься, начинаешь различать соло — одни, оказывается, за социализм крестьянский, другие — за пролетарский. В общем, не скучно в городе Пскове в конце этого невеселого XIX столетия…
Сегодня газеты его раздражают. Какой-то шутник фельетонист пустил утку, что якобы российское общество проспало наступление нового, XX столетия. И надо же, на следующий день газеты заспорили, зашумели и даже всерьез заговорили о том, что год 1900-й — это первый год века XX, а не последний XIX. Ерундистика! До ста считать не умеют! Вскоре вмешались профессора, и все стало на свои места. А газеты не унимаются — сразу прошлое забыто, ныне в моде прогнозы на будущее. «Век без кризисов!» «Век без социальных потрясений!»
А вот Стопани, тоже статистик и, конечно же, поднадзорный соцдек, математически высчитал, что революция в России обязательно разразится лет этак через десять, а может, и раньше. Но не позднее. И кризис уже наступил, Кому-кому, а статистикам это виднее других.
Князь неторопливо одевается.
Улицы Пскова вообще многолюдством не отличаются. Обыватель еще чаевничает, еще в полусне, а чиновники уже прошли. Когда Оболенский вышел из дому, наступила пора кухарок и хлопотливых хозяек, степенно шествующих в лавки и на базар.
Городовой у земства замерз и смешно подпрыгивает. Завидев Оболенского, сделал попытку стать смирно, но где ему, отъелся, ожирел фараон от безделья.
Псков городок-то — тысяч тридцать жителей, не больше. Правда, в последнее время прибывают, даже студенты появились. Но это высланные из столицы. И здесь студиозусы верны себе — безобразничают понемногу, затевают какие-то спектакли, лотереи, диспуты. С городовыми дерутся «в честь Льва Толстого», попивают горькую и превратили жизнь местных доморощенных филеров в сплошной кошмар.
Говорят, на днях ожидается новая партия этих длинногривых в связи с беспорядками в университете. Наверное, из столицы прибудут и «пауки». Местные шпики уже не справляются. Псковские «подметки», вроде этого городаша, сначала суетились, бегали, а теперь на все рукой махнули, ну разве за всеми уследишь. Они как рассуждают: де, мол, поменялись времена, лет этак пятнадцать-двадцать назад бомбистов разных выглядывали, подкопы всякие вынюхивали. А ныне крамола, она по домам гнездится, но в дома-то филеров и не пускают, А они и не напрашиваются, завели себе такой порядок — отбыли «присутственное» время, и баста, никаких сверхурочных, по домам щи хлебать!
Неделю назад из сибирской ссылки прибыл в Псков некто Владимир Ульянов. Фамилия громкая, брат того известного, что для Александра III бомбу готовил. Поговаривают, что и этот успел прославиться в среде социал-демократов. Стопани, так тот в нем уже души не чает, только познакомились, а он пророчит Ульянову великое будущее.
И только Ульянов обосновался на жительство в Пскове, как из Питера два шпика прикатили. Специально к нему полковник Пирамидов приставил. Филеры — столичные штучки, прохвосты и наглецы отменнейшие, говорят, на улицах с этим Ульяновым раскланиваются, и если к вечеру повстречают, то этак, с улыбочкой, покойной ночи желают. А Ульянов провел-таки мерзавцев, и где уж он там несколько дней отсутствовал, господское дело, но филеришки и ухом не повели, не почуяли, даром что нюх у них должен быть собачий. А вот не унюхали. И лучший местный шпик Горбатенко тоже прозевал. Потеха! Наверное, уже получил хороший нагоняй от начальства и теперь зашевелится, побегает.
Завтра Стопани обещал привести Ульянова к обеду. Князь иногда устраивает этакие «политические трапезы»…
В статистическом отделе не успел раздеться, подойти к своему столу, как на него налетел Александр Николаев. Человек горячий (и вологодская ссылка его не остудила), чувствуется старая народовольческая закалка! — Князюшка, челом бью, получил ваше приглашение на обед, и уж жмурюсь, предвкушая яства телесные и духовные. Но вот оказия — сегодня чуть свет нагрянул ко мне из Петербурга приятель. Старинный друг — Петр Эммануилович Панкратов. Человек нашего круга, куча новостей. Петруша-то сотрудничает и в «Праве», и в «Северном курьере», «Петербургских новостях», «Жизни» и кто его ведает, где еще. Право, если вы разрешите его привести, то этакий десерт будет!.. — Ну конечно, конечно, милости прошу, буду рад! — Вот и великолепно! Значит, до завтра… Оболенский обошел статистиков, которые завтра должны быть на обеде, и больше в земской управе не задерживался. Ему нужно самому проследить за всеми приготовлениями.
Полковник Пирамидов не любил, когда запаздывали очередные донесения филеров. Он должен знать каждый шаг тех, кто состоит на примете у столичной охранки. И не только в Санкт-Петербурге, но и в его далеких окрестностях. Например, в Пскове. Сейчас его особенно беспокоит поведение трех жителей Пскова — Владимира Ульянова, Потресова и Лохова. Совсем недавно полковник доносил в департамент полиции, что эта троица и после пребывания в ссылке не угомонилась. Устраивают в Пскове собрания, читают рефераты, громят ревизиониста Бернштейна. И на эти диспуты сходятся не только местные поднадзорные, но и приезжают из столицы. Пирамидов тогда же высказал догадку, что через этих приезжих Ульянов по-прежнему осуществляет руководство петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Этот «Союз» вообще у охранки как бельмо на глазу. Его громят, громят, а он возрождаетсявновь. И снова стачки, которые организует и направляет «Союз», требования вырабатывают, наверное, тоже в Пскове. Полковник считает, что было бы желательно собрать улики, да и арестовать всю эту псковскую компанию. Но одно наружное наблюдение таких улик не добудет. Поднадзорные — народ тертый, небось каждого шпика по имени-отчеству знают, и на рефераты «подметкам» не пробраться. Полковник сегодня делает ход конем, но на этот ход нужно разрешение департамента: «По имеющимся сведениям, в Пскове должен в настоящее время проживать бывший ссыльный Николаев, до последнего времени состоявший в переписке с одним из моих сотрудников… Я предлагаю устроить свидание с ним моего сотрудника в целях разведать о деятельности и образе жизни в городе Пскове Лохова, Потресова и Ульянова». Вообще-то в департаменте полиции сидят карьеристы, пекущиеся только о том, чтобы, не приведи господи, кто-то не отнял у них славу, так сказать. Вот и отписывай, испрашивай разрешения… Его бы воля — ордер на арест, и нечего нянчиться! Полковник немного схитрил. Панкратова он отправил в Псков еще раньше и с нетерпением ожидал от него сообщений. Но рапорта все нет и нет. Ужель неудача? Тогда придется скрыть все это от департамента. Пирамидов отложил донесение…
Обед удался на славу. Но Оболенский был очень удивлен, что Николаев, только вчера утром горевший желанием отведать яств от княжеского стола, так и не явился. На следующий день Оболенский узнал, что гость Николаева, этот самый столичный литератор, вдруг почувствовал себя плохо и ни на какие обеды идти не смог. Пришлось и Николаеву оставаться дома. Ну что ж, причина вполне уважительная, не бросать же друга в беде. Оболенский успокоил расстроенного статистика, шепнув ему, что через два дня, вечерком в субботу, вчерашняя компания снова будет у него на чай. Это даже лучше, а то вчера за обедом говорили мало и все внимание уделяли еде. Но уж за чаем!.. Вечером, накануне дня званого обеда, Николаев прискакал домой радостный. — Ну, брат, дело сделано. Ты приглашен по всем правилам княжеской учтивости, и уж тебя потрясут, сомневайся! — Это как так — потрясут? — А так — ты из столицы, нашпигован новостями, ну и пожалуйте за стол, а новости на стол… — Кто же это до новостей тут охоч? — Все, ну буквально все! И князь, и Ульянов, Потресов, Лохов, Смирнов, Стопани… Сам завтра убедишься. А сейчас давай спать, а то заявился ты ни свет ни заря. Я просто умираю от зевоты… Утром Николаева разбудили приглушенные стоны. Набросив халат, Александр Андреевич вышел из спальни. На диване в столовой сидел бледный Панкратов. Плечи он закутал одеялом, а подушку прижимал к животу. — Вот тебе и княжеская трапеза… — Но, Петруша, что случилось? — Старые беды. Но ты извинись уж за меня. — Я сейчас врача… — Нет, нет, только вот соды бы… Панкратов «заболел» уже под утро. Ему плохо спалось на новом месте, проснулся рано. Вспомнил вчерашний разговор с Николаевым. — и вдруг его словно кипятком ошпарило. Николаев назвал в числе гостей князя Стопани, сына известного врача, шурина известного генерала и человека хорошо известного охранке. Она с него глаз не сводит. Но если это тот Стопани, а фамилия редкая, то он может знать о связях петербургского литератора с департаментом полиции. И появись Панкратов на обеде… нет, лучше не думать о том, что может произойти. Положение не из приятных. Пирамидов небось через два-три дня затребует отчет о поездке, а что он ему может сообщить? Нужно непременно выспросить Николаева, тот ли это Стопани, о котором он думает. Потом снестись с полковником — пусть поглядит в своих архивах, действительно ли его, так сказать, дорожки перекрещивались с путями генеральского шурина? А если это действительно так, то нужно как можно скорее уезжать из Пскова.
Владимир Ильич жил в Пскове легально, с пропиской и не очень-то скрывал от филеров свои встречи с такими же, как и он, поднадзорными. Ничего нового охранка из донесений «пауков» не узнает. Его репутация в глазах департамента полиции тоже не пострадает — хуже не придумаешь. Но недаром он приехал именно в Псков, приехал, имея вполне сложившийся план создания марксистской газеты. Даже название у нее уже есть — «Искра». Только такая общерусская социал-демократическая газета, газета, доступная каждому сознательному рабочему, хорошо осведомленная о всех революционных делах, ведомая твердой рукой, может сплотить на единой политической платформе распыленные силы русских социал-демократов. А то ведь что получается? В 1898 году съезд в Минске созвали, о создании социал-демократической рабочей партии провозгласили. И это главная заслуга съезда. Два года прошло. Но по-прежнему возникают и исчезают комитеты и комитетики, кружки, группки. Взять хотя бы тот же Петербург — сколько там самостоятельных, зачастую враждующих друг с другом, но дружно именующих себя социал-демократическими организаций. Прежде всего, конечно, «Союз борьбы». Но «молодые», которые пришли на смену «старикам», организаторам «Союза», грешат экономизмом. Благо, хоть стачки организуют. А группа «Рабочая мысль»? Или «Рабочее знамя»? Или того лучше — группы «Борьба труда с капиталом», «Самоосвобождение рабочего класса», «Группа двадцати». Одно слово — кустарщина! Тут и образованный марксист голову сломает, разбираясь в разнобое всех программ, планов, прожектов, а уж рабочий и подавно запутается. Или на юге. Некоторые деятели южных комитетов понимают весь трагизм положения, но им кажется, что выход в немедленном созыве нового съезда уже летом этого, 1900 года, и не позже. Даже место заседаний избрали — Смоленск. Этакий тихий городишко… Они не понимают, что пока не будет выработано четкой программы, причем программы и минимума и максимума, пока нет ясного представления об организационных принципах партии, смоленский съезд станет попросту вторым изданием минского. По пути из Сибири сюда, в Псков, Владимир Ильич повидался со многими товарищами. В Уфе, где осталась отбывать окончание срока Надежда Константиновна, потом в Москве, Петербурге, Риге, виделся он и с Верой Ивановной Засулич. Она поддержала идею издания «Искры» и уверена, что Плеханов и группа «Освобождение труда» тоже одобрят и всячески помогут, а «Жорж непременно войдет в редакцию». Многообещающее начало. Без Плеханова Владимир Ильич и не мыслит издание газеты. Но теперь встал вопрос, где ее издавать? Собственно, этот вопрос уже отпал, ведь беглого знакомства с российской действительностью зимы и весны 1900-го достаточно, чтобы сделать неумолимый и, надо сказать, печальный вывод — газету печатать в России не удастся. Она провалится после выхода первых же номеров. И если серьезно думать о сотрудничестве с Плехановым, то тем более необходимо ставить издание за рубежом, ведь группа «Освобождение труда» как образовалась в 1883 году в Женеве, так и ио сей день пребывает там. I!о отсюда вытекает и ряд сложностей. Во-первых, уже сейчас следует подумать о выезде за границу. Помучить заграничный паспорт. Трудно, конечно, но необходимо выехать из России, так сказать, «официально». Важно воспользоваться настроениями, царящими и департаменте полиции, — мол, дальше едешь — тише будешь. А неофициально, да так, чтобы шпики не пронюхали, нужно еще провести здесь, в Пскове, совещание литературной группы, которая заявит о новом издании, обсудить это заявление. План готов, но как к нему отнесется Мартов, Потресов? К тому же необходимо еще раз съездить, тайно, конечно, в Петербург к Сетке, то бишь к Александре Михайловне Калмыковой. Удивительная женщина! Вдова сенатора. Не имея почти средств, кроме пенсии, она сумела открыть книжный склад, да так умно повела дело, что уже через несколько лет у склада годовой оборот составлял около 100 тысяч рублей. Когда-то Тетка преподавала в воскресной школе вместе с Надеждой Константиновной — вот тогда они и познакомились (Калмыкова всегда рада помочь деньгами). Тетка у полиции на подозрении, ну что ж, на сей раз нюх этих ищеек не подпел. Калмыкова устроила Ульянову и свидание с Верой Засулич. Вера Ивановна! Вера Ивановна! Милая, добрая и, несмотря на свои уже пятьдесят, все еще немного восторженная, влюбленная в Жоржа Плеханова. Опа человек, который никогда не жил для себя, — все для других. Для себя у нее было только одно заветное — Россия. Она мучительно скучала по ней в Швейцарии. Ей так хотелось русского сельчанина повидать — какой он там стал теперь; снег русский понюхать, а то в Швейцарии и снег пахнет жасмином. Много лет не решалась, а тут взяла и прикатила по чужому паспорту. Риск огромнейший, хотя, конечно, узнать в этой пожилой женщине ту юную народницу, которая средь бела дня стреляла в грозного градоначальника Трепова в его же собственном кабинете, трудно, очень трудно. Но если шпики дознались, что Засулич в России, то будут искать и, наверное, найдут. Нужно настоять перед Калмыковой, чтобы Веру Ивановну отправили обратно в Швейцарию. А то эта милая «террористка» в какую-то еще деревню собралась, видите ли, от полиции подальше, но в деревнях, наоборот, труднее спрятаться, это не города, где затерялся в толпе, затаился на явке. На днях должен приехать из Полтавы Мартов. Потресов уже в Пскове. Они костяк литературной группы. А из Петербурга прибудут Струве и Туган-Барановский. Вот с этими «легальными марксистами» придется повозиться, а может быть, в конце концов и отказаться от их услуг.
Петр Эммануилович Панкратов счел за лучшее незаметно покинуть Псков, хотя и знал, что его ожидают «громы небесные» полковника Пирамидона. Чтобы как-то оправдаться перед грозным начальством, он по собственной инициативе встретился с филером Горбатенко и дал ему новые инструкции — следить не только за Ульяновым, но и за всеми, кто у него бывает, и особенно брать на заметку и немедленно доносить по начальству о приезжих из других городов. Задача, конечно, не из легких, хотя Горбатенко знает в лицо почти всех псковских поднадзорных, и появление новых лиц должно броситься в глаза. Между тем «новые лица» уже появились в Пскове.
Небольшой домишко на Стенной улице неподалеку от старого крепостного вала — эту местность называют Петровский посад. Тихий, удаленный от центра, заваленный снегом в эти мартовские дни. Рядом с домом полосатая будка городового, похилившаяся, давно не крашенная. Обитатели улицы с городовым накоротке, да и проживает он здесь же, на посаде. Домик у будки снимает Любовь Николаевна Радченко. У нее две маленькие дочки — Женя и Люда. Городовому известно, что хозяйка дома выслана из Петербурга под гласный надзор полиции, проживала в Черниговской губернии, но перебралась в Псков, поближе к мужу, инженеру, служащему в Питере на заводе Сименса и Гальске, Муж навещает семейство не часто — дела! И по всему видно, трудно живется Любови Николаевне. Поэтому городовой не был удивлен, когда в тихий домик стали ежедневно захаживать какие-то два господина, очень приличного вида. Соседи сказали, что господа столуются у мадам Радченко. Оно и понятно, все же подспорье. А в тихом домике на Стенной улице порой бывает он как шумно. Здесь обосновался штаб будущей газеты. Здесь самый частый гость Владимир Ульянов, сюда забегают Стопани, Лохов, Кисляков — это все местные псковские социал-демократы. Тут подолгу засиживается Потресов, недавно прибывший из вятской ссылки и ставший вторым, после Владимира Ильича, членом образующейся литературной группы, которая и собирается издавать «Искру». Ждут не дождутся из Полтавы третьего — Мартова. Псковские «подметки» взяли этот дом на заметку, а Горбатенко даже зафиксировал прибытие нескольких незнакомых лиц» и доложил по начальству, что они «общались с В. Ульяновым». Полковник Пирамидов всполошился. Пусть теперь в департаменте оценят его прозорливость. Да, да, Ульянов и Потресов из Пскова руководят «Союзом борьбы». Шпики готовы прилипнуть к окнам дома на Стенной. Подсмотреть, а повезет — услышать. И невдомек «подметкам», что не всегда и не целыми вечерами Ульянов и Потресов «крамольничают». И часто через двойные ставни слышатся приглушенные рамами взрывы смеха. Шпики недоумевают, теряются в догадках. Если бы они могли на минуту очутиться в комнате, когда там звучит смех, то присутствовали бы при уморительной сцене — в столовой, заложив руки за спину, вышагивают две маленькие девчушки, одна с серьезной мордашкой восклицает: «Беренштейн!», другая тут же отзывается: «Каутский!» Добрый, дружеский шарж на беседы Ульянова с Потресовым, поставленный под руководством Любови Николаевны Радченко. Не заметить полицейской слежки просто невозможно, псковские «пауки» наделены медвежьими повадками. Но организаторы «Искры» со дня на день ожидают приезда столпов «легального марксизма» — Струве и Туган-Барановского: Владимир Ильич пригласил их в Псков, и если они согласятся с «Проектом заявления» редакции будущей газеты, то с ними можно, пусть временно, заключить соглашение. Впрочем, Владимир Ильич ни на минуту не сомневался в том, что и Струве и Тугану чужда идея завоевания политической власти пролетариатом. Но ныне положение «легальных» не из лучших, а потому на соглашение они наверняка пойдут. Что ж, надо быть справедливым — Струве и Туган большая литературная сила. Шпиков решили обмануть и принять Струве и Барановского не на Стенной, а в доме князя Оболенского. Князь не высказал излишнего любопытства, охотно согласился и по этому случаю обещал «закатить обед». «Подметки», конечно, кинутся к княжескому дому. Ну и пусть себе сторожат оболенские хоромы! Совещание же решающее, на котором будет зачитан уже подготовленный Владимиром Ильичем «Проект», состоится у Радченко, приглашенные сумеют пробраться туда in in меченными, им не привыкать. Городаш же не в счет. Струве и Туган Барановский выслушали «Проект» молча и так же молча согласились. Остальные три участника совещания всецело были с Ульяновым. Теперь Ильич мог вплотную заняться подготовкой к отъеду за границу. Опорный пункт «Искры», транспортно-техническое ее бюро будет в Пскове. В иных городах есть корреспонденты, имеются уже и агенты газеты. И, как знать, возможно, со временем появятся и свои подпольные типографии. Наступил апрель, затем май. Владимир Ильич добился-таки получения заграничного паспорта. Но прежде чем уехать из России, он нелегально побывал в Риге, Петербурге, Подольске, Уфе, заехал в Смоленск к своему любимому ученику по петербургскому рабочему кружку Ивану Васильевичу Бабушкину. Так закладывались опорные пункты будущей газеты. Наконец 16 июля 1900 года Ильич покинул Россию.
РАЗГОРАЕТСЯ!

Горы, куда ни глянешь, горы. Они похожи на театральные декорации. Лесные «бакенбарды» гор покрыты ржаво-красными потеками, а ведь сейчас не осень, сейчас по-русскому счету еще самое начало весны.
Поезд извивается среди гор, ныряет в туннели. От окна не оторвешься.
Наконец Женева. По ее улицам лучше всего пройтись пешком, тем паче, что у Баумана нет никакого багажа.
Уже через полчаса Николаю Эрнестовичу показалось, что он попал в огромный стеклянный ящик для часов. Бесчисленные зеркальные витрины буквально битком набиты часами. Часы как горы. Куда ни глянешь, часы, часы, часы. Выскакивают кукушки, вылезают гномы, и отовсюду слышно назойливое тиканье, перезвон. Часы огромные и микроскопические, дорогие и копеечные. Женева сразу показалась Бауману несерьезным городом — столица Швейцарии по-детски забавляется часиками.
Его путь лежит прямиком в кафе «Ландольт» — там собираются русские политэмигранты, там он найдет нужных людей. Он давно хотел познакомиться с Плехановым, со всеми членами группы «Освобождение труда».
Найдутся и товарищи, ускользнувшие от облав охранки.
В Швейцарии почти каждый житель знает немецкий. Николай Эрнестович с детства говорит на этом языке, поэтому он так быстро нашел улицу Консей Женераль. Именно с этой улицы дверь ведет прямо в залу, которую «оккупировали» русские политэмигранты.
Тяжелый медный блок на двери словно страж в каске. Бауман поднажал да чуть не выскочил на середину небольшой комнаты с невысоким потолком и массивными дубовыми столами.
В зале негромко рассмеялись:
— Сразу видно — новичок!
Сказано по-русски. Бауман обрадовался.
Через несколько минут он уже сидел за столом и внимательно слушал собеседника, силясь понять, стоит или нет сразу же расспрашивать о Плеханове, группе «Освобождение труда» или лучше подождать, оглядеться.
Оказалось, найти Плеханова нетрудно. Он и его группа так прижились в Женеве, что уже не заботились о конспирации, хотя в этом богоспасаемом городе полно соглядатаев русского департамента полиции.
Георгий Валентинович Плеханов поразил и увлек Баумана. И не своим барственным видом, величавыми Минерами, а невероятной, фантастической эрудицией, неиссякаемым остроумием, часто сдобренным хорошей дозой сарказма. Плеханов принял Баумана покровительственно, как вообще любил относиться к «практикам» революционной работы, себя же Георгий Валентинович причислял к «верховным жрецам», «патриархам» среди русских революционеров.
Присутствуя на встречах Плеханова с рабочими, студентами, Бауман невольно отмечал, что Георгий Валентинович все время «играет роль». Бауману даже показалось, что Плеханов сознательно оглушает собеседника своей эрудицией, остроумием и тем самым создает между ним и собой пропасть.
Плеханов любил и умел говорить, но слушатель из него был никудышный. Нет, он умел слушать того, кого хотел. Но таких было немного, прорваться через его «нежелание» удавалось не всякому. Так что поведать Георгию Валентиновичу о чем-то своем, выношенном, заветном и при этом услышать от него совет, дружеское напутствие — случай исключительный. И, не приведи бог, возражать Плеханову. Он тут же раздражался и уже безо всякого юмора напоминал спорщику о своих былых революционных заслугах.
Лето 1900 года на исходе. И вот однажды Николай Эрнестович узнает, что в Женеву приехал Владимир Ульянов. Он столько слышал о нем, читал его блестящие работы и теперь сможет лично познакомиться.
На встречу с Ульяновым Баумана пригласил Плеханов. К этому времени между «практиком» и «жрецом» установились доверительные отношения. Встреча должна была состояться не в Женеве — Ульянов с первых же дней пребывания за границей не забывал о конспирации. И поселился Владимир Ильич в деревенской гостинице, в шести километрах от Женевы.
Дачная местность Бельриве. На лужайке, под тенистым деревом, сидят Георгий Плеханов, Вера Засулич, Александр Потресов, Владимир Ульянов и только что прибывший из Парижа публицист Юрий Стеклов. Николай Эрнестович примостился несколько в стороне, чтобы вся живописная группа была перед глазами.
Плеханов и Ульянов стараются поначалу поддержать шутливый тон, в ход идут даже анекдоты. Владимир Ильич заразительно смеется, откидываясь всем телом назад. Но общая атмосфера совещания гнетущая. Плеханов настолько привык к собственной непререкаемости, что и слышать не желает о каком-то коллегиальном начале в издании газеты. Ульянов едва сдерживается, чувствуется, что для него не существует проблем самолюбия, для него возможный, повисший в воздухе разрыв с плехановской группой — целая драма, ведь «Искра» выношенное, уже любимое детище. Но без Плеханова он ее не представляет.
Бауман формально считался за группой Георгия Валентиновича, но, вслушавшись в слова Владимира Ильича, он соглашался с ним, брал его сторону. Именно в эти дни он осознал, что Ульянов — прирожденный вождь, вождь, которого не только выдвинула на это место история, но который и сам прекрасно сознает гное значение., Нет, он не навязывал собравшимся свою волю, все происходило как-то само собой, естественно и незаметно. И в конце концов Плеханов с его гораздо более богатым революционным опытом и обширнейшими познаниями отступил на задний план, чуть ли не потерялся.
Бауман именно здесь, в Бельриве, а затем в последующие дни в Корсье убедился в том, что Плеханов все же кабинетный мыслитель, теоретик, блестящий полемист, но не более, а Ульянов — кремень, трибун, такие и становятся народными вождями. Поделился своими наблюдениями с Юрием Стекловым, оказалось, что тот сделал точно такие же выводы.
Ценой огромных усилий и, конечно, выдержки со стороны Ульянова сумели договориться. В редакцию «Искры» вошли: В. Ульянов, Г. Плеханов, Л. Мартов, В. Засулич, П Аксельрод, А. Потресов. Было утверждено и «Заявление» редакции, в котором сжато, лаконично определялись задачи издания и пути решения этих задач.
Первое: создать «прочное идейное объединение, исключающее ту разноголосицу и путаницу, которая — будем откровенны! — царит среди русских социал-демократов..» Второе: «выработать организацию, специально посвященную сношениям между всеми центрами движения, доставке полных и своевременных сведений о движении и правильному снабжению периодической прессой всех концов России. Только тогда, когда выработается такая организация, когда будет создана русская социалистическая почта, партия получит прочное существование и станет реальным фактом, а следовательно, и могущественной политической силой».
Где же разместить редакцию, где издавать газету? И снова споры. Ульянов наотрез отказался от Швейцарии — здесь не спрячешь типографии, а ее нужно спрятать, иначе провал. Немецкие социал-демократы рекомендуют Мюнхен.
Плеханов решительно остается в Женеве. Аксельрод тоже не хочет уезжать, он обоснуется в Цюрихе. Остальные четыре редактора перебираются в Мюнхен.
Когда встал вопрос, с кем будет Бауман, Николай Эрнестович не колебался ни минуты. Только с Ульяновым. И вместе с ним он отправился в Германию. Владимир Ильич был доволен таким решением Баумана. Он не только интуитивно распознал в этом человеке задатки революционера-массовика, Ульянов и раньше слышал о практической работе «Грача» (как числился Бауман в подполье) по сколачиванию рабочих кружков, а потом и отделений «Союза борьбы».
Итак, в Германию.
Мюнхен. Четвертый по величине город Германии, столица Баварского королевства. Но не только. Во всей Германии да и во Франции, Англии, России не найти такого города, в котором бы насчитывалось 42 пивоваренных завода, города, производившего 3 миллиона гектолитров пива.
Статуи баварских королей, королевские замки взяты на строгий учет хранителями старины. Но никто не считал мюнхенских пивных.
Поэтому Бауман и не удивился, когда, разыскивая Ульянова, ныне носящего фамилию Мейер, забрел в небольшую пивную, владельцем которой оказался социал-демократ Ритмейер. Поначалу Бауман поражался: социал-демократы — и вдруг частная собственность? Теоретически германские социал-демократы, конечно не против, но когда еще эту собственность ликвидируют, а пока сосиски, пиво, раки приносили Ритмейеру вполне приличный доход. Во всяком случае, он имеет возможность снимать в доме по соседству с пивной несколько квартир. В квартире № 1 и проживает герр Мейер.
Небольшая, очень скудно обставленная комнатушка, к ней примыкает что-то вроде кухни. На гвозде возле водопроводного крана висит жестяная кружка. Больше никаких достопримечательностей. Герр Мейер живет без прописки, так надежнее, ведь германские жандармы редко отказывают в услугах своим русским коллегам, могут и проследить.
Владимир Ильич встретил Баумана с озабоченной деловитостью. Николаю Эрнестовичу придется многому научиться. Печатать, клеить, организовывать, да мало ли что должен освоить газетчик.
Сейчас Ильича беспокоят два вопроса: где в германском городе раздобыть русские литеры и где печатать? Впрочем, этот второй вопрос как будто бы разрешается с помощью немецких друзей. На Зенефельдерштрассе, 4 имеется типография М. Эрнста. Издатель Иоганн Дитц обещает свести с превосходным наборщиком, польским социал-демократом Иозефом Блюменфельдом. И пора подумать о технике транспортировки газеты в Россию.
Блюменфельд, или попросту Блюм, оказался человеком находчивым. Бауман искрение восхитился, когда Блюм заявил, что русским социал-демократам в печатании нелегальной газеты поможет… православная церковь.
Да, да, в Лейпциге, в лучших типографиях этой мировой столицы типографского дела, печатаются православные богослужебные и иные духовные книги. Шрифт отменный. У Блюма в городе масса знакомых печатников социал-демократов, они и «позаимствуют» два-три пудика шрифта.
Первый номер «Искры» печатался в Лейпциге. И за несколько дней до наступления нового века увидел свет. Передовая статья «Насущные задачи нашего движения» заглядывала в будущее и как бы вторила эпиграфу. Ее написал Владимир Ильич Ульянов: «Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного. И только тогда исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева: «…подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»
Париж. Набережная Сены. Тускло горят калильные фонари. Зимой здесь почти не видно влюбленных. Ветер и редкие прохожие. Недалеко от набережной на Рю де Греннель — русское посольство. В огромном Особняке тоже холодно, неуютно. Петр Иванович Рачковский бесцельно переставляет с места на место бронзовые канделябры. Сегодня его все раздражает. Но более всего — тайные агенты. Рачковский был невысокого мнения не только о своих осведомителях, но не жаловал и петербургское начальство из департамента полиции: жандармский офицер с университетским значком — насмешка над полицией. Рачковский ведает всей заграничной русской агентурой и в ответе за нее, А на кого опереться, кому довериться? Ну Гартинг — еще куда ни шло, набил руку на сыске, когда числился секретным сотрудником по партии «Народная воля». И главное, предан ему, Рачковскому, чего, например, не скажешь о Льве Байтнере или этом балканском идиоте полковнике Будзиловиче. Рачковский по роду своих занятий должен всех подозревать, и подозрительность стала его второй натурой. Он подозревает департамент в интригах против него, Рачковского. Некий Ратаев метит на его место. И чего ему надо: начальник особого отдела департамента, баловень общества, светский жуир? Заграниц ему захотелось, что ли? Сидя здесь, в Париже, трудно противостоять столичным карьеристам. Но и в департаменте полиции принято никому не доверять. Министр внутренних дел создал свою сеть агентов, которые должны вести наблюдение за всеми. И за Рачковским тоже. И это в такое-то время!.. Рачковского особенно беспокоит Швейцария. Она буквально забита и бывшими народовольцами, и социал-демократами, и бундовцами, и польскими и латышскими социалистами. В этой горной республике чрезвычайно либеральные законы. Достаточно эмигранту найти двух поручителей в том, что он действительно тот человек, кем назвался на таможне, и пожалуйста, живи себе как знаешь. Если угодно, заводи печатни, организуй диспуты, собирай сторонников — никакого тебе порядка! Здесь глаз и глаз нужен. А в Швейцарии «глаза» департамента представляет некий Исаков. Может быть, он образчик «нового стиля» в сыскном деле? Например, просьбы о деньгах Исаков шлет в департамент не иначе как в стихах! Русские эмигранты знают Исакова в лицо, издеваются, деньги взаймы предлагают на «благотворительные дела политического сыска». Эмиграция из России приобрела огромные размеры, только в 1900 году русских эмигрантов было почти четверть миллиона. И лишь малая их часть уехала легально по заграничным паспортам, остальные перебрались через границу без всяких документов. Но и те, кто убыл по паспортам, тоже неблагонадежные. Значительно возрос и приток людей, въезжающих в Россию. Эти наверняка везут недозволенные издания. Самые зловредные! Прежде всего, конечно, «изделия» плехановской группы «Освобождение труда», потом «Летучие листки» из Лондона, «Рабочее дело»… Да разве все перечислишь! Все зловредные… Закрыть издания он не может, его дело выявить транспортные пути, людей, занимающихся переброской недозволенной литературы через русскую границу. Что ж, он выявлял, и не один транспорт провалился благодаря его попечению. А что толку? Одни пути закрываются — другие открываются. Недавно из России департамент переслал ему «Заявление» об издании еще одной революционной, социал-демократической газеты «Искра». Начальство уведомляло, что, по имеющимся у него сведениям, таковая газета будет издаваться за границей — в Германии или Швейцарии. К ее изданию пристанут Плеханов, Вера Засулич и компания. Об этом прямо сказано в Заявлении». Возможно, примет участие и В. Ульянов. Приказано разведать и пресечь. А как это сделать? Самому, что ли, пуститься по городам и весям Европы, заняться внешним наблюдением как простой филер? Глупо! А кого послать? Нет у него надежных, вымуштрованных детективов. Не подготовили там, в Петербурге. Бывший директор департамента полиции генерал Петров держит в канцеляриях таких же недоумков, каков и сам. Они даже бумагу написать как следует не умеют. За примером далеко ходить не надо — на личном деле великолепного агента Виноградова (Евно Азефа) канцелярский писака вывел: «Сотрудник из кастрюли». Да, да, это не скверный анекдот. Когда разобрались, то оказалось, что Азеф предложил свои услуги департаменту в 1894 году, будучи студентом политехникума в городе Карлсруэ. В департаменте город Карлсруэ превратился в «кастрюли». Вот так-то!.. Или, скажем, как тот же, недоброй памяти Петров «пресекал» зловредную деятельность Владимира Бурцева. Того самого, который разоблачает за границей всех и вся и даже собирается издавать историко-революционный журнал «Былое». Смех и грех!.. Некая француженка и наверняка авантюристка предложила Петрову совершенно фантастический план поимки Бурцева. И генерал согласился не моргнув глазом. Проходит некоторое время — телеграмма: «Арестовала Бурцева на яхте в Средиземном морс». Генерал тут же кладет резолюцию: «Немедленно снестись с морским ведомством о командировании военного судна для снятия с яхты В. Л. Бурцева». Едва урезонили, а мог бы международный скандал разразиться. Генерала прогнали, но дух его витает в департаменте… Отыщи им типографию «Искры»! У Банковского после диалога с самим собой окончательно испортилось настроение. Он уже совсем собрался поехать куда-либо развлечься, когда по городской почте пришло письмо. Самое безобидное, коммерческое, но в правом углу стоял едва заметный крест. Банковский оживился. Донесение лучшего агента. Банковский зажег свечу и стал прогревать над ней бумагу. Агент сообщал о транспортной группе, возглавляемой цюрихскими студентами — латышами Болау и Скуби-ком. Судя по тому, что они посетили границу близ усадьбы Дегге на рубеже Германии и Курляндии, готовится переброска партии нелегальной литературы. Что ж, вполне возможно, что это как раз издания группы «Искры». В Петербург в департамент полиции полетела телеграмма: «…Болау должен на днях переправить через границу пять пудов революционных изданий. По ходу дела было бы желательно задержать только транспорт, давши возможность вернуться Болау за границу…» Получив донесение Банковского, Батаев немедля приказал помощнику начальника Курляндского жандармского управления ротмистру Вонсяцкому перехватить транспорт. Вонсяцкий — само рвение, он жаждет чинов, орденов, а посему уже через несколько дней на столе у Багаева депеша: «…В прусской пограничной корчме, отстоящей в 3-х верстах от Палангенской пограничной заставы… находится сейчас около пяти пудов политической контрабанды, предназначенной к водворению в Россию…» Это только так кажется, что на границе тишина, что здесь никто лишнего шага не сделает, и только жандармы пограничной службы — в черных шинелях на прусской стороне и синих на русской — как вороны на снегу. На прусской стороне у самой границы утонула в снегу литовская деревушка. Несколько домиков и корчма. Корчма редко пустует. Она ведь не столько питейное заведение, сколько своеобразный клуб, где обмениваются новостями, просто толкуют о житье-бытье. Корчмарь — тщедушный мужчина неопределенного возраста, его буфетная стойка не блещет чистотой и разнообразием закусок. Корчма эта — бельмо на «всевидящем» оке жандармского начальства. Ну разве могла бы она существовать, если бы доходы корчмаря составляла только продажа водки? Давно бы прогорела. А она стоит тут с незапамятных времен, и корчмари из поколения в поколение самые зажиточные люди в деревне. Ведь главное для них не водка, а контрабанда. Управление пограничной жандармской службы много раз приказывало: «поймать с поличным», «прикрыть»… Но разве местный жандармский чин сам себе враг? «Прикрыть»? А как тогда на жалованье семью прокормишь? С корчмы же он имеет приличный доход, причем постоянный. Особенно удается поживиться, когда через границу из России переправляются группы беспаспортных эмигрантов. Тут уж грабь, не зевай. Но в последнее время контрабандисты занялись рискованными делами — стали протаскивать нелегальную литературу. Литовские богослужебные книги — на них прусским жандармам плевать, пусть там у русских голова болит, а вот издания русских эмигрантов — социал-демократов, листовки… Пропустишь — и не дай бог, на той стороне задержат, считай, что лишился места. Николаевская и кайзеровская жандармерия рука об руку работают.
Приглушенный снегом топот лошадиных копыт и… отчаянное дребезжание колесной повозки ворвались в корчму и сразу пресекли разговоры. Хозяин проворно покинул стойку, выскочил во двор. В открытые ворота влетели взмыленная лошадь и тарантас. Ворота тут же захлопнулись. В корчму торопливо вошел хозяин, за ним еще двое, и никто не удивился, хотя все видели, что когда тарантас въезжал во двор, в нем сидел один лишь кучер. Вновь прибывшие юркнули за трактирную стойку и, словно прошли сквозь стену. Хозяин, тяжело отдуваясь, вытирал полотенцем стаканы и свою взмокшую лысину. Через несколько минут снова послышался лошадиный топот. И снова замер у ворот трактира. С треском отскочила калитка. Здоровенный рыжеусый жандарм в черной каске с орлом, не задерживаясь во дворе, ввалился в зал. Хозяин почтительно изогнулся. Жандарм что-то тихо сказал ему, потом указал пальцем на окно. Рука хозяина полезла в карман фартука. Жандарм ушел. С ним ушли почти все завсегдатаи корчмы, осталось человек пять-шесть. Им было известно, что те двое, которых разыскивают жандармы, латыши. Недавно они предложили контрабандистам регулярно переправлять в Россию нелегальные издания, причем издания не латышские, а русские. Литература пойдет большими партиями. Хлопот с ней не оберешься, этого латыши не скрывали. И не обещали «златых гор». Противоправительственные издания? Есть над чем подумать. Тут жандармы рисковать не станут. И деньги не помогут.

И опять-таки переправляли, но мелкими партиями, на себе. А вот сегодня латыши просят перебросить двенадцать увесистых тюков. На себе таскать — год не перетаскаешь! Оставшиеся в корчме стали сообща вспоминать все хитрости, все уловки. Каждый знал их немало, но вот беда: на дворе зима, она-то все дело и портит. Летом по реке — как удобно. Ночью утопил тюк в условном месте, следующей ночью его выловят свои люди с той стороны. Можно и под водой на канате дотянуть до другого берега, рыбу-то им разрешают ловить как на русской, так и на германской половине реки. Тарантас с двойным дном? Старо! Знают о нем прожженные пограничные досмотрщики. Можно сана приспособить, но тогда надо что-то навалить на них для отвода глаз. Если дрова или сено, не поверят, за этим добром за рубеж не ездят. — Я тут мебель приловчился возить из Палангена. Далеко, правда. Зато в шкаф даже людей сажаю. Веревками дверцы опутаю, дышать закажу, и ничего, ни разу не попался… — «Мебельщик», пожилой, потрепанного вида литвин, выжидающе замолчал. — А сколько тюков войдет в твой шкаф? — Думаю, что четыре, если распаковать и вроссыпь. — Значит, три ездки? Много. Заподозрят. «Мебельщик» и сам понимал, что три ездки даже в течение полумесяца много. А потом, где он наберет заказы на такое количество шкафов? Как ни крути, а если браться за переброску, то придется тащить тюки на себе, да и все разом. Много носильщиков — больше риска, но ничего не придумаешь.
Ночью ударил мороз. Потрескивают деревья, снег звенит под ногами. От дерева к дереву, обходя открытые места, подсвеченные луной, движутся странные горбатые тени. Только тени могут передвигаться в этом высоком снегу, только тени могут двигаться неслышно. Лес прорезает глубокий овраг, поросший низкорослым ельником. Тени сползают с крутизны и исчезают. Утром в Курляндии, в усадьбе Дегге, переполох. Русские жандармы окружили невзрачный домишко, никого не подпускают. На границу торопливым шагом прошли усиленные дозоры. Жандармский ротмистр Вонсяцкий который уж час бьется, допрашивает местных жителей: как, какими тропами через заснеженный лес, через пограничные секреты могли лопасть в усадьбу двенадцать тюков с литературой? Жители молчат. Они-то знают эти тропы. Говорят, первый блин всегда комом. Слабое утешение. Провал первого транспорта «Искры» настораживает. Где-то допущена ошибка, просчет. А как дорого далась организация опорных пунктов «Искры» в России и за границей! И все напрасно! Если транспорты будут проваливаться… Конечно, остаются еще одиночки — студенты, сочувствующие. Они могут провезти на себе пяток-десяток экземпляров. Но при такой кустарщине газета не выполнит своей роли коллективного организатора партии. Где же выход? Владимир Ильич заканчивает очередное письмо: «Вообще весь гвоздь нашего дела теперь — перевозка, перевозка и перевозка. Кто хочет нам помочь, пусть всецело наляжет на это». Вот именно, «наляжет», здесь не приходится жалеть усилий. Транспорт доверили студентам-латышам Скубику и Ролау, но они в чем-то просчитались. Транспортом должен вплотную заняться Николай Эрнестович Бауман. Опытный конспиратор, он сумеет наладить доставку газеты. Осип Таршис ждет сегодня три пуда литературы. Ее должны доставить на явочную квартиру в небольшом погрангородке Кибарты. Три пуда — это сотни экземпляров газеты «Искра». Обещали также переслать несколько сотен брошюр Маркса «Классовая борьба во Франции» и еще что-то. Впору на телеге везти! Придется нанять извозчика. По железной дороге ехать опасно — уж очень тщательно проверяют багаж на всех пограничных станциях, а в наемной карете ничего, можно проскочить. Извозчики курсируют между Кибертами, Мариамполем и Ковно. Только на мосту перед въездом в Ковно стоит таможенник. Авось пронесет, или чиновник отвернется, получив в лапу золотой. Солнце склонилось к краю земли, и скоро потянет вечерним заморозком. Вернутся хозяева, придут и долгожданные друзья с тюками. Первыми пришли хозяева. Они были молчаливы, то ли привыкли ни о чем не расспрашивать гостей, ожидающих груз из-за кордона, то ли притомились за день и не до разговоров теперь — поесть бы да на печь… На дворе быстро смеркалось. Таршис забеспокоился — ведь нужно договориться с возницей, чтобы завтра еще затемно уехать никем не замеченным. Возницы обретаются на съезжем дворе, у трактира. Самому идти туда опасно, хозяева уже спят, а друзья запаздывают. Кажется, придется снова дневать в хате, но просидеть уже не «пустому», как сегодня, а с тюками — это самое опасное. Заскрипела петлями дверь, кто-то чертыхнулся, споткнувшись о высокий порог. — Наконец-то! Скорее к съезжей, возчиков бы достать… — Уже сходили, сговорились. Еще только-только проглянуло утро, когда от трактира отъехала пролетка. Тяжелая корзинка мирно покоилась в ногах седока. Осип бодрствует, с трудом преодолевая сонливость. Хочется есть и спать. Он так и не прилег в эту ночь — часов у него нет, долго ли проспать. Поесть ему тоже никто не предложил, а трактир был еще закрыт, когда они тронулись в путь. Теперь до Мариамполя, там можно закусить, сменить извозчика и в Ковно. Но закусить пришлось раньше. Возница попался стреляный, он чуял, что седок не простой — наверняка контрабандист, а у контрабандистов должны водиться денежки. Пусть раскошеливается — и поит, и кормит в каждом придорожном трактире, да за проезд плату не обычную дает, а поболе. Таршис и кормил, и поил, и плату повышал. Возница же совершенно обнаглел — останавливался прямо посреди дороги, в лесу или в поле, и требовал денег вперед, грозил высадить с «контрабандой», да еще и полицейских прислать — они успеют, все одно, с таким грузом на плече далеко не убежишь… И Мариамполе Осипа ожидал еще один транспортер. Таршис обрадовался товарищу: еще бы, что бы он без него делал, деньги кончились, а это означало, что он мог бы засесть с корзиной в чужом, незнакомом городе на неопределенное время. К Ковно подкатили уже вечером. Из темноты вышел таможенник. Осип успел шепнуть второму транспортеру, что они незнакомы. Если задержат, то Осип останется, а тот должен поспешить в город, осмотреть квартиру, предупредить товарищей. — Стой, что везете? — Газеты! — Это была правда, и Таршис на это рассчитывал. Если корзину вскроют, увидят газеты, а какие, в кромешной тьме разобрать будет нелегко. Извозчик с товарищем укатил. Осип остался. Чиновник ждал, что ему сунут «в лапу», по у транспортера карманы были пусты. Осталась лишь одна неприкосновенная золотая пятерка. — Открывай! Газеты, брошюры, они мало интересовали таможен ника. Другое дело — чай, мануфактура, всякие там I дамские безделушки. — Зачем столько газет? — Утром я должен развезти их по киоскам Ковно. Прошу не задерживать, иначе вам же придется покрывать нанесенные убытки. Не стоило угрожать этой скотине. Собственно, какое ему дело до чьих-то убытков — он на посту, несет государственную службу. Вспыхнула спичка, вырвав на миг из тьмы злое лицочиновника, и погасла. И вторая, и третья… Напрасно таможенник пытался их зажечь, чтобы прочесть название газет, с Немана задувал холодный, осенний ветер. — Оставьте литературу для досмотра. Вас я задерживать не стану… Этого еще недоставало. Если утром жандармы увидят несколько номеров «Искры», им станет ясно, каким путем газета проникает в Россию. Провалится с таким трудом налаженная дорога. Придется раскошеливаться. Таршис лезет в жилетный карман за заветной пятеркой. — Помогите-ка мне взвалить на плечи корзину… Чиновник топчется в нерешительности. Кто его знает, может быть и правда, перед ним агент по распространению газет? Задержишь, утром выяснится, что в корзине нет запретного груза, тогда прощай пятерка, которая даже в этой тьме поблескивает притягательным золотым отсветом. Золото победило, хотя сомнения остались. — Ладно, давайте экземпляры изданий и идите поскорей. Таршис кинул чиновнику местную газету, которую купил по дороге. Сделать это было легко: в темноте таможенник не видел, откуда она была извлечена. Корзина придавила плечи непосильным грузом С трудом перебравшись через мост, Осип споткнулся, упал, чуть было не упустив бесценную ношу в воду. Попробовал перекатывать корзину с боку на бок, но вскоре понял, что этак он до утра не пройдет и нескольких улиц. Ведь вот всегда так — усыпал золотом путь сюда, в Ковно, пятерка помогла миновать таможенника, но какой от этих трат будет прок, если утром первый же городовой потребует открыть корзину? Хотя бы гривенник или лучше пятиалтынный завалялся! В тщетной надежде Осип выворачивает многочисленные карманы брюк, пиджака, жилетки. Что-то падает на камни! Монета! Он слышал металлический звон. Но какая? Если пятак, то и шарить не стоит — пятак не спасет. Нет, кажется, монета серебряная, пятак упал бы тяжело, глухо, да и к тому же он большой, раньше бы его приметил. Спичек нет. Таршис, сидя на корточках, ощупывает руками грязный булыжник. Эта монета — последняя надежда, и он не тронется с места до рассвета, может быть, тогда найдет. И все же нашел! Пятиалтынный, какое счастье, просто повезло! До стоянки извозчиков он еле-еле доплелся.
«Дом у Цепного моста» знает каждый петербуржец. И трепещет. Всякий раз, когда экипаж подъезжает к Летнему саду, директор департамента полиции Зволянский велит остановить лошадей. Не спеша вылезает из кареты и любуется домом. Здание у Цепного поставил граф Остерман в конце XVIII века, потом его подновили в стиле ампир. Разные люди жили в этом доме, и по большей части оригиналы, если не считать, конечно, медика, коллежского асессора Флейшера. Как-то, просматривая архив вверенного ему департамента, Зволяпв ский наткнулся на старое объявление: «Медик коллежский асессор Флейшер, который лечит всякого роду сильные нутренние и наружные болезни без изъятия сим публике извещает… Жительство же он имеет Фонтанке, против Михайловского замка, в доме ею сиятельства графа Остермана, № 123». Лечит «нутренние без изъятия»! Символично… В 1833 году дом был приобретен правительством Николая I для шефа жандармов Бенкендорфа. А третье отделение «лечило нутренние болезни», но с изъятием. И ныне в департаменте полиции тоже «лечат с изъятием». Директор после обхода дома важно шествует к. парадному подъезду. На первый этаж ведет короткая, но широкая мраморная лестница. Здесь все пышно, все величаво. Тропические растения, белая с позолотой мебель. Направо, через коридор, видна дверь в домовую церковь, а рядом узкая, длинная комната, увешанная портретами российских государей императоров На первом этаже казначейская, на втором — картотека — «книга живота», выше — секретные отделы, библиотека, канцелярия. Зволянский задерживается у «книги живота», выдвигает ящики. Сия картотека — гордость департамента. Сколько сил, ума, таланта потребовала она от составителей! Сколько жизней, слез, трагедий хранит она! Здесь миллионы карточек. Даже если человек ни и чем «преступном» не замешан, но он рабочий или студент, земский начальник или фельдшер, все равно его заносят в «книгу живота». Зволянский идет в свой кабинет, он рядом с секретнейшим отделом «личного состава». Напротив отдел перлюстраций — хранилище выписок из писем, фотокопии, вырезок из русских и иностранных изданий, в общем, сюда стекается «компрометирующий материал» на всех и на вся. За окном январская стужа. Новый век начался крепчайшими морозами. А в кабинете приятное тепло от калориферов, можно приказать затопить и камин. В приемной Зволянского дожидается начальник особого отдела Ратаев. Он почтительно распахивает дверь. — Сергей Эрастович, смею доложить: ваше приказание исполнено. В Курляндии захвачен транспорт социал-демократической литературы и, главное, три тысячи экземпляров газеты «Искра». Вы изволили особо интересоваться этим изданием. — Поздравляю, дорогой, поздравляю!.. А ну, покажите мне скорее газету. — Зволянский радостно и как-то плотоядно потирает руки. Первый номер «Искры» лег на стол директора. Тонкая плотная бумага. Такая не порвется, и газету нелегко «зачитать». Текст мелкий, набор страшно экономный, без полей. Заголовок под самым верхним обрезом — «Искра». И рядом — «Из искры возгорится пламя». — Так, так… Бунтовщики-декабристы помянуты. Так сказать, революционная преемственность и прямой призыв к восстанию, революции. — Совершенно точно изволили заметить, Сергей Эрастович. Прошу обратить внимание на рубрики газеты и отдельные статьи: «Хроника рабочего движения и письма с заводов и фабрик», «Из нашей общественной жизни», «Иностранное обозрение», «Из партии», — «Почтовый ящик»… — Солидно поставлено. И глазное, у этих издателей неплохая информация, свои корреспонденты на местах, свои агенты в городах и губерниях. Кстати, стиль вот этих заметок: «Насущные задачи нашего движения», «Китайская война», «Раскол в заграничном Союзе русских демократов» — удивительно одинаков. И он напоминает мне стиль какой-то нелегальщины, которую я недавно читал. — Так точно, Сергей Эрастович! И мне он напомнил «Заявление редакции «Искры». И по мысли и по стилю. И в передовой и в «Заявлении» автор бьет в одну точку: главная задача политической газеты — партия, социал-демократическая партия. — Да, одна рука, одна рука!.. Но чья же? Во всяком случае, не Плеханова, его-то ручку я знаю хорошо… Ратаев ничего не мог ответить. Он тоже не знал, кто написал эти статьи, не знал, кто является душой, мозгом этой новой и так серьезно заявившей себя газеты. Может быть, и Ульянов, так думает Рачковский. — Простите, ваше превосходительство… — Заходите, заходите, Леонид Иванович, присаживайтесь. У нас сегодня славный день. Вот поглядите-ка! Начальник отдела политического сыска подошел к столу, взглянул на развернутый лист «Искры» и, как бы осуждая веселость директора департамента, посуровел. — Ваше превосходительство, признаюсь, думал, что буду первым, кто возьмет на себя неприятную миссию доложить вам о проникновении в Россию новой зловредной политической газеты. Опоздал! — С этими словами Леонид Иванович положил на стол еще один экземпляр «Искры». — Позвольте, позвольте, но ведь транспорт захвачен на границе. Откуда у вас этот экземпляр? — Изъят во время обыска квартиры студента Логачева на Васильевском острове. — Значит, один транспорт мы задержали, другой прошел? Так?.. Я вас спрашиваю! Что вы молчите, Ратаев? Не могу знать, ваше превосходительство! Не можете знать? Немедленно свяжитесь с Рачковским в Париже. Он обязан знать… И чтобы я больше не слышал об этой «Искре»! — Слушаюсь! Чиновники поспешили вон из кабинета разгневанного директора. Но ни Зволянский, ни Ратаев не знали, что Владимир Ильич и Бауман послали в Россию не один и не дна «транспорта». «Искра» осваивала сразу несколько самых различных путей.
ГОРЯЧЕЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЯ

Второй уж год Леонид Борисович Красин живет в Баку. Похоже, что департамент полиции действительно потерял его след.
Лето 1901-го. Полуденное солнце выжгло тени. Они съежились, стали короткими. На улицах Баку ни души, только городовые изредка высовываются из своих будок. Видик у них неприглядный — усы обвисли, белые рубахи взмокли, словно на «блюстителей» кто-то выплеснул ушаты воды. Сонными глазами провожают они открытую коляску.
Красин торопит кучера. Еще минута, и он тут же, посреди улицы, стащит с себя и воротничок и галстук. Пот заливает глаза.
Миновали порт. Наконец и таможня.
— Есть кто живой? — Голос Красина звучит глухо, хрипло.
Тишина. Потом возня, бормотание. Красин оглядывается. Из-под высокой стойки, как восходящая луна, появляется лысина, на ней крупные капли пота. Затем высунулся красно-фиолетовый нос, оседланный черным пенсне на черном шнурке. Пенсне скользит по потной переносице, вот-вот сорвется. Так и есть… закачалось на шнурке. Послышалось проклятье. Наконец над стойкой распушились усы.
— Чего надо? Эк, нелегкая носит!..
Красина разбирает смех. Таможенный чиновник, спасаясь от солнца, забился под стойку, да, видно, и сомлел там.
— Повестка прибыла. Вот, извольте!
Чиновник поймал пенсне, поднес к глазам, хмыкнул п засеменил в глубину конторы, надолго исчез, потом наконец, появился со здоровенным альбомом. Переплет толщиной в палец.
— Распишитесь!
Красин расписался, но таможенник не спешил.
Еще раз прочитав адрес и фамилию получателя, он противненько хихикнул:
— Э-э, позвольте полюбопытствовать, господин… э-э… Красин. Ведь вы, насколько нам известно, инженер? Да-с? А посылочка эта-с разве что детям малым… — Таможенник неожиданно ловко, не разрывая бандероли, вытащил альбом и привычным движением оседлал пенсне на копчик фиолетового носа.
Красин глянул… Вот так номер! Альбом заполнен рисунками зверей! Картинки из рук вон плохи: слоны похожи на коров, тигры напоминают дворовых собак, а нее птицы — вороны…
Красин невнятно пробормотал о жуликах-поставщиках, поспешно схватил альбом и выскочил из таможни.
Это срочная посылка. Дело не в картинках, переплет — вот ее ценность!
…Бухгалтер Николай Петрович Козеренко с тревогой ожидал возвращения Леонида Борисовича. И так каждый раз, если Красин сам отправлялся на таможню за очередной посылкой. Зачем он рискует? Мог бы и кто-нибудь другой получить, нужно лишь только пред упредить за границей, чтобы изменили адрес.
Сколько раз он увещевал Леонида Борисовича, по тот лишь отшучивается:
— Другой, говорите? Например, вы? А нуте-ка, ба тенька, дайте ваш паспорт… Липа, развесистая клюква, фальшивочка! Нет, не спорю, не спорю, состряпана мае терски! И у Дандурова липа, да и остальные члены Бакинского комитета живут под чужими личинами. Только у меня свой, собственный паспорт. А на таможне сидят прожженные бестии. И потом как-то несолидно: бухгалтер Козеренко выписывает из Германии технические журналы или, скажем, из Парижа дамские шляпки. А главный инженер и начальник строительства иное дело. Он принят в обществе, он молод, он жуирует развлекается, преподносит дамам парижские шляпки. Так что, батенька, сникните…
Хорошо сказать — «сникните», когда жандармы шастают вокруг стройки, как трущобные псы, чующие кость.
И ведь учуяли, учуяли! Несколько дней назад нагрянул урядник со стражниками. Сторожа их не пустили. Урядник избил сторожа, а все же должен был уехать восвояси ни с чем, Козеренко тогда просил Красина не делать шума, но Леонид Борисович не послушал — пожаловался местной администрации, ну, известно, нефтяные тузы за него горой, для них ведь электростанция строится. Уряднику выговор. Ну а как вновь явится, да с ордером? Тогда не отговориться. И спрятаться-то негде. Куда ни сунься, всюду «уличающие вещественные доказательства». Разве только до подвала машинного зала «паукам» не добраться: у входа нефтяные форсунки, чиркнул спичку — и не подойдешь.
Козеренко высовывается в окно, вглядывается в дорогу, ведущую из Баку, Пусто, пыльно. А ведь Красину давно пора вернуться.
У ворот прохаживается сторож Дандуров. Мужнина видный, косая сажень в плечах, церемониться не приучен. Незваного гостя за шиворот и от ворот поворот. Но, видно, и Дандуров нервничает, ходит взад-вперед, взад-вперед. Кому-кому, а уж Дандурову спокой-г гния не занимать, Козеренко помнит, как месяца два назад приходит сторожу телеграмма из Кутаиси: «Браги искусала бешеная собака». Что за наваждение? Брат у Дандурова в Кутаиси действительно есть, да и бешеных собак в этом городишке хватает — дело обычное. Дандуров к Красину — беда, Леонид Борисович, нужно к брату съездить, навестить.
Красин прочел телеграмму и горестно покачал головой:
— С братом вашим, дай бог, ничего не случилось, и вот с одним нашим товарищем действительно произошла беда — арестовали его. Нужно ехать в Кутаиси, и именно вам. Нужно освободить арестованного и самому не попасть.
И что ж, Дандуров съездил, освободил, а как — на нее расспросы только усы топорщит: мое, мол, дело.
Козеренко прозевал момент, когда к дому подъехал Красин. Увидев в дверях Леонида Борисовича, бухгалтер бросился к нему. Красин удивился:
— Что с вами, Николай Петрович?
— Господи, да я тут черт те что надумал: или жандармы схватили или еще какое несчастье…
— Зачем же так нервничать, не положено, батенька! Задержался потому, что заезжал к Ладо Кецховели, передал ему те восемьсот рублей, что удалось собрать для покупки типографского станка.
Козеренко оживился — он уже не помнит недавних страхов.
— Леонид Борисович, а разве удалось Кецховели получить от губернатора Свечина разрешение на покупку типографской машины?
— Как бы не так! Ладо хитрый, хорошо знает: по явись он у губернатора — сцапают обязательно. Вот он и придумал блестящий ход. В Тифлисе у него уйма знакомых — рабочих типографии, они-то и раздобыли губернаторские бланки, нашли формуляр подлинного разрешения на покупку машины, Отпечатали все чин по чину, перевести на кальку губернаторскую подпись было уже легко. Соорудив таким образом документ, Ладо явился в нотариальную контору и снял со своей «липы» нотариальную копию. Теперь у него на руках бумага, заверенная нотариусом. И ни одной поддельной подписи, их покрыла нотариальная печать. Только вот машина стоит девятьсот рублей, а я передал ему восемьсот, и у меня ни копейки… — Красин кладет перед Николаем Петровичем альбом.
— Н-да… подарочек. Только Ибрагимке им и забавляться!
— Это кто же такой Ибрагимка?
— Сын сторожа. Самый чумазый и самый расторопный парнишка на строительстве.
— Эх, Николай Петрович, как подумаешь об ибрагимках, ваньках, кольках, которые бегают вот так, без штанов, грязные, неграмотные, кулаки сжимаются. Вы картинки-то из альбома Ибрагиму и правда подарите, а вот переплет давайте вскроем — в нем наверняка что-то есть.
Козеренко ловко вспорол ножиком твердую картонную обложку, в толще ее были два номера газеты «Искра» и письмо. Надежда Константиновна Крупская спрашивала бакинцев, есть ли у них опытный печатник в типографии, чтобы прямо с матриц печатать газету, напоминала, что Ильич подробно интересовался возможностями подпольной типографии.
Да, они помнят то письмо Владимира Ильича в отпет на предложение перепечатывать «Искру» в Баку: примите во внимание, что в нашем листе (4 стр.) до 100 тысяч букв (и это в месяц!): сладит ли с этим тайная типография?? Не убьет ли она с чрезмерно большим риском тьму денег и людей?..»
Было над чем задуматься.
Авель Енукидзе никогда не думал, что так трудно прощаться с паровозом. Как с человеком, другом… Сегодня он уже завершил последний рейс, а завтра на его место помощника машиниста заступит новый. Авель же должен целиком отдаться партийной работе, так решили в Бакинском комитете РСДРП. От паровоза несет жаром неостывшего котла, он тихонько и как-то жалобно отдувается, всхлипывает, ему тоже не хочется расставаться с Авелем. Утром, получая в депо расчет, Авель обнаружил, что ему положена премия за пробег и ремонт локомотива. Деньги — подарок паровоза, этого потного, страдающего одышкой друга. Деньги приятно похрустывают в кармане. Теперь у Кецховели будет на что выкупить печатный станок!
Когда Енукидзе ввалился к Кецховели, тот в который раз пересчитывал деньги, полученные от Красина. Но как ни считал, а восемьсот рублей никак не оборачивались девятьюстами. Остается одно — поехать в Тифлис, там друзья-типографщики соберут. Но пока будешь ездить, ждать, машину кто-либо перекупит, а новую и за тысячу не приобрести. Енукидзе понял причину грустной задумчивости друга. — Держи! Кецховели не сразу сообразил, что Авель протягивает ему недостающие деньги. — Откуда? Еиукпдзе хитро улыбается. — Не беспокойся — все честно! Машину купили на следующий же день. И так хотелось торжественно водворить ее в специально нанятую квартиру на Воронцовской улице! Но законы конспирации суровы. Помпы не было. Было тихое, ликование. Дом принадлежал татарину Али-Бабе. Спрятать от хозяина печатный станок совершенно невозможно. Алл-Баба редко выходил на улицу, был добр, восторженно смотрел на Кецховели и говорил, что делать книжки — самое хорошее занятие. На следующий день Красин навестил типографию и пришел в ужас. Станок, наборная касса, ведра с краской, нарезанные листы бумаги находились в одной большой комнате. Тут же на скамеечке сидел хозяин и как зачарованный смотрел на машину. Рядом вертелся его маленький сын Нури. Красин отозвал Кецховели в сторону. — Что вы делаете? Ведь через день-два по всему Баку будет известно, где Цаходится нелегальная типография! Кецховели только весело рассмеялся. — Что и говорить, риск известный имеется. Но, дорогой инженер, вы плохо знаете азербайджанцев, Баку, мусульманскую часть народа. Наш хозяин и представить себе не может, что существует какая-то противоправительственная пропаганда. Он уверен, что Давид Деметрашвили — это я, ваш покорный слуга, — не кто иной, как делец, мелкий хозяйчик. А к тому же я не мусульманин. О, это много значит для наших соседей. К иноверцу в гости без приглашения они не пойдут, а мы, как вы сами понимаете, никого приглашать не собираемся. Присмотритесь. Видите, Али-Баба что-то своему сыну показывает, он хочет заинтересовать парня машиной. А вчера встретил меня и сказал: «Обучай Нури. Пожалуйста, бери его, пусть он пять лет работает бесплатно». Хотя Кецховели немного и успокоил Красина, все же Леонид Борисович решил, что нужно как можно скорее подыскать для типографии более подходящее и, главное, действительно подпольное помещение. Сегодня Леонид Борисович позволил себе небольшую прогулку в коляске вдоль побережья залива. Солнце спряталось в тучах, Каспий дышит глубоко, по его вздыбившейся шкуре бегают белые барашки. Но вот показался забор строительства. У ворот странное оживление. Красину издалека не понять, что там стряслось, но уже по тому, как снует Ибрагимка, машет руками, наверное, произошло что-то необычное. Красин торопит кучера… — Без начальника строительства на станцию не пущу! — А ну поговори у меня!.. Проходите, ребята! Дандуров загородил калитку. Казаки топчутся в нерешительности — уж больно здоров сторож, а тут еще и рабочие подходят. Видно, этот чумазый постреленок кликнул. — В чем дело, господа? Я главный инженер строительства. — Красин не спеша выбрался из коляски, стянул перчатку. Посмотреть со стороны — инженер спокоен, даже улыбается. А в голове тревожные мысли: «Два офицера, четыре жандарма, шесть казаков — на сей раз, видно, ордер на обыск, и просто так от блюстителей не отговоришься…» — Господин Красин? Вот ордер на обыск у бухгалтера Козеренко… Прикажите, чтобы нас пропустили, да и вам придется присутствовать при обыске. Красин коротким жестом указывает жандармам на калитку. — Сторож, ставь самовар, да поживей! Дандуров, недовольно фыркая в усы, вытащил во двор огромнейший тульского производства агрегат. Весь в медалях, самовар походил на пузатого георгиевского кавалера. Начищенная кираса, шлем-конфорка — все сияет, и только черная, прогоревшая во многих местах труба напоминала о его настоящем назначении. Сторож… самовар, — ворчит Дандуров. — Самовар — дело нехитрое. Плеснул воды, сунул лучину, снял сапог… И он уже гудит, поет… А что-то мы запоем после чаепития? Дандуров не спешил. Выиграть время, быть может, Красин что и придумает. Вон, в разговоры пустился, смеется. «Господи, да что это с Леонидом Борисовичем? На шел с кем беседовать? Ему бы теперь стрекача задать. Сослался на дела, в коляску и… поминай как звали!» Дандуров усиленно орудует сапогом, но проклятый самовар, как назло, не хочет разжигаться. А Красин торопит, вот ведь чудак! Пусть казачки побездельничают, рассеются, пока господа офицеры и жандармы чайком побалуются, авось не так внимательны будут. И вдруг Дандуров понял, что все это чаепитие затеяно Леонидом Борисовичем неспроста. Разжечь самовар? Чтобы он загудел, нужны… вода и уголь. Вода в кастрюле. Уголь в печном поддувале… Ну и балда же он, Дандуров, залил воду из ведра, колет лучину. А ведь в кастрюле не вода, а экземпляры «Искры». В поддувале печи не угли, а листовки, да еще ленинская брошюра несколько штук. Дандуров осторожно открывает кран, вода из самовара тоненькой струйкой стекает на пыльный двор. Пока будет течь, он повозится с кастрюлями. Вот так — «Искра» у него за пазухой. Теперь можно сделать вид, что кастрюля пуста, а она и правда пустая. Дандуров идет к печи, загораживает ее жерло своей широкой спиной. Ну вот, и листовки в кастрюле. Сторож доливает из ведра воду прямо на листовки и выходит во двор. Быстро конфорку долой, в самовар полетели листовки. Жалко, конечно, но что делать? «Искру» он сохранит. Самовар загудел. — Леонид Борисович, прикажете подавать? — Давай, давай, братец, да поскорее, сейчас как раз время погреться! Козеренко накрывает на стол. На территории строительства у него удобная квартира, даже погреб есть. Может быть, по чарочке, господа офицеры? Но офицеры отказались — они с удовольствием тянут из тонких пузатых стаканчиков крепчайший обжигающий чай. Козеренко только успевает подливать свежий да колоть сахар. Он с беспокойством и удивлением смотрит на Красина. Леонид Борисович должен немедленно скрыться, о себе Козеренко не думает, лишь бы Красин уцелел. И Дандуров тоже. Между тем Дандуров примостился на краешке стула, внимательно прислушивается к беседе. Конечно, сторожу не положено за одним столом с господами, но тут такой случай — обыск!.. Красин поднялся из-за стола, поблагодарил хозяина и хозяйку: — Господа, прошу, выполняйте ваши обязанности. А мы пойдем, мешать не будем. Леонид Борисович подходит к Козеренко, крепко и многозначительно пожимает руку. Жандармы перевертывают подушки, трясут простыни, заглядывают под кровати. Усатый унтер полез в печь. Горшки, чугунок… Ничего не видно. Николай Петрович замер. Сейчас «голубая заплата» доберется до поддувала, вытащит связку с листовками… Жандарм ворошит золу, ругается вполголоса. Потом встает и ожесточенно трясет запыленным рукавом. Обыск основательный, но безрезультатный. Через два часа полицейские вынуждены были извиниться, делают это они неохотно. Так же неохотно покидают квартиру. Оглядываются в последней надежде… Лишь только убрались охранники, появился Красин с Дандуровым. — Николай Петрович, кланяйся в ножки Дандурову! — А где же листовки, брошюра, газета? — Козеренко еще ничего не понимает. Красин хохочет. Наконец, сжалившись над товарищем, Дандуров рассказал, как он самовар ставил. — Только вот беспокоился, не перепрятал ли ты чего? Да ведь не должен был не предупредив — таков закон конспирации.
Монпелье! Даже во Франции немного таких уютных, обжитых и таких живописных городков. До Средиземного моря всего десять километров, и в городе всегда ощущается его свежее дыхание. Монпелье невелик, но знаменит. И трудно сказать, какая самая драгоценная реликвия этого города — то ли университет, основанный еще в XII веке, а может быть, уникальная библиотека или старейший и самый тенистый во всей Франции ботанический сад. Некоторые жители отдают предпочтение пышной Триумфальной арке, воздвигнутой в XVII веке в честь короля Людовика XIV. Петр Смидович — агент «Искры» — считает, что самая большая достопримечательность Монпелье — это городские профсоюзные организации. Крепкие, тесно связанные почти со всеми профсоюзами близлежащего Марселя и особенно, что важно, с профсоюзом марсель-(них моряков. Моряки — народ основательный, если уж их о чем-го просить, то нужно говорить правду. И Смидович рассказал о событиях в России, значении газеты «Искра», попросил организовать ее доставку в Батум. Смидович вскоре стал своим человеком среди моряков французских компаний «Пакэ и К0», «Морской гонец». Буфетчики, повара, матросы с пароходов «Анатоль», «Битини», «Мингрема», «Багдад» согласились перевозить «Искру». Марсельские моряки раздобыли компактные резиновые мешки. В эти мешки литература закладывалась так, чтобы внутрь не попадала ни одна капля воды. Мешки эти обвяжут веревками и, когда пароход будет на подходе к русским портам, опустят в море, а веревки подвяжут к чему-либо за кормой. Принимающие литературу незаметно подойдут к пароходу на лодке, отрежут веревки и так же незаметно уплывут. Способ простой и надежный. Смидович списался с заведующим искровским транспортом в Швейцарии. Тот план одобрил, но внес коррективы — литературу нужно отправлять с теми пароходами, которые по расписанию приходят в русские порты ночью, чтобы получателям было легче незамеченными подойти на лодке. Смидович согласился. Правда, он собирается посылать тюки не только с пассажирскими судами, но и с грузовыми. А те не всегда ходят по расписанию, но грузовые имеют и преимущества, они обычно останавливаются на открытом рейде, ждут очереди к причалу. В открытое море можно отправиться и днем, вряд ли кто с берега заметит, как лодка подошла к пароходу. Матросов же нужно предупредить, чтобы они подвешивали тюки с борта, противоположного берегу. Как будто все устраивалось хорошо. Бакинскую типографию назвали «Ниной» в чести грузинской просветительницы, жившей в IV веке. Поэтично, точно и достаточно конспиративно. На имя Красина из-за границы приходили матрицы — картонные оттиски «Искры», их заливали типографским металлом, и получалось клише целой страницы. «Рукоделье «Нины» прямо великолепно», — восхитилась Крупская, — увидев оттиск «Искры», ничем не отличимый от тех, что печатались за рубежом. Но частые поездки Красина на таможню могли вызвать подозрение. Вскоре «лошади», как числились бакинские искровцы у секретаря редакции Крупской, подыскали нейтральный адрес. Теперь матрицы будет получать зубной врач Софья Гинзбург. Она, не распаковывая посылку, сразу же должна извещать товарищей о ее прибытии.
ДОРОГИ!.. ДОРОГИ!.. А ПУТЬ ТО ОДИН!

В купе вагона 2-го класса и душно, и пыльно, и откуда-то настойчиво сочится самоварный дух. Неужто проводник и в самом деле раздобыл самовар и сейчас постучит в дверь: «Чайку изволите?»
Николай Эрнестович представил эту сцену так явственно, что даже привстал с дивана, чтобы принять стакан. Что за наваждение? Ведь он едет не по России, за окном еще Германия, а в германских составах не принято разносить чай, вот пиво — пожалуйста. Пусть немецкие бюргеры хлещут пиво… Но почему все-таки так пахнет самоваром? Видно, у паровоза засорились колосники, дымят.
Сытый и немного угарный запах вызывает воспоминания.
В Казани у его отца Эрнеста Андреевича была небольшая столярная мастерская, и в ней всегда полно свежей стружки. Когда Николай немного подрос, в его обязанности входило собирать стружку для растопки самовара. Ах, как вкусно эта стружка сгорала!
Самоварный дух витал и в тесных рабочих каморках, куда собирались рабочие-кружковцы послушать агитатора из петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Самовар шумел за столом как непременный атрибут конспирации — собрались дружки почаевничать, что тут предосудительного… Самоварный дух напомнил Николаю Эрнестовичу, что он направляется в столицу «чаевничьих водохлебов», то бишь в Москву.
Уже несколько раз приходилось Бауману в этом, 1901 году пересекать границу Российской империи. Он вместе с Блюменфельдом зимой привез № 1 «Искры» в чемодане с двойным дном. Поехал и летом. Тогда, обеспокоенный провалами транспортов, Ильич прислал Бауману, находившемуся в Берлине, письмо:
«…вот какое предложение мы Вам делаем: поезжайте тотчас на место, съездите с одним из Ваших паспортов к Николаю в Мемель, узнайте от него все, затем перейдите границу по Grenzkarte или с контрабандистом, возьмите лежащую по сю сторону (т. е. в России) литературу и доставьте ее повсюду. Очевидно, что для успеха дела необходим на помощь Николаю и для контроля за ним еще один человек с русской стороны, всегда готовый тайно перейти границу, главным же образом занятый приемом литературы на русской стороне и отвозом ее в Псков, Смоленск, Вильно, Полтаву…
Вы для этого были бы удобны, ибо (1) были уже раз у Николая и (2) имеете два паспорта. Дело трудное и серьезное, требующее перемены местожительства, но зато дело самое важное для нас».
Николай — это Скубик, и с транспортом у него не ладится. Но и то правда, дело трудное. А самым «узким местом» оказались деньги. Их катастрофически не хватало. Бауман экономил буквально на всем, но, конечно, не в ущерб работе. Экономил в основном на самом себе и аккуратно посылал отчеты о расходах в редакцию: «Почтовые и канцелярские — 1 р. 80 к., железная дорога — 6 р. 50 к., Богдану — 30 р., ему же на привоз «чая» от Паулины — 20 р… На мое содержание ушло из кассы 31 р. 64 к.».
Богдану — Ивану Васильевичу Бабушкину, с которым он тогда и познакомился, — львиная доля. И не зря. Иван Васильевич развернул работу в районах Богородска, Орехова-Зуева. Районы промышленные, хотя ткачи несколько и отстают от металлистов в своей революционной активности, но тем более важно как можно скорее приобщить их к общепролетарскому делу.
Сейчас, в декабре, Николай Эрнестович едет в Москву с новым заданием, сложным и чрезвычайно опасным.
Транспорт «Искры» более или менее налажен. В Кишиневе и Баку подпольные типографии множат газету, издают брошюры, листовки, сочинения Владимира Ильича.
Антиправительственное движение в России приняло такой размах, что лозунг «Долой самодержавие!» показался одному иностранному корреспонденту «модной русской поговоркой».
Вот ведь говорят, что человек ко всему привыкает. Неверно это. Далеко не ко всему. Не может он, например, примириться, когда другие люди его и за человека не считают. Да еще и пытаются внушить такую «привычку» с помощью кнута. А к кнуту привыкнуть нельзя. Можно привыкнуть не бояться кнута, и тогда каждый раз, как только подымается кнут, человек уже не думает о насилии, он задумывается над тем, почему, по какому праву это насилие совершается.
Читая почту из России, поступавшую со всех концов империи в «Искру», Николай Эрнестович убедился в том, что русский царизм напуган, напуган тем, что русский рабочий перестал бояться казацкой нагайки, полицейских шашек и залпов карателей. Рабочий класс привык к ним, и голос страха уже не заглушал голосин, требовавших свободы, требовавших не только, работы и куска хлеба, но прав на стачки, собрания, демонстрации и… свержение самодержавия.
Царизм уже ничем не мог предотвратить стачки, забастовки, демонстрации. И чем чаще они повторялись, тем больше рабочих участвовало в них, тем скорее шло политическое воспитание класса.
А это могло привести…
Да, царские чиновники, император знали, к чему это могло привести.
Если нельзя предотвратить стачки, то, наверное, можно «внушить эксплуатируемым, что правительство стоит выше классов, что оно служит не интересам дворян и буржуазии, а интересам справедливости, что оно печется о защите слабых и бедных против богатых и сильных и т. и.». Так писал тогда Ильич, Бауман запомнил это место.
Другими словами, возникла стачка, забастовка — нужно сделать так, чтобы требования рабочих не выходили за рамки экономических. Пусть фабриканты идут на уступки, это не страшно, со временем можно будет все вернуть на старые места. Зато какой моральный и политический выигрыш: «правительство печется», «правительство обуздывает ненасытных хищников капитала».
Но этого мало, нужно отвлекать рабочих от стачек. Это под силу только авторитетным организациям, находящимся под опекой и наблюдением правительства.
«Замена случайных сборищ и сходок организованными собраниями под покровительством властей», борьба не с правительством и в конечном результате даже не с предпринимателями, а с «собственной неразвитостью». Другими словами, провоцировать, провоцировать и провоцировать, а исподволь продолжать аресты, расправы, истребление революционной социал-демократии. Пот чем теперь занята полиция, вот с чем должен он, Бауман, бороться.
Нашлись и мастера провокаций. У главного из них выло даже «революционное прошлое» — его исключили из гимназии «за либеральное настроение», потом арестовали за «противоправительственную пропаганду», за распространение нелегальной литературы. Арестовали и выпустили, а его товарищей — студентов Московского университета, арестованных вместе, с ним, — не выпустили. Зато арестовали других, знакомых с ним. Его заподозрили в провокации, и он исчез.
А на углу Воздвиженки и Никитского бульвара, где издавна лепились палатки букинистов и было даже несколько книжных лавочек, появилась еще одна «лавочка». Продавец был молод, начитан и разговорчив.
Именно разговорчивость отличала его от старых букинистов; которые великолепно знали книгу, ценили настоящих ее любителей, но не жаловали покупателя в косоворотке, сапогах, замусоленной кепке. Такой покупатель брал на пятачок, а перевертывал пуды изданий. Он просто «кощунствовал», отбрасывая в сторону кожаные тисненые переплеты, на которых год издания писался римскими цифрами. Его взгляд рассеянно скользил по цветистым обложкам декадентских книжечек, и даже бесценные рукописные фолианты его не волновали. Он что-то искал и большей частью не находил, разочарованно стряхивал пыль, вежливо прощался.
Бауман не раз наблюдал такие сцены не только в Москве, но и в Казани. И что удивительнее всего, в Москве, у Никитских, такой покупатель забегал во вновь открывшуюся лавку и выходил из нее довольный, бросал веселый взгляд на тощую и дешевенькую брошюрку и торопливо засовывал ее за пазуху.
Потом старые букинисты отметили, что в книжную лавочку началось просто паломничество косовороток, студенческих мундиров. А иногда, озираясь, туда ныряли люди со стертыми лицами, похожими одно на другое, как их котелки.
Но в один прекрасный день в лавочке появился другой продавец. А в новом начальнике Московского охранного отделения Зубатове букинисты, к своему удивлению, узнали бывшего продавца из популярной книжной лавочки.
Лавочка была мышеловкой для любознательных, ищущих, борющихся. В ней всегда можно было достать любую запрещенную книгу. И никто как-то не обратил внимания, что продавец безбоязненно, без оглядки продает эти книги, всегда готов достать то или иное издание, если его случайно не оказалось.
Не обращали внимания и на веселый опрос, который продавец учинял покупателю:
— Откуда? Кто?
А вскоре покупатели, побывавшие в лавке, стали пропадать. Их арестовывали.
Теперь у Зубатова широкое поле деятельности. Рабочие создают свои профессиональные организации, кассы взаимопомощи, землячества. В этом угадывается не только стремление представителей различных специальностей объединиться друг с другом. Нет, Зубатов нюхом полицейской ищейки чувствовал здесь направляющую руку социал-демократов, И решил, что надо принять меры. Во что бы то ни стало опередить их, организовать рабочие массы по плану полиции, втереться в доверие и в конечном итоге оставить штаб революции, его «главное командование» без армии. Втереться в доверие, если не ко всей рабочей массе, in. no всяком случае, к ее неустойчивой части, мастеримым небольших предприятий, мастерам заводов, ранимей аристократии — эту задачу Зубатов решал, не скупясь на средства, не брезгуя любыми приемами. В его распоряжении либеральная интеллигенция, профессура, адвокаты, журналисты, актеры. Ведь они тоже против «крайностей царизма». И конечно же, сочувствуют обезболенному, полуграмотному работнику. Прочесть для пего лекцию, выступить с концертом, помилуйте, с превеликим удовольствием. Зубатов с провокационной целью арестовывает ни в чем не замешанных пролетариев и на допросах он само обаяние, мягкость, сочувствие. Арестованных допрашивает у себя дома, за чашкой чаю, «убеждается в их невиновности», рассыпается в извинениях, отпускает. Такой отпущенный разнесет весть о «симпатичном», «либеральном», «доброжелательном» полицейском, зубатовых не надо бояться, они пекутся о работнике. И не нужно бастовать, нужно им доверять, и уж они-то в обиду не дадут. Липкая паутина лжи и провокаций, фарса и самых изощренных способов подавления, расправы со стойкими — зубатовщина стала опаснейшим врагом революционного пролетариата России. Бауман понимал, что в борьбе с новым неприятелем нельзя медлить. Опередить Зубатова, разоблачить «полицейский социализм» в глазах рабочих — вот напутствие Ильича Николаю Эрнестовичу.
Царские шпионы за границей прохлопали отъезд Баумана. По одному из своих паспортов он беспрепятственно миновал таможню. На сей раз Николай Эрнестович не счел нужным рисковать, борьба с зуба-Товским «полицейским социализмом» была важнее чемодана с двойным дном. У Александровского вокзала вечная толкотня. Отправляются поезда или прибывают — извозчики толкутся тут день и ночь. Ваньки и лихачи на «дутиках», ломовые. Булыга мостовой густо посыпана овсом, клочьями сена, заляпана конским навозом. Людям здесь тес но, а воробьям раздолье. Привокзальное племя развелось, им даже драться с чужаками лень. Бауман не спеша огляделся. Потом ему уже казалось, что он, просыпаясь утром, оглядывался и перед сном тоже. А жить «с оглядкой» Николай Эрнестович не любил и не умел. Конечно, конспиративность — условие, обязательное для подпольщика-нелегала, но иногда излишняя осторожность может привести и вовсе к полному бездействию. В Москве было скверно. Еще в марте 1901 года полиция арестовала руководителей Московской организации РСДРП — Марию Ульянову и Марка Елизарова. Несколько позже, когда Московская организация стали восстанавливаться, новый удар: арестованы Шанцер (Марат), Никифоров, Скворцов-Степанов. А «экономисты» разгуливали на свободе. Казалось, они вместе с эсерами и рука об руку с полицией решили доконать искровскую организацию, оторвать от нее рабочую массу. Бауману нужно было все начинать сначала, как когда-то начинал с рабочих кружков. Теперь пригодился богатый опыт организатора рабочих марксистских ячеек на заводах и фабриках, Вспомнились казанские рабочие окраины. Казалось, кружки — пройденный этап, и кому охота зачеркивать усилия чуть не целого десятилетия. Но Бауман понимал, иного пути нет. И это не повторение пройденного, а просто необходимая мера в условиях усилившихся преследований. Рачковский напрасно негодовал по адресу полицейкого управления. Некогда в полиции действительно служили отставные «отцы-командиры», ну с них и спросу не было. Но в начале XX века посты в департаменте стали занимать люди с высшим образованием, охранники, набившие руку на политическом сыске. В Москве сидел Зубатов. В его подчинении был умный, хитрый и хорошо осведомленный чиновник — Меньшиков. В дни, когда Бауман налаживал связи социал-демократов с «Искрой» и разъезжал по близлежащим городам Подмосковья, встречался с Богданом: — Бабушкиным, радовался тому, что в Ярославской, Костромской и Владимирской губерниях создался так называемый «Северный союз», сочувственно относившийся к «Искре», — позже признавший ее Меньшиков, заполучив через кабинет тайного просмотра писем пароль к руководителям «Северного союза», под видом представителя «Искры» тоже объезжал города, выявляя связи членов союза. Эта поездка нанесла большой урон «Северному союзу», по докладу Меньшикова в апреле был арестован 51 человек. Не только полиция была помехой на пути сколачивания искровских организаций в России. «Искре» противостояли и «экономисты», в руках которых находилась газета «Рабочее дело», и «Союз русских социал-демократов за границей». Они тоже стремились сорганизовать рабочих на платформе борьбы экономической. Бауман писал в «Искру»: «…Группе, которая согласилась работать со мной, грозили бойкотом, раз она будет иметь сношения с «Искрой», «Союзник»… грозил, что, соединяясь с «Искрой», москвичи будут оторваны от всех комитетов, так как все комитеты признают только «Рабочее дело». Не все, конечно, комитеты признавали «Рабочее дело». «Искра» стараниями своих агентов все более и более завоевывала популярность среди пролетариев. «Если у меня будет в достаточном количестве товара (читай — номеров «Искры». — В. П.), то я мои удобно доставлять (без значительных проволочек) в Нижний, Казань, Самару, Саратов, Астрахань, Вятскую губернию, Тамбов, Центральный район, Ярославль, Кострому, Воронеж, Тверь, Орел. Со всеми этими пунктами установлены способы доставки… Постепенно я надеюсь поставить на должную высоту корреспондентскую часть в упомянутых городах, включая сюда еще Тулу, Калугу и другие города этого района». Бессонные ночи, вечное недоедание, кое-как, всухомятку, всегда настороже, не смея ни на минуту расслабиться, без постоянного крова над головой, ночевки ни вокзалах, а то и просто на скамейках бульваров J для такой подвижнической жизни мало только крепкого здоровья, нужнобыло иметь непоколебимое чувство долга. Когда-то, еще в Казани, в студенческом кружке, Николай Эрнестович, изучая философию, наткнулся на слова известного французского мыслителя Ш. Монтескье. Они запомнились на всю жизнь: «Мне приходилось встречать людей, добродетель которых столь естественна, что даже не ощущается; они исполняют свой долг, не испытывая никакой тягости, и их влечет к этому как бы инстинктивно; они никогда не хвастаются своими редкостными качествами и, кажется, даже не сознают их в себе. Вот такие люди мне нравятся, а не те праведники, которые как будто сами удивляются собственной праведности и считают доброе дело чудом, рассказ о котором должен всех изумлять». Что и говорить, революционер-профессионал — эти прежде всего человек долга, он ежесекундно чувствует себя солдатом революции, членом партии, находящимся в ее полном распоряжении. С революционной работы он уходит в тюрьму, в ссылку и выходит «на волю» только для того, чтобы немедля вновь взяться in революционную работу. И ни в тюрьме, ни в ссылке он не бросает этой работы, он готовится к ней. А неудачи, провалы… Как-то, еще в прошлый летний приезд из-за границы, Николай Эрнестович с грузом газет выбрался в Орехово-Зуево к Бабушкину. Иван Васильевич обрадовался гостю. Орехово-Зуевская организация РСДРП испытывала страшный голод — рабочие требовали «Искру», а газет нет и нет. Только успели обменяться несколькими словами, как Иван Васильевич заспешил. — Не обижайся, Грач, побегу, обрадую своих, да и газету нужно поскорее раздать в кружки — не ровен час… — А что, заметил слежку? — Заметил, так что советую и тебе исчезнуть отсюда поскорее. — Да ведь поезд на Москву только поздно вечером… — Послушай, Грач, а что, если тебе до вечера не по улицам болтаться, а посидеть на плацу, футбол поглядеть? — Футбол? Разве в России играют в эту английскую игру? — Играют, брат, играют. И наши ореховозуевцы чуть ли не чемпионы. — Чудеса! — Вот и я так подумал, когда узнал, что наш фабрикант Морозов дал в английских газетах объявление: для Орехово-Зуевской мануфактуры требуются инженеры, механики, служащие, «умеющие хорошо играть в футбол». И что ты думаешь — прибыли, играют, и ныне наша команда зовется «грозой Москвы». Николай Эрнестович с детства был привержен к физкультуре и спорту. И даже свое юношеское увлечение танцами считал проявлением прежде всего физкультуры. Бауман великолепно плавал, любил гимнастические упражнения и, конечно же, лапту — пожалуй, единственную спортивную игру, доступную детям ремесленников. Что ж, отсидеться до поезда на плацу — мысль не плохая, да и разгрузка нервам необходима. Но следить за игрой мешали невеселые мысли За Богданом хвост. Ему необходимо менять место жительства, и как можно скорее. Иван Васильевич в любом промышленном городе обрастет передовыми рабочими, тем более что у него есть «Искра». Владимир Ильич очень высоко оценивает работу Бабушкина. Несколько раз Ильич повторял: «Пока Иван Васильевич остается на воле, «Искра» не терпит недостатка в чисто русских корреспонденциях». И то правда. Если просмотреть первые двадцать номеров, то почти в каждой корреспонденции из Орехово-Зуева, Шуи, Иваново-Вознесенка, и все эти статьи организовал Бабушкин. Матч завершился грандиозной потасовкой, в которой больше всего досталось судье. Бауман, задумавшись, пропустил ее начало и не мог понять причины. Пожалуй, пора отсюда убираться подобру-поздорову, вот-вот может нагрянуть полиция и… как знать, зрителей немного, могут пригласить в свидетели… Поздно вечером Николай Эрнестович благополучно добрался до Москвы. А на следующее утро новая поездка, на сей раз в Киев. В Киеве Баумана ждали неутешительные вести. Конечно, то, что Киевский социал-демократический комитет признал идейное руководство «Искры», было большой победой. Но Крохмаль — представитель «Искры» на юге России — сообщал, что киевляне «не совсем одобрительно» относятся к организационному плану Ленина. А ведь главное — именно этот план построения партии. 8 февраля 1902 года, В Москве метут метели, дворники не успевают сгребать все новые и новые сугробы. Л в Киеве уже попахивает весной, снег осел под лучами еще не жаркого, но слепящего солнца. В такой день не хочется думать о вещах неприятных, в такой день лицо само расплывается в улыбке. Но едва Бауман ступил на перрон Киевского вокзала, как радужное его настроение сразу померкло. Если старые, опытные филеры чутьем узнают людей неблагонадежных, то и революционеры-профессионалы по каким-то неуловимым признакам определяют полицейских шпиков. Идя по перрону, Бауман шагал словно сквозь строй, каждую минуту ожидая удара и не зная, откуда его нанесут. Скорее на улицу. Киев он знает плохо, вернее и вовсе не знает, но доверяться извозчикам нельзя, нельзя расспрашивать и дворников, он должен сам найти нужный ему дом, да при этом убедиться, что не притащил на явочную квартиру «хвост». Конечно, проще всего зайти в статистическое управление, там у секретаря на имя Васильева может лежать письмо, в коем ему и сообщат чистый адрес. Но письма может и не быть… Нет, управление — это крайний случай. Бауман медленно бредет по Крещатику, он устал. От вокзала пешком до главной улицы Киева — путь не близкий. Бауман заставил себя дойти до Владимирской горки и потом долго стоял, не обращая внимания на ветер, любовался днепровскими далями. Во всяком случае, так могло показаться стороннему наблюдателю. У него несколько адресов, но каждый раз, подходя к нужному дому, он инстинктивно чувствовал, что на явке не все благополучно. То дворник торчит у ворот, хотя время и обеденное, сугробы наметаны; то какие-то подозрительные типы заинтересованно разглядывают афишную тумбу, хотя на ней всего несколько старых, слинявших объявлений. Нет, так не пойдет… Несколько раз проверив, нет ли за ним слежки, Николай Эрнестович зашел в статистическое управление. Слава богу, письмо его дожидалось. Подтвердились худшие опасения. Полиция сумела напасть на след явочных квартир, агент «Искры» Басовский арестован, так что остается последнее — идти прямо к Крохмалю. Рискованно, конечно, но и иного выхода он не видит. Еще несколько часов блуждания по Киеву. Теперь Бауман отделывался уже не от шпиков, а от солнца. Ему нужно дождаться сумерек и раствориться в их серой полутьме. Измученный вконец, он постучался к Крохмалю. Больше всего ему недоставало сейчас стакана горячего чая и какого-нибудь закутка, где можно было бы вздремнуть хотя бы часок. У Крохмаля сидел еще один искровский функционер — Франт — Гальперин. Увидев Баумана, он даже в лице изменился: — Грач, вот уж не вовремя ты залетел! Не ко времени, не ко времени… — Погодите, дайте отдышаться, а заодно поведай те, что тут у вас происходит. На вокзале полно шпиков, на улице, даже в статистическом их видел. — Напрасно ты явился сюда, за домом наблюдают. — А куда прикажете явиться, за другими домами тоже наблюдают. Но что случилось? — Второго февраля у нас тут такое творилось! Студенты, а с ними, конечно же, и рабочие, ныне они неразлучны, вышли на улицу… — Что, опять против «Временных правил»? — Нет, «Временные» дело прошлое. Ныне даешь свободу слова, печати, собраний и долой самодержавие. Рабочие со студентами по мостовой шагают, а сочувствующие густыми толпами по тротуарам шествуют. Ох уж эти сочувствующие, от них на демонстрациях надобно держаться подальше. А вот Басовский замешался и эту толпу, ну и глупо, нелепо угодил в лапы жандармов. Личность его выяснили быстро, квартира оказалась не «очищенной»… Сейчас в городе идут повальные обыски. Так что, друг мой, пей свой чай и пойдем от греха подальше, сегодня же вон из Киева. Через полчаса Бауман в сопровождении Гальперина отправился обратно на вокзал. Он не был уверен, что счастливо отделался от шпиков, поэтому решил возвращаться в Москву кружным путем, с двумя пересадками. Гальперин посоветовал купить билет через носильщика, да постараться погромче назвать станцию назначения, авось дежурный жандарм услышит. Бауман позвал носильщика и с этакими барственными нотами в голосе приказал: — Один до Харькова, вторым классом. Сдачи не нужно! Гальперин, наблюдавший за жандармом, удовлетворенно мотнул головой, голубая шинель явно прислушивалась ко всем разговорам и даже отдельным репликам, наполнявшим неясным гулом помещение кассового зала. И снова вагон. Последние полтора года с малыми перерывами, на неделю, на две, он все едет и едет. Переходит из вагона в вагон, обтирает одни и те же полки, редко мягкие, по большей части жесткие, деревянные. Механически разговаривает с одними и теми же пассажирами. И кажется, нет конца-края этому однообразию, даже редкие индивидуальные особенности новых спутников но вагону воспринимаются как уже прошедшие перед ним раньше. Притупляется взгляд, тупеет голова, и кажется, что ее заносит затхлой пылью. Скоро Харьков. Там он пересядет на курский поезд и выйдет в Воронеже. Пересадка в полусне. Утром, 9 февраля, Воронеж. Небольшой саквояж сдан в камеру, хранения, и теперь налегке можно зайти в земскую управу, где служит врач, с которым давно налажена переписка. Врача на месте не оказалось, пришлось долго ждать, борясь со сном и голодом. Наконец врач явился, и повторилась киевская история. В Воронеже обыски, аресты, ни одной надежной явки. И лучше всего Бауману уносить отсюда ноги подобру-поздорову. И снова вокзал, снова шныряют серенькие, ничем не приметные людишки с бегающими глазами, и дежурный жандарм вслушивается, всматривается в немногочисленных пассажиров. Улучив момент, Бауман приобрел билет до города Задонска, затем вышел из вокзала и через минут пятнадцать вернулся, пройдя другим ходом, Прямо у дверей билетного зала зычно окликнул носильщика, велел ему купить билет до Москвы. И сдачи не надо! Поезд ушел почти пустым. Миновал час, другой, скоро и Задонск. Бауман встал, чтобы выйти в коридор, потянул дверь и в приоткрывшуюся щелку увидел метнувшуюся в сторону серую фигуру. Все ясно, он «на крючке». Бауман направился к площадке, но, пройдя середину вагона, заметил, что в тамбуре на морозе маячит человек. «Обложили как медведя». Не раздумывая, бросился к противоположному выходу. В лицо пахнуло ночною сыростью, из-под колес вырывался снежный вихрь. Раздумывать некогда, прыжок в темноту, тупой удар, молния перед глазами от нестерпимой боли в ноге. И тишина. Только где-то в отдалении постукивают, затихая, колеса да едва слышно попыхивает паровоз. Бауман сел, Нога как чужая, попробовал пошевелить и чуть не крикнул от боли. «Ужели сломал?» Осторожно ощупал ногу. Нет, кажется, цела, но вывихнута определенно. Вспомнил, как, работая ветеринаром, вправим скакунам вывихнутые ноги. Невесело улыбнулся, самому себе не вправить. Бауман огляделся. Он сидел в глубоком снегу, запорошившем канаву между насыпью и лесозащитной полосой дороги. На фоне белого снега хорошо просматривались молодые деревца, значит, палку он себе сможет выломать. Бауман пополз к ближайшему дереву. Ползти было трудно, каждая неровность почвы, запевавшая ногу, отдавалась жгучей болью во всем теле. Ничего, еще немного… И он полз, потом схватился i;i тонкий ствол дерева, рука нащупала разветвление. А что, если в эту рогатину просунуть ногу, зацепиться носком, и…» О том, что будет, когда он подогнет вторую ногу и всей тяжестью тела повиснет на вывихнутой, не хотелось и думать… Только к утру, чуть не замерзнув в предрассветной стуже, Николай Эрнестович собрался с силами, выломал палку и побрел на далекие голоса проснувшихся деревенских собак. Когда совсем рассвело, Николай Эрнестович заметил вдалеке невысокую колокольню. У первого попавшегося навстречу крестьянина узнал, что село называется Хлевным, от него до станции железки семь верст и, что главное, в селе проживает земский врач. Превосходно, ему нужен и врач, и интеллигентный человек, у которого он, конечно, найдет хотя бы временный приют. Дорога до Хлевного — сплошная боль. Нога опухла, и в довершение всех бед сломалась палка. Было за полдень, когда Бауман задворками пробрался к дому врача. Тихо постучался. Двери открыл пожилой человек. Он с удивлением уставился на нежданного посетителя. Бауман успел изрядно промокнуть, пока копошился в снегу, затем шуба его заледенела, брюки измяты, а калоши он где-то потерял. Назвался мещанином Петровым и попросил разрешение войти. — Вележев. — Врач пропустил гостя в полутемную прихожую. Бауману не раз приходилось коротать ночи в домах у сельских врачей — все они были построены по одному образцу: направо дверь в амбулаторию, кои где ее величали «приемными покоями», налево вход на половину, которую занимал доктор. — Чем могу-с служить? — Вележев явно не был на мерен приглашать мещанина Петрова в гости. Но Бауман свято верил, что сельский интеллигент сочувственно отнесется к попавшему в беду революционеру, и, не очень таясь, тут же, в полутемном коридоре, рассказал о своем затруднительном положении, попросил посмотреть ногу и накормить. Доктор как-то неопределенно хмыкнул: — Обед у нас, знаете ли-с, только в четвертом часу поспеет… — С этими словами он открыл дверь своей квартиры и, не глядя на Баумана, направился в комнаты. Бауман проковылял следом. В комнате, в отсветах солнца, Бауман разглядел хозяина получше. Неухоженная борода, мешки под глазами, из-под старого халата выглядывала рубашка не первой свежести. — Признаться, милостивый государь, я премного удивлен вашей просьбой. Прошу присаживаться, я сейчас, только в амбулаторию загляну… Бауман устало опустился на стул. В голове гудело, хотелось прилечь и забыться. Вележев вернулся минут через десять. — Господин Вележев, мы одни в доме? — Как изволите видеть-с! — Должен признаться, что я из поднадзорных, вы понимаете… С моей ногой я дня два-три не смогу никуда двинуться, так что уж не обессудьте… Вележев промолчал. Потом так же молча удалился. Бауман прислушался. Хлопнула дверь, но Николаю Эрнестовичу показалось, что это не в амбулаторию, а входная. Прошло еще минут пятнадцать. Бауман немного отогрелся, но теперь тысячи иголок впились в пальцы подмороженных ног, и все сильнее чувствовались атаки голода. Дверь отворилась как-то неуверенно, с жалобным скрипом. В комнату не вошла, а вползла укутанная в платок не то девушка, не то старуха — не разберешь под платком, закрывшим все лицо. — Барин наказали сказать, что вам надлежит немедля уйти… Из-под нависшего платка на Баумана смотрели два широко раскрытых глаза, и в них он прочел сочувствие. Первой мыслью было — Вележев заметил что-то подозрительное и спешит предупредить. Превозмогая боль, усталость, Бауман надел оттаявшую и теперь уже окончательно промокшую шубу, влажную шапку, оглянулся в поисках палки, потом вспомнил, что сломал ее в пути в Хлевное, и шагнул к двери. Женщина, казалось, вжалась в стенку, пропуская незнакомца. Резкий солнечный свет, отраженный нетронутой белизной снега, резко ударил по глазам. Бауман невольно прикрыл их ладонью. Из-за угла дома метнулась неуклюжая фигура человека в белом нагольном тулупе, такие в городах носят только дворники. Бауман недоуменно пожал плечами, деревня она и есть деревня, и человек в городском платье всегда вызывает любопытство. Прихрамывая, доковылял до околицы, вот и последний похилившийся дом, за ним чистое поле и до станции семь верст, а может быть, и с гаком. Но околицу он так и не миновал. Из-за дома на дорогу вышли исправник и полицейский. — Прошу следовать за нами! Бауман молча кивнул. Вот и доверился сельскому интеллигенту. Эх Вележев, Вележев!..
У станового разговор короткий, пристав не верил паспорту мещанина Петрова, не верил в то, что у него бывают «провалы памяти». В Воронеж полетел телеграфный запрос. Воронежские жандармы уже знали о дерзком побеге наблюдаемого, причем его «вели» с самого Киева. Стало ясно, что это тот человек, который виделся в Киеве с Крохмалем, ныне уже арестованным. Арест Крохмаля дал в руки жандармов богатый улов. Помимо нелегальных книг, брошюр, листовок — список конспиративных квартир, письма, на основании которых легко устанавливались адреса, по которым рассылалась газета «Искра» и другие подпольные издания. Ничего этого Бауман не знал и на все расспросы пристава или отмалчивался, или нес несусветную чушь. Наконец становой получил предписание отправить Петрова по этапу в распоряжение вятского губернатора для «продолжения отбытия срока административной ссылки». Департамент полиции ни на минуту не сомневался в том, что Петров — это не кто иной как Бауман, так много испортивший крови охранке. Дорого, очень дорого обошелся «искрякам» арест Крохмаля. По списку найденных у него адресов были арестованы агенты, поддерживающие связь с Вильно, в Кишиневе — Гольдман, а через него провалилась так хорошо работавшая типография. Начальника Кишиневского губернского жандармского управления Чернолусского чуть было не хватил удар, когда ему доложили, что неуловимая социал-демократическая печатня долгое время действовала в тишайшем благословенном Кишиневе и поначалу размещалась в трех комнатах домика по Михайловской улице, как раз напротив жандармского управления.
Провал агентов в Киеве, провал типографии в Кишиневе, арест Баумана — это были серьезные удары по искровским организациям России. А тут еще и внезапный арест Софьи Гинзбург в Баку поставил «Нину» также на порог провала. Леонид Борисович Красин всегда очень болезненно переживал аресты товарищей и склонен был в этих несчастьях обвинять прежде всего себя. Если арестовали Гинзбург, значит, он чего-то недоглядел. Конечно, если по совести, никто не виноват в том, что на таможне раздавили картонку с матрицами. Как выяснил Красин, жандармы целую комиссию сколотили, чтобы определить характер груза. Долго не могли понять, что это такое. Красин отписал в редакцию «Искры» о несчастье. Адрес Гинзбург закрыли. А «лошадям» посоветовали сократить работу «Нины» и всем переключиться на транспорт.
Из Марселя ожидалась большая партия литературы. Леонид Борисович созвал искровскую группу Баиловского мыса. Настроение у собравшихся было неважное, как-никак, но приходилось признать, что полиция добилась успехов, а вот почему? Красин был скуп на слова. — Думаю, что Авелю Енукидзе, чаще других бывавшему на квартире Гинзбург, лучше было бы пока исчезнуть из города. Как раз ему и заняться транспортом. Получать литературу будем в Батуме, минуя таможню. Из Марселя вышел пароход «Сисания», главный повар Гримм взялся доставить наш груз. Нужно встретить и забрать тюки, там около двух пудов. Отправляйтесь-ка, Авель, в Батум, получите посылку, осторожно везите сюда. Сами не рассылайте, не рискуйте.
Портовый конторщик, тщедушный малый лет тридцати, вылинявший, рано полысевший, с неприятно бегающими из стороны в сторону белесыми глазками, Авелю не понравился. Пока они разговаривали, конторщик не знал, куда девать свои длинные руки. Но чинуша не слишком-то разборчив, совсем нещепетилен. Как только разговор зашел о деньгах, он выразительно зашевелил пальцами — половину вперед. Напрасно Авель опасался, что этот хорек донесет в полицию. Он давно снюхался с контрабандистами, а те не прощали наушников — камень на шею и к рыбам. Обо всем этом конторщик поведал Енукидзе в портовом кабаке. Там же познакомил Авеля с контрабандистами, те обещали за умеренную плату помочь снять с парохода груз. Конторщик должен был разыскать повара, справиться о тюках, и на этом его миссия заканчивалась. Десять рублей задатка, пятнадцать при благополучной доставке груза — деньги хорошие, риска почти никакого. Но когда Авель назвал пароход, лицо конторщика вытянулось. — Так он уже прибыл и стоит у карантинного причала. Меня-то пропустят, а тюки не вынести. Да, положение осложнялось. Енукидзе немного запоздал. Порядки карантинного причала строгие, контрабандисты это подтвердили и сразу же потеряли всякий интерес к предприятию. Что же делать? Завтра пароход уходит обратным рейсом, значит, литературу нужно снять сегодня ночью. Авель все же попросил конторщика разыскать повара, шепнуть ему пароль, и, может быть, кок присоветует что-либо. Конторщик потребовал десять рублей. Шут с ним, с жадюгой. А через час Енукидзе делал смотр всем портовым кабакам в тщетной надежде натолкнуться на знакомых контрабандистов. Фамилии их он не знал, а если бы и знал, то вряд ли это были настоящие. Расспрашивать негоже. К вечеру Авель, совсем обессиленный, привалился к ограде около темного пристанища лодок. Вытащенные на берег, перевернутые, ссохшиеся и облупившиеся, они напоминали крышки гробов. Может быть, в другое время и в ином настроении он сравнил бы их с гигантскими рыбами или еще с чем иным, Но этим мартовским вечером самые мрачные мысли лезли в голову. Да и есть отчего прийти в кладбищенское настроение. Первый транспорт искровской литературы, посланный морем, тут, рядом, качается на волне вместе с пузатой громадой парохода. А завтра утром уплывет обратно в Марсель, а вернее всего, кок догадается вот такой же черной ночью скинуть тюки в воду. Нужна лодка… Енукидзе пытается поставить на киль ближайшую «крышку гроба». Куда там! А может быть, удастся перевернуть вот эту? Она поменьше и, наверное, полегче… Не увидел — почувствовал, что рядом, за спиной, кто-то стоит притаившись. Резко обернулся. И вовремя. Две тени неслышно спрятались за корпус лодки. Чиркнул спичкой. Погасла. Спичка за спичкой… Батюшки, да это же те самые контрабандисты! Енукидзе неожиданно расхохотался — ребята приняли его за переодетого полицейского! — Дураки! Я же вас весь день ищу. Деньги заработать предлагаю, а вы… Авель потряс карман, призывно звякнули золотые пятерки. Язык золота был для контрабандистов выразитель нее красноречия Енукидзе. Полицейские не предлагаю! золота. Если какой-нибудь шпик и отваживался заглянуть в этакую глухомань, то за ним обязательно следовал наряд. Контрабандисты осмелели. Авель между тем попытался вновь перевернуть лодку. Контрабандисты засмеялись. — В этой лодке только котят топить. Идем, есть у нас лодка…
Мартовская ночь грузно осела на землю, задернула черный занавес над морем. Негромко шипела умирающая пена. Море тут, рядом, а где? Хотелось протянуть руку, пощупать, но в темноте не было видно даже кончика пальцев. Авель несколько раз спотыкался о камни, ругался вполголоса по-грузински и по-русски. Неожиданно они выбрались к будке: Енукидзе чуть было не расшиб лоб о ее стены. Пока контрабандисты стаскивали лодку в воду, Авель стоял и с наслаждением дышал. Воздух был приправлен запахами южной весны, горьковатым миндалем и еще чем-то вкусным, знакомым — может быть, воспоминаниями о детстве, далеком и всегда милом. Но он не успел воскресить в памяти годы своей «розовой юности»: — Поехали, только ша!.. Лодка, отплевываясь пеной, бившей ей в нос, почти неслышно подкралась к пароходу. Енукидзе невольно залюбовался слаженной работой контрабандистов, по всему видно, что это «мастера своего дела». Уключины не скрипели, смазанные жиром. Две пары весел опрокидывались в воду, как удочки на насадку, которую клюнули сразу четыре крупные рыбины. Заботливая, наверное женская, рука тщательно обмотала шейки весел старой, промасленной ветошью. Настал час луны. Она выглянула из воды, как будто только для того, чтобы расписаться золотистым росчерком поперек ребристых волн. И исчезла. Енукидзе никак не мог отделаться от впечатления что не они подплывают к громаде парохода, а он наваливается на их утлую лодчонку. Чем ближе к рейду, тем ярче огни, и тихий рокот моря заглушают резкие звуки корабельной стоянки. Контрабандисты уверенно держат лодку в тени парохода так, чтобы никто не мог рассмотреть ее с берега. На пароходе, видимо, давно ждали Енукидзе. Легкий свист, ответные свистки. И тишина.
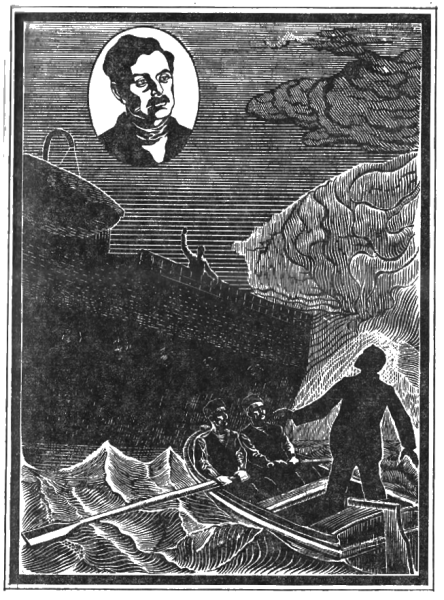
На палубах пусто. Где же повар? Где обещанные тюки с литературой? Контрабандисты вновь насторожились, это заметно по тому, как они схватились за весла и готовы дружными ударами загнать лодку обратно во тьму моря. И только тут Авель вспомнил — ведь конторщик, договаривавшийся с поваром, предупреждал, что груз будет сброшен прямо в море, когда пароход отойдет от карантинной пристани, чтобы встать на погрузку. Но вот беда: он совершенно не помнит, назвал ли конторщик час? А может быть, все это произойдет утром? Нужно отойти от борта, нужно найти убедительные слова, чтобы контрабандисты согласились ждать. К счастью, ждать пришлось недолго. Енукидзе еще не успел привести все доводы, как на пароходе началась суета, пролаял мегафон и из трубы густо повалил дым. Он был немного чернее черной тучи. Пароход отвалил от стенки и нехотя уставился носом в открытое море. Сейчас он подомнет под себя лодку! Несколько отрывистых ударов весел… Высокий борт заслонил небо. Свист! Рядом с лодкой что-то тяжело плюхнулось в воду. Потом еще раз. Третий… Авель, едва удерживая равновесие в пляшущей на волне лодке, смешно растопырил руки. Он хотел поймать на лету падающие тюки. Винты парохода угрожающе прорычали рядом, окатили пеной. — Чего стоишь, сядь! Контрабандисты снова ударили веслами. Пакеты спокойно плавали, крутясь на гребнях взбаламученной воды. Только успевай вылавливать… Вечером в поезде Енукидзе тревожили сомнения. Имеет ли право революционер, искровец, пить пиво с контрабандистами, бить по рукам с мелким жуликом-конторщиком? Контрабандисты говорили о себе почтительно: «Мы честные нарушители таможенных законов». Конторщик ничего не говорил. А может быть, он, Авель, как-то запачкал, чем-то опорочил высокое звание революционера? Ведь он нарушил законы… Да, нарушил, как, вероятно, ежедневно попирают их эти двое славных парней, нарушил… А чьи законы? Царские законы. Нет, Авель не чувствует за собой вины. Два пуда — номера «Искры», «Зари», ленинские статьи, письма к товарищам — вот вексель революционера. А контрабандисты? Следующий раз он даст им ленинскую газету.
СКОРО ТОЛЬКО СКАЗКИ СКАЗЫВАЮТСЯ…

«Искра», журнал «Заря», работа Н. Ленина (так теперь стал подписывать свои статьи и книги Владимир Ильич) «Что делать?», листовки, брошюры шли в Россию разными путями, и Осипу Таршису приходилось выезжать в самые неожиданные места. В Самаре создавалось транспортно-техническое бюро, и сюда стекалась литература, прибывающая из Астрахани, Баку.
Сколько было поездок — не сосчитать. И вьюжные ночи, и таможенники, и полицейские… Но Таршису неизменно сопутствовал успех. Он стал видным транспортером «Искры», (Потом, в партии большевиков, его знали под фамилией Пятницкий.)
И все же попался. Не глупо и не случайно.
Запомнились слова — Грач предсказывал: «Очень активно работаешь два-три месяца, месяца два активно ускользаешь от жандармов. И если вовремя не скроешься за границу, то через полгода провалишься…»
В этих грустных размышлениях о судьбе подпольщика была доля правды, но только доля, Уже несколько месяцев Таршис ведает транспортом ленинской газеты и только недавно приметил за собой хвост. Но, может быть, это старое наследие?
Нужно исчезнуть, передать транспорт новому человеку, так вернее.
Заместителем прислали знаменитого Маркса — Василия Петровича Арцыбушева. Арцыбушев имел роскошную Марксову бороду. Стаж революционной работы — со времен народовольчества. Был он порывист, немного чудаковат, обожал конспирацию. Но конспиративные уловки мало помогали Арцыбушеву, так как трудно было найти еще такую неконспиративную личность, со столь заметной и запоминающейся внешностью. Поэтому Маркс частенько сиживал в тюрьмах, иногда его сажали туда ради «профилактики», обычно в канун 1 мая.
Маркс был немного озадачен и даже уязвлен, познакомившись с Осипом. Выходит, он сменяет на посту транспортера «Искры» не солидного революционера, а какого-то юнца. Но «мальчик» оказался деловит, Не дал даже осмотреться в Вильно, а сразу же на вокзал, чтобы поскорее прибыть в Ковно, а потом и на границу.
Мартовский день серый, промозглый. И ни снег и ни дождь, а так, какое-то мокрое безобразие оседает сверху. У Маркса отсырела борода, если ударит морозец, что часто случается к вечеру, бороду можно будет отломить.
Осип идет к вагону, за ним Арцыбушев. Конечно, старому конспиратору следовало бы знать, что нельзя садиться вместе в одни вагон, тем более Осип заметил за собой шпика и едва от него отделался.
Вошли в вагон. Арцыбушев уселся поодаль, и то хорошо. До отхода поезда оставались считанные минуты, когда в вагон, запыхавшись, ввалились шпик вместе с жандармами.
За ним — это ясно. «Паук» или случайно оказался на вокзале, а вернее всего, сумел обмануть Осипа, и ему только показалось, что он отвязался от слежки. Бежать некуда.
— Паспорт и билет!
Это формальность. Теперь его беспокоит только одно — заметил ли шпик Маркса? Кажется, нет. Тяжело придется Марксу…
— Пройдемте с нами…
А поезд уже трогается. Еще бы несколько минут… Но уже секунды отделяют Таршиса от воли, скоро они вырастут в часы, дни, недели, месяцы. Будут сменяться жандармские следователи и тюремные надзиратели, сменяться города, застенки, камеры…
И наконец Киев. Почему Киев? Об этом Осип мог пока гадать. Он не знал, что русские искровцы думали провести в Киеве совещание. В древнюю столицу должны были съехаться виднейшие агенты газеты: Бауман, Гальперин, Сильвин, Басовский, но уже к концу 190! года жандармы напали на след «Искры». Как ни шифровалась переписка агентов с редакцией за границей, шифры удалось раскрыть: стали известны жандармам и клички, и подлинные имена: Грач, Коняга, Акимов, Яков, Люба.
Киевский жандармский генерал Новицкий узнал и о готовящемся совещании искровцев. Шпики были подняты на ноги, они встречали на вокзалах прибывающих, провожали в гостиницы, на конспиративные квартиры.
Новицкий перестарался в своем усердии, делегаты заметили слежку и стали разъезжаться, так фактически и не открыв совещания. Но уйти от жандармов не удалось. Многих успели арестовать в Киеве, остальных по дороге.
Теперь виднейшие деятели «Искры» заперты в Лукьяновской тюрьме, в корпусе для политических.
А Осип томится в уголовном.
Порядки в Лукьяновском замке вольные. После утренней поверки камеры открыты до ночи. Если позволяет погода, заключенные тянутся во двор. Ходят парами, играют в чехарду, даже пляшут. Такого в Виленской крепости Осип не видел.
Скоро и его перевели в корпус для политических, поместили в одну камеру с Гальпериным — Конягой.
Сколько нового, интересного порассказал ему этот опытный агент «Искры».
Максим Максимович Валлах, он же Литвинов, мог считать себя старожилом Лукьяновки. Как-никак, а сидит уже почти полтора года — больше всех политиков, не считая еще одного такого же, как и он, члена Киевского комитета РСДРП.
Сначала, когда попал в это узилище, мучила мысль: где оступился, почему арестован, откуда жандармам так много известно о деятельности киевских социал-демократов? Когда же во время прогулок встретил еще несколько товарищей по комитету, выяснилось, нашелся среди них слабовольный. Арестовали его случайно, если бы все отрицал — у жандармов никаких улик. И охранка это хорошо понимала. Арестованного начали улещать и запугивать, призвали на помощь отца-священника. Тот пригрозил сыну всеми мыслимыми карами небесными и земными, отцовским проклятьем. Ну «блудный сын» и начал выдавать.
Уже скоро шестнадцать месяцев ждет Литвинов решение своей участи Особым совещанием, заседающим в столице. Особое не торопится. По всей России идет облава наиболее зловредных смутьянов — искровцев. Всех их свозят сюда, в Лукьяновку. Киевский жандармский генерал Новицкий, первым начавший массовые аресты, заслужил того, что громкий процесс над искровцами проходил в первоапостольной матери городов русских Киеве. Новицкий хорошо знает, что во время следствия могут выплыть десятки, сотни имен, и вполне возможно, что среди узников Лукьяновки, а их более двухсот, как раз и может оказаться нужный человек.
Облава идет успешно. Только генерал Новицкий недоволен поведением киевского губернатора Трепова, Репутация губернатора подмоченная, может быть, поэтому всюду и снятся всевозможные козни. Он панически боится чрезвычайных происшествий, скандалов, а они могут возникнуть в любой момент. Рабочие забастовали — скандал, студенты подрались с полицейским — скандал, политические заключенные объявили голодовку — не дай бог какой скандал: газеты на всю Россию, да и за рубежом раструбят. Новицкий с заключенными строг, а Трепов в пику ему заигрывает. Новицкий сажает провинившихся в карцер, Трепов освобождает. И так во всем.
Тюремное начальство вертится между двумя враждующими генералами, но оно всегда внакладе. С той или с другой стороны, но обязательно раздается грозный окрик, сыплются взыскания. Тюремщики, не сговариваясь, решили просто — в Лукьяновке сидит масса студентов, участников демонстраций начала 1902 года, у многих из них папаши видные врачи, адвокаты, промышленные тузы. Чего только не сделают огорченные родители, дабы их чаду было по возможности вольготнее переносить заключение. Плохо кормят, значит, надзирателю к столу не помешает ящик хорошего коньяка, отличнейший окорок, ну и прочие пустяки, о которых и говорить не стоит. Надзиратель не противится, принимает подношения, это тебе не начальственный окрик, и, конечно, смотрит сквозь пальцы на то, как во время передач в камеру уносятся тяжелые корзины со снедью, белье только что от прачки и даже стулья и шезлонги, не на грубых же нарах целый день сидеть бедным студентам.
Правда, студенты, а вместе с ними и все «политики» целыми днями в камерах не сидят, разве что дождь зарядит. Это случается нередко — лето выдалось на удивление дождливое. Но если солнце — с утра и до вечера, а в жаркие дни и по вечерней прохладе — все во дворе. И тут кто во что горазд — играют в горелки, догонялки, чехарду. Когда в тюрьму доставили первые партии «аграрщиков» — так величали крестьян Харьковской и особенно Полтавской губерний, поразивших всю Россию размахом аграрных выступлений, — то и о прогулках забыли, набросились на «бунтовщиков», жадно выспрашивали, интересовались деталями. А «аграрщикам» было о чем рассказать. На сей раз крестьяне этих губерний действовали на удивление дружно и «миром». Чинно, со старостами и сотскими во главе, подъезжали они к помещичьим усадьбам, экономиям, не суетясь требовали ключи от амбаров, складов.
— Когда приказчик ерепенился, мы его вразумляли: де, мол, не ершись, царству панов наступил конец, и велено забирать по пять пудов на душу…
— Это кто же велел-то, дядя?
— Мир, мил человек, мир. Крестьянин — он миром и на миру живет.
— Ну а паны как?
— Дак, паны-то все как один в Харьков подались, к войскам, значит, поближе.
— А у нас на Полтавщине «красного петуха» подпустили. И тоже миром, все чин по чину…
— Сказанул, чин по чину… Эго поджог-то?
— Вестимо. Мы к нашему барину заявились, ну конечно, шапки долой. Сотский наш, значит, речь держит. «Так что уж не взыщите, много, — говорит, — вами довольные. А только придется поджечь. Как полагается, для порядка, значит. Всех теперь жгут». Бaрин, он, значит, в голос. «Что вы, — грит, — братцы, зачем же жечь, если не за что?» А шабры — это, значит, главные наши — улещают, чтобы указал, чего без греха пожечь можно… Сельчане рассказывали и об экзекуциях, диких расправах, которые учинили над «бунтовщиками». Секли всех поголовно по 200–250 розог, а где и шомполами.
После провала адреса Софьи Гинзбург решено было постепенно свернуть работу типографии, но близилось Первое мая, нужно было отпечатать листовки. Это был, конечно, риск. И только чудом можно объяснить тот факт, что полиция все еще не напала на след типографии. В марте 1902 года охранка арестовала значительную часть членов Бакинского комитета РСДРП, и сразу же почувствовалась нехватка людей. Полицейские нщей ки, ободренные успехом, удвоили усилия в поисках таинственной типографии. О ее существовании они знали, но не знали, где «живет» «Нина». Улицу за улицей, дом за домом прочесывают опричники. И однажды они должны добраться до дома Али-Бабы, он незаговоренный. Теперь уже ясно — типографию нужно спасать и, может быть, вообще убрать из Баку, как это советуют из-за границы. Перебросить куда-либо в центральные губернии. Кецховели выехал в Россию, чтобы попытаться подыскать подходящее место. А Авель Енукидзе вместе с двумя наборщиками — Болквадзе и Пуладзе — потихоньку свертывали «Нину». Когда типография была на ходу, Авеля часто раздражало, что в наборной кассе не хватает необходимых литер. Иногда приходилось переверстывать отдельные слова и целые строчки, чтобы избежать употребления дефицитных букв: «а», «о», «м», «и». Теперь же он не знал, как упаковать и где спрятать пятнадцать пудов шрифта. Пятнадцать пудов! И когда его столько набралось? Шрифт рассовали по небольшим пакетикам, они не бросались в глаза именно из-за своих размеров. И только Енукидзе знал, как тяжелы эти пакеты. Он сам перетаскивал их из дома Али-Бабы в депо и с рук на руки передавал Виктору Бакрадзе, помощнику машиниста товарного паровоза, совершавшего рейсы Баку — Лджикабул. В Аджикабуле шрифт будет вне опасности. Дошла очередь и до машины. Кецховели так и не нашел пристанища для своего детища. Пришлось машину разобрать, упаковать в деревянные ящики и сдать на пристань пароходного общества «Надежда», здесь ящики могли храниться несколько месяцев. «Нина» не умерла, она просто на время затаилась.
Этап все дальше и дальше двигался на восток. Арестантов везли даже не третьим, а четвертым классом. Уголовные и политические, женщины и мужчины, дети, конвойные… Как добрались до Уфы, Бауман не помнил. И только потом, повествуя друзьям о своих одиссеях, хмуро вспоминал: «Я насмотрелся и натерпелся на этом проклятом этапе всего: и голода, и холода, и всевозможных оскорблений… конвойные обращались с нами буквально как с гуртом скота… а ведь по этапу гнали не только здоровых мужчин, но и больных, и женщин, и детей…» Еле живой прибыл Бауман в Уфу. Нога распухла, и Николай Эрнестович не представлял, как он доберется не только до Вятки, но и до уфимской пересыльной тюрьмы. Надо бы сесть на подводу, но просить конвойного офицера не хотелось. В дороге Бауман уже имел удовольствие столкнуться, и не раз, с этим живодером. Этап построили. И вдруг прямо на снег упала молодая женщина, самарская учительница, больная чахоткой. Это было так неожиданно, что никто не успел ее подхватить. Командир конвоя набросился на бедную женщину с бранью, приказал подняться, встать в строп Но она продолжала лежать на снегу. Бауман вышел из рядов: — Ни я, ни один из мужчин этапа не сдвинемся с места, пока вы не отправите больную на подводе. Офицер задохнулся от бешенства. Когда прибыли в тюрьму, он не преминул пожаловаться начальнику пл непокорного арестанта. Еле живого Баумана водворили в карцер. Царские опричники даже и не предполагали, что, сажая Николая Эрнестовича в карцер, они прямо-таки облагодетельствовали его. В карцере оказался свет, было сравнительно тепло, имелся топчан с матрацем и одеяло. После душного вагона, в котором нельзя было прилечь, после шума, гомона Бауман растянулся на топчане с одним желанием уснуть. Но как часто это случается с людьми, уже перешагнувшими предел усталости, сон не шел. В голове толпились беспорядочные мысли, перед глазами возникали и гасли образы, слух различал далекие голоса. То был крик утопающей курсистки, то голос с картавинкой, ленинский, то шум поезда и шум реки… Измученный физически, он все же заснул, но возбужденный мозг продолжал работать, обрывки туманных сновидений сменялись кошмарами. Потом он так явственно, так отчетливо увидел Бабушкина — Офеню. Только у Ивана Васильевича почему-то была его, Баумана, борода, и одет он в его городское пальто. Хотелось крикнуть, что нельзя в таком виде идти с коробом — схватит первый же городовой, но крик застрял в горле. А Офеня шел и шел. И Бауман слышал, как он вслух говорит: «Кто не знает на Руси офеню, ходебщика, кантюжника, коробейника? Офеня нужен всем, бабе у него припасен кусок ситца на платок, девкам — ленты в косы, в его коробе и гребни, и иглы, нитки, наперстки, найдутся и книги дешевые для чтива деревенским грамотеям, а для ребят буквари. Иконки для красного угла и лубочные картинки для закопченных стен…» Бауман поднялся на лавке. Фу, ну и сон! Впрочем, Бабушкин-то действительно так вот и ходил с коробом в Покрове, Орехове-Зуеве. Офеню на Руси любят, и не случайно Иван Васильевич обрядился в «доспехи» кантюжника. Идет и сколько же он слышит всевозможных историй, сколько жалоб. Так, по кирпичу, складывалось знание условий труда и судеб работных людей, текстильщиков. Не потому ли все корреспонденции Богдана в «Искру» до предела насыщены фактами, колоритными, точными деталями. И недаром Владимир Ильич не раз говаривал: «Пока Иван Васильевич остается на воле…» Увы, уже не на воле. Но Богдан тогда сделал свое дело, Орехово-Богородский комитет РСДРП первым в России признал программу «Искры». Бабушкин давно заметил за собой слежку, не помогло и прикрытие под офеню. Пожаловался Бауману, шутливо пожаловался, но Бауману было не до шуток. Богдана необходимо беречь, как никого другого, ведь среди агентов «Искры» он, пожалуй, единственный потомственный пролетарий. Потому ему так легко среди рабочих, потому он так быстро находит с ними и общий язык, и общие мысли. Посоветовал Ивану Васильевичу перебраться в Москву. Но именно в Москве Бабушкина выследил подлый трус Иван Макеев. Пока Бауман в карцере подбивал итоги деятельности искровских агентов, между уфимским губернатором и департаментом полиции шел оживленный обмен депешами. Когда до департамента дошло известие, что ускользнувший от наблюдения Бауман пойман, то первое, чтопришло в голову жандармам, — водворить Николая Эрнестовича на старое место ссылки. Но теперь, когда в Киеве были арестованы виднейшие агенты «Искры и готовился громкий процесс, департамент решил, что без Грача, без этого агента номер 1, как считали жандармы, обойтись на процессе нельзя. В Уфу, началыш ку жандармского управления, полетела шифрованна'! телеграмма: «Придавая личности Баумана первостепенное значение и опасаясь побега, прошу ваше превосходительство безотлагательно телеграфировать на соответствующий этапный пункт о приостановлении следования Баумана в Вятскую губернию и об отправлении его под надежным конвоем, с обеспечением полной невозможности побега, в распоряжение начальника Киевского губернского жандармского управления». Телеграфировать не пришлось, Бауман все еще был в Уфе. На следующий день открылись двери карцера; четыре конвоира, тюремная карета, поезд, неизвестность и порядком надоевшие физиономии жандармов, бодрствовавших обязательно парами. И наконец Киев. Лукьяновский тюремный замок. Бауман вскоре перезнакомился со всеми обитателями камер для политиков. И более всего его внимание привлек Максим Валлах. Невысокого роста, несколько полноватый, видимо, от рождения, Максим Максимович был очень подвижен, умел схватить на лету любую мысль, авторитет его среди заключенных был непререкаем — не случайно распределение продуктов в тюрьме было доверено именно ему. Вскоре Бауман убедился, что хотя Максим Максимович и не принадлежит к искровским организациям, но по своим, так сказать, настроениям и симпатиям близок к ним. Валлах и не мог быть искровцем, так как угодил в тюрьму до того, как в Россию был завезен № 1 газеты «Искра». Подолгу Бауман беседовал с Максимом Максимовичем и еще другим членом Киевского комитета. В этих беседах обычно принимали участие «искровцы первого призыва» — Сильвин, Крохмаль, Степан Радченко, муж Любови Николаевны, и один из шестерки, присутствовавших в Пскове при рождении «Искры». «С величайшим интересом слушали мы об организации, взглядах и планах «Искры», о заграничной дея-н'Льности и работе ее агентов на местах, в России. Нам хотелось скорее приобщиться к этой захватывающей работе по строительству партии. Мы, два члена Киевского комитета, официально заявили о своем желании вступить в организацию «Искры», — вспоминал Литвинов (Валлах). Николай Эрнестович был чрезвычайно доволен танин «приобретением». Он разгадал в Литвинове человека огромного организаторского таланта, настойчивого и далеко не робкого десятка. Не пришлось «вновь обращенному» придумывать и кличку, как пошутил Сильвин, «за прошлые заслуги» оставили старую — Папаша.
Заканчивалось утреннее чаепитие, а вернее, торопливое поглощение кружки кипятка с кусочком сахара и черного, плохо пропеченного хлеба. Торопливое потому, что на улице светило солнце, день обещал обойтись без дождя, а это означало, что заключенные смогут вдоволь надышаться чистым воздухом, набегаться, размяться так, чтобы почувствовать каждый мускул, каждую косточку. Бауман, Сильвин, Крохмаль, Гальперин, а также Пятницкий с Литвиновым бродили вдоль тюремной стены, тихонько переговаривались вдали от любопытных ушей. На днях им стало известно, что процесс над искровцами состоится осенью. Как бы его сорвать? Бауман был уверен, есть только один способ — бежать. Сильвин показал рукой на стену, покачал головой, остальные промолчали. И все же однажды появившаяся мысль — убежать из узилища — не давала Бауману покоя. Он хорошо понимал, что бежать можно только через стену. Но через стену им одним не перебраться, нужны помощники. Николай Эрнестович хорошо знал народническую литературу, и не только потому, что в последние годы ему много пришлось повоевать с молодыми народника ми. Знал и любил он те издания, которые подпольно появлялись в России в конце 70-х — начале 80-х годов, издания подлинно революционных народников, а не нынешних эпигонов. В одном из листков «Народной воли» был описан случай бегства из Лукьяновки. Однажды вечером, когда уже все набегались, напрыгались, играя в чехарду, салочки, Николай Эрнестович как бы невзначай стал вспоминать: — Будучи в Женеве, просматривал я комплекты народовольческих изданий, и, вот подите же, не думал я тогда, не гадал, что окажусь в киевской тюрьме, а именно случай, который запал в память, произошел здесь, в Лукьяновке. Его герои — Стефанович, Дейч н Бохановский. Потом я у Дейча выспрашивал подробности: действительно из ряда вон выходящий случай. Фамилия Фроленко вам о чем-нибудь говорит? Ну это был виднейший народоволец. Так вот, не то в 1878-м, не то несколько раньше устроился Михаил Фроленко и нашу тюрьму сторожем. Ну и придирался же он к заключенным. Они готовы были убить его, зато начальство души не чаяло в этом аспиде и не замедлило повысить в должности, сделало надзирателем сначала в камере уголовников, а затем и политических. А тут что ни камера, то друг, товарищ. Один неосторожный жест, слово, и, глядишь, надзиратель сам окажется в одиночке. Где уж Фроленко раздобыл солдатские мундиры — бог его знает, но достал, обрядил в них Стефановича и Бохаповского, а Дейчу не хватило, пришлось смириться. Бежать решили в полночь. И «вот уж полночь близится…», а дежурный сторож расселся и коридоре и ни с места. Тогда Стефанович взял да и выкинул в окошко камеры книгу, Фроленко тут же послал сторожа подобрать и передать смотрителю. Беглецы в коридор — там тьма кромешная. Бохановский споткнулся и, падая, ухватился за… сигнальную веревку. Ну и пошел по всей тюрьме перезвон. — Николай Эрнестович, а что-то я не видел у нас сигнальных веревок? — Наверное, заменили более совершенным способом сигнализации. — Не перебивай, Михаил! — В общем, Фроленко не растерялся, спрятал беглецов в коридоре, а сам в караулку — так, мол, и так, в темноте зацепился. Пронесло. А тут новая беда — никак своих подопечных во мраке не отыщет, а окликать нельзя. Едва нашел. Теперь нужно решать, как быть с Дейчем, — ведь он в партикулярном платье. Фроленко думал недолго, поставил Дейча между солдатами — Бохановским и Стефановичем, сам пошел впереди. Так и миновали караулку. Ну а там Днепр, лодка, и целую неделю они плыли до Кременчуга… Бауман на минуту смолк. — Так вот, друзья, своими силами мы не убежим, Фроленко рядом с нами нет. Нужна помощь товарищей с воли. Максим Максимович свяжется с Киевским комитетом, отпишем Ильичу да и в Самару… — Да, да, в Самару, в Центральный Комитет или русское бюро «Искры», — Михаил Сильвин хотел сказать что-то еще, наверное, о бюро, ведь он единственный из арестантов присутствовал тогда в январе 1902 года в Самаре, когда оно создавалось. — А остался ли кто из членов на свободе? Тебя-то схватили. — Уверен, что остались, иначе мы бы здесь встретились. Ну ладно, пошли спать…
НОКТЮРН В ПЕЛЕНКАХ

Казалось, «Искра» и ее организации в России переживали критический момент. Действительно, виднейшие агенты газеты в Лукьяновке. Арестованы члены «Северного рабочего союза», разгромлена кишиневская типография, «Нина» законсервирована.
Но нет, это только так могло показаться людям несведущим. Идеи «Искры» уже успели глубоко пустить корни в толщу рабочего класса России. На смену тем, кто попал за решетку, приходили новые люди.
1 мая 1902 года показало, что русский пролетариат от борьбы экономической уже уверенно переходит к борьбе политической. Массовые политические демонстрации в Петербурге и Нижнем, Сормове, Вильно, Смоленске и других городах свидетельствовали о том, что рабочие «завоевывали улицу», и недалек тот час, когда пролетарий начнет осваивать высшую форму классовой борьбы — вооруженное восстание. Слова Ленина: «…дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию» — воплощались в жизнь.
Елена Дмитриевна Стасова не сразу примкнула к искровцам, но уже давно была известна среди столичных марксистов своими связями с нелегалами, социал-демократами. Летом 1902 года социал-демократические комитеты, так сказать, «самоопределялись». В Саратове, Уфе, Перми они размежевались с социалистами-революционерами. Харьковский «Союз борьбы» слился с комитетом РСДРП и принял сторону «Искры». Когда Елена Дмитриевна прочла ленинскую книгу «Что делать?», то решительно заявила о своих искровских позициях. И не просто заявила, а сделалась одним из ее активнейших агентов. Рабочие Питера уже переросли своих «вождей» из петербургского «Союза борьбы», все еще ратовавших за экономические требования. Опираясь на эту рабочую массу, 14 июля на совещании с представителями Петербургского комитета Елена Стасова, Иван Радченко, Петр Красиков заявили о солидарности с «Искрой» и послали в Лондон, где в то время находился Ленин, письменное о том заявление. Аресты, провалы типографий не снимали с повестки дня один животрепещущий вопрос, вопрос о транспорте. Елена Дмитриевна подыскивала новых транспортеров, «техников», как их стали называть. И вспомнила о Николае Евгеньевиче Буренине, пианисте, сыне крупной петербургской домовладелицы. Его приобщение к «транспорту ленинских идей» проходило не без конфузов.
Неуклюжий дом на Фурштадтской по четвергам напоминает диковинную музыкальную шкатулку. Звуки нескольких роялей, падая с четвертого этажа, растекаются по улице приглушенным потоком. Николай Евгеньевич Буренин стоит под окнами. Играют Мусоргского. Потом Мусоргского сменяют ритмы Равеля. Он так давно знает этот дом, что мелодии как визитные карточки. Мусоргский, Равель — значит, Владимир Васильевич Стасов тоже там, это его любимые вещи. Вешалка забита шубами. Генеральские с бобрами Роскошные манто. И «рыбий мех» на шубейках курсисток и студентов. Но ведь это Стасовы, они принимают не по чинам — по талантам. Да, сегодня четверг, день музыкальных вечеров И во всяком случае, самый неподходящий день для передачи литературы Елене Дмитриевне Стасовой. Когда сообразил, было поздно. Его появление в гостиной встретили громкими овациями, оказывается, иг хватало партнера для игры в восемь рук. Не успел Николай Евгеньевич отдышаться, как очутился за роялем. Играл плохо, врал несусветно, Владимир Васильевич недовольно трубил в бороду какие-то проклятья н адрес «путаника и супостата», а Полина Степановна Стасова сокрушенно качала головой. — Какая впечатлительная натура у Николая Евгеньевича! Очевидно, он чем-то расстроен сегодня. А «впечатлительный» пианист страдал и после концерта за чайным столом. Ерзал на стуле, отвечал невпопад. И наконец, улучив момент, скрылся. За ним незаметно ускользнула и Елена Дмитриевна. Они встретились в ее комнате. — Случилось что-нибудь, Николай Евгеньевич? Вы сегодня просто не в своей тарелке и на рояле играли из рук вон плохо, что с вами редко бывает. Буренин взмолился: — Елена Дмитриевна, да ведь я из Финляндии! Литературу привез. Весь опутан ею, как в пеленках, едва руками и ногами двигаю. Какое уж тут играть!

Стасова так и ахнула. Ну и угораздило же его явиться в четверг! Потом расхохоталась, она-то знала, как неудобно себя чувствуешь, когда вокруг тела, рук, ног обмотаны газеты, а за пазухой листовки. — Освобождайтесь скорее! И как это никто не за метил, что вы так основательно поправились, растолстели? А чтобы не было подозрений, к роялю, восстановите свою славную репутацию! Через несколько минут «впечатлительность» у Буренина прошла, и он, к удовольствию Владимира Васильевича, не без блеска исполнял его любимые вещи. Николай Евгеньевич оказался не только талантливым пианистом, из него вышел превосходный техник социал-демократического подполья. И вскоре Елена Стасова, как агент «Искры», поручила ему весь трап спорт литературы, следовавший через Финляндию. Это было очень нелегкое дело. С одной стороны, Финляндия, имевшая какую-никакую, но все же конституцию, была открыта для привоза в нее любых изданий, выходящих за рубежом, а с другой — все равно каждый груз, следующий из Финляндии в Россию, подвергали тщательному досмотру. Но было одно обстоятельство, делавшее финский транспорт незаменимым. Ведь граница с Финляндией проходила буквально под боком столицы Российской империи. На побережье Финского залива селилась масса дачников из Петербурга. Берега залива особенно полюбились артистам, художникам, адвокатам, профессорам, а среди них было немало сочувствующих социал-демократам. Они при случае могли предоставить ночлег транспортеру, укрыть литературу, иногда и сами были не прочь рискнуть и провезти за пазухой кипу газет. Но эти средства доставки случайные, побочные. Буренин же должен найти такие способы пересылки, которые были бы и надежны и постоянны. В Финляндии немало лет существовали тайные партии «активистов» и «пассивистов». Они были далеки (it социал-демократических идеалов, предел их мечтаний — устранение беззаконии?! царизма и строгое соблюдение финляндской конституции. «Пассивисты» предпочитали об этом писать, «активисты» не прочь немного и пострелять. Они радушно принимали всякого, кто борется против царизма, не очень-то разбираясь в политических окрасках этих борцов. «Пассивисты» недурно наладили тайную переписку между своими сторонниками. Простая железнодорожная сумка, в которой обычно отправляли всю документацию на поезд и служебную переписку, не подвергалась таможенным досмотрам. Эти сумки были предоставлены в распоряжение Буренина. Но сумка хороша только для писем, а как провозить «Искру», журнал «Зарю», брошюры, листовки? Ведь их нужно много, очень много — десятки тысяч экземпляров. В сумке от силы уместится десяток. Буренин стал расширять круг своих финских знакомств. Рабочие железнодорожных мастерских, начальники маленьких дачных станций, служащие — эти люди ему очень помогли. Они разрешали посылать ящики с литературой на их адреса, сами забирали посылки, а потом у них же на квартирах приехавшие из Петербурга знакомые и «дачники» ловко рассовывали издания по карманам, вшитым в нижние юбки, по панцирям жилетов.
ПРИЗРАКИ ИЗ ЛУКЬЯНОВСКОГО ЗАМКА

Близилась осень этого бурного 1902 года. Близилась и дата процесса, который готовил генерал Новицкий.
Август стоял дождливый, вечера промозглые, холодные. Собаки носа на улицу не казали. И надзиратели Лукьяновкй только удивлялись, какая сила, какая необходимость выгоняет политиков на тюремный двор даже под дождь? В последние дни стражи заметили, что такими упорными любителями обязательных прогулок стали десять-двенадцать узников во главе с Бауманом, Литвиновым, Таршнсом, Сильвиным. Правда, Басовский гулял не часто, у него была сломана нога, и обычно дни он просиживал в кладовке за разбором продуктов.
Выбравшись на тюремный двор, дружная дюжина тут же затевала чехарду, догонялочки, но прогулка всегда заканчивалась «слоном». Так называлась гимнастическая пирамида — трое, взявшись за руки, плечо к плечу держат на них двоих, а те, в свою очередь, поднимают на плечи еще одного. Удивительно быстро у них получался этот «слон». А на верхушке почти всегда «балерина» — Бауман. Уж больно он ловок.
Со смехом, шутками рушился слон, и участники прогулки разбредались по камерам.
Но им-то было не до смеха. Искровцы уже давно вязались с Киевским комитетом РСДРП, редакцией Искры». Давно уже переданы в тюрьму для всех чистые бланки паспортов, по 100 рублей, каждый знает свою явку и все знают, что, убежав из тюрьмы, должны пробраться за границу, в Цюрих — официальный адрес «Искры».
Басовский, «разбирая» продукты, уже сплел лестницу из обрывков простыней, лестница хранилась у него и наволочке от подушки, недоставало только ступеней, их приладят в последний момент, разломав стулья. Бауман прятал снотворные порошки для надзирателей, а стальной якорек, который нужно закинуть на верхушку стены и прикрепить к нему лестницу, должны передать в день побега.
«Очередь перелезания через стенку, — вспоминал потом Сильвин, — была установлена жребием». Сильвину достался роковой — 12-й номер, он был последним. А последнему предстояло занять разговорами часового во дворе, отвлечь его внимание от двух товарищей, которым надлежало схватить солдата, связать, засунуть ему в рот кляп.
Несколько раз назначалась дата побега, и каждый раз что-нибудь да мешало. Наконец решили — 18 августа. Устроить в этот день «именины» Басовского.
День 18-го начался с передач. Жена Баумана принесла «имениннику» роскошный букет из роз и так заботилась, чтобы его не помяли, что надзиратель внял се мольбам и прямо доставил корзину в камеру. В букете был запрятан стальной якорек. Передала и большой именинный пирог, водку, а для смотрителя, капитана Сулемы, несколько бутылок лучшего коньяка.
Вечер, накрапывает дождик, а в большой камеи сдвинуты столы, за ними двенадцать узников и несколько надзирателей. Уже через несколько минут надзиратели тут же за столом засыпают, «лошадиные дозы» снотворного действуют безотказно.
Теперь во двор, на «прогулку». Сильвин кинулся к часовому, другие построили «слона», забросили якорек, подвязали лестницу, всунули ступени и… перелезают. А в суматохе забыли, что часового надлежит связать. Сильвин понял — ему не убежать, он должен пожертвовать собой во имя товарищей. Схватил часового, а тот с перепугу вцепился в Сильвина. Опомнился только тогда, когда двор опустел. Схватил винтовку, выстрелил…
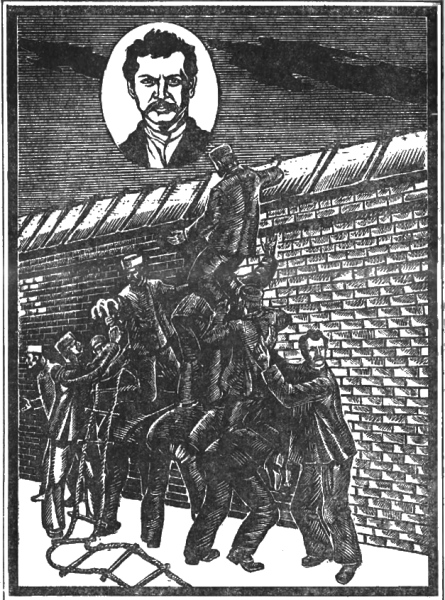
Генерал Новицкий через день должен был сообщить в Петербург: «В конце прогулочного двора, недалеко от часового, находилась висевшая на тюремной ограде самодельная лестница, свитая из кусков тюремных простынь с тринадцатью ступенями, прикрепленная железной кошкой к тюремной ограде, высотою выше 6 аршин. Около лестницы висела скрученная из простынь же веревка с узлами, которая служила подспорьем при взбирании по лестнице. Ступеньки были не только из простынь, но также из обводов венского стула и кусков дерева…»
Максим Максимович Литвинов плюхнулся в мокрую траву, вскочил, быстро перебежал дорогу, поскользнулся, падая, ухватился за какой-то колючий куст и съехал вниз. Под ногами вместо дна оврага почувствовал что-то мягкое. Человек? И первая мысль — если человек, то не полицейский ли притаился в засаде? Но тогда почему он лежит, не двигается, почему не хватает его? Наверное, кто-нибудь из своих. Прислушался. Еще когда слезал со стены, раздался выстрел, в тюрьме началась суматоха. По дороге чавкают лошадиные подковы, видно, успели уже снарядить погоню. Литвинов затаился и услышал рядом тяжелое, с астматическим присвистом дыхание загнанного человека. — Кто здесь? Молчание. Слышно, как шуршат по листве дождевые капли. — Да отвечайте же! — Литвинов приподнялся, ощупал руками распростертое тело. Стон. И шепот с хрипотцой. — Я, Блюменфельд!.. Блюм подвернул ногу. Сил хватило только на то, чтобы перевалить через стену и отбежать на несколько шагов. Что ж теперь с Блюмом делать? Литвинова на Днепре ждет лодка, но ему не донести Блюменфельда. И оставаться тут, под носом у тюремщиков, тоже нельзя. Литвинов понял, что удачно начавшийся побег с первых же шагов осложняется. Для него и для Блюменфельда… — Я сейчас, отдышусь немного… Блюменфельд не сказал «не уходи, помоги мне», но Литвинов понял. Чудак человек, да разве он может бросить товарища! В Лукьяновской тюрьме мечутся огни, доносится конское ржание. Значит, успели доложить начальству, и оно прибыло к месту происшествия. А дождик капает и капает. Литвинов промок, Блюма лихорадит. Так прошло два часа. Нужно идти. Но куда? К лодке они опоздали. Теперь одна дорога — в город. В Киеве у Литвинова масса знакомых, но именно у них-то и нельзя сейчас показываться. И все же нужно двигаться именно в Киев, затеряться в городе, в темноте, как-то скоротать ночь. Выползли из оврага. И снова скатились на дно. По дороге пляшут факелы, фыркают лошади. Слышны окрики, брань. Возвращается погоня. И, судя по тому, как ругаются тюремщики, возвращаются они с пустыми руками. Теперь вперед! Ползли по мокрой траве, месили руками грязь тюремных огородов. Поднимались на ноги и снова падали… Дождь разогнал прохожих — это плохо, на пустынных улицах, кроме них, никого. А они грязные, исцарапанные, промокшие до нитки. Блюменфельд совсем приуныл, скулит как цуцик. В конце улицы замаячил человек. Литвинов толкнул Блюма в тень. Серая фигура медленно приближалась. Но человек ведет себя очень странно. Останавливается, щупает дома… Э, да он пьян! Литвинов подхватывает Блюма под руку. — Песни какие-нибудь разухабистые знаешь? — Ты с ума сошел! — Нисколько. Вспоминай скорее! Ну, хотя бы «Вниз по матушке, по Волге»… — Так мы же в Киеве. Уж лучше «Реве тай стогне…». Блюменфельд догадался — Литвинов хорошо придумал: они должны притвориться пьяными и так, под песню, прошествовать в укромное местечко. Пьяные могли и в грязи вываляться, и физиономии расцарапать. Затянули вполголоса, обнялись и пошли покачиваясь. Но пели недолго. Сзади нагнал извозчик. — Эй вы, спивахи, садись, подвезу, если еще не все гроши спустили… Удача! Ввалились в пролетку. — Куда везти-то, чай, знаете? — В кабак! — Бога побойтесь! Ведь хороши, дальше некуда! — Поезжай, тебе говорят! Блюменфельд наклонился к уху Литвинова. — Ты что надумал? Зачем в трактир? — Переночуем где-нибудь на постоялом дворе. Там нас наверняка уж не будут искать. До постоялого двора добирались долго. Не забывали время от времени затягивать песню. Раза два встречались с полицейскими, видели, как суетятся дворники — ищут беглецов. Наконец и постоялый двор с трактиром. Извозчик постарался — привез на самый захудалый в противоположном от Лукьяновки конце Киева. В трактире за столами никого. И трактирщик куда-то отлучился. У стен широкие скамьи, часть занята пьяными мужиками, храпят, мычат. Улеглись. Скамьи жесткие, руки, подложенные под голову, быстро затекают. Блюменфельд ворочается, тихонько стонет, Литвинов же быстро заснул. Утром Блюменфельд едва растолкал Максима Максимовича. — Уходить надо! А то, не ровен час, заглянет городовой или пристав, ну и попались… Нервный человек этот Блюм! А в тюрьме держался молодцом. «Уходить!» Во-первых, куда? А во-вторых… эх, жаль, зеркала нет, а то бы подвести к нему Блюма — пусть полюбуется. Хотя зачем ему зеркало, достаточно, чтобы он оглядел его, Литвинова: у них примерно одинаковый видик. Долго чистились, умывались, руками расправляли задубевшие от воды и грязи пиджаки, брюки. Потом наскоро перекусили. — Скажите, далеко здесь до бани? Мы люди приезжие, вчера малость того… да и сверху подмокли, долго ли простудиться, а после баньки всякую простуду как рукой снимет. Блюменфельд только рот раскрыл. Судьба явно ему благоволила, послав товарищем Литвинова. Он сам никогда бы не додумался пересидеть день в бане. Там можно и костюмы почистить, там их и отгладят, а заодно они побреются, постригутся. Вечером же Максим Максимович собирается заглянуть к одной даме, «дочери мятежника». Ее отец принимал участие в польском восстании 1863 года. Адрес ему дал оставшийся в Лукьяновне товарищ по Киевскому комитету. — Банька рядом, за угол и направо. Только в парное не заходите, там печь с угарцем… Трактирщик уже давно присматривался к этой странной паре. Вчера вечером он их что-то не заметил, а видать, здорово напились и в грязи извозились. Только непохожи они на его обычных посетителей. Наверное, после баньки захотят пропустить по рюмочке-другой, значит, сюда вернутся, тогда-то он и выкачает из гуляк остатки. Банька оказалась далеко не первоклассной. Но все равно — с наслаждением полоскались часа этак три. Блюменфельд чуть кожу с себя не стер — все ему казалось, что от него песет запахом тюрьмы, карболкой, негашеной известью. Намылись всласть. Влезли в чистые отутюженные костюмы, подстриглись и почувствовали себя именинниками. Правда, не надолго, только до выхода из бани, А идти к «дочери мятежника» нужно чуть ли не через весь город. Киев показался большой-большой ловушкой, гигантской мышеловкой. На каждом шагу, у каждого дома торчат дворники, обнюхивают, оглядывают всякого прохожего. Снуют подозрительные типы, одеты как один — котелки, короткие пиджаки и обязательно бабочки. Не иначе как «пауки». По улицам неторопливо расхаживают усиленные наряды городовых. Попадаются и конные полицейские разъезды. Блюменфельд до того разволновался, что ему стало плохо, он был вынужден прислониться к стене. Это привлекло внимание прохожих, некоторые останавливаются, участливо спрашивают о самочувствии. Блюм порывается идти, но не может. Литвинов подхватил товарища под руку, прошел с ним несколько шагов и толкну;! в первую попавшуюся дверь. Огляделись. Ну и пассаж — они снова в бане! Но раздумывать не приходится. Максим Максимович купил билеты, а Блюм вдруг уперся: — Ты с ума сошел! Я не могу больше мыться! — А сидеть в тюрьме можешь? Блюм только вздохнул. Сам ведь напросился в Россию. Жил бы себе в Мюнхене, набирал бы «Искру»… Нет, потянуло «на поприще подлинной борьбы», как он тогда сказал Владимиру Ильичу. И он вспомнил… подушку. Ту, знаменитую, которую Иван Радченко из Кишинева переслал в Мюнхен доктору Леману. Хмурый от природы, Блюменфельд вдруг улыбнулся. Литвинов небось и не знает об этой посылке. С искровскими делами Папаша подробно познакомился в тюрьме, а Блюм своими руками от начала эту газету делал. Когда доктору Леману на почте сказали, что на его имя прибыла подушка, милейший доктор разразился страшной бранью. Ему показалось, что мир должен перевернуться, если в Германии, в пунктуальной, педантичной Германии, так «трагически» плохо обстоит дело с почтой. Разве ему, доктору медицины, предназначена эта посылка? И он с негодованием отверг ее. А подушечку нужно было немедленно забрать — ведь она из России, значит, предназначена не уважаемому доктору, а редакции «Искры», доктор только подставное лицо для получения корреспонденций. Леман в конце концов подушку получил. Ее доставили на квартиру Владимира Ильича. Долго по очереди мяли, недоумевали, посмеивались. Потом Блюм вспорол ее, засунул в куриный пух руку. Так и есть — журнал, а в него вложены листы брошюры Крупской «Женщина-работница». Вот тебе и пуховая набивка! «Чайный магазин» в Кишиневе, а вернее, тайная типография «Искры» — вот куда хотел попасть Блюм! Но угодил в Лукьяновскую тюрьму… Блюменфельд с отвращением ополаскивается водой. Он никогда не думал, что баня может так быстро опротиветь. Бедный Блюм и не предполагал тогда, что до вечера этого, показавшегося ему бесконечным дня придется еще раз побывать в бане… И только когда спустились сумерки, беглецы рискнули двинуться дальше в поисках квартиры «дочери мятежника». Нашли. А лучше бы и не искали. Каков был уж там сам «мятежник» — кто его ведает, но дочка явно пошла не в папу. Перепугалась насмерть, чуть ли не на коленях упрашивала оставить ее дом во имя своих детей. А дети-то и помогли, а вернее, один, гимназист. С ним удалось договориться о связи с друзьями, он догадался сунуть Литвинову удочки, и они под видом рыболовов благополучно просидели ночь на берегу Днепра. Гимназист и комнату им подыскал в квартире своих друзей. Теперь можно и оглядеться.
Следующая неделя была употреблена на отдых. Правда, владелец комнаты беспокоился по поводу прописки. Максим Максимович всячески оттягивал время, паспорта-то у них были, но липовые. Поэтому хозяину сказали, что Блюменфельд душевнобольной, из комнат они выходить не будут, дворнику на глаза не попадутся, а паспорта забыли дома, но уже выписали их по почте. Когда оставались наедине, Литвинов подшучивал над «душевнобольным». А киевских жандармов и полицию по-прежнему лихорадило. Вокзалы и все полустанки железной дороги в радиусе чуть не на сотню верст усиленно охранялись. Не многим беглецам удалось пока вырваться из города, большинство отсиживалось по друзьям и знакомым. Блюменфельд тоже был за отсиживание, его пугала перспектива вновь ринуться в неведомые дали и приключения. Литвинову не терпелось покинуть Киев и скорее очутиться за границей. Правда, смущало одно — при побеге, как было условлено, ему с Блюменфельдом надлежало связать часового, засунуть ему в рот кляп, пока Сильвин держит стража. Да так получилось, что Блюм сразу махнул через степу, Папаша по очереди должен был лезть за ним, произошла заминка, ну и он полез. Акактам Сильвин — Бродяга? Что, если не ушел? Стыдно будет на глаза показаться товарищам, да и для первого знакомства с Лениным визитная карточка подмочена. В первый день, в волнениях об этом не думалось, а в трактире полез в карман — веревка… Вот и грызет, тревожит совесть. Владелец квартиры в конце концов потребовал паспорт…
«Черт, почему не расспросил аборигенов о местности вокруг тюрьмы», — подумал Бауман, с трудом выбираясь из ямы с водой. М-да! Выкупался изрядно, и ладонь жжет огнем, нельзя было так стремительно скользить по веревке. Бауман вновь споткнулся, чуть не упал, фуражка слетела и исчезла в темноте, и, что самое глупое, он почувствовал, как от обоих сапог отвалились подметки. А ведь жена Капитолина ждет его не где-нибудь, а i! «Северной гостинице». В таком виде туда, конечно, и носа совать нельзя. Есть запасной адрес, там должен быть товарищ, ему поручено принять беглецов, если они почему-либо не смогли попасть на лодки или в иные обусловленные места.
Капитолина Медведева разоделась, заказала роскошный ужин. Проходит час, другой, а Николая нет и нет… В эту бесконечную ночь Капитолина не сомкнула глаз. Какие только мрачные мысли не лезут в голову: «Опять не удалось», «поймали», «ведь по беглецам могли и стрелять!..» Да, как трудно быть женой революционера-профессионала. И хотя она тоже искровка, по считает, что только посильно помогает мужу. И ей, как всякой женщине, так хочется иметь свой дом, детей. Нет, это не мечты о мещанском счастье, это просто то, что Николай Эрнестович называет «не чуждо ничто человеческое». А он сам? Когда они познакомились в Швейцарии, то она с удивлением узнала, что Бауман, этот веселый, остроумный, широко эрудированный и к тому же (чего греха таить) очень красивый мужчина, — ветеринар. В ее представлении «скотский врач» — этакий мужичина, заросший до глаз бородищей, с огромными лапами, грубым голосом и вечно плохо пахнущий, вечно полупьяный. Спросила Николая, почему он избрал ветеринарию, н получила лаконичный ответ: «Ветеринарный врач — работа, близкая народу и ему нужная». Бауман заявился в номере, когда уже исчезли все надежды. Пришел не один, с какой-то дамой, которая тут же распрощалась. И что удивительней всего, был чистенький, тщательно подбритый. Правда, костюм сидел на нем не слишком элегантно, но это могло броситься в глаза только жене. Один за другим прибывали в Цюрих беглецы. Наперебой рассказывают о своих одиссеях, жадно ловят газетные отклики на «сенсацию дня». Всюду — и и России, и за границей — массовый побег искровцев произвел огромное впечатление. Авторитет «Искры» небывало возрос. Все это вселяло бодрость, желание скорее взяться за работу. Поэтому, когда кто-то из товарищей предложил отпраздновать благополучный побег в ресторане близ знаменитого Рейнского водопада, идея была встречена с восторгом. К Шауфгаузену подъезжали, когда садилось солнце. Живописен здесь Рейн. Стиснутый высокими берегами, быстрый, полноводный, он кажется упругой стальной пружиной. Примерно за полверсты до Шауфгаузена река начинает волноваться, встречая на своем пути скалы, пенится от негодования, крутит водовороты, возмущенная тем, что ей преграждают русло. Дорога отходит от реки в сторону, к лесу. А Рейн падает вниз, раздвигает берега, в ярости перемахивает через двадцатичетырехметровую каменную гряду и широченной лавиной, со страшным шумом сливается в котловину. Затем, довольный своим головокружительным прыжком, с добродушным ворчанием течет дальше. В ресторанчике почти пусто. В закрытое стеклянное помещение грохот воды проникает не слишком громким рокотом. Сначала это немного раздражает, потом, когда привыкнешь, даже нравится. Давно забытая, а многим и незнакомая экзотика. Но здесь все же нужно говорить громко, беглецы же давно приучены к шепоту, поэтому общий разговор за столом распадается, оживленно беседуют только ближайшие соседи. — Товарищи, у меня превосходная мысль! А не послать ли нам поздравительную телеграмму достопочтенному начальнику киевских жандармов, его превосходительству генералу Новицкому? Кто это предложил, не заметили, но предложение встретили веселыми криками. И тут же уселись сочинять текст. Неожиданно заговорил Литвинов: — Стойте, друзья, у меня есть для вас небольшая новость. Вчера я встретил приехавших в Цюрих русских студентов-киевлян. Они рассказывают, что Новицкого не то отстраняют, не то награждают. У нас, в России, все может статься. Но во всяком случае, где-то или в этом сентябре, а может быть, немного позже, Василий Дементьевич собирается отмечать свой двадцатипятилетний жандармский юбилей. Мы не должны остаться в стороне, тем более, как уверяют студенты, а они близко стоят к Киевскому комитету социал-демократов, что киевляне уже заказали чуть ли не Водовозову написать поздравление. Они показали мне копию: «Ваше превосходительство высокочтимый Василий Дементьевич! До нас дошла весть, что Вы, Ваше превосходительство, собираетесь покинуть тот пост, на котором Вы со славой подвизаетесь уже четверть века. Она повергла нас в глубочайшую скорбь…» — Ну, это предисловие, вот дальше: «Четверть века стояли Вы на своем посту. Многие тысячи лиц подвергнуты Вами за это время аресту, еще более число — обыскам, несколько сотен людей отправили Вы в более или менее отдаленные места Европейской и Азиатской России. При этом у Вас была своя система. Лишь в редких случаях Вы искали себе жертвы в рядах той или другой революционной фракции и систематически избегали трогать нас — членов комитета социал-демократической партии, уже по многу лет принадлежавших к его составу. Наша новая типография существует в Киеве почти четыре года; за эти годы беспрерывной работы шрифт успел стереться, и хотя за это время Вы обшарили не менее тысячи квартир, но при этом Вы всегда выбирали именно те, где типографии нет и быть не может… …Глубоко благодарные Вам за все Ваши услуги, мы не без зависти смотрим на наших московских товарищей, которые отныне, судя по газетным слухам, будут осчастливлены Вашей помощью, и шлем Вам пожелание еще многие годы продолжать Вашу столь же целесообразную деятельность, хотя и вдали от нас. Мы уверены, что высшее начальство и впредь будет оказывать Вам свое благоволение, как оно его оказало а текущем году, вверив Вам ведение всероссийского дела о революционной организации «Искры». Вы любезно предоставили возможность десяти обвиняемым по этому делу уйти из киевской тюрьмы и затем благоразумно направили следствие по ложному следу. Если слух о переводе Вашем в Москву не окажется газетной уткой и Вы действительно покинете нас, смеем надеяться, что Ваш заместитель окажется достойным Вас. Преданный Вам Киевский комитет Российской социал-демократической рабочей партии».
— Товарищи, я не ручаюсь, что это точная копия текста, который будет опубликован, но думаю, что, редактируя нашу телеграмму, мы должны учитывать и это юбилейное послание. Спорили долго. Но в конце концов сошлись на том, что они доложат генералу Новицкому о своем благополучном прибытии за границу, поблагодарят за головотяпство и выразят надежду, что в скором времени встретятся, но уже поменявшись ролями.
Все же в Швейцарию хорошо приезжать туристом, на время. Полюбоваться лазурью озер, горными ландшафтами, покормить лебедей и послушать разноголосый перезвон колокольчиков швейцарских чудесниц — коров. Но как же надоела эта богоспасаемая страна, с ее горами, седловинами, когда изо дня в день разъезжаешь от селения к селению, городка к городку, и глаза ищут не снежные вершины и не изумрудные луга, а прозаические почтовые ящики. Максим Максимович устал от трудного подъема. На стареньком скрипучем велосипеде по Швейцарии много не покатаешься. А вот Ильич мечтает приобрести велосипед, чтобы уезжать куда-либо в горы, где так хорошо думается в одиночестве. Литвинов с наслаждением растянулся на траве под сенью ветвистого дерева, породы которого он не знает, но тени оно дает предостаточно. У него осталось еще несколько пакетов о «Искрой», их сегодня необходимо отправить из разных селений, чтобы в России не вызвала подозрения обильная почта из одного какого-либо места, например Цюриха. Это он придумал рассылать «Искру» официально по почте, малыми партиями, но обязательно из разных почтовых контор. Сам придумал, сам и развозит. И вот дорога завела его куда-то в поднебесье. Вполне вероятно, что она может оборваться у дверей какого-либо горного пансионата, где нет почты. От усталости он не уследил, куда свернуло шоссе, где оно сузилось в тропинку, жал и жал на педали. Литвинов протянул натруженные ноги. Он, конечно, несправедлив, когда ворчит на примелькавшиеся ландшафты Швейцарии. Давно ли прогулка по тюремному дворику и голубое небо над головой были предметом ежедневных мечтаний. Вспомнил о Лукьяновке, вспомнил и об отце. И смешно и грустно, а ведь его отца однажды арестовали по доносу и шесть недель держали в тюрьме. Пятилетнему Максиму разрешали навещать отца, так что в тюрьму он попал раньше, нежели в начальную школу… Недолгая передышка, и снова дороги, тропинки, селения, городки и почтовые ящики. Литвинов торопится вернуться в Цюрих, сегодня вечером ему предстоит написать еще финансовый отчет по Заграничной лиге русской социал-демократии. Его недавно избрали членом администрации лиги, доверие высокое, его еще надо оправдать. И Литвинов думает, что не последнюю роль в этом избрании сыграло его прошлое… бухгалтера в городе Клинцах. Недаром он занимается финансами лиги. А с финансами дела обстоят плохо. Эмигранты в основном народ беднейший, сами чуть ли не голодают и, конечно, в фонд лиги много принести не в состоянии. Кое-какие поступления идут от представителей западной социал-демократии. Но расходы по транспортировке «Искры», «Зари», печатанью, поездкам агентов съедают эти поступления без остатка. Приходится теребить местные искровские комитеты в России: получили литературу — платите! И Владимир Ильич считает, что это правильно. Конечно, агентам «Иск}ты», работающим в России, и без того тяжело, а тут еще отсутствие денег. Худо, когда, заметая следы, приходится менять места жительства, вышагивая по городу версты и версты, питаться как-нибудь, экономя на себе каждую партийную копейку. Но никто не жалуется, все считают такое положение в порядке вещей. А вот он, Литвинов, болеет за каждого, ему-то, финансисту лиги, лучше чем кому-либо известно, как трудно тем, кто завтра получит его пакеты и будет развозить их по городам и рабочим поселкам. Недавно прибывший из России товарищ рассказывал, как он чуть было не попался, Ехал в поезде без билета, на билет не было денег. И вдруг видит — контролеры идут. Что делать? Обнаружат безбилетника, потребуют платить штраф, а денег-то ни копейки! Задержат, на первой же станции сдадут в полицию, а документы-то у этого товарища липа. Кинулся он в другой вагон, потом в следующий, хотел прыгнуть на ходу — куда там, поезд этак верст 50 в час делает. Совсем уж было смирился. И вдруг… что за наваждение, по вагону идет проводник и раздает билеты так, бесплатно. Поравнялся с нашим товарищем, тот протянул руку и на тебе… билет. Потом только выяснил, что в вагоне, куда он перебрался, ехала партия, человек двадцать-тридцать, собравшихся нелегально переходить границу. Контрабандист, который взялся провести эту группу, договорился с проводником, за соответствующую мзду конечно. А тут контроль. Где уж проводник добыл билеты — это его дело, а товарищ наш не растерялся, вместе с этой партией и границу перешел, и притом бесплатно. А разве не отсутствие денег на покупку парика только чудом не обернулось новой тюрьмой для самого лучшего агента «Искры»? Сию притчу Литвинов слышал от Надежды Константиновны Крупской. Случилось это в те дни, когда он и его товарищи только что прибыли в Цюрих после побега. Ильичи в то время жили в Лондоне, там же издавалась и «Искра». Жили они на квартире благонравной и благовоспитанной мистрис Йо. Хозяйка только диву давалась, сколько у ее постояльцев — Рихтеров (под этим именем были прописаны Ильичи) знакомых, сколько чая они выпивают за день и какая уйма писем идет по ее адресу для них. Но, насмотревшись всякого, мистрис Йо была просто ошеломлена, когда открыла на стук медного молоточка дверь и перед ней предстал мужчина с ярко-малиновыми волосами. Он твердил одно — Рихтер, Рихтер, а мистрис Йо не могла оторвать глаз от его шевелюры. Нс сразу этого малиноволосого гостя признал и Владимир Ильич. Потом смеялись до слез, а ведь Ива ну Васильевичу Бабушкину было не до смеха, когда через два дня после побега из екатеринославской тюрьмы, перекрашенный «партийным парикмахером» и жгучего брюнета, он вдруг обнаружил, что «патентованная» краска выгорела, и ему предстоит пропутешествовать через всю Европу, добираться до Лондона в облике малиноволосого чудища. Так от Киева до Лондона и проехал, не снимая шляпы. А были бы деньги, купил бы парик и не пугал бы честной народ. Недолго тогда Бабушкин гостил у Ильичей, но, как рассказывала Крупская, написал по настоянию Владимира Ильича свои воспоминания. Это, кажется, первые в истории русского пролетариата мемуары рабочего, ставшего революционером-профессионалом. Написал — и снова в Россию, снова беспокойная, многотрудная жизнь агента «Искры», глашатая ленинских идей по городам и весям необъятной империи. Вот ведь вспомнил о Бабушкине и даже про себя заговорил этаким «высоким штилем». А что? Иван Васильевич егозаслужил… Только поздно вечером, усталый, с гудящими ногами, Максим Максимович вернулся в Цюрих. А завтра снова в путь по новым дорогам и тропкам, по новым городам и селениям Швейцарии.
«ЛОШАДИ» В ПОДПОЛЬНОЙ КОНЮШНЕ

В поисках безопасного «жилища» для «Нины» Кецховели объехал немало городов России. Тщетно! В Баку он вернулся ни с чем. Но в своих поездках Ладо воочию убедился в том, как трудно сейчас приходится социал-демократическим комитетам. Они буквально задыхались, не имея в достаточном количестве литературы. Той же, которая поступает непосредственно из-за границы, катастрофически не хватало. А ленинскую «Искру» требовали рабочие, она была необходима революционерам-профессионалам, ведущим агитационную и пропагандистскую работу на фабриках и заводах, в университетах и железнодорожных мастерских. Вывод напрашивался сам.
«Нина» должна работать!
Кецховели не любил и не умел откладывать дела на потом. Уже на следующий день по приезде Ладо рыскал по Баку, его мусульманским кварталам. Чадровая улица, дом Джпбраила — лучшего помещения и не придумаешь.
Кецховели был прирожденным артистом и к Джи-браилу явился как мелкий хитрый предприниматель, Хозяин будет доволен, если отдаст внаем дом. Уважаемый Джибраил, наверное, не знает, что такое картонажное дело? О, это такое предприятие, в которое стоит вложить деньги. Нет, нет, пусть он посмотрит и убедится, а тогда, пожалуйста, Давид Деметришвили возьмет его в пай.
Джибраил очарован, у него разгорелись глаза. Он, конечно, хочет быть компаньоном такого симпатичного гурджи. Он сдаст дом, но они должны побрататься. На этакий поворот Кецховели и не рассчитывал. Какая удача! Ведь если кто-либо на Востоке побратается, особенно мусульманин, нет вернее поруки, что не выдаст, не продаст.
Авель Енукидзе и наборщик Болквадзе такой чести удостоены не были, но Джибраил и их принял хорошо.
Машину получили с пристани и установили за два дня. Теперь нужно было как можно скорее перевезти из Аджикабула шрифт. Виктору Бакрадзе на поездки Баку — Аджикабул и обратно приходилось тратить трое суток. Если он будет брать по одному пакету со шрифтом, то пятнадцать пудов придется таскать больше месяца. Бакрадзе предложил возить большими партиями, благо в тендере паровоза места достаточно, но Кецховели не хотел рисковать.
Шли недели. Раз в три дня на станции Баку-Товарная появлялся Авель Енукидзе и молча принимал очередной пакет. Уже десять пудов шрифта заняли свои ячейки в наборных кассах. И Виктор Бакрадзе, никому ничего не сказав, решил рискнуть. Он свободно поднимает пять пудов. Пакеты очень компактные. Если пронести их, так сказать, изящно, непринужденно, то никто со стороны не подумает, что человек тащит этакую тяжесть.
Пять пакетов, связанных вместе одной веревкой, напоминали большой тюк, в котором перевозят сушеные фрукты. Бакрадзе подхватил его одной рукой и не торопясь двинулся вдоль перрона. Вон уже виден паровоз, готовый выйти под поезд. Бакрадзе подходит к концу платформы, остается взойти на виадук и спуститься в депо.
Веревка лопается… Нижний пакет зацепился за железную стойку ограды и порвался. Легкой струйкой на грязный асфальт сыплются маленькие свинцовые литеры.
Бакрадзе растерялся. Первая мысль — бросить тюк и бежать, пока не заметили станционные жандармы.
Осторожно огляделся. К виадуку приближаются несколько рабочих из депо и станционный служитель. Нет, он не смеет бежать, шрифт ждут в Баку. Не может он бежать и потому, что эти вот рабочие не знают, какая беда стряслась с ним, Бакрадзе. Они заметят, что он бросил тюк, примут за вора, кинутся в погоню…
Виктор садится на корточки так, чтобы заслонить широкой спиной тюк. Ладонями прямо с пылью, с мусором сгребает рассыпавшиеся литеры, ссыпает их в карманы, сует за пазуху. Скорее, только скорее!
Две тяжелые руки легли на плечи…
Страж предлагает идти вперед и не оглядываться. С трудом, покряхтывая, жандарм взваливает на плечо тюк и, шатаясь, бредет к станции. Бакрадзе косит глаза в стороны. Нет, не убежишь. Рядом с жандармами помощник начальника депо — Регенкашиф. Улыбается скверной, наглой улыбкой, кивает головой стражникам. Подлец, конечно! Это он — бывший машинист и выслужившийся наушник — передал его в руки охранки. Но как он заметил? Наверное, следил раньше.
Авель Енукидзе юркнул в проходной двор, перелез через невысокую глиняную стену, больно ударившись при этом коленкой. И так, хромая, непрерывно оглядываясь, доплелся до квартиры, где. жили два железнодорожных машиниста: Евсей Георгобиани и Дмитрий Бакрадзе. Здесь он рассчитывал застать Кецховели п не ошибся. — Беда, Ладо! Виктора Бакрадзе арестовали с шрифтом… Уходи скорей отсюда, пожалуйста! Сейчас приду г полицейские, ведь они обязательно обыщут все квартиры, в которых живут люди по фамилии Бакрадзе, а тут ведь прописан Дмитрий… Кецховели ничего не сказал. Сел на табурет. Судорожным движением закрыл лицо и начал медленно раскачиваться. Енукидзе испугался, он знал, как тяжело пришлось Ладо в эти последние месяцы бесконечных скитаний по России, как он устал от каждодневных переходов с квартиры на квартиру, две ночи подряд на одной и той же он не ночевал. Знал Енукидзе и другое — Ладо был мягким, отзывчивым человеком, несчастье товарища было и его несчастьем. — Ладо, Ладо, мы теряем время! Ну перестань же, перестань плакать!.. Енукидзе чувствовал, что сейчас расплачется сам. Нельзя было смотреть без слез на то, как этот закаленный, привыкший к любым лишениям человек плачет. Плачет о друге, оплакивает то дело, которому отдал всего себя. — Нервы, Ладо, нервы, дорогой мой! — Я не смогу пережить, если его арестуют из-за меня, а я останусь на свободе! — Почему из-за тебя? Перестань говорить глупости, пожалуйста. Идем! Но Енукидзе ничего не мог поделать с Ладо. Кецховели вдруг вскочил со стула и, возбужденно жестикулируя, путая грузинскую речь с русской, заявил, что решил отдаться в руки полиции, это спасет многих товарищей от провала, спасет типографию. И Енукидзе должен немедленно убираться отсюда, идти очищать квартиру Виктора Бакрадзе и обязательно спрятать в новое место типографскую машину. Ну что с ним делать? Силой ведь не утащишь. А утащил бы, если бы были силы. Енукидзе с тяжелым сердцем ушел. Квартиру Виктора Бакрадзе очистили товарищи с Каспийского машиностроительного завода, на это потребовалось не более часа. И снова Авель очутился у дома, где оставил Кецховели. Еще несколько часов назад прохожие шли мимо этого невзрачного домишки, не удостоив его взглядом. Теперь же здесь толпился народ, полиция отгоняла любопытных, охотно пропускала любого во двор и никого не выпускала. Потом Авель так и не мог понять, почему он решил войти. Наверное, какие-то силы, которые не поддавались контролю разума, увлекли его в ту комнату, где уже шел обыск и под охраной полицейских находился Ладо. Завидев Авеля, спокойно сидевший Кецховели сорвался. Забыв о том, что он под стражей, что Авеля давно разыскивает охранка, Ладо принялся бранить его. Ругался по-грузински. К моменту ареста Кецховели успел уже опомниться от нервного шока, который довел его до глупости, и вот пожалуйста, теперь ту же непростительную оплошность совершил Енукидзе… Увы, жандармский ротмистр Вальтер хорошо знал грузинский язык. Авеля сейчас же взяли под стражу и обыскали. Составив протокол, жандармский начальник Порошин и ротмистр Вальтер сочли возможным отпустить Енукидзе. Ни Енукидзе, ни Кецховели такого исхода не ожидали. Ладо никак не мог скрыть счастливой улыбки, ну а Авель не заставил себя долго упрашивать. Ладо успел шепнуть, что жандармы отобрали у него три паспорта и в одном из них прописка в доме Джибраила. Нужно было немедленно спасать типографию.
Леонид Борисович Красин эту ночь спал плохо, мучили кошмары. Снилась ему одиночка Таганской тюрьмы. Гвоздем на штукатурке он решает какую-то математическую задачу и никак не может решить, а вокруг кривляются, смеются, кружатся шахматные фигурки, которые он сам вылепил из хлебного мякиша. Сквозь сон ему слышатся тяжелые удары в дверь: может быть, это новый кошмар? Красин открывает глаза. Темно. Стучится в берег Каспий. А за дверью тихо, наверное, почудилось. Нет, снова стучат. Только очень осторожно, еле слышно, а во сне казалось — громко. Кто бы это мог в такую рань? И первая мысль о жандармах. Сколько уж раз в его жизни они стучались по утрам! Но жандармы стучатся иначе. Красин зажигает свет, отпирает дверь. На Енукидзе нет лица. — Арестован Кецховели! Нужно спасать типографию! Паспорт Ладо прописан на Чадровой улице… У нас нет денег, чтобы нанять извозчиков… Авель говорит отрывисто, никак не совладает с дыханием. — Который час? — Восемь. — А почему такая темень? Вопрос о времени и темноте Красин задал машинально, думая о другом: контора еще закрыта, будить Козеренко, открывать кассу — это добрых полчаса. Теперь же счет идет на минуты. — Вот шестьдесят золотом. Хватит? У Красина больше не было, но Енукидзе эти деньги показались целым богатством. Теперь весь вопрос в том, кто скорее, он или жандармы. Если он, то типография спасена, он увезет машину на пристань и снова сдаст ее на хранение. Если жандармы, то он будет арестован, а типография погибнет. Когда нанятые Авелем подводы остановились у дома Джибраила, хозяин набросился на Авеля. Что все это значит? Где Давид? Енукидзе вдохновенно врал: — Он велел кланяться вам и в знак дружбы и благодарности оставляет всю домашнюю утварь и пару своих новых галош… — Я спрашиваю, где Давид? — О, сегодня ночью в Тифлисе умерла его бедная жена… Несчастный Давид спешно уехал, поручив нам ликвидировать предприятие… Енукидзе нервничал. Опять задержка! А Джибраил что-то там бормочет о своем бедном друге. Ну да аллах с ним! Вместе с Болквадзе они взвалили на подводу первый ящик, возчики ухватились за второй. Но Джибраил вдруг прервал свои причитания и загородил дорогу: — Вы хотите ограбить моего друга!.. Никакие уговоры, клятвы, призывы к разуму и даже к самым почитаемым мусульманским святым не помогали. Упрямый хозяин требовал по крайней мере письменного уведомления Давида. А время шло. Енукидзе отчаялся. Если бы не возчики, он бы решился на крайний шаг: связал бы Джибраила, кляп в рот, и поминай как звали! Ежеминутно то Авель, то Болквадзе выскакивали за калитку, оглядывали улицу. Просто непонятно, почему до сих пор не прибыли жандармы? В соседнем доме кто-то стучит в дверь, может быть, они ошиблись адресом? И снова Авель выглядывает за ворота. Нет, это почтальон. Господи, да как он сразу не вспомнил! Енукидзе заставляет себя мило улыбнуться. — Уважаемый ходжа, мы все погорячились. Ты прав, охраняя добро друга. Но мы тоже его друзья. Пиши телеграмму в Тифлис Давиду, мы пошлем ее и получим ответ. Ты согласен? Джибраил согласен. Авель поспешил на бакинский почтамт, не переставая всю дорогу ругать себя ишаком. Как он мог забыть об Александре Чогшеве, заведующем телеграфным отделом! Сколько времени он потерял! А если Чогшева сейчас нет на службе? К счастью, Чогшев был на месте и понял Авеля с полуслова. Через час Енукидзе уже мчался обратно. Конечно, кому другому, кто привык иметь дело с телеграфной связью, этакий быстрый обмен депешами показался бы более чем подозрительным. Но Джибраил поверил. Да разве мог он не поверить, когда телеграмма имела честь по чести номер, была отстукана на ленте и подписана: «Убитый горем Давид». Болквадзе уже взвалил на плечи очередной ящик, как вдруг Джибраил вновь преградил ему дорогу: — С виду вы люди хорошие, а на деле, может быть, вы мошенники и жулики. И хотите ограбить моего друга… Ну что с ним будешь делать? Енукидзе отпустил подводы. Бессонная ночь, арест, неожиданное освобождение, бесконечные споры — у него уже нет сил. Болквадзе все еще пытается усовестить хозяина, но его красноречие приводит к результатам совсем неожиданным. Джибраил что-то шепчет своему работнику, тот кивает головой и скрывается за калиткой. Енукидзе даже не понял, а скорее почувствовал — работник побежал в ближайший околоток. Наверное, хозяин шепнул ему: «Передай околоточному, что ко мне явились два подозрительных типа, которых следовало бы задержать». Значит, околоточный через несколько минут будет здесь. Болквадзе, видимо, тоже сообразил, куда побежал этот жалкий раб. Ну что же, если хозяин так глуп, то нужно открыть ему глаза. — Твой друг Давид арестован. В ящиках типографская машина, и никакой картонажной мастерской Давид открывать не собирался! Джибраил все еще петушился: — А что он собирался делать? — Собирался печатать книжки против правительства! Понял? Хотел свергнуть царя! Тоже понял? Так вот, сейчас придут полицейские — ты сам за ними послал. Нас арестуют, но арестуют и тебя. Понял? Десять лет каторги! Нет, дорогой, не в Баку, а в Сибири. Ты видел когда-нибудь снег? Может быть, ты знаком с белыми медведями?.. Только тут Джибраил поверил. И теперь ему не нужно телеграмм, клятв, святых. — Скажите, есть ли спасение? — Скорее вывезти типографскую машину, шрифт… Хозяин уже не слышал последних слов, словно молодой ишак, которого огрели хворостинкой, он выскочил на улицу. Оставалось только ждать и надеяться. Через полчаса Джибраил вернулся весь взмыленный. И у него не хватило времени, чтобы воздеть руки к небу и славить аллаха. Он встретил околоточного почти рядом с домом. И — о всемогущий аллах — в хозяйском халате оказалась золотая пятерка… Болквадзе не стал слушать, он хотел бежать на пристань, чтобы вернуть подводы. Джибраил загородил дверь. — Нет, нет, нет! С ящиками вас задержат! У меня есть татарские арбы… И в ближайшем селе у него сад, там никто не будет искать эти проклятые ящики. Их не нашли. Но Енукидзе арестовали.
— А я еще и еще раз требую соблюдения строжайшей конспиративности. Поведение Ладо считаю недопустимым… Красин так и не подобрал подходящего слова. Говорил он сурово, с болью: — Помните, товарищи, наш провал — это провал и тех, кто с невероятными трудностями провозит в Россию социал-демократические издания. Мы не имеем права ставить под удар с такими мучениями налаженную транспортную сеть. Особенно сейчас, когда мы вплотную подошли к съезду. Да, да, к новому съезду партии, Он не за горами, и потому каждое слово Ленина должно быть услышано во всех социал-демократических искровских комитетах. Арест Кецховели и Авеля ставит нас в положение чрезвычайное. «Нина» должна работать! Вот перед вами последний номер «Искры», я специально захватил его с собой… Нет, нет, читать вы будете потом. Вы думаете, он прибыл к нам обычным, «лошадиным» путем через Тавриз? Нет, хоть нас и величают «конягами», «лошадьми» с Баиловского мыса, но на сей раз газету доставили иным путем. Посмотрите, видите эти расплывающиеся пятна, этот смытый текст? А на трассе через Персию наши лошади, настоящие, конечно, очень страдают от отсутствия воды. Когда умолкла «Нина», Ленин усилил пересылку газеты через западные границы. Но полиции стали известны многие наши пути, она перехватывает транспорты там, где раньше они проходили спокойно. Большой транспорт провалился на литовской границе. Россия могла остаться без этого номера «Искры». И вот тогда группа социал-демократов, издающих журнал «Жизнь», предложила переправлять газету своими каналами. Как я выяснил, издатели «Жизни» пользовались услугами русских крестьян-раскольников, изгнанных из России и проживающих в Румынии и Болгарии. Раскольники сами пострадали от царских властей и потому охотно включились в борьбу за политическое переустройство России. Работали не за деньги, за совесть, за идею, хотя у нас с ними идеи разные. Литературу возили через Дунай на лодках. Этим искусным рыбакам знакомы тайные протоки и затоны, поросшие густым камышом. Они частенько наведываются к себе домой, в Россию. Когда переправляли тюки с этим, последним номером «Искры», лодки заметил русский пограничный разъезд. Солдаты открыли стрельбу по камышам. Рыбаки не растерялись, быстро отгребли на открытое место, тюки опустили в воду, привязав к ним веревки. Красин рассказывал так, словно сам сидел в лодке. А между тем там, на далеком дунайском берегу, завязался опасный диалог: — В чем дело? — недоуменно спросили рыбаки у стражи. — Что везете? — Пустые, рыбу ловим. — Куда же вас черт занес? — Отнесло и не заметили… — Рыбаки на глазах у солдат вытащили пустые сети, наскоро перед этим сброшенные в реку. — То-то, «отнесло»! Проваливайте отсюда, стрелять будем! Только отгребли к румынскому берегу, как румынский патруль открыл огонь. Лодку пробили пули, ее начало заливать. Чтобы скорее выйти из-под огня, выбросили сети, а ведь это самое ценное в рыбацком имуществе. Но тюки с литературой не бросили, на веревках тащили под водой. Потом ночью все же переправили на русский берег.
Расходились молча. Завтра будет новый день, новые опасности. Они поставят типографию и вновь будут перепечатывать «Искру», «Зарю», ленинские брошюры. «Нина» не может молчать.
…Где достать денег? Много денег. Может быть, впервые Леонид Борисович пожалел о том, что он не капиталист. Что ж, были ведь и миллионеры, которые жертвовали на революционные дела. Был же у народовольцев миллионер Лизогуб. Его потом повесили. А у социал-демократов Москвы, говорят, объявился миллионщик-фабрикант Морозов. А вот он не миллионер. Как-то уж так получилось, что он «в рабочем порядке» стал главным финансистом искровских организаций. А где добывать деньги? Как их добывать? Собственное жалованье? Но это сотни. А партии нужны тысячи. Чтобы работала бесперебойно «Нина». Чтобы она не нуждалась в бумаге. Чтобы типография имела надежное убежище. И пора приобрести новую маши ну. Чтобы… Чтобы… Но к чему сейчас все эти напрасные стенания. Партийные взносы поступают пока очень скупо, возможно, со временем наберется нужная сумма, но это со временем. И разве дело только в этой типографии? Да, у партии тысячи дел, для осуществления которых необходимы деньги и деньги. Когда-нибудь не станет денег. Но тогда и не нужны будут подпольные типографии. А пока? Время не ждет, и он не может ждать, не имеет нрава. Ждать сейчас — преступление. В России стачки, забастовки, демонстрации. Пролетарская Русь вышла на улицу, и уже прогремели первые уличные бои. Обуховская оборона — это ли не вооруженное сопротивление полиции, войскам. Сегодня сопротивление, завтра наступление. Пролетарская Россия ждет указаний своей партии, она ждет ленинского слова, она ждет новых номеров своей газеты. Красин не замечает оживленных бакинских улиц, прохожих. Он то и дело натыкается на них, приподнимает модный котелок, просит прощения и снова сталкивается. Нет, так нельзя. Леонид Борисович заставляет себя не думать о деньгах, недоставало еще, чтобы он стал бормотать вслух! У театра толпа. Странно. В Баку не так много заядлых театралов. И такое стечение любителей бывает только в дни гастролей каких-либо столичных или иностранных знаменитостей. Красин подходит ближе. Он не ошибся — в Баку приезжает замечательная русская актриса Вера Федоровна Комиссаржевская. Теперь понятно, почему тесно у касс — билеты расхватываются загодя. Комиссаржевскую в Баку знают, любят, она не раз блистала здесь. Красин тоже видел ее в былые годы. А как это было давно: Петербург, Технологический институт, театр, студенческие сходки, кухмистерские, потом бесконечные скитания. Где-то там, в мелькнувшей юности, затеплел образ актрисы. Теперь он может вспомнить чьи-то слова о том, что Комиссаржевская обаятельная, милая, отзывчивая женщина. Кто-то говорил, что она радикалка и даже чуть ли не революционерка… Боже мой, это слово не выходит из моды вот уже полстолетия! И каждый интеллигентик, умеющий показывать кукиш в кармане, кичится перед женой своей революционностью. Комиссаржевская — революционерка? Что ж, все может быть, ведь идет же переписка Ленина с московскими искровцами через артиста Художественного театра Василия Качалова. Революционерка? Но в Баку болтают о том, что местный жандармский начальник влюблен в актрису и готов ради своего кумира пуститься на всякие благоглупости. Красин с трудом выбрался из толпы и спустился к морю. От воды веет прохладой, море успокаивает, здесь хорошо думается. По набережной снуют разносчики прохладительных напитков. Отовсюду слышны обрывки гортанной речи, смех, крики и обязательные свистки городовых. И снова те же назойливые, тревожные мысли. Деньги, деньги! Где взять денег? А может быть, последовать примеру народовольцев? Они, не задумываясь, экспроприировали крупные суммы из царских казначейств. В Кишиневе, если ему не изменяет память, было взято свыше миллиона рублей. Есть ли у революционера права на это? Есть. Маркс говорил об экспроприации экспроприаторов. Ладно, может быть, потом ему удастся осуществить эти «эксы», сейчас же нужно найти какие-то легальные или хотя бы полулегальные источники финансирования. И невольно первой мыслью было попробовать «обложить» данью всех сочувствующих, а вернее, всех недовольных царизмом. Таких было много, и среди них врачи, адвокаты, крупные чиновники, артисты, и многие охотно вносят в партийную кассу от пяти до двадцати пяти рублей ежемесячно. Леонид Борисович прикинул в уме — да, пожива невелика, а найдутся и такие, кто денег не даст, да еще злословить станет. Нет, не годится. Красин задумчиво всматривается в море. А море плещет, море шуршит, море что-то подсказывает. Через несколько дней ему казалось, что это волна прошуршала: «Комиссаржевская…» Вера Федоровна уже выступала в Баку, уже газеты поместили первые восторженные рецензии, и по городу поползли первые легенды. У гостиницы, где остановилась Комиссаржевская, с утра до ночи толкутся стайки настойчивых почитателей и почитательниц. И тут же дежурят два жандарма, вероятно, этот пост учредил сам начальник голубых мундиров. Ну что ж, тем лучше! Красин небрежным жестом подает швейцару котелок и трость. Завтра он лихо подкатит в своей великолепной коляске, и этот же швейцар кинется навстречу. А почему не сейчас, не сегодня? Леонид Борисович проходит в ресторан. Уверен ли он в успехе? И да и нет. Не впервые Комиссаржевская на Кавказе. И как он узнал за эти дни, уже не раз жертвовала часть своих сборов на нужды партии, об этом рассказали тифлисские товарищи. Но то в Тифлисе, а вот в Баку никто из членов комитета с актрисой не знаком. И он тоже ее не знает. Захочет ли она поверить незнакомцу, не примет ли за провокатора или просто жулика? Да и сумма должна быть немалой — тысячи две, а то и три. Естественно, она спросит, на какие нужды необходимы столь большие деньги, а он не имеет права говорить о типографии. Но иного выхода пока нет. Нужно решиться, нужно убедить актрису. Пожалуй, правильно, что он явится с визитом завтра. Завтра Комиссаржевская выступает, завтра будут овации, цветы, комплименты и бокалы шампанского. Вера Федоровна, наверное, привыкла к восторгам, и все же она не может оставаться совершенно равнодушной. Если у нее есть какие-нибудь печали, то овации помогут забыть их хотя бы на время, успех поднимет настроение, Красину нужна Комиссаржевская именно в ту минуту, когда она еще улыбается, когда пережитый триумф слегка кружит голову и все кажется возможным, достижимым. Да, революционеру приходится решать и такие пси-дологические ребусы. А может быть, он слишком все усложняет? Трудно примерить на себя всю гамму чувств, настроений, которые владеют людьми сцены. Красин, например, твердо знает, что для него всякое публичное выступление — всегда нервная встряска. Иное дело — диспут в узком кругу или камерный рассказ. Товарищи утверждают, что рассказчик он превосходный. Впрочем, о чем это он? Отвлекся… Решено — завтра, и не позже, он нанесет визит.
Администратор хотел было загородить вход за кулисы, но Красин небрежно махнул тростью, и администратор отступил с поклоном. Он узнал Красина, фигура в Баку заметная. — Вера Федоровна у себя? — Так точно, у себя-с. Красин протянул администратору визитную карточку. — Будьте добры, спросите разрешения… Администратор исчез. Через минуту он появился вновь. — Господин Красин, мадам Комиссаржевская просит вас. Леонид Борисович на минуту растерялся. А что же он скажет актрисе? Но тут же решил, что на окольные подходы нет просто времени. Вера Федоровна, конечно же, устала, хочет спать, и поздний визит может ее и рассердить. На легкой софе, подложив под локоть подушку, сидела Вера Федоровна. Когда Красин открыл дверь и поклонился, она с любопытством посмотрела на его тонкое, интеллигентное лицо, отметила про себя изящество костюма, безукоризненный вкус посетителя. Но что, собственно, нужно от нее этому элегантному инженеру? Во всяком случае, она что-то не замечала его в толпе своих обожателей. — Вы революционерка? — Как выстрел в упор, от него не увернешься, не спрячешься. Комиссаржевская растерялась. Что это — допрос? Полицейская провокация! Просто наглость! Вера Федоровна в негодовании поднялась с кушетки. И снова села. Нет, он непохож на провокатора или полицейского чиновника. Может быть, полоумный? Снова нет. Серьезен, лицо напряжено нетерпеливым ожиданием. Видно, что человек идет ва-банк. И помимо своей воли, рассудку, Комиссаржевская кивает головой. — В таком случае сделайте вот что… Комиссаржевская слушала плохо. Она никак не могла понять, по какому праву господин Красин, которого она видит впервой, говорит с ней хотя и мягко, но повелительно? Впрочем, несомненно, говорит правду, ничего от нее не скрывая. А она не может, не в силах противостоять, возражать. Комиссаржевская машинально кивает головой. Да, она даст благотворительный концерт. И только для знати, только для богатых. Хорошо, пусть билеты будут не дешевле пятидесяти рублей. И деньги вручит ему… Инженер откланялся, а Вера Федоровна все еще не могла прийти в себя. Немного поразмыслив, присела к столу, чтобы написать Красину письмо с отказом. И снова задумалась. А разве она не отдавала часть сборов на нужды социал-демократов, разве ей чужды их идеалы? Почему она сейчас должна отказать? Леонид Борисович — она запомнила это имя — что-то говорил о типографии, подпольной, конечно. Значит, он доверяет ей? Может быть, эту тайну знают только двое, трое, и она в их числе? А что, если он ее провоцирует? Нет, этого не может быть. Такие провокации вершатся только с ведома начальника жандармов, не мог же ее обожатель так подло поступить. Хотя, вероятно, мог… Комиссаржевская вдруг рассмеялась. Славная мысль — этот концерт она устроит в обширнейшей квартире начальника жандармов. Нет, право, мысль недурна. Комиссаржевская достала для Красина пригласительный билет и сама ему вручила. Леонид Борисович с серьезной миной отсчитал пятьдесят рублей, но не выдержал, расхохотался.
Полковник сам встречает дорогих гостей. Он без мундира, в отлично сшитом вечернем костюме, как бы подчеркивая этим неофициальность и домашнюю уютность предстоящего концерта. Нет, нет, его незачем благодарить, это все несравненная Вера Федоровна. О! Она богиня, она чудо!.. Полковник не находит слов. Гости все свои, не чинятся, сплетничают, обмениваются новостями и не забывают отдать должное искусству повара, который приготовил такие изысканные закуски для ужина a la fourchette. Красин с интересом наблюдает за съездом бакинской элиты. Колоритные фигуры! Но, конечно, самая любопытная — полковник. А забавно было бы рассказать ему о том, во имя чего собрались эти вот господа. Да и вообще, если бы жандарму вдруг в голову пришла шальная мысль — послать отчет петербургскому начальству о состоявшемся концерте с поименным перечислением всех присутствующих… Одно из двух: он получил бы или нагоняй, или благодарность, а может быть, и то и другое. Благодарность за то, что сообщил столичным ищейкам, куда два года назад исчез их подопечный Леонид Борисович Красин. Ну и нагоняй за то же — ведь Никитич на свободе, да еще в гостях у полковника. Да, славно он тогда исчез из Харькова. А исчез ли? Не обманывается ли он сам на этот счет? Порой ему и правда хочется исчезнуть, перейти на нелегальное положение, уйти в подполье, жить по чужому паспорту, но быть самим собой. Это, наверное, так хорошо — быть самим собой! А он живет под своей фамилией, у всех на виду и должен приятно улыбаться этим вот денежным тюкам и этому жандармскому хорьку, у которого на руках кровь товарищей. Они схватили Ладо Кецховели и Авеля Енукидзе, а «Нина»? Она работает. Она рассыпает прокламации не только по всему Кавказу и Закавказью, она печатает их для рабочих Поволжья, листовки плывут в далекий Питер, Псков, Иваново. И как радуются товарищи, когда получают из знойного Баку заветные посылки, зашитые в холстину. В накладных сообщается: «кавказские чувяки», «шали», «бурки». Под тяжелыми ящиками сгибаются спины грузчиков Москвы-Товарной: «яблоки», «засахаренные фрукты», «сукно». И даже в бочках с гудроном тоже листовки. Прокламации порхают в театральных залах. Есть в Тифлисе один смелый, дерзкий, нет, скорее всего бесстрашный человек. Красин еще незнаком с ним, но обязательно познакомится. В канун Первого мая, захватив пачки прокламаций, купил билет в казенный театр на «Ромео и Джульетту». Леонид Борисович хорошо себе представляет залитый огнями партер, щурящиеся лорнетками ложи. И вероятно, так же, как и сегодня, в креслах расселись «сливки» тифлисского общества во главе с самим помощником главноначальствующего Фрезе. Медленно гаснет люстра, сейчас начнется третий акт. Дирижер взмахнул палочкой, и… в голову Фрезе врезалась увесистая пачка первомайских листовок. Листовки порхают под люстрой, листовки, как тихий, задумчивый снег, засыпают зрителей… Красин спохватился. Черт возьми, да он просто грезит наяву, ему так отчетливо, так реально представился тифлисский театр, что захотелось поймать и прочесть листовку… — Просим!.. Просим!.. Комиссаржевская кланяется. Замечает Леонида Борисовича, делает ободряющий знак рукой. Она действительно обворожительная женщина. Один только вид ее успокоил Красина. А Вера Федоровна с озорной улыбкой уже декламирует что-то очень знакомое, дерзкое. Красину кажется, что жандармский полковник поеживается на своем месте. Комиссаржевская поет. Комиссаржевская танцует. Красин не ожидал, не знал, что великая драматическая актриса умеет так зажигательно и грациозно, так мягко, по-русски и с таким огнем танцевать тарантеллу. Овациям нет конца. В антракте ни одного связного слова, только междометия. Устроитель вечера преподносит актрисе букет из… сторублевок. Новый взрыв восторга. Вера Федоровна, лукаво улыбаясь, подзывает Красина. Он галантно целует руку, потом нюхает «букет». — Хорошо пахнет! Комиссаржевская грозит ему пальцем. А он на ухо: — Типографской краской пахнет!.. Потом снова стихи, вновь романсы и снова хор восторженных похвал. А на серебряном блюде несколько тысяч, перевязанных розовой лентой с пышным бантом.
Трифон Теймуразович Енукидзе, или Семен, двоюродный брат Авеля, был несказанно удивлен, когда Красин предложил найти какого-либо владельца легальной типографии и приобрести на его имя новую скоропечатную машину. Маниакальная идея! Сколько раз они уже говорили о необходимости такой покупки. Старая машина совсем плоха, как старый больной человек. Она работает вполсилы, часто портится. Но неужели Леонид Борисович забыл, что каждый раз разговор о новой машине упирался в одно — деньги… — Есть деньги, и нельзя терять времени! Красин умеет быть деловито строгим. Семен замер на полуслове. Что ж, если есть деньги, то купить машину не так уж сложно. В Баку имеется некая фирма «Арор», собственно, всю фирму представляет один человек — Ованесьянц, он же владелец небольшой типографии. Эта фирма — далеко не процветающее предприятие, и, конечно, Ованесьянц согласится за небольшие комиссионные приобрести необходимый станок. Ованесьянц знаком с Трифоном Енукидзе, только не знает его подлинной фамилии. Для него он Георгий Михайлович Лежава, человек с обширными связями в торговых и промышленных кругах и к тому же служащий общества «Электросила». А кто не знает, что это общество представляет богатую корпорацию нефтяных тузов? Ованесьянц поначалу заломил неслыханные проценты, Енукидзе на что уж пообтерся среди всевозможных дельцов, но такого нахала видел впервые. Потом понял, в чем дело, ведь он явился к владельцу типографии как официальный представитель «Электросилы», наболтал ему о необходимости основать типографию для этого общества, ну мелкий прохвост и решил поживиться. Пришлось немного охладить его спекулянтский пыл. Торговались долго, по-восточному. И кое-как сторговались. Под конец Ованесьянц испугался, что Лежава обратится к какому-либо иному дельцу, и комиссионные, хоть и небольшие, минуют его жадные руки. Прейскурант Даугсбургской машиностроительной фабрики выглядит очень заманчиво. Каких только чудес он не сулит! Семен, по правде говоря, не очень-то разбирался во всех этих типографских премудростях, но твердо знал: нужно заказать скоропечатную плоскую машину, дающую тот же формат, которым печатают «Искру». Тысяча двести оттисков в час его вполне устраивали. И вот из Лейпцига в Баку в трех больших ящиках прибыла громоздкая посылка. К ее приему было все уже готово. На 1-й Параллельной улице снят дом. Улица узкая, малоприметная, но у нее есть одно неудобство — прямо против дома, арендованного Енукидзе, помещались татарские лавки. Около них постоянно толклись не столько покупатели, сколько праздные люди. Мусульманину было легко затеряться в этой толпе, но всякий посторонний человек немусульманского вида сразу же бросался в глаза, привлекая к себе внимание. Енукидзе рассчитывал на то, что он и его «мать», официально прописанные в нанятом доме, грузины, а мусульмане всегда хорошо к ним относились.
Трифон Енукидзе, радостный, явился к Ованесьянцу: — Ну, пришло время рассчитываться, хозяин. Давай мне доверенность на получение машины, а деньги получи, пожалуйста. Ованесьянц встал из-за стола, подошел к окну. — Слышишь, моя машина работает? Бери ее. А новую не дам! Семен оторопел. Вот так компот! Не выдержала все же душонка мелкого хозяйчика, жадность обуяла. Решил обновить свою типографию. А может, почуял что? Пробует поживиться, зная, что властям на него не пожалуются. Если сейчас ругаться, требовать, ничего не добьешься, накладная-то выписана на Ованесьянца. Сказать, что заявит в полицию? Кто его знает, какие у него с ней отношения. А если даже он и не связан с полицией, то подождет, подождет, увидит, что никто на него не пожаловался, и вовсе обнаглеет, шантажировать начнет. Трифон переборол возмущение и злость. Ладно, он подумает и через день-другой зайдет. Что же с этой скотиной делать? И Красин, как на грех, уехал, даже посоветоваться не с кем. Разве с теми, кто будет на ней работать? Енукидзе разыскал Ивана Стуруа и поведал ему о своих затруднениях. Стуруа посоветовал Семену сходить на склад, посмотреть, где и как хранится машина. Пошли. И уже по дороге Енукидзе решил — машину нужно украсть. Стуруа, услыхав такое, долго молчал. Украсть? А как это выглядит с точки зрения общечеловеческой морали? Ованесьянц, конечно, жулик, но если украсть, то и они, значит, будут жуликами. Как это у русских? «Вор у вора дубину…» нет «машину украл». Поделился своими сомнениями с Семеном. Тот не раздумывал. — Глупости. Мы берем свое, за машину заплачены партийные деньги. Не наша вина, что ее приходится «получать» несколько необычным способом.
У въезда во двор склада торчал унылый старик с берданкой. Наверное, ночью он забирается в свою будку и мирно похрапывает. С противоположной стороны, где складское помещение широким раствором выходит в тупик, стоит городовой. Городовой, конечно, поставлен здесь вовсе не для охраны складов, но если он заметит кражу, то в стороне не останется. А ящики с машиной, как назло, свалены прямо у раствора. Если даже и удастся проникнуть в склад, то протащить такую тяжесть через все помещение и не разбудить сторожа просто невозможно. Проще сбить замок с раствора, но тут городовой… Стуруа уныло качает головой — ничего не выйдет. Придется убирать городового, а это означает, что назавтра все ищейки полиции будут поставлены на ноги. Доберутся и до хозяина «Арора», а уж он направит на верный след, да еще и сам побежит впереди. Трифон же повеселел. Не так все страшно, лишь бы открыть затвор, вернее замок. Хорошо бы ключ подобрать. Но ключа не подобрали. Оставалось сломать замок. Взломать быстро, уверенно, чтобы у городового не возникло никаких подозрений, — открыли и открыли, мало ли кто открывает склады. Подъезжая к складу, никто не должен прятаться…
Солнце засыпало. Тихо, задумчиво оно окунулось в вечернее море. Красноватые лучи еще кровянили кромки облаков, но уже не заглядывали на улицы города. И никакой шум не мог разбудить солнце. А между тем Енукидзе ругался за всех извозчиков, хотя на телеге сидели только возница, Иван Стуруа да он сам. Они должны подъехать с шумом. Шумел один лишь Семен, остальные молчали, телега ехала тихо. Телефонная улица, на которую выходил раствор складских ворот, засыпана песком, пылью, и на ней живет такая беднота, которой не по карману содержать собак. Городовой изнывает от скуки, и его мучает изжога. Вчера, в воскресенье, он малость подгулял на свадьбе, а сегодня голова как пустой котелок. Опохмелиться бы! Но с поста не уйдешь… К складу подкатила телега. Может быть, у того вон хозяина, что так здорово ругается, найдется, чем промочить горло? Городовой делает несколько шагов к подводе. Енукидзе не смотрит в его сторону, но каждый шаг фараона он чувствует спиной. Еще несколько шагов, и блюстителя придется пристукнуть. Городовой в нерешительности останавливается. Его обуревают сомнения. Действительно, с какой стати этот гурджи будет таскать с собой водку? Свезет возчик груз куда надо, там его и угостят… Городовой нехотя бредет на свой пост.

В эти мгновения Енукидзе и Иван Стуруа сбивают замок. Он оказался ржавым. Ящики тяжелые, вырываются из рук. Особенно один — в него упакована станина машины. Вот ведь незадача: втроем им его не поднять, нужен четвертый. — Пособи, земляк! — крикнул Стуруа, обращаясь к городовому. Енукидзе хотел было обругать Ивана, да поздно. А может быть, так и лучше, какой же похититель будет просить фараона помочь донести украденное. Городовой помог охотно, все же развлечение. Енукидзе сунул «грузчику» с «селедкой» на боку бумажку. И еще долго кланялся постовой удаляющейся повозке.
Но злоключения «Нины» на этом не кончились. Едва успели снять пустующий дом, установить в отдельной комнате машину, разместить пятерых наборщиков (Семен с «матерью» заняли передние комнаты), как хозяин дома заявил, что его давнишняя мечта стать ходжой, но для этого нужно побывать в Мекке. Посему он продает дом своему двоюродному брату. Но гурджи могут не беспокоиться, брат только осмотрит дом, а жить в нем не будет. Хорошо сказать «осмотрит»…
Красин сначала удивился, затем встревожился, увидев в дверях кабинета Авеля Енукидзе. Авель не должен отлучаться из типографии даже ночью, его, бежавшего из-под надзора полиции, усиленно разыскивают. Но что случилось? Енукидзе рассказал о том положении, в котором очутилась «Нина». С минуты на минуту можно было ожидать провала. Новый хозяин — наверняка провал. Нужно запрятать типографию в подполье. Они уже все выглядели. Рядом с их домом, за глухой стеной, пристроены конюшня и сеновал, за конюшней — дворик, обнесенный высоким тыном. Конюшня длинная, в конце три комнатки. Лошадей в конюшне всего две, часть помещения занята фуражом. Семен познакомился с сыном владельца конюшни Ассаном, побывал в ней. Главное — пол конюшни метра на два ниже пола в том доме, где они сейчас помещаются. Конюшню нужно или всю арендовать, или купить ее пустующую часть. Красин возражал. У него нет денег. А провал… Провал всегда возможен. На старом месте провал не только возможен — Авель горячился — провал обязательно произойдет, и в самые ближайшие дни. Красин внимательно выслушал, взвесил. Он не прав, правы печатники. Нужно как следует спрятать типографию. Нужно… Но где взять две тысячи для аренды помещения? То есть деньги эти у него есть, но больше ни копейки, а ведь каждый день партийные комитеты требуют от «главного финансиста» денег, денег, денег. — Ладно, арендуйте и быстренько все оборудуйте. Недавно мне сообщили из-за границы, что скоро нам пришлют много новинок. Будем все это размножать. Авель ушел довольный. А через день начался аврал. Конюшню перегородили кирпичной стеной, образовалось совершенно глухое помещение: ни входа, ни выхода, ни окон. И только на крыше решено было сделать «скворечню», иначе летом работать станет невозможно. В открытой «легальной» половине конюшни, у только что выстроенной стены, насыпали до потолка сена, уложили его так, что на первый взгляд могло показаться — конюшня полна сена. И никакой стены нет. Пришлось изрядно потратиться — купить фаэтон и лошадей. Иван Стуруа шутил, что если он когда-нибудь потеряет работу как наборщик, то пойдет в конюхи — пока фаэтон и лошади не сданы в прокат, Ивану приходилось за ними приглядывать. Сложнее обстояло дело с подземным ходом. Его копали долго и вывели прямо к комнате, где раньше жили наборщики. Вход устроили в стенной нише, напоминавшей шкаф. Аккуратно вырезали круглое дно, установили блоки. Дно бесшумно опускалось, потом так же бесшумно вставало на место. Снизу для верности его подпирали прочные козлы. Донышко плотно пригнали к полу так, чтобы не было никаких щелей, пол потом отлакировали. Чтобы доставить в новую типографию маховик машины, пришлось проломать стену в кухне, пролом заделали, а всю стенупрокоптили — не приметишь заплаты. Под машину подложили кирпичный фундамент. Через неделю все было готово. Теперь, чтобы отыскать типографию, пришлось бы произвести специальные замеры конюшни. А в домике, откуда шел подземный ход, даже опытный инженерный глаз Красина ничего не мог заметить, сам бы он ни за что не отыскал входа в подземелье. «Нина» заработала вновь.
ВЕРНЫЕ ДО КОНЦА

Пока искровцы готовили побег из тюрьмы, пока Красин и его товарищи по Бакинскому комитету РСДРП «устраивали жилище» для «Нины», в России зрела революционная ситуация.
После Обуховской обороны, после аграрных волнений 1902 года, стачки в Баку многие люди, далекие от политики, уже понимали, что чиновничий, бюрократический произвол, отсутствие здравого смысла в политике, идиотское вмешательство коронованных лиц во все дела сделали царское правительство бессильным. Назревала революционная ситуация.
Все большее и большее число местных социал-демократических комитетов принимали программу «Искры», признавали ее руководящую роль в революционном движении. И там, где в комитетах большинство было за рабочими, этот процесс перехода на искровские позиции происходил быстрее.
И снова тихий переулок Петровского посада в Пскове. Здесь уже не живут супруги Радченко, здесь поселился Пантелеймон Лепешинский. Он возглавил после отъезда Владимира Ильича за границу псковский центр «Искры».
Именно в его квартиру 2 ноября сошлись четверо товарищей. Из Петербурга приехал Краснуха, от «Южного рабочего» — Левин, Иван Радченко и Красиков представляли русскую организацию «Искры». На этом совещании был оформлен ОК — Организационный комитет по созыву нового, II съезда РСДРП. В комитет вошли В. Краснуха, И. Радченко, П. Красиков, Ф. Ленгник, И. Лепешинский, Г. Кржижановский, П. Стопани, Е. Левин. В таком составе ОК просуществовал всего несколько дней. Полиция арестовала весь ОК, за исключением Красикова и Левина.
Но какие бы потери ни несла «Искра», на место арестованных товарищей вставали новые люди. И не случайно искровская группа из Херсона, как бы подытоживая работу искровцев, писала: «Быстро распространяется в России революционное социал-демократическое движение. Уже прошло то время, когда зарождающееся движение не выходило за пределы крупных фабрично-заводских центров. Революционная волна, нарастая безостановочно, вылилась из первоначальных резервуаров и разлилась почти по всей России. Гребень этой волны докатился и до нашего медвежьего угла. Началась работа медленная, но безостановочная, трудная, но прекрасная. И в этой работе только и можно было оценить то, что давала работающим идейно непоколебимая, талантливо руководимая «Искра». Почти все крупнейшие комитеты России (Петербургский, Московский, Нижегородский, Киевский, «Южный рабочий» и др.) заявили уже о своей солидарности с «Искрой» и признали ее своим руководящим органом…»
Удивительный, выдающийся факт в истории рабочего движения — партия сплачивалась и организовывалась вокруг газеты.
Николай Эрнестович Бауман в это время сидел в Женеве, занятый подготовкой большого доклада о рабочем движении и партийной работе в Москве. Этот доклад готовился для съезда. Такие же доклады готовили и другие комитеты, посылавшие на съезд своих делегатов. Владимир Ильич писал русским товарищам: «Наш 2-й съезд будет носить еще более учредительный характер, чем первый, и поэтому надо приложить все силы, чтобы доклады были полнее и солиднее». Московский комитет РСДРП делегировал на съезд Николая Эрнестовича и Цейтлина, молодого студента, недавно вступившего в организацию «Искры».
17 июля 1903 года, Брюссель. Душно. Улицы словно вымерли. Кто мог, поспешил на дачи к морю, выбрался на курорты. И кажется, что никому нет дела до иностранцев, собравшихся около 3 часов дня в складском помещении, очищенном от товаров и наскоро заставленном стульями. Об открывшемся съезде в столице Бельгии знали местные социал-демократы и, конечно, бельгийская полиция.
Социал-демократы Брюсселя владеют гостиницами, пивными, торговыми складами. Они не очень охотно прописали в своих отелях «подозрительных» людей, одетых в приличные костюмы. Полиция же не спускала с них глаз. Вскоре делегаты съезда заметили за собой слежку, но проследить каждый шаг каждого из 57 русских социал-демократов — не такая уж это легкая задача. Русские с полицейскими шпиками не церемонились, и вскоре кое-кому из соглядатаев пришлось на деле узнать российские методы «отваживания шпиков». «Помню, пошли мы как-то после заседания прогуляться с Бауманом… — вспоминает один из делегатов съезда. — Замечаем, что кто-то в десяти шагах от нас идет упорно за нами. Мы ускоряем шаги — он тоже, мы замедляем — он тоже. Явный шпик. Ну, мы попробовали русский прием: повели его за товарные склады на станцию. Людей, а тем паче полиции тут уже не было: дело было позднее. Он идет за нами. Мы быстро и неожиданно для него оборачиваемся и довольно внушительно заявляем ему, что, если он моментально не исчезнет, будет жестоко избит. Для большего форсу делаем вид, что в карманах у нас имеется по револьверу, хотя, конечно, никакого оружия с собой не было. Маневр подействовал: шпик очень быстро исчез куда-то, а мы по путям выбрались на вокзал и оттуда в гостиницу». Шпионов больше не стало видно, но зато четырем делегатам полиция предложила в 24 часа покинуть Бельгию. Лидер социал-демократов Вандервельде разъяснил, что этих четырех сочли за анархистов. Да и вообще бельгийские соцдеки считали, что русскому съезду было бы спокойнее заседать вне пределов «конституционной» Бельгии. Совет был дельным. Социал-демократов полиция «перекрестила» в анархистов, а арестованных «анархистов» передавали с рук на руки полиции той страны, где они вели свою «подрывную работу». Этак съезд в полном составе мог очутиться в Петропавловской крепости. Пришлось переехать в Лондон. Здесь было действительно спокойнее. Перебравшись через Ла-Манш, делегаты небольшими группами «приличным» вторым классом следовали в Лондон. Сколько разных легенд и «правдивых» рассказов долетало до России об этой удивительной островной стране — Англии! И рабочие одеты тут как денди, и нет подвалов, вонючих «обжорок», на фабриках чистота, машины делают все, а рабочие покуривают сигары да присматривают за ними. Но Лондон оказался другим. Нищета, грязь, теснота окраин и роскошь богатых кварталов. Так же, как и в Питере. Такие же грязные рыбные «обжорки», в которых вместо хлеба подают картошку и нет жидких блюд, такие же тесные, грязные меблированные комнаты и ночлежки и так же много нищенски одетых людей, которые вынуждены ночевать на улицах, ночлежки им не по карману, потому что карманы пусты. В Лондоне заседали каждый раз в новом помещении. Помнили о горьком брюссельском опыте, но английская полиция не проявляла к съезду большого интереса. Приняли программу — программу-минимум и программу-максимум. Сначала как минимум — свержение царизма и создание в России демократической республики. Максимум — победа социалистической революции и, что главное, установление диктатуры пролетариата. О ней «забыли» сказать в своих программах социал-демократы Бельгии и Германии, Англии и Франции. Приняли и устав РСДРП. Много было сломано копий. Много раз Ильичу приходилось выступать, убеждать, высмеивать, уничтожать железной логикой тех, кто кивал на заграничный опыт, кто тянул партию к организационной аморфности. Здесь особенно старался Троцкий. Книжное знание рабочих, книжные газетные сведения о их классовой борьбе, а отсюда терпимость ко всякого рода попутчикам, страх перед ленинским «чудовищным централизмом», железной дисциплиной. И вообще зачем еще какое-то обязательное участие в жизни партийных организаций, достаточно формальной принадлежности. Таким предстал на съезде Троцкий. Ильич напоминал ему Робеспьера. И Троцкий называл Владимира Ильича не иначе, как Максимилианом. Плеханов колебался, у него не было твердой уверенности в том, кто имеет право быть членом партии и каков круг обязанностей партийца. «Я не имел предвзятого взгляда на обсуждаемый пункт устава. Еще сегодня утром, слушая сторонников противоположных мнений, я находил, что «то сей, то оный набок гнется». Но чем больше говорилось об этом предмете и чем внимательнее вдумывался я в речи ораторов, тем прочнее складывалось во мне убеждение в том, что правда на стороне Ленина». Но на съезде прошел первый параграф устава, предложенный Мартовым. Он обеспечивал расплывчатость, разношерстность, неоформленность партии, что так устраивало всех и всяческих оппортунистов. И все же создание пролетарской марксистской партии, партии нового типа, партии не парламентских дебатов, а подлинно революционной борьбы — основной итог II съезда РСДРП. Когда же на съезде встал вопрос о выборе центральных руководящих органов партии, то делегаты раскололись. Большинство съезда пошло за Лениным. И с тех пор ленинцы стали именоваться большевиками. «Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года», — писал Владимир Ильич. Противники Ленина, потерпевшие поражение на выборах, оставшиеся в меньшинстве, стали именоваться меньшевиками. Меньшевики, потерпев поражение на съезде, решили дать бой ленинцам после съезда в местных партийных комитетах, а также попытаться прибрать к своим рукам Центральный Комитет, редакцию газеты «Искра». И борьба после съезда с оппортунистами разгорелась повсеместно. Меньшевики не брезгали никакими средствами.
Большевистская часть Центрального Комитета поставила во главе типографии «Искры» ленинца-большевика Максима Максимовича Литвинова, Меньшевики, подбираясь к «Искре», явочным путем назначили на эту же должность Блюменфельда. После съезда Блюменфельд оказался в лагере меньшевиков. Сентябрьский день клонился к вечеру. В Женеве осенние вечера балуют жителей освежающей прохладой, удивительно чистым, пьянящим воздухом. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, «неистовый издатель», как его прозвали товарищи, не торопясь шел по улице Рю Колофениер. На этой улице помещалась типография «Искры». Когда он подошел к ней, то с удивлением услышал какие-то крики, доносившиеся из открытого окна на втором этаже. Слов разобрать было невозможно, но ясно, что накал спора достиг предела. Поднявшись на второй этаж в редакционную комнату, Бонч-Бруевич застал Литвинова и Блюменфельда в позах, которые свидетельствовали, что они вот-вот сцепятся в рукопашную. Заметив Бонч-Бруевича, Блюменфельд, не поздоровавшись, сорвался с места, вылетел в дверь. — Что это с ним? Литвинов, еще разгоряченный спором, только рукой махнул. — Никак не хочет передать мне ключи от типографии, ругается, черт те чем обзывает большевиков… — В Лукьяновке небось он был не такой боевитый? — Куда там, все время сокрушался, зачем приехал в Россию. — Да, поехал печатать «Искру» в Кишиневе, а приехал в тюремной карете в Киев… — Да ну его. Право, знал бы, чем станет этот петух, не тащил бы его тогда от Лукьявовки. Меньшевики словно с цепи сорвались, «Искра» им глаза мозолит, не могут помешать изданию, так всячески пытаются помешать транспорту. Бонч-Бруевич принес статью как раз и направленную на разоблачение неприглядных методов борьбы, к которым прибегают противники Ленина. Литвинов прочел статью, остался доволен. — Ну что ж, пора, пожалуй, и домой. Снесу статью наборщикам, за ночь наберут и откорректируют, а мы двинемся восвояси. Литвинов и Бонч-Бруевич подошли к двери. — Что за оказия? — Литвинов подергал дверь. Она оказалась запертой. — Ключи-то Блюм мне так и не отдал… — Ужели это его работа? Не переспорил, так запер, черт знает, что такое! — Вот вам наглядный пример способов борьбы с большевиками. — Ну это ему так не пройдет, я напишу в ЦК. Нельзя давать спуску подобным «товарищам»… — Написать, конечно, нужно, но неплохо было бы все-таки как-нибудь выбраться на улицу, не ночевать же здесь. Литвинов подошел к окну, выглянул наружу. — М-да! Высоковато! Прыгнешь и, глядишь, шею или ноги сломаешь. — Это вам прыгать не привыкать, а мне вот не приходилось. Но что же все-таки делать? — Стойте, про телефон-то мы и забыли, вернее, еще не привыкли к этому чуду! Литвинов долго вызывал кого-либо из работников типографии. Там, на первом этаже, тоже был телефон, но за грохотом печатных машин его слабый звонок одна слышался. — Отвертку попросите, пусть кинут в окно. — Они предлагают лестницу подставить. — Комедия! Этак народ сбежится, а нас, чего доброго, за воров сочтут. Но выхода не было. Рабочие типографии притащили деревянную лестницу, подставили ее к окну, и сначала Литвинов, а за ним Бонч-Бруевич благополучно спустились на землю. Бонч-Бруевич всю дорогу до дома чертыхался. Придя к себе, тут же сел писать заявление в ЦК.
Леонид Борисович Красин на съезде не присутствовал, но был кооптирован после съезда в Центральный Комитет. Меньшевики, пользуясь тем, что некоторые члены ЦК встали на путь «примирения», ввели туда своих сторонников, получив в ЦК большинство. Ленин требовал самой бескомпромиссной борьбы с новыми оппортунистами-меньшевиками. А вот Красин колебался, был одно время «примиренцем». Бауман воевал с меньшевиками сначала в Женеве, потом Ильич направил его в Россию, нужно было разъяснять рабочим суть раскола. Ленин был уверен, на чьей стороне будет сознательный пролетариат. Но недолго пробыл Бауман на воле, его схватили в Москве, упрятали в Таганскую тюрьму. С помощью Плеханова меньшевикам удалось захватить и «Искру». Владимир Ильич вышел из состава редакции. С 52-го номера «Искра» стала меньшевистской.
В России грянула первая народная революция 1905–1907 годов. III съезд РСДРП, на который меньшевики не пошли, нацелил партию, пролетариат на вооруженное восстание.
К осени 1905 года Всероссийская всеобщая стачка парализовала жизнь в стране, и царизм пошел на провокацию. У него не 'было сил подавить революцию. Правда, и у революции еще не хватало сил свалить царизм. 17 октября напуганный Николай II издал «Манифест» — своего рода конституцию, провозгласившую созыв Государственной думы, амнистию политзаключенным, свободу слова, печати и т. п. Это был подлый обман, маневр, к которому прибегнул царизм, чтобы на время отвлечь массы от борьбы, а самим собраться с силами и раздавить революцию. Согласно амнистии, из тюрем освобождались «политики». Незадолго до 17 октября Николай Эрнестович вышел из Таганки. «Человеку подполья, каким был Бауман (и какими мы были все), имевшему до своего заключения дело с конспиративными кружками, группами и в лучшем случае «массовкой» где-нибудь в лесу, пришлось натолкнуться на невиданное до того в России явление — на всеобщую всероссийскую политическую забастовку, в которой участвовали миллионы рабочих. Для всех нас это было ново, но мы, принимавшие активное участие в подготовке этих событий, подошли к ним постепенно, так сказать, политически учились. В другом положении очутились товарищи, как Бауман, которые после долгого отрыва от партийной работы попали как бы из одной эпохи политической жизни в другую», — вспоминает товарищ Баумана по партии. 18 октября по требованию рабочих Московский комитет (помещавшийся в Императорском Техническом училище) принял решение идти к Таганской тюрьме освобождать заключенных и в их числе членов ЦК, схваченных еще в феврале 1905 года на квартире писателя Андреева. Счастливые улыбки озаряли лица демонстрантов. Бауман шел в первых рядах. Колонна вышла на Немецкую улицу, где находилась фабрика Дюфурмантеля, а около ее ворот толпились рабочие. Они стояли в нерешительности. Им, впрочем, как и остальным участникам демонстрации, были известны угрозы черносотенцев — лавочников, приказчиков, торгашей, тех, кого ныне царизм натравливал на революционный пролетариат. Рабочие колебались — присоединяться к демонстрации или нет? Бауман направился к фабрике, чтобы увлечь за собой и эту толпу, основная же колонна двинулась дальше. Бауман торопился, завидев извозчика, наверное случайно оказавшегося здесь, вскочил в пролетку, кто-то из товарищей протянул ему красное знамя. В этот момент буквально «из-под ворот» фабрики Шапова выскочил черносотенец, хожалый — надсмотрщик, третировавший рабочих в их общежитиях, на фабричном дворе, наушник хозяина и «друг» пристава 2-й басманной части — Михалин. Воровато огляделся — основная колонна уже прошла, догнать пролетку, в которой стоял со знаменем Бауман, было минутным делом. Из-под полы пальто Михалин выхватил обрезок водопроводной трубы… Удар по голове. Бауман упал в пролетку. Знамя накрыло истекающего кровью Николая Эрнестовича…
Ночь 20 октября 1905 года. Техническое училище. Актовый зал. В зале только стол с гробом, а рядом столик, на котором лежат рубли, пятерки, медные гроши. Склоненные флаги. Много флагов. И много венков. И деньги и венки принесли рабочие, студенты, служащие, которые целый день 19 октября шли мимо гроба, прощаясь с Бауманом. Училище охраняют отряды рабочих. Они не прячут винтовок — ни полиции, ни городовых поблизости не видно. 20 октября 1905 года. Раннее-раннее осеннее утро. Из центра, с окраин, из пригородов Москвы к Техническому училищу сходятся люди. Идут поодиночке, группами, колоннами. У многих в руках красные стяги. Красные банты на шапках, красные ленты через плечо. И флаги, и банты, и ленты с черной траурной каймой. Полдень. В актовом зале училища кончается гражданская панихида. Уже сказаны все скорбные и гневные слова. Звучит траурный марш. Члены Московского комитета поднимают гроб. Тысячи людей на улице обнажают головы. Колонны трогаются. Впереди, взявшись за руки, движется двойная цепь рабочих. Процессия направляется к Красным воротам. Это было невиданное шествие. Городовые и сыщики, дворники и полицейские куда-то попрятались. В чайных засели и не смели вылезти на улицу черносотенцы с Хлебной биржи и Охотного ряда. Сколько людей участвовало в этих похоронах, трудно сказать. Московские, газеты на следующий день называли и 200 и 300 тысяч. Траурные флаги на многих домах, алые знамена на многих балконах. У Театральной — делегации с венками. Приехали из Подмосковья, приехали из Саратова. На Никитской навстречу шествию вышли из консерватории оркестр и хор. Было уже восемь вечера, когда гроб опустили на землю на Ваганьковском кладбище. Последние прощальные речи, И клятвы. Глухо стучат молотки. Гроб заколочен. Склонились знамена.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
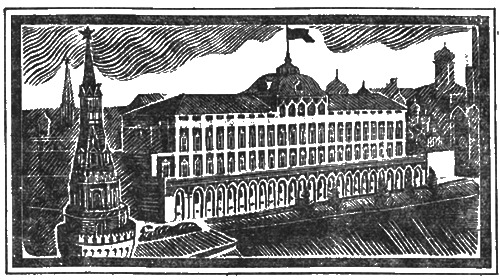
Максим Максимович Литвинов — первый заместитель наркома иностранных дел — по утвердившейся привычке начинал свой рабочий день с разбора свежей почты. Ему писали не только послы и посланники, пресс-атташе и советники, Папаша часто получал письма от старых товарищей по подполью. Жизнь разбросала их по необъятному Союзу, многие оказались и на дипломатической службе за рубежом.
Каждый год 18 октября Литвинов, если только бывал в Москве, обязательно приезжал на Елоховскую площадь, потом шел пешком по Бауманской улице к Высшему техническому училищу. Он нигде не останавливался, просто не торопясь проходил мимо домов, скверов, Они ведь немые свидетели. Но ему эти камни рассказывали о последних минутах жизни Николая Баумана. Недолго Бауман и Литвинов пробыли вместе, после побега из Лукьяновки виделись, может быть, два-три раза, но вот уже более двадцати лет прошло, а не меркнет образ этого удивительного человека, первого из первых, кто взвалил на свои плечи нелегкую ношу, кто гордо именовал себя «агентом «Искры».
Когда Литвинов вспоминал о Баумане, невольно вспоминались Радченко, Кецховели, Воровский и другие.
Нет Баумана, часовой Мцхетского замка застрелил подошедшего к окну Кецховели, убит в Лозанне посол Воровский. Уходят из жизни многие старые товарищи, соратники.
Вот и сегодня, в канун Октябрьского юбилея, из Лондона пришло тревожное сообщение — Красин тяжело заболел и слег.
Красин! Сколько удивительных, порой, казалось, невероятных приключений пережили они за эти годы.
Во время революции 1905–1907 годов Максим Максимович был одним из главных помощников Красина в добывании оружия. Агенты газеты стали агентами вооружения. И Николай Буренин, и Таршис — Пятницкий.
Потом долгие годы эмиграции. Красин вернулся в Россию раньше Литвинова, занял крупнейший пост директора всех заводов германской компании «Семене и Шуккерт», но жил под постоянным надзором полиции.
Они были одними из первых «искряков», они стали и первыми советскими дипломатами — Литвинов первый полпред в Англии (правда, правители Англии прежде всего упрятали «красного посла» в тюрьму), Красин вел нелегкую борьбу при заключении Брестского мира. А потом заключал первый торговый договор РСФСР с Англией. Они вместе с Чичериным, Воровским, Рудзу-таком, Наримановым представляли советские республики на Генуэзской конференции, в Лозанне, Гааге. Красин стал первым послом СССР во Франции.
Первые, первые, всюду первые!..
И вот это сообщение из Лондона.
Лондон. Чешем-Хауз. 6 ноября 1926 года.
Красин заставил себя сесть за письменный стол. Взгляд его остановился на недописанной статье. Он готовил ее к 9-й годовщине Октября, но вот не успел из-за болезни. Перечитал начало:
«Девять лет Советской власти.
Кто думал об этой годовщине в 1917–1918 гг.?
Не пророчили ли буржуазные газеты всего мира, поддерживаемые мудрецами — политиками и экономистами всех стран, что уже через несколько недель Советская власть беспомощно сдаст захваченные позиции, не будучи в состоянии справиться с самыми элементарными задачами хозяйства, управления, финансовой политикой?..»
Трудно читать. Кружится голова. Красин откинулся на спинку кресла, но мысли не потерял. Да, да, он хорошо помнит предсказания буржуазных оракулов тех лет.
«Таймс»! Непререкаемый «Таймс» на пятый день после победы Октября вещал: «Господство Ленина, видимо, быстро идет к своему концу». После такого заявления и остальных «пресс-гадалок» прорвало, они не хотели отставать. «Дейли телеграф»: «Значительные массы войск отвернулись от мятежников в целом ряде центров… Возможно, что в момент, когда пишутся настоящие строки, вся эта безумная затея уже подавлена».
Солидное, всемирно известное агентство «Рейтер»: «…есть все основания ожидать, что революция будет ликвидирована в течение нескольких дней». «Большевистское правительство со всеми своими странностями и донкихотскими глупостями обречено на гибель». «Революция осуществлена экстремистами, и у них не хватит ума для того, чтобы править страной».
Чернокнижники! Но статью нужно кончить, хотя время упущено.
Красин еще долго пишет, ворошит подшивки газет, вновь откидывается на спинку кресла, сидит, прикрыв глаза рукой, словно их режет яркий свет. Вот он вскочил, прошел к небольшому секретеру, вытащил стопку писем, торопливо порылся в ней, потом надолго замер над пожелтевшим листом, исписанным неровными строчками с многочисленными помарками.
«…Пишу тебе в воскресенье, только что похоронили Ленина. Вся эта неделя как какой-то сон. И горе и скорбь невыразимы, и сознание чего-то неизъяснимо великого, точно крыло Истории… коснулось нас в эти жуткие и великие дни».
Силы покидают Красина. Он не помнил, как его донесли до спальни, ничего не помнил, что было потом. Он пришел в себя днем 7 ноября.
25 ноября 1926 года. Ранним, непогожим утром мальчишки-газетчики огласили московские перекрестки: — «Правда», газета «Правда»! Экстренное правительственное сообщение. 24 ноября в Лондоне скончался товарищ Красин! — Газета «Известия», газета «Известия»! Умер советский посол в Лондоне Красин! Литвинов, не спавший всю эту трагическую ночь, развернул газеты. «Известия»: «…Правительство Союза ССР в лице тов. Красина потеряло одного из своих виднейших деятелей, выдающегося работника в разных отраслях государственного строительства, крупнейшего специалиста и в то же время одного из старейших деятелей рабочего коммунистического движения». «Правда»: «От ЦК ВКП(б). В товарище Красине соединялись редкие качества выдающегося революционера и человека спокойной, научной мысли, человека, для которого дело революции, дело социализма было главным делом его жизни. И в начале организации революционного рабочего движения и организации нашей партии, и после победы рабочего класса партия ставила тов. Красина на передовых боевых позициях революционной борьбы…» Максим Максимович зябко передернул плечами, снова развернул «Известия», но зазвонил телефон. Луначарский поздоровался и долго, долго молчал. Потом печально произнес: — Ушел еще один маршал Ильича… Литвинов тихо положил трубку. В это время вошел секретарь: — Максим Максимович, тут есть открытое письмо к нам всем, прочтите, — секретарь протянул замнаркому сложенный вдвое листок, — пришло с дипкурьером из Лондона. Литвинов пробежал первые строки — речь шла о последних днях болезни Красина, встрече праздника 7 ноября. Ага, вот — после того, как разъехались иностранные гости, к которым Красин так и не спустился со второго этажа, где была его квартира, «на большой лестнице полпредства, расположенной поблизости от спальни, сели все, кто хоть как-нибудь умел петь. Собралось не меньше ста человек. Образовался импровизированный хор, который одну за другой исполнил «Замучен тяжелой неволей», «По пыльной дороге телега несется», «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянку», «Красное знамя» и другие… Несколько раз у Красина справлялись, не устал ли он, не прекратить ли пение. Но Леонид Борисович неизменно отвечал: «Нет, нет, пойте, пойте, мне так хорошо». Только поздно ночью закончился этот своеобразный концерт…» Литвинов невидящим взглядом уставился в развернутую, но непрочитанную газету. Он был там, в далеком Лондоне, где перед телом покойного друга, наверное, нет, наверняка, проходят тысячи английских рабочих в скорбном молчании прощальных минут… Что такое? Литвинов поднес газету «Известия» поближе к глазам. «9-я годовщина Октябрьской революции». Статья Красина. Она написана полумертвым человеком, но какая сила, какая вера в каждом слове! «Наш вождь, наш Ленин, учил нас при жизни и приказывает теперь из гроба исполнять его завет и там, где погибнет видный, незаменимый боец, ставить на его место коллективную силу. Все больше и больше смерть отнимает у нас сподвижников и соратников Ленина. Но уже идет гигантская молодая поросль, идет смена, которая не только полностью возьмет на свои плечи, но и во многом разовьет и усилит нашу работу. Будем же бодры и радостны в юбилейный день Великого Октября».
Идут годы. И уходят люди. Как ушли из жизни те, первые, кто вместе с Владимиром Ильичем Лениным создавал газету «Искра» и закладывал основы партии нового типа, партии коммунистов. Сменяются поколения. Но живет память о пионерах-искровцах. Каждое новое поколение коммунистов вносит свой вклад в дело, которое начинали Владимир Ильич Ленин и Николай Эрнестович Бауман, Иван Бабушкин и Леонид Красин, Надежда Константиновна Крупская и Максим Максимович Литвинов… Владимир Ильич говорил: «Когда основывалась старая «Искра» в 1900 году, в этом участвовал какой-нибудь десяток революционеров». Сегодня достойных продолжателей дела искровцев — миллионы.
INFO
Прокофьев, Вадим Александрович (1920-). Верные до конца [Текст]: Искровцы: Докум. рассказы: [О.Л. Красине, Н. Баумане, М. Литвинове: Для сред. школьного возраста] / Вадим Прокофьев; [Худож. Е. Суматохин]. — Москва: Мол. гвардия, 1977. - 191 с.: ил.; 17 см. — (Пионер — значит первый; Вып. 55).
…………………..
FB2 — mefysto, 2022
О серии
«Пионер — значит первый» — серия биографических книг для детей среднего и старшего возраста, выпускавшихся издательством «Молодая гвардия», «младший брат» молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». С 1967 по 1987 год вышло 92 выпуска (в том числе два выпуска с номером 55). В том числе дважды о К. Марксе, В. И. Ленине, А. П. Гайдаре, Авиценне, Ю. А. Гагарине, С. П. Королеве, И. П. Павлове, жёнах декабристов. Первая книга появилась к 50-летию Советской власти — сборник «Товарищ Ленин» (повторно издан в 1976 году), последняя — о вожде немецкого пролетариата, выдающемся деятеле международного рабочего движения Тельмане (И. Минутко, Э. Шарапов — «Рот фронт!») — увидела свет в 1987 году. Книги выходили стандартным тиражом (100 тысяч экземпляров) в однотипном оформлении. Серийный знак — корабль с наполненными ветром парусами на стилизованной под морские волны надписи «Пионер — значит первый». Под знаком на авантитуле — девиз серии:«О тех, кто первым ступил на неизведанные земли, О мужественных людях — революционерах, Кто в мир пришёл, чтобы сделать его лучше, О тех, кто проторил пути в науке и искусстве, Кто с детства был настойчивым в стремленьях И беззаветно к цели шёл своей».
Всего в серии появилось 92 биографии совокупным тиражом более 9 миллионов экземпляров.

Последние комментарии
4 часов 20 минут назад
6 часов 37 минут назад
21 часов 18 минут назад
21 часов 19 минут назад
1 день 2 часов назад
1 день 6 часов назад