[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Семейная тайна
ЖИЛИ-БЫЛИ ДЕД ДА БАБА
Город спал. Ночь по-матерински укрыла его темным и теплым покровом, утишила звуки, погрузила в покой. Спали люди, улицы, дома. В многоэтажных коробках служебных зданий замерли скоростные лифты и ночные вахтеры мирно дремали за стеклянными дверями холлов, удобно устроившись в огромных мягких креслах. Залы магазинов, безлюдные и аккуратно прибранные перед уходом уставшими за долгий день продавцами, в скудном ночном освещении выглядели подобно театральным сценам, которые покинули актеры. В окнах жилых домов лишь кое-где горели золотистые квадратики окон, словно жильцы выделили дежурных, чтобы те, бодрствуя, сторожили их сон. Впрочем, в этот поздний час, на грани ночи и нового, грядущего дня в окраинных районах, где высились трубы заводов, продолжали свою неутомимую работу мартены и другие «непрерывные производства», по возможности приглушив, сбавив на несколько тонов свои обычные грохоты и шумы. Бесперебойно трудилась медицинская служба города. На станции «Скорой помощи» кривая вызовов, резко подскочившая вверх к восемнадцати часам, к двадцати трем резко пошла на спад: люди угомонились, уснули и вместе с ними уснули их недуги, реальные или воображаемые. В огромных парках, подобно слонам, стоя спали автобусы и троллейбусы, оставив на улицах города лишь немногочисленные подвижные дозоры — такси. …Зеленый огонек, плохо различимый среди пестрых красок дня, но четко выделяющийся на черном бархате ночи, прочертил параболу вокруг здания гостиницы «Москва» и замер у хорошо освещенного главного входа. Из машины вышел водитель, высокий, ладно скроенный парень в модной короткой курточке из лакированной кожи. Обошел «Волгу», ткнул ногой в покрышку заднего колеса и неспешно направился к входу в гостиницу. На его пути тотчас же вырос пожилой швейцар с опухшим от сна лицом. — Что надо, молодой человек? Молодой человек повертел у него перед носом ключом от машины, нацепленным на длинную цепочку. — Такси вызывали? — Если вызывали, значит, выйдут. А ты небось за полчаса до срока прикатил да на счетчик рубля полтора намотал? Нет на вас управы. А тут цельные сутки за гроши… — пробормотал швейцар, явно недовольный тем, что таксист прервал его сон. — Ты, папаша, того… Не распускай язык-то. Сам привык полтинники сшибать, думаешь, и другие тоже так? Но спорить со швейцаром парню явно не хотелось. Им тоже владела ночная истома. Да к тому же швейцар был прав — и насчет срока прибытия, и насчет цифры на счетчике. Можно было, конечно, объяснить швейцару, что виной всему не шоферская корысть, а план, побуждавший водителей работать на самой грани дозволенного… Но стоит ли связываться с вредным стариком? — В общем, я здесь… — буркнул он в спину удалявшегося к гардеробу швейцара и вышел на улицу, сел в машину, склонил голову на руль и задремал… Его разбудил щелчок замка задней дверцы. В машине кто-то был. — Постойте, как фамилия? Машину Бердникова вызывала. — Ну да, Бердникова, — ответил не совсем трезвый мужской голос. — Это коридорная, по моей просьбе… — Куда ехать-то? — Во Внуково. Гони побыстрей! Заплачу вдвое. — Мне не надо вдвое. Мне надо сколько положено, — ответил водитель. Его обидел резкий, властный голос, которым разговаривал с ним подвыпивший ночной пассажир. Тот почувствовал сопротивление, рассмеялся. — Ишь ты, какие мы гордые, «сколько положено»… А кем положено? Кому положено?.. Ведь все это понимать надо. Одному сто рублей много, а другому и миллиона мало, давай еще… По доносившемуся с заднего сиденья голосу водитель без труда определил, что говоривший этой ночью спать вовсе не ложился, засиделся за столом, много съел, много выпил и теперь хотел поговорить. — Где нам об миллионах думать, нам бы план натянуть, — миролюбиво заметил парень. — Надо! — Ты опять про план… — с усмешкой произнес пассажир. — Затвердили, как «Отче наш». А что это такое — не понимаем. Надо. И все… Опять же вопрос — кому надо, чтоб план был выполнен? Начальству, чтоб премию получить? Или тебе самому? — И самому, и государству, — отвечал водитель. — Ишь ты, о государстве печалишься? Говорят, был такой французский король… Государство, говорил, это я. Он, значит… А ты кто — король? Не очень-то похож на короля. Был бы королем, на своей машине раскатывал бы, а не на казенной, с огоньком. — Придет время, может, и свою куплю. — «Придет время», — снова передразнил водителя невидимый пассажир. — Машина, парень, тебе сейчас нужна, пока молод, а не потом, когда начнет песок сыпаться. А то как в поговорке: есть зубы — нет мяса, есть мясо — нет зубов. — Он снова захохотал. — А у вас что — смолоду все было? — спросил с вызовом водитель. Вопрос этот почему-то сильно уязвил пассажира. Он ругнулся: — Язви твою! Все было — вша в кармане и блоха на аркане. Однако ничего, выправился. Видишь, не я тебя везу, а ты меня. Непонятно откуда взявшаяся злость, прозвучавшая в словах пассажира, обидела водителя, и он замолчал. Однако мужчина сделал еще одну попытку продолжить разговор. — Эх, попался бы ты в мои руки, паря, я бы из тебя быстро человека сделал! — А я и так человек, а не обезьяна. — Уверен? — с наглым смехом спросил пассажир. На этот раз водитель не ответил. Так, молча, они и проделали оставшийся путь до Внукова. — У меня к тебе, парень, просьба. Пойди погляди, идет регистрация на пятьсот тринадцатый рейс или нет? Если нет, ты меня к ресторану подбрось, а то от разговоров горло пересохло. Водитель вышел из машины, оглядел площадь, прилегавшую к аэродромным постройкам, старым и новым, недавно появившимся. Он сразу заметил кроме таксомоторов, выстроившихся в длинную колонну на стоянке, группу машин, стоящих поодаль. В некоторых из них уже сидели пассажиры, а шоферов не было. Они сейчас рыщут по аэровокзалу, подбирают приезжих, чтобы загрузить машину полностью и с каждого пассажира взять по счетчику. Парень сплюнул на тротуар. Он не любил «мастеров-аэродромщиков». В здании аэровокзала в этот ранний час народу было не так много, как обычно. Аэролинии, хотя и работали круглые сутки, не могли не приноравливаться, однако, к работе городского транспорта, прерывавшего на несколько ночных часов свою работу. Поэтому водитель сравнительно легко получил в справочной необходимую информацию о 513-м рейсе и, поигрывая ключом, вернулся к машине. У него екнуло в груди: ночного пассажира на месте не оказалось. «Сбежал, не заплатив! И как я мог попасться на такой нехитрый трюк!» Раздосадованный водитель уселся на свое место, оглушительно хлопнул дверцей. Начал вставлять ключ и тут увидел валявшуюся на соседнем сиденье смятую ассигнацию. Взял, поднес к глазам. Двадцатипятирублевка. Напрасно он минуту назад клял пассажира, тот сдержал обещание: заплатил вдвое. Водитель усмехнулся: чудак. А ведь он даже не видел его в лицо. И сел невидимкой, и улетучился незаметно. Ну да шут с ним. Одно слово: чудак. В таксопарк водитель Игорь Коробов вернулся уже на рассвете. Отметился у «вратаря», тот при помощи устройства «штамп-часы» отметил время завершения смены. По крутому пандусу въехал на «свой» этаж. Прежде чем покинуть машину, по заведенному порядку, тщательно осмотрел салон. Его ожидала находка. В расщелине между задней стенкой и сиденьем он обнаружил записную книжицу в зеленом пластиковом переплете. Игорь Коробов осмотрел ее. В книжице не было ни фамилий, ни адресов, ни телефонов. Страницы покрывали убористые колонки букв и цифр:85—70 РОЯ — СУ — 100 62—24 РОС — О — 130 92—21 РОБ — Т — 120…Водителю стало тотчас же ясно, что первые цифры и буквы означали номера автомашин, однако понять, что скрывалось за остальными знаками, он не мог. Книжку, судя по всему, обронил человек, имевший отношение к автотранспорту. Но кто именно? Может, последний пассажир — «чудак»? А может, и нет. Игорь сунул книжицу в карман, чтобы при первом удобном случае передать ее в комнату находок. А сейчас надо было сдать выручку. Водитель достал из кармана кошелек с личным номером, пересчитал выручку, добавил сверх суммы, как положено, лишних двадцать копеек — для кассирши, пошел сдавать. Бросил кошелек сквозь отверстие «копилки». Он мягко упал на груду таких же кошельков, брошенных в сейф ранее вернувшимися в парк водителями. Утром придет кассирша, пригласит «понятого», кого-нибудь из шоферов, и при нем отопрет сейф. У него на глазах возьмет кошелек, взглянет на номер, отыщет платежную ведомость, высыпет деньги на стол, примется считать… Таксопарк между тем заполнился людьми. Ночная смена еще не разошлась, а дневная уже прибыла. Внимание водителя привлек шум возбужденных голосов. Шоферы, столпившись, образовали круг, посередине которого стояли краснолицый механик по прозванию Три пятеры и молодой таксист Витюха. — Так ты даешь рубль или нет? — грозно вопрошал механик. — Да я уже давал, — ответил Витюха. Приближался ТО-2. Все машины парка пройдут тщательный осмотр и подвергнутся ремонту. Для водителей — это время дополнительных расходов, для ремонтников — пора сбора обильного денежного урожая. Конечно, шофер мог и не давать слесарю денег, тот все равно принялся бы за работу. Но так бы ее растянул и выполнил столь небрежно, что водитель, замученный частыми неполадками, не раз проклял бы свою скаредность. Накануне Витюха уже передал требуемую мзду механику и теперь не мог взять в толк, чего же еще тот от него хочет. Между тем Три пятеры знал, что делает. Четыре машины колонны в настоящее время были бесхозными. Двое водителей уволилось, один был в отпуске, еще один болел. А ремонтировать эти машины все равно надо. А кто заплатит? Вот механику и пришло в голову разложить недостающую сумму на оставшихся водителей. Ничего, не обеднеют. Может быть, если бы Три пятеры дал себе труд толково объяснить Витюхе, в чем дело, тот и выложил бы свой рубль. Но механик торопился. То тут, то там раздавалось громкое хлопанье дверок, означавшее, что водители ночной смены, уставшие после многочасового мотания по городу, расходятся по домам. Потом гоняйся за ними. Лучше кончить дело сейчас. Три пятеры с раздражением взглянул на тщедушного Витюху, облаченного в ярко-желтый пиджачок из кожзаменителя, дешевые мешковатые джинсы отечественного производства и ярко-красные кеды, со злостью произнес: — Эй, шкет… Не жлобись, выкладывай деньгу. Не мне, колонне надо! Да поскорей! Вокруг них уже образовался кружок. Водители, за долгую смену стосковавшиеся по общению в своих металлических кабинах, обрадовались возможности постоять на сквознячке и принять участие в даровом развлечении. — Не сдавайся, Витюха! Стой на своем! — со смехом выкрикнул Додик, хитроватого вида парень, скрывавший за внешне благодушным балагурством расчетливую корысть. — А ты молчи, не подначивай, — хмуро сказал Три пятеры. Ему уже не терпелось прервать разговор, угрожающий превратиться в производственное собрание. — Если ты такой жадюга — не давай! — Он зло сплюнул на бетонный пол. — Отнеси рублик своему папочке. Пусть он на книжку положит. Упоминание о папочке вызвало у присутствующих взрыв смеха и больно уязвило Витюху. — При чем тут папочка?.. У него нет сберкнижки, — запинаясь, пробормотал он. — И я не жадюга… — Его губы дрожали от обиды. — Я всем даю… «Вратарю» сегодня дал… Взрыв смеха прервал его речь. Каждый из водителей при въезде на территорию таксопарка вручал «вратарю» свою дань — двадцать копеек. Если учесть, что машин в парке тысяча штук, то можно без труда определить, что дань эта немалая. По вечерам «вратари» у тех же таксистов обменивали горы мелочи на крупные купюры. — А кому еще? — послышался озорной вопрос. — На мойке двадцать… — откровенно отвечал на вопросы Витюха. — Всем — двадцать или каждой по двадцать? Сколько молодым и сколько старым? Снова смех. На мойке трудились несколько женщин разного возраста, от юных девушек до пенсионерок. Машина въезжала на небольшую площадку, огороженную оранжевыми пластмассовыми щитами, вставала на специальные рельсы. Нажатием кнопки рельсы приводились в движение, машина начинала вращаться. Со всех сторон в нее били струи воды, круглые капроновые щетки автоматически смывали с крутых полированных боков и стекол обильную грязь. В это время женщины приводили в порядок салон автомобиля, вручную обмывали колеса, щитки. Их усилия, как правило, тоже не оставались без вознаграждения. — А кассирше тоже подкинул? — Всем сестрам по серьгам, — улыбнулся Витюха. Механик грозно надвинулся на него. — Что зубоскалишь? — заорал он на парня во все горло. — Ну, погоди! Это тебе так не пройдет! Игорь Коробов с интересом и беспокойством следил за разговором своего дружка Витюхи Прошина с механиком. То, о чем говорил Витюха, конечно, ни для кого не было секретом. Но одно дело — знать, а совсем другое — говорить об этом всенародно. Игорю захотелось поддержать Витюху, выступить на его стороне, но, пока он собирался с мыслями, время ушло. — Водитель Коробов, срочно зайдите в диспетчерскую! — громко проговорил голос из репродуктора, и он отправился по вызову. По крутой лестнице поднялся на второй этаж, где была расположена диспетчерская. Диспетчер Зина, невысокая, крепкая, со следами былой миловидности на оплывшем лице, несмотря на бессонную ночь, была, как всегда, деятельна и криклива. Старожилы помнили, что в таксопарк она пришла много лет назад хрупкой, стеснительной девчонкой. Здесь, в таксопарке, к ней пришла первая любовь, здесь она вышла замуж и развелась. Потом еще раз, еще… Семьи ей создать так и не удалось. Ее семьей стал таксопарк, на многочисленных членах этой большой и разношерстной семьи — шоферах — она срывала свое плохое настроение, свои обиды на неудавшуюся личную жизнь. «Зинке бы фронтом командовать, а она нами верховодит», — посмеивались в парке. — Где вы ходите, третий раз выкликаю! Вам, Коробов, из ЖЭКа звонили, что-то там у вас дома произошло. — А-а… это, должно быть, насчет протечки… Жильцы с пятого этажа залили… Сегодня с утра обещали мастеров прислать, — сказал Коробов. Однако, по мере того как он произносил эти слова, чувство уверенности покидало его и, заканчивая фразу, он уже знал, что скорее всего протечка здесь ни при чем. Дома — Бабуля. Одна. Уж не с нею ли что приключилось? — Поезжайте, Коробов, поезжайте, — ласковым тоном произнесла Зина. И эта ее непривычная ласковость более, чем что-либо другое, вызвала у Коробова нарастающее чувство тревоги. Игорь и Бабуля жили в восьмиэтажном доме на Разгуляе. Дом был старый. Когда-то он весь состоял из больших многокомнатных коммунальных квартир с длиннющими полутемными коридорами, загроможденными вышедшей из употребления мебелью, велосипедами, корытами и тазами. Коробовым повезло: дом поставили на капитальный ремонт. На год-два их приютил так называемый «переселенческий фонд», зато теперь, пожалуйста, — справляй новоселье на старом и привычном месте. Можно было получить квартиру и в новом доме, но в отдаленном районе, а Бабуля забираться незнамо куда не хотела, любила Разгуляй. Разгуляй — старый московский перекресток, на который выходят три улицы — Карла Маркса, Ново-Басманная и Спартаковская. Бабуля рассказывала, что название «Разгуляй» пошло от трактира, что был когда-то в этих местах, за Земляным валом, но где именно — неизвестно. Центр Разгуляя — большое, красивое здание, окрашенное в густо-оранжевые и белые цвета. В далекие времена то была усадьба графа Мусина-Пушкина. А дом ему построил не кто иной, как известнейший архитектор Казаков. В этом доме при пожаре 1812 года сгорел вместе с библиотекой список «Слова о полку Игореве». Обо всем этом Бабуля узнала на лекции в ДК автомобилистов и пересказала дочери и внуку. Сейчас в бывшей усадьбе, как сообщает вывеска у входа, институт. Напротив в некотором отдалении высится новое, недавно построенное белое административное здание. Рядом с ним особенно неказистыми кажутся старые московские домики. Однако в них довольно-таки полезные для жизни учреждения: «Молочная», «Колбасы», «Овощи — фрукты», «Кулинария», «Булочная», «Хозяйственный», «Ателье», «Сберкасса». Все это расположено на пятачке, где и панелевозу развернуться негде. Двери магазинов то и дело закрываются и открываются, люди входят и выходят, снуют фургоны, подвозя то хлеб, то овощи, то молоко, въезжают прямо на тротуары, перекрывая людские потоки, а по проезжей части мчатся троллейбусы, автобусы, частные машины и такси. Старый московский перекресток, знавший тихую спокойную жизнь во времена дяди Пушкина, чей особнячок до сих пор стоит неподалеку, вон там, через два дома за «Колбасами», теперь волею судеб превратился в одно из самых бойких городских мест. Бабуле нравилось здесь. Не хочешь любоваться на «Кулинарию» и «Колбасы», гляди вдаль. Там, в отдалении, — голубые колоколенки и золотые купола Елоховской. А немного пройдешься по улице Карла Маркса или по Ново-Басманной, — пожалуйста, вход в Сад Баумана с просторными аллеями среди свежей, зеленой листвы. Здесь же фанерная раковина летней эстрады, деревянное здание кинотеатра. Купишь билет в кассе при входе и гляди две серии про полицейских и воров или про Фанфана Тюльпана. Правда, Бабуля двухсерийных не любила — уставала, от духоты болела голова и появлялась резь в глазах. Да и не нравились ей похождения полицейских и воров, хулиганства и без них хватает. Ей подавай фильмы про любовь и обязательно со счастливым концом — свадьбой. Если фильм не кончался свадьбой, Бабуля уходила недовольная. Как же так: встретили друг друга люди, полюбили, а дальше-то что? Поженились ли, народились ли дети? Намек есть: идут рука об руку, музыка играет, а все-таки не ясно — сладится у них или как? После капитального ремонта дом из грязно-серого превратился в нежно-бежевый. Больших коммунальных квартир не стало, а появились маленькие отдельные квартирки с удобствами. Молодцы архитекторы, здорово перестроили. Что хорошо, то хорошо! — Вот она — Советская власть, — говорила Бабуля. — Позаботилась: и квартиру бесплатно дали, и ремонт за так. Живи и радуйся! Однако жить и радоваться все время что-нибудь мешало. Начать с того, что мальчонка, внучок то есть, народился без отца. В каком-то смысле отец был, конечно. Игорек ведь не ребенок из пробирки, хотя для него, может быть, было бы лучше, если бы из пробирки. Тогда бы заботу о нем взяло на себя какое-нибудь солидное научное учреждение с хорошим бюджетом, а не одинокая бабка со скромной пенсией. Почему бабка, а не мать? Мать у Игоря была. Мальчик звал ее не мамой, а Лизкой, как Бабуля. У Лизки были круглые водянистые глаза, наполовину закрытые выкрашенными в синий цвет веками, волосы специально взлохмаченные и нависавшие на выпуклый лоб. Маленькие ярко-красные губы она имела обыкновение поджимать, придавая им форму сердечка, ей казалось, что это красиво. А Лизка очень дорожила красотой, ей казалось, что она рождена, чтобы привлекать к себе мужские сердца и жить в свое удовольствие. Сына Лизка прижила неизвестно от кого, бросила его на руки Бабуле, а сама улетела на Дальний Восток. Почему именно туда? Прежде всего, наверное, потому, что «дальний», то есть расположен на большом расстоянии от Москвы, следовательно, можно не заботиться о ребенке, о его бесконечных болезнях — кори, желтухе, диатезе и мало там о чем еще. Можно не слать старухе денег: «Жизнь здесь, мамочка, ужас какая дорогая!» Можно врать напропалую: «Я опять вышла замуж, на этот раз за командира траулера. Только он ушел на полгода в плавание, и я сейчас сижу на мели…» Может, кто и ушел в плавание на полгода, а может даже на год, но человек тот не был мужем Лизки, иначе она бы по забывчивости не называла его то Иваном, то Альбертом, то Степой. Даже простодушной Бабуле ясно было, отчего дочь сорвалась с места и ринулась на Дальний Восток. За длинным рублем да за мужиками погналась. Они там сельдь ловят, а самих, мужиков-то, говорят, больше, чем сельдей в бочке. И все неженатые. Все, видно, от семей поубегали. Ох, Лизка, срамница, мало ей тут было ухажеров, вон куда сиганула! Бабуля, хотя и нелегко было ей вертеться с малышом на свою пенсию, однако отъезд дочери приняла с облегчением. По крайней мере, не будет таскать в дом каждую неделю все новых и новых кавалеров, пить с ними вино на кухне. Добро бы тихо пила, а то взяла манеру, напившись, с взлохмаченными волосами, в одной оранжевой комбинашке, спадающей с худых плеч, выбегать на лестничную клетку и там орать что есть мочи, требуя от общественности найти управу на очередного обидчика. С ужасом вспоминала Бабуля то время, когда наутро после скандала ей приходилось сторонкой, незаметно проскальзывать в булочную или молочную, только бы не встретить кого-либо из соседей. Стыдно в глаза людям смотреть. Уехала, заполошная, и ладно, плакать не будем, скатертью дорожка! Однако письма Лизки с Дальнего Востока ожидала с нетерпением и читала с интересом. Водрузив на нос старенькие очки, перевязанные шнурком — пластмассовые дужки поломались, она прочитывала письмо по первому разу насквозь, чтобы узнать главное: жива ли дочь, не заболела ли. Хоть и непутевая, а все-таки своя. Второй и третий раз письмо прочитывала медленно, с обдумыванием. Качала головой… «Муж Кузьма. А это кто такой? Вроде Кузьмы никакого не было». Не ленилась встать и взять из серванта последнее Лизкино письмо, находила нужную строчку, подчеркивала шариковым карандашом. «Ну, конечно же, Альберт, я же помню, никакого Кузьмы не было. И в кого уродилась такая непутевая!» Действительно, вопрос — в кого? Сама Бабуля только и знала в жизни одного ненаглядного своего Ванечку. …Выросли они в приокском селе, жили на одной улице под названием Луговая. Улица была крайней. Дома стояли по левую руку, а по правую шли пойменные луга. Хриплый гудок парохода на рассвете доносился отчетливо, сильно, как будто река была рядом, а ведь до нее через луг километра полтора, не меньше. В седьмом классе приударил за ней однокашник, сын бывшего местного богатея, неизвестно куда сгинувшего еще в годы коллективизации. Звали его Рыжкой. Так же — Рыжкой — на селе кликали злющего пса. Был этот пес невелик, а нрав имел препаскудный. Подбирался к жертве тихо, исподволь, без лая и мгновенно прокусывал лодыжку, мякоть руки — всё, что подвернется. А сделав свое черное дело, так же тихо скрывался в подворотню или в заулок. Кому пришло в голову обозвать собачьей кличкой рыжего парня, неизвестно, да только кличка прижилась. Так вот этот Рыжка попробовал было подкатиться к Мане, однако Ванюша однажды погутарил с ним за амбаром, и тот отстал. Ненадолго, правда. Позднее не раз возникал в ее жизни назойливый ухажер, но Маня даже и думать о нем, да что там думать — смотреть на него спокойно не могла. Он и в малых годах стервецом был. Привяжет кошке консервную банку к хвосту, она носится по деревне, орет как оглашенная, людям отдыхать не дает. Или колючек наберет, набросает на тропинке, по которой ребята через луг купаться ходят, — опять крик, шум, слезы. А он трет ладонью свою наголо стриженную, отливающую медью черепушку и тихо, злобно смеется. Ребята давай дразнить его — «Вшивый, вшивый!» (слух прошел, что из-за вшей его остригли). А потом взяли и избили втемную, накинув на голову мешок. А ему хоть бы что. Носится по улицам, придумывает новую каверзу. Ну и наградил ее бог ухажером! Девчонки потешаются, кричат под окном: — Маня! Маня! Жених пришел, выходи! Она глянет из-за ситцевой занавески, щеки от стыда полыхают. Напротив на бревнах сидит, не сводит глаз с ее окон. А выйдет Маня по своим делам, не отсиживаться же дома из-за поганца, увидит ее, поднимется с бревен и увяжется вслед. Близко не подходит — боится, а плетется метров за двадцать — тридцать. Маша делает вид, что ее это не касается. Улица общая, кто хочет, тот и ходит, ей-то какое дело. Однако не по себе. На спине, между лопатками, ноет и мозжит, взглядом так и жжет, паршивец. Сверстники Рыжку не любили как шкодника и труса. Но однажды Маня с удивлением обнаружила, что парень вовсе не из трусливых. На мосту к ней пристали ребята из другой деревни. Стали за руки хватать, за косы дергать — мол, пойдем с нами, не пожалеешь. Тут Рыжка, откуда ни возьмись, налетел, одного ударил, другого с моста в канаву спихнул, а у третьего клок рубахи вырвал. Самой же Мане унимать его пришлось. — Уймись, скаженный. Ишь, защитник выискался. Тебя кто просил? Ну и не суйся! Но с той поры в ее душе презрение к Рыжке уступило место какому-то другому чувству, тоже неприятному, но не столь острому, как то, прежнее. В старших классах любовь между Машей и Ванечкой заполыхала, будто сухой валежник на ветру. Они уже не таились ни от родителей, ни от односельчан. До чего доходило: если Ванечка, скажем, не явился на урок, так строгая училка, химичка Нина Спиридоновна, сдвинув по-мужски лохматые брови, строго спрашивает у Мани: — А где Иван? Почему нет? Как будто она Ванечкина жена. Смешно! Тем не менее Маня не смеется. А, как положено, встает и спокойно говорит: у Коробовых забор повалился, вот они с отцом и поправляют. Нина Спиридоновна сердится: — А разве нельзя забор поправлять вечером, после школы? Маня объясняет: — Вечером никак нельзя… Они поросенка резать зачнут, дядя из Москвы приезжает, будут важный вопрос решать. — Какой такой вопрос? — не удержит женского любопытства Нина Спиридоновна. Маня докладывает: — Дядя дом надумал продавать, знаете, тот, что у оврага крайний. А покупателей нет, потому что дом развалюха и без надела, а кому дом без земли нужен? — Продавать будут? — задумчиво трет переносицу карандашом Нина Спиридоновна. — Сколько просят? — Так тыщи две, не меньше, — отвечает Маня. — Где ж такие деньги взять? — вздыхает учительница и строго добавляет: — А ну-ка, Марья, иди к доске. Отвечай, что ты знаешь о монгольском иге? Никто и не сомневался, что Маня и Ванечка осенью поженятся. Мане стало казаться, будто Рыжка примирился со своей долей. До тех пор, пока темной ночью не вспыхнул факелом дядин дом у оврага. Их будущий с Ванечкой дом. Они и думать не думали, и гадать не гадали, что дом им отойдет. Дядя с семьей жил в Наро-Фоминске, а деревенское строение использовал как дачу. Семья выбиралась на Оку уже в мае и жила до глубокой осени, а сам хозяин приезжая на месяц — в отпуск. За этот короткий срок только и успевал, что забор повалившийся поставить или покосившийся сарай подпереть. Вот и появилась мысль у дяди: дом в деревне продать. Скоро объявился покупатель дядиного дома — Нина Спиридоновна. Видно, ей надоело, как запечному таракану, у чужих за загородкой жить. Почти что сговорились, однако сделке осуществиться было не суждено. Родители Мани и Вани вдруг спохватились: свадьба не за горами, пора бы и о молодых подумать — где жить будут. Надумали: откупить дядин дом у оврага, благо недорого продается. Эта новость быстро распространилась по деревне. Вот тут-то пожар и случился. Дом загорелся на рассвете. Впрочем, «загорелся» не то слово. Пастух, выгонявший из деревни сонное стадо, увидел над домом яркую вспышку, как будто в стену угодила шаровая молния. Он ожидал услышать удар, но его не последовало. Все тихо было, и в деревне, и в пойме, и на Оке. Только на краю села у оврага неистово пылал деревянный домишко. Пастух кинулся к председателю колхоза, ударили в рельсу, созвали людей, но, когда прибежали на место, все было уже кончено. Рухнула кровля, от обгорелых бревен несло гарью. Как водится, прибыла милиция, начались расспросы, что и почему. Местный милиционер Сухов в своих рассуждениях о причинах загорания, сам того не зная, последовал постулату римского права: стал доискиваться, кому это могло быть выгодно — ну, чтоб дядин домишко сгорел синим пламенем. Может быть, хозяину, чтобы получить страховку? Однако всем было известно, что дядя дом надумал продать и уже задаток получил. Новым хозяевам? А зачем? Ведь размеры оговоренной суммы превышали размеры страховки. Все знали, что новый дом (это только так говорят, что «новый», дом был так себе, а проще говоря — развалюха, которую ремонтировать и ремонтировать) должен был перейти молодым — Мане и Ване. Так, может, кто им хотел насолить? Красное лицо Сухова сделалось совсем багровым, на толстой шее надулись жилы, и он громко заорал: — А где Рыжка? Подать его сюда! Кое-кто было уже собрался сорваться с места и бежать на другой конец деревни за Рыжкой, но подозреваемый неожиданно вынырнул из-за чужой спины: — Здеся я… Даже при слабом свете занимавшегося рассвета и догорающих бревен было заметно, как он бледен. — Ты это что… — растерялся милиционер Сухов. — Ты где был? — Когда был? — высокий голос Рыжки сорвался, но он овладел собой. — О чем это вы? — Ты где ночь провел? — Где провел? Дома, — став рядом с сыном, сказала мать. — Спал он, когда шум поднялся, сама его разбудила, вместе и побежали. — Я могу подтвердить, — произнесла строгая учительница Нина Спиридоновна, снимавшая комнату у матери Рыжки. — Мне не спалось, и я видела, как они с матерью вышли на крыльцо, когда загорелось… — Вот как? Ну ладно, иди… Однако у Сухова, судя по всему, большие сомнения остались насчет Рыжки. Да и Маня чуяла: его это работа. По рассказам пастуха, первым увидевшего пламя, дом загорелся внезапно и вспыхнул как бенгальский огонь. Не иначе, говорили в деревне, паршивец какую-нибудь химическую каверзу изобрел, недаром строгая Нина Спиридоновна ему по химии одни пятерки ставит. Однако же не пойманный — не вор.
___
С ненаглядным Ванечкой Бабуля прожила недолго — пару лет, а тут война началась. Ваня добровольцем ушел на фронт. Больше она его не видела. Несколько месяцев приходили письма, потом, в конце 1942-го, перестали. А тут и дочка родилась. Бабуля все надеялась: может, жив, объявится, ведь похоронку она не получила. Однако время шло, а Ванечка все не объявлялся. После войны Бабуля не раз обращалась в разные учреждения с просьбой выяснить, что произошло с ее мужем, а если погиб, то сообщить, где и как, да указать место захоронения, она бы на могилку съездила, горе выплакала. Однако ответы получала невнятные. По ним выходило, что в живых Ванечки нет и в мертвых тоже. Бабуля попробовала было всю силу нерастраченной любви сосредоточить на дочери, искала в ней сходство с любимым мужем, а только нет этого сходства — и все тут. Ванечка был темноволосым, а девчонка белая, он был тихий и совестливый, а эта горластая и бесстыжая. Одна радость у Бабули — Игорек. Поначалу мальчик был белесый и плаксивый. Бабуля испугалась, как бы в мать не пошел, в Лизку, и обличьем, и не дай бог — характером. Но пронесло, выправился, белесый пух слетел, как шелуха с головки лука, и полезли темные, упругие волосенки. Глазки тоже потемнели и сделались блестящими — вылитый Ванюша! Тоже чернявый был, его в деревне «цыганом» звали. Бабуля радовалась: пошел внук не в беспутную мать, не в неизвестного, можно сказать, анонимного отца, а в деда. В Ванечку. И на том спасибо! В память о муже у Бабули осталась одна только фотография. Соседка Никодимова надоумила отнести фотку в ателье и сделать увеличение. Бабуля отправилась. Бойкий фотограф уговорил сделать изображение Ванечки на пластмассовой тарелке. — А что с тарелкой делать? — не поняла Бабуля. — Как что? Эх, темнота… На стену вешать. С этой целью на оборотной стороне тарелки будет приделана специальная проволочная дужка. — Ну, коли так… — Бабуля не нашлась, как возразить фотографу. А теперь и рада. Тарелка с изображением Ванечки всегда перед глазами. Вот и сейчас. Бабуля не спускает глаз с декоративной тарелки. На нее глядит родное лицо. Ванечка как бы говорит ей: «Ты свое дело, Манечка, сделала, отняла пацана у беспутной дочери, вынянчила, вырастила, на ноги поставила… Вон какой стал — здоровый да красивый! Теперь ему своим умом жить. А ты живи, отдыхай…» Бабуля часто мысленно разговаривала с Ванечкой, искала у него одобрения своим поступкам и, как правило, находила. С первого дня женитьбы они жили душа в душу. Это согласие как бы сохранилось у них до сих пор. Ванечка на пластмассовой тарелке не старел, молодой был да красивый, пилотка лихо сидела на голове, из-под нее выбивался упругий темный чуб. Ванечке на этой фронтовой фотографии было двадцать три года. Таким молодым он и остался до сих пор. А она превратилась в Бабулю. И тем не менее в мыслях до сих пор разговаривает с ним как с ровней. А почему? Да потому, что, общаясь со своим ненаглядным Ванечкой, Бабуля и себя ощущала такой же молодой, какой была тогда в те недолгие, быстро пролетевшие годы, которые им довелось прожить вместе до войны. Иногда ей казалось, что она все та же — крупная молодка, с нежной, белой кожей, не принимавшей загара. Ванечка не позволял ей стариться, ожесточать свое сердце в борьбе с невзгодами, благодаря ему, памяти о нем она сохранила до сей поры спокойствие и доброту. За это она любит Ванечку все больше и больше. Вскоре после счастливого возвращения в отремонтированный дом на Разгуляе Бабуля написала дочери Лизке письмо. О чем? Да обо всем. О том, как удался капремонт, об Игорьке, о своем нездоровье («такая тягость, рукой пошевелить не могу, кажется, лежала бы и не вставала, да куда там — большая стирка, да и пыли накопилось по углам»). А в конце пригласила дочь на новоселье: «Приезжай, пирог испеку, твой любимый, с яблоками». Однако то ли Лизка разлюбила пироги, то ли какие важные дела помешали, однако на новоселье не прибыла, отписала: «У нас тут, мама, отпуск надо за год вперед заказывать, а если не заказала, все, пиши пропало, ни за что не отпустят, уж такие строгости, ты, мама, просто не поверишь». Бабуля и не поверила. Бережет, непутевая, отпускные месяцы, чтобы на юг мимо Москвы просвистеть и там разгуляться. Вместо Лизки к новоселью в Москву прибыл подарок: шесть чайных чашек с блюдцами, на которых были изображены женщины с круглыми лицами, раскосыми глазами, в длинных, украшенных драконами халатах. Бабуля сказала внуку: — Гляди, в халаты вырядились. Игорь пояснил: — Это, Бабуля, не халаты, а кимоно, одежда такая японская. — Ну да, — согласилась Бабуля, — видно, у них там, в Японии, такую носят, в каждой стране свои причуды, — и пошла мыть чашки. Вовремя поспели, а то посуда вся побилась, не из чего чайку попить. Вот бы Лизка еще сумела чайник для заварки прислать! Можно и без японок, лишь бы чай можно было заваривать. Тут как-то Бабуля заходила в магазин «Фарфор», хотела чайник купить. Продавщица строго Бабуле сказала: «Отдельно пока нет. Берите с сервизом!» — «А сколько, милая, сервиз-то стоит?» — «Шестьдесят рублей». — «Кусается твой сервиз. Да и на что он? Нам всего две чашки надо да сахарницу с чайником», — подумала про себя Бабуля и отбыла восвояси. В тот же день отписала дочери насчет чайника. Однако дочка просьбу матери не поторопилась выполнить: то ли в открытое море на рыбном траулере ушла и с письмом разминулась, то ли в Японии этих чайников для заварки, как и у нас, грешных, тоже нехватка. Бог с ним, с чайником, главное, что у Лизки, кажется, жизнь на лад идет. Вот чашки прислала. А они ведь денег стоят. Даром-то не дают. Может, выправится дочка? Бабуля расчесывает поредевшие, но едва тронутые сединой волосы. Смотрит в зеркало. Хмурится. То, что она там видит, ей не нравится. Хотя выглядит она для своих лет неплохо. Вот только давление в последнее время совсем замучило. И сейчас, видно, подскочило, голова тяжелая, мутная, в ногах слабость, щеки неестественно румяны. Она лезет в сервант за лекарством… Бывают дни, когда приступы стенокардии Бабулю совсем не мучат. Тогда она оживает. И тотчас вновь вспоминает про телевизор. Как бы завернуть, будто ненароком, к соседке Никодимовой и хотя бы глазком одним взглянуть, что в мире происходит. Сегодня, пока прокопалась, время-то и прошло. Бабуля явилась к подруге, когда фильм уже начался. Старуха Никодимова, укрывшись черно-красным в клеточку пледом, бесформенной горой возвышалась в своем кресле посреди комнаты. Услышав скрип двери и знакомое шарканье ног за спиной, недовольно мотнула головой: — Опять опоздала! Если времени нет, могла б совсем не приходить. Бабуля на эти невежливые слова не ответила, смолчала, а то рассердится Никодимова, вовсе вытурит, тогда сиди дома, кукуй без телевизора. Серия Бабуле понравилась. Вот как хорошо получилось, все соседи переженились, и молодые и старые, даже свадьбу сговорились устроить общую — одну на всех. Бабуля задумалась. Народу тьма-тьмущая, невесты, женихи, родственники, соседи, да еще с завода грозятся всем цехом пожаловать. Где ж они все усядутся? Квартиры-то малогабаритные. Высказала свой вопрос вслух, а у старухи Никодимовой уже готов ответ: «Вот ведь какие глупости в голову лезут, может, они в ЖЭКе будут гулять, в красном уголке, или кафе снимут!» — «Ваша правда, должно быть, в кафе», — согласилась Бабуля и поднялась со стула. — Ты куда? Сейчас Архипова за Кармен будет петь, — сказала Никодимова, но Бабуля была уже у двери. У нее вдруг испортилось настроение. Что она, как приживалка, по чужим квартирам шатается? Будто без телевизора жить нельзя. Устало добрела до квартиры, близоруко щурясь, долго тыкала в скважину замка ключом, а дверь вдруг сама собой распахнулась, и навстречу ошеломленной Бабуле хлынул знакомый мощный голос: «Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей!» Не веря глазам, но уже счастливо улыбаясь, она стояла в дверях, глядя на неправдоподобно четкое изображение певицы с розой в черных волосах. — Получай, Бабуля, подарок, — говорит Игорек, тащит Бабулю в комнату, усаживает на диван и давай трещать переключателем, то первую программу покажет, то вторую, то московскую. — А у Никодимовой только первую и берет, — бормочет Бабуля. — Это тебе, чтобы Олимпийские игры, не выходя из дома, глядеть. — А будут ли — Олимпийские-то? — с беспокойством говорит Бабуля. — Американцы, слыхала, бойкот объявили. Вот, негодники, что делают. Игры им, вишь, помешали. Это же в интересах мира. Неужто им невдомек? — Ничего у них не выйдет, — отвечает внук. — Ох, устал я сегодня. — Сейчас, сейчас я тебя покормлю, — спохватывается Бабуля. — А чай будем пить из Лизкиных чашек — на радостях. Бабуля дует в чашечку, крепко удерживая ее обеими руками: «кувырчатая», не дай бог, вывернется и упадет. Отхлебывает глоток и говорит: — Ох и счастливая я. Теперь бы мне только, Игорек, могилку Ванечки отыскать да тебя поженить. Игорь и не подозревал, что последнее желание Бабули сбудется так скоро.ДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Она стояла на самом краю тротуара. На ней были желтая майка и темно-коричневая бархатная юбка. Майка и юбка довольно плотно обтягивали фигуру девушки, создавая впечатление, что она несколько выросла из своей одежды. — Подкинь, шефчик. Опаздываю. Вовремя тачка подвернулась, — неожиданным для такого юного существа хриплым голосом произнесла пассажирка. Уселась рядом и, достав из модной сумки сигареты и зажигалку, закурила. Потом закинула ногу на ногу, юбка сильно задралась, обнажив коленки, что девушку ничуть не смущало. Зато сильно смущало Игоря, можно сказать, отвлекало от выполнения служебных обязанностей. О дальнейшем развитии событий рассказывают выдержки из официальных документов.…Она слабо ойкнула, и сигарета выпала из ее губ. Игорь стал тушить ее, хлопая ладонью по бархатной юбке. «Только бы юбку не прожгло», — эта глупая мысль была первой, которая мелькнула у него в голове после аварии. — Ну, спасибо, шеф, удружил, — бодрясь, проговорила своим хриплым голосом юная гражданка Грызлова и начала судорожно шарить по дверце, чтобы нащупать замок и выбраться из машины. — Ты как? — спросил он ее. — Живая. Бледное личико скривилось от боли. — Ты подожди, я тебя в больницу отвезу. Вот только гаишника дождусь. — Нет, ты уж сам жди своего гаишника. Мне надо бежать. Волка ноги кормят. Прокормят и меня. Сколько я тебе должна? — Что там… Какие деньги!.. Только номер телефона оставь… — Телефон? А зачем? На ее бледном личике появилась заученно игривая гримаска, видно, гражданка Грызлова привыкла, что мужчины просят у нее номер телефона. — Мало ли что… Вдруг как свидетель понадобишься. — А-а… Пиши… — В ее голосе звучало разочарование. «Что за девчонки пошли, — подумал Игорь. — На волосок от гибели была, а на уме снова свиданки». — Бывай. — Бывай. Вечером из дома он позвонил ей. Сердитый женский голос ответил, что Юлька домой не являлась, а может, и совсем не явится, небось шляется со своей беспутной подружкой Мариной. Он положил трубку на рычажки. Конечно, очень может быть, что гражданка Грызлова действительно загуляла. Но перед глазами всплыло бледное, искаженное болью лицо, и беспокойство охватило его. Он принялся звонить в бюро несчастных случаев и отыскал Грызлову в 33-й городской больнице.Справка дежурного ГАИ МВД
«13 июня в 18 часов 50 минут водитель Коробов Игорь Иванович, управляя автомобилем марки ГАЗ-24, номерной знак ММТ 00-35, и следуя по ул. Касаткина, перед перекрестком совершил столкновение с остановившимся автомобилем марки ЗИЛ-130, причинив пассажиру Грызловой телесные повреждения».Объяснение водителя Коробова И. И.
«Автомашина со скоростью примерно 50—60 км в час следовала по улице Касаткина. Проезжая часть была мокрая после поливки. Впереди у светофора затормозила грузовая автомашина ЗИЛ-130 с полуприцепом. Я тоже затормозил, но машина не остановилась, а ударила передней частью в полуприцеп. Девушка-пассажирка, оставив свой адрес, ушла с места происшествия, а я дождался сотрудника ГАИ».
— Тебя, оказывается, Юля зовут? А я и не знал. — А-а… домой звонил? Надо бы им сообщить, да лень. Ничего. Пусть поволнуются. Может, подобрей станут. Его покоробиластоль откровенная черствость по отношению к близким. — Кто у тебя? — Мать. Отец. Полный комплект. Оба на пенсии. Так что толку от них мало. Он не понял: искренне она говорит или валяет дурака, стараясь произвести на него впечатление. — Может, мне им позвонить, сообщить, где ты? — Спокойненько, шеф. Не пыли. Надо будет, скажу. — Как себя чувствуешь? Она пропищала тонким детским голоском:Справка горбольницы № 33
«Больница № 33 сообщает, что 13 июня в 19 часов 15 минут по наряду № 59159 «скорой помощью» была доставлена Грызлова Юлия Владимировна, 20 лет, работающая билетером в кинотеатре «Восход». Диагноз — трещина в своде черепа, ссадины правого локтевого сустава, ушиб правого коленного сустава. При поступлении — жалобы на головокружение, тошноту».
___
На третий день после свадьбы Игорь вскочил в семь утра, умылся, сделал зарядку, стараясь не греметь посудой, приготовил завтрак. Бабуля собиралась было вскочить, помочь, но он шепотом удержал ее: «Спи, спи». На цыпочках прошел в комнату, ласково тронул Юлю за плечо. — Пора. Она замычала, повернулась лицом к стене. Он снова потормошил ее: — Иди завтракать. На работу опоздаешь. Она приоткрыла один глаз. Низким, охрипшим от сна голосом, протянула: — На какую еще работу… — В кинотеатр. Она открыла оба глаза и села на диване. — Да ты что? Никуда я не пойду. Не для того замуж выходила, чтобы в кинотеатре ишачить. Нет уж! Игорь растерялся: — Что же ты будешь теперь делать? Дома сидеть? — Почему дома… Что-нибудь придумаю. Я учиться пойду! Ему показалось, что она это сейчас придумала — насчет учебы. Но мысль ему понравилась. — Учиться? Дело хорошее. А куда? Юля уже очнулась от сна, мозг ее заработал. — В юридический. — Почему именно в юридический? — У моей матери там знакомый дядька есть… Он поможет. — Ах, так… Ну, если твердо решила с работы уйти, то спи… Вечером все обсудим. Но вечером он молодой жены дома не застал. Юля пришла домой после двенадцати, от нее пахло коньяком. — Где ты была? — У Марины. Еще раз отметили мое замужество. В узком кругу. — Но мы уже, кажется, это сделали — в кафе? — Ты думаешь, на свадьбе были все мои друзья? — Нет, не думаю. Но мне не хотелось бы, чтобы ты продолжала встречаться с теми, кого нельзя было пригласить на свадьбу. Она подумала. Согласилась: — Ты прав. Больше этого не будет. Слово свое Юля сдержала. По вечерам встречала его в дверях, звала ужинать. С удивлением он обнаружил, что Юля отличная кулинарка. Достав из духовки аппетитно подрумяненный кусок мяса, пододвигала пиалушку: — Я вот тебе кабачковскую икру приготовила. — Сама?! — Сама. — А кабачки где взяла? — На рынок ездила. На Центральный. Ну и дерут! Зато ведь вкусно? Он попробовал. Лицо расплылось в улыбке: — Здорово! Я и не знал, что кабачковская икра может быть такой вкусной! Молодец, Юлька! Не стесняясь Бабули, она обвила его шею тонкой рукой, поцеловала. — Ну-ну… — смущенно пробормотала Бабуля. — Ешьте, лизаться потом будете. Юля обняла Бабулю и тоже расцеловала. — Фу-ты, ну-ты, — отмахнулась Бабуля. Но было видно, что ласка ей приятна. — То один внук у меня был, а теперь и внучка появилась. Был бы мой Ванюша жив, порадовался бы вашему счастью. Бабуля смотрит на тарелку с изображением мужа и вздыхает. Юля спрашивает: — А вы своего Ванечку сильно любили? — Ой, как крепко любила… Да только разве понимала? Молодая была, глупая. Думала, счастья на весь век с избытком отпущено, а его надо как жар-птицу обеими руками держать. А то зазеваешься и упустишь. А ты Игоря моего любишь ли? Юля смеется-заливается: — Еще как! Я его портрет не то что на тарелку, на целый сервиз наклею, чтобы все время любоваться — за завтраком, обедом и ужином. Игорь хмурится, из-за Бабулиной спины делает Юльке знаки: мол, шутки насчет дедовского портрета на тарелке неуместны, могут Бабулю обидеть. Юля спешит замолить вину. — Вы, Бабуля, ложитесь отдыхать, а я японские чашки помою. — Что ты, что ты… Не дай бог разобьешь, работа не наша, тонкая. Я уж сама. А наутро Бабуля Игорю и говорит: — Ну и жену ты себе, парень, взял… — Не нравится? — Нет, девчонка пригожая. И характер легкий. Да только как вылезет в одних колготках на кухню, смотреть не на что. Малое дитя. Ее еще учить и учить надо. — Вот и учи, Бабуля. — Да что я, старая, могу. Разве она меня послушается? — А меня, думаешь, послушается? — Ого! Еще как! Как тебе с работы прийти, места себе не находит. Кидается то в комнате прибирать, то окурки выносить. Меня все выспрашивает, что ты любишь и чего не любишь. У плиты торчит. А если Марина тут окажется, то чуть не в шею выталкивает… Чтоб с тобой не встретилась. Ты у нее один свет в окошке. Эти слова были Игорю приятны. Он сказал: — Почему только я? У нее мать есть, отец. — Да, понимаешь, какое дело. Семья у нее, конечно, есть… Да только зябко ей там. Правда, отчего зябко-то? В ум не возьму? Уж ее ли не растили, не баловали? А то как же. Одна доченька у отца с матерью. Все для нее. Помню, у нас в деревне… У маманьки нас семеро было. Мал мала меньше. Старшие младших выхаживали. Все выросли, да какие! Приветливые, почтительные. Родительское слово — закон. А ныне что? Я тут слыхала: соседка из пятой квартиры цельными днями по городу шастает, ищет внуку финское питание детское. Вишь ты, финское понадобилось, а обыкновенное никак нельзя. А будет ли толк? И то сказать: детей воспитать — не курочек пересчитать. Трудное дело. Вот и выходит: матка по дочке плачет, а дочка по доске скачет. Твоя, сама сказывала, с малолетства родителей не слухала, сама себе голова. Все наперекор норовила… А что получилось? Ничего хорошего. Мать старается, хочет дорогой своей дочери сделать как лучше, а та ни в какую. Пошли ссоры, скандалы. Ну и сбилась с пути. Неделями дома не ночевала, таскалась неизвестно где и с кем. «Страшная жизнь, говорит. Как ночью приснится, вся в холодном поту просыпаюсь. Потом вспомню, что все позади, что теперь у меня Игорек есть, и плачу от радости. Только тихо-тихо, чтоб его не разбудить». Так что ты, внучок, с ней помягче. Раз уж взял такую, теперь старайся, выправляй ее судьбу. Однажды ночью Игорь проснулся от тревожного чувства. Прислушался. Было тихо, но именно в этой абсолютной, ничем не нарушаемой тишине и крылась тайна. Он повернулся к жене. — Ты что — не спишь? Юля вздохнула и, улыбаясь в темноте, сказала: — А ты как узнал? — Догадался. Она припала к его плечу: — Я такая счастливая, Игорек! Даже спать не могу. Мне жаль попусту тратить эти мгновения. Ты меня любишь? Игорь помедлил. Юля нравилась ему, он к ней привязался. Может быть, даже уже любил… А сказать почему-то не смог, язык не повернулся. Отделался шуткой: — Раньше надо было спрашивать. До свадьбы. А теперь уже поздно. Юля молча отодвинулась от него. — Ты что? — Ничего. Давай спать. На день рождения Юля подарила Игорю изящный белый батник с погончиками. Над левым карманом была выпущена черная ленточка с золотой надписью «Safari». У батника был только один недостаток — маловат, не сходился на широкой Игоревой груди. — Где это ты раздобыла? — спросил он Юлю. — Там нельзя обменять? На размер побольше? — Там нельзя, — усмехнулась она. — Так носи. Поняв, что означало это «там», Игорь помрачнел. Кто достал этот батник? Жан? Мартин? Значит, она продолжает поддерживать с ними связь? Он не ревновал Юлю к ее прежним знакомым, но неприятный осадок остался. При первой возможности Игорь избавился от фирменного батника, выменял его в таксомоторном парке на курточку из лакированной кожи. — Клевая, — одобрила жена обнову. — Сколько заплатил? Он честно сказал: — Обменял на батник. С доплатой. — На мой батник? Она чуть не расплакалась. Игорь не стал называть истинную причину, по которой ему хотелось избавиться от батника, чтобы не выглядеть глупым ревнивцем. — Почему «твой»? Ты же мне его подарила, значит, он стал «мой». А раз мой, значит, я могу с ним делать что хочу. Так? Он мне был мал. — Как ты мог! Это же был подарок, — она круто повернулась и выбежала из комнаты. Игорь вздохнул. Что поделаешь — в последнее время они все чаще не понимали друг друга. Приближался август — пора приемных экзаменов в институт. А Юля и не думала готовиться. Сидела дома, уставившись в окно. Или одна ходила в кино, выбирая двухсерийные фильмы, чтобы убить время. По вечерам, захлебываясь, рассказывала Игорю содержание очередного боевика. — Он и Она спускаются под воду на батискафе, и вдруг на них набрасывается какое-то чудовище. Осьминог или кто еще — не знаю. И начинает их атаковать. А потом хватает и увлекает в какую-то расщелину. И они попадают в Атлантиду. Она находится под водой. Поэтому люди там могут жить только те, у кого есть жабры. Их запросто делают, небольшая операция — и все. А эти, с батискафа, не хотят, чтобы им делали жабры. И пытаются удрать. С помощью одной хорошенькой девушки. Между прочим, на Марину похожа. Только у Марины короткие ноги, а у этой длинные-длинные. Как у меня. Платье у нее очень красивое, с большим разрезом, так что все ноги видны вот досюда. — Юля поднимает юбку, демонстрируя колготки. — Единственное, что неправдоподобно, — говорит она, — что та девушка носится по подводным скалам вот на таких каблучищах. Этого же не может быть, верно? — А все остальное — может? — усмехается Игорь. Ом устал после долгой смены, а потом еще отсидел два часа на профсоюзном собрании, и поэтому восторженный рассказ Юли про обитателей Атлантиды не увлекает его. — Там есть такое место, когда я чуть не заплакала, — говорит Юля. — Главный герой убегает с Атлантиды, а девушку взять с собой не может. — А почему? Он что — женатый? — Да нет. Холостой. Но у нее жабры. — Выходит, он не хочет иметь жену с жабрами? — Не в этом дело! — возмущается непонятливостью Игоря Юля. — Он бы рад, да только она на суше умрет. Как рыба, выброшенная из воды на берег. — Значит, он полюбил рыбу? Ну, это понятно. У них, наверное, в магазинах с рыбой плохо… Он увидел, и слюнки потекли. — Да нет же! Она нормальная девушка. Только вот здесь, за ухом, жабры. — Ну-ка покажи. — Что? — Свое ухо. Игорь притягивает Юлю к себе, заглядывает за ушную раковину. — Странно! — Что? — Что нет жабр. А то я подумал: вдруг ты с Атлантиды? Она смеется. — Нет, я не с Атлантиды. А вот ты откуда — чернявый такой? — Наш Игорек — цыган, — говорит Бабуля. — Весь в деда. Юля капризно надувает губки. — Не хочу, чтоб он был цыганом. Мой Игорек — француз. Гасконец, как д’Артаньян. Я в кино видела. Вылитый гасконец! Упоминание о французе портит Игорю настроение. «Не знаю, с Атлантиды ты или нет, — думает он, — но, похоже, мы с тобой с разных планет». Вслух он говорит: — Бог с ней, с Атлантидой. Ты, Юлька, вот что лучше скажи, к экзаменам скоро будешь готовиться? У Юли мгновенно мрачнеет лицо. Она отворачивается. — Ты что надулась? — Ничего, — резко говорит она и выходит из кухни. — Не поступит она ни в какой институт, — со вздохом говорит Бабуля. — У нее голова другим забита. — Тогда пусть идет работать, — резко говорит Игорь. Когда через месяц Юля торжественно сообщила мужу, что у них будет ребенок, у него вырвалось: — Все понятно. Ты нарочно это сделала! Чтобы не учиться и не работать. Юлькины глаза наполнились слезами. Она долго и пристально смотрела на него, потом отвернулась. — Ладно, ладно. Извини… Я неудачно пошутил, — сказал Игорь. — Иди, я тебя поцелую. Но Юля от его ласки уклонилась. Эта сцена произошла на глазах у Бабули. — Больно, Игорь, строг ты с ней, — сказала она внуку, когда они остались наедине. — Чуть что — фыр, фыр — и в разные стороны. Разве муж с женой так жить должны? Игорь хмуро ответил: — Тебе, Бабуля, хорошо говорить… Вы со своим Ванечкой душа в душу жили. А мы иногда друг друга не понимаем, словно на разных языках говорим. Бабуля села на диван, локоть положила на боковину, в задумчивости подперла рукой лицо. — Вот ты говоришь: вы душа в душу жили… А знаешь откуда? Игорь удивился: — Да разве не так? Ты сама сколько раз говорила… — Говорила. Мы как поженились, дело на лад пошло, крепко друг за дружку держались. А до того чего только не было! Подумать только, а я ведь было не ушла от него… от Ванечки. От счастья своего сама убежать хотела. — Как же это случилось, Бабуля? — После пожара, это когда наш будущий дом вспыхнул и в одночасье сгорел, в обугленные головешки превратился, Ванечку вызвал наш милиционер Сухов. Не знаю, о чем они там гутарили, однако Ванечка после этого к нему зачастил. Я как-то сказала ему: «Что, поджигателя хочешь поймать? Так его и ловить нечего — это Рыжка. Не хотел, чтобы мы с тобой поженились и в доме том жили на виду у всех. У него, у Рыжки, злоба от любви произошла. Вишь, злоба какая, знать, и любовь немалая». Не скрою, хотелось мне таким разговором Ванечку раззадорить, мол, вон, погляди, как твою невестушку любят. На преступление идут! Однако Ванечка не поддался. «Не пойманный, — говорит, — не вор. А не поймали потому, что милиция плохо работает, Сухов один что может? А ничего. Недаром говорится, один в поле не воин». — «А двое вас будет, — всех переловите?» — спрашиваю. «Сегодня двое, завтра четверо. У закона много помощников должно быть. Больше, чем у беззакония». А через полгода Ваня приходит ко мне и сообщает, что Сухов посылает его учиться в школу милиционеров, аж в самую Москву. Не хотелось мне с Ваней расставаться, однако я отговаривать его не стала. Думаю, уедет Ваня в Москву, зацепится там и меня заберет. Мне, честно говоря, хотелось мир посмотреть да себя показать, тем более что здесь, в селе, все одно жить нам с Ваней негде. Уехал, значит, Ваня. А потом приходит от него письмо. «Приезжай, Маня. У нас в милицейской школе выпускной вечер организуется по случаю распределения на работу, сначала торжественная часть, а после концерт. Приезжай, вместе отпразднуем, да и поженимся». Я быстро собралась, с близкими и дальними распрощалась. Мол, были мы деревенские, а стали городские. Прощайте, люди дорогие, не поминайте лихом. Приехала я, значит, в Москву. Ваня в общежитии живет, а я у тетки в коридоре на сундуке. Торжественный вечер с концертом прошел, а распределение затянулось. А я и в ум не беру, живу в свое удовольствие, тетке квартиру уберу и бегаю по городу, глазею во все стороны. Москва! Настает, однако, день, когда Ваня мой получает распределение. «Радуйся, говорит, Маня, удалось уговорить начальство направить меня к нам в село. Не хотели из Москвы отпускать, еле упросил, да Сухов подсобил, прислал письмо-заявку. В наших краях банда объявилась, дома жгут, магазины да почтовые отделения грабят. Надо порядок наводить. Вот меня и отпустили». А я стою дура дурой, сказать ничего не могу, только слезы из глаз катятся, крупные, как горох. «Ты что, спрашивает, от радости?» А я в рев: «Что ты, нехристь, удумал? Я в Москву жить приехала, а ты опять в село, воробьев да мух считать. А меня ты спросил? Не нужен ты мне такой, самоуправный. Езжай куда хочешь, а я в Москве остаюсь». И осталась… Ваня уехал, а я на работу устроилась — кондуктором на трамвай. Живу, поджидаю, когда Ваня одумается и вернется ко мне. Однако он не вернулся. Не до меня ему было. Банда, которую поминал в своем письме милиционер Сухов, много бед наделала. А напасть на ее след никак не удавалось. Тут мой Ваня и отличился. Началось с того, что у Верки Щеновой в одночасье дом сгорел. Жила она в том доме с тремя детишками без мужа… Был он пьяницей, над Веркой издевался, вот она его в тюрьму и засадила. Одни ее ругали — между мужем и женой чего не бывает, это еще не причина, чтобы под суд отдавать. Другие Верку жалели: от мужа-выпивохи, конечно, невелика помощь, но каково одной трех детей растить? Совсем впадет в нищету, бедолага. Однако, на удивление всем, Верка Щенова вовсе не бедствовала, дети обуты, одеты и сама принарядилась. С каких доходов — неизвестно. А тут пожар. Ваня был среди тех, кто первым по сигналу на пожар примчался. Подивился: несмотря на поздний час, дети одетые в сторонке стоят. А Верка быстро узлы повытаскивала и сидит на них. Ваня сгоряча вбежал в горящий дом — посмотреть, не осталось ли какого добра, видит: все голо. И когда это Верка успела все упаковать и вытащить? Дом-то весь занялся, вон уж кровля трещит, сейчас рухнет. Ваня слышит: Верка младшей, Зинке, говорит: «Ну-ка отогни картонку, погляди, елочные игрушки там?» Зинка отвечает: «Тута!» «Ишь ты, — думает Ваня, — даже елочные украшения не забыла. Всем бы такое хладнокровие иметь». И еще подумал: «А ведь Веркин дом точь-в-точь так горит, как тот, дядин дом, в котором мы жить собирались. Кровля вмиг вспыхнула, как будто ее бензином облили». Однако мысли оставил при себе. Все думали-гадали: где погорелица с детьми кров найдет? Оказывается, нашелся добрый человек. Года за два до этого появился в сельсовете новый счетовод Викентий Захарович. Горбун. Тихий, вежливый, держал себя с таким умом и достоинством, что заставлял забыть о своем уродстве. Сначала снимал угол, а потом выстроил себе домик на берегу пруда. Вот в этот домик и перебралась со своими детьми Верка Щенова. Говорили, что она оформила развод со своим прежним мужем-пьяницей и вышла замуж за горбуна. Тут по селу, конечно, поползли слухи: мол, не Верка ли дом свой подожгла, чтобы от старой халупы избавиться, страховку получить да истратить деньги на обзаведение в новом доме? Однако же слухи к делу не подошьешь, а у Верки доказательство: в момент загорания она у Викентия Захаровича в сельсовете была. Хорошо хоть неподалеку от дома, успела прибежать, детей вывести и имущество спасти. Как-то вечером Ваня пришел с работы домой, сел вечерять, вдруг слышит плач под забором. Он жалостливый был, на всякую беду отзывался. Бросил ложку в миску — и на улицу. Видит, соседская девчонка Феклуша ревет-заливается. Ваня к ней. — Ты чего? Кто обидел? А она пуще реветь. — Да ты что? Скажи! — Зину жалко. — Какую Зину? — Щенову. — А чего с ней приключилось? — У нее рука сохнуть будет. — А может, и не будет! — Не-е… Зина говорит, что кости повредились. — Вот беда. Как же так Зина неловко упала? — А она не упала вовсе. — А отчего же тогда рука повредилась? — Ей мамка запиркой как даст по руке! — Запиркой по руке? Не может быть. А за что? Феклуша приблизила губы к Ваниному лицу и прошептала: — За то, что она на чердаке конфету своровала. Хотя дело было и невеселое, Ваня не удержался от смеха. — За конфету? Запиркой! Что-то ты, Феклуша, напутала. Иди домой и успокойся. Выздоровеет Зина. До свадьбы рука заживет. — Правда, заживет? — обрадовалась Феклуша. — Вот увидишь! Девочка вприпрыжку побежала к дому, а Ваня призадумался. Он вдруг вспомнил, что при недавнем ограблении продмага в соседней деревне Колодези среди другого был похищен мешок с конфетами «Снежинка». Не выходила у него из головы история с увечьем, нанесенным малолетней Зине. Несоответствие тяжести проступка с жестоким наказанием. На другой день Ваня облазил все кусты вокруг дома, где жили Верка Щенова и интеллигентный счетовод. Наградой ему была скомканная бумажка из-под конфеты «Снежинка». На чердаке дома, где жил счетовод, произвели обыск. И тут все стало ясно: банду подростков, орудовавших в округе, возглавлял тихоня счетовод. Он наводил своих подопечных на объекты, помогал скрывать и сбывать награбленное. Большая часть доходов от преступного промысла шла к нему. Он же организовал и поджог дома своей сожительницы Верки Щеновой, чтобы получить страховку. Казалось, всю банду выловили. Однако кое-кто, видно, остался на свободе. Вскоре после процесса Ваню кто-то подстерег в кустах возле дома и огрел сзади чем-то железным, повредив ему позвоночник. Ваня пролежал два месяца в больнице, а потом вернулся в родное село. Манечка получила от него письмо. — На вот, почитай, — разволновавшись от нахлынувших воспоминаний, сказала Бабуля и, достав из серванта, протянула Игорю исписанный листок.«Дорогая Манечка! Извини, что долго не писал тебе. Написать очень хотелось, душа болела и страдала, но слов таких, чтобы все это положить на бумагу, не было. Ты спросишь: «А что сейчас? Откуда эти слова появились?» Оттого эти слова, должно быть, появились, что к прежней боли, душевной, прибавилась новая боль, телесная, а совладать с этим одному невмоготу. Подробности при встрече (я все надеюсь, что встреча наша состоится, а то, что есть между нами нехорошего, пройдет как дурной сон). А сейчас скажу только, что за работу мою милицейскую получил я награду — железным ломиком по спине, провалялся два месяца в районной больнице, а теперь дома, у мамы Анны Сидоровны на излечении, работать пока не велено. Сидел я в избе, один как пень, и людей не видать, и света белого. Вот и выбрался огородами из дому, чтобы фельдшер Никитич не облаял (за что так про хорошего человека, он же обо мне печется, чтобы отдохнули мои позвонки и на место встали). Мысль у меня была — набрать шиповника. Долго ничего не попадалось. Вдруг в одной из балок гляжу поверх зарослей терновника, а там бурьян, а потом красные пятна, золота блеск, и я понял, что это шиповник. Ринулся вперед, а кусты терновника не пускают, острые иглы цепляются за одежонку да и тело ранят. Тут я и понял, откуда взялось выражение «терновый венец». Слава богу, при мне были рукавицы, я надел и давай рвать бурьян, чтобы высвободить шиповник. Часа два рвал, даже упарился. Работа моя не пропала даром. Два куста шиповника я обнаружил под бурьяном. Пока отыскал этот полезный людям шиповник, сколько исходил. На обратном пути набрел на цельное поле васильков. Глянул, и сердце захолонуло. Вспомнил, как ты, Манечка, сидишь в окошке, подперев щеку белой рукой, и так хорошо, так задушевно поешь: «Ах, васильки, васильки…» Чуть не расплакался. И подумал: а ведь мне без тебя не жить».— А что дальше было? — дочитав письмо, спросил Игорь. Бабуля шмыгнула носом: — А что было? Подхватилась я — и домой, в село, чтобы никогда уже больше, никогда с Ванею не расставаться. Игорь понял: приоткрыв перед ним одну из страниц своей жизни с дедом, Бабуля хотела дать ему какой-то урок, но что поделаешь: люди редко извлекают полезные уроки из своих собственных ошибок, где уж тут учиться на опыте предков!
___
Клубок семейной жизни Игоря разматывался по каким-то своим, внутренним законам, и остановить этот процесс, похоже, было уже нельзя. Как-то, возвратясь с работы, Игорь не застал Юли дома. В последнее время она все чаще навещала свою любимую подругу Марину. Но возвращалась не поздно и вином от нее не пахло. Так что бранить ее было не за что. Он поужинал, посмотрел по телевизору хоккейный матч, поймал себя на том, что ему хорошо, никто не мешает, не лезет с телячьими нежностями, не пересказывает содержание дурацких кинофильмов, не устраивает сцен по пустякам… Но когда телевидение уже окончило передачи, а Юли все не было, Игорь забеспокоился. Подошел к телефону, позвонил Юлиной матери: — Юля не у вас? — А что — ее нет дома? — Нет. — Ну, значит, опять началось. — Что началось? — Ничего, Игорь. Это я так. У меня вырвалось. Но если бы вы знали, Игорь, какой это тяжелый ребенок. В силу некоторых обстоятельств Юля росла в сложных условиях. Муж избаловал ее излишне пылкой любовью, я оттолкнула чрезмерной строгостью. В результате для нее в семье нет авторитетов. Она делает что хочет. И еще эта ужасная Марина. Испорченная девчонка, у нее никаких принципов. Иногда я убить ее готова. Она так дурно влияет на Юлю! Если б вы знали, как я намучилась с дочкой. — Вы говорите это мне… Она отвечала: — Я не совсем стандартная мать. И не слепа по отношению к своему ребенку. Я люблю Юлю, но не идеализирую ее. А вас, Игорь, глубоко уважаю. Как бы ни сложились дальше ваши отношения с Юлией, я буду на вашей стороне. Потому что уверена в вашей честности и порядочности… Когда она объявится, позвоните, пожалуйста. А то я не усну. Юля не пришла до утра. Он отправился на работу невыспавшийся, хмурый, с головной болью. Днем из города позвонил Бабуле. Та сообщила: — Звонила эта… Подруга ее… Марина. Сказала, чтобы не беспокоились. Юля в больнице. — В больнице? Что с ней?! В трубке — молчание. Потом — всхлипы. Бабуля сквозь слезы проговорила: — Будто не знаешь! Вот ироды, невинное дите погубили! Ошарашенный услышанным, Игорь повесил трубку. Через пару дней Юля появилась дома — бледная, молчаливая, но внутренне готовая к отпору. Умом Игорь понимал: нет смысла обмениваться упреками, поздно. Дела не поправишь. И все же не смог удержаться, сказал с укором: — Зачем ты это сделала? Почему не посоветовалась со мной? — Я посоветовалась, — хмуро ответила Юля. — Ты сказал, что я завела ребенка, чтобы не работать и не учиться. Выходит, тебе ребенок не нужен. Игорь виновато склонил голову: — Да, я сморозил глупость, признаю. Но разве это повод?.. — У него перехватило в горле. — Разве мы не любили друг друга?.. Юля привалилась к стене и, кривя бледные губы, ответила, как всегда присказкой: — О любви не говори, о ней все сказано. С этого дня совместная жизнь Игоря и Юли пошла под откос. После всего случившегося он уже не мог обращаться с нею, как прежде. Разговаривал сухо, отрывисто, спать перебрался на кухню, на раскладушку. Почувствовав его охлаждение, Юля пустилась во все тяжкие. Все чаще стала пропадать по вечерам, возвращаясь, даже не давала себе труда объяснить отлучку. Теперь от нее нередко попахивало коньяком. Однажды Игорь спросил ее: — Это что — конец? Она не ответила. Нетвердо ступая, прошла в ванную. Через минуту оттуда донеслись шум воды и хриплое пение:___
В последнее время Бабуля сдала. Возвращаясь домой, Игорь все чаще заставал ее на диване. — Я сейчас встану, разогрею котлеты. — Бабуля пыталась вскочить на ноги, ее шатало, она хваталась рукой за спинку стула, на котором стоял телефон, телефон скользил к краю, внутри что-то звенело, трубка с грохотом летела на пол. — Вот… ноги не держат, — виновато говорила Бабуля. Худая рука прижата к груди, словно старается удержать рвущееся наружу сердце. — Ты лежи, лежи. Я подогрею. Долго ли? Отгремели Олимпийские игры. Порадовавшись их успешному завершению, Бабуля начала готовиться. В целлофановый пакет уложила черный костюм из муара — он остался с довоенных лет, его еще Ванечка подарил. Костюм был почти новый, носить не пришлось. Грянула война — тут не до муара. Можно было бы, конечно, в голодную пору выменять на костюм буханку хлеба — одна знакомая буфетчица предлагала, да Бабуля не захотела, все-таки память о Ванечке. Так же, как и шелковый платок горохом. Однажды Игорь застал Бабулю за примеркой. Рассердился. — Да ты, никак, помирать собралась? Бабуля ответила спокойно: — Пора. Ванечка заждался. На могилке его не побывала, не довелось. Так теперь уж скоро свидимся. Выглядит Бабуля неважнецки. Худая, бледная, одежда болтается, как на вешалке, движения робкие, будто, протягивая руку или переставляя ногу, она не уверена — получится ли. Игорь вздыхает. Дорого обошлось Бабуле его «дорожное происшествие».ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
С вечера ремонтники ЖЭКа Матвеевич и Степка получили задание ликвидировать следы протечки в двадцать шестой квартире. И уже в 9.00 были на лестничной площадке, возле упомянутой квартиры. — Звони! — бросил Матвеевич. Он был худой, жилистый. Немногословный. В работе его отличала редкая дотошность. Его напарник Степка, дылда с грубыми чертами лица и по-женски длинными шелковистыми волосами, не имел пока ни умения, ни характера. Он и сам не знал, куда несся по волнам жизни, и прикрывал свою растерянность перед нею бестолковым балагурством. Получив от Матвеевича указание позвонить в дверь, он не просто нажал на кнопку, а попытался при помощи звонка воспроизвести такты бравурного марша, которым обычно начинаются футбольные репортажи по радио и телевидению. — Не балуй, — остановил его Матвеевич. — Старушка спросонья напугаться может. — Спит ваша старушка без задних ног. Ее и пушкой не разбудишь. — Ну-ка, погодь. Я сам. Матвеевич приложил большое волосатое ухо к обтянутой дерматином двери, прислушался. В недрах квартиры таилась тишина. — Может, в булочную ушла? — высказал предположение Степка. — Они, старые, жрать здоровы! — Не… Я вчера ее видел на лавке во дворе, предупредил. Она ждать должна. Матвеевич нажал кнопку звонка и не опускал палец секунду-другую, продолжая прислушиваться. Из соседней квартиры выглянула соседка. Молодая женщина в бигудях. — Что? Не открывает? — Видно, у старушки сон цветной и многосерийный, — с ухмылкой произнес Степка. — Она небось сейчас пятую серию досматривает. — Да погодь ты, — снова оборвал его Матвеевич. Он обменялся с соседкой тревожными взглядами. — Господи, неужели?.. — сказала соседка и прижала руку к груди в вырезе халатика. — Она как раз вчера на сердце жаловалась… Выхожу из подъезда, а она говорит: «Вы в булочную? Не прихватите ли мне булочку, а то внук вернется с ночной смены, а есть нечего. Что-то я себя сегодня гадко чувствую». Я удивилась… Старуха Никодимова, из сороковой квартиры, так та всегда норовит на шармачка… Один ей хлеб тащит, другой молоко, третий гречку… А Коробова скромная, стеснительная, все сама да сама. Уж коли о помощи просит, значит, дело плохо. Принесла я ей булочку, рассчитались. А она говорит: «Что-то сердце шарахается. Вы не запишете телефон таксопарка, где внук работает. Мало ли чего…» Я, конечно, всерьез ее слова не приняла: «Что вы, говорю, еще сто лет проживете…» А телефон запомнила. У меня память на телефоны. — А у меня никакой памяти на цифры нет, — осклабился Степка. — Вот только дни зарплаты и помню — первое и шестнадцатое. А когда Куликовская битва была или еще что — ни за что не вспомню, хоть убей. — Ты вот что… Заместо того чтобы языком попусту молотить, сбегал бы за участковым, — мрачно сказал Матвеевич. — Да на обратном пути инструмент прихвати, чует сердце — дверь придется ломать.___
Санитары накрыли Бабулю белой простыней и унесли. Игорь, оглушенный горем, с лицом, опухшим от слез, попытался уцепиться за носилки, но его оттеснили: «Не мешайте!» На полу, обычно стерильно чистом, натертом до блеска (Бабуля терпеть не могла грязи), повсюду были видны следы. В квартире сегодня побывало много народу: ремонтники, соседи, участковый, врач, санитары. Бабуля скончалась от инфаркта. Такое заключение дал врач, худой, усталый, с запавшими щеками, скорее похожий на пациента, чем на врача. Врач вызвал у Игоря глухое раздражение, словно мог спасти Бабулю, а не сумел. Но, если говорить честно, врач тут был ни при чем. Смерть настигла Бабулю еще накануне, в поздний вечерний час, когда Игорь, усевшись за руль своей «Волги», только еще приступал к дежурству. Игорь попытался проглотить застрявший в горле тугой ком. Не вышло. Он поплелся на кухню, чтобы выпить воды. Раскрыл створки сушилки. И увидел две фарфоровые чашечки с блюдцами. Его словно током ударило: а ведь Бабуля вчера вечером была не одна. Кто-то посетил ее, и они вместе пили чай. Он остановил себя: почему именно вечером? Может, она пила чай с соседкой еще днем? А сердечный приступ у нее начался вечером, когда в квартире, кроме нее, уже никого не было. «Нет, — ответил себе Игорь. — Если бы чаепитие состоялось днем, то чашки бы не стояли в мойке, а красовались бы на своем обычном месте — в серванте…» Бабуля дорожила подарком дочери, пользовалась чашками в самых редких случаях и никогда не оставляла их на кухне. Между железными прутьями мойки были щели, сквозь которые плоские блюдца могли проскользнуть вниз, в мойку, и разбиться. Скорее всего, дело было так. Неожиданно Бабуле стало плохо, и она легла на диван. Кто-то другой взял чашки, унес их в кухню и поставил в мойку. Но почему этот «другой» позаботился о чашках и не позаботился о Бабуле? Не вызвал «неотложку»? Игорь попытался найти этому объяснение. Возможно, Бабуля намеревалась справиться с приступом сама, с помощью капель Вотчала или нитроглицерина. А гостя спровадила: «Идите, идите… Обо мне не беспокойтесь. Отлежусь, и все пройдет». Игорь вернулся в комнату. Оглядел ее внимательно. На круглом столе, покрытом «парадной» клеенкой с изображением заброшенных мельниц и парусных корабликов, в беспорядке были разбросаны бумаги из заветной папки — письма деда, официальные ответы, полученные Бабулей на ее запросы по поводу его гибели… Конверты лежали отдельно, письма отдельно. Фронтовые треугольники развернуты. Разве могла Бабуля сама так разворошить, разбросать эти письма, будто ненужные бумажки. Нет, в бумагах рылся кто-то посторонний. От волнения у Игоря вспотели ладони. Ему захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь своим открытием. Бросился к окну. Там, внизу на детской площадке, под деревянным грибом-мухомором (на красной шляпке — белые крапинки), стоял участковый и что-то настойчиво втолковывал мальчонке. Тот слушал его, виновато опустив взъерошенную светлую голову. Игорь сорвался с места, выбежал из квартиры, выскочил во двор. Спустя несколько минут вернулся назад в обществе участкового Березкина. — В квартире в момент смерти бабушки кто-то был, — сказал он участковому. — Откуда вы взяли? — спросил милиционер. Игорь провел его в кухню. — Вот, — он указал ему на две чашки, стоявшие в мойке. — Что вот? — переспросил Березкин. Игорь стал объяснять. Однако слова давались ему с трудом, он то и дело терял нить, и, может быть, поэтому милиционер ничего не понимал. — Эти японские чашечки прислала с Дальнего Востока моя мать, дочка Бабули. Бабуля очень обрадовалась этому подарку. Хранила чашки в серванте и извлекала оттуда только по торжественным случаям. Вымыв, сразу же досуха вытирала полотенцем и уносила в комнату. — Не понимаю, что из этого следует, — сказал милиционер. — Ну, допустим, зашла соседка чайку попить… ваша бабушка угостила ее. Стала мыть посуду, почувствовала себя плохо. Сунула чашки в мойку и пошла прилечь. Где тут криминал? — Как вы не понимаете… Это же Бабуля! Во-первых, ради соседок она японские чашки не доставала. Вон на кухне сколько других чашек, чешских, пять штук. Во-вторых, чашки явно вытертые, на них нет пятен, которые остаются, когда они высыхают сами по себе… А уж если Бабуля их вытерла, то, отправляясь в комнату, она обязательно прихватила бы их с собой, как бы плохо себя ни чувствовала… Понимаете, японские чашки — это была единственная радость, которую доставила ей дочь. Когда Бабуля на них смотрела, на эти чашки, у нее появлялась надежда, что у Лизки… то есть у моей матери… жизнь наконец наладится, и все будет хорошо. Потому она с ними так носилась, с этими чашками. И еще… Вы заметили, как стоит стул с телефоном? В метре от дивана. А трубка была сбита, вы сами говорили. Как же она могла сбить трубку, если дотянуться рукой с дивана до телефона невозможно? Участковый собрал морщины у переносицы. — Она могла сбить трубку, когда шла с кухни к дивану. — А вот и нет! Вы не знаете, что такое стенокардия. Малейшее сжатие, и появляется страх. Страх смерти. Поэтому Бабуля, прежде чем улечься, всегда первым делом пододвигала к дивану стул, на котором лежала трубочка нитроглицерина и стоял телефон. Еще бы! В этом было ее спасение! Но в присутствии постороннего она не стала придвигать стул. А зачем? Надо будет, гость вызовет «неотложку». — Ну и фантазия у вас, молодой человек! Милиционер Березкин и так уже проявил много выдержки и терпения, слушая Игоря, из уважения к его горю. Но теперь выдержке подходил конец. Смерть пожившей старухи от инфаркта — не такая уж неожиданность. Хотя, конечно, жалко, бабушка все-таки… Но зачем же фантазировать, придумывать невесть что? — Я же вам уже объяснил, — раздражаясь, произнес Игорь, — чашки были вымыты и поставлены в сушилку уже после того, как… — онзапнулся — после того, как все было кончено. Я убежден: их вымыли, чтобы уничтожить следы. Участковый усмехнулся: — Посуду для того и моют, чтобы она была чистая, то есть без следов… И учтите — следы и улики ищут только тогда, когда есть состав преступления, а в данном случае его нет. Прискорбный случай, но, увы, происшедший по естественной причине. Да и какой резон было кому-то покушаться на вашу бабушку? Чтобы завладеть ее богатством? А было ли оно, это богатство? Деньги, золото, драгоценности?.. Что-то сомнительно. — Откуда? С пенсии? — Вот именно… Так, может быть, ваша бабушка владела какими-то тайнами, секретами? Я лично думаю, что, кроме секрета приготовления пирожков с капустой, других у нее не было и быть не могло. И этот вариант отпадает. Остаются — враги. Были у нее враги? Игорь ответил твердо: — У нее не могло быть врагов. Знаете, какой это был человек? — Да… Видно, хорошая была старушка, коли вы так расстраиваетесь, — сказал участковый. — Царство ей небесное, если, конечно, она верующая. А кто это на стене, если не секрет? Ее муж? — Да, дед. — А вы с ним похожи. На одно лицо. Скажите-ка… Вот что значит гены, через поколения передаются! С этими словами участковый покинул квартиру. Игорь стоял задумавшись. По правде говоря, в глубине души он и сам не очень-то верил в то, что Бабуля умерла насильственной смертью. Березкин был прав: кому надо подымать руку на бедную старую женщину? Но он чувствовал, он знал: то, что случилось с Бабулей, было как-то связано с посещением ее таинственным гостем.___
Когда у человека горе, он идет к друзьям, к людям, которые могут его понять и утешить. У Игоря Коробова два друга — Витюха и Додик. С Додиком Игорь пьет пиво, закусывая раками. Это — когда хорошее настроение и хочется приятно провести время. Додик — человек бывалый, тертый калач, знает все ходы и выходы, для поддержания своего авторитета бывает не прочь поделиться с приятелями толикой своей житейской мудрости. У Витюхи никакой мудрости нет. Над словами и поступками он подолгу не раздумывает, а говорит и делает то, что подсказывает ему сердце. Игорь сейчас в состоянии, когда ему крайне нужен дельный совет. «Надо идти к Додику», — решил он. Но ноги почему-то сами понесли его к Витюхе. Витюха жил на Сретенке в ветхом двухэтажном домишке, который давно уже пора снести. Но его все не сносят, потому что никак не решат, что же делать со «старой Москвой» — сохранять ли «вросшие» в землю строения или сносить и возводить на их месте современные громады. А может, просто руки не доходят… Игорь свернул с улицы во двор, где разгружался синий фургон с надписью «Молоко», открыл дверь в заскорузлых наплывах краски и шагнул в темноту. Темнота пахла кошками и сыростью. Ступени выщерблены, и подниматься по ним надо было осторожно. На кухне мать Витюхи Изольда Павловна, напевая, развешивала на веревке белье. У нее были наивные круглые глаза и добрая улыбка человека, который живет в каком-то своем, придуманном еще в детстве мире, и ему в нем хорошо. Трудно было поверить, что эта молодая женщина — мать Витюхи, она скорее походила на старшую сестру. — А, Игорек! — не прерывая своего пения, протянула она. В ее голосе была радость. Впрочем, с этой радостью мать Витюхи приветствовала любого гостя. — Проходите, я готовых котлет нажарила. Вкусные! Сейчас будем есть. Ой, что это я, извините, извините! Какая же я дура! У вас такое горе, а я с… котлетами. Она мгновенно покраснела, руки упали вниз, и край стираной наволочки коснулся затоптанного пола. Ему мучительно было принимать соболезнования. Игорь вздохнул и прошел в комнату. Витюхин отец Игнат Гаврилович, сидя на колченогом стуле, скреплял клейкой лентой треснувший глобус. Лента шла от Северного полюса, пересекала Ледовитый океан, затем Европу, где-то в районе Португалии, и, миновав Средиземное море, устремлялась в Африку. — Представляете, Игорь, оказывается, англичане послали в Южно-Африканскую Республику команду пинг-понгистов. Вот фарисеи! А ведь на словах они против апартеида! — с возмущением сказал Игнат Гаврилович. Он дернулся, лента оборвалась, стул покачнулся, и Игнат Гаврилович с трудом удержал равновесие. — Ах, да, Игорь… Примите мои искренние соболезнования. Игнат Гаврилович поставил глобус на пол, встал и склонил шишковатую, лысую голову в скорбном поклоне. Его торжественная поза не вязалась с нижней рубахой, перехваченной широкими резинками довоенных подтяжек, прицеплявшихся к пуговицам, нашитым на галифе. На ногах у Игната Гавриловича были шерстяные носки и тапочки. Изольда Павловна вплыла в комнату со сковородкой, на которой шипели котлеты. — Витюша! Тарелки! — А, это ты! Садись, подхарчимся. — Витюха тоже обрадовался гостю. Игорь подумал, что, если Витюха тоже полезет к нему с соболезнованиями, он не выдержит. Но Витюха не полез, а молча стал расставлять на столе разноформатные, в трещинах, тарелки. — Вы любите, Игорь, романсы? — поинтересовалась Изольда Павловна. И, не дожидаясь ответа, сказала: — Я лично обожаю. Могу слушать часами. Судя по беспорядку, царившему в квартире, она так и делала: часами слушала романсы. А еще было известно, что она пишет какой-то роман, но никому не показывает. — Изольдочка, а почему ты не ешь? — с набитым ртом невнятно проговорил Игнат Гаврилович. — Ешь, милый. А я, кажется, сегодня уже ела. — Кажется или ела? — с любовью глядя на жену, спросил Игнат Гаврилович. — И еще я не люблю готовых котлет. — Напрасно, они очень вкусные. Если их поджарить на сливочном масле, — с некоторым укором проговорил Игнат Гаврилович. — Извини, сливочное кончилось. А я и не заметила. — А на каком жарила? — Кажется, это кукурузное. — Оно тоже ничего, — великодушно сказал Витюха. Неожиданно для самого себя Игорь накинулся на котлеты. Оказывается, он не ел со вчерашнего утра. Сковородка быстро опустела. — Хотите, я вам что-нибудь сыграю? — Изольда Павловна кивнула в сторону пианино. — Изольдочка, лучше бы чаю, — мягко произнес Игнат Гаврилович. Она быстро согласилась. — Очень хорошо. Я тоже выпью. А я и не знала, что хочу пить. Спасибо, милый, что напомнил насчет чаю… Теперь Игорь чувствовал себя не таким одиноким, тепло чужого домашнего очага согрело его. Здесь, у Витюхи, и люди и вещи чувствовали себя раскованно, свободно. Стопка книг стояла на полу у дивана. Пианино украшала трехлитровая банка из-под огурцов, в ней цвели хризантемы. На стене на небрежно вбитых гвоздях были развешаны совершенно разнородные вещи. «Выходной» пиджак хозяина дома. Широкий лацкан и грудь украшал целый иконостас орденов и медалей. В близком соседстве с заслуженным пиджаком расположилась электрогитара. Совсем недавно Витюха отоварился дорогим изысканным инструментом, хотя с одежонкой у него было плоховато, круглый год ходил в куцем желтом пиджаке из кожзаменителя, кое-где потрескавшемся, в дешевых мятых джинсах и стоптанных кедах. На третьем гвозде висела соломенная женская шляпка с сиреневыми лентами. — А у меня опять неприятности на работе, — радостно сообщил глава семьи, насытившись и откладывая в сторону вилку. — Кажется, они тебя вызвали в управление? Что им не понравилось на этот раз, милый? — поинтересовалась Изольда Павловна. Тревоги в ее голосе не было. В этом доме неприятности воспринимались как должное. — Они говорят, что я не должен напоминать каждому, кто покупает сигареты, что курящие болеют раком вдвое чаще, чем остальные. — А что же ты им ответил? — Я спросил у своего начальника: «Что бы вы сказали, если бы увидели, что я уговариваю своих собственных детей пить и курить?» Он ответил: «Это было бы по меньшей мере странно!» Тогда я сказал: «А почему же вы хотите, чтобы я о ваших детях заботился меньше, чем о своих?» — А он что? — Он сказал: «Выходит, если бы вы работали в винном отделе, то стали бы читать покупателям нотации о вреде алкоголя?» — А ты? — Я сказал: «Конечно!» И добавил: «Если бы все продавцы так делали, то алкоголизм не превратился бы в такую проблему». — И тут он, наверное, заговорил о плане? — Как ты догадалась, Изольдочка? — Ну, они всегда говорят о плане, когда нечего сказать по существу. — Верно! Я ему объяснил, что о плане можно будет не заботиться, если в киосках появятся конкурирующие товары, при помощи которых можно будет вытеснить табак и алкоголь, то есть вредные для людей, а следовательно, и для общества в целом вещи. — И что он на это сказал? — Он сказал, что если в табачном киоске продавать всякую всячину, то это будет уже не табачный киоск, а черт знает что… Я ему возразил: разве трудно придумать новую вывеску? — А он, милый, конечно, сказал: «Больно умные вы стали…» — Как ты, Изольдочка, догадалась? Кончил он угрозой: если квартальный план не будет выполнен, он объявит мне выговор. — Какой по счету это будет выговор в твоей жизни, милый? — Когда мне объявили первый выговор, тебя еще на свете не было. И знаешь, кто мне объявил? Маршал! Игнат Гаврилович захохотал, довольный произведенным впечатлением. Лицо его покраснело, а по шишковатому черепу пошли пятна. Игорь уже слышал от Витюхи фантастический рассказ о первом выговоре, полученном его отцом. Было это в последние дни войны, под Берлином. На торжественном ужине с союзниками кто-то из английских офицеров спьяну имел неосторожность недостаточно уважительно отозваться о русской женщине, и Игнат Гаврилович ударил его по лицу. Ночь была на исходе. Все уже были изрядно пьяны, и грозное требование оскорбленного о немедленной дуэли нашло единодушную поддержку. Все вышли из особняка, отыскали лужайку, выделили секундантов, и дуэлянты стали сходиться. Игнат Гаврилович, на его несчастье, оказался более метким, англичанин упал, раненный в руку. По приказу командования Игнат Гаврилович был тотчас же заключен под стражу. Неизвестно, чем бы обернулась для него эта история, если бы не вмешалось высокое начальство. Узнав, что майор вступился за честь женщины, отозвалось: «И правильно сделал». Решено было освободить офицера из-под стражи, разжаловать и демобилизовать. Игнат Гаврилович был рад: дешево отделался. Это он и назвал своим «первым выговором». — Пап, а мне вчера в таксопарке тоже объявили выговор, — сказал Витюха. — Выговор? А за что? — В приказе написано: «За нарушение трудовой дисциплины…» А вообще-то за то, что я отказался давать деньги на ремонт машин… — А их положено давать? — В том-то и дело, что не положено. Но мы их все-таки даем, когда ремонтируем наши машины. А Три пятеры, это наш механик, требует, чтобы мы оплачивали ремонт и других машин, тех, у которых сейчас нет хозяев — больны или в отпуске. — А почему вы вообще должны платить? Что там у вас — частная лавочка или государственное предприятие? — спросил Игнат Гаврилович. Витюха пожал плечами. — Все так делают. Отец нахмурился. — Все? А ты так больше не делай. Нечего поощрять хапуг. Красивое девичье лицо Витюхи выражало растерянность. — Но они же меня затюкают… — Пусть только попробуют, — сказал Игнат Гаврилович. — А вы, Игорь, тоже даете? — Как и все. — Стыдно. Нехорошо. Видимо, Игнат Гаврилович посчитал этот вопрос решенным, поскольку перешел к другой теме — стал расспрашивать Изольду, что нового в Ботаническом саду. Она там работала. — Представляешь, а у нас в саду юкка алоэлистная зацвела! — воскликнула она и, от радости подпрыгнув на стуле, захлопала в ладоши. На мгновение Игорю показалось, что он давно живет здесь, в этой огромной, захламленной и все же уютной комнате, среди этих добрых и честных людей, для которых белое — это белое, а черное — это черное. — Вот не знаю, что делать, — вдруг сказал он. — В тот вечер… Ну, когда это с бабушкой случилось, в квартире кто-то был. Ушел, не оказав помощи, никому не сообщив о несчастье. И похоже, рылся в бумагах. Возможно, что-то унес… В комнате наступила тишина. — Так… — сказал Игнат Гаврилович. — Ты, Изольдочка, и ты, Витя, займитесь своими делами, а мы поговорим. После того как Игорь сбивчиво, но откровенно выложил все, что он думал о смерти Бабули, Игнат Гаврилович задумчиво произнес: — Конечно, отсутствие улик тоже в какой-то степени улика, вы, Игорь, правы… Но ведь этого явно недостаточно. Милиция этим заниматься не будет, пока, во всяком случае. Думайте сами. Бывает, что грандиозный обвал в горах вызывает падение одного маленького камня. Для начала попробуйте припомнить, какое событие могло сыграть роль такого камня. Может быть, это поможет вам приблизиться к разгадке тайны. Да вы не беспокойтесь, все в конце концов прояснится. Как сказал Стефан Цвейг, все запутанное по самой своей природе тяготеет к ясности, а все темное — к свету.___
Известие о том, что Витюха Прошин и Игорь Коробов бросили вызов существующим порядкам и перестали давать налево и направо мелкую и крупную мзду, выполнявшую роль «смазки» в громоздком и сложном механизме таксопарка, мигом облетело всех. — Ну, вы ребята рисковые, — сказал Додик. Он любит «выступать», травить байки. У него хорошо поставленный бархатистый голос. Говорили, что Додик собирался пойти учиться на диктора, но потом передумал и подался в шоферы. Он быстро постиг все выгоды своего нового социального положения и умело им пользуется. Додик большой мастер «качать права». Знает все законы и постановления, все пункты и параграфы, все права и привилегии, все входы и выходы. Излагает свою точку зрения в официальных кабинетах спокойно, даже весело, с твердым убеждением, что он, рабочий человек, добьется своего. И добивается. Недавно перебрался со своей семьей из предназначенной на слом развалюхи в шикарный кирпичный дом с лоджиями, выходящими на Патриаршие пруды. И тотчас же буквально загнал в угол начальника ЖЭКа, который по его требованию бесплатно перестелил паркет и сменил сантехнику. Отдыхает он только по льготным путевкам, а сейчас добивается от руководства таксопарка, чтобы ему по дешевке продали списанную «Волгу». — Продадут, куда им деваться, — играя голосом и красуясь, говорил он несколько дней назад Игорю и Витюхе. Узнав, что приятели решили отказаться от денежных подношений, Додик сказал им: — Конечно, со стороны механика это свинство — драть с нас, водителей, по три шкуры. Этак и на пиво не останется. Однако вряд ли что у вас получится. Если бы все отказались, а так только вы. Вас-то всего двое… — А ты присоединяйся, будет трое, — сказал Витюха. — Нет, что ты, что ты, — замахал на него руками Додик. — Мне с начальством ссориться не с руки, надо сперва «Волгу» выколотить. А вообще-то я бы вам, парни, посоветовал бы прислушаться к одной неглупой иностранной поговорке: «Прежде чем дергать тигра за хвост, не мешает поинтересоваться, какие у него зубы». Может, пойдем пива выпьем? — А иди ты со своим пивом, — сказал Витюха. — Коробова — к начальнику колонны! — разнеслось из репродуктора. — Что случилось? Отчего тебя вызывают? — спросил Витюха. Игорь пожал плечами: мало ли причин. У таксиста всегда при себе кусочек желтого картона — учетная карточка. На ней черным по желтому перечислены нарушения, какие могут быть поставлены ему в вину. Чего тут только нет! Неряшливый вид, отсутствие визитки с фотографией или знака принадлежности к таксопарку, отказ пассажиру в обслуживании. Кто знает, какое правило он сегодня нарушил? И вот Игорь Коробов стоит перед начальником колонны. Начальник новый. Говорят, совсем недавно демобилизовался из армии. У него открытое доброжелательное лицо. Ранняя лысина. Немного похож на артиста Куравлева. Он пришел на смену «Бабе Яге». Так в таксопарке звали прежнего начальника колонны. То был здоровенный мужик, с крупными чертами лица, грубый, скорый на расправу. — У вас, Коробов, опять недовложение в кассу? — вежливо спрашивает «Куравлев». Игорь заводится с пол-оборота. — Почему опять? Разве уже было? — Мне так доложено, — отвечает начальник. — Это неправда? Я проверю. — Сначала надо проверить, а потом говорить. Игорь и сам не понял, почему он так взъерепенился. Чем его раздражил начальник колонны? Тем, что с такой же доверчивостью отнесся к кляузе механика, как прежде относился к подобным кляузам его предшественник. — Так сколько же я недовложил? Начальник колонны заглянул в шпаргалку: — Семьдесят пять копеек. Игорь чуть не расхохотался ему в лицо. То, что он говорит, явная бессмыслица. Недовложение, если оно, конечно, случается, никогда не бывает следствием обмана. Ведь обманщика нетрудно уличить и наказать. Обычно ошибка в подсчете выручки — результат небрежности или утомления, вызванного долгой сменой. Все это понимают. Поэтому в таксопарке действует негласное правило: если недостача меньше рубля, то водитель без всяких объяснений восполнит ее по первому требованию кассира. Мелкий эпизод отмечается в путевке, и этим дело ограничивается. Если сумма недовложения велика, вот тогда назначается разбирательство. Почему же Игорю такая честь? Или тигр решил показать зубы? Игорь вынул из кармана рубль и положил на краешек стола. — Что это такое? — Рубль. С вас двадцать пять копеек сдачи. Начальник колонны посмотрел на Игоря с мягким укором и еще более стал похож на артиста Куравлева. — Ну зачем же вы так? Я пригласил вас, чтобы узнать… Что произошло между вами и механиком? Какая-то ссора? Игорь подумал, что его собеседник наверняка знает о причинах конфликта гораздо больше, чем старается показать. С какой стати Игорь будет открывать ему душу? Хочет навести в колонне порядок, пусть наводит. Он тут при чем? — Не сошлись характерами. — Зря вы так… Может быть, лучше сказать обо всем вслух? И не здесь, в кабинете, а на общем собрании? Сообща развели канитель, сообща и распутывать надо. — Пусть распутывают те, кому за это деньги платят, — сказал Игорь и вышел. — Теперь держись, — сказал, узнав об этом разговоре, Додик. — Намучаешься. Вот полетит термостат, кто тебе даром ремонтировать будет? Тут и случись неполадка. Правда, из строя вышел не термостат, а забарахлило зажигание. Игорь знал: причины могут быть три. То ли мал зазор между контактами, то ли испортился конденсатор, то ли в коробке прерывателя появилась трещина. Вернувшись с линии, он покопался в моторе и теперь в задумчивости стоял у своей «Волги». К Игорю подошел слесарь Горюхин, невысокий, узкоплечий, немногословный. Работал на совесть, от денег, которые по привычке совали водители, отказывался. Механик Три пятеры распустил по таксопарку слух: Горюхин не берет с шоферов денег только потому, что не нуждается, якобы получает большую военную пенсию. Горюхин, отодвинув Игоря, наклонился над мотором. Минут десять повозился, потом сел в машину, включил стартер. Двигатель ровно загудел. — Спасибо! — поблагодарил Игорь. Горюхин сказал: — Если, Коробов, будут трудности с ремонтом, обращайся ко мне. И Прошин тоже пусть обращается. Я помогу. Конечно, бесплатно. Игорь задал вопрос, который вертелся у него на языке: — А правда, что вы не берете, потому что большую военную пенсию получаете? Горюхин рассмеялся: — Это Три пятеры такой слух распустил. Я не пенсию, Коробов, получаю, а зарплату. Ее и отрабатываю. Горюхин постоял на месте, как бы обдумывая, что ему делать — повернуться и уйти или продолжить разговор. Сказал: — Ты, Коробов, молодец, проявил характер. Три пятеры теперь, конечно, постарается вас с Витюхой выжить из таксопарка. А вы не поддавайтесь. Держите хвост морковкой. — Спасибо. На этот раз Игорь произнес свое спасибо с еще большим чувством. Спустя несколько дней в таксопарке состоялось производственное собрание. Начальник колонны кратко доложил о выполнении плана, а потом спросил: — Кто хочет высказаться? Его взгляд остановился на Игоре. Тот и сам собирался выступить, объяснить, почему они с Витюхой решили бросить вызов порядкам, насаждавшимся в таксопарке механиком и его дружками. Он медленно поднял руку. Но его опередил механик. — Можно мне? Три пятеры взобрался на трибуну и сказал: — В общем-то молодежь у нас ничего. Да ведь только в семье не без урода. — Это точно! — сказал Додик, вызвав общее оживление. Механик сбился. Выступать он не привык, каждое слово давалось ему с трудом. — Я о ком? О водителе Коробове. Есть такой… — Знаем! — Так я — о нем. В прошлом году воткнулся в ЗИЛ с прицепом. Видно, нетрезвый был. Чуть пассажирку не угробил. Его под суд отдали. И за дело. Так он что надумал! Взял и женился на пострадавшей, чтобы, значит, не жаловалась… Ну, присудили ему год условно. А как год прошел, он ее и вытурил. Это что, комсомольский поступок? Недавно недовложение в кассу допустил! Гнать таких, как Коробов, надо в три шеи… Вот и весь сказ. Председательствующий — новый начальник колонны — постучал карандашом по графину: — Это серьезное обвинение. Коробов здесь? Что можете сказать? Игорь ответил: — Ничего. Председательствующий удивился: — Как это ничего? Правду говорит механик или нет? Механик обиделся: — А я врать, между прочим, не привык. — Так развелись вы, Коробов, или нет? — спросил председательствующий. — Развелся. Поднялся Витюха: — Как вы не понимаете?.. Люди поженились по любви! Я сам на свадьбе был… — А разошлись тоже по любви? — спросил кто-то из зала. — Тоже по любви! Начальник колонны сказал: — Вы думаете, что говорите, Прошин? «Разошлись по любви». Разве так бывает? — Выходит, бывает, — ответил Витюха. — Он у нас большой специалист в области любви! — сострил Додик. Все снова рассмеялись. Председательствующий постучал карандашом по графину. — Вообще-то мы собрались не для того, чтобы обсуждать личную жизнь Коробова. Есть дела и поважнее. Кто хочет высказаться по существу нашей работы? Витюха оглянулся на Игоря. Тот отвернулся. Охота выступать у него пропала. — Есть предложение — поручить профкому разобраться с личным делом Коробова, — заявил Три пятеры. Председатель спросил: — Другие будут предложения? Кто за? Кто против? Вы, Коробов, что руку тянете? Надумали выступать? — Нет. Я против. — Против чего? — Против того, чтобы обсуждали мою личную жизнь. — Не слушайте его. Он тут лицо заинтересованное, — выкрикнул со своего места Три пятеры. Начальник колонны с горечью сказал: — Был бы лицом заинтересованным, выступил бы и честно сказал, что его не устраивает в нашей работе. — Его все устраивает. Кроме зарплаты, — сострил Додик. Из таксопарка приятели вышли вместе. Игорь и Витюха выглядели подавленными. Хотели задать механику перца, а в результате самим же и досталось. — Не унывайте, орлы, — сказал Додик. — Мы что-нибудь придумаем. У тебя, Игорь, с бывшей женой какие отношения — кислые? Но это ничего. Я с ней переговорю, объясню ситуацию, и она, как миленькая, напишет в таксопарк письмо: мол, так и так, Коробов ни в чем не виноват. Разошлись по обоюдному желанию. Не подошли друг другу физически. Вот они и заткнутся. Игорь подумал: а ведь Додик недалек от истины. Юлька, без всякого сомнения, встанет на его сторону, сама заявится в таксопарк, и от его обвинителя только пух полетит. Вздохнул: хорошая девчонка. Почему же все-таки у них не заладилась совместная жизнь? Вслух сказал: — Не хочу втягивать Юльку в это грязное дело. Его поддержал Витюха: — Правильно. Я бы тоже не стал. Сами справимся. Слушай, Игорь, я надумал о наших делах в таксопарке в молодежную газету написать. У тебя остался телефон парня, к которому ты тогда ходил? Помнишь? С фотокарточкой деда? Игорь помнил…___
…В редакции Игоря встретил симпатичный молодой человек в маленьких и круглых очках, похожих на те, которыми пользовалась Бабуля. Игорю казалось, что такие очки безнадежно устарели. Но он переменил свое мнение, разглядев на молодом журналисте фирменные джинсы и майку с изображением зеленого крокодильчика. Парень, хотя и выглядел пижоном, отнесся к Игорю душевно. Выслушал его рассказ о злоключениях Бабули, вот уже сорок лет безуспешно разыскивающей следы погибшего мужа. — Вы, конечно, ей активно помогаете… ведь это ваш дед, — с пониманием заметил парень. — Да, да, конечно, — подтвердил Игорь и покраснел. До сих пор не очень-то много он помог Бабуле. — Я понимаю ваши трудности. Эти годы — тысяча девятьсот сорок первый и тысяча девятьсот сорок второй — самые тяжелые. К тому времени относится особенно много белых пятен. Но вы не отчаивайтесь. Газета вам поможет. Письмо — обращение к следопытам написали? — Вот… И фотография здесь. Парень кивнул и аккуратно положил письмо Игоря на гору других писем, загромождавших стол. — Запишите наш телефон. Усаживаясь в машину на свое водительское место, Игорь вспомнил бумажную гору на столе парня и подумал, что скорее всего из его затеи ничего не выйдет. Газета небольшая, а желающих в нее писать вон сколько. Однако, к его удивлению, письмо и фотография довольно скоро были напечатаны. Игорь раздобыл номер газеты, вырезал из нее свое произведение и торжественно преподнес Бабуле. Увидев портрет своего бесценного Ванечки, напечатанный в газете, Бабуля сначала поплакала, а потом расцеловала Игоря. — Спасибо, Игорек. Уважил старую. Не может быть, чтобы газета не помогла. Человек не иголка, совсем не затеряется. Теперь начнем ждать. Кто-нибудь да откликнется. На обращение Игоря поступило всего два отклика. В одном письме, адресованном в редакцию, какой-то отставник бранил газету. Мол, гибель человека на войне обычное дело, что ж тут шум подымать? Как погиб да почему? Кто может ответить на этот вопрос? А если и отыщется ответ, так, может, такой, какого родственникам лучше и не знать. Потому как в войну всякое бывало. Бабуля и говорит: — Чует мое сердце, тут о Ване речь идет. — Да откуда ты, Бабуля, взяла? Так, пустые словеса, обо всем и ни о чем, — возразил Игорь. Тут Бабуля и призналась. — Не хотела, Игорек, тебе говорить, а теперь, видно, придется. Ты уж взрослый, поймешь мое горе… Вскоре после войны по селу поползли слухи, будто Ваня нехорошо умер. Кто их пустил — неизвестно. Врагов у Вани было немало, он ведь милиционером был, банду вылавливал, перед законом ставил. Кто-то из обиженных и пустил сплетню. — Ты же сама говоришь — сплетня. — А кое-кто за нее уцепился, пошли разговоры: «Нет дыма без огня». Так мне тяжело стало, что я из села в Москву подалась. Дала себе слово до правды доискаться. Может, и этот отставник знает что-то про Ваню, а не говорит? А второе письмо было и того темнее. В конверте лежал мятый листок, вырванный из ученической тетради. Он был покрыт каракулями. Такое впечатление, будто писал малый ребенок. Строчки косые, идут снизу вверх, а потом бух с горы — и вниз. Письмо содержало проклятия и угрозы какому-то «оборотню, зверю в человечьем облике, сотворившему страшный грех», которому нет прощения ни на этом свете, ни на том…«Это он погубил вашего деда и мужа. А случилось это в десяти километрах от деревни Соленые Ключи. Под городом Привольском. Коли врачи не зарежут, отпустят душу на покаяние, хоть ползком, а приползу и открою вам глаза».Бабуля тотчас же принялась отыскивать на письме обратный адрес и фамилию отправителя. Фамилия была «Ерофеев», а адрес отсутствовал. — Видно, из больницы письмо, — определила Бабуля. — Что за больница? Часом, не дурдом? — пошутил Игорь, но тут же пожалел о сказанном. Бабуля разгладила мятую писульку как величайшую драгоценность, пронумеровала, положила в папку, а папку в сервант.
___
Вернувшись после собрания в таксопарке домой, Игорь взялся за бабулины бумаги. Тщательно перебрал письма — первое, второе, третье… Вот и газетная заметка с фотографией деда. А где написанное каракулями письмо? Его нет. Куда делось? Уж не прихватил ли его с собой человек, побывавший в квартире на Разгуляе в тот роковой день, когда умерла Бабуля? И зачем ему могло понадобиться это письмо? На другой день Игорь снова побывал на Сретенке, у Витюхи. Ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями о пропавшем письме. Несмотря на поздний час, жизнь в Витюхином доме била ключом. Изольда Павловна играла на пианино, Витюха смотрел телепередачу «А ну-ка, девушки!», а Игнат Гаврилович прибивал к ботинку отставшую подошву. — Есть хочешь? Может, чаю? — предложил Витюха. Игорь поблагодарил. Нет, он ничего не хочет. Ему только надо посоветоваться. Услышав об этом, Игнат Гаврилович отложил ботинок, гвоздики и молоток, выразительно посмотрел на жену. Она прекратила играть и вышла в соседнюю комнату. Витюха выключил телевизор. И вновь Игорь подивился той степени душевного согласия и взаимопонимания, которые царили в этой семье. Он рассказал о своих подозрениях и возникшем у него решении — во что бы то ни стало выполнить волю Бабули, отыскать могилу деда. С этой целью он завтра же подаст начальнику колонны заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. И уедет на юг, в места, где воевал дед. Игнат Гаврилович покашлял в кулак: — Я так понял, что вы все связываете воедино — гибель деда, визит гостя, пропажу письма, смерть бабушки? Игорь кивнул. Игнат Гаврилович задумался. — Понимаете, Игорь… Я не знаю, существует ли та связь между событиями, о которой вы говорите, но бесспорно одно: ваша цель выполнить желание бабушки и прояснить обстоятельства гибели деда — похвальна. Так же как дерево не может расти и развиваться без корней, так и человек не может жить без сознания своей кровной и неразрывной связи с теми, кто был до него, кто дал ему жизнь. Забота о славе своего рода, о чести своего имени — это отнюдь не «дворянский предрассудок». Для нас, советских людей, кодекс чести не красивые слова, а норма каждодневного поведения… Игнат Гаврилович замолчал. — Вы на меня, Игорь, не обижайтесь… я буду говорить откровенно… Парень вы вроде неплохой. А все у вас как-то не клеится. Не успели жениться, как уже разошлись… Заварили с моим Витькой кашу в таксопарке, а сами убегаете… Хотите уволиться «по собственному желанию»? А в чем они заключаются, ваши желания, вы-то хоть осознаете? Сомневаюсь. Ясно: жить прежней, бездумной, растительной жизнью вы уже больше не можете. Уже одно это хорошо. Видимо, дух ваш пробудился, стал мятежным и ищет бури… Вы спрашиваете совета: куда плыть? Что ж вам сказать? Хлеб истины черств, и разжевывать его надо самому. Никто другой за вас это сделать не сможет. Игорь стал прощаться. В передней к нему подошла Изольда Павловна. Она схватила его за руку: — Вы, Игорь, слушайте Игната Гавриловича, слушайте… Это такой человек! — Ее голос звенел от восторга, в глазах блестели слезы. — Вы знаете, Игорь, имя «Игнат» произошло от латинского слова «игнатус» — нерожденный. Муж говорит, что человек рождается дважды: один раз в момент появления на свет, а другой — когда сам осознает себя человеком, становится гражданином. Как это верно! «А она, видно, здорово любит мужа», — подумал Игорь. В переднюю вышел Витюха. — Ты тоже уходи из таксопарка, — посоветовал Игорь товарищу. — А зачем? — Да они ж тебя съедят! Помнишь про «зубы тигра»? — Пусть только попробуют. Я завтра в редакцию иду. Письмо уже написал. Освещенный тусклым светом электрической лампы, он стоял перед Игорем щуплый, маленький, в старом желтом пиджачке из кожзаменителя и выношенных джинсах, и спокойно смотрел на него своими по-детски яркими голубыми глазами. Еще один Игнат, который хочет родиться во второй раз. Игорь чувствовал себя виноватым перед Витюхой. Он уволился по собственному желанию и купил билет на поезд Москва — Привольск.ПОЕЗД ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
Директору привольского завода Роману Петровичу Беловежскому было не по себе. Не то чтобы утомила предотъездная суета — беготня по магазинам, добывание билетов в международный, как говорили раньше, вагон, а по-нынешнему — «СВ», таскание взад-вперед тяжеленных чемоданов, до отказа набитых женой Медеей, шумная компания в честь только что состоявшегося назначения. Романа Петровича встревожило другое: подходя в сумраке душного августовского вечера к своему вагону, он вдруг увидел в отдалении светлую гибкую фигуру, очертания которой показались ему знакомыми — до боли, до острого сердечного сжатия. Лина? Не может быть! Она же осталась здесь, в Москве, чтобы поступить в институт, начать новую жизнь, вдали от Привольска, от семьи, от Беловежского. Ах да, она, наверное, никуда не едет, а просто провожает отца, Примакова, как он сразу не догадался! Сейчас стрелка на вокзальных часах совершит последний скачок, поезд медленно двинется вдоль перрона, набирая скорость, все быстрее-быстрее застучат на стыках рельсов колеса, чаще замелькают в окнах фонари, а потом их свет превратится в призрачное мелькание. И все. Дорога. Он, Беловежский, его жена, его сослуживцы, его дела и чувства — все это устремится прочь отсюда, на юг, к морю, а она, Лина, останется на перроне, позади, чтобы навсегда кануть в темноте и небытии. Но, успокаивая себя такими мыслями, Беловежский уже догадывался, знал, что она поедет в этом поезде, и таким образом все грехи и печали его прежней жизни еще долго будут сопровождать его. Беловежский совсем недавно, через голову своего непосредственного начальника — главного инженера, был назначен директором завода. Был он невысок, крепок, шея короткая, лицо круглое, несколько простоватое. Неожиданное повышение свое воспринял всерьез — «надо работать». Ему искренне хотелось провести в жизнь все то, о чем долгими вечерами судачили молодые инженеры, устранить те недостатки в управлении заводом, которые у всех были на виду, но с которыми сжились, примирились, как примиряется человек с некрасивыми родинками, некстати высыпавшими на лице. Тронешь, не дай бог, начнется заражение, лучше уж так… Роман Петрович понимал, что сводить эти «родинки» — дело не простое, опасное, что для этого ему потребуются все его силы. Поэтому-то он и поспешил навести порядок в своей личной жизни, прервал суматошные отношения с Линой и во время одной из командировок в Москву скоропалительно женился. Ему казалось, что таким образом он закрыл вопрос о любви и теперь может всецело посвятить себя заводу. Неожиданное появление на вокзале Лины, а вернее, его собственная реакция на это появление расстроила его, дала ему понять, что под прошлым не так-то просто подвести черту. Тускло светящаяся табличка с номером вагона, усталое лицо проводницы (почему они всегда такие усталые, эти проводницы, у них тоже людей не хватает, что ли?) и радостный говорок слесаря Примакова из темноты: — Вот… Того-етого… Дочурку уговорил. В Москве хорошо, а дома лучше. Вместе едем! — Да… да… — боясь оглянуться и встретиться с Линой взглядом, пробормотал Беловежский. Позабыв протянуть проводнице билет, он полез по крутым ступеням в вагон. Впрочем, проводницы в «СВ» особые, не злые и не горластые, а тихие и покладистые. — Ничего, ничего, — успокоила проводница Медею. — Я за билетиком потом забегу. Устраивайтесь. Медея расположилась в купе быстро и по-хозяйски. На столике тотчас же появилась банка с водой, куда был поставлен букет белых роз, поднесенный их общим другом Славкой. Собственно говоря, этот Славка и познакомил Романа с его будущей женой. «Уж очень за ней увивается, наверняка меж ними что-то было», — подумал Беловежский. Мысль эта вовсе не огорчила, а наоборот, успокоила, она как бы умаляла его собственную вину перед Медеей, вину, вещественным, зримым символом которой была девушка в светлом кружевном платье, ехавшая в этом же поезде на расстоянии трех-четырех вагонов от «СВ». Беловежский постарался привести свои чувства и мысли в порядок, скинул выходной голландский костюм, одел легкий тренировочный, ноги сунул в домашние шлепанцы без задников, приготовленные сноровистой женой. Сел к окну, постарался отвлечься от Лины, занять свой мозг другими, более важными мыслями. «Интересно, Фадеичев уже подработал вопрос насчет бытовок?.. Или ждет указаний и разъяснений? Надо с замами что-то делать. Хватит им изображать свиту короля». Внезапный стук в дверь заставил его вздрогнуть. Сердце замерло, а потом сделало рывок. Чего он испугался? Что с грохотом откатится в сторону дверь и в проеме, как в картинной раме, появится Лина? А чего ему, собственно, ее бояться? В чем он провинился, что плохого сделал? — Войдите! На пороге, переминаясь с ноги на ногу, стоял Линин отец, Примаков. Улыбался, руки были просительно протянуты вперед. В первое мгновение Беловежский не понял, что от него надо Примакову? Говорил Линин отец нечетко, некоторые слоги проглатывал: повсюду вставлял «того-етого» и «знаешь-понимаешь». В конце концов Беловежский разобрался: Примаков приглашает его вместе с женой на ужин в вагон-ресторан. Столик уже заказан. «Не побрезгуйте!» Только этого не хватало. И в то же мгновение понял: отказаться от приглашения никак нельзя. Словно прочитав его мысли, Медея произнесла: — Конечно, конечно… С удовольствием. Только через полчасика, ладно? Надо привести себя в порядок. Примаков закланялся, заулыбался еще шире: да, да, конечно. Они подождут. Когда дверь за ним затворилась, Беловежский посетовал: — Кому нужны эти ресторанные посиделки? — Кому? Прежде всего тебе, — невозмутимо ответила Медея. — Сам же огорчался, что в Москве не удалось пообщаться с заводскими. Сейчас наверстаешь. Беловежский со вздохом начал стаскивать с себя только что надетый тренировочный костюм. В глубине души он опасался, что Лина придет в вагон-ресторан. И надеялся, что все-таки придет.___
Игорь Коробов приехал на вокзал задолго до отправления поезда Москва — Привольск. Сборы были быстрые: побросал в чемоданчик свой нехитрый гардероб — и готов. Позвонил Юльке, сказал, что в его отсутствие она может пожить в квартире. Под вазой — деньги. Пусть берет — это ей. Минуту трубка молчала, а потом Юлькин голос растроганно произнес: — Ну и мировой ты парень. Жаль, что у нас все так получилось… Может, проводить? У меня времени навалом. Он сказал, что провожать не надо. Когда устроится, напишет. Она обрадовалась. Может, у нее появилась надежда, что Игорь вызовет ее к себе? Ну, это вряд ли… Впрочем, жизнь покажет, как и что. Вдоль поезда носильщик катил тележку, доверху груженную картонными коробками. А поодаль и в стороне, словно не имея отношения к этому громоздкому багажу и в то же время соблюдая между ним и собой постоянную дистанцию, шагал немолодой человек в темно-синем прорезиненном плаще. Голову прикрывала низко надвинутая на лоб кепка. — Вот здесь, — раздался негромкий голос. Он показался Игорю знакомым. Носильщик с тележкой остановился. Игорь поднял голову, увидел надпись: «Вагон-ресторан». «Ага, — подумал он, — видимо, в коробках продукты для ресторанной кухни». Судя по всему, багаж и человека в кепке ждали. Потому что закрашенная белой краской дверь тотчас же пружинисто отворилась и на землю спрыгнул восточного вида мужчина в белой тужурке и черных брюках. — Привезли? Давайте… А то уж я изнервничался. — Нервничать вредно, — спокойно сказал пришедший и расплатился с носильщиком. Тотчас ресторанный работник и пришедший начали разгружать тележку. — Эй, дорогой! Не поможешь? — крикнул восточный человек Игорю. — Зачем? Мы сами… — недовольно проговорил человек в кепке. — У меня дел много. Еще ужин не готов. — И, быстро сунув Игорю в руку пятирублевку, исчез в вагоне-ресторане. Игорь, отставив в сторону свой чемоданчик, принялся за работу: лишняя пятерка в дороге не повредит. Наработавшись, отыскал свой вагон и устроился на нижней полке. Соседи по купе мало-помалу угомонились. Юноша и девушка в одинаковых майках, тренировочных штанах и кедах забрались на верхние полки. Время от времени из-под потолка, на котором тускло светилась синяя лампа, доносились смешки. Сидевший внизу толстый гражданин, облаченный в мятую пижаму из полосатой ткани, при каждом звуке вздрагивал, прислушивался и со злобой бормотал: «Ишь, безобразники, совсем совесть потеряли, пойти, что ли, позвать проводника?» Он явно искал поддержки у Игоря, но тот молчал. Проводница принесла чай. — Я возьму одну вафлю, а сахар у меня свой! — заявил толстяк в пижаме. Проводница пожала плечами, мол, делайте, как хотите и ушла. Игорь встал, накинул на плечи куртку и тоже вышел из купе. Полез в карман за расческой, нащупал пятерку, которую сунул ему человек из ресторана. Обрадовался. Есть на что поужинать.Первым, кого он увидел в ресторане, был восточный человек, Автандил Шалвович. Он стоял за стойкой, протирая вафельным полотенцем мокрые рюмки. — А, это ты… — сказал он Игорю. — Садись там, у окна. Сейчас обслужат. Через пару минут к Игорю подошла миловидная официантка с крупной родинкой в вырезе платья и поставила на стол металлическую тарелку — «бифштекс с яйцом и жареным картофелем», стеклянную плошку с салатом — «помидоры и огурцы с луком и сметаной» и бутылку с пивом. Игорь проговорил: — Вы ошиблись, это не мне. Я не заказывал. Официантка склонилась к Игорю и шепнула: — Не волнуйтесь… Автандил Шалвович угощает. «Странные они, эти южные люди, никогда не знаешь, чего от них ждать», — подумал Игорь. В бытность свою таксистом он не раз встречался с веселыми, вспыльчивыми и непомерно щедрыми представителями солнечных республик. Видно, Автандил из их числа. Поезд шел вперед, колеса ритмично стучали на стыках, вагон кидало из стороны в сторону, в металлических гнездах на столе позвякивали бутылки с лимонадом. Игорь задумался: куда он едет, зачем? Сейчас, в поезде, его неожиданное решение сорваться с насиженного места и помчаться вдаль, неведомо куда и зачем, в приморский город, к незнакомым людям, вдруг показалось несерьезным… Это его постоянное спокойствие далеко не всем нравилось. Однажды Юлька накричала на него: «Неживой ты, что ли? Ударил бы меня. Я же заслужила! А ты молчишь!» Даже Бабуля, сама отличавшаяся спокойным, терпеливым характером, и та как-то сказала: «Какой-то ты тихий, Игорек. Вот дед твой… тоже был незлобивого нрава… Но если где углядит шкоду какую, только держись. Как-то раз Ермолай, Нинки Деевой брат, насыпал в рубаху семенной пшеницы, связал в узел и — ходу, домой значит. А Ваня иугляди… Схватил парня за ворот, а потом и за волосы, да ну таскать. А Ермолай выше Вани на целую голову. Ваня его таскает, Ермолай кричит, и смех, и слезы… Еле-еле люди Ермолая из Ваниных рук освободили. А ты, внучок, какой-то сонный… Хорошо, конечно, что не драчун, не хулиган… А все же…» Игорь сидит, закусывает, и мало-помалу мысли о себе отходят на задний план, и он, сам того не желая, начинает прислушиваться к разговору за соседним столом, где сидят четверо — муж и жена да старик с дочерью. Игоря, конечно, больше других интересует дочь. Странное у нее лицо — в иные минуты беззащитно-детское, а в иные — взрослое, исполненное страстной силы. — Вы очень изменились, Лина, повзрослели, что ли? — сказал сидевший напротив девушки круглолицый мужчина с редкими волосами, зачесанными набок. — Так ведь год прошел, Роман Петрович, — отвечала Лина каким-то странным тоном, будто бы вкладывая в эти простые слова какой-то другой, понятный ей одной смысл.
___
Лина Примакова приняла решение оставить столицу и вместе с отцом вернуться в Привольск буквально в последнюю минуту. Еще вчера она решительно отвергала уговоры отца, убеждавшего дочь, что уж коли она в институт не попала и актрисы из нее, судя по всему, не выйдет, то следует немедля прекратить разоряющее семью пребывание в Москве, вернуться домой. Лина отвечала, что сделать этого никак не может. Какими глазами она будет смотреть на заводских девчат и парней, еще недавно завидовавших Лине Примаковой, смело ринувшейся в столицу, навстречу ожидавшей ее театральной карьере. А теперь — здрасьте, вот я, завалилась сразу по трем предметам и явилась назад, никому и нигде не нужная, кроме как дома, в Привольске. «Пристроюсь как-нибудь на работу здесь, в столице. А на следующий год снова буду поступать». — «Так разве нельзя готовиться к поступлению в Привольске?» — резонно спрашивал отец. «А вот и нельзя», — отвечала дочь, не находя других доводов. И вдруг за час до отправления поезда, услышав от отца, что в поезде едут директор Беловежский с женой, собралась и отправилась на вокзал. Она и сама не знала, что на нее нашло, отчего такая внезапная перемена. Из-за Беловежского? Два года назад Егорунков из отдела кадров, приятель отца, пристроил только что окончившую десятилетку Лину курьером в производственный отдел. Приносила и относила бумажки, почту, газеты, журналы. Дело нехитрое: «Пойди, принеси». Но потом заболела секретарша, Лину временно посадили на ее место, и она, к удивлению Беловежского, проявила и понятливость, и быстроту, и такт. Болезнь секретарши затянулась, Лина полностью вошла в курс дела, и когда заболевшая поправилась и вернулась, то по желанию Беловежского ее отправили в общий отдел, а Лина осталась за секретаря. То, что Лина влюбилась без памяти в молодого холостого инженера, это не диво. А странно то, что и он не остался равнодушным к юной дочке слесаря Примакова. Это была любовь, а как еще назовешь то, что с ним произошло. Круговерть встреч, расставаний, горе и радость вперемежку. Оборвалось все так же неожиданно, как и началось. Беловежского направили в Москву на новомодные курсы работников управления. Ему казалось трудным, невозможным расстаться с Линой хотя бы на день… Но странное дело — стоило отдалиться от Привольска на две тысячи километров, и его отношения с Линой словно бы приобрели другие масштабы… Это было, конечно, чудесно, он ни за что не согласился бы вычеркнуть случившееся из своей жизни. Но образ Лины на расстоянии истончился, побледнел и теперь маячил на небосклоне светлым, но неясным пятном. Встреча в шумной московской компании с блистательно яркой Медеей завершила дело. Роману Петровичу вдруг показалось: именно такая спутница жизни ему и нужна — умная, волевая, целеустремленная. Куда именно устремленная? Этим вопросом он, захваченный новым чувством, тогда не задавался. …Для Лины это был удар, да еще какой! Не то чтобы она имела на Романа Петровича какие-то виды, если и имела, то втайне, не признаваясь в них даже себе самой. А вот чувства и отношения были, из песни слова не выкинешь — что было, то было, а она в свои ранние девичьи годы только этим и жила — чувствами и отношениями, чем же еще? И вдруг все обрывается так внезапно, так пошло, ее убирают с глаз долой, и давай, Лина, живи дальше как можешь. Поначалу ей показалось, что «дальше жить» она вообще не может, пару раз даже прогулялась возле пруда да вдоль железнодорожной ветки, по которой завод отправлял на все четыре стороны света готовую продукцию. Но здоровая натура взяла верх, она поплакала в подушку и перестала. Попробовала вышибить клин клином. Завела роман с длинноволосым помощником режиссера местного драмтеатра. Он-то и вскружил Лине голову разговорами о необыкновенной жизни, которой живут артисты, и о пластике ее тела, явно указывавшей, по его словам, на большое Линино дарование. И вот теперь она возвращалась в Привольск с разбитым сердцем, несбывшимися мечтами, короче говоря, с неудавшейся жизнью. А кого в этом винить? Человека, ехавшего в спальном вагоне с женой? Вот где крылась отгадка неожиданного решения Лины ехать в Привольск! Она должна была — и немедленно — собственными глазами увидеть женщину с таинственным именем Медея и не одну ее, а вместе с ним, с Беловежским, потому что, только увидев их обоих, могла бы понять, уяснить что-то очень важное для себя. Это она и подсказала отцу мысль — пригласить Беловежского с женой на ужин в вагоне-ресторане. Как только уселись за стол вчетвером, тотчас же установилась какая-то напряженная атмосфера, которая, должно быть, устанавливается на каких-нибудь важных официальных переговорах, от исхода которых зависят судьбы государств и народов. Сначала над белой, вернее не белой, а голубоватой, отливающей синькой, пахнущей хозяйственным мылом скатертью повисло тяжелое молчание, нарушаемое только позвякиванием раскладываемых официанткой приборов и покряхтыванием Примакова, тщетно искавшего способ начать разговор. — Вы сильно изменились, Лина, — нарушил паузу Беловежский. Напрасно он придавал голосу вежливо-начальственное выражение, волнение прорвалось и обнаружило себя. Да и как не обнаружить, в вагоне-ресторане развертывалась — в миллионный, а может, в миллиардный раз сцена, когда двое людей, бывших некогда близкими, пытаются вернуть свои отношения в обычное русло, будто прежде между ними и не было ничего, так, простое знакомство. — Так ведь год прошел, Роман Петрович… Я изменилась, — произнесла Лина. — Вот нос у меня вырос, — и она провела ладошкой по носу, чуть приплющив его. — Нос? При чем тут нос? — не понял Беловежский. — Ах, нос… Нос действительно у Лины как будто удлинился, но не это произвело на Беловежского впечатление. Она вся была — и та, и не та. Не стало свежести, которой поразила его Лина, когда два года назад впервые ворвалась в его кабинет и, от усердия вытаращив глазенки, спросила: «Вам кофе с лимоном?» Он никогда не пил кофе с лимоном и не понимал, как другие могут это делать, а она, только вчера попавшая на завод десятиклассница, видимо, предполагала, что своим вопросом проявляет знание жизни и кулинарных тонкостей. Нет, свежести теперь не было. Черты лица — и нос в том числе — не столько укрупнились, сколько определились, сделались более четкими, резкими. Косметика, которой Лина стала пользоваться, довершила этот процесс превращения девушки во взрослую женщину. И в то же время в ней оставалось и нечто прежнее, беззащитно-детское, что угадывалось во взгляде широко распахнутых как бы от непреходящего удивления глаз и в манере начинать фразу неуверенно, спотыкаясь, словно она еще не знала, чем эта фраза может закончиться и закончится ли вообще. — Вот вы и коньяк пьете, — немного позже, когда были наполнены и опорожнены рюмки, с укоризной произнес Беловежский. Мысли, чувства, воспоминания вихрем проносились в его мозгу, и он мучился от невозможности высказать то, что переполняло его, в пристойно-вежливых фразах. — Коньяк? Да, да… раньше я не могла. Это меня Сапожков научил. — Какой это еще Сапожков? — изображая строгого отца, поинтересовался Примаков. Лина ответила: — Ты разве не знаешь? Помощник режиссера в драмтеатре. — Это такой длинный, чернявый, который тебя так поздно провожал? — Да, он. — Вы, я слышала, ездили в Москву поступать в театральное училище. Что ж, не поступили? — спросила Лину Медея, уже постигшая то, что происходило на ее глазах между ее мужем и этой длинноносой пигалицей. — Нет, не поступила, — ответила Лина и подняла глаза на Медею, видимо, обрадовавшись поводу, позволявшему, не таясь, рассматривать жену директора. — Способностей не хватило? Или по внешним данным не прошли? Беловежский хотел вмешаться, одернуть разошедшуюся жену, но Лина, казалось, не нуждалась в защите. Она не смутилась, не покраснела. — Кажется, и того, и другого не хватило, — со смешком сообщила она Медее, как бы приглашая ее присоединиться к обуревавшему ее веселью. На что прост был Примаков, но и тот почувствовал неладное. Поторопился вмешаться, перевести разговор. — Дочка, а что за платье на тебе? Где отхватила? Где деньги взяла? — Должно быть, нашлись добрые люди, выручили с деньгами, — ехидно заметила Медея. Лина слабо махнула в ее сторону тонкой рукой: — Что вы, какие деньги… У меня их вовсе не было. Неделями только на свежей выпечке и сидела… То слоечку съем, то бублик с маком… А платье я сама сделала. Да ты, отец, позабыл, что ли, бабушкины занавески из вологодских кружев? — Так разве они еще целы? Двадцать лет в сундуке лежали и не сгнили?! — А вот и не сгнили! — с торжеством сказала Лина. — Я их постирала, отбелила, а то они уже желтые сделались, и платье сварганила. Прямо на руках! В училище как увидели, так в обморок попадали. Ни у кого такого нарядного нет. Лина вскочила, выбежала в проход между столиками и повернулась на каблуках. Ее платье, белое с желтизной свежих сливок, легкое, ажурное, разлетелось веером, потом обернулось вокруг Лининых бедер. — Чу́дное платье, — уже не желая сдерживать себя после бестактной выходки жены, с жаром воскликнул Беловежский. Порозовевшая Лина, весело смеясь, уселась за стол. — Не понимаю, чему вы радуетесь, — обращаясь к ней, — проговорила Медея. — На экзамене провалились, денег нет — платье купить не на что, из старья приходится выкраивать. Тут плакать надо, а не радоваться. — Зачем же мне плакать, если я себя несчастной не чувствую? — спросила Лина, снова смущая Медею пристальным взглядом широко распахнутых глаз. — Разве счастье — это все иметь? Все захватывать и тащить к себе — это мое, мое, мое? Счастье — это не брать, а отдавать. — Да что вам отдавать-то? — раздув ноздри, почти гневно выкрикнула Медея. — Что у вас есть-то? Главное свое богатство вы, если мне не изменяет проницательность, уже подарили — Сапожкову или не знаю еще там кому! Что же у вас осталось-то, кроме длинного носика? — Медея, замолчи! Как тебе не стыдно! — уже не мог смолчать Беловежский. — Ах, оставь меня! Что увидела, то и сказала! Ты думаешь, перед тобой святая простота? Ошибаешься! Святая постеснялась бы при всех юбками трясти и свои секреты вываливать про старые вологодские кружева, бросивших ее любовников, провалы на экзаменах… Постыдилась бы! А эта… Думаешь, у нее ничего нет и не надо? Надо! Ей все надо! Вот она и вертится здесь, изображая из себя невесть что! Примаков сидел ошарашенный, открывал рот, но сказать ничего не мог. — Да что такое? Того-етого, этово самого… Линка! Ты чего тут наговорила? Лина сидела тихая и скучная, свалив голову на плечо, как будто у нее не было уже сил, чтобы держать ее прямо. На лице — ни обиды, ни смятения. Одна грусть. — Вы правы, — почти беззвучно прошептала она. — Я плохая. Поэтому и не заслуживаю любви. — Пошли! Мне надоел этот спектакль, — Медея поднялась и двинулась к выходу. Беловежский хотел расплатиться, но Примаков не дал, долго доставал из кармана мятые трешки и, расправляя, складывал в пачку. — Вы извините мою жену, — сказал Беловежский. — Сам не знаю, что с нею. Обычно она такая выдержанная. Вы идете? — Нет, я еще немного посижу. У меня и кофе недопит. Ты, папа, тоже иди. Я сама приду, — ответила Лина. — Как же так, дочка? А если обидит кто? — Меня теперь трудно обидеть, — отвечала Лина. Беловежский с растерянным лицом, поминутно оглядываясь, неуверенно двинулся к выходу. Директор вагона-ресторана, бывший бармен одной из южных гостиниц, Автандил Шалвович, с мрачным видом стоял за стойкой. Час назад на каком-то полустанке «под большим секретом» ему сообщили о надвигающейся ревизии и новом, неведомо откуда взявшемся, неподкупном ревизоре… Это известие произвело на Автандила Шалвовича парализующее действие, какое производит, скажем, на тушканчика один вид внезапно появившейся змеи. Сейчас Автандила Шалвовича все раздражало. Даже глазастая и грудастая официантка Галя. Она непрестанно сновала туда-сюда, из кухни в салон и обратно, задевая Автандила Шалвовича то рукой, то плечом, то подносом, выставляя напоказ крупную темную родинку. Эта родинка еще недавно сильно возбуждала Автандила Шалвовича, напоминая ему спелую вишню, аппетитно плавающую в коктейле «Юбилейный», приготовлением которого он когда-то славился. Однако сейчас родинка казалась расстроенному Автандилу Шалвовичу неприятной мохнатой гусеницей, из тех, что кишмя кишат в его родном ауле. Воспоминание о родных местах, где он в дни детства беззаботно резвился на воле, подглядывая из кустов алычи за купающимися в горной реке старшеклассницами, и даже не подозревал о существовании коктейля «Юбилейный» и подчищенных накладных, — воспоминание это наполнило душу Автандила Шалвовича полынной горечью. Судя по всему, в самое ближайшее время его ожидали вовсе не милые сердцу южные края, а совсем иные — северные… — А ну-ка убери руку, а то как дам! — визгливый Галин голос вывел Автандила Шалвовича из тягостных раздумий. Он окинул салон орлиным взглядом и увидел, что один из туристов, видимо, разгоряченный выпитым коньяком, пристает к Гале. — Ужель не стыдно! Самого небось жена с дитем ждет, а он щиплется, кавалер какой нашелся. При этом Галя кидала взгляды в сторону Автандила Шалвовича, видимо, надеясь этой сценой снова разжечь прежний неистовый огонь его любви, поугасший отчего-то в последнее время. Но повелитель не спешил на защиту Галиной чести. Автандилу Шалвовичу было не до Гали. В его черепной коробке, как муха между запыленных стекол окна, бессильно билась мысль: что сделать, чтобы отвести подступившую беду, не допустить ревизии? Воспользоваться скандалом, немедленно уволить опостылевшую Галю и свалить на нее все грехи? Не выйдет. Во-первых, материально ответственное лицо — он, Автандил Шалвович, а во-вторых, обиженная Галя такого о нем порасскажет, что его закатают лет на пять, не меньше. А может, наоборот, вступиться за Галю, затеять драку, перебить несколько пустых бутылок, а списать пятьдесят бутылок марочного коньяку? Но туристы вовсе не собираются драться. Может так получиться, что Автандилу Шалвовичу кроме растраты припаяют еще и хулиганство. Нет, не годится! Скандал тем временем, как костер, в который не подбросили сучьев, полыхнул пару раз и погас. Туристы отвязались от Гали и пересели за столик, где сидела в красивом кружевном платье одинокая девушка и допивала коньяк. Автандил Шалвович ожидал, что девушка тотчас же поднимется и покинет ресторан. Но этого не случилось. Она спокойно и доброжелательно ответила на вопросы парней, завязался оживленный разговор. Автандил Шалвович снова погрузился в свои невеселые размышления. Так прошло минут пять. Шум за столиком привлек его внимание. Теперь девушка пыталась встать и уйти, но один из туристов крепко держал ее за руку. Она начала вырываться. «Раньше надо было уходить», — осудил про себя девушку Автандил Шалвович. Он всегда и во всем винил женщин. Сами виноваты, если с ними что-то случается. Не начни Галя распивать с ним коньяк в подсобке, тоже ничего бы не было. Зазвенело стекло — повалился графинчик. Автандил Шалвович выскочил из-за стойки. Порчи инвентаря он допустить не мог. — А ну отпусти! — А вам что за дело, Автандил Шалвович? — ревниво произнесла Галя. — Люди выясняют отношения. Ну и пусть. Она, может, сама этого хочет. А то бы не сидела, не распивала коньяк в мужской компании. Автандил Шалвович поспешно ретировался за свою стойку. Туристы совсем осмелели. Силой усадили Лину на место. Громко заказали бутылку коньяка. Не стесняясь, они шумно уговаривали Лину выпить с ними по рюмочке-другой, а потом отправиться в соседний вагон, где у них имелось свободное купе. — Пустите, ребята, мне надо идти. Правда, надо, — уговаривала их Лина. — Меня отец ждет. — Не ломайся, — ответил ей один из парней. — Ты же уже не девчонка. Знаешь что к чему. Проведешь с нами вечерок, а потом мы сами тебя к папочке доставим. В лучшем виде! Оба громко захохотали. Этот дикий смех испугал Лину. Она испуганно оглянулась в поисках помощи. — Все! Вставай, пошли! — Никуда я с вами не пойду! — Тебя не поймешь; то не хотела остаться, теперь не хочешь уходить. У тебя что — не все дома? Или опьянела? Ничего, в тамбуре проветришься. Они уже силой тащили упиравшуюся Лину по проходу между столиками. И тут на их пути встал Игорь Коробов. — Кончайте, ребята. Повеселились, и хватит. Отпустите ее. Парни с удивлением воззрились на него: — Ты кто такой? Жить надоело? А ну уйди… — Эта девушка со мной. — С тобой? Ты кто ей — папочка? Один из парней с силой ударил Игоря. Тот ответил. Узкий проход мешал второму парню наброситься на Игоря, это уравнивало шансы. Воспользовавшись моментом, Лина вырвалась и бросилась прочь из ресторана. Это обрадовало Игоря. Теперь задача его упрощалась. Впрочем, неизвестно, чем бы кончилась для него эта драка, если бы один из парней не допустил роковой ошибки: схватив со стола бутылку из-под пива, он резким движением отбил дно, заполучив таким образом страшное оружие. Однако воспользоваться этим оружием ему не пришлось. Звон посуды, служившей для Автандила Шалвовича одним из источников наживы, мгновенно вывел его из состояния апатии. Он выскочил из-за стойки, как разъяренный буйвол промчался по проходу, схватил обоих парней могучими волосатыми лапами за шиворот и поволок их к выходу. Через мгновение вагон-ресторан опустел. Как писали древние, битва прекратилась из-за отсутствия сражавшихся.___
— Что ты на нее набросилась? — Беловежский растерянно смотрел на жену, которая не торопясь, плавными движениями сняла с шеи золотое ожерелье и начала аккуратно укладывать его в длинную и узкую коробочку, выстланную изнутри красным бархатом. — Не люблю несчастных, — спокойно отвечала Медея. — Несчастье — это зараза, от нее надо держаться подальше. — Вот бы и держалась подальше. Зачем же делать несчастных еще несчастнее? — А ты иди пожалей ее! Беловежский выглядел этаким простецким парнем, что в свое время породило у Медеи иллюзию, будто ей будет легко управляться с мужем. Но она все чаще стала убеждаться в том, что ошиблась. Светлые глаза Романа Петровича потемнели, круглое, обычно казавшееся добродушным, лицо затвердело. — Пойду и пожалею, — твердо сказал он. Пригладил ладонью редеющие каштановые волосы и вышел из купе, с силой захлопнув за собой дверь. Медея опустилась на застланную полку и стала смотреть в темное стекло, где ничего не было видно, кроме ее собственного отражения. …Беловежский двинулся к вагону-ресторану, где он оставил Лину с, отцом. Однако Лина встретилась ему на полпути. Волосы ее были спутаны, рукав платья надорван. — Что случилось? — Пристали двое. Тащили к себе в купе. Еле вырвалась. Спасибо, какой-то парень помог. — Я как чувствовал, — мрачно проговорил Беловежский. — Да вот, опоздал. — Опоздал, — как эхо отозвалась Лина. Они оба смешались и замолчали. — Ты извини мою жену. Не знаю, что на нее сегодня нашло. Обычно такая спокойная, выдержанная женщина. — Красивая женщина, — снова, будто эхо, повторила Лина. — Зачем же ты осталась в ресторане? И сейчас… Мне не нравится, что в этот поздний час ты ходишь по поезду одна. — Одна? А с кем же мне ходить? — поинтересовалась Лина. — С кем? — Беловежский попытался завладеть инициативой в разговоре: — Лина, я не мог сказать этого за столом… по понятным соображениям… — По понятным соображениям. — Перестань повторять мои слова, ты не маленькая! — Не маленькая. До него донесся смешок. — Так вот что я хотел сказать. Я рад тебя видеть. И рад, что ты возвращаешься в Привольск. Хотя с прошлым, как ты сама понимаешь, покончено. К тому, что было, конечно, возврата нет и быть не может. — Быть не может. — Да, да… И все-таки я рад. — Я тоже… У меня голова разболелась, я пойду. Она повернулась и пошла. Беловежскому показалось, что он недосказал ей что-то очень важное. Машинально ухватил Лину за рукав, раздался треск ветхой материи, мелькнуло голое белое плечо, розовая ленточка на нем. Она оглянулась, с удивлением посмотрела на Беловежского и скрылась. Навстречу директору по проходу двигался один из заводских — завгар Лысенков. По легкой, понимающей улыбке, игравшей на его губах, нетрудно было догадаться, что последняя сцена не укрылась от его внимания. У Беловежского появилось желание сказать завгару что-нибудь резкое, чтобы согнать с его лица заговорщицкую, понимающую улыбку. Но тот, словно угадав это, сменил выражение лица на просительно-угодливое и, склонив голову, сказал: — А я к вам, Роман Петрович, за помощью. Еще недавно Беловежскому, занимавшему должность начальника производства, по работе редко приходилось сталкиваться с Лысенковым. Он внимательно рассмотрел его впервые несколько дней назад, когда вызвал к себе и попросил сменить своего личного шофера. Прежний, Гуськов, был небрежен и неопрятен, непонятно было, как его мог терпеть предыдущий директор Громобоев. У Лысенкова — удлиненное лицо, какие принято называть «лошадиными», крепкая жилистая фигура. Волосы бурые, с медным отливом, крашеные, что ли? Возраст — солидный, он угадывался в истончившейся бледноватой коже лица, в обилии тонких морщин, прочерченных рейсфедером времени на лбу и на щеках. Отметив про себя эти морщины, Беловежский подумал: «Под шестьдесят мужику. Должно быть, воевал». Эта догадка подтвердилась. На другой день у него был телефонный разговор с отцом, и неожиданно тот попросил о внимании к завгару Лысенкову: «Он воевал под моим началом». — Так что вам надо? — вспомнив об отцовской просьбе, Беловежский решил быть поснисходительней к завгару. — Да вот, в Москве удалось выбить несколько ящиков запчастей. Решил прихватить с собой, благо буфетчик оказался знакомым, пообещал в подсобке разместить. А тут ему ревизией грозят. Вот дружок и взбеленился: «Забирай, говорит, свои железки к чертовой матери». Хочу вас просить — переговорите с начальником поезда. Ну, чтобы разрешил перекинуть груз в багажный вагон. А мы задним числом оплатим по прибытии. А можно и сейчас наличными. У меня по случаю деньги при себе имеются. Хотел что-нибудь в Москве прикупить, да не успел, с запчастями провозился. — Хорошо. Попробую. — Премного благодарен, Роман Петрович. За мной должок! Отплачу. «Платы» завгара директору долго ждать не пришлось. Наутро в купе раздался стук. В проходе стоял Лысенков, из-за его спины выглядывал рослый парень с синяком под глазом. — Вот, шофера вам нашел. До последнего времени в Москве таксистом работал, а теперь к нам в Привольск едет… — А зачем? — поинтересовался Беловежский, внимательно разглядывая симпатичное, несколько подпорченное синяком лицо парня. — Темнит, — развел руками Лысенков. — Говорит, семейная тайна. — Тайны надо уважать, — произнес Беловежский, пристально глядя в лицо Лысенкову. — В том числе — и семейные… А синяк откуда? — Герой! Вчера в ресторане за примаковскую дочку вступился, из рук охальников вырвал. Лысенков произнес эту фразу как ни в чем не бывало, словно не был свидетелем вчерашней сцены между Беловежским и Линой. — Прибудем на место, приходите оформляться. Если документы в порядке, возьмем. С испытательным сроком, конечно. Роман Петрович, и не оглядываясь на жену, знал: на ее полных губах играет насмешливая улыбка. Слова завгара о парне, спасшем примаковскую дочку из рук охальников, и последовавшая вслед за этим быстрая награда — прием на работу — не могли, конечно, пройти мимо ее внимания. …А поезд дальнего следования тем временем с грохотом мчал к югу, накручивая на стальные колеса все новые и новые километры. Нес наших героев навстречу судьбе.ЧАЙ С БУБЛИКАМИ
Поезд Москва — Привольск подкатил к перрону точно по расписанию, с праздничной торжественностью. Однако Игорь Коробов и его новые знакомые, вылезшие из вагона и сбившиеся в кучку возле вещей, не выглядели ни торжественными, ни праздничными. Игоря не могла не заботить неясная, расплывчатая перспектива жизни и работы в этом чужом городке. Завгара Лысенкова беспокоила судьба ящиков, погруженных двое суток назад в подсобки вагона-ресторана, а потом, при угрозе ревизии, удачно переправленных в багажный вагон. Сейчас их надо быстро выгрузить, расплатиться с проводником, погрузить и увезти. Печать озабоченности лежала на лицах директора Беловежского и слесаря Примакова. Они оба были, каждый по-своему, не вполне довольны результатами командировки в столицу. Медея и Лина выглядели усталыми и были бледны. На привокзальной площади — шум, суета, неразбериха. Машин с зелеными огоньками и шашечками было много, однако водители не спешили покинуть стоянку, подбирая «выгодных» пассажиров. Как хорошо это было Игорю знакомо! Отделившись от крашеной-перекрашенной бежевой «Волги», к директору вразвалку подошел мужчина с опухшим и плохо выбритым лицом, кратко буркнул: — Подано. Роман Петрович оглянулся на Лысенкова: — А почему нет моей машины? Этот простой вопрос почему-то смутил завгара. Он схватил за рукав водителя бежевой «Волги», оттащил его в сторону, о чем-то переговорил с ним и вновь вернулся к директору. Вид у него был виноватый. — Извините, Роман Петрович. Неувязочка вышла. Гуськов нарушил… отобрали права… — Но разве нельзя было на мою машину посадить другого шофера? Лысенков развел руками: — Не догадались, олухи. Беловежский оглянулся, отыскивая взглядом своего нового шофера, сказал Лысенкову: — Значит, так, о парне позаботьтесь вы лично. Подбросьте его к заводскому клубу, скажите коменданту, что я распорядился поселить в комнате для приезжих. Завтра же оформить, и пусть приступает. А вашего Гуськова чтоб я в глаза не видел. — Будет сделано! — по-военному отвечал Лысенков. Он выглядел огорченным. За последние двое суток ухитрился дважды вызвать неудовольствие директора — первый раз в вагоне, когда некстати оказался свидетелем его объяснения с примаковской дочкой, а сейчас здесь, на привокзальной площади. Беловежский с женой уселись в бежевую «Волгу», все остальные — Лысенков, Примаков с дочкой и Игорь — в «рафик». Он быстро покатил по улицам Привольска. Игорь прильнул к окну. Еще в Москве, готовясь к поездке, прочел в книжке о плане застройки Привольска, подписанном три века назад чуть ли не самим Петром:«Генеральская площадь среди города. Сборная площадь за стеною. Середина города, где возможно быть ратуше или приказу, а в них первому караулу, где на Генералово сборное место збираются. Улицы, которые на свальное сборное место выходят… Посацкие дворы, или жилье. Дороги из города выезжать. Церковь, кабак».И теперь, приблизив лицо к запыленному стеклу «рафика», он пытался обнаружить следы старой, петровской застройки. Но не видно было ни Генеральской площади, ни церковки, ни кабака. Позже, пожив некоторое время в Привольске, Игорь поймет: город как город. С дымными заводами, которые все хотят вывести за городскую черту, а они всё не выводятся; с транспортными неувязками — поторопились, сняли трамвай, а оказалось рано, троллейбусы и автобусы с перевозками граждан не справляются; с проблемами — жилья не хватает, а городские власти все не могут решить, в каком направлении дальше развиваться: в северном, в сторону степи, или осваивать прибрежные районы и строить многоэтажные жилые дома прямо у моря, на набережной? А пока «рафик» бежит по незнакомым улицам, мелькают утопающие в зелени частные дома, белые кварталы бетонных новостроек, стеклянные витрины универсамов. Вот и трехэтажное здание клуба. Стоп, приехали. Лысенков вылез из автобуса и, чертыхаясь про себя, пошел разыскивать коменданта и устраивать своего нового подчиненного. Игорь готовился двинуться вслед за ним. Его задержал Примаков. — Ты, парень, того… не тушуйся. Пропасть тебе не дадим. Ты мою Линку выручил, а я добро помню. Устроишься, оглядишься и приходи в гости. Будем чай с бубликами пить. Они в театральном буфете знаешь какие — хрустящие и с маком! Игорь не понял, при чем тут театральный буфет, но за приглашение поблагодарил. Примаковская дочка проводила его быстрым и, как показалось Игорю, удивленным взглядом, словно не было позавчерашней сцены в вагоне-ресторане и она увидела его впервые.
___
Наутро после командировки слесарь Примаков, как всегда, был возле заводской проходной за полчаса до начала смены. — Как съездили? — приветливо сказал вахтер старик Золотухин. Он работал на заводе столь же давно, что и Примаков. Оба пришли сюда зелеными мальцами, а теперь уже скоро на пенсию. Золотухин не всю жизнь простоял в проходной. Работал в цехе, в каком — Примаков уже не помнил, потом заболели суставы и его перевели на более легкую работу, в проходную. — Дела не сделали и от дела не бегали, — ответил Дмитрий Матвеевич Золотухину малопонятной для него присказкой и прошел на заводскую территорию. Он не был доволен последней командировкой, но не позволил посторонним мыслям сбить себя с делового настроя. Давно он работает на заводе, очень давно. Семилетка… Ремесленное училище… На завод пришел через месяц после того, как началась война. Было ему тогда без малого шестнадцать лет. Попал в цех, где делали корпуса для мин. Приходилось вручную прогонять метчиками отверстия в минных корпусах — нарезать резьбу для стабилизаторов и боеголовок. Работа была тяжелая. Метчик вместе с воротком весил килограмма три, да пятикилограммовая болванка… Сколько их перетаскаешь за смену. Однако приноровился и даже внес в свою работу усовершенствование. Стал по-особому затачивать метчик, а в заготовке протачивал канавки. Все это помогало перевыполнять норму… У Дмитрия Матвеевича дома в сундуке до сих пор хранились молоточек и штангенциркуль, которые сделал своими руками… Дмитрий Матвеевич неторопливо шел по заводской территории. Она выглядела уютной, обжитой, как выглядит знакомый с детства двор у родного дома. Война позвала его ненадолго. Достигнув срока призыва, попал в школу, которая готовила саперов, потом с годок повоевал, был ранен и вернулся в Привольск, на завод. Вот и вся биография. Гордиться вроде бы нечем, да и стыдиться не приходится: вся жизнь у людей на виду. Однажды (это было уже после войны) на завод приехали двое из областной газеты и заявились к нему, Примакову. Не сразу, конечно, заявились… Сначала посидели в парткоме, потом в отделе труда, а уж затем в цех. До перерыва еще было далеко, и Дмитрию Матвеевичу не хотелось разводить тары-бары, надо проценты давать. Но гости явились не одни, а в сопровождении начальника цеха Ежова. Мужик строгий, с ним не поспоришь. — Делай что говорят, — буркнул он, и Дмитрий Матвеевич отошел от верстака. Примаков за долгую смену так не уставал, как за те два часа, что провел с глазу на глаз с журналистами. Подивился: главный-то у них не седой и толстый, а молодой, с хитрецой, затаившейся в морщинках у глаз и у пухлых, но четко очерченных губ. К старшему он обращался вроде бы уважительно: «Как вы думаете, Александр Ефимович, а не лучше ли начать с биографии…», «Дорогой Александр Ефимович, может быть, сначала послушать товарища Примакова», но ясно было, что за старшего здесь он. В конце беседы молодой сказал Примакову медленно, с расстановкой: — Слушайте внимательно, Дмитрий Матвеевич. Вы — инициатор важного начинания. — Кто? Я? — не на шутку встревожился Примаков. — Кто вам сказал, того-етого? Молодой посмотрел на старого. Тот пришел на выручку. — Кто сказал? Да все говорят. Это ведь ваш портрет в Аллее передовиков? Мы тут прикинули: если все рабочие последуют вашему примеру, то цех кончит пятилетку на три месяца раньше срока… А если взять завод, район, область в целом? Знаете, какая картина получится? Пока вы разговаривали, я и девиз почина сформулировал: «Больше изделий с каждого рабочего места!» — Кстати, Дмитрий Матвеевич, зачем вы постоянно вставляете в свою речь «того-етого» и «знаешь-понимаешь»? Это слова-паразиты. Вам теперь с трибуны часто выступать придется. Так что надо отвыкать, голубчик. — Есть отвыкать, — по-военному ответил Примаков. И неожиданно для себя добавил: — Того-етого. Журналисты весело рассмеялись. Через несколько дней в областной газете «Вперед» появилась большая статья под названием: «Опыт новатора Примакова — всем рабочим!» И рядом был напечатан портрет Дмитрия Матвеевича, копия того, что висел на заводском дворе в Аллее передовиков. Копия — да не совсем. На портрете в Аллее — Примаков был в расстегнутой рубашке и без галстука. В газете же рубашка у него была застегнута и имелся галстук в мелкую полоску. Примаков восхитился: «Ишь ты, галстук повесили. Да какой. У меня такого красивого сроду не было». Газету со статьей «Опыт новатора Примакова — всем рабочим!» Дмитрий Матвеевич бережно упрятал в деревянный сундук. «Глубоко не засовывай, — прозорливо сказала жена, — небось не раз и не два доставать будешь. Положь сверху». Дарья оказалась права. Примаков часто лазал за газетой, клал на стол, старательно разглаживал тяжелыми мозолистыми ладонями, с непреходящим чувством удивления и страха вглядывался в знакомое и в то же время какое-то чужое лицо — круглое, с припухшими, будто лишенными костной опоры щеками, с торчащими во все стороны мягкими прядями волос. От частого доставания газета быстро обветшала, поистерлась на сгибах. Примаков аккуратно соединил четвертушки прозрачной клейкой лентой. Хорошо получилось. Теперь Дмитрия Матвеевича знали не только на заводе, но и в городе. Незнакомые люди подходили на улице, здоровались. Иногда обращались с просьбой о помощи. А то просто так — постоят, побалакают и довольные отходят. Часто похваливали: «Хороший ты мужик, Матвеич. Свой в доску. Со всеми улыбчив, прост… Не так, как некоторые». Примаков исподволь, незаметно убеждался: его неожиданное возвышение принято людьми как должное. И все же время от времени стучала в голове беспокойная мысль: кому обязан он всем этим — славой, почетом, орденами? Шустрым газетчикам, раструбившим о нем на всю область? Или самому себе? Однажды не вытерпел, задал этот вопрос старому рабочему Егору Рогову, у которого еще до войны в учениках ходил. Рогов ответил: — Посмотри на свои руки, Митя, видишь? Тут ногтя нет, здесь мозоли, тут ссадины. Кожа черная, металлическая пыль так въелась, никаким скребком не отдерешь. Рабочие руки. Я тебя с малолетства знаю. От работы не отлынивал, больше других у верстака горбатил. Не было случая, чтобы от невыгодного задания отказался или товарищу не подсобил. А война пришла, взял в руки винтовку и пошел. Не твоя вина, что до Берлина не дошел, раны не позволили. Но ты и тут не сдался. Тебя, помню, кладовщиком сделать хотели из уважения к твоим ранам — не захотел. В цех вернулся снова за верстак. И работаешь дай бог каждому. С первой строки на Доске почета не слезаешь. Нет, Митя. Ты, когда в президиуме сидишь, за чужие спины не прячься. И грудь держи колесом, чтобы ордена твои всем были видны. Ты их честно, кровью и потом заработал. И еще вот что тебе скажу. Ты не о том кумекай — почему тебя когда-то из многих отличили да вперед двинули. Не о том, не о том, парень. Ты думай, как дальше жить. Чтоб не уронить своей славы. Каждым днем, каждым словом и шагом своим должен людям доказывать: не ошиблись, мол. Достойный я. Вот так, парень. Примаков улыбнулся: он для Рогова так и остался парнем, каким тридцать лет назад пришел в его бригаду. Из слов старого рабочего Примаков сделал такой вывод: теперь от него потребуется нечто большее, нежели требовалось прежде. Он с готовностью разъезжал по другим предприятиям с лекциями о передовом опыте, выступал на сессиях облсовпрофа, ездил с Громобоевым в командировки, пробивал вопросы, которые, по мнению директора, надо было пробить. Весть о смене руководства в цех принес Шерстков, худой, мосластый, злой парень, недавно за пьянку переведенный из слесарей в подсобники. — Вот скоро твой Громобоев начнет во дворе козла забивать, тогда, Примаков, запоешь! — сказал он. — Какого козла? При чем тут Громобоев? — не понял Дмитрий Матвеевич. — Несешь невесть что, знаешь-понимаешь… — Какого козла? Обыкновенного! Доминошного. Думаешь, век ему директорствовать? Хватит. — Что он тебе плохого сделал? — А что хорошего? Он на машине ездит, а я пешком хожу. Это тебе опасаться надо… — Мне-то чего опасаться? Как был слесарем тридцать лет, так и останусь. Шерстков смотрел на него, нагло ухмыляясь. — Слесарем останешься. Это точно. А зарплату тебе как станут выводить, как мне — что натопал, то и полопал, или как? А в командировки новый тебя будет таскать с собой или как? Что верно, то верно: прежний директор без Примакова в столицу не ездил. «Где мой верный Лепорелло? — спрашивал он секретаршу своим глухим хриплым басцом. — Скажи, чтоб собирался. Едем одиннадцатичасовым!» Примакову два раза повторять не надо. Собирается в путь-дорогу. Вынет из шкафа темно-синий шевиотовый костюм, к лацкану которого раз и навсегда, намертво, пришпилены ордена, медали, различные знаки и значки, достанет с полатей серый фибровый чемодан с коричневыми кожаными углами, побросает туда вещички — и готов. Только жене скажет: «Готовь, мать, список да деньжат побольше, что смогу, привезу, того-етого. Если, конечно, время позволит, знаешь-понимаешь. А то начнет директор по главкам да министерствам таскать, свету белого не увидишь». Зачем директор таскал своего верного Лепорелло — Примакова с собой в командировки? О, тут у него был свой расчет. Дмитрий Матвеевич в костюме с «цацками» придавал своей круглой физиономии хитровато-простецкое выражение и направлялся вместе с директором в министерство. В просторных, обшитых деревом кабинетах Дмитрий Матвеевич в нужный момент по знаку Громобоева выходил вперед и мягким южным говорком доказывал, просил, а иногда требовал — не от своего, конечно, имени, а от лица рабочего коллектива, который наказал ему, своему полномочному представителю, поехать в столицу и отыскать правду. Хозяева кабинетов, люди опытные, можно сказать, ушлые, конечно, догадывались, с чьего голоса поет Примаков, благо и Громобоев был неподалеку, потупившись, сидел рядом — за полированным столиком, приставленным к письменному столу, склонив голову и положив мучнисто-белые мягкие руки на кожаную папочку, в которой хранились научно сформулированные доводы в пользу того, о чем скороговоркой говорил Примаков. Директор знал: порою самые убедительные расчеты не помогут, а примаковская скороговорка выручит. Нельзя сказать, чтобы Дмитрию Матвеевичу нравилась эта его роль толкача, ходатая по заводским делам. Он мало для этого подходил. Язык подвешен плохо, то и дело откуда-то выныривают ненужные слова — «того-етого» и «знаешь-понимаешь», да если откровенно говорить, для него сподручнее руками орудовать, а не языком. Все это так… И однако же приглашение нового директора Беловежского поехать с ним в Москву, в главк, Примакова обрадовало. Оно, это приглашение, как бы убеждало Дмитрия Матвеевича, что все осталось по-старому, что смена заводского руководства никак не отразится на его судьбе. И вдруг, пожалуйста… В последнюю минуту Беловежский передумал. На беседу в главк отправился без сопровождения. И Примаков остался не у дел. Послонялся по московским магазинам. Жене Дарье Степановне отхватил отрез темно-вишневого кримплена на платье (известие, что кримплен из моды вышел, до Примакова еще не дошло), дочке Лине — финские сапожки на «манке» — толстенной белой подошве. Раньше, во времена примаковской молодости, о таких сапожках говорили «на каучуке». Себе Примаков купил в отделе уцененных товаров кепку из синтетического меха под леопарда. Примерив эту кепку в номере перед трюмо, он обнаружил, что кепка делает его похожим на известного циркового клоуна Попова. Из-под большого козырька виднелись круглые щеки, нос бульбочкой и светло-голубые глаза. В привокзальном ларьке купил два килограмма апельсинов. На каждом — маленькая треугольная наклейка «Maroc». Глядя на крупные ярко-оранжевые плоды, завезенные из чужедальних стран, Дмитрий Матвеевич задумался: эти маленькие облатки с надписью «Maroc» машиной клеят или вручную? Если вручную, так это ж чертова работа, одно слово — морока. Но морока получилась не с апельсинами, а с командировкой. Выходило, что он бросил цех, чтобы смотаться на казенный счет в Москву за апельсинами. Эта мысль свербила в мозгу, требовала действий. Может быть, поэтому Дмитрий Матвеевич, и без того охочий до работы, сегодня накинулся на нее, как голодный на краюху хлеба. …Доводка. Дмитрий Матвеевич любит эту операцию. Она последняя в ряду других. После доводки деталь обретает зеркальную поверхность, ту законченность, которая превращает ее чуть ли не в предмет искусства. Во всяком случае, для Примакова она что твоя скульптура, взгляд отдыхает, и сердце поет. Сначала над деталью потрудился шлифовщик. Потом машина отступила, доверив самую тонкую работу человеческим рукам. Дмитрий Матвеевич раскладывает на верстаке тонкую пасту ГОИ, пудру, кое-что добавляет, разводит все это в бензине и приступает. Движения у него легкие и плавные, такие, как у матери, пеленающей любимое дитя. Хотя под руками его не мягкая человечья плоть, а твердая металлическая поверхность, осторожность нужна великая. Стоит нажатьчуть сильнее, чем нужно, от трения возникнет избыточное тепло. Под его воздействием поверхность детали может покоробиться… Пуская в дело абразивные порошки, делает руками не более двенадцати — пятнадцати движений, после чего порошок сменяет на новый: прежний уже не годится. При этом внимательно следит, чтобы грубые, средние и тонкие порошки применялись в той последовательности, которая и может лишь обеспечить ожидаемый результат. Едва работа закончена, к верстаку спешит бригадир Борис Бубнов. Начинает тщательно измерять сошедшую с верстака Примакова деталь. Из-за его спины возникает, как всегда, сердитый начальник цеха Ежов. — Ну, что? — спрашивает он. — Высокий класс, — отвечает Бубнов. — Мог бы и не проверять, — бурчит Ежов. — Ну да, — говорит Бубнов, когда начальник цеха скрывается за углом. — Попробуй не проверь, он же первый голову снимет. Дмитрий Матвеевич довольно улыбается. Нет, не подводят его пока ни глаза, ни руки.___
Беда Примакова в том, что ни одной работы он не может выполнить спустя рукава, вполсилы. Уж если взялся, делает на совесть. Так устроен. Дома, в саду да в огороде, у Дмитрия Матвеевича как в Москве на ВДНХ. Всего вдоволь. Картошка поспела, от румяных яблок склоняются ветви, вишню снимать пора, черная и красная смородина обсыпала кусты. Завел несколько ульев, думал: дай попробую, ан получилось — спеши выбирать густой, янтарный мед. Дмитрий Матвеевич и его жена Дарья Степановна встают засветло, трудятся на участке не разгибая спины, а работы вроде бы и не убавляется, то одно поспевает, то другое. Но эта забота — не забота, радостно глядеть на плоды своего труда, радость эта и силу дает, да и не привыкать, не первый год у Примакова заводской труд идет рядом с крестьянским. И до сих пор не мешало одно другому, должно быть, потому, что силенок хватало, да и хозяйство поначалу было скромное, а потом вдруг стало расти, как на дрожжах. Дмитрий Матвеевич не раз говорил жене: куда столько? Для самих многовато — семья-то невелика: Дмитрий Матвеевич, жена и дочь. А куда остальное девать? Гноить в подвалах не хочется. Не само выросло. Не пропадать же добру? Вот Дарья Степановна и протоптала дорожку на базар. Нынче снова — просит починить весы, мелких гирек раздобыть, в кошелках дыры латает, белую марлю стирает и сушит, старые газеты собирает и на ровные части рвет, чтобы потом сворачивать из них аккуратные кульки. Примакову все это не по душе. Ему бы накричать на благоверную, стукнуть по столу кулаком, осадить, унять ее. Да не в характере Дмитрия Матвеевича командовать. Он что в цехе, что дома привык слушаться начальства, а дома начальство Дарья Степановна. — Все, хватит, на завод пора. — Примаков глядит на солнце, которое уже высоко поднялось, напоследок подбрасывает на лопате картофельные клубни, чтобы очистить от земли, а потом откидывает в сторону. Они скатываются с крутой кучи, выросшей на краю огорода. С силой вонзает сверкающее на солнце лезвие лопаты в мягкую землю, распрямляет затекшую спину. Дарья Степановна, будто не слышит мужа, продолжает руками выбирать из земли остатние картофелины. Ее тоже можно понять: муж на завод, а ей тут одной дотемна вкалывать. — Ну, я пошел, — виновато произносит Дмитрий Матвеевич и отправляется в дом. А там уже мечется, собираясь на работу, дочь Лина. В срамном виде, трусиках и бюстгальтере, выбегает из кухни, что-то гладит, что-то зашивает, взбивает у зеркала волосы, прыскает на них лаком, чем-то голубым красит веки, обводит губы помадой, потом долго и пристально смотрит на себя в зеркало. — Ты словно на бал, а не на работу снаряжаешься, — выговаривает дочери Дмитрий Матвеевич. — На работу как на праздник! — весело произносит дочь и набрасывает на вытянутые руки легкое платье. Оно шурша спускается вниз, обретая Линины формы. «Давно девке замуж пора, а женихов что-то не видно», — глядя на дочь, хмурится Дмитрий Матвеевич. — Ты скоро? — говорит он. — А то я уже выхожу. — Идем, только мне не на завод. Мне в краеведческий нужно. У них там огромный архив военных лет. Совершенно не разобранный. Хочу с директором поговорить, может, поделятся? А то что же это у нас за музей — голые стены да старые газеты. Нет, это музеем не назовешь! Эти слова дочь произносит таким голосом, будто всю жизнь только и делала, что заправляла музеями. А ведь музея пока на заводе нет, так — комната трудовой славы, и дочка при той комнате не поймешь кто. Сначала вроде хозяйкой была, ходила по заводоуправлению, в партком да в завком — добивалась, чтобы к одной комнатенке прибавили еще две. Потом в прораба превратилась — стала бегать по заводу, искать мастеров, требовать и уговаривать. Три комнатенки прямо-таки на глазах преобразились, маляры, столяры, художники ради заводской славы, а может быть, и ради красивых глаз новой хозяйки музея потрудились на совесть. А под конец Лина трудилась как поломойка, все очистила, отскребла до блеска, и вот у входа заблестела красивая вывеска с указанием времени работы — уже не комнаты, а музея. Да только двери в положенное время не открылись, остались на запоре. Потому что помещение и вывеска есть, а музея как такового нет. Несколько старых, покоробившихся от времени фотографий, какие-то грамоты, копии приказов, и все. Кто же на такие экспонаты любоваться пойдет? Надо раздобывать. Лина простилась с отцом на автобусной остановке. Ей налево — в краеведческий музей, отцу направо — на завод. По пути на завод Примаков завернул в почтовое отделение — выполнить святой долг, отослать энную сумму денег в деревню. Долг у него большой, деньгами не откупишься, да хоть что-то сделать, всё на душе полегче будет. Дарье спасибо: не мешает, более того, нет-нет да и напомнит: «Денег послал?» А кому посылать — ни слова, да и что зря языком-то молоть, знает Дмитрий Матвеевич, кому посылать и зачем. Иной раз рад бы позабыть, да нельзя. Почтовое отделение, однако, хотя и было открыто, переводов не принимало: кассирша отсутствовала. Примаков от досады даже сплюнул, да быстро успокоился, вспомнил: сегодня ему в шестнадцать тридцать в облдрамтеатр, по дороге и завернет на почту, отправит. Только-только к верстаку встал, шкафчик заветный с инструментом отворил, как бригадир Борис говорит: «Тебя начальник цеха звал». Дмитрий Матвеевич шкафчик снова на замок, хоть люди вокруг и свои, да лучше поберечься: инструмент целей будет. Сейчас ведь как: книгу у соседа взять да зачитать или штангенциркуль позаимствовать, да не отдать — большим грехом не считается. А куда мастер без инструмента? Начальник цеха Ежов сидел за обитой дерматином дверью в своем небольшом кабинетике. Дерматин в нескольких местах был порезан, из прорех торчала вата. Закрывая за собой дверь, Примаков подумал, что начальник сдал за последние годы. Волосы побелели, залысины поползли вверх, под глазами залегла нездоровая желтизна. Однако держался он все так же прямо, как и пятнадцать лет назад, и голос у него сохранился прежний — строгий и скрипучий. Не вырос в большие начальники, застрял в цехе. Почему, где причина — разве поймешь? Вон Беловежский десять лет назад на завод желторотым студентом пришел и попер, попер — вон уже директор! А он сам, Примаков? Вырос за эти годы или нет? Еще пару-тройку лет назад Дмитрий Матвеевич уверенно ответил бы на этот вопрос: да! Хотя он и оставался по-прежнему слесарем, однако круг его обязанностей серьезно расширился, отношение людей к нему становилось более уважительным, и было у него ощущение движения, роста. А вот в последнее время в душе возникло неясное беспокойство. Он жил так же, как прежде, был добросовестен и исполнителен, так же беспрекословно выполнял любое указание начальства — бригадира Бориса, начальника цеха Ежова, директора Громобоева. И в то же время что-то изменилось — не в нем самом, а вокруг него. Люди, продолжая по инерции оказывать ему уважение, в то же время вроде бы ждали от Примакова большего, нежели послушание и исполнительность. Может быть, четко выраженного отношения к тому, что происходит на заводе? К недостаткам? Может быть, просто хотели услышать от Примакова его собственное мнение? Дмитрий Матвеевич недоумевал, что произошло. То его личное мнение никого не интересовало (при совместных поездках в Москву Громобоев совал Примакову шпаргалки и коротко бросал: «Заучи!»), а теперь ему в рот смотрят: что скажет о том или об этом наш новатор Примаков? Дмитрий Матвеевич маялся, никак не мог отыскать нужную линию поведения, ускользала от него эта линия. Стоя перед начальником цеха, Примаков терпеливо ждал, что он скажет: — От главного технолога звонили… Со штампом что-то не ладится, просили Примакову поручить. Так что валяй старайся… Примаков почесал затылок, где под поредевшими волосами начинала проступать лысинка. — Не знаю, что и делать. Полпятого в облдрамтеатре велено быть. Новую пьесу будут обсуждать. — Пьесу? А ты-то при чем? — Я у них член худсовета. По кислому выражению лица начальника цеха Дмитрий Матвеевич понял, что ему давно уже надоели его частью отлучки, особое положение подчиненного, который вроде бы был в его власти и в то же время не был. Прежде, при Громобоеве, Ежов не давал выхода своему раздражению, а сейчас не сдержался. — У тебя в цехе дел невпроворот, а ты… — Да гори он огнем, этот театр! Мне-то он зачем! — в сердцах воскликнул Примаков. — Позвоните в партком и скажите: отставьте, мол, Примакова от театра, пусть слесарит. Он впервые в таком тоне заговорил с начальником цеха, ему хорошо было и боязно. — Ты чего это разорался, герой? — с удивлением воззрился на него Ежов. Дмитрий Матвеевич сказал с тоской: — Господи! Хорошо было при Громобоеве… Это делай, то не делай. Все ясно, все понятно. А сейчас… Ежов цепко сфотографировал его взглядом. — Никак, новый директор тебе не нравится? Я слыхал, скатал ты с ним в Москву, да зря, не понадобился. От неожиданности у Примакова руки упали вниз, повисли как плети. Не зря он волновался. Уже разнесли по заводу, черти. — Так мне в театр не идти? — спросил он слабым голосом. Ежов отвел глаза. — Иди… обсуждай пьесу… А не кончишь штамп, бригадиру передай. Он за тебя доделает. Начальник цеха выделил голосом слова «за тебя», или это только показалось расстроенному Примакову? — Да, кстати… Насчет бригадного подряда надумали? Или как? Дмитрий Матвеевич затушевался. — Я что… Разве я бригадир? Как все… Так и я. — Ты на других не кивай. Тебе многое дано, и спрос с тебя особый. Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Участок жил своей обычной суматошной жизнью. Слесари колдовали у своих верстаков, прилаживаясь, подбирая инструмент, обмозговывая, как сподручнее взяться за работу. В отличие от станочников, каждое движение которых было строго регламентировано технологией, заранее высчитано и взвешено, слесарей бригады Бориса Бубнова можно было считать чуть ли не людьми свободной профессии. Их обязанность заключалась в том, чтобы исправлять ошибки или недоработки других, сопрягая между собой детали, по той или иной причине не поддающиеся такому сопряжению. Здесь ценились индивидуальное мастерство, нешаблонный способ мышления, ловкость и сноровка… — Ты куда, Шерстков, собрался? А деталь зачем волочешь? — раздался громкий, переходящий в крик голос бригадира Бубнова. Еще недавно он был обычным слесарем, уравновешенным и покладистым человеком, а сделавшись бригадиром, вдруг замельтешил, занервничал, сбился с шагу и стал на себя не похож. И голос у него изменился, и повадки. — Куда, куда… На кудыкину гору! — дерзко отвечал Шерстков, явно выказывая неуважение к новоиспеченному бригадиру. — Ты что? Ах, ты так? Ну, погоди! Бубнов наливался злостью. Лицо его покраснело, в горле булькало, но нужных слов не находилось, изо рта вылетали только междометия и угрозы. — Чего горло рвешь, к фрезеровщикам я, — проговорил Шерстков. Он стоял перед бригадиром, прижимал к впалой груди огромную деталь. Казалось, еще мгновение, и Шерстков не удержит детали, многокилограммовая штуковина с грохотом обрушится вниз, отдавит ноги. Но Шерстков только казался слабаком. На самом деле в его тщедушном теле таилась цепкая сила. Примакову как-то пришлось увидеть Шерсткова в драке, это было в поселке. И он подивился железной крепости его мускулов, взвешенной рассчитанности движений. Да и в работе проявлялась его сила, но редко, лишь тогда, когда он переставал валять дурака и брался за дело. Тогда дело спорилось в его худых руках, в такие минуты на него приятно было смотреть. — Зачем тебе к фрезеровщикам? Что ты там позабыл? — бригадир смотрел на Шерсткова с такой злостью, что, казалось, — еще мгновение, и он вцепится ему в горло с выступающим кадыком, поросшее черными, не выбритыми в утренней спешке волосами. — Разве так фрезеруют? — с неожиданным спокойствием объяснил Шерстков. — Вон они какие припуска оставили! А я что, нанялся вручную шабрить? Пусть снимут пару десятых, тогда дело веселей пойдет. — Ишь, веселья захотелось! Ступай на место и делай, что велено, — выкрикнул Борис. — А то рапорт напишу, и катись на все стороны! — Пиши Емеля, твоя неделя. — Шерстков повернулся и поволок куда-то свою деталь. — Ну что с ним будешь делать? Ты бы, Примаков, хотя бы слово сказал. А то стоишь, молчишь. Второй раз за короткое время Дмитрия Матвеевича упрекнули за безучастность. — Да я что? Разве он меня послушает? Не гоношись, Борис. Походит, язык почешет и вернется. Куда он денется? — Нет! Хватит. Пока Шерсткова не устранят, на бригадный подряд переходить не будем. Не будем, и все. Баста! Дураков нет за лодырей ишачить! — с жаром проговорил бригадир. «Значит, о переходе на бригадный подряд Ежов с Борисом уже говорил. Ну и хорошо. Они начальство, им и решать», — подумал про себя Примаков. В глубине души он согласен был с бригадиром: на общий котел хорошо работать тогда, когда каждый вносит в этот самый котел равновеликий вклад. А если двое с плошкой, а семеро с ложкой, то где же здесь справедливость? С запоздалым сожалением подумал: надо было сказать об этом Ежову. Почему смолчал? Однако пора браться за штамп. Примаков закрепил деталь в тисках, схватил напильник… Работа спорилась. Руки сами делали свое дело, металлическая пыль слетала на верстак, бок детали блестел, отражая чудом проникший в цех через пыльную фрамугу солнечный луч. Примаков морщил лоб, щурил глаз — «ловил микроны». Ему было хорошо и весело работать. Даже не заметил, как наступил перерыв. Дмитрий Матвеевич развернул сверток с обедом. Однако не успел затолкать в рот остатки вчерашнего пирога с капустой да запить кефиром, как спохватился: опаздывает на собрание овощеводов. Он, скомкав, выбросил газету из-под пирога в урну и отправился в красный уголок. Там уже полно набилось народу. Лица у всех собравшихся как на подбор были обветренные, загорелые до черноты, этих людей объединяла общая страсть — в свободное от работы на заводе время копаться в земле. Первое слово предоставили Примакову. Он с увлечением начал рассказывать о своем опыте выращивания картофеля. Кажется, картофель — он картофель и есть, не первую сотню лет в России растет, какие тут могут быть секреты, сунул в землю клубень и жди урожая. Однако Примакову удалось удивить народ. В погребе на стеллажах он проращивает картофель, пока не образуются ростки в восемь — десять сантиметров. Их-то и высаживают в лунки. — Не дело затеял, — ворчала жена Дарья Степановна. — Умней других хочешь быть? Это тебе не помидоры, чтобы от ростка пошли… Тут клубень надо сажать или на худой конец глазок. Но Примаков молча делал свое дело — почему и не попробовать. Ну, пропадет грядка-другая, не велик урон. И вот теперь, в конце лета, оказалось, что урожай картофеля на опытных грядках оказался в четыре раза выше, чем на остальных, где посадку Дарья Степановна вела обычным способом! Послышались голоса: «Вот это да!», «Ну и Примаков!», «А не заливает ли он?», «Надо будет попробовать, чем черт не шутит». Дмитрий Матвеевич на трибуне отер платком мокрый лоб, вон сколько выступать приходится последний десяток лет, а все никак не привыкнет — слова на язык идут какие-то не те, казенные, корявые, семь потов сойдет, пока речь держишь. Нет, не его это дело — витийствовать, вот за верстаком или с лопатой в огороде — там он царь и бог. Посыпались вопросы: — Какие сорта картофеля брал? — Лорх, Прокульский ранний, Волжанин… — Лунки поливать надо или как? — Поливать, обязательно поливать… При этом высаживать в почву при такой же температуре, при которой ростки… того-етого… проросли, то есть порядка десяти градусов. — В пересчете на гектар сколько картофеля получил? — Восемьсот центнеров. — Ого! Стали расходиться. В дверях Примаков столкнулся с Шерстковым. Этому, видать, и тут есть забота, всякой бочке затычка. — А ты чего здесь делаешь, Шерстков? У тебя же участка нет. Ты в домино, того-етого, урожай собираешь. Шерстков едко улыбнулся: — Хочу послушать, как куркули деньгу зашибают. Может, и сам начну. Ты почем картофель продавать на базаре будешь? Может, для своих скостишь немного? Примаков сдвинул брови. Вот вредный мужик. На больную мозоль наступил. — Ты бы язык-то попридержал, Шерстков. Лучше работой займись. На тебя Борис давно зуб точит. Выставят из бригады, как пить дать, выставят. Шерстков взвился: — Это мы еще посмотрим… кто кого! В этой голове такие идеи зреют! — Он стукнул себя согнутым пальцем по выпуклому, как у младенца, лбу. Звук получился такой, как будто он вколотил в покрытый клеенкой стол костяшку домино. …Дмитрию Матвеевичу хотелось самому «довести» штамп, чтобы не оставлять на доделку Борису. Но обнаружил, что опаздывает в театр. Побежал в кабинет начальника цеха (того на месте не оказалось), позвонил Лысенкову. Так, мол, и так. Заработался и вот срываю важное общественное дело. В театре ждут не дождутся представителя славного рабочего класса Примакова, а он еще и в путь не тронулся. — Выручу! Подгребай, — ответил завгар. Дмитрий Матвеевич близко познакомился с Лысенковым несколько лет назад. Партком возложил на Примакова ответственность за выезд шефской бригады в колхоз, расположенный в деревне Соленые Ключи. Лысенков по каким-то причинам сам выехать в колхоз не смог. Однако на каждую просьбу Примакова откликался охотно, выручал. Как-то раз он сказал слесарю: — Для меня начальство знаешь кто? Директор, секретарь парткома, председатель завкома и ты, Примаков, представитель рабочего коллектива, так сказать, первый номер. Тебе отказа, Матвеич, ни в чем не будет. Примаков покинул цех, отправился в гараж, отыскал Лысенкова. Тот вышел из-за стола, крепко пожал гостю руку: — Я слыхал, Матвеич, у тебя на приусадебном рекордные урожаи? — спросил он. — Да какие там рекорды… того-етого… Всего понемножку. Для дома, для семьи. — Однако и для продажи небось немало останется, — понимающе улыбнулся Лысенков. — Где продавать будешь? Здесь, на базаре? Примаков вздохнул. Казалось, завгар угадал его мысли. Как до реализации продукции доходит, так у Примакова на сердце кошки скребут. — Что делать, не знаю. Предлагал детсаду — не берут. Наличными платить нельзя и бесплатно — не положено. А на базар стыдно. Того и гляди, на весь город ославят. — Могу выручить. — А как? — заинтересовался Дмитрий Матвеевич. — У меня машины куда только не бегают. Отвезешь в соседний город и отдашь оптом, я скажу кому. Лишние деньги рабочему человеку не помешают. — Еще бы! У меня дочь невеста, приданое надо готовить, жена все уши прожужжала. — Выручу, выручу… — попыхивал сигареткой Лысенков. — Почему не помочь хорошему человеку? Как дочь-то у тебя? Не нагулялась еще? Хорошая девица. Но только замуж ей пора, а то испортится. Муж нужен солидный, в годах, молодой ее не удержит. Бедовая! На что прост Примаков, а догадался: не зря он о Линке заговорил. Неужто он, козел старый, и впрямь надумал… — Да разве нас, стариков, дети спрашивают, за кого замуж выходить, — выдохнул он. — Наше дело накормить, одеть, обиходить. А свои вопросы они сами решать будут. Родители у них дураки, а сами они умные, десять классов за плечами. — А ты с нею построже, построже… Кстати, хочешь взять для дочки японский платок? Белый с красными цветами и блестками. Достался по случаю. — А цена какая? — Мелочь. Тридцать рублей. — Тридцать рублей-то мелочь? — Тогда бери без денег. Свои люди — сочтемся… — Нет. Без денег не возьму, — твердо ответил Примаков. В театр Дмитрия Матвеевича по распоряжению завгара отвез на директорской «Волге» новый шофер Игорь Коробов. Тот самый парень, что вступился за Лину во время неприятного происшествия в вагоне-ресторане.___
— Ну, мать, принимай гостей. Будем чай с бубликами пить. Я горяченьких в театральном буфете прихватил. А дочь где? Лина! Гляди, кого я привел! Игорь Коробов не только в театр отвез Примакова, он еще предложил Дмитрию Матвеевичу заехать за ним через пару часиков и доставить домой. Тот согласился. И зазвал Игоря в гости. По дороге сделали остановку у почтового отделения. Дмитрий Матвеевич отослал сорок рублей в деревню Соленые Ключи и теперь испытывал душевное облегчение. — Мой руки, Игорь, вон там на кухне… Проходи, садись… Сейчас перекусим. Дочка! Где ты прячешься, выходи! Жених пришел! Слово «жених» у Дмитрия Матвеевича случайно с языка сорвалось. А уж после в голову ударило: а может, и впрямь это дочкина судьба? Коробов — парень видный, красивый, и должность неплохая — шофер директора. Чем Линке не пара? Упоминание о женихе на присутствующих произвело сильное действие. Дарья Степановна забегала побыстрее, стала на стол метать и копченья и соленья и заветную бутылочку посередке поставила, забыв, что гость — шофер, при машине и пить не может. Игорь, которого публично хозяин дома окрестил «женихом», покраснел, застеснялся. А Лина, если у нее до этого и было теплое чувство к Игорю, теперь из-за отцовского словца тотчас же его спрятала, надулась как мышь на крупу. Отошла к дивану, уселась в углу и стала равнодушно смотреть в окно. Нечего делать, пришлось Игорю завязать разговор с самим хозяином. — Интересно, должно быть, в театре? — проговорил он. Дмитрий Матвеевич оживился. — Да, театр — это такая штука… Того-етого… Особенно когда спектаклей нет. Смотришь и не веришь: театр ли это… или еще что. Примакову надолго запомнилось его первое посещение театра в качестве члена худсовета. Вошел с черного хода, поднялся по узкой выщербленной лестнице, напомнившей ему другую лестницу — соединявшую на заводе инструментальный цех с механическим. Прошел темным коридором. Вышел в фойе. На стенах неярко светились забранные в стекло портреты актеров. Пахло пылью и истлевшим бархатом. Дмитрий Матвеевич удивился. Он недавно был в театре по бесплатному билету, выделенному завкомом. От того посещения в нем осталось ощущение праздника. Ослепительное сверкание хрустальных люстр, запах духов, шуршание шелковых платьев, журчание приглушаемых возбужденных голосов. Театр показался ему сказочным дворцом, созданным для веселья и радости. А тут… Старая, замшелая громада. Оказывается, торжественная парадность, таинственная сказочность не были присущи театру сами по себе, их привносили в это здание люди — актеры и зрители. Без них тут все было темно и глухо. Да разве только театр держится людьми? А завод? Везде люди — главное. Вот о чем думал, что хотел, но не умел передать Игорю Коробову Примаков. И вместо всего этого сказал: — Я тебе… того-етого… контрамарку принесу. То есть бесплатный билет. Сам увидишь. Мне главреж, лысый такой, с кудрями, говорит: вы, Дмитрий Матвеевич, не стесняйтесь, просите контрамарки, отказу не будет… Заседание худсовета — это когда чай пьют из самовара с горячими бубликами и разговоры разговаривают. Вот я и прихватил у буфетчика с десяток бубликов. Сейчас с ними чай пить будем. — А вас-то зачем приглашают? — спросил Игорь. — Я у них почетный член от завода. Читают пьесу, потом меня спрашивают: ну, как, мол? А я отвечаю: а что ж, по-моему, пьеса как пьеса, замечание вставлю. Так, говорю, в жизни редко бывает, чтоб рабочий от премии отказался. Наш Шерстков, например, черта с два откажется! — А они? — Смеются, а потом объясняют… — А сегодня какую пьесу обсуждали? — Про войну. Тут Лина вступает в разговор. — Пап, а пап… Как там помреж Сапожков? Еще не выгнали? Примаков закашлялся от смущения, вот девка непутевая. Не могла другого времени выбрать, чтоб поинтересоваться своим бывшим ухажером. Обязательно надо при Игоре Коробове свой дурацкий вопрос задавать! Но делать нечего, отвечает: — В актеры подался. Будет в новой пьесе изображать однорукого инвалида. Добрая душа, мил человек. Всем и каждому того… помогает. — Это Сапожков-то — добрая душа? — зашлась в нервном смехе Лина. Отсмеявшись, вытерла слезы с глаз и спросила: — Однорукого, говоришь? А куда же он, папа, вторую руку денет? Примаков пожал плечами. — Не знаю, может, привяжут да спрячут. Они там в театре и не такое делают. Не оплошают. Ты за них не беспокойся. Игорь сидел за столом, накрытым пахучей пестрой клеенкой — красные розы и зеленые листья на сером фоне, пил крепкий чай, похрустывал бубликом с маком и оглядывал скромное примаковское жилище. Громко тикали ходики на стене, с телевизора на экран углом свисала вязаная салфетка, на стене висела старая театральная афиша с изображением здания гордрамтеатра (под набранным крупным шрифтом названием спектакля «Бесприданница» в длинном списке участников была красным карандашом подчеркнута фамилия помрежа А. Сапожкова). Рядом — прикнопленная фотография молодого Примакова, снятого в солдатской форме на фоне развалин. Деревянная пластина с выжженным на ней рисунком — девушка и парень разгуливают в обнимку. Примаков принялся во весь голос нахваливать Игоря Коробова, напомнил о его геройском поведении в поезде. Тут Лина вроде бы очнулась от владевшего ею оцепенения, лукаво взглянула на гостя. Игорь повеселел. — Ты что ж не переоделась? — попенял дочери отец. Лина, как была в момент прихода Игоря в старом ситцевом сарафанчике, так и осталась. Впрочем, он шел ей. Девушка выглядела по-домашнему простой и милой. Дмитрий Матвеевич продолжал расхваливать гостя. — Игорь — молодец. Шофер первого класса! Машину водит как бог! На директорской быстро домчал, с ветерком! Лина поинтересовалась: — А директор где? Не заболел ли? Дмитрий Матвеевич снова подосадовал: у, бесстыдница, мало ей актера, теперь вот не удержалась, про директора слово вставила. Неужто в ходивших по заводу слухах и впрямь есть доля правды? — Роман Петрович сегодня в областном центре, — ответил Игорь. — А он с женой поехал или один? Отец не удержался, крякнул. — А тебе-то что? С женой или как? — С женой. Лина передернула плечиками: — Красивая женщина. Правда, Игорь? Вы бы взяли и влюбили ее в себя. — Я не за тем сюда приехал, чтобы чужих жен в себя влюблять. — Ответ прозвучал резко. Лина смутилась, замолчала. Дмитрий Матвеевич постарался перевести разговор на другую тему: — Каким ветром занесло в наши края? — Хочу могилу деда отыскать. Он в этих местах воевал. — А где именно? — Один человек написал: мол, погиб у шоссе, километрах в семи от деревни Соленые Ключи. — Соленые Ключи? — с удивлением переспросил Дмитрий Матвеевич. — Да. — Пойдем-ка, парень, выйдем, посмолим на крыльце. На воле было хорошо. Дневная жара спала, из сада несло ароматами поспевших фруктов. — Вот что, парень, — после долгого молчания произнес Дмитрий Матвеевич. — Я на днях собираюсь завернуть в Соленые Ключи. Дело одно там у меня есть. Может, вместе махнем? — Очень хорошо! — обрадовался Игорь. Он увидел в предложении Примакова доброе предзнаменование. Если дело и дальше так пойдет, то он быстро докопается до тайны гибели деда. — Вы что здесь шепчетесь? — послышался Линин голос. — Пап, иди в дом, мама зовет. Игорь и Лина спустились с крыльца. Было темно и тихо. Только в дальнем углу участка в сараюшках похрюкивали, готовясь отойти ко сну, свиньи и хлопали крыльями, устраиваясь на насесте, куры. Сильно пахло жасмином. Они обогнули дом по тропинке и вышли в палисадник, отгораживающий фасад от улицы. Впереди, за штакетником, маячил темный силуэт директорской «Волги». Сели на лавочку, еще хранившую дневное тепло. — Вы когда-нибудь любили? — тихо, как в отдалении, прозвучал голос Лины. — Я? Да… То есть был женат. — Развелись? — Так случилось… — ему почему-то захотелось объяснить этой незнакомой девушке, а может быть, и самому себе, как так получилось, что он и Юлька, красивая, добрая и вроде бы привязанная к нему девчонка, вдруг оказались чужими друг другу и разошлись. Но Лине, видимо, хотелось выговориться самой. — Вы лучше вот что скажите… можно любить человека, прекрасно зная, что ты никогда… заметьте, никогда не будешь с ним вместе? — Любить всякого можно! Недаром говорят, любовь зла — полюбишь и козла. — Господи, дался вам этот козел! — с досадой проговорила Лина, откусила травинку, которую вертела у лица, и откинула в сторону. Помолчали. Потом Лина спросила: — Вы где, при клубе живете? — Точно. В комнате для приезжих. — А зеркало в золоченой раме — цело? — Цело. И одеяло шелковое стеганое, голубое. Домашнее. Как оно туда попало? Лина резко переменила тему: — А как фамилия вашего деда? — Коробов. — Может быть, мне удастся вам помочь. — Каким образом? — Я работаю в заводском музее. Сейчас там пока ничего нет, только одни голые стены. Я получила разрешение отобрать в архиве краеведческого музея материалы, которые касаются мирных и ратных дел коллектива завода. Вдруг что-нибудь встретится? — Спасибо. — Игорь был растроган. Порыв ветра донес от набегавшейся за день «Волги» запах гари. Игорь подумал, что присутствие машины мешает, как будто кроме него и Лины здесь был кто-то третий. — Вы когда поедете директора встречать? — спросила Лина. — Он приезжает завтра. В восемь. — Ну, тогда вам спать пора! — она хохотнула и вскочила с лавки. На какое-то мгновение Лина оказалась перед Игорем, и он, не отдавая отчета, что и зачем делает, вдруг притянул девушку к себе. От неожиданности Лина ойкнула, но не вырвалась сразу, а как бы даже наоборот, сделала движение навстречу. Но спохватилась, уперлась в плечи Игоря руками и отодвинулась. — Расплата за подвиг в вагоне-ресторане? Злости в голосе ее не было. Игорь встал, оперся рукой о штакетник, одним махом перенес через него свое тело и направился к «Волге». На душе у него было и тревожно и радостно.КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
Машина вышла из города, миновала пригородные поселки с маленькими одно-двухэтажными домиками, утопающими в садах, и двинулась по берегу моря вдоль железнодорожной ветки — к заводу. До завода еще было сравнительно далеко, минут пятнадцать хода, но он уже был виден на покатом, спускавшемся к морю берегу. Сначала на фоне серого неба и бегущих облаков проступили, как водится, заводские трубы, словно мощные перископы, выброшенные с грешной земли в иные сферы, чтобы там, на границе атмосферы и космоса, углядеть нечто такое, чего не видно было с земли. Беловежский тотчас же усмехнулся этому неожиданно возникшему образу. Уж кто-кто, а он-то хорошо знал: никакие это не перископы, а не что иное, как кирпичные желоба, по которым в атмосферу, причем не дальнюю, а ближнюю, отводились ненужные заводу продукты сгорания. Беда заключалась в том, что продукты эти не нужны были не только заводу, но и всем остальным тоже — городу, населявшим его людям, небу и воздуху, морю, траве и деревьям. И надо было — быстро, не откладывая, изыскать средства для создания фильтров, которые смогут очистить выбросы, превратить их в светлый безобидный дымок… И все-таки, что ни говори, а стройные трубы с белыми дымками над ними выглядели красиво. Дорога вывела на бугор. И вмиг открылась широкая панорама завода. Казавшееся хаотичным новичку-шоферу, но понятное в своей строгой обусловленности Беловежскому нагромождение разнокалиберных и разноцветных цеховых корпусов, складских строений, административных зданий. Всё это — жило, действовало. Слышался монотонный, ровный шум множества работающих механизмов. В утреннем воздухе разносились хриплые гудки маневрового паровозика — «кукушки». Время от времени раздавались и другие звуки — рассыпчатый звон сброшенных с платформ труб, свистящий выброс пара, грохот и лязганье. Романа Петровича кольнула неприятная мысль — вот его не было, а завод продолжал жить и работать как ни в чем не бывало. А нужен ли ему он, директор Беловежский? И если нужен, то в какой степени? «Не был бы нужен — не назначили бы», — попытался успокоить себя Роман Петрович. Но тотчас же, справедливости ради, должен был признать: случайность. Поведи себя главный инженер Хрупов по-другому, быть бы ему директором, а не Беловежскому.___
Еще недавно начальник производства Беловежский и главный инженер Хрупов жили на одной лестничной клетке в доме молодых специалистов, где занимали крошечные однокомнатные квартирки. В этом доме они обитали не по причине молодости, а потому, что оба были одиноки. В отличие от Беловежского, давно подумывавшего о женитьбе, Хрупов одиночеством не тяготился. В груди Николая Григорьевича пылала одна-единственная страсть — к НТР. Горящие глаза в запавших глазницах, казалось, ничего не искали в настоящем, они провидели будущее. Перед мысленным взором Хрупова вставали города-гиганты, колоссальные заводы-автоматы, самостоятельно, без участия человека, производившие все необходимое для других заводов, ну и, конечно, для человеческой жизни тоже. По сравнению с прекрасным будущим настоящее, вернее все то, что окружало Хрупова на вверенном ему заводе, терзало и мучило его душу. Вся эта сумятица, бестолковщина, работа «на авось», очень часто — без заранее подсчитанной выгоды и с непредсказуемыми расходами, кустарщина, засилье ручных операций, когда человек по собственной глупости, из-за простого нежелания думать и придумывать берет на себя тяготы и грязь труда, вместо того чтобы передать его машинам, — все это бесило главного инженера. Не одного его, конечно, многим недостатки бросались в глаза, но никто не выражал своего возмущения так темпераментно и так открыто, как главный инженер. При этом его возмущение отнюдь не было адресовано в никуда, так сказать, в безвоздушное пространство. Хрупов видел перед собой конкретного противника, виновника всего того, что было на заводе нехорошего. То был непосредственный начальник Хрупова директор Григорий Аристархович Громобоев. Вот идет заводское собрание. Громобоев, седовласый, спокойный, с улыбкой на полных губах, сидит в президиуме. А на трибуну выходит главный инженер — худой, темнолицый, нечесаный и небритый. Без галстука, ворот распахнут, одного уголка воротничка рубашки не видно, нырнул под пиджак, другой торчком, мятый-премятый, корова его жевала, что ли? Один вид Хрупова вызывает оживление в зале. По залу шепоток: «Ну, сейчас начнется. Задаст директору жару». И задает. А что директор? А ничего. Он все так же спокоен и благодушен. Видно, что пламенные речи главного инженера, обвиняющего его в забвении вопросов перспективного развития завода, для Громобоева вроде надоедливого жужжания комара. Если Хрупов слишком уж разойдется, директор сдвинет густые седые брови, скажет: «А ведь это ваши вопросы, товарищ главный. Почему же они не решаются? Ох-хо-хо… Видно, речи легче произносить, чем вопросы решать». В зале — смех. Хрупов же гнет свое. — Как явствует из отчета консультативной фирмы «Буз, Аллен и Гамильтон», — гудит он, — чистая экономия за счет автоматизации управленческого труда дает в год более одного миллиарда прибыли. — Кому дает? — спрашивает директор из президиума. Хрупов спотыкается: — Чего дает? — Прибыли. — А я разве не сказал? Америке, конечно… — Жаль, что не нам, — с сожалением произносит директор. — А то ведь сколько мы убили денег на ваше АСУ, товарищ Хрупов? — Двести тысяч… — А прибыль какую получили? — Пока еще нет, но… — Нет, вот видите. Нагорит нам за такую автоматизацию, и никакой Буз с Гамильтоном не помогут. И снова в зале хохот. Людям нравится смелый и честный Хрупов, режущий директору в глаза правду-матку. Но и к Громобоеву люди не чувствуют неприязни. Все понимают: у директора план на плечах. Завод уже десяток лет не выходит из передовых по отрасли, и во многом — это его заслуга. И держится хорошо, демократично. Когда кто-то вылез с предложением построить у моря коттеджи для руководства, он первый воспротивился. Потребовал вложить средства в Дворец пионеров. И вложили. Хороший мужик, жаль только, годы берут свое. Скоро уж и на пенсию. Видно, придется старику уступить место Хрупову. Что тогда будет? Неясно. Публичные перепалки, как ни странно, вовсе не влияли на служебные отношения директора и главного инженера. И тут заслуга Громобоева. Как-то раз, когда после очередной драки на партактиве Хрупов вошел в кабинет насупленный, мрачнее тучи, директор ему и скажи: — Ты что? Никак, дуться на меня вздумал? Этак ты со мной скоро, пожалуй, здороваться перестанешь… А как же тогда работа? Ты меня не любишь? Ну и что из того? Я не девка, чтоб меня любить. Конфликты у нас не личные, а производственные, творческие. Они должны идти на пользу делу, а не мешать. А кто прав, кто виноват — время рассудит. А если понадобится, то и горком. Так что кончай дуться, садись, гостем будешь. Сейчас велю чайку с лимоном принести. Ты любишь чай с лимоном? Громобоев не жалел, что в свое время выдвинул Хрупова в главные. Мужик энергичный, с головой. Подкованный технически, а что вести себя не умеет, на него, директора, при всех кидается — это директора мало беспокоит. Яростные наскоки Хрупова даже приносят Громобоеву известную пользу. Они показывают всем и каждому, что техническая мысль на заводе не только не дремлет, а наоборот — прямо-таки бьет ключом, что поседевший в директорах Громобоев не забурел, не отгородился от критики, не потерял контакта с более молодыми и, что греха таить, более грамотными в техническом отношении инженерами, а вместе с ними, так сказать, в одной упряжке тащит дело вперед. Известие, что Громобоева прямо из кабинета увезли на «скорой», произвело на заводе впечатление разорвавшейся бомбы. Дело в том, что, хотя директору уже было под семьдесят, он никогда не болел, даже отпуск не использовал до конца, выходил на работу раньше срока. Он казался вечным, как море, что плескалось неподалеку от заводских корпусов, как город, основанный еще Петром Первым. Как сам завод. И вдруг — непонятная слабость, головокружение, тошнота… Громобоев попал в больницу, а его место занял Николай Григорьевич Хрупов. Шла подготовка к собранию заводского актива, где главный инженер должен был доложить комплексный план автоматизации управления производством. План этот рождался в муках. Созданная Хруповым специальная группа молодых инженеров работала днем и ночью, но до завершения, до конечной цели было еще далеко. Хрупов это понимал, но успокаивал себя: да и есть ли она, эта самая конечная цель вообще? Заводская АСУ — это не конечная цель, скорее — промежуточная. Не вершина горы, а перевал, откуда откроется вид на другие горизонты. Такие, от которых дух захватывает. Поэтому, готовясь к собранию, Хрупов решил не ограничивать себя сиюминутными делами, а замахнуться на XXI век, так шумнуть, чтобы во всей округе слышно было. Осторожный Беловежский предупреждал его: «А может, не стоит спешить?» — «Да иди ты, знаешь куда, — отвечал ему Хрупов. — То Громобоев меня пугал, генерала де Голля в пример ставил. Мол, тот изрек: «Искусство управлять — это не искусство решать проблемы, а искусство жить вместе с ними». Теперь ты к осторожности призываешь. Надоело. Если не сейчас во весь голос сказать, так когда же?» На трибуну Хрупов поднялся мрачный, решительный. — Если несколько лет назад американские компании вкладывали в производство вычислительных машин три-четыре процента всех капиталовложений, то сейчас — двенадцать — пятнадцать. Специалистов в области программирования и анализа там пруд пруди — свыше двухсот тысяч, тоже денежек стоит. К чему все эти затраты? Уж будьте уверены — капиталисты не дураки, денег на ветер бросать не будут. Уж если доллар истратили, значит, рассчитывают получить три или пять долларов прибыли. А у нас на заводе? Прихожу как-то к Громобоеву денег просить на АСУ, говорю: без денег проблем автоматизации не решить. И что слышу в ответ? — Хрупов сделал паузу. — «А ты знаешь, — отвечает, — что генерал де Голль о проблемах сказал?..» Уже произнося фразу про генерала де Голля, Хрупов понял, что допустил ошибку, по наступившей внезапно в зале тяжелой тишине понял. Народ любил Громобоева, каждый по-своему переживал его уход, и неуважительные слова главного инженера по адресу заболевшего директора, сказанные заглазно, произвели плохое впечатление. Хрупов спохватился, да поздно. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. …Через месяц Громобоев вновь появился на заводе. Осунувшийся, похудевший, в спадающем с плеч, ставшем слишком просторным пиджаке, он прошел сквозь пустую приемную в директорский кабинет. Хрупов поднял голову от бумаг, замер, не зная, что делать — вскакивать или продолжать сидеть на месте. Остался на месте. — Что ж ты один, как сыч, сидишь?.. В приемной — ни души. Народ к тебе не идет. Всех уже распугал? Хрупов насупился. Хриплым голосом ответил: — Не распугал, а рассортировал. — То есть? — Кого к замам направил, кого в бухгалтерию, кого в завком… Каждый должен нести свой чемодан. А к директору — только в крайних случаях. — Ишь ты, хитер. А сам сложа руки сидишь? — Мне и без этого работы хватает. Я говорильней не люблю заниматься. Громобоев усмехнулся: — А я слышал, любишь. Ну да ладно… Хрупов вышел из-за стола, уступил старику место. Громобоев опустился в кресло, вытер платком пот со лба: — Я еще на бюллетене. Зашел посмотреть, как вы тут… — Вам, наверное, доброхоты уже порассказали? — Не скрою: информация идет полным ходом. Мой тебе совет: не ломай старых порядков. Их не дураки заводили. Как бы ни пришлосьпотом назад грести… на смех людям. Хрупов пожал плечами: — Завод не костюм. Под себя подгонять не годится. Однако и на месте топтаться не буду. Все старое, отжившее — на слом! На свалку! — Значит, и меня на слом? — грустно произнес Громобоев. — Я ведь старый. Дела-то мои не очень хороши, Хрупов. Видишь, костюм как на вешалке болтается. Похудел на десять килограммов. Вот не знаю: перешивать или ждать, пока снова свои килограммы наберу? Как ты думаешь? — Думаю, снова наберете, — выдавил из себя Хрупов. — Без убеждения говоришь. Должно быть, не веришь. Если б верил, про французского генерала на партактиве не брякнул бы. Однако рано ты меня списал. Меня тут один старичок травкой пользует. Обещает за три месяца на ноги поставить. Правда, за три месяца ты тут много дров наломаешь. Невыдержанный ты, Хрупов. К цели идешь напролом. Людей в дугу гнешь, они от тебя стонут. А ведь это — люди, а не железки, понимать надо… Хрупов встал со стула и к двери. — Извините, мне в цех пора. Громобоев же, выйдя из заводоуправления, замотал горло шарфом, надел пальто с шапкой, сел в машину и доехал до горкома. Прошел без доклада в кабинет прямо к первому секретарю. О чем они там беседовали, неизвестно, но только вскоре беспроволочный телеграф принес на завод новую весть: Хрупову директором не бывать. А будет командовать заводом начальник производства Роман Петрович Беловежский. Народ удивился — уж больно молод, сорока нет. Но порадовался: молодой, да свой. К людям уважителен, если кто провинится, так жжет его глазами, не костит его почем зря при всех, как Хрупов, а наставляет на путь истинный спокойно и терпеливо, можно даже сказать, благожелательно. А годы… Что годы? Дело наживное. Старичок, пользовавший Громобоева травками, свое обещание — поставить его на ноги, не сдержал. Громобоев на завод не вернулся. И стал во главе завода Роман Петрович Беловежский.___
Утверждение Беловежского в новой должности прошло довольно гладко. Посетовали на молодость, подчеркнули, что назначение это — аванс, который ему еще предстоит оправдать в будущем. Напутствовали. — Надо помнить, — сказал министр, — что научно-техническая революция — это не новая техника, хотя и она тоже, но прежде всего новый тип мышления. Чем скорее вы это поймете, тем лучше будете работать. Романа Петровича строгие наставления не обидели и не огорчили. Он знал, что молод еще для директорской должности, и готов был выслушать любые нотации, наставления. Огорчил его, даже можно сказать обескуражил, состоявшийся сразу же после коллегии разговор с и. о. начальника главка Александром Александровичем Трушиным, которого Громобоев охарактеризовал ему как своего старого знакомого, доброжелательно настроенного и к нему самому, и к привольскому заводу. Однако неожиданно для Беловежского Сан Саныч, как называл Трушина Громобоев, начал разговор с обвинений в слабом росте производительности труда. — Крутитесь вокруг контрольной цифры, как вокруг своего хвоста, а вперед не идете. Трушин был неприятно удивлен, когда вместо старого друга, солидного и обходительного Громобоева, в кабинет вошел невидный, простоватый молодой мужик и представился в качестве директора привольского завода. Если бы он хоть немного робел, тушевался, чувствовал свою неопытность и искал помощи, покровительства у Трушина, то, может быть, тот и дрогнул бы, скрепя сердце принял бы под свою руку нового подчиненного. Но этот Беловежский хотя и держался подчеркнуто скромно, однако видно было, что цену себе знает. Глаза его смотрели уверенно, плечи расправлены, а голос звучал по-директорски твердо. Трушину он не понравился. Даже пожалел, что по болезни не встретился с Беловежским до коллегии, может, еще и успел бы под каким-нибудь предлогом отвести его кандидатуру. А теперь поздно. Выслушав замечания Трушина, Беловежский сказал: — Вы нас справедливо критикуете за то, что мы вертимся вокруг контрольной цифры. А почему вертимся? Да потому, что нам невыгодно идти дальше! Еще не успели первые фразы достигнуть маленьких, хрящеватых, прижатых, как у породистой гончей, ушей хозяина кабинета, как Роман Петрович понял: и. о. начальника главка его не поймет. По инерции он продолжал свою речь, доставал из хлорвиниловой папки шуршащие листы отчетов, справок, докладных, теряя скрепки, с трудом удерживая в одеревеневших пальцах разлетающиеся листки, но все было напрасно. Стало ясно: что бы он ни сделал и что бы ни сказал, ему не преодолеть холодной неприязни, которую источал Трушин… По отношению к нему, Беловежскому? Или по отношению к тому, что он говорил? Упавшим голосом, монотонно и нудно, Роман Петрович доказывал неэффективность предпринятой главком попытки стимулировать рост производительности труда. Трушин разжал слипшиеся от неприязни к собеседнику губы и процедил: — Говорите только о своем заводе. Вас ведь, кажется, утвердили пока еще директором, а не начальником главка. Беловежский покраснел. Он не ожидал, что Трушин решится на прямую грубость. Пропустил бестактное замечание мимо ушей. Продолжал гнуть свое: — Однако стимул не срабатывает. А почему? Да потому, что существует другое правило: если рост зарплаты обгоняет рост производительности труда, то все выплаты из фонда материального поощрения прекращаются. Сложилась странная ситуация: средства для стимулирования роста производительности труда дают, однако использовать их нельзя. Почему? Потому что производительность труда растет слишком медленно. Замкнутый круг. Трушин отвернулся от Беловежского и устремил отсутствующий взгляд на стену, украшенную огромной диаграммой. На диаграмме жирная красная линия упрямо лезла вверх. Если бы не ограниченность ватманского листа, то она достигла бы потолка и, проткнув его, устремилась дальше — ввысь. — Вот и выходит: нам сулят пирожное, когда мы и кусок хлеба проглотить не можем. — Ерунда, — тихим, осипшим от злости голосом проговорил Трушин. — Даже рядовой экономист без труда может подсказать: предела использования фонда материального стимулирования, о котором вы говорите, нет. Речь идет только о том, что вознаграждение нужно заслужить! Понимаете — заслужить! — Да, — согласился Роман Петрович. — Теоретически можно представить такой уровень производительности труда, который снимает ограничения при выплате материальных вознаграждений. Но только — теоретически… А практически этот уровень недостижим. — Ерунда, — еще раз произнес Трушин. — Все эти разговорчики о несоответствии теории практике нужны безруким руководителям, чтобы оправдать свою безрукость. Не с того начинаете, товарищ Беловежский!.. Внезапно Трушин успокоился. С насмешкой взглянул на Романа Петровича, спросил: — Годовой план выполнять собираетесь? Беловежский замолчал. Он вспомнил, что собирался обратиться с просьбой о корректировке плана. Громобоев заверил его, что предварительная договоренность о такой корректировке имеется, Трушин обещал. Но обещал он Громобоеву, а просить должен Беловежский. Роман Петрович внимательно глядел на Сан Саныча. Не только он вызывал неприязнь у Трушина, но и сам Трушин был давно уже, с самого начала разговора, неприятен Роману Петровичу. Все было в нем неприятно: и эти зачесанные с боков на лысину волосы, и хрящеватые уши, прижатые к голове и придававшие Сан Санычу хищный вид, склеротические прожилки на впалых и бледных щеках… Но, конечно, больше всего неприятна была его манера разговаривать, как бы исключающая всякую возможность внять доводам собеседника и изменить собственную позицию. Беловежский вдруг ясно понял, что не будет обращаться к Трушину с просьбой о корректировке годового плана. Что будет, если он обратится? За считанные секунды Роман Петрович мысленно проиграл оба варианта. Или Трушин грубо откажет ему, или, поломавшись для виду и потешив свое самолюбие, согласится. Чтобы впоследствии нелестным для нового директора образом прокомментировать эту просьбу в вышестоящих инстанциях. И то, и другое неприемлемо. — Что еще хотите сказать? — Казалось, Трушин ждет просьбы Беловежского. — У меня все. И. о. начальника главка посмотрел на Беловежского с удивлением. — Так-с… — Он помолчал. — А как там Громобоев? Что с ним? Рано ушел, рано… Такими кадрами бросаемся… — Он провел рукой по голове, но не спереди назад, а с бока на бок, приглаживая занятые на висках и зачесанные на лысину редкие волосы. Обрывая тяжелую паузу, Роман Петрович мягко произнес: — Громобоеву сейчас лучше, уже выходит на улицу… С вашего позволения я передам ему от вас привет: ему будет приятно. А за науку спасибо. Он неторопливо собрал в папку листки, сгреб ладонью со стола и сунул в карман железные скрепки. — Разрешите идти? — Ступайте, — хмуро кивнул Трушин. Беловежский спускался по широким мраморным ступеням в задумчивости… Он не мог отгадать причину столь явно недоброжелательного отношения к нему со стороны Трушина, ибо не знал: система мер, стимулирующих рост производительности труда, против которой он только что ополчился, была разработана при личном участии Сан Саныча. На протяжении всего пути из главка к гостинице Беловежского не оставляло ощущение, что Трушин, которого он видел сегодня впервые, тем не менее хорошо ему знаком. Скорее всего Сан Саныч кого-то ему напоминал. Шарил по закоулкам памяти, ничего не получалось. Почему? Искал далеко, а оказалось — рядом. В день возвращения из Москвы в Привольск Роману Петровичу домой позвонил отец Петр Ипатьевич, проживавший вместе с матерью в небольшом городке на Волге. Как только в трубке послышался его резкий с обиженными интонациями голос, Беловежский вздрогнул. В первое мгновение ему показалось, что на проводе и. о. начальника главка Трушин. Но нет, то был отец. Как всегда, с места в карьер начал с претензий: почему, возвращаясь в Привольск, не заехал к родителям, почему не пишет, почему не выполнил его просьбы и не достал югославского лекарства от сердца — кардарон. Роман жалел отца. Старик прошел войну, была у него какая-то неприятная история, однако обошлось. В конце войны дали звание подполковника и отправили на пенсию. Однако Петр Ипатьевич, как видно, затаил обиду на весь белый свет. В том числе и на жену с сыном. — Ну да, на отца с матерью времени не хватило! Не звонишь, не пишешь, живы старики или сандалии откинули, тебе все одно. Женился, а жену даже не показал. Роман Петрович отшучивался (эта манера лучше всего подходила для разговоров с отцом): — Да что ты, батя: все ворчишь и ворчишь… Не такой плохой у тебя сын. Вот сегодня деньжишек вам с маманькой перевел. А что до жены… то не хотелось видеться мельком. Летом закатимся к вам на Волгу на целый месяц, вот тогда и познакомишься со снохой. Учти: перед соседями краснеть не придется, краля что надо! Положив трубку, Беловежский задумался: что же общего у отца с и. о. начальника главка Трушиным? У отца не было ни лысины, ни хрящеватых прижатых ушей. Да и лица совсем разные — у Трушина треугольное, с узким острым подбородком, а у отца квадратное, широкое. Но что-то общее было, было… пожалуй. Отношение к людям. Они ведут себя так, как будто к каждому у них имеется свой счет, малый или большой, от каждого требуют ответа. Откуда это шло, что давало им такое право — требовать у других ответа?___
Новый шофер Игорь Коробов мягко остановил машину у заводоуправления. Пока Роман Петрович шел к подъезду, встречные люди улыбались, кивали ему. По обращенным к нему приветливым лицам, улыбкам он догадался, что все уже знают, что этот молодой парень, еще недавно занимавший на заводе должность начальника производства, теперь — их новый директор, что рады этому и ждут от него чего-то хорошего и радостного для себя. Оправдает ли он эти надежды? Беловежский поежился. Он верил в себя, и все же, все же… где достать недостающие четыре процента к годовому плану? Ведь корректировки он у Трушина не выпросил… Об этом ему сейчас предстояло сообщить своим товарищам по работе. Беловежский прошел в кабинет, нашел клавишу переговорного устройства и попросил вызвать своих ближайших помощников — «по списку». В глубине души он жаждал теплой встречи, добрых слов и напутствий. Однако и заместитель директора по общим вопросам Фадеичев, и секретарь парткома Славиков, и молодой Сабов, назначенный совсем недавно на освобожденное Беловежским место начальника производства, и заведующая отделом кадров Веселкина ограничились только кратким «Поздравляем!». А главный инженер Хрупов и вовсе ничего не сказал, даже не подошел поздороваться, отделался сухим кивком и уселся поодаль на стуле, стоявшем между диваном и огромными напольными часами фирмы «Мозер». Общую сдержанность можно было объяснить. Все, исключая самого Беловежского, считали вопрос о его директорстве давно решенным. От его поездки в Москву ждали не приказа о назначении, а того, как проявит себя новый директор в новой роли, с чем приедет, с какими новостями. Может быть, не признаваясь в том себе, жаждали хотя бы небольшой, но удачи. В конце концов, разве они здесь, в Привольске, виноваты, что им запланировали такого поставщика, который до сих пор еще из строительных лесов не вылез? И разве корректировка плана в этих условиях не была бы вполне оправданной, даже законной? Глядя на обращенные к нему озабоченные лица, он с внезапным сожалением подумал: а может, надо было склонить перед Трушиным выю, повиниться, поканючить и выбить из него эту несчастную, увы, ставшую за последние годы традиционной корректировку? Поди теперь доказывай этим людям, что его отказ от корректировки был добровольным! Каждый подумает: сплоховал директор, наверняка просил, да робко, неумело, не то что Громобоев, вот и отказали. Впрочем, мимолетное сожаление возникло у Беловежского и тотчас же растаяло, как дымок над трубой маневрового паровозика, который виден был сквозь широкое окно директорского кабинета. Произнес спокойно, как ни в чем не бывало: — Ну как? Все в порядке? Отозвался заместитель, острослов и скептик Фадеичев: — Мы-то что… Сидим тут, лаптем щи хлебаем. А вот как ваши успехи там, в столице, Роман Петрович? Все закивали головами, заулыбались, кроме застывшего в мрачной неподвижности главного инженера Хрупова. — Слушайте, — сказал Беловежский, — уж не думаете ли вы, что за пять дней я сумел сделать то, чего не удалось за предыдущие двадцать пять? — Большому кораблю — большое плавание, — усмехнулся Фадеичев. Его округлое лицо с выпуклыми холодноватыми глазами выражало глубокий ум и безбрежное равнодушие ко всему, что не входило в круг его прямых интересов. А еще — насмешливое отношение к людским страстям и заблуждениям. — План-то нам скорректировали? — спросил Сабов. — А почему, собственно говоря, нам должны корректировать план? — с подчеркнутым удивлением спросил Беловежский. Он рад был, что с этим вопросом вылез по-детски нетерпеливый Сабов, с ним легче было расправиться. — Но ведь раньше, всегда… Громобоев… Разве это не так? — Я знаю, что раньше и что всегда, — вздохнул Беловежский, — я спрашиваю, почему, почему нам должны снижать план? Какие у нас для этого основания? — Ну, положим, это-то ясно, — поспешил на помощь покрасневшему Сабову Фадеичев, гордившийся своим редким умением обосновать все что душе угодно. — Поставщик не дал нам металла нужного сортамента. Да и кадров недостает… — Текучка у нас большая. Вот и недостает. — И чего они лётают, не пойму?! — в сердцах воскликнула завкадрами Веселкина. — Не успеют оформиться, уже увольняются. Черти непутевые! — она тряхнула коротко стриженными седыми волосами. — Не понимаю, почему нужно ругаться, — подал голос Фадеичев, — рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше… — А разве нельзя сделать, чтобы лучше для людей было именно у нас, а не у доброго дяди? — сердито проговорила Веселкина. Фадеичев развел руками, что должно было означать: «Можно, да я тут при чем?» — Так, значит, корректировки не будет? Что же нам делать? — Голос у Сабова сорвался, и он пустил петуха. Уши его приобрели малиновый оттенок. — Ну, это-то, положим, ясно! — хмыкнул Фадеичев. — Повышать производительность труда. Но как это сделать? Вот вопрос. Настоящего роста производительности труда мы сможем добиться только в том случае, когда рабочих мест будет меньше, чем рабочих рук. — Постойте, постойте, — заволновался секретарь парткома Славиков. — Вы что же это, Фадеичев, за резервную армию безработных ратуете? — А разве ее у нас нет? — насмешливо сказал Фадеичев. — Безработных нет, точно. А вот не работающих… Или плохо работающих — хоть пруд пруди. Мало, что ли, народу по заводу без дела слоняется? — А-а… вы в этом смысле, — обнаружив, что никакой особой крамолы в словах Фадеичева нет, Славиков с облегчением вздохнул. — Ну тогда нам надо вести разговор не о сокращении рабочих мест, а о повышении дисциплины труда, о моральном и материальном стимулировании хорошо работающих. — Вот вы и ведите… — отвечал Фадеичев. — Вам, как говорится, сам бог велел. А нам положено отыскивать и предлагать директору оптимальные решения. — Повышать производительность труда можно и нужно на основе внедрения новой техники! Это и дураку ясно! — прозвучал из угла резкий голос главного инженера Хрупова. — Дураку-то, может, и ясно, — язвительно произнес Фадеичев, недолюбливавший главного инженера, — а вот умному невдомек. Объясните мне, пожалуйста… У нас в отделе АСУ около ста разработчиков, четыре ЭВМ, в которые вколочена уйма денег, повсюду дисплеи… А что изменилось на заводе? Как отразилось на росте производительности труда? Сколько дало добавки к плану? — Почему я должен вам отвечать? — грубо спросил Хрупов. Беловежский, заранее давший себе слово проявлять по отношению к Хрупову особую терпимость, выставил вперед ладони и произнес примирительно: — Спокойно, спокойно, товарищи. Почему-то эти невинные слова взорвали Хрупова. Одновременно с боем напольных часов фирмы «Мозер» раздался его голос: — А вы нас не успокаивайте! Мы вам не дети, а вы нам не папочка. Если у вас в главке вышла осечка с корректировкой плана, вам и отвечать. В конце концов, мое дело — техническое развитие производства! А о плане пусть у вас голова болит, товарищ директор! Слова «товарищ директор» были сказаны Хруповым с нажимом и прозвучали явно иронически. Мгновение Роман Петрович молча смотрел на Хрупова. Что делать — оставить слова главного инженера без внимания, сделать вид, будто ничего не произошло? Хрупов успокоится и сам поймет, что не прав — и по форме, и по содержанию. С другой стороны, такой разговор, как сегодняшний, может определить их отношения на многие годы вперед. В таком случае, целесообразнее сразу поставить главного на место. Он сказал: — А мне помнится, что товарищ главный инженер наравне со всеми нами, грешными, получает премию за перевыполнение плана. Что-то я не слышал, чтобы он хоть раз от нее отказался. Фадеичев громко и торжествующе рассмеялся. Хрупов побледнел. Услышать такой упрек в присутствии посторонних, да еще от кого — от своего вчерашнего подчиненного, от Ромки? Нет. Хрупов этого снести не мог. Не найдя, что ответить, он сунул руку во внутренний карман пиджака, выхватил пачку денег и кинул ее через комнату на директорский стол. — Вы попрекаете меня премией? Можете взять ее обратно! Деньги, не долетев до цели, парашютируя, медленно опустились на паркетный пол. Завкадрами Веселкина вскрикнула: — Боже мой! Да вы в своем ли уме, Николай Григорьевич?! Молодой Сабов ползал на карачках, подбирал с пола деньги и клал на угол директорского стола. Хрупов оглушительно хлопнул дверью да и был таков. Беловежский спокойно, как будто ничего не случилось, произнес: — Все свободны… кроме Фадеичева. Как только они остались одни, Беловежский молча впился взором в бледноватое с темными мешками в подглазьях лицо своего зама, впился с надеждой и сомнением. С надеждой — потому, что знал: голова этого человека таит в себе десятки хитроумных комбинаций, способных выручить завод. С сомнением — потому, что не, знал: захочет ли Фадеичев всерьез ему помочь. Что может побудить его к действию? Перспективы дальнейшего роста? Но этих перспектив у Фадеичева нет, и он это знает. До самой пенсии ему суждено оставаться заместителем. Таким образом, пряника нет. Нет и кнута. Увольнение его не пугает. Фадеичева давно уже приглашали на должность заведующего кафедрой в местный политехнический институт, и, как было известно Беловежскому, он еще не принял окончательного решения. — Александр Юрьевич! Только что на совещании в этом кабинете вы произнесли одну сакраментальную фразу… Фадеичев тонко улыбнулся. — Я знал, это не пройдет мимо вашего внимания, Роман Петрович. Да, наша задача, задача ваших помощников, подсказывать вам оптимальные решения. Причем, насколько я понимаю, сейчас нужны такие решения, которые сулят быстрый эффект, помогут спасти годовой план. — С вами приятно разговаривать, Александр Юрьевич, — вымученно улыбнулся Беловежский, — вы понимаете с полуслова. Фадеичев вздохнул: — Моя беда в том, что я все могу понять. — Ну и… Зам директора прикрыл глаза тяжелыми веками, сделал паузу. Произнес: — Начиная с мая, мы идем с недовыполнением. С небольшим, но недовыполнением. И если так будет продолжаться, годовой план завалим. Что нежелательно. — Это исключено, — сухо бросил Беловежский. — В прошлые годы мы выходили из положения только благодаря корректировке. — Знаю, знаю. Но что было, дорогой Александр Юрьевич, то быльем поросло. — Понятно. Они помолчали. Потом Александр Юрьевич обратил на Беловежского испытующий взгляд. — Скажите, Роман Петрович, только честно. Мне необходимо знать. Вы действительно не ставили перед главком вопроса о корректировке плана? Или… — Или ставил, но Трушин мне отказал? — Да. — Не ставил. Честно говоря, собирался. Но в последнюю минуту передумал. И не жалею об этом. Фадеичев с изумлением взглянул на директора. — В последнюю минуту? Но вы же инженер! Если принимаете такое серьезное решение, значит, у вас должны быть для этого не менее серьезные основания, расчеты… При чем тут последняя минута? Беловежский слегка покраснел: упрек попал в цель. Улыбнулся. — Вы, должно быть, слышали о полководцах, решивших выиграть сражение или умереть? Так вот — они жгли за собой мосты. Чтобы каждый в их войске знал: путей к отступлению нет. — Тогда об этом должны узнать на заводе. Что отказ от корректировки плана — это ваше принципиальное решение. Это подействует на людей, заставит их понять, что пришли новые времена. Роман Петрович с удовольствием слушал Фадеичева. То, что неясно бродило в его мыслях, этот человек высказывал четко, по-деловому. Нет, ни в коем случае его нельзя отпускать в политехнический институт. Произнеся свою тираду, Александр Юрьевич откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза тяжелыми голубоватыми веками. Казалось, он задремал. Беловежский нетерпеливо постучал карандашом о стол. Фадеичев очнулся. — Извините… я задумался. Не сочтите это за лесть, но я рад, что директором стали вы, а не этот, неистовый. И я искренне хочу помочь — и заводу, и вам. Вы — смелый человек. А смелость города берет. Кстати о городах. У меня есть одна комбинация, в которой этот самый город играет не последнюю роль. И, выпрямившись в своем кресле, Фадеичев четко изложил свой план. Современная производственная жизнь, говорил он, чрезвычайно сложна. Однако эти сложности — не всегда зло, иногда они могут обернуться благом. Надо только умело их использовать. — Одно из реальных существующих противоречий — это противоречие между отраслевым принципом управления и территориальным, требующим учета местных условий. В идеале — первый принцип должен быть дополнен вторым. — Но как это сделать? — еще не понимая, куда клонит Фадеичев, сказал Беловежский. — Вы что-нибудь слышали о программе «Труд», разработанной в нашем горисполкоме? — «Труд»? А что это такое? С чем ее едят, эту программу? — Отцы города задались благой целью: отработать механизм наиболее эффективного использования местных трудовых ресурсов. И кое в чем, надо сказать, преуспели. Изучив их выкладки, некоторые министерства и ведомства пошли на сокращение числа рабочих мест на предприятиях города. Разумеется, тех, в которых не было крайней необходимости. А один небольшой заводик — филиал завода бытовых кондиционеров — и вовсе прикрыли. — Ну и что? Нам-то какая от этого польза? У Фадеичева в углах пухлых губ затаилась усмешка. — Результаты реформ, даже отлично задуманных, не всегда предсказуемы… Нередко возникают никем не ожидаемые диспропорции, вместо старых проблем появляются новые. В общем, так получилось, что людей высвободили больше, чем нужно. А что это значит для нас? Буду краток: берусь в течение месяца раздобыть для завода три сотни квалифицированных рабочих. Неплохое подспорье для выполнения плана? У Беловежского дух захватило: — Это действительно так? Вы говорите, в течение месяца? Это нас выручит… На время, конечно. Но выручит. А вы это всерьез? Фадеичев снова откинулся на спинку кресла. Его полное лицо приняло отрешенное выражение. — Шутите, гражданин начальник. Разве Фадеичев когда-нибудь кого-нибудь подводил? Беловежский с облегчением рассмеялся: — Вы молодец, Александр Юрьевич. Действуйте! — Что-то я не пойму… — Что именно, Александр Юрьевич? — Громобоев все решал сам, а нас, замов, держал при себе как ходячие энциклопедии — для справок и советов. Хрупов, в период своего недолгого директорствования, наоборот, нас на порог не пускал. Мол, сами решайте, а ко мне не лезьте. А как теперь будет? — Ну чего же тут непонятного, Александр Юрьевич? Все, что вы можете решать без моей помощи, будете решать сами. Сообща будем делать только то, что не под силу сделать в одиночку. — То есть искать выход из безвыходных ситуаций? — А у вас злой язык, Александр Юрьевич. Тем не менее еще раз благодарю. Отпустив зама, Беловежский отправился в обход цехов. Однако чем дальше он шел по заводу, тем быстрее улетучивалось легкое радостное настроение, овладевшее им после разговора с Фадеичевым. Предприятие старое, запущенное, работающее по старинке, со скрипом, из последних сил. Долго так продолжаться не может, если не принять мер… Сегодняшний обход в этом смысле не открыл ничего нового. Инструментальный цех, как всегда, задерживал оснастку: не хватало квалифицированных слесарей. Сборочный заваливал план из-за плохой организации труда, в конце месяца снова придется прибегать к сверхурочным. На молодого директора обрушились одновременно два встречных потока жалоб — мастера жаловались на ОТК, якобы донимающий их придирками, контролеры же, ссылаясь на ГОСТы, требовали неукоснительного соблюдения технологии. Сегодня Беловежский поддержал контролера, строго отчитав мастера за неверно приваренную скобу. Но знал, что в конце месяца у него не будет иного выхода, как встать на сторону мастера, — план-то надо выполнять, хотя бы и ценой мелких ошибок и недоделок… И еще — в глаза Роману Петровичу вдруг бросилась грязь, неопрятность. Стены были закопчены и обшарпаны, стекла в окнах — тусклые, замасленные, полы выщербленные, автомат с газированной водой у выхода не работает. Мебель в цеховых кабинетах — старая, поломанная. Беловежский понимал, почему прежний директор Громобоев мирился с этим. Завод работал на пределе, малейшее отвлечение сил на ремонт, а тем более на реконструкцию грозило срывом плана, провалом. Но делать-то что-то надо! Вернувшись в свой кабинет, подошел к окну. На территории маленького скверика, примыкавшего к заводоуправлению с тыльной, непарадной стороны, в беспорядке были свалены строительные материалы — штабеля ярко-красного кирпича, сверкающие металлические трубы, маслянисто-черные рулоны толя, бумажные мешки с цементом. В последние дни директорства Громобоева было принято решение подновить заводоуправление, а то неудобно, люди приезжают со всей страны, а принять их негде. И вот теперь ОКС принялся за дело… Зрелище, которое открылось Беловежскому при взгляде из окна служебного кабинета, напоминало ему другое, которое он видел утром у себя дома. Не так давно он переселился в директорский особняк, перешедший к нему «по наследству» от Громобоева. Построен он был лет сто назад, в пору наивысшего расцвета городка, основанного «для нужд российского военно-морского флота и торговли с иноземцами». Чего только не было в этом доме! И просторная зала с позолоченной лепниной — полногрудые ангелочки словно выпрыгивали из плоскости потолка, и скрипучая деревянная лестница, ведущая на антресоли, тихая спальня, выходящая в запущенный сад, какие-то башенки, флигелечки, соединенные переходами, деревянная, украшенная затейливой резьбой беседка у фонтана, который, правда, давно уже не работал. Напрасно изваянный из камня мальчуган с недетской силой сжимал пухлыми, в перевязочках, ручонками, горло какого-то морского чудища — не то акулы, не то дельфина — из разверстой проржавевшей пасти нельзя было выжать ни капли. Не только фонтан вышел из строя, все обветшало, половицы и лестницы скрипят, лепнина во многих местах обвалилась, роспись потускнела, проступает неясными цветными пятнами. Медея потребовала: — Нужен немедленный ремонт! Все разваливается. Давно пора отремонтировать санузел, подправить лестницу, того и гляди, рухнет, оклеить стены новыми, современными обоями, освежить потолки. И, конечно же, нужно пустить воду в фонтан, очистить Купидона от ржавчины, может быть, тогда он будет выглядеть не столь глупо! Беловежский сопротивлялся. На заводе и так не хватает мастеров. Одни заняты в детсаде, другие хлопочут в клубе, третьи работают на отделке только что созданного заводского музея боевой и трудовой славы. Но Медея была настойчива, и он уступил. Дал согласие на ремонт. При одном условии: ремонт должен быть не капитальным, а косметическим. Кое-что подновить, подправить, и все. Остальное потом. Медея — женщина решительная. Из последней поездки приехала не с пустыми руками. В доме повсюду разбросаны, похожие на гвардейские минометы, связки обойных рулонов, сетчатые, затканные полевыми цветами занавески, по углам громоздятся картонные коробки с чешской цветной плиткой. …Окно директорского кабинета было забрано пластинчатыми жалюзи. Заводской двор с нагромождениями стройматериалов на переднем плане выглядел сквозь жалюзи разделенным на линейные отрезки, будто на экране таинственного преобразователя. От Романа Петровича зависело, чтобы заводская панорама стала другой. С сожалением он должен признать: то, что предложил ему хитроумный зам Фадеичев, не было шагом к заветной цели. Латание дыр. Косметический ремонт, наподобие того, который он разрешил провести дома Медее. Для завода этого явно недостаточно. И все-таки нужно же, черт возьми, где-то набрать эти четыре недостающие процента к годовому плану!СОЛЕНЫЕ КЛЮЧИ
Вот уже вторая неделя, как Игорь Коробов свил гнездо на верхотуре заводского клуба, в крошечной комнате для приезжих. Спит на кожаном диване, должно быть, перекочевавшем сюда из служебного кабинета. Накрывается неизвестно откуда взявшимся голубым стеганым ватным одеялом, утром бреется у зеркала а облезлой позолоченной раме. Туалет рядом — третья дверь по коридору. Плоховато с горячей водой, но уборщица обещала спроворить электрический чайник, тогда Игорь и беды не будет знать. Проснулся он рано. Простыня соскользнула с дивана, белый угол свисает до линолеума. Тускло светится в утренней полутьме зеркало с попорченной амальгамой. В нем отражается шкаф, в котором постоянно открывается одна дверца. Вот и сейчас она открыта, хотя Игорь с вечера заложил дверцу свернутой вчетверо газетой. В темной утробе шкафа что-то белеет. Игорь вздрагивает. Вспоминается слышанная где-то фраза: «У каждой семьи — скелет в шкафу». Он, конечно, понимает, что речь идет не о настоящем скелете, таком, например, который висел в школьном зоологическом кабинете. Смельчаки здоровались, пожимали ему руку, а когда отпускали, раздавался жутковатый перестук «кастаньет». Нет, имелся в виду не скелет, а тайна, которую прячут, скрывают, чтобы она, не дай бог, не вылезла наружу. У Игоря Коробова тоже есть тайна, а может, и не тайна вовсе, а так — неясность, неразгаданная загадка. Но он не прячет свою тайну. Наоборот, всей душой хочет, чтобы никакой тайны не было, а была ясность, полная ясность. К ней он стремится всей душой. Разве не ради этого он оставил родной город, приехал в этот Привольск и теперь лежит на казенном, неприятно холодящем спину диване, обдумывая план на сегодняшний день. Через два часа он на трехтонке, которую выделил завгар Лысенков, вместе со слесарем Примаковым покатит по пыльной степной дороге, держа курс на деревню Соленые Ключи. Ту самую, что упоминалась в написанном неразборчивым почерком письме, как место, неподалеку от которого погиб солдат Иван Коробов. Игорь думает: не исключено, что он довольно быстро разберется в этой запутанной истории, отыщет могилу деда, людей, которые вместе с ним воевали, и тогда прости-прощай южный город Привольск! Почему-то эта мысль не вызывает радости. Даже становится немного грустно. Отчего? Откуда взялось это темное облачко на ясном небосклоне? Неужели виной тому — примаковская дочка? Мысли Игоря охотно переключаются на новую тему. Лина… Стоило ей появиться там, в вагоне-ресторане поезда Москва — Привольск, произнести своим мелодичным, немного странным, как бы запинающимся голосом два-три слова, и в Игоре мгновенно произошла перемена. Только что он был в смятении и растерянности — мчит на поезде сквозь ночь неведомо куда и неизвестно зачем, приняв минутную блажь за веление долга. Что его ждет впереди? И вдруг за соседним столом появилась девушка, не имеющая к Игорю абсолютно никакого отношения, а к нему в душу входят радость и успокоение. Появляется непонятно откуда взявшаяся уверенность, что он не зря, не случайно появился здесь в этот час, что все поступки — верные, и он делает именно то, что обязан сделать. А потом — подарок судьбы. Все уходят, а она остается одна, и двое подвыпивших бузотеров назойливо навязывают ей свое общество. Этим парням невдомек, что Лина уже не одна, что есть у нее защитник. А потом и награда — предложение работать на привольском заводе, там, где работает Линин отец, сбивчиво, но искренне, от всего сердца благодаривший его за то, что пришел на помощь дочери. Игорь слушал, не понимая: за что его благодарят? Он сам только что горячо благодарил судьбу, подарившую ему такую возможность. Ведь отныне он этой девушке не чужой, не первый встречный, тоненькая нить протянулась между ними. Она ничего ему не обещает, ничего не сулит эта тоненькая нить, но он уже счастлив. У Игоря мелькает мысль: а почему Лине не принять участие в сегодняшней поездке? Вот было бы здорово! Он вскакивает с дивана и быстро начинает одеваться. Подъезжая на трехтонке к знакомому дому, Игорь во все глаза смотрел, не мелькнет ли в саду-огороде знакомый силуэт. Однако на участке возились только двое — сам Примаков да его жена Дарья. У Игоря екнуло сердце: не успел он огорчиться по этому поводу, как послышался звонкий голос Лины: — Мам, а мам! Тут у меня книжка стихов лежала… Про любовь… Ты случаем не видала? — Только у меня и делов, что стихи про любовь читать. Ты бы, дочка, переоделась да подсобила отцу с матерью. По тому, как шарахнулось в груди сердце при звуке Лининого голоса, Игорь понял, что девушка затронула его не на шутку. На душе стало тревожно. Было ощущение, будто он отныне становился не свободен, власть над ним уплывала от него, перемещалась к другому человеку, в чужие руки, а какие они окажутся, эти руки — добрые или злые, — неизвестно. — Машина подана! — из-за ограды крикнул Игорь. — А-а, Игорек! Я сейчас! Примаков вонзил лопату в мягкую землю, по которой тут и там разбросаны были крупные, с кулак, и мелкие, как сорочьи яйца, золотистые картофельные клубни. — Проходи в дом, я сейчас! — Пап, кто это там пришел? — в Линином вопросе угадывалось лукавство, она по голосу уже, конечно, опознала Игоря и теперь хотела обозначить свое присутствие. — Принимай, дочка, кавалера! — крикнул Примаков, с обычной своей бесхитростностью выдавая затаенное желание видеть дочку рядом с этим симпатичным, пришедшимся ему по нраву парнем. Пока в аккуратно прибранной горнице хозяин с гостем обсуждали детали поездки, Лина успела несколько раз войти и выйти. При этом внимательный глаз мог бы заметить появившиеся в ней перемены: сначала волосы ее свободно рассыпались по плечам, а потом вдруг их туго стянула бледно-голубая лента. Первый раз она выскочила в спадающих с ног тапках, а во второй — на ногах ее сверкнули лаком перекрещенные ремешки красных босоножек. А под конец разговора, когда Игорь уже встал и теперь возился возле дивана, безуспешно стараясь расправить смятые им вязаные салфеточки, украшавшие спинку, Лина появилась в красивой японской шали, белой, с яркими цветами. — А можно, я с вами поеду? — спросила она. Игорь поднял взгляд на ее милое, в бледных веснушках лицо и залился предательской краской. — Я-то что… как ваш отец… Конечно, будем рады, — слова ворочались у него во рту, тяжелые и шершавые, как морские голыши. Ему страстно хотелось, чтобы Дмитрий Матвеевич немедленно согласился на просьбу дочери, но, к его удивлению и разочарованию, тот отнесся к высказанному ею желанию с прохладцей. — Зачем тебе это, дочка, нужно? Целый день в жаре и пыли в машине трястись. А если дело сразу не сладится? Того-етого… ночевать придется незнамо где. Мы-то что… мужики… дело привычное. А ты куда? Да ты же сегодня в театр собралась? — Не хотите, не надо. Была бы честь предложена! — с вызовом проговорила Лина, взмахнула шалью и, словно бабочка, выпорхнула из комнаты. — А может, прихватим Лину? Веселей будет, — попробовал Игорь уговорить Примакова. — Думаешь, она и вправду хочет ехать? Ей же в театр. Ее поэт пригласил. — Какой поэт? — А этот… Окоемов. …Примаков и Игорь покидали в кузов тяжелые мешки с овощами и фруктами, уселись в кабину. — Как ты думаешь, парень, дождя не будет? — с опаской поглядев на небо, спросил старый слесарь. — Да вроде не должно, — буркнул Игорь. Ему не хотелось разговаривать. Упоминание о поэте привело его в мрачное состояние. Было рано. Солнце еще не пекло, холодный ветерок приятно обвевал лицо. Асфальтовая лента шоссе быстро бежала навстречу. — Вон, вон, гляди… Да не там, над морем. Ишь, туч нагнало. Может, мне сейчас накрыть мешки брезентом? — Чего торопиться? Пойдет дождь, тогда и накроете. — Ишь ты какой… того-етого… Рассудительный. Ты с мое поломайся на этом участке, а потом рассуждай. — Да мне что. Я вмиг заторможу. — Ехай, ехай. Надо до жары добраться. А то сопреем. Вон от мотора какая жарища идет. Однако вскоре пришлось остановиться. У обочины голосовал старичок в бело-красной шапочке с помпоном. Козлиная бородка казалась странной на фоне ярко-голубой нейлоновой курточки, в которую был облачен путник. — Этот к непогоде вырядился, — с опаской сказал Примаков. — Чует: быть дождю. Он уступил место в кабине старику, а сам полез в кузов — спасать от возможного дождя добро. — Далеко ли путь держишь, отец? — поинтересовался у старичка Игорь. Он рад был, что Примаков перебрался наверх. Его присутствие томительно напоминало о Лине, о ее вечернем походе в театр с неизвестным Окоемовым. — Куда вы, туда и я, — ответствовал старик. — В город. — А зачем? — Дочку навестить. Она у меня там замужем за начальником горвоенкомата. — Полезное знакомство… — Что — в армию берут? Тут он не помощник. У них строго. — Да нет, отслужил я… У меня теперь другая забота. Дед погиб в этих краях. Вот могилу ищу. — А, это хорошо, что ищешь. Память сердца у каждого быть должна, без нее нельзя. — А вы давно в этих краях? — Родился здесь. — Русский? — А то чей же? Да в этих краях русская речь много веков звучит. В школе слыхал небось про путь из варяг в греки? Он тут как раз проходил. Из моря Варяжского к Русскому, а дальше через Керченский пролив, Азовское море, Дон и Волгу — сюда, к морю Хвалынскому. Каспийскому по-нашему. Про купца новгородского Садко былину учил? «Садко купец богатый гость с кораблями своими хаживал по Волхову… Гулял по Волге-реке. Бегал по морю, по синю морю Хвалынскому». Вот как. И купец Афанасий Никитин здесь побывал. Про «Хождение за три моря» слыхал? Так первое море из трех — Каспийское. На обратном пути заболел, был ограблен. А вскорости и помер на Смоленщине. Он-то помер, а дневник — остался. — А вы кто — историк? — Нет… Я ювелир. — Ювелир?! — Игорь так удивился, что даже машинально нажал на тормоза. Машина дернулась, Примаков, в кузове возившийся с брезентом, чертыхнулся. — Больно вы не похожи… на этого… ювелира. — А ты ювелиров встречал ранее? — Нет… — Откуда же ты знаешь, как они выглядят? Игорь не нашелся что сказать, смолчал. — Ты меня не видел и не знаешь, — со смешком произнес старик. — А я тебя и видел, и знаю. Игорь снова удивился: — Откуда? — Ты — директорский шофер. Ездишь на черной «Волге». Так? — Точно. — Ну вот видишь. Однако не буду тебя интриговать. Я тебя в окно видал. Ты Медею Васильевну ко мне во вторник привозил. Садовая, дом шесть… Помнишь? — Помню. — Красивая женщина. И в самоцветах разбирается. Да кому же и интересоваться камнями, как не красавицам? Что бы мы без них, ювелиры, делали? Для кого старались бы? — И чего им только эти камни дались? Вон Медея небось за одно кольцо целую мужнину зарплату ухнула! Старик повернул к Игорю свое маленькое, как у гномика, лицо. От глаз лучиками побежали морщины. — Говоришь — целую зарплату? Низко летаешь, паря… Пять зарплат! — Ого! А к чему эти камни? Красивые и без них красивы, а уродину и камни не выручат. — Не скажи, — с хитрецой заметил старик. — У этих камней чудесная сила. Вот взять, например, камень лал, или красный шпинель, как его еще называют. На Востоке его сильно любят. Да и не зря. Говорят, от слепящих солнечных лучей глаза предохраняет. Это раз. Пожилым да хворым помогает от болей в пояснице. Это два. А еще онимеет эротическое свойство. Это три. — Эротическое… Это что — про любовь? — Именно. Подари его женщине, у нее появится тяга к любви, к наслаждению. Слышал, бывают камни, приносящие несчастье, — для некоторых это жемчуг. Ходит поверье, что горе приносят краденые самоцветы. Цитрин, например, разновидность хрусталя, камень измены и лживости. — Скажите, а случается, что драгоценные камни приносят несчастье тем, кто их обрабатывает? То есть ювелирам, — не подумав, брякнул Игорь. Старичок замолчал. Игорь с беспокойством взглянул на него и увидел побелевшее лицо, капельки пота на лбу, под срезом шутовской шапочки с помпоном. — Вам нехорошо? — Нет-нет, все в порядке… Просто в кабине душно. Судорожным движением старичок вертел ручку, стараясь опустить боковое стекло. Неожиданно по крыше застучали крупные капли дождя. За разговором Игорь и не заметил, как потемнело небо. Слева от дороги резкий ветер гнал барашков по мелководью, справа гонял волны по серебристому ковылю. Игорь остановил машину. И в боковое зеркало увидел, как с борта кузова спрыгнул Примаков. Повернул ручку, влез в кабину. — Посторонитесь, други. В тесноте, да не в обиде. А то вон какой дождище зарядил. Боюсь, весь базар… того-етого… распугает. Старичок глянул сквозь ветровое стекло, покрутил головой, пощурился. Успокоил. Дождь недолгий. Пять минут побушует и иссякнет. Словно и не было! Так что за базар не волнуйтесь. Дождь торговли не нарушит. «Любопытный старичок, — подумал Игорь. — И то знает, и это… Если бы не спортивная курточка, вполне мог бы сойти за сказочного гнома. Местного значения». Гном оказался прав. И десяти минут не прошло, как развиднелось. Налетевший с моря ветер начал терзать, дергать, мять тучи, пока не образовалось несколько голубых проталин. Постепенно они росли, округлялись, занимали на небе все больше места. Тучи сваливались на сторону, пока над степью вдалеке не образовалась темная, набухшая дождем кромка. Но это нашим путешественникам уже ничем не грозило. Разговор вертелся вокруг базара. Старичок все выспрашивал у Примакова, что именно он везет на продажу, за какую цену думает сбыть свое добро, долго ли будет торговать. Примаков, который любил копаться в земле по давней крестьянской привычке, а продавать терпеть не мог, отделывался пустыми фразами. Тогда старичок, видимо, желавший поговорить с незнакомыми людьми, тотчас же нашел свою тему для разговора и прочно ее оседлал. Он пропел гимн рынку, который всякую людскую потребу хочет и может удовлетворить и при этом делает буквально чудеса. — Вот, судите сами, — говорил старичок, тряся остроконечной бородкой. — Известно, что пряности, за которыми еще Магеллан ходил на своих каравеллах за тридевять земель и десятки незнакомых морей, так вот, эти пряности, разные там корица, кардамон, мускатный орех, в пределах нашей державы не зреют и не плодоносят, однако на рынке, пожалуйста, заплати цену и получай свернутый из газеты кулек или целлофановый тюбик и пользуйся! Откуда, спрашивается, эти редкие растения на рынках берутся? Он тихо смеялся, задавая свой каверзный вопрос, и маленькое его личико покрывалось морщинками и складочками, придавая ему хитроватый вид. Чтобы поддержать разговор, Игорь сказал: — А цены-то какие на эти пряности… Кусаются! — Ты вырасти сначала, потрудись до кровавых мозолей, а потом на цены… того-етого… жалуйся! Само-то не растет, тут труд, да еще какой, нужен! — мрачно проговорил Примаков, озабоченный предстоящей неприятной операцией по сбыту своего товара. И продешевить боязно. Дарья узнает, изругает, будет простофилей называть. А торговаться он не умел, если бы даже захотел, ничего бы не получилось. — Не знаю, сколько труда надо, чтобы гвоздику вырастить, но привезти ее точно — непросто. Она ведь не где-нибудь растет, а на острове Занзибар, девяносто процентов мирового сбора, в газете читал. А корица с Цейлона, вот как! За морем телушка — полушка, да рубль перевоз! — Да разве за рубль перевезешь? — вздыхал Примаков. — Спасибо добрый человек попался, машину бесплатную устроил, а то бы я в трубу вылетел. Знаете, какая нынешняя шоферня? — А чем вам шоферня не угодила? — теперь настал черед хмуриться Игорю. — Да я не о тебе… Ты парень золотой, тебя это не касаемо… За разговорами время незаметно прошло, вот и областной центр. Сначала, как водится, домики шли маленькие, утопающие в зелени, улочки были узкие, немощеные или выложенные грубым камнем, так что машину на них трясло как в лихорадке. Потом появился асфальт, сначала драный, латаный-перелатанный, с выбоинами и вспученными холмиками. И дома по бокам пошли другие — двухэтажные особнячки на несколько квартир и с общим подворьем. А там уже и центр — бетонные башни, как спичечные коробки, поставленные один за другим. Украшение — витрины. Сквозь стекла видны румяные лица манекенов, разные товары — плащи, костюмы, сумки, игрушки — куклы, зверюшки разные, иногда и не разберешь, волк это или заяц свирепо глядит на тебя стеклянными плошками круглых глаз. Оба из золотистого плюша и с длинными ушами, поди угадай: где кто? Однако угадывать некогда, скорей на рынок, там торговля уже в разгаре. Новый рынок, из бетона, с куполом, напоминающим самолетный ангар или того больше — центр по подготовке космонавтов, еще не построили, хотя срок и вышел, однако каких-то конструкций не подвезли… А старый — вот тут шумит, работает… Рынок богат и красочен не хоромами, всего и хозяйства-то — залитая асфальтом площадь, десять рядов деревянных прилавков, давно облезших, выцветших на южном солнце и потерявших свой первоначальный цвет — не то зеленый, не то коричневый… Госларьки, призванные самим фактом своего существования придерживать частника, не давать ему зарываться, сбивать цены. А чем собьешь, когда в ларьке, кроме весов и гирек, нет ничего, шаром покати. А тут, рядом, в частном секторе, чего только нет! И нежно-розовая телятина, и пластовой, с желтой масляной кромкой творог, и пирамиды глянцевитых румяных яблок, золотистых груш (под тонкой кожей нежнейшая сочно-сладкая мякоть), орехи, в кожуре и чищеные: если такой ленивый, что лень орехи колоть, бери лупленые и суй в рот, но эти уж, конечно, втридорога. Старик-гном, выспросив у Игоря про деда, сложившего лихую голову неподалеку от берегов древнего моря Хвалынского и пообещав навести справки у зятя-военкома, спрятал растрепанную записную книжицу, застегнул молнию нейлоновой курточки и побежал вдоль торговых рядов — разыскивать гвоздику с далекого острова Занзибар, потому как, по его словам, грибочки солить без перца и этой самой гвоздики — пустое дело. А Примаков заметался по рынку в растерянности, не зная, куда деть мешки, где расположиться, какую цену установить. На глаза ему попалась свеженамалеванная вывеска «Бюро торговых услуг», и он бросился к окошечку, за которым сидел какой-то дядька в усах. Слыхал Примаков, что таким бюро даны с недавнего времени бо-о-о-льшие права… Теперь сдатчик может не ждать несколько дней, пока бюро торговых услуг реализует его продукцию. Деньги ему могут быть выданы сию минуту. Сдал овощ — получи. Говорили и другое, что операция эта не очень для овощевода выгодная, платят по расценкам куда более низким, нежели рыночные. Ну, да Примаков за длинным рублем не гонится, ему побыстрее это дело провернуть, и был таков. Однако поскорее провернуть не удалось. Дядька равнодушно глянул на Примакова из-за треснутого стекла и охладил его: — Нету тары. — А какая тара нужна? — поинтересовался Примаков. Он, кажется, готов был яблоки да огурцы отдать вместе с мешками. Хотя жена Дарья за такое расточительство по головке не погладила бы. Но дядька не склонен был пускаться в переговоры. — Какая тара, говоришь? А никакой нет! Да и весовщица ушла. У нее дочь рожает. Примаков тоскливо оглянулся на прилавки, где бойко шла торговля. Неужели ему придется весь день простоять под палящим солнцем у всех на виду, рядом с горкой яблок и груш? Он полез в карман за сигаретой, расходившиеся нервы требовали успокоения. И наткнулся на бумажку, на которой рукой завгара Лысенкова было выведено одно слово «Дрыгин». Он слова ткнулся в застекленное окошко: — А вы не знаете, где найти Дрыгина? — А на кой ляд он тебе? — Я от Лысенкова. Эти слова произвели мгновенное действие. Дядьку как будто ветром вынесло из ларька. — От Лысенкова, говоришь? Адриана Лукича? Я Дрыгин. Что нужно? Дрыгин пошел с Примаковым к машине. Вместе с Игорем, втроем, они быстро перетаскали мешки к палатке. На огромных весах Дрыгин взвесил товар и по одному ему известным расценкам отсчитал Примакову деньги. — А квитанция? — спросил Примаков. Дядька осклабился: — Тебе что — квитанции нужны или монеты? То-то. Да ты не журись. Я больше отвалил, чем бюро… — мужик пнул ногой свежевыкрашенный ларек. — Мы своих не обижаем. Адриан Лукич знает… Да что там говорить, кто его обидит, тот и дня не проживет. Дядька враз погасил ухмылку и уже другим, уважительным голосом произнес: — Поклон ему и привет. От Дрыгина. Глядя на зажатые в руке промасленные кредитки, Примаков испытал угрызения совести. Он уже понял, что продал свой товар не государственной организации — бюро торговых услуг, как хотел, а жулику-перекупщику. Посмотрел на свои шершавые, как наждак, ладони в желтокостяных наплывах мозолей, успокоил себя: не краденое продал. Свое.___
Село расположилось на холмах, редких в этих степных местах. Может быть, поэтому оно выглядело таким живописным? Игорь смотрел на крепко и ладно сбитые избы, на густые зеленые кроны лип и тополей, на озерца, в которых плавали утки, и ему казалось, что в этом благодатном краю, под этим голубым небом, слегка выбеленным солнцем, люди должны жить по-особенному, легко и весело. — А откуда название такое Соленые Ключи? — поинтересовался он у притихшего Примакова. — Чего? — тот с трудом очнулся то ли от ленивой дремоты, то ли от глубоких раздумий. — А-а… Тут один ключ есть… того-етого… загадка природы. Все пресные, а он, значит, соленый… А отчего? Кто говорит: морская вода под землей пробилась… Врут. Солончаки неподалеку. Вот соль-то наружу и вышла. Распугивая кур и подняв тучи пыли, они прокатили по главной улице села, свернули, миновали переулок, другой… А Примаков все гнал и гнал Игоря, пока они не поравнялись с малой, покосившейся избенкой в два окна. Одно из стекол в избе было разбито. — Стой. Приехали. — Родственники-то, видать, не из богатых, — протянул Игорь. — Нишкни, — хмуро оборвал его Примаков, выхватил из машины туго набитый рюкзак, направился к избушке на курьих ножках. Громко и противно заскрипели несмазанные петли, они очутились в темных сенях, где пахло куриным пометом. Из-под ног шарахнулась птица, за второй дверью послышались шаги. Женский голос произнес: — Кто там? — Свои! — хрипло ответил Примаков и потянул на себя дверную скобу. В полутемной избе стояла немолодая простоволосая женщина с миловидным лицом. — А-а, это ты, — кивнув, сказала она Примакову, как будто он не приехал издалека, а вернулся после минутной отлучки. — Здравствуй, Тося. А Федя где? Женщина огляделась, словно Федя был здесь, в избе, да спрятался. — На рыбалку ушел. Еще затемно. А это кто? Примаков потянул Игоря за рукав. — Товарищ мой. Заводской. Мы вместе на машине приехали. Тося выглянула в оконце, точно проверяя правдивость сказанного. — А-а, шофер… Проходите. Игорь сделал два шага и уселся на широкую лавку. Огляделся. Вещей в избе было много, она вся была ими загромождена. Но это лишь усиливало ощущение неустроенности быта. Один стул громоздился на другом, четвертая ножка отсутствовала. На телевизоре стоял утюг, из чего можно было сделать вывод, что аппарат этот используется как подставка, а не по прямому назначению. Здесь же находился и холодильник, тоже, видно, бездействующий, потому что из-за полуотворенной дверцы несло плесенью. — Опять все не работает? — задал вопрос Примаков. На лице его было мученическое выражение. Тося махнула рукой: — «Телик» Федя доломал… А холодильник то работает, то перестанет… Течь начинает. А потом заплесневел. Надо бы отмыть, да времени нет. — Я же говорил, когда выключаешь — вытирай насухо и держи дверцу открытой… — Да я держала, а Федя взял и захлопнул. Баловник. Из сеней послышался звон брошенного в сердцах ведерка, дверь пнули ногой, и на пороге появился белобрысый мальчонка. Широкие скулы и маленькие черные глаза выдавали его принадлежность к примаковскому роду. — Федя, погляди, кто приехал. — А-а… папаня. Ты чего долго не был? Подарки привез? Примаков подхватился с лавки, кинулся в угол, где стоял принесенный им с собой туго набитый рюкзак. — Сейчас, сейчас, сынок… На свет божий были извлечены: большая связка сушек, ярко-оранжевый пластмассовый бидон для молока, матросская бескозырка с золотой надписью на ленте «Балтфлот», резиновые женские боты, скрепленные воедино суровой ниткой, рулон пестрого штапеля, несколько кусков хозяйственного мыла, детский пугач с пистонами, кулек конфет, пара белых батонов, детский вигоневый свитер, на котором было вышито изображение олимпийского мишки, радиолампа и связка разноцветных бельевых скрепок. Федя проявил колоссальную активность. Он тотчас же напялил на себя бескозырку, схватил пугач и стал громко стрелять, распространяя по избе дым и удушливый запах пороха. При этом он ухитрялся одну за другой скусывать с веревки сушки и еще подсовывать в рот извлеченные из кулька карамельки. Его мать заинтересовалась только одним предметом — жгуче-черными обливными ботами. Белыми и крепкими зубами Тося перекусила насильно соединявшую их суровую нитку, сунула босые ноги в боты и уже не снимала их. Примаков дал Тосе денег, она накинула на себя черную выношенную кофту, взяла сумку и отправилась в магазин. После этого на столе появилась бутылка пива, банка консервов «Мойва в томате», кусок белого, отдававшего в голубизну сала с крупными зернами соли, и плитка пластового мармелада. Кроме того, хозяйкой были добавлены чугунок холодной картошки в мундире и краюха черного хлеба. Начался пир. Игорю было не по себе. Нежданно-негаданно, по стечению обстоятельств, он вдруг оказался в селе Соленые Ключи, в этой бедной избе, где стал свидетелем туго закрученного узла чужой жизни. Теперь ему было ясно, что Федя — сын Примакова. Выходит, Таисия — его первая жена? Но как она может быть первой женой, когда их сыну, белобрысому Феде, лет десять, не более, а Лине — дочери Примакова от нынешней жены Дарьи — более двадцати? Эти мысли до того занимали Игоря, что кусок с салом в горло не шел. Примаков заметил это, перестал есть и сказал: — Ты тут, Таисия, приберись, а мы с Игорьком пройдемся, свежим воздухом подышим. — Сходите, сходите, — проговорила Тося, — Феденьку возьмите. Он без папани скучает. — Не! Я лучше к Петьке Косому сбегаю, пусть посмотрит, какой у меня пугач. Он, жила, мне своих голубей гонять не дает. Я ему стрелять из пугача тоже не дам. — Так нельзя, Федя, — строго, по-отечески произнес Примаков. — Надо быть добрее к людям, тогда и они к тебе всей душой. — Как же, жди, — захохотал Федя, обнажив щербатый рот, в котором недоставало одного резца. — Я Петьке сказал, что меня папаня в Суворовское определит, а он как даст, вот зуб выбил. Я ему, косому, стрельну, второй глаз окривеет. — Ну ты… того-етого, посмирнее, суворовец. — Папаня, смотри без меня не уезжай! — И Федю как ветром сдуло. Игорь и Примаков спустились с пригорка. Пыльная дорожка привела их к озерку. По краям в человечий рост стояла зеленая осока, над водой красиво свесилась зеленая пестрядь ветлы. По озеру плыла утка с выводком. Без видимых усилий утиная семейка скользила по зеркальной глади воды, оставляя за собой едва заметный узорчатый след. От воды пахло свежестью. Примаков отыскал взглядом, видно, известную ему с давних пор, скамейку, уселся. Крупное лицо его было задумчиво. — Ты, брат, не осуждай… Жизнь, она, брат, всякая. И то в ней, и это. Ты думаешь так, а она этак… — сбивчиво произнес Примаков. — Да я не осуждаю. Вот только не пойму. — А чего тут понимать… После войны это было. Прислали меня сюда с завода на летний месяц технику подшефным ремонтировать. Поселили в избу к Таисье. Девка добрая, ласковая. А в любви — я такого в жизни не встречал… Однако вернулся в город, об этой истории позабыл. Встретил Дарьюшку, полюбил. Зажили душа в душу. А потом как-то, лет десять назад это было, снова послали меня в эти Соленые Ключи. Увидел Таисию, а она будто и не изменилась. Зазвала в гости, про жену выспрашивала, про дочку. Ласковая была такая. Через год дошли слухи — Таисия родила. Это крест мой. Ей от меня ничего не надо, не просит, не требует, а ведь сын-то мой. Ему есть и пить надо. Вот и везу воз. — А Дарья Степановна? — Даша? Она все знает. Поняла. И простила. Золотая женщина. Поверишь ли, затормошусь я, забегаюсь, забуду денег послать, так она напомнит. У нас, говорит, дом полная чаша, сыты, обуты, в достатке… А как они там? Одежонку надо собрать да денег… Это ж твой сын, Митя. Утка достигла берега и, потеряв прежнюю осанистую грацию, тяжело переваливаясь на перепончатых лапах, стала взбираться по крутому склону. Утята, сломав строй, врассыпную двинулись за ней. Слышалось кряканье, писк, хлопанье крыльев. Игорю невесело было от только что услышанной исповеди. А ведь казалось, в Лининой семье так все просто и ясно, что и скрывать нечего. От примаковских тайн мысли Игоря повернулись к собственной семейной тайне. Судя по всему, Дмитрию Матвеевичу было не до него. Приезд в деревню, свидание с Тосей и сыном, казалось, не оставляли в его душе места для чужих дел. Тем не менее Игорь попытался завязать разговор, ради которого ехал сюда, за столько верст. — Я знаете о чем думаю? — сказал он. — Может быть, мой дед у этого озерка курил в последний раз? Он ведь в этих краях погиб… Примаков с усилием оторвался от своих невеселых мыслей: — Да, ты говорил… — Говорил, да не все… — Игорю захотелось рассказать обо всем Примакову. Словно откровенность, с которой тот раскрыл перед ним душу, требовала ответной откровенности. — Бабушка писала — дед погиб при странных обстоятельствах. И похоронка какая-то странная. Ничего из нее не поймешь. Погиб, и все. А где, как — не поймешь. Я в газете заметку тиснул. Один подполковник в отставке написал ей: мол, лучше вам правды не доискиваться. Не ворошите прошлое, так лучше будет. А мы с бабушкой не верили, что дед мог сплоховать. Не такой был человек. И на фронт добровольцем пошел. — Это когда же было? Больше сорока лет назад, Было и быльем поросло. — Может, для кого и поросло, да не для меня. Если хотите знать, я жить дальше не могу, пока про деда досконально все не выясню… — Игорь даже вскочил от волнения. — Да ты не горячись… Я разве против… Иногда будто затмение найдет: своя болячка болит, а до чужой и дела нет. Прав ты, тысячу раз прав. Пойдем, Таисию поспрошаем, может, что скажет. Они вернулись в избу. Тося слегка прибралась, да и сама принарядилась, на голову накинула синюю косынку с белым горохом. По замятинам было видно, что платок в сложенном виде хранился в сундуке и извлекался редко. — Тося! — сказал, обращаясь к женщине, Примаков. — Я телевизором и холодильником займусь. А ты с Игорем потолкуй. У него дед в этих местах воевал. Ему интересно, что и как тут у вас было. Тося не захотела при Примакове рассказывать про войну. Вышла с Игорем из дому, уселась на завалинку и начала, да так быстро и складно, как будто рассказ этот давно уже сложился у нее в голове и теперь только оставалось высказать его вслух.Рассказ Тоси Деевой
Я перед войной седьмой класс прикончила. Семь да семь — четырнадцать. Да еще два года прибавьте, по болезни пропустила — менингит у меня был. Так что мне тогда аккурат шестнадцать исполнилось. В мае. Говорят, кто в мае родился, тому всю жизнь маяться. Не знаю: правда это или нет? Мать у меня хворая была. Ревматизма ее скрутила. Поверите, месяцами с печки не слезала. Так лежнем и лежала, а хозяйство все на мне. Все я. И огород вскопать, и воды принести, и картохи наварить. А еще мать обиходить надо. Она от болезни нервная сделалась, что не по ней, криком кричит, аж уши закладывает. Девки и парни по вечерам возле клуба собираются, на гармони играют, семечки лузгают, пляшут. А я дома с хворою матерью сижу. «За порог ни на шаг не смей, говорит. А то тебя в момент какой-нибудь оболдуй омманет. Вот поднимусь, тогда и пойдешь, напляшешься. Будет кому за тобой, девка, приглядеть. А сейчас ни-ни…» А ведь чего нельзя, того больше жизни хочется. Ну да скоро не до того стало. Война началась и к нам придвинулась. Поначалу немцы село обошли. И оказались мы в окружении. Живем как жили, однако чуем: война тут, рядом. То зарницы над лесом полыхают — пожары, значится, то гром не ко времени гремит, догадываемся: пушки палят. А однажды самолет прилетел, непонятно чей, ихний или наш, ночью дело было. Бомбы на картофельное поле побросал и улетел. Сумасшедший, что ли? Вскоре красноармейская часть через село прошла. У кого голова поранена, бинт весь в крови, у кого рука на повязке, а кто на палку опирается, кое-как ковыляет, того и гляди, упадет. А те, кто идти совсем не могли, на подводах лежали. Стонут, пить просят. Мы им тащим, а санитар отгоняет: нельзя, мол, помрут. И наревелись же мы! Однако слезами горю не поможешь. А потом недели две никого нет, ни этих, ни тех. Ни слуху, ни духу. И мы затаились, ждем. Как-то ночью — стук. Тихий такой, осторожный. Мать с печки: «Немцы!» «Да нет, — говорю, — фашисты не будут тихо скрестись…» — «Умна больно, — мать шипит. — Да ты прикройся, чего выставилась». Напялила я мамкину кофту, у нас на двоих одна была, и к двери. Открываю, чуть от радости не сомлела, наши! Два красноармейца в пилотках. «Немцев нет?» — «Да нет, какие немцы. Мы с маманькой вдвоем». Один из них, рыжий, говорит: «А маманька не старая?» А я, дура дурой, отвечаю: «Не старая… на печи лежит». — «А печь-то теплая? Что-то я захолодал…» Тут второй, пониже ростом и чернявый, вроде цыган, рыжего локтем под бок: «А ну прекрати… не на прогулке». Достала я наши нехитрые припасы. Рыжий глянул на стол: «Не густо. Надо было выбирать дом побогаче». А я говорю: «Я сейчас сало принесу… У нас шматок припрятан и самогона полбутылки есть». Мать повернулась на печи, однако ни слова не сказала. А я стрелой — в погреб. Уж больно боялась, что уйдут. Не хотелось мне этого. Ой как не хотелось. Уселись втроем за стол. Чернявый все про гитлеровцев выспрашивает — были ли, не слыхать ли, далеко они или близко. «Тимоша, докладываю, бегал на шоссе, целый день в кустарнике пролежал, хотел фрица из дедовского охотничьего ружья подстрелить, нет, говорит, никого». — «Это хорошо, что нет», — чернявый достает из кармана карту и делает пометку. Поели они, самогона выпили. И мне рыжий налил. Я, была не была, выпила. Семь бед — один ответ. Все одно, уйдут, мне от матери и за сало, и за самогон достанется. «Ну, пошли», — говорит чернявый и привстает с лавки. А я, не знаю, что со мной приключилось, прямо в голос кричу: «Ой, дяденьки, не уходите! Останьтесь… А то после вас немцы придут». Как будто дите малое и не понимаю, что двое солдат от фашистов село не уберегут. «Сядь, сядь… Девка дело говорит. — Это рыжий чернявому. — В темноте на немцев напоремся, прямо к ним в лапы попадем и задания не выполним. Переночуем здесь, а чуть рассветет, и двинем…» И ко мне обращается: «А ты нас дядюшками не зови. Большая уже. Шестнадцать исполнилось? Ну, то-то. Мы тебе не дядечки, а женихи, поняла?» — «Поняла», — отвечаю, а сама огнем горю. Уж больно у этого рыжего глаза охальные и рукам волю дает… «Ну ладно. — Чернявый снова опустился на лавку. — Где ты нас только уложишь? Тесно тут». — «А я на полу постелю. Сначала сена натаскаю, потом одеяло брошу. И хорошо будет». — «Сама-то где?» — спрашивает рыжий. «Там, за загородкой…» А сама вся дрожу. И голос не повинуется. Погасили свет, улеглись. Сначала я от волнения уснуть не могла. Все прислушивалась. А потом сомлела и будто провалилась. Вдруг чую — не одна я. Рыжий, откуда ни возьмись, привалился ко мне, в ухо шепчет: «Молчи, девка, молчи. Свой». Я слово сказать боюсь, вдруг мать проснется, тогда скандалу не оберешься. Вдруг тень из угла метнулась, это чернявый мне на помощь подоспел. Схватил рыжего за плечо да как дернет, так что майка затрещала. «А ну убирайся, кобель. Оставь девку». Рыжий вскочил и на товарища своего: «Ты что?» А чернявый ему как врежет. Тут мать проснулась, с печки орет: «Вы что, охальники, делаете, а ну по местам! Сейчас ухватом огрею». Чернявый спокойно отвечает: «Хотели по нужде выйти, да не знаем, где второй запор. Он что у вас — секретный?» Мать засмеялась: «Запор в самом верху. Крючок там, вот весь секрет». Чуть за окошком рассвет занялся, чернявый рыжего растолкал, и они стали собираться. Чернявый расспросил еще про Тимошу, который на шоссе за немцами с ружьем бегал. Далеко ли живет? Не согласится ли проводить их к дороге? Я быстро подхватилась — и к Тимоше. Привела его. Он солдатам и говорит, басом, чтоб старше казаться: «Согласный я. Одно условие. Потом меня с собой возьмите. Вместе будем к своим пробиваться. Вы ступайте, я догоню». Больше я их не видала. — А Тимоша где? Жив? — спросил Игорь. — Не повезло ему. На мине подорвался. Ногу оторвало. Жив ли, помер ли, не знаю. Пропал где-то. — А те два солдата по именам друг друга не окликали? — Да я не упомнила. Сколько лет минуло. Сколько воды утекло. Разве упомнишь? …Игорь и Примаков забрались на сеновал, переночевали. А на рассвете двинули в обратный путь.ДИРЕКТОР И ШОФЕР
Аллея передовиков начиналась прямо от заводоуправления. Среди буйной зелени — посеребренные ажурные арочки, покосившиеся мачты фонарей с молочно-белыми гроздьями лампионов и шеренги портретов по обе стороны. Кое-где асфальт потрескался и вспучился. «Надо немедленно положить новый асфальт, — подумал Роман Петрович. — Тут должен быть полный порядок». За те годы, которые Беловежский проработал на привольском заводе, он, конечно же, множество раз проходил этой аллеей и видел вспученный, потрескавшийся асфальт, но именно сейчас, когда он стал директором, вдруг остро ощутил, что значит быть хозяином, нести ответственность за такой большой и громоздкий механизм, каким являлся привольский завод. Он пришел сюда двадцатидвухлетним парнем, прямо со студенческой скамьи. Назначению в Привольск обрадовался. И не только потому, что края благодатные — городок раскинулся у самого синего моря, белые домики утопают в зелени садов, а солнце щедро греет землю и летом, и зимой. В этих местах воевал, выходил из окружения отец Петр Ипатьевич. И уже по одному этому Привольск был ближе, роднее Роману Петровичу, чем десятки других мест, куда могла его занести непреклонная воля институтской распределительной комиссии. Вообще-то Роман Петрович и по облику, и по душевной организации был ближе к матери, чем к отцу. У матери сила была запрятана где-то глубоко-глубоко, в самых недрах ее существа, и проявлялась редко, в самых главных моментах ее жизни. У отца же его сила бурлила и пенилась постоянно, проявляя себя шумными выходками, брюзжанием, вспыльчивой обидчивостью по отношению ко всем — и ближним, и дальним. Поэтому Рома с детства сторонился отца, старался бывать наедине с ним как можно реже. В институт уехал с чувством радостного облегчения, предощущением желанной свободы. При распределении не выискивал завода поближе к родным местам, как некоторые, готов был ехать куда угодно. Прибыв в Привольск, первое время тешил себя надеждой, что, побывав на местах боев, в которых участвовал отец, он отыщет людей, знавших его в ту пору, и узнает, каким отец был тогда. Почему-то ему казалось, что вспыльчивым, раздражительным, мелочным отец стал позднее, уже после перенесенных тягот и разочарований, а во время войны был бесшабашно храбрым, спокойным и волевым командиром, наподобие тех, что мелькали на экранах кинотеатров в многочисленных фильмах о минувшей войне. Однако единственным однополчанином отца оказался завгар Лысенков. Как-то Беловежский попробовал завести с ним разговор об отце. Лысенков цепко посмотрел на него маленькими, в желтую крапинку глазами, усмехнулся и проговорил: «Папенька ваш серьезный был мужчина. Чуть что не по нем, тут же ножками затопочет, из ручек на пол все побросает и как закричит…» Роман Петрович поспешил оборвать разговор, обещавший стать неприятным. В конце концов, сказал себе Беловежский, его привели сюда не ностальгические воспоминания об отцовской молодости, не пленительная близость теплого моря, не благоухание садов, его привела сюда жажда работы. И он будет работать. Может быть, потому, что Роман Петрович совершенно не думал о карьере, она ходко шла сама собой: мастер, цеховой технолог, зам. начальника цеха, начальник цеха, зам. начальника производства, начальник производства. И вот — директор. С одного из портретов Аллеи передовиков на Романа Петровича глянуло лицо слесаря Примакова, отца Лины. Фотография выгорела и покоробилась — от времени или от дождей, а скорее всего от того и другого вместе. Может быть, поэтому Роман Петрович не углядел на круглом лице Примакова выражения обычного добродушия. Примаков показался ему сегодня строгим и даже сердитым. Вновь, как когда-то, Беловежский почувствовал себя перед ним виноватым. И дело тут не в одной только примаковской дочери, которой он совсем заморочил голову и продолжал еще морочить, а в самом Примакове! Дмитрий Матвеевич занимал на заводе при прежнем директоре Громобоеве особое положение. Недаром тот всегда сажал рабочего рядом с собой в президиуме и прихватывал его в служебные командировки. Честный, работящий, всю свою сознательную жизнь отдавший заводу, Примаков долгие годы по праву пользовался уважением и руководства, и коллектива. Но что-то изменилось в отношении к нему на заводе в самое последнее время. Беловежскому бросилось это в глаза на последнем партактиве. Председательствующий начал объявлять состав президиума. Примаков, не дожидаясь, когда назовут его фамилию, приподнялся со стула. В зале засмеялись. Довольно беззлобно, потому что знали: Примаков, конечно, в списке президиума значится, вот только спешить не стоило. Прежде бы нечаянную неловкость старика не заметили бы, сейчас — мгновенно усекли. Беловежский отметил про себя: время другое. Люди не хотят мириться с ролью статистов, за которых кто-то когда-то и раз навсегда что-то решил, даже если речь идет о такой малости, как эта: кому сидеть на сцене. Беловежский уже принял решение: «не носиться» с Примаковым, трезво взглянуть на его истинное место в заводском коллективе, то есть постараться отнестись к нему строго объективно, независимо от своих личных симпатий и антипатий. Но откуда взяться объективности, если Лина не идет у Романа Петровича из головы, если его продолжает томить чувство вины перед ними обоими — перед дочерью и отцом. Усилием воли Беловежский заставил себя перво-наперво отправиться в механический цех, где работал слесарь Примаков. Он давно взял себе за правило понуждать себя к преодолению собственного нежелания, особенно в тех случаях, когда оно продиктовано чем-то личным и преходящим. Оказавшись в цехе, начал озираться, отыскивая взглядом круглое лицо Дмитрия Матвеевича, однако старого слесаря на месте не оказалось. Беловежский вздохнул с облегчением: в памяти еще свежа была недавняя неприятная сцена в вагоне-ресторане. Тем не менее, хотя самого Примакова в цехе не было, его фамилию громко склонял на разные лады стоявший у исписанной мелом доски показателей слесарь Шерстков, худой парень с высоким резким голосом. Месяца два назад в его лохматую, не знавшую расчески голову пришла идея вернуть полумуфту назад, на фрезерный участок. «Пусть отфрезеруют как положено, в строгом соответствии с чертежным размером. Тогда и мне меньше потеть придется», — заявил он. Нельзя сказать, что Шерстков был совсем не прав. Фрезеровщики нередко делали свою работу на глазок, не без оснований полагая, что их огрехи будут впоследствии устранены слесарями при доводке деталей. Слесари, в свою очередь, мирились с таким положением. Для них главное было, чтобы детали поступали на участок бесперебойно. Это позволяло работать без простоев, которые отрицательно сказывались на заработке. Подними вопрос о некачественной работе фрезеровщиков кто другой, и бригадир Бубнов смолчал бы. Но Шерстков имел устойчивую репутацию лодыря и горлопана, доверия ему не было, поэтому его «инициатива» восторга не вызвала. Бригадир взъярился. Но как он ни честил Шерсткова, как ни сверкал глазами, требуя от него не заводить бузу, а вернуться к верстаку и приступить наконец к работе, тот не поддался. Настоял на своем. С фрезерного участка Шерсткова, против ожиданий, не турнули. Отнеслись с пониманием. Повторная фрезеровка вчетверо снизила объем слесарно-пригоночных работ, соответственно — вчетверо возросла и выработка Шерсткова. Бубнов усмотрел в успехах молодого слесаря подвох и направился к мастеру. Тот, однако, заявил, что Шерстков внес ценное рацпредложение и вправе пользоваться его плодами. Весть об этом происшествии облетела весь цех. Люди посмеивались. Достижение Шерсткова воспринималось как курьез, не более. Но дальше — больше… Теперь Шерстков не столько возился с металлом, сколько с чертежами. Если что было неясно, отправлялся к технологам, просил растолковать, что к чему. И, как правило, с их помощью вносил предложение, позволявшее облегчить и ускорить работу по подгонке. — Ишь ты… — бесился бригадир. — Другие за него работают — то технологи, то фрезеровщики, а на днях и на штамповку бегал… А выработка не у кого-нибудь растет, а у него. Неверно это! Что хотите говорите, а я буду повторять: лодырь он! Не поленился — сходил к начальнику цеха, поделился своими сомнениями. Ежов так же, как и мастер, не поддержал Бубнова, сказал: — Сколько выработал, столько и пиши… Не понимаешь, что ли, что он на план работает? Вот так получилось, что по выработке Шерстков обогнал других рабочих участка. Он даже внешне изменился, остриг лохмы, засаленную, неопределенного цвета ковбойку сменил на светлую рубашку. В его движениях стало меньше суетливости. Теперь ему некогда трепаться, надо работать, гнать проценты. С нетерпением ждал Шерстков очередной зарплаты. Она превзошла все его ожидания. — Во, братцы, сколько! И не унесешь. Теперь живем! Ставлю два ящика пива! Раз подфартило, надо отметить, — рассовывая деньги по карманам, растерянно бормотал он. Но вскоре выяснилось, что Шерсткову мало хорошего, за три сотни, заработка. Он жаждал другого — признания и славы. Сегодня на доске показателей мелом были выведены итоги работы слесарей за месяц. Шерстков ожидал увидеть свою фамилию в самом верху, может быть, даже впереди фамилии Примакова, уже много лет подряд никому не уступавшего первенства. И что же? Его фамилия затерялась среди других где-то в середине колонки. Напротив его фамилии в графе «процент выполнения нормы» стояло всего 103 процента. Шерстков бегом бросился к бригадиру. — Как же так! — фальцетом кричал он. — Откуда сто три, да я же одной зарплаты триста двадцать получил! Я этого так не оставлю. Бубнов, заранее подготовивший себя к этому разговору, ответил подчеркнуто спокойно: — Не базарь, Шерстков. Заработком доволен? — Ну… — Еще бы. Получил столько, сколько заработал. В сверхурочное время. — То есть как в сверхурочное? — ошалело выкатил на бригадира глаза слесарь. Бригадир, не отвечая на вопрос, продолжал: — А все, что сделано сверхурочно, согласно положению, в процент выполнения не входит. Последних слов бригадира Шерстков уже не слышал. Он уже бежал по проходу между верстаками, направляясь к начальнику цеха. Ежов так же, как и бригадир, ожидал бурной атаки, — однако на сверхурочные ссылаться не стал. Не с его характером, крутым и властным, юлить и выворачиваться. — В передовики захотелось, Шерстков? — спросил он, заиграв желваками на худых, плохо выбритых щеках. — А кто в понедельник на час опоздал на работу? Почему вчера после обеденного перерыва от тебя пивом за версту пахло? С Примаковым захотел тягаться? Да Примаков — это… честь цеха, гордость завода. И неужели я допущу, чтобы какой-то… — Ежов поискал необидное для Шерсткова слово, но не нашел. Помолчал, закончил миролюбиво: — Вообще-то ругать мне тебя не за что. Голова у тебя заработала — это хорошо. Вовремя за ум взялся. А то мы уже собрались тебя, Шерстков, того… на выход. Чтоб не тянул коллектив назад. Слесари на бригадный подряд переходят, им за тебя ишачить не с руки. — Еще неизвестно, кто за кого ишачит! — заносчиво воскликнул Шерстков. Однако было видно: резкие и откровенные слова начальника цеха сбили с него спесь. — Значит, так: первое место ты пока не заслужил. Однако мы тебя не обидим. Обсудим твои предложения как рационализаторские, еще деньжат получишь. И немалую сумму. Но помни: во все глаза будем за тобой смотреть. Будешь нарушать — ответишь. И на проценты не посмотрим. Ступай! Шерстков вернулся на участок взвинченным до предела. Все, что он не посмел сказать начальнику цеха, бурлило в нем, искало выхода. Он подошел к бригадиру и замахал руками у него перед носом, не замечая, что тот занят разговором с каким-то мужчиной. — Вы из меня лопуха не делайте! Как план выполнять, так Шерстков, а как в президиумах сидеть, так Примаков. Шерстков на час опоздал — грозятся выговором. А Примакова полдня в цехе нет, неизвестно где шастает — и он в передовых! Бубнов сделал полшага в сторону, и Шерстков узнал в собеседнике бригадира — Беловежского, нового директора завода. Слесарь примолк, ожидая строгого окрика — Громобоев был скор на расправу, может, и новый такой же? Беловежский, однако, приятно его удивил. Протянул руку: — Поздравляю с успехом, Семен Яковлевич! Ваш опыт мне представляется весьма перспективным. Очень важно повышать выпуск продукции не за счет усиления отдачи мускульной энергии, а при помощи рациональной организации труда. Я предупредил вашего бригадира, что к вам придет инженер из отдела труда. Так вы, уж будьте добры, не таите своих секретов… — Директор обернулся к бригадиру: — А где у нас сегодня Примаков? — На конференции… Горком профсоюза проводит. Делится опытом. Роман Петрович поморщился. — Нам бы впору не своим опытом делиться, а самим у кого призанять. — Из парткома звонили. Просили отпустить, — уловив в тоне директора нотки недовольства, поспешил оправдаться бригадир. — Да… да… Я с ними поговорю. Так нельзя. Общественной работой надо заниматься в нерабочее время. А в рабочее — надо работать. До свидания, товарищи! И директор покинул цех. — Ага… И Примакову твоему досталось! — не преминул позлорадствовать Шерстков. Но Бубнов так шуганул его, что парень оборвал фразу на полуслове и шмыгнул к своему верстаку.___
Беловежский скользнул взглядом по выжженной на деревянной пластине надписи «Вычислительный центр» и потянул на себя выкрашенную ярко-красной краской дверь. Ему захотелось из шума и сумятицы закопченного механического цеха с его металлическим лязгом и духотой, из цеха, олицетворявшего вчерашний день завода, перешагнуть в завтрашний день. Светлый просторный зал ВЦ вдоль стен был плотно уставлен оборудованием: вычислительные машины, всевозможные перфораторы, шкафы для запчастей и материалов, стеллажи, столы, тумбочки, телетайпы, телефоны и пишущие машинки. Все, кроме телефонов и машинок, было выкрашено в серебристый цвет, что придавало помещению и всему, что тут находилось, черты праздничной торжественности. Было тихо. — Есть тут кто живой? — поинтересовался Роман Петрович. — Есть, есть… — Из смежной комнаты вышел молодой бородач в джинсах. На поясе, позванивая, болталась большая связка ключей. — Злотников? А где остальные? — спросил Беловежский. — По агентурным данным, в буфете дают апельсины, — сообщил бородач. — Их обязательно давать в рабочее время? — нахмурившись, спросил Роман Петрович. — А когда же еще? В нерабочее время на заводе никого нет, — резонно отвечал Лева. Роман Петрович вынужден был с ним согласиться. Сравнительно недавно, будучи таким же, как Лева Злотников, молодым специалистом, он тоже бегал в буфет за апельсинами — и не всегда в перерыв. — А вы что ж — не любите апельсины? — На мою долю обещали взять, — отвечал Злотников. Беловежский подумал, если бы сейчас в этот зал вошел человек повыше его чином, скажем, сам министр, то Лева и с ним так же спокойно говорил бы об апельсинах. — Вам что-нибудь требуется? — вежливо поинтересовался Лева. — Может быть, информация о ходе выполнения плана? — Нет. У меня же в кабинете дисплей. Так что я в курсе. — Понятно. Но по немного удивленному выражению Левиного лица было ясно, что причина появления директора в ВЦ ему не совсем ясна. Впрочем, была ли она до конца ясна самому визитеру? Пауза, однако, затягивалась. — Скажите, вы считаете, что вся эта петрушка полностью оправдывает себя? — Беловежский уселся на стоявший рядом стол, упершись в пол одной ногой и качая другой. Рукой он очертил все вокруг. Злотников пожал плечами. — По некоторым данным, по меньшей мере восемьдесят процентов областей применения вычислительной техники еще не известно. — А если взять уже известные области, то здесь дело как обстоит? — Ну, кое-что мы делаем, — запустив пальцы в бороду и почесывая подбородок, проговорил Лева. — Кое-что… Это не ответ инженера. Лева слегка покраснел. В его голосе прозвучал вызов. — Вы тоже инженер, товарищ директор, и прекрасно знаете… Наше АСУ позволяет рассчитывать подетальный план, потребность в основных ресурсах, наладить оперативный учет хода производства. Ну вот, пожалуй, и все. — Я это знаю. Вопрос мой такой: что качественно нового привнес вычислительный комплекс в нашу работу, что он дал руководителям служб, цехов, участков? Плановикам и экономистам. Улучшилось ли коренным образом управление предприятием? Каков экономический эффект АСУ? — Вы бы, Роман Петрович, лучше поговорили на эту тему с главным инженером, — проговорил Злотников, морща высокий лоб и сосредоточив свое внимание нараскачивающейся, словно маятник, ноге директора. — Ну, спасибо за совет, — иронически проговорил Беловежский и встал со стола. От неудобной позы нога затекла, и по ней забегали мурашки. — Постойте, — громче, чем нужно, проговорил Злотников, опасаясь, что директор мгновенно исчезнет и он не успеет развеять неприятное впечатление, которое, по-видимому, на него произвел своим уклончивым ответом. — Вас действительно всерьез интересует?.. — Нет. Я с вами хотел пошутить. — Извините. Теперь уже Злотников уселся на стол и начал раскачивать ногой, а Беловежский стоял, прислонившись к высокому металлическому шкафу. Он приятно холодил спину. — Насколько я понимаю, вопросы теории АСУ вас сейчас не очень занимают? Беловежский ответил: — В принципе — занимают. И очень. Но сейчас меня волнует другое. Мы внедрили первую очередь АСУ. Пора браться за вторую. Я хочу вас спросить: принесет ли она нам качественные перемены? — Я вам расскажу одну байку, — пощипав бородку, сказал Лева. — В XVIII веке жил один гениальный монах. Его звали Жак де Вокансон. Он сконструировал и построил утку из золоченой меди. Она крякала, хлопала крыльями, пила воду и клевала пшеничные зерна. Здорово? Но этого мало! Зерна «переваривались» в ее желудке с помощью химических реактивов и выделялись наружу… в виде… ну, вы понимаете в виде чего. И все-таки ей было далеко до кибернетической утки! Так же, как нашему ВЦ далеко до искусственного мозга. — Вы полагаете, что мы вырабатываем нечто похожее на то, что вырабатывала утка этого Жака? — усмехнулся Роман Петрович. — Нет, конечно. Но что касается второй очереди АСУ, то и она вряд ли полностью оправдает наши ожидания. — Почему? — Вы знаете это не хуже меня. У АСУ две функции. С первой она у нас более или менее справляется. Я имею в виду календарное планирование, контроль, учет и тому подобное. А вот когда доходит до оперативно-технологического управления, тут дело обстоит хуже. А ведь эффективность АСУ определяется тем, насколько синхронно работают два контура управления. — Как, по-вашему, заставить работать второй контур? — В общих чертах это ясно. Нужна передовая технология, более совершенная организация труда. — В общих чертах? А конкретно, применительно к нашему производству? Лева как бы нехотя произнес: — Есть кое-какие мыслишки. — Предложите что-либо толковое, просите что угодно! В глазах Злотникова просверкнула веселая искорка. — Да вы же ничего не можете. — Я?! — Да, вы… Директор. Вы даже не можете официально повысить мне оклад за пределы установленной «вилки». — А вот и могу… — …Назначив меня на какую-нибудь командную должность? — Допустим. — Но тогда я перестану быть творческим инженером, а стану посредственным руководителем. Так что вертикальный способ поощрения тут не подходит. — Как вы сказали, вертикальный? — Да. Рост по вертикали. Он не дает повышения КПД инженеров. Необходимо изобрести другой, горизонтальный способ поощрения. То есть установить систему увеличения оклада инженера по мере роста его творческого вклада. — Вон куда махнули… Вам что, деньги нужны? А для чего? Злотников ответил: — У меня двое детей. И жена не работает. — И квартиры нет? — Беловежский задал этот вопрос с затаенной надеждой. К концу года войдет в строй заводской дом. Может, удастся помочь парню? Однако Злотников ответил: — С квартирой вполне терпимо. Жить можно. У других хуже. Сегодняшнее посещение вычислительного центра, сразу же вслед за механическим, оставило у Романа Петровича ощущение, что выход из создавшегося положения есть… Неопрятность и захламленность, бывшие, казалось, неотъемлемыми приметами ремонтно-механического цеха, низкая технологическая дисциплина, на фоне которой даже Шерстков выглядел смелым новатором, «ловцом микронов»… А совсем рядом, в нескольких шагах, — ослепительно чистый зал ВЦ, точно храм таинственного высшего божества, обладающего и силой, и властью… Но подлинной силы и власти не было. Автоматизированная система управления пока ничем не управляла, ограничиваясь скромными функциями поставщика текущей информации. Завод задыхался от отсутствия инженеров, а несколько десятков человек — лучшие из лучших, сосредоточенные в отделе развития АСУ, по существу выполняют эффектную, но тем не менее малоэффективную роль служителей культа НТР, жрецов при храме ВЦ. У Романа Петровича не шел из ума рассказ молодого инженера Злотникова о золотой утке изобретательного монаха. Неизвестно, какая от нее была польза, от этой утки, но зерна-то клевала золотые, в этом не было никакого сомнения! Да, решение было где-то здесь, рядом, но ухватить его за радужный хвост пока не удавалось. Тем не менее Роман Петрович, закрыв за собой вызывающе красную дверь вычислительного центра, шагал увереннее, смотрел веселее. Однако по дороге в заводоуправление ему снова пришлось пройти Аллеей передовиков, снова мелькнуло перед глазами лицо Примакова на портрете, и радостное настроение померкло. Роман Петрович не вполне был доволен тем, как повел себя сегодня в механическом цехе, где он решительно встал на сторону слесаря Шерсткова, активно поддержал его. Разве ему было неизвестно, что представлял собой этот шелопут Шерстков? Отлично известно! Как-то Беловежскому довелось присутствовать на заседании завкома, где Шерсткова прорабатывали за частые прогулы. Он и в этой, явно невыгодной для него ситуации, не растерялся, начал оправдывать свое поведение ссылками на плохую организацию труда. Причем делал это изобретательно, ловко. Слушая Шерсткова, Беловежский не мог не признать, что в словах его немало правды. Неразбериха, расхлябанность в производственной сфере невольно влияет и на нравственную обстановку, воспитывает не работников, а антиработников. …А вообще-то этот Шерстков парень не без способностей. Голова варит. Сначала заставил фрезеровщиков строже соблюдать допуски при обработке деталей. А теперь, говорят, зачастил и к технологам, доискивается: не могут ли они за счет совершенствования технологии уменьшить объем слесарно-пригоночных работ? Старому опытному слесарю Примакову это не пришло в голову. Почему? Ну, это ясно. Дисциплинированный, исполнительный Примаков беспрекословно делает то, что положено. Разве он решится взять под сомнение чертеж, технологическую карту? Да ни в коем случае! А вот Шерстков, побуждаемый не совсем благородным желанием переложить часть своей работы на других, сделал это и добился успеха. В первую очередь, конечно, для себя. Не затрачивая дополнительных физических усилий, он повысил выработку, соответственно возросла и зарплата. Но ведь производство тоже выиграло! Беловежский поддержал Шерсткова и, видимо, правильно сделал. Но при этом он позволил себе раздражительное высказывание по адресу отсутствующего Примакова. Теперь его слова пойдут гулять по заводу и, без всякого сомнения, дойдут до ушей самого Примакова и его дочери Лины. Эта неприятная мысль не могла отвлечь Романа Петровича от других, более важных мыслей, которые родились у него в это утро, после недавнего посещения механического цеха и вычислительного центра. Надо перекинуть мост — от первого ко второму. От вчерашнего дня — к завтрашнему. Но вот как это сделать?___
Неожиданно Игорю в гараж позвонила Лина и назначила ему свидание — в двенадцать часов дня. Она сказала, что собирается к директору краеведческого музея Окоемову и что этот человек может оказаться полезным Игорю в поисках его деда. Игорь обрадовался — и звонку Лины, и ее предложению, и тому, что может это предложение принять. Беловежский вместе со Славиковым утром уехал в областной центр на машине парткома, и первая половина дня была у Игоря свободной. Фамилия директора музея, Окоемов, была ему знакома. Это с ним Лина ходила в театр в тот день, когда Игорь вместе с Примаковым ездил в деревню Соленые Ключи. Об этом упомянул тогда в разговоре Линин отец. Лина и Игорь встретились возле проходной. На девушке был комбинезон из джинсовой ткани с огромными металлическими пряжками на груди. Лучи солнца сверкали на пряжках, заставляли Игоря жмуриться. «Ишь, разоделась, — подумал он. — А для кого? Для меня или для этого… поэта?» Было видно, что Окоемов ждал их. В белой рубашке, украшенной по всему полю красными корабликами, и с выбивавшимся из распахнутого ворота синим шелковым шарфом, он, подтянутый и моложавый, расхаживал по своему участку, поглядывал на улицу. В тот момент, когда «Волга» подъехала к дому поэта, он, видимо, не ожидавший, что Лина прикатит на машине, стоял у забора, уцепившись руками за жерди. — Ах, это вы? — он смутился, выдав своим смущением владевшее им нетерпеливое желание встречи. — И этот молодой человек тоже с вами? После вырвавшейся у поэта фразы Игорь почувствовал себя третьим лишним, но Лина взяла его за руку и потянула за собой. Игорь толкнул царапавшую землю калитку, и они вошли на участок. Окоемов бросился показывать дорогу, но найти ее было нетрудно — недавно посыпанная свежим, желтым песком, она вела к столу под вишнями. Они уселись на лавку. — Лавр Денисович, мы к вам по делу. Нужна ваша помощь. Игорь, расскажите… Выслушав спутника Лины, Окоемов задумался: — В архиве? Да, да… Там много всего. Но все это не разобрано. Вы знаете, нужны средства, нужны руки… Я требовал, писал. Но не дают. Есть первоочередные нужды… Знаете что? Я ведь сам начинал воевать здесь, под Привольском. Корреспондентом фронтовой газеты. А как фамилия вашего деда? — Коробов Иван Михайлович. Он был солдатом. — Коробов… Коробов. Что-то знакомое. Но вспомнить не могу. Как же вам помочь? У меня ничего не осталось от того времени. Только одно стихотворение. — Стихотворение? Вы можете прочесть? — быстро спросила Лина. — Хотите? Да? Окоемов пошевелил губами, припоминая забытые строки.___
Освобождая проезжую часть, Игорь приткнул «Волгу» к белому домику, чуть не въехав в горницу, посреди которой — это было видно в распахнутое оконце — на столе с вышитой скатертью стоял начищенный до блеска самовар. Солнце светило ярко, изумрудная гладь бухточки дышала прохладой и свежестью. Все было бы хорошо, если бы не мысль, что Окоемов знает про эту бухточку. Выходит, они были здесь вместе? Однако, захваченный радостным ощущением близости к Лине, он сейчас не мог думать о чем-то грустном. Обсыхая после купанья, Игорь лежал лицом вниз на теплом песке, широко раскинув руки, и поглядывал на Лину. Его собственное тело по сравнению с телом девушки казалось некрасивым — кожа была темной, словно дубленой, под ней бугрились мышцы. И его сандалии, которые неподалеку валялись на песке, тоже были большие, грубые. А Линина босоножка казалась легкой, изящной, невесомой. На ее внутренней стороне сквозь налипшие песчинки проступала золоченая марка фирмы… Однако нельзя было молчать дальше, и он спросил: — Лина, вам нравится работа в музее? Она приподнялась, повернулась на бок, лицом к Игорю, и заговорила: — Как-то я полезла в мамин сундук, хотела из старой скатерти платье сделать. И увидела пачку писем… Это папка писал с фронта. Я стала читать… и просидела за полночь. Вообще-то он писать не очень умеет. У него руки хорошие. Смастерить что хочешь может. А вот писака никакой. И все равно так интересно было! И страшно! Когда мне в отделе кадров предложили пойти работать в музей, я вспомнила об отцовских письмах и согласилась. Понимаете, Игорь, такие письма-треугольники есть у всех. В каждой семье. А если собрать их, то будет летопись нашей жизни. На днях я написала обращение в многотиражку… просила приносить и сдавать в музей все, что сохранилось с прошлых лет, вырезки из газет, дневники, письма… Уже многие приносят. Письма из прошлого… — Мы с бабушкой тоже получили одно такое письмо. Про деда. Про то, как он погиб. При каких обстоятельствах. Только из этого письма ничего нельзя было понять. Путаное. Как будто писал ребенок. Или сумасшедший. У Лины загорелись глаза. Она села на песке, поправляя разлетавшиеся волосы. — Почему вы мне об этом письме ничего не говорили? Где оно? У вас? — Его у меня нет, — упавшим голосом ответил Игорь. — Письмо украли. — Украли? Кто? Зачем?! Пришлось Игорю рассказать Лине о смерти бабушки, о беспорядке, который он застал в комнате, когда примчался по тревожному звонку из ЖЭКа, о пропаже письма, о поездке в деревню, неподалеку от которой, как утверждал безымянный автор, погиб при необычных обстоятельствах его дед. Лина сказала: — Как замечательно, Игорь, что у вас в жизни есть такая большая цель — отыскать своего деда, героя войны… — Да он не герой… Простой солдат. — Молчите, молчите, не перебивайте меня… Они все были герои. И вы правильно делаете, что посвятили себя этим розыскам… Вот у меня был знакомый помреж Сапожков. Это такой тип! Все для себя, все для себя! Он даже поговорку придумал: «Уж если таскать каштаны из огня, то домой». Представляете? — У нас в таксопарке есть такой тип… Мы зовем его Раковая душа, потому что он раков с пивом сильно уважает. Он говорит: «Рожденный брать не брать не может». — Вот видите! Сколько их развелось. Я знаю, что вы не такой. Она сидела перед ним светловолосая, загорелая, словно русалка, выбравшаяся из моря на сушу в обеденный перерыв, чтобы облегчить душу откровенным разговором…___
Заводской гараж громко именовался автотранспортным цехом, но выглядел бедновато: двенадцать грузовых, шесть легковых — «Волги» и «Москвичи», два теплых бокса, одна смотровая яма, асфальтовый круг с дощатым навесом, где в основном и протекала вся жизнь коллектива. Игорь подружился с Димой, высоким красивым парнем, которого, однако, отличала какая-то скованность, он мало говорил, медленно двигался, никогда не проявлял инициативы. — Странный ты какой-то, Дима, — сказал ему вскоре после знакомства Игорь. — Ты же, кажется, недавно в армии отслужил. Боевым парнем должен быть. Дима улыбнулся: — А я комполка возил. Он от меня боевитости не требовал… Лишь бы машина в порядке была. На этот счет комполка мог быть спокоен. Дима был просто неспособен что-либо делать плохо. На работу приходил первым, уходил последним. Игорь узнавал его по длинным ногам в ярко-синих кедах, торчащим из-под парткомовской «Волги», — он вечно что-то чинил, заменял, чистил. Вот и сейчас, заметив его ноги в пузырящихся на коленях, потертых джинсах, Игорь остановился, сказал: — Хватит тебе на земле валяться, радикулит заработаешь, профессиональную болезнь шоферов. — Глушитель разболтался… Того и гляди, потеряю. — Не потеряешь. Машина начнет стрелять, что твой танк. — Ну, не доводить же до этого. — Пойдем, в холодке посидим. Есть разговор. Они отошли в сторону, под навес, уселись на лавке, к которой была прислонена ребристая автопокрышка от ГАЗ-52. — Дим, что ты думаешь о Заплатове? Шофер Заплатов на вид был здоровый мужик, косая сажень в плечах, все у него большое, громоздкое: нос, губы и ручищи, которые, казалось, могли завязать в узел кочергу. Но на самом деле Заплатов вовсе не был богатырем. Вечно ныл, жаловался на нездоровье, часто бюллетенил. Кроме ущемленной грыжи, на которую он постоянно ссылался, чтобы увильнуть от тяжелой физической работы, гнездились в его большом рыхлом теле и другие многочисленные недуги. Однако они, эти недуги, видимо, не мешали ему успешно справляться со своими обязанностями. Завгар Лысенков явно благоволил к Заплатову. — Что я думаю о нем? — повторил вопрос Дима. Это было у него в характере. Он любил повторять чужие слова, как бы для того, чтобы убедиться — не ослышался ли, правильно ли понял. На самом деле пауза ему была нужна, чтобы подыскать ответ. — А что, мужик как мужик… Только хворый, — подумав, ответил он. — Хворый, а чем же он в таком случае Лысенкова к себе приворожил? Тот ему дальние поездки доверяет. — Доверяет, это точно, — охотно согласился Дима. Он не любил спорить. Молча делал свое дело, притом так, как считал нужным. Сбить его с этого пути было невозможно. Но и другим навязывать свою правду Дима не считал нужным. Он и жене своей предоставил полную свободу. Позволил ей жить так, как хотелось. Вот она и ушла к другому, прихватив с собой дочку. Игорь придвинулся к приятелю поближе и зашептал: — В конце прошлой недели Заплатов отсутствовал три дня. Куда-то мотался на хруповской машине. А главному инженеру подавали «Москвич». Потом хруповская «Волга» объявилась в гараже, а Заплатова не было — отсыпался после дальней дороги. Завгар приказал мне заменить его. Беловежский приболел, и я был свободен. Беру я, значит, путевой лист и что же вижу? За те три дня, что Заплатов отсутствовал вместе с машиной, на спидометре не прибавилось ни одного километра. Тебе это о чем-то говорит? — Не прибавилось, — задумчиво повторил Дима. — Точно. Я проверял. — А как это могло быть? — удивился Дима. Игорь рассмеялся: — Ну ты даешь! Вчера родился, что ли? Не знаешь, как деляги на спидометр километры накручивают? Отсоединяют от спидометра тросик, подключают электромоторчик, тот — к двенадцативольтовому аккумулятору, и, пожалуйста, километраж готов. — Но ведь тут-то не прибавилось? — сказал Дима. — Не прибавилось. Но что это значит? А то, что тросик отключили вовсе — на все время поездки. — Ну это вряд ли, — глубокомысленно покрутил головой Дима. — Почему? — Тросик же на пломбе… — Разве пломбир трудно достать? А потом кто же будет отсоединять от спидометра? Это любой работник ГАИ обнаружит. Разве трудно — поставить машину на смотровую яму и отсоединить тросик от коробки передач. Ни один проверяльщик не заметит. — Ну, а к чему? — Вот и я тебя спрашиваю: к чему? Ответ быть может только один. Чтобы нигде — ни в путевом листе, ни на спидометре не было следов этой поездки. Дима долго переваривал услышанное. Потом глаза его подернулись пленкой печали. Он сам никогда не жульничал, не мухлевал, не ловчил. И расстраивался, когда это делали другие. — Выходит, левые поездки? Игорь пожал плечами. — И вот еще… Как у нас в гараже с запчастями? Дима ответил: — А то сам не знаешь, что ли… Плохо. Мне понадобилось свечи сменить, так я чуть не на коленях перед кладовщиком стоял: нет, и баста. Пришлось на свои купить. — А между тем, — с нажимом произнес Игорь, — Лысенков привез из Москвы несколько ящиков запчастей. Я сам помогал ему грузить. И разгружал он на моих глазах. Куда же они делись? Ни одной железки новой не появилось, так или не так? И снова по красивому лицу Димы прошло нечто вроде судороги. «Эти его судороги, — подумал Игорь, — что-то вроде индикатора… Реагирует на нечестность и воровство». Игорь еще не знал, как сам будет реагировать на обнаруженные им факты. Но что-то делать будет. У него было такое ощущение, как будто, расставшись месяц назад со своим московским товарищем Витюхой и его отцом, он как бы обрел их способность остро реагировать на все огрехи, которые еще имеются в этом распрекрасном мире. Игорь с силой толкнул рукой прислоненную к лавке автопокрышку, она покатилась и, очертив плавный полукруг, упала прямо под ноги вышедшего из здания завгара Лысенкова. Тот с недовольным видом огляделся и, обойдя лежавшую на асфальте покрышку, отправился по своим делам. — Ну как, напали на след своего деда? — спросил у своего водителя Роман Петрович Беловежский. «Волга» быстро наматывала километры на прибрежной ленте шоссе. «Только ему и думать о моем деде», — подумал Игорь. Завод огромный, и забот у Беловежского хоть отбавляй. Игорь в курсе: дела идут неважно, то и дело возникают сбои, производство лихорадит. Может, эти сбои и раньше возникали, при прежнем директоре, но к ним привыкли, не обращали внимания. А теперь все валят на Беловежского, мол, еще зелен, куда ему до Громобоева… Тем не менее Роман Петрович среди своих нелегких директорских забот об Игоре не забывает. На днях интересовался: «Как ты устроился в комнате для приезжих? Может, надо что, вещички какие-нибудь, простыни, полотенца… Ты скажи, Медея соберет». Тронутый директорской заботой, Игорь ответил: «Спасибо, ничего не нужно. Все есть — казенное. Кто-то позаботился, всем снабдил — и одеяло, и подушка… И даже посуда. Стаканы, рюмки. Зеркало здоровое в золотой рамке». — «Зеркало, говоришь?.. Это из театрального реквизита. В клубе драмкружок, в кладовке чего там только нет». Сказал и замолк, ушел в себя, на выпуклый лоб, как мелкая волна на берег, набежали складки, губы приобрели по-детски обиженное выражение. Игорь про себя удивился: «Откуда Роману Петровичу знать, что есть и чего нет в кладовках драмкружка? Он что, в спектаклях играл? Не похоже». И вот директор снова проявляет интерес к личным делам своего водителя. И интерес не праздный, не показной. — Делаю, что могу, Роман Петрович. В деревню съездил, возле которой, по слухам, дед погиб. В краеведческом музее на чердаке «боевой листок» отыскал. Там заметка о деде. Отличился он! А что дальше делать? Один добрый человек пообещал разузнать фамилию командира части, в которой сражался дед, но пока от него ничего не слышно. — А ты поактивнее, — советует Беловежский. — Прошлое свои тайны крепко прячет, просто так не отдает. Их надо силой вырывать. Он помолчал, потом произнес: — Между прочим, мой отец тоже воевал в этих местах. Беловежский крутанул ручку, опустил боковое стекло. В кабину ворвался степной ветер. Он был душистый, с едва различимым горьковатым привкусом полыни. — А как тебе понравился город? Завод? — Можно честно, Роман Петрович? — Только честно! — Привольск с Москвой, конечно, не сравнишь. Как говорится, труба пониже, да дым пожиже. Но ничего. Симпатичный городок. Жить можно. А вот завод — беспорядка много, все запущено. У нас в таксопарке стенд передовиков чуть ли не золотом сверкал. Все вокруг вылизано, даже кусты подстрижены. А здесь в Аллее передовиков заблудиться можно. Акация разрослась, не продерешься, асфальт потрескался, трава проросла… И всюду так. В бытовках, как на вокзале где-нибудь в глубинке. В гараже всего два теплых бокса, запчастей нет, как работать? Нет, Роман Петрович, тяжелое вам хозяйство досталось, ох тяжелое. Игорь, окончив речь, исподтишка бросает взгляд на директора — не обиделся ли. Лицо у Беловежского мрачное, брови сдвинуты, на верхней губе — мелкие капельки пота. Он не отвечает, молчит. Но не потому, что сердится на Игоря. По другой причине. Роман Петрович думает: откуда у простого парня, занесенного сюда, в Привольск, неизвестно каким ветром, те же мысли, что и у него, директора? И что означает это странное совпадение: отец Беловежского и дед Игоря — оба воевали в этих степных местах. Может быть, судьба не случайно, а со значением, с каким-то непонятным, тайным умыслом поставила Игоря на его пути? «Чепуха, мистика», — обрывает свои мысли Беловежский и всей грудью вдыхает горький, тревожащий полынный запах.КОЛЬЦО С АМЕТИСТОМ
Адрес был знакомый. Садовая, шесть. Только одно дело — на машине, совсем другое — пешком. В прошлый раз, когда Игорь привозил на «Волге» к ювелиру жену директора Медею Васильевну, показалось, что близко, рукой подать. И вот минут сорок Игорь шагает, а церквушки, за которой поворот, все нет и нет. Решил дорогу спрямить, двинул проходными дворами, вовсе след потерял. Стоит на углу и не знает, налево или направо поворачивать. В жизни много таких углов и таких поворотов. Смотри, Игорь, не ошибись… Пришлось у письмоносицы выспрашивать. Она весь город пешком исходила, в каждую дверь стучала, кому и знать, как не ей. — Иди, милок, до зеленого забора, потом направо, у колонки — налево, а там и Садовая. Он направляется к старичку-ювелиру, подсевшему в кабину грузовика по дороге в деревню Соленые Ключи. Услышав о главной заботе Игоря — отыскать след деда, воевавшего в этих местах, Христофор Кузьмич пообещал порасспросить зятя-военкома о боях, полыхавших в этих степях почти сорок лет назад. Военкому, сказал старичок, не впервой такими делами заниматься, война вон когда отгремела, а пропавших в ту лихую пору до сих пор разыскивают. И вот Игорь спешит на Садовую, чтобы узнать, нет ли новостей. Игорь вспоминает Христофора Кузьмича. Старичок с ноготок. Такому бы жить в крошечном островерхом домике, украшенном затейливой резьбой. Однако дом ювелира выглядит по-другому — каменный, крепкий. Покатая крыша ярко зеленеет недавней краской. — Есть тут кто? — громко спрашивает Игорь, поднимаясь на высокое крыльцо. Из-за двери доносится странный звук. Как будто кто-то спешно удаляется внутрь дома. Однако ответа нет. — Эй, есть тут кто? Игорь толкает дверь. Проходит одну комнату, другую. Никого. Темным лаком поблескивают старинные шкафы, буфеты, горки, секретеры, були, диваны, кресла. Игорь внезапно останавливается. Вспоминает: хозяин — ювелир, а следовательно, имеет дело с золотом да серебром, с алмазами да изумрудами. А он расхаживает тут, по чужому дому, как по своему собственному. Пропадет что… Кому отвечать? Пятится назад, вновь выходит на крыльцо. И здесь нос к носу сталкивается с Христофором Кузьмичом. Старичок одет в легкий костюм из плащевидной ткани цвета хаки. Сегодня он уже не напоминает сказочного гнома. Больше смахивает на знаменитого путешественника, которого Игорь видел по телевизору. Этакий высохший, продубленный ветрами и солнцем морской волк. На загорелом лице — озабоченное выражение. — Что вы здесь делаете? — строго спрашивает ювелир. — А-а, это вы? Игорь, кажется… Дверь была не заперта? Вы уверены? Странно… — Мне показалось: там ходит кто-то. Глянул — никого, — объясняет Игорь. — Никого? — недоверчиво произносит старичок. — Сейчас посмотрим. Вы ко мне по поручению Медеи Васильевны? — Нет… Я сам. Насчет деда. — Какого деда? — на лице старичка недоумение. Игорь бормочет: — Вы обещали разузнать… У военкома… — Ах, да… — Христофор Кузьмич хлопает себя маленьким крепким кулачком по загорелому лбу. Забыл о данном Игорю обещании? — Военком уехал, — говорит он. И бормочет под нос: — Двери нараспашку, а в доме никого нет. Странно, очень странно… Озабоченный Христофор Кузьмич оставляет Игоря в первой комнате, а сам скрывается в доме. Возвращается успокоенный. В руках держит два стакана в красивых резных подстаканниках. — Сейчас будем чай пить, — приветливо сообщает он. — Самовар вскипел. — Значит, в доме кто-то есть? — Есть… Вернее сказать, был. Был, но ушел. — А через комнату никто не проходил. — И что с того? Ушел с черного хода. Увидел, что я вернулся, и ушел. Христофор Кузьмич рядом со стаканами поставил сахарницу, чайник с заваркой и вазочку с печеньем. Потом сбегал и принес горячую воду в кувшине. Разлил по стаканам. И с некоторым удивлением воззрился на Игоря, будто недоумевая, зачем он сюда явился. Пришлось Игорю снова напомнить ювелиру про его обещание. Христофор Кузьмич отставил подстаканник. — Горячо. Пусть остынет… Он задумался. — Молодой человек, вы должны знать: такие дела быстро не делаются. Надо навести справки. Послать запрос, получить ответ. Целая история! Но вы, молодые, нетерпеливые… Вынь да положь. Произнося свои ничего не значащие слова, Христофор Кузьмич тем временем продолжал что-то обдумывать. Потом, как будто решившись, сказал: — Если хотите, я могу вам назвать фамилию командира военной части, которая выходила из окружения как раз в этих местах в тысяча девятьсот сорок втором году… Вас ведь интересует именно этот год? — Да. — Фамилия командира части Беловежский. Майор Беловежский. — Однофамилец нашего директора?! Христофор Кузьмич кивнул. — Возможно, даже его родственник. Но, учтите, командир части вполне может не знать об обстоятельствах гибели вашего деда. И жив ли этот майор? Уцелел ли? — Скажите, а откуда вы знаете фамилию командира части? Вам что — военком сказал? Мгновение Христофор Кузьмич молча смотрел на Игоря круглыми немигающими глазами. Кашлянул: — Да, да… он. Военком. Игорь совсем уже было открыл рот, чтобы произнести: «Десять минут назад вы утверждали, что военком в отъезде. Как же он мог вам сказать?» Но воздержался. Стоит ли ставить старика в неудобное положение? Он ведь дал ценную информацию. Это — главное. Однако у Игоря осталось ощущение, будто Христофор Кузьмич знал фамилию командира части давно и мог назвать ее еще тогда, при совместной поездке в грузовике, но почему-то ничего не сказал. — Чай допили? А теперь я покажу вам свой дом. Христофор Кузьмич изо всех сил старался быть с гостем полюбезнее. В соседней комнате было что посмотреть. Внимание Игоря привлекли две большие отлитые из чугуна фигуры, стоявшие по бокам вольтеровского, с высокой спинкой, кресла. Одна из фигур изображала Мефистофеля, другая — девушку с корзиной цветов. «Каслинское литье», — коротко пояснил Христофор Кузьмич. Затем взгляд Игоря остановился на камине, увенчанном массивной мраморной доской. Доска эта служила подножием для красивых старинных часов — двое позолоченных ангелочков поддерживали циферблат с ажурными стрелками. На низком серванте возвышались два полуметровых бокала тонкого стекла, по всей видимости, они предназначены для великанов. Рядом лежала ветка розы, искусно изготовленная из хрусталя. Со всем этим никак не вязался грубый железный ящик с медной дощечкой, на которой были выбиты слова «Остер-Тага». Ящик, словно то была невесть какая ценность, занимал видное место на деревянном поставце из карельской березы. — А это что за ящик? — поинтересовался Игорь. — Вы храните в нем свои драгоценности? Христофор Кузьмич внимательно поглядел на Игоря. — Вас интересует, где я храню свои драгоценности? Игорь смешался: — Да вообще-то нет. Так просто спросил. — Я пошутил. Кажется, неудачно? Не обижайтесь. Этот зеленый ящичек — походный сейф старой немецкой фирмы «Остер-Тага». Он у меня с войны. С ним связано… Впрочем, это неважно. Тут у меня хранятся разные важные бумаги. А драгоценности — в другом месте. Пойдемте, я вам покажу. Отведу в святая святых! — Христофор Кузьмич явно старался загладить свою неловкость. Они миновали длинный темный коридор, по обе стороны которого были запертые двери. Христофор Кузьмич остановился возле одной из них, окованной стальным листом. Она походила на дверцу огромного сейфа. Да и ключ, извлеченный из кармана брюк Христофором Кузьмичом, напоминал ключ от банковского хранилища. Послышались звуки открываемого замка, дверь бесшумно отворилась. Игорь оказался в небольшой комбате, окно которой, выходившее в зеленый сад, было забрано мощной решеткой. С любопытством огляделся. Пол выстлан твердым и гладким, похожим на пластмассу, материалом, обшитые вагонкой стены отлакированы. Стол покрыт также гладкой толстой кожей. — Тут все сделано с таким расчетом, — пояснил ювелир, — чтобы потери металла свести до минимума. Металл-то непростой, драгоценный. Время от времени я все это — пол, стены, стол — промываю, а воду пропускаю через фильтр. Так что каждая драгоценная пылинка сохраняется… Нет, вы не думайте, — как бы угадав мелькнувшую у Игоря мысль, сказал хозяин, — это не из жадности, а из уважения к благородному металлу. Да, да, именно так… А здесь хранятся мои инструменты… Христофор Кузьмич открыл деревянный ящик и показал Игорю его содержимое. Напильники, резцы, ножницы, щипцы… — Я слышал: ювелиры делают все вручную? Христофор Кузьмич усмехнулся. — Какое там! Двадцатый век! Научно-техническая революция. Камни сверлят на станках, особенно прочные — ультразвуком и даже лазером. Да что там сверлят! Человек соревнуется с природой в создании самих камней! Но заметьте — искусственных! С натуральными их даже не сравнивают. Естественное ценится неизмеримо выше. И ручная работа… Она тоже, слава богу, стоит дороже машинной. Христофор Кузьмич открыл стоявший в углу сейф и извлек оттуда плоскую коробку. Откинул крышку. На черном бархате в гнездах уютно лежали драгоценные изделия необыкновенной красоты. Солнечный луч искрился, переливался в полированной поверхности золота, платины, серебра, дробился и сверкал в гранях разноцветных камней. — Красотища! — только и мог сказать Игорь. — Это ваши? — Ювелир, конечно, работает не для себя… Наши создания покидают нас, уходят. Но лучшие из лучших… Самые любимые свои детища я оставляю. А вот ширпотреб… Христофор Кузьмич старательно упрятал ценную коробку в сейф, достал круглую шкатулку. Кольца, брошки, серьги в ней лежали навалом. Ювелир поддел пальцем и извлек из шкатулки кольцо с ярко-красным камнем. — Красивое? — По-моему, да… Что за камень? Словно кровяной… — Как вы сказали? Кровяной? Угадали! Это аметист. Аметисты бывают разные. Цейлонский имеет оттенок нежно-фиолетовый, а бразильский — он перед вами — кровавый. Этот камень переменчив, меняет цвета в зависимости от освещения. А бывают и такие, что приобретают кровяной оттенок только вечером. Когда-то путешественники старались захватить аметист в дорогу, считали, что изменение его цвета днем предвещает бурю и сильные ветры. Впрочем, переменчивость аметиста имеет вполне реальное объяснение — в отличие от других хрусталей, он имеет скрытое слоистое строение, что и определяет его свойства. — А какие у него свойства? — поинтересовался Игорь. — Принято считать, будто аметист хранит от опьянения, разглаживает морщины, сводит веснушки. Его кладут под подушку, чтобы видеть счастливые сны. Однако сила камня пропадает, если его носят не постоянно, а временно. Можно сказать, что он привязывается к хозяину, как собака. И мстит, если им пренебрегают. — Красивое кольцо. — Работа неплохая, хотя изделие и массовое. Не исключено, что кольцо сделано моими руками. — Неужели вы не помните? — Я же сказал, кольцо массовое. Изготовлено оно еще до войны в нашем городе артелью «Красный ювелир». Я в ней работал. Вещь особой ценности не имеет. Такие кольца имеют многие граждане и в Привольске, и в других городах. Я бы не обратил на него внимания, если бы не странность просьбы, с которой ко мне обратились. От меня требуют, — представьте себе! — чтобы я кольцо испортил! Игорь удивленно раскрыл глаза. — Да, да… Вглядитесь. Камень обрамлен четырехугольником. Так? А меня просят, чтобы я возвел над камнем нечто вроде ажурного балдахина. Сейчас кольцо строгое, а станет вычурное. Он небрежно бросил кольцо в кучу других. — А у вас не найдется… серебряного колечка? Дешевого, я бы взял. Христофор Кузьмич с улыбкой посмотрел на Игоря: — Для девушки. Невесты? — Да… То есть нет. — Все понятно. Христофор Кузьмич нырнул головой в сейф и извлек оттуда тоненькое колечко, украшенное тремя полосками эмали — красной, белой и синей. — Вот как раз то, что вам нужно. Берите. — У меня с собой нет денег. Я заеду после зарплаты и заберу. — Нет, берите сейчас. А деньги потом отдадите. Оно дешевое. Я с вас возьму только за металл. А работа бесплатная. Мой подарок вам. Мне нравится, как вы относитесь к памяти деда. И вообще вы мне нравитесь. Когда Игорь, покинув мастерскую, в сопровождении ювелира направлялся к выходу, он услышал донесшийся со двора звук — кто-то колол дрова. Очутившись на улице, подошел к высокому забору, подтянулся на руках, заглянул. Хмурого вида мужик с силой вгонял в дерево стальной тесак. В это мгновение из-за облачка выглянуло солнце и высекло из полированной грани тесака кровавую искру.___
Приближался день рождения Медеи, а подарка Беловежский еще не приобрел. Что он подарит жене, знал заранее. Медея любит драгоценности, всякие там кольца, серьги, браслеты. Это сужало круг выбора. И тем не менее приготовить для нее подарок нелегко. Эта женщина знает толк в украшениях. Роман Петрович ожидал, что выбор драгоценностей в комиссионке будет невелик и удивился, обнаружив, что стеклянные витрины буквально заставлены коробками с кольцами. Приглядевшись, с огорчением отметил, что ничего интересного нет. Золото 583-й пробы, а работа самая заурядная. Нетрудно было догадаться, что все это изделия массового производства, поставленные на поток. С запозданием пожалел, что не обратился вовремя к ювелиру. По словам Медеи, в Привольске таковой имелся, он бы соорудил что-нибудь замысловатое, однако это требует времени. Делать нечего, проморгал, проворонил, сейчас надо как-то выходить из положения. Остановил свой выбор на кольце с аметистом — кроваво-красным камнем. Над ним возвышалось нечто вроде ажурного шатра, сооружение несколько громоздкое, но необычное. Заплатив деньги и упрятав кольцо в коробочку, а коробочку в карман, вышел из магазина. Роман Петрович покупкой был доволен. Приготовленная для Медеи драгоценность как бы искупала часть вины, ощущение которой Роман Петрович носил в себе все последнее время. Это стойкое ощущение появилось у него после двух недавних встреч с Линой. Зачем ему нужно было встречаться с этой девушкой? Он сам не знал. После нервно-напряженного разговора в поезде Беловежский ощутил себя глубоко уязвленным и даже обиженным. Он ожидал, что Лина, наивная, доверчивая девчонка, если и не обманутая в полном смысле слова, то, во всяком случае, обманувшаяся в своих ожиданиях, будет взволнована, потрясена их встречей, и ему, Беловежскому, придется сдержанно и тактично дать ей понять, что возврата к прошлому нет и быть не может. А что получилось? Все наоборот. Он почувствовал себя радостно встревоженным, а она была спокойна, иронично-уклончива. Ему бы радоваться, стараться обходить любые места, где они могли натолкнуться друг на друга. Однако в первый же день, когда ему стало известно, что Лина приступила к работе, ноги сами понесли его в заводской музей. Ему почему-то вдруг показалось, что последнее слово в разговоре с Линой еще не произнесено. Он собирался сказать ей что-то решительное и строгое. Но как только увидел милое лицо Лины, раскрасневшейся от усилий навести в музее чистоту после только что покинувших помещение ремонтников, ее пушистые волосы, выбившиеся из-под пестрой косынки, голые ноги в растоптанных домашних тапочках, как что-то жарко полыхнуло в нем, кровь ударила в голову, и он замер на месте, не зная, что делать и что сказать. Что-то в этом роде произошло и с Линой. Она широко раскрытыми серыми в желтуюкрапинку глазами глядела на Романа Петровича, продолжая дальше скручивать тряпку, с которой на пол уже натекла серая лужица. — Вот, — нарушил молчание Роман Петрович. Его круглое лицо с мелкими капельками пота, выступавшими над верхней губой в минуты волнения, выглядело растерянным. В помещении сильно пахло масляной краской и побелкой, нечем было дышать. — Зашел посмотреть, как ты тут… Лина, быстро овладев собой, выставив трубочкой свежие розовые губы, сдула щекотавшую лоб прядку волос и почти спокойным голосом ответила: — Здравствуйте, Роман Петрович, с чем пожаловали? Он подумал, что это жестоко с ее стороны — встречать лобовым вопросом, на который нечего было ответить. Она была рядом, и этого ему было достаточно, кому нужны бессмысленные разговоры? — Зашел посмотреть, как поработали строители. Мы их с продмага сняли, некоторые возражали. Пришлось объяснить, что пища духовная не менее важна, чем телесная. Лина охотно продолжила этот никчемный разговор. Бросила в угол тряпку и пошла по свежевыкрашенным, еще липким полам, показывая помещение, благодаря за помощь, сетуя на недоделки, чего-то прося и требуя. Беловежский ее слушал и не слышал. Звон в ушах не проходил. Линины слова шли откуда-то издалека и до сознания не доходили. Потому что это были не те слова, которых он ждал. — Две комнаты — это только начало, — хмуря светлые брови, говорила Лина. — Вы от нас, Роман Петрович, так легко не отделаетесь. Придется через полгодика выселять соседей — архив и добавлять нам помещений. Мы тут не управимся, нам тут тесно будет. — Да у вас тут нет пока ничего, вон, стены пустые, откуда теснота-то, — говорил Беловежский, с отвращением слушая свой директорский хохоток и ненавидя и себя, и Лину за недостойное их притворство. — Лина… — он вдруг остановился и взял ее за обнаженную по локоть руку. — Постой же… Но она быстро вырвала руку, метнула в Романа Петровича затуманенный влагой взгляд, отвернулась и пошла дальше, хлопая спадающими с ног тапочками. — Может быть, нам встретиться в другой обстановке и все обсудить? — вырвалось у него. Она стояла у окна. Солнечный свет золотил ее профиль. — Что обсуждать-то, товарищ директор? Она была права, обсуждать было нечего. И все-таки наперекор ей и разуму он сказал тоном, не допускавшим возражений: — Буду ждать после работы в Детском парке, за «Иллюзионом»! Лина не ответила, но Беловежский понял, что она придет. В Детском парке они встречались раньше, года полтора назад. Однажды, расшалившись, посетили аттракцион под названием «Иллюзион». Заплатив угрюмому и безразличному ко всему кассиру сорок копеек («двадцать с носа: цена иллюзий в наше время»), прошли по подъемному мостику и заняли места. Кроме них, в фургончике не было никого. Со скрежетом мостик поднялся вверх и исчез. Пути обратно не было. Автоматически закрылась дверь. Зажегся другой, более тусклый свет. И вдруг лавка, на которой они сидели, стала клониться назад. Лина вскрикнула и схватила Беловежского за руку. Одновременно в другую сторону опрокинулась передняя стена. На ее месте возникла другая, по-видимому, то была стена кабинета, поскольку ее украшала книжная полка. Поворот — и вот уже перед глазами стена спальни с нарисованной на ней большим зеркалом в позолоченной раме. Снова перемена декорации — и они уже в гостиной… Шум, духота, скрежет железа, жуткое вращение внутри и вокруг, ощущение тошноты. Шатаясь, они прошли по вернувшемуся на свое место мостику и оказались на свежем воздухе. — Господи, какая гадость! — сказал Беловежский. — Ну почему же, — с горькой улыбкой проговорила Лина. — Несколько минут мы побыли с тобой в семейном гнездышке. И все удовольствие тебе обошлось в сорок копеек. Недорого. И вот теперь — новая встреча у «Иллюзиона». Еще издали Роман Петрович увидел, как она спускается по крутой каменистой дорожке в босоножках на высоких каблуках, глядя под ноги и покачивая для равновесия высоко поднятыми и раскинутыми в разные стороны как крылья, руками. На ней была белая кофточка и пестрая серая юбка, перехваченная в талии тонким черным пояском с никелированной пряжкой. Под ложечкой у Беловежского засосало, и он подумал о том, что, должно быть, несчастен. Лина протянула Роману Петровичу узкую руку со свеженакрашенными малиновыми ногтями, и он сразу углядел на одном из ее пальцев серебряное колечко. — Прежде у тебя его не было, — сказал он, одной простой, будто случайно брошенной фразой обращая ее мысли к их общему прошлому. Но Лина не захотела обращаться к прошлому. Ответила буднично: — Мне подарили… недавно. — А кто, если не секрет? — помрачнев, спросил Беловежский. — Это так важно? — подняла тоненькие ниточки бровей Лина. Роману Петровичу стало стыдно. Он откашлялся и сказал: — У меня такое ощущение, что мы что-то недосказали друг другу… Поэтому нас терзают взаимные обиды. Ноет, болит. Лина улыбнулась грустной и мудрой улыбкой, какой он еще не видел у нее: — Что ж тут удивляться? Рвали-то по живому. — Да… но… мы могли бы остаться добрыми друзьями. — А разве мы не друзья? Романа Петровича сбивали не ее слова, а ее новая манера держаться — спокойная, приземленная, лишенная порывов чувствительности и экзальтации, в которых проявлялась ее натура прежде. Он вдруг понял, что в Лининой жизни недавно что-то произошло, и это давало ей сейчас силу не поддаваться воздействию чувств, бушевавших в его груди и властно требовавших от нее такого же бурного отклика. — Так все же, кто подарил тебе кольцо? С прозрением любящего Роман Петрович уже понял, что маленькое это колечко имеет непосредственную связь с теми переменами, что произошли в Лине. К ее бледным щекам прилил румянец. Он видел, что в Лине борются два чувства: она была правдива до наивности и ей не хотелось что-то скрывать от него, и в то же время у нее были причины, чтобы не отвечать на этот, по сути, бестактный вопрос. Неожиданно он все понял, обо всем догадался! Да, это было недавно… Вместе с секретарем парткома на его машине Беловежский возвращался из города на завод. И вдруг на шоссе у самого поселка углядел свою «Волгу», съехавшую с обочины и почти уткнувшуюся передним бампером в покосившуюся мазанку. Беловежский приказал остановиться, вышел на дорогу, подошел к «Волге». Да, он не ошибся, его номер — 12-30, «полпервого», как шутливо звал свою машину новый водитель Игорь. Сейчас его в машине не было. Авария? Беловежский обошел вокруг «Волги», внимательно ее оглядывая. Нет. Все цело, все на месте. — Купается ваш Игорь! — высунув из окошка своей машины голову и локоть, смеясь, крикнул Славиков. Беловежский прошел несколько шагов к обрыву, глянул вниз, увидел полоску пляжа на берегу моря и две раскинувшиеся фигуры — мужскую и женскую. Беловежский вернулся к машине. — Вот гусь! Успел где-то деваху подцепить, — беззлобно сказал Славикову. И они поехали на завод. Сейчас на Беловежского нашло озарение. Той самой «девахой», раскинувшейся посреди дня рядом с его водителем на берегу моря, была Лина! Выходит, это Игорь подарил ей серебряное колечко, именно его она не хочет выдавать Беловежскому, опасаясь, как бы директорский гнев не обрушился на парня. Беловежский полез в карман, выхватил золотое кольцо с аметистом, которое купил в комиссионке в подарок Медее, и, силой завладев Лининой рукой, надел ей на палец. — Это тебе. С одним условием — выбрось то, второе. Лина покачала головой, протянула кольцо обратно. — Это вы купили не мне, а ей… Пусть она и носит. Мне не нужно. Не по размеру. Она повернулась и пошла к выходу из парка. — Лина! — хриплым голосом окликнул ее Роман Петрович. Но девушка не оглянулась. Со стороны аттракциона загремела бравурная музыка. Очередная партия граждан занимала места в семейном гнездышке «Иллюзиона»…___
В тот же вечер Беловежский преподнес кольцо с аметистом Медее. Она долго рассматривала подарок, а потом сказала, что кольцо красивое, вот только непонятно, зачем понадобилось возводить над камнем громоздкий ажурный шатер. Без него лучше бы было. На другой день Игорь заметил это кольцо у Медеи на пальце. Он вспомнил, что видел это кольцо у ювелира в тот день, когда побывал у него дома, на Садовой улице. Медея похвасталась: «Подарок мужа», — и вновь произнесла, на этот раз для Игоря, фразу насчет того, что без ажурного шатра кольцо выглядело бы лучше. Игоря ее слова поразили, поскольку буквально совпали с тем, что говорил по этому поводу ювелир Христофор Кузьмич. При следующей встрече со стариком он сказал ему об этом. — Значит, кольцо попало к директорской жене? Она так сказала? Я же говорил, что эта женщина разбирается в драгоценностях. — Я не понимаю, — сказал Игорь, — к чему переделывать кольцо, если собираешься его сдать в комиссионку. Хотя постойте… Есть одна мысль. Когда я работал в таксопарке, у нас нередко угоняли машины. Отыскать их было трудно. Как сквозь землю проваливались. Похитители их перекрашивали, сбивали с моторов номера, и — ищи ветра в поле. — Вы сказали «перекрашивали»? Христофор Кузьмич выглядел встревоженным. Он вскочил с кресла, в котором сидел, и забегал по комнате из угла в угол, от чугунной фигуры, изображавшей Мефистофеля, к железному сейфу на подставке из карельской березы — и обратно. — Я знал, я чувствовал, что это кольцо с аметистом принесет мне несчастье, — прошептал он. — Да, да… Мы носим свое прошлое в себе, от него не уйти, — казалось, старик в беспамятстве и, забыв о присутствии Игоря, разговаривает сам с собой. Игорь поднялся: — Я пойду, Христофор Кузьмич. Мне еще сегодня в гараж надо. Начальство просило зайти.___
Несмотря на позднее время, завгар Лысенков сидел в своем кабинете и колдовал над какими-то бумагами. При появлении Игоря быстро сгреб их со стола. — Явился — не запылился? Добро! Придется сегодня во вторую смену повкалывать. — Что случилось? — Машину надо перекрасить. Близкий друг попросил. Сам понимаешь: все должно быть сделано на высшем уровне. А я должен уйти. Дела. Хочу, чтобы ты проследил… Они вместе спустились по крутой железной лесенке вниз, в бокс, где щуплый маляр разводил краску, подбирая нужный колер. Игоря будто кто за язык дернул. — Вот диво! Я буквально час назад втолковывал одному человеку, как угонщики перекрашивают похищенные автомобили… А тут вы вызываете и предлагаете перекрасить. Лысенков вздрогнул: — Что-то ты, парень, завираешься. То угонщики, а то мы, государственные служащие. Или не сечешь? И откуда тебе ведать про угонщиков? Или было дело, рыльце в пушку? Завгар так и сверлил Игоря пронизывающим взглядом. Игорь стал оправдываться. — Что вы, что вы, Адриан Лукич, просто к слову пришлось… Он передал Лысенкову свой разговор с ювелиром. Думал: тут и делу конец. Но завгар почему-то принял историю с кольцом близко к сердцу. Стал расспрашивать, что да как. Приказал подробно описать злополучное кольцо. А потом аж зубами заскрипел. Разве это люди? Сколько ни дай, все им мало. Жадность раньше их родилась. Вот разверзнется перед ними геенна огненная, грянет суд, вот тогда спохватятся, да поздно будет! — Вы о ком? — не удержался от вопроса Игорь. — О ком? Да о жулье. Вон его сколько поразвелось. Блуждающий взгляд завгара остановился на маляре. Тот явно прислушивался к разговору. — А ты чего рот раззявил?! — заорал на него Лысенков. — Ночь на носу, а у тебя ничего не готово. Живо за дело, а не то за ворота мигом вылетишь! Маляр схватился за пульверизатор. Игорь кинулся ему помогать… …А через несколько дней огорченная Медея Васильевна сообщила Игорю: подаренное мужем кольцо с аметистом пропало. Украли среди бела дня из директорского особняка.___
Городской отдел внутренних дел располагался в двухэтажном здании. Окна первого этажа была забраны в решетки. Пробравшись сквозь скопление машин и мотоциклов (все они были окрашены одинаково, в желто-синие тона), Лина потянула на себя тяжелую дверь. У двери была тугая пружина, она захлопнулась за Лининой спиной с громким стуком, напугавшим ее. В приемной достала из маленькой шелковой сумочки-косметички сложенную вдвое повестку и поднесла к глазам. Так и есть: в комнате № 7 Примакову Лину Дмитриевну ожидает следователь Толокно С. С. У нее мелькнула мысль — не извлечь ли из косметички помаду и тушь да не подкраситься ли? Но передумала: не то место, чтобы наводить красоту. Повестка пришла накануне на домашний адрес и вызвала переполох. Отец, надев очки в круглой железной оправе, долго вчитывался в текст, напечатанный типографским шрифтом на бледно-голубой бумаге. От руки были вписаны только фамилии — гражданки Примаковой и следователя Толокно. — И что от тебя нужно этому Толокну? — с трудом просклоняв фамилию следователя, Дмитрий Матвеевич поверх очков подозрительно уставился на дочь. — Может, что-нибудь связанное с музеем? — неуверенно предположила она. В последнее время Лина развернула бурную деятельность: отыскивала и брала в архивах краеведческого музея все, что касалось истории завода и его людей. Может быть, кто-нибудь сообщил в милицию, что она при попустительстве директора роется в музейных архивах, как у себя дома, и уносит оттуда, что захочется? И теперь ее собираются привлечь к ответу? Следователь Толокно встретил гражданку Примакову неприветливо. Сухо сообщил, что она вызвана для допроса. — А по какому делу? — Вы не торопитесь, — ответил следователь, пристально взглянув на нее прозрачными, проникающими в душу глазами, и начал сыпать вопросами: фамилия, имя, отчество, год рождения? Место рождения? Привлекалась ли ранее к уголовной ответственности? И так далее. — Постойте, — пробовала перебить настырного следователя Лина, — я что-то не пойму: а по какому поводу?.. Тогда следователь Толокно запнулся, посмотрел скучающим взглядом в окно на подъезжающую машину-фургон, прозванную в народе «черным вороном», и сказал: — Это ваше право — знать. С вас снимается допрос по делу о краже золотого кольца у гражданки Беловежской Медеи Васильевны. Ответьте: находились ли вы двадцать третьего сентября в доме номер пять по Морскому проспекту с трех до четырех? — Нет… то есть да… — смешавшись, ответила Лина. У нее похолодело внутри и начали предательски дрожать пальцы. — Зря темните, гражданка Примакова, — сказал следователь. — Факт вашего пребывания в указанном месте и в указанное время подтвержден свидетельскими показаниями хозяйки дома Беловежской М. В. и водителя Коробова И. И. Лина залилась краской и потупилась. — Гражданка Примакова, в ваших интересах все рассказать. Добровольное признание будет учтено судом при определении меры наказания. У Лины от страха вспотели ладошки.___
Это произошло вскоре после встречи Лины с Беловежским в Детском парке. Наивная! Ей казалось, что там, на затененных листвой дорожках, их никто не увидит и не узнает. Кто-то увидел, узнал и донес эту крайне важную информацию до ушей жены Романа Петровича — Медеи. И тогда Медея, взъярившись, позвонила в заводской музей славы и, представившись, попросила Лину навестить ее дома. — Адрес вам, видимо, хорошо известен, — не удержалась Медея от колкости, хотя перед этим дала себе твердое обещание вести себя сдержанно и хладнокровно. Лина поначалу растерялась: — Адрес? Нет, мне он не известен, — сказала она. — Откуда мне знать? Она говорила правду. Медея и сама могла догадаться: раньше, до женитьбы, Беловежский жил в доме молодых специалистов. Да и туда вряд ли он приглашал свою зазнобу, дом до отказа был забит своими, заводскими. О стенах этого дома можно было с уверенностью сказать, что они имеют и глаза и уши. Впрочем, как выяснилось, глаза и уши в этом маленьком приморском городке имели даже липы и каштаны Детского парка. — Заходите. Попьем чаю, поговорим. И не бойтесь… — Медея запнулась. — Я вовсе не собираюсь кричать и царапаться. Просто поговорим, как женщина с женщиной. — А я и не боюсь, — твердым голосом ответила уже успокоившаяся и взявшая себя в руки Лина. — После работы зайду. Часов в шесть. — После работы нельзя. Как вы не понимаете… — Ах, да. Роман Петрович тоже вернется. Понимаю. Тогда попытаюсь часа в три. По дороге в краеведческий музей. — Жду. — Медея повесила трубку. А Лина так и осталась стоять с трубкой в руках и уставившись неподвижным взглядом в прикрепленную кнопками к стенду большую фотографию с подписью «Комсомольская свадьба в механическом цехе». В трубке раздавались частые гудки, но она их не слышала. Конечно, Лина имела право отказаться от приглашения Медеи. Ясно ведь, что предстоящая встреча не сулит ей ничего, кроме неприятностей. И все же она пойдет. Ей нечего стыдиться, нечего скрывать. Она права — и перед самой собой, и перед людьми. А не пойти, значит, косвенно признать себя неправой. И вот Лина поднимается по подновленным каменным ступеням на крыльцо, видит начищенную до блеска медную пластинку с каллиграфически выведенной надписью «Беловежский Р. П.», проходит сквозь приотворенную дверь в полутемную переднюю. Звучит знакомый голос: — Пришли? Хвалю за храбрость. Пойдемте в сад. Я накрыла стол в беседке. Пухлощекий амур выпускает изо рта тугую струю воды, красиво отсвечивают на солнце цветные витражи веранды. Уложенная мраморной крошкой дорожка вьется между клумб, на которых цветут золотые шары и хризантемы. Усевшись, Лина оглядывается, не зная, куда положить свою косметичку. Медея подсказывает: — Кладите рядом с собой, на лавку. Что — косметичка заменяет вам кошелек? — Да… там все: помада, ключи, деньги. — Ясно. — Я не понимаю… — говорит Лина. — Понимаете. Потому и пришли. Впрочем, к делу. Я хотела вас спросить: долго вы будете преследовать Романа Петровича? У Лины на лице появилось мученическое выражение. Ей было стыдно за Медею. И та это почувствовала. — Извините, я неправильно выбрала слово. Скажу иначе: долго ли будут продолжаться эти встречи по закоулкам, звонки, охи, вздохи? Чего вы хотите, чего добиваетесь? — Господи! Да нет никаких звонков! Уверяю вас, вы ошибаетесь! — А встреч тоже нет? — Встреч? Была одна. В Детском парке. Роман Петрович хотел мне что-то сказать… Но мы оба нервничали, и разговора не получилось. — Ах, вы «оба нервничали»! Да как вы не понимаете, глупая вы девчонка, что этими словами выдаете себя с головой. Вы влюблены в него! Как кошка, влюблены! Лина выпрямилась, сухо сказала: — Вы не имеете права так говорить со мной! Вы хотели узнать — назначала ли я вашему мужу свидание? Я ответила: нет, не назначала. Все? — Нет, не все! Медея непроизвольно скомкала рукой скатерть, чашка, звякнув о блюдце, угрожающе придвинулась к краю стола. Она помолчала минуту, переводя дух и подбирая слова. — Я обещала, что не буду закатывать вам сцен. И сдержу слово. Но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Не думайте, что я боюсь потерять мужа. Нет. Он уже сделал свой выбор. И не в вашу пользу. Но я не желаю сцен, сплетен, пересудов. И требую, чтобы вы больше не давали для них пищу. Самое лучшее, если бы вы вообще уехали из города. Лина рассмеялась: — Куда же я уеду? Здесь я родилась. Здесь мой дом, семья. Да вы что? Если вам здесь не нравится, вы и уезжайте. Медея метнула в сторону Лины испепеляющий взгляд. Но сдержалась. — Хорошо. Прекратим этот разговор. Я вас предупредила. А вы поступайте, как знаете. Но если что… пеняйте на себя. Лина повела плечом: — Угрожаете? Значит, не уверены в Романе Петровиче. Не нужен он мне. Понимаете? Было и прошло. Все. Медея встретила эти слова с недоверием. Поскребла скатерть длинными серебристыми ноготками. — Ну, если так… Будем считать, что мы поняли друг друга. Лина поднялась из-за стола. — Идите за мной. Медея вышла из беседки, повела гостью в дом. — Идите, идите! На туалетном столике у трельяжа были разбросаны кольца, серьги, браслеты. У Лины вырвалось: — Ой, какие красивые! — Нравятся? Мне тоже. Особенно вот это. Она сняла с пальца кольцо с аметистом, положила на подоконник. Надела другое — тонкое золотое колечко, увенчанное гроздью мелких жемчугов. — Это речные жемчужины. Из Японии. — Мне пора. — Подождите. Медея вышла из спальни. Через минуту вернулась, держа в руках красивый кошелек из мягкой красной кожи. — Это — вам. Неудобно ходить с косметичкой. — Да что вы! Мне не надо. Медея вложила кошелек ей в руку. — Возьмите. Мы же с вами не враги, верно? А может быть, даже станем друзьями. У меня к вам просьба: никому не говорите о нашей сегодняшней встрече… И о разговоре. Это нас обеих поставит в неприятное положение. Договорились? Лина в нерешительности глядела на кошелек. — Зачем он мне? Но если вам так хочется… Хорошо, я вам с водителем яблок пришлю из нашего сада. Вкусные! Когда Лина сбегала со ступенек крыльца, к дому подъехала черная «Волга». Из окошка на нее с изумлением смотрел Игорь. Лина сделала вид, что не узнала его, вышла за ограду и быстро зашагала в другую сторону.___
— Можно? Мрачный Примаков сидел на кухне и при помощи специального приспособления насаживал металлические крышки на банки. Целая батарея их стояла перед ним на столе. — Коробов? Тебе чего? Игорь удивился. В словах старого слесаря не было обычной сердечности. — Проезжал мимо. Дай, думаю, зайду. Из Соленых Ключей ничего не слышно? Как там Федя? Воюет? — Тише ты, — остановил его Примаков. — Вот язык… Ты еще громче крикни, чтобы весь город услышал. — Да ведь здесь нет никого. Дарью Степановну я на улице с сумкой встретил. Как там Тося? Всё болеет? — А тебе-то что за дело? Примаков явно был сегодня не в духе. Подхватил желтым ногтем резиновое кольцо, ловко положил на крышку, крышку на банку, сделал точное круговое движение, и — готово. Потянулся за следующей банкой. — Помните, вы обещали узнать, что стало с пареньком, который вызвался солдат до шоссе провести? Вы еще говорили, что на мине подорвался. Дмитрий Матвеевич резко отодвинул банку в сторону, сказал: — Вот что, парень… Шел бы ты отсюда. Что-то высматриваешь, вынюхиваешь. А потом в милицию бежишь, на своих друзей доносы строчишь. Вот тебе бог, а вот и порог! Скатертью дорожка! Игорь стоял как громом пораженный. — Дмитрий Матвеевич! Да вы это о чем? Какие доносы? Можете толково сказать? Примаков смутился. Ему уже было неловко от своей горячности. Человек в гости пришел, а он напустился, чуть взашей не вытолкал. — Не знаю я ваших делов. Сами с Линкой выясняйте. У меня своих забот полон рот. — Лина дома? Я пройду? — Иди… Только боюсь, там тебя еще похуже встретят. Лина лежала на диване. Руки, ноги будто плети, лицо бледное, на лбу мокрая тряпка. Щеки мокрые — то ли с тряпки натекло, то ли слезы. На шум шагов не прореагировала, уснула, что ли? — Лина, что с вами? Она сдвинула тряпку с глаз, приоткрыла опухшие веки. Увидела Игоря, сморщилась и отвернулась к стене. — Что случилось? Линина спина затряслась, и он понял, что она плачет. Плакала Лина бесшумно. Он дотронулся рукой до теплого плеча. Девушка дернулась, как от укуса гадюки, перекатилась к стене и снова зарыдала, теперь уже во весь голос, со стонами и причитаниями. — Господи! Что же это делается? Почему я такая разнесчастная. За что? За что? Игорь дал себе слово, что не уйдет из этой комнаты прежде, чем не объяснится с Линой, не узнает причин ее горя. Он вошел на кухню, нашел стакан, налил холодной воды, вернулся в комнату. — Выпейте. Как ни странно, Лина послушалась, повернула к нему заплаканное, распухшее лицо и стала пить. Зубы ее стучали о стенку стакана, вода расплескивалась, падала ей на грудь, в широко распахнутый ворот халатика. Она этого не замечала. Игорь уселся на край дивана. — Что случилось? Я хочу знать. Она разлепила красные от слез веки, долго и молча глядела ему в лицо. Из ее груди вырвался — не то вздох, не то рыдание. — Они взяли у меня подписку о невыезде. Ее глаза снова налились слезами. — Кто? Почему? — Милиция. Они подозревают, что я украла у жены директора золотое кольцо. — Кольцо с аметистом? — А вы знаете? — Роман Петрович сказал. Игорь задумался. — Лина… Вы видели это кольцо, когда были у Медеи? — Конечно, я сразу узнала его… — Узнали? Значит, оно попадалось вам на глаза раньше? Лина покраснела и отвернулась. — Вы — как следователь… Ловите меня на слове. Да, видела. — При каких обстоятельствах? — Роман Петрович хотел подарить кольцо мне, но я отказалась. — Отказались? — У Игоря все замерло внутри. — Да. У меня уже есть. — Она взглянула на него. — Серебряное. Обруч, сжимавший сердце, разжался. Стало легче дышать. — Когда вы уходили из директорского особняка, кольцо было на пальце у Медеи? — Нет. Она сняла его и положила на подоконник. Ей захотелось похвастаться передо мной другим кольцом — японским, с речным жемчугом. — Окно было открыто? — Да… — Вы оставались в комнате одна? — Да… на пару минут. Медея выходила из спальни. — А когда уходили вы, кольцо все еще лежало на подоконнике? — Что же это в самом деле! — горестно воскликнула Лина. — Уж не работаете ли вы в милиции? — Нет… Просто я выясняю, почему им пришло в голову заподозрить вас в краже. Простите. В том, что вы взяли кольцо. — Они говорят, что вы — свидетель! — Я? Свидетель? Это какой-то бред. Хотя постойте, постойте… Недавно ко мне в гараж заходил один человек из милиции. Спросил: был ли я двадцать третьего сентября в шестнадцать часов у дома Беловежского? Я сказал, что был. Директору надо было отвезти домой продуктовый заказ, а у меня полетели свечи. Попросил одного нашего водителя выручить. Он сказал, что удружит, и мигом смотался. А у меня как раз мотор и заработал. Я подумал: не напутает ли он чего, мужик темный. И поехал вслед. Подъезжаю к директорскому дому, гляжу: вы, Лина, выходите. Сердитая-сердитая. Я подумал, что вам сейчас не до меня, и окликать не стал… А когда милиционер потом спросил меня: не видел ли в тот день кого выходящего из дома, я и скажи, что видел вас. Вот и все. А что — не надо было говорить? — И больше ничего? — Что же я мог еще сказать? Неожиданно она согласилась: — Больше вы ничего не могли сказать. Верно. Но мне стало так обидно. Я подумала, неужели все ополчились против меня? Подчиняясь внезапному порыву, Игорь наклонился, чтобы погладить Лину по голове, но она отстранилась, к рука скользнула по мокрой от слез щеке. Игорь вскочил, сделал несколько шагов к двери. Она сказала: — Как вы не понимаете… Я чувствую себя так, как будто меня вываляли в грязи. Во мне все заледенело. Разве я могу жить дальше… с этим обвинением? Игорь хотел было сказать ей, что она вовсе не выглядит заледенелой. Но ничего не сказал. Молча вышел. У него в голове вертелась фраза из популярной песенки: «Любовь — кольцо, а у кольца начала нет и нет конца».УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
В регистратуре городской больницы было многолюдно и шумно. — Я хочу узнать о состоянии здоровья Злотникова Льва Сергеевича, — сказал главный инженер привольского завода Николай Григорьевич Хрупов, наклонившись к овальному окошку, вырезанному в белом матовом стекле. — Вы что не видите — я занята! — ответила ему регистраторша, пожилая женщина со сморщенным желтым лицом. Она невозмутимо продолжала заниматься своим делом. Поставила на бюллетень две печати, сделала запись в толстой книге, оторвала от листочка корешок, а сам бланк уложила в кармашек медицинской карточки. — Я хотел узнать… Женщина подняла на него глаза: — Я ведь, кажется, делом занята! Она встала, взяла медицинскую карточку и, подойдя к полке со множеством ячеек, стала искать нужную, то и дело поглядывая на карточку, видимо, чтобы удержать в памяти ускользающую фамилию больного. Водрузив наконец карточку на место, она вернулась к окошку, поправила на кресле вышитую подушечку, уселась. Из-под белой шапочки выбились седые пряди, она стала пальцами подсовывать их обратно. У нее были неровные, обкусанные ногти. — Я вас слушаю, — проговорила она, но в это мгновение позвонил телефон. — Нет, зубной принимает с одиннадцати. Жукова в отпуске… Нет, только лично. Она повесила трубку и стала шарить взглядом по столу, отыскивая, чем заняться. — Вы когда-нибудь ответите на мой вопрос? — гаркнул Хрупов. — Или мне идти к директору? Женщина вздрогнула. — У нас нет директора. У нас главврач. И не грубите, товарищ. Вы находитесь в больнице. Вас кто интересует — зубной? — Нет! Зубной интересовал того, кто звонил вам по телефону. Я спрашиваю: каково состояние больного Злотникова? — А вы кто ему? — Кто? Друг… Сослуживец. Какая разница! — Большая разница — друг или сослуживец! Она сняла трубку, набрала номер. — Посмотрите, пожалуйста… Злотников. Ночью привезли… Что, инфаркт? Хрупову сообщила кратко: — Он в реанимации. Тяжелый сердечный приступ. Совсем недавно Хрупову попалась на глаза заметка под названием «Робот или врач» — о первых шагах АСУ в медицине. Автора не устраивало, что в трудную минуту жизни больной окажется не перед человеком, собратом, от которого может ожидать не только помощи, но и сочувствия, а перед равнодушным механизмом. Однако черствость и бестолковость регистраторши заставили Хрупова подумать: уж лучше четко и быстро ставящая диагноз и дающая справку машина, чем такой человеческий экземпляр! Хрупов отправился на завод. На душе было муторно. В коридоре заводоуправления главный инженер встретился с заместителем директора Фадеичевым. Хрупову показалось, что тот взглянул на него с мрачным недоброжелательством. У секретарши тоже на лице было особое выражение озабоченности и сочувствия. «Что они на меня так смотрят?» У него мелькнула мысль, что окружающим, которые уже, конечно, знали о приключившемся с инженером Злотниковым несчастье, он кажется таким же бесчувственным и равнодушным субъектом, каким час назад показалась ему регистраторша в больнице. «Все понятно: они считают, что это я довел его до инфаркта». — Соедините с квартирой Злотникова! — отдал он приказ секретарше. Через несколько секунд в переговорном аппарате что-то щелкнуло и послышался голос: — Жены Злотникова дома нет. У телефона мальчик. Будете говорить? Хрупов снял трубку. — Здравствуй, Тема. — Здравствуй. А кто это? — Это… — он помялся, — дядя Хрупов. — Дядя Хрупов! А папу в больницу увезли! — в оживленном Темином голосе не было грусти. Он еще не понимал, что случилось с его отцом. — А мама где? — Она поехала в больницу к папе. — А с кем же вы? — С тетей Люсей. Она сейчас кормить нас будет. Все стынет. Пока! Хрупов встал, прошел в комнату Левы Злотникова, заглянул в стол. Докладной записки на имя директора там уже не было. Он вяло подумал о том, что записка, судя по всему, ушла по назначению и достигла адресата. Строго говоря, эта записка и вызванное ею объяснение с Хруповым и послужили причиной злотниковского стресса.___
Вчера произошло вот что. Хрупову понадобилось получить какую-то справку, и он зашел в тесную комнату, служившую Леве кабинетом. Молодого инженера на месте не оказалось. В поисках нужной бумаги Николай Григорьевич потянул на себя верхний ящик стола, и его взору предстала соединенная конторской скрепкой пачка исписанных Левиной рукой листов. На первой странице было выведено:«Директору привольского завода Р. П. Беловежскому. О некоторых соображениях по внедрению автоматизированной системы управления (АСУ)».Хрупов пробежал глазами первые страницы. Злотников писал:
«Сейчас самое время задуматься о дальнейших путях автоматизации предприятий, начатой в 50-х годах. Сначала, как вы, конечно, помните, появились станки с цифровым управлением. Затем частично компьютеризованные системы, которые мы называем АСУ. Однако наша заводская АСУ, при немалых затратах на нее, надо признать, не приносила ощутимых результатов в улучшении управления предприятием, экономический эффект от ее внедрения, увы, так и остался условным. Вывод: нужны принципиально новые подходы…»Хрупов даже не смог дочитать фразы до конца. Мысль о Левином предательстве оглушила. Зашумело в голове, потемнело в глазах. Хрупов даже рукой оперся о спинку стула, чтобы не потерять равновесие. На днях, перечитывая книгу отца кибернетики Норберта Винера, Николай Григорьевич наткнулся на страницу, на которую прежде не обращал внимания. Американский ученый в поисках образных сравнений, которые сделали бы его мысль понятной, обратился к стихотворению Гете «Ученик чародея». Чародей поручает своему юному подручному принести воды. Ленивый и хитрый юноша, в свою очередь, сваливает эту работу на метлу. При этом он произносит волшебные заклинания, ранее услышанные им от учителя. Метла покорно подчиняется, но не может остановиться, поскольку юноша забыл второе заклинание. В отчаянии ученик переламывает метлу о колено. И, к своему ужасу, видит, что обе половинки метлы продолжают носить воду. Грозит затопление…
___
Скрипнула дверь, и на пороге появился Лева Злотников. Увидел в руках у главного инженера докладную записку, смутился. Его виноватый вид подстегнул Хрупова, и он без оглядки предался овладевшей им ярости. — Что это такое? Я спрашиваю! — гаркнул он, потрясая в воздухе листами, сколотыми большой канцелярской скрепкой. Лева, который, видимо, уже успел взять себя в руки, ответил: — Докладная записка… директору… я ему обещал. — А мне ты ничего не обещал?! — крикнул Хрупов. С неожиданной твердостью Лева Злотников ответил: — Все, что я вам обещал, я выполнил… Что я сделал плохого? — Предатель! Неблагодарный сопляк! — выкрикнул Хрупов и, грохнув дверью, выбежал из Левиного кабинетика. Он не слышал, как испуганно вскрикнул Лева, схватившись рукой за грудь, и как загрохотал стул, задетый им при падении.___
Тревожные мысли о Леве Злотникове, неподвижно лежавшем с иссиня-бледным лицом там, в реанимационной (Хрупов не видел Левы, но мысленно представлял его себе сейчас именно таким — неподвижным, с иссиня-бледным лицом), не шли у него из головы. Попробовал заняться делами, надо было срочно подготовиться к оперативке, но все валилось из рук. Кольнуло сердце. Он прижал руку к груди. «Лучше бы у меня был приступ, а не у Левы». Зазвонил телефон. В трубке послышался голос секретаря парткома Славикова: — Я слышал, ты был у Злотникова? — Был. — Это хорошо, что внимание проявил. Как он там? — В реанимации. Положение тяжелое. — В реанимации? Худо. Такой молодой и… Говорят, ты их совсем загнал. Они у тебя чуть ли не по ночам работают. Это — правда? — Правда. — И еще. У тебя что — вчера был с Злотниковым крупный разговор? Хрупов молчал. На лбу у него выступила испарина. — Ты чего молчишь? — Да вот думаю, куда ты клонишь. — Никуда я не клоню. Просто выясняю. Не может же молодой человек ни с того ни с сего… — Да у меня каждый день крупные разговоры! — сорвался Хрупов. — Я сам каждый день за полночь у кульмана сижу! А как прикажешь выполнять план, перевооружать производство? Без крупных разговоров крупных дел не сделаешь. — Все дело в том, как разговаривать с людьми. Я думал, ты только на директоров бросаешься… А оказывается, и на подчиненных. Он тотчас же понял, что имеет в виду Славиков — безобразную сцену в директорском кабинете, когда Хрупов с месяц назад в состоянии возбуждения, не найдя, что и как ответить на упрек Беловежского, бросил ему в лицо пачку денег. — Ты бы все-таки, Николай Григорьевич, того… помягче с людьми. Хорошо, что ты так любишь машины… Но ведь мы их для кого делаем? Для людей! Чтоб им легче было. Чтобы они производительнее работали, лучше жили. Нельзя, чтобы машины заслонили людей. Так недолго и самому превратиться в бесчувственного робота. Ну, мы еще поговорим… — сказал Славиков и положил трубку, оставив главного инженера погруженным в глубокую и мрачную задумчивость. Рассуждения Славикова странным образом пересеклись в сознании Хрупова со словами, сказанными ему давным-давно, лет десять назад, его институтским учителем, бывшим фронтовиком, профессором Андреем Андреевичем Ярцевым. — Автомат и человек… Кто господин и кто слуга? Не умаляет ли достоинство человека то, что он «обслуживает автомат», а не автомат — его самого? Ответ не так прост. Надо признать, что человек вынужден в какой-то степени подчиняться вещам, которые сам же создал. Мы же обычно ходим по тротуарам, а не по крышам… Машина-автомат в этом случае не налагает на нас принципиально новых ограничений. Но должно позаботиться о создании таких условий, чтобы в каждом отдельном случае и в целом в выигрыше оказывался человек. …Николай Григорьевич вышел из кабинета и пошел по заводоуправлению. В полутемном коридоре от стены отделилась женская фигура и метнулась навстречу ему. То была чертежница Надежда Семеновна, худенькая женщина с миловидным, немного птичьим лицом. Похожей на пичужку ее делали острый, как клювик, носик, и круглые блестящие глаза. Надежда славилась в заводоуправлении самой тонкой талией и красивой, как у Мэрилин Монро, грудью. Она всегда носила водолазки и свитера, перехваченные широким кожаным поясом с огромной пряжкой. Надежда Семеновна в частном порядке выполняла для Хрупова кое-какие чертежи. Время от времени он заезжал к ней домой. У нее была большая светлая комната с эркером в коммунальной квартире. Так получилось, что однажды Хрупов остался в этой комнате на ночь. С тех пор он регулярно навещал Надежду даже тогда, когда у него не было заказов на чертежные работы. Она была тихой, послушной, никогда от него ничего не требовала. Он и не давал ей ничего, кроме этих, ставших постоянными посещений. Надежда схватила Хрупова за руку своей маленькой, похожей на лапку рукой с длинными и ярко накрашенными ногтями. — Коля!.. Я хочу сказать, что этому не верю… — Чему не веришь? — Я ничему плохому не верю, что о тебе иногда говорят. Я знаю, что ты добрый и хороший. И хочу, чтобы ты знал, что я это знаю. Хрупов растрогался. Во время его посещения комнаты в коммунальной квартире они никогда не говорили о своих отношениях. Хрупов знал, что когда-то у нее был муж, об этом можно было догадаться по некоторым предметам убранства комнаты — двум скрещенным саблям на ковре, войлочным тапкам сорок третьего размера, бирманской сигаретнице из папье-маше — золотая роспись на черном фоне (сама Надежда не курила), бритвенному станочку и помазку на туалетной полочке и большому аквариуму с подведенной к нему сложной системой подогрева и освещения. Сейчас аквариум был пуст, на высохшем дне лежали морской песок и ракушки… «Это ты рыбками увлекалась?» — как-то спросил Хрупов. «Нет, это он», — сказала Надежда и осеклась. Куда «он» делся, Хрупов не знал. Не спрашивал, и Надежда не говорила. — Ну, я побежала. А то кто-нибудь увидит, — сказала она и добавила: — Ты уж давно не был… Я вечером дома. Когда бы он к ней ни заходил (а делал это Хрупов нередко без предупреждения), Надежда всегда была дома. Ему это прежде как-то не приходило в голову, а сейчас он вдруг понял: она его всегда ждала, боялась уйти из дому, вдруг он придет, а ее нет. И опять глаза Хрупова предательски повлажнели. Он провел рукой по ее плечу, темно-зеленая водолазка с люрексом зашуршала и дала искру. После работы Хрупов поехал на квартиру Злотникова. Тани не было дома: дежурила в больнице. Маленький Васька в углу с потрясающей настойчивостью нанизывал на стержень разноцветные — красные, зеленые, желтые — колесики пирамидки. Хрупов позвал Тему. — Ну, старичок, проблемы есть? — Есть. Я сейчас, — ответил Тема и сломя голову бросился на кухню. Через минуту он появился снова, с трудом таща здоровенное полено. — Дядя Хрупов, оно деревянное? — Вполне. — Тогда почему же из него не получается Буратино? — Ну, брат… Чтобы из полена сделать Буратино, нужны как минимум две вещи. — Какие? — Хрупов заметил, что глаза у Темы такие же, как у его отца Левы, — большие, серые, в желтую крапинку. — Нужна адская сила и острый ножик. Тема задумчиво ковырял полено розовым пальчиком. — Ну адская-то сила у меня есть… А где взять острый ножик? Хрупов рассмеялся. — Говоришь, адская сила у тебя есть? Ах ты мой милый. Ну, пойдем поищем острый ножик. Заглянув в ящик кухонного стола, Хрупов обнаружил целый набор острых ножей с деревянными ручками, но вовремя спохватился. — Послушай-ка… А если я тебе дам вместо острого ножа вкусную вафлю, это тебя устроит? Тема быстро ответил: — Устроит! Пока Тема лихо расправлялся с шоколадной вафлей, Хрупов, присев на маленький табуретик, внимательно оглядывался вокруг. Здесь, в этой квартире, много было сделано его руками. Лева был не способен забить гвоздь, не поранив себе при этом руку, и Таня к хозяйственным делам его не подпускала. Нет, адской силы у Левы не было. Было другое, неизмеримо более ценное… Сейчас хозяин квартиры с приступом лежал в реанимации, а жена металась по больничному коридору, перехватывая врачей в надежде услышать слова успокоения. Хрупов потоптался на месте, не зная, как занять и развлечь детей, потом пожал руку Теме, взъерошил светлые волосы карапузу Ваське, не расстававшемуся со своей пирамидой, и покинул квартиру. Куда идти дальше, он не знал. Домой — не хотелось. Что там ждет его: постылое одиночество? Решил прихватить в гастрономе бутылку шампанского и отправиться к Надежде. В гастрономе, как всегда, толпился народ. Хрупов, ощущая чувство безнадежности, пристроился в конец очереди. Высокая женщина в белой шляпе, закрывавшей лицо, подошла к прилавку и протянула продавщице деньги. Та, обычно строго соблюдавшая правила очередности (все остальные правила торговли она, судя по всему, нарушала), на этот раз с готовностью нырнула под прилавок и извлекла оттуда несколько бутылочек дефицитного в Привольске напитка «Фанта». Хрупов, которому надоело стоять в очереди, не выдержал, громко сказал: «Почему отпускаете из-под прилавка и без очереди?» Продавщица обдала Хрупова презрением: «Ишь разпочемукался, алкаш! Да я возьму и вообще тебе ничего не дам!» Женщина в шляпе оглянулась, и Хрупов узнал Медею, жену Беловежского. Он круто повернулся, вышел из магазина. Постоял на углу. — Что, денег нет? — толкнул его под локоть испитой тип. — Не в этом дело… очередь. Стоять некогда. — А ты дуй в «Рюмочную», за углом, напротив детской музыкальной школы. Только учти, там дорого, с бутербродами! — А шампанского там, случаем, нет? — Там все есть! Хрупов в «Рюмочной» шампанского, естественно, не обнаружил. Почувствовал голод, попросил подать бутерброд. — А этого не надо, — сказал он продавцу, указывая на рюмку. — Что-о-о?! — гаркнул, наливаясь злостью, продавец. — Ты что, жрать сюда пришел? — Ладно, я заплачу, но мне рюмки не надо, — поспешил успокоить его Хрупов. Вид бутербродов с сыром, продававшихся в неразрывном единстве с рюмкой водки, навел мысли Хрупова на другое. Технику для заводского АСУ японская фирма поставляла в комплекте, запросив за нее довольно-таки приличную сумму. Напрасно доказывали, что некоторые «игрушки» им не нужны. Поставщики были неумолимы — или все, или ничего. Хрупов усмехнулся: чем не рюмка с обязательным бутербродом! А ведь Злотников прав: слишком много дорогостоящих бирюлек, слишком много игры в цацки НТР и слишком мало настоящей работы. Но если он прав, то за что он тогда на него вчера накинулся? И были ли у него основания сравнивать инженера с гетевским учеником чародея, бездарным честолюбцем, ослушавшимся своего учителя и едва не наделавшим бед?ДВОЙНАЯ КРАЖА
Подумать только: Медея Васильевна обвинила Лину в краже кольца! Игорь не настолько наивен, чтобы не догадаться: у этой истории своя подоплека. Лину и Медею связывают какие-то неведомые ему узы. Иначе зачем было Лине приходить в директорский особняк? Игорь морщит лоб. Медея Васильевна в Привольске сравнительно недавно. Так что скорее всего причина конфликта — в отношениях Лины с Беловежским. Медея его жена. Лина одно время была его секретаршей… Игорь вздыхает, гонит от себя невеселые мысли. Сейчас у него одна задача — помочь девушке. Оболганная, обвиненная, она глубоко несчастна. Ищет у Игоря помощи и защиты. Может ли он отказать? Конечно, нет! Мысль о пропавшем кольце с аметистом неотступно преследует его. Кому и зачем понадобилось отдавать кольцо на переделку ювелиру, а затем продавать через комиссионку? Кража кольца у Медеи — случайность или тщательно обдуманный шаг? Конечно, проще всего предположить, что кольцо похитил мелкий воришка, скажем, малец, забравшийся в сад за яблоками. Увидел на подоконнике сверкающую вещицу и схватил ее. Но не исключен и другой вариант: кто-то специально охотился за кольцом. Почему именно за ним? Что в нем особенного? Как сообщил Игорю Христофор Кузьмич, кольцо вполне заурядное и особой ценности не представляет. Тогда в чем же дело? Ответ напрашивается сам собой… Кольцо потому отдали на переделку, что оно краденое. Вот его и решили «перекрасить», как перекрашивают угнанные у владельцев автомашины. В таком случае, кольцо с аметистом не просто драгоценность, а улика, которую кто-то решил уничтожить. Получается, что второе преступление — кража кольца у Медеи — покрывает первое: давнюю кражу у неизвестного владельца. Правда, это первое преступление пока не более чем плод разыгравшегося воображения. Тем не менее догадку надо проверить. Игорь размышлял над всем этим, а ноги сами несли его на Садовую улицу, где жил ювелир. Он застал Христофора Кузьмича за хозяйственными хлопотами — тот вставлял в массивную, обитую железом входную дверь третий замок. — В последнее время вокруг дома крутятся всякие подозрительные личности, — мрачно сообщил Христофор Кузьмич. — Что-то вынюхивают. Вот и приходится принимать дополнительные меры. Христофор Кузьмич устал и рад был сделать перерыв. Он принялся ставить самовар. Под его успокаивающий шум завязался разговор. Начал Игорь: — А кольцо-то с аметистом украли! Христофор Кузьмич даже подпрыгнул на месте. — Как украли? Кто? Когда? У кого? Игорь начал с конца: — Как вы знаете, Беловежский купил кольцо с аметистом в комиссионке и подарил жене к дню рождения. Но прошло несколько дней, и кольцо пропало. Его утащили с подоконника. Игорь был удивлен тем, как сильно подействовало сообщение о краже кольца на старика. Кровь отлила от щек. Прятавшиеся в веках тусклые глаза были полны тревоги. «Что это с ним? Чего он так разволновался? — подумал Игорь. — Украли-то не у него…» — Скажите, Христофор Кузьмич, вы с кем-нибудь делились моими сомнениями относительно кольца? — Делился сомнениями? — Ну да, — раздражаясь непонятливостью старика, сказал Игорь. — Помните, мы еще обсуждали с вами: не затем ли сдали кольцо в переделку, чтобы его нельзя было опознать? Не краденое ли оно? — А оно краденое? — Сейчас-то уж наверняка краденое, раз его украли, — усмехнулся Игорь. — Но вот вопрос — не было ли оно украдено еще раньше, до того как попало в ваши руки? — При чем тут это? Игорь вдруг подумал: а ведь ювелир придуривается, выдавая себя за беспамятливого и бестолкового старика. Не мог же он в самом деле забыть о подозрительном кольце с аметистом! В сердцах воскликнул: — Христофор Кузьмич! Пожалуйста, не делайте вид, что ничего не знаете и не помните! Вы еще сказали, что кольцо принесет вам несчастье! Что вы имели в виду? Ему показалось, что старик обиделся. Молча поднялся с лавки, подошел к самовару и стал что есть силы дуть на угли, после чего самовар загудел на тон выше и дым пошел погуще. Христофор Кузьмич распрямился, потер поясницу. Вернулся к лавке. И только тогда ответил: — Не буду от вас скрывать, Игорь. Мне этот разговор не совсем приятен. — А почему? Христофор Кузьмич отвел глаза в сторону: — Ну, как вам объяснить… Мы, ювелиры, народ особый. Имеем дело с бо-о-ольшими ценностями! Причем все эти кольца, серьги, браслеты, цепочки, кулоны, драгоценные и полудрагоценные камни, до того как попасть к нам, проходят через сотни других рук. И не все эти руки чисты. Не все владельцы драгоценностей безгрешны. Кое-кто завладел своим богатством нечестным путем. Это вынуждает нас к особой осторожности, щепетильности, что ли… И все же, как мы ни внимательны, ошибки бывают. И каждый раз после такой ошибки я чувствую себя подавленным, у меня появляется нечто вроде отвращения к своей профессии. А ведь профессия тут ни при чем! Я получил ее как эстафету из рук отца. А он был абсолютно честным человеком. Как уж ему это удалось, не знаю. Жизнь прожить — не поле перейти. Всякое случается. Сделаешь неверный шаг, а потом сам же маешься, места не находишь. Иногда появляется желание все бросить и уйти. — Как Толстой ушел? — Эк куда вы хватили! Для того, чтобы уйти, как Толстой, надо по меньшей мере… им быть! Христофор Кузьмич невесело засмеялся. Внезапно прервал свой смех: — Так о чем вы хотели меня спросить? — Говорили ли вы кому-нибудь о своих подозрениях по поводу кольца с аметистом? — Что ж, вопрос прямой. Прежде чем ответить на него, я сам хочу вас спросить: какое это имеет значение? Сейчас, когда кольцо, как вы сообщили, пропало, кануло в небытие. Чему я, если говорить откровенно, очень рад… — Но оно не просто «кануло». Оно украдено. И по факту кражи начато следствие. Под подозрение попал очень хороший человек. — Вы убеждены, что это действительно хороший человек? — Убежден! Старик испытующе посмотрел на Игоря: — Мужчина или женщина? — Женщина. Дочь того человека, с которым мы вместе ехали в грузовике. Помните? — А, Примаков? Дмитрий Матвеевич? Помню, помню. Он показался мне весьма достойным человеком. — Дочь его тоже достойный человек. Старик улыбнулся: — Это не она ли носит сделанное мною серебряное кольцо? — Она. — Простите мое стариковское любопытство… Эта девушка — ваша невеста? — Она, во всяком случае, об этом еще не знает. Старик всплеснул руками: — Понимаю, понимаю. Вечная, как мир, и прекрасная, как весенний сад, история: любит — не любит, плюнет — поцелует, к сердцу прижмет — к черту пошлет. — Скорее всего, к черту пошлет. — И все-таки вы за нее хлопочете? Молодец. Сейчас я чаю налью и принесу варенья. Черносмородинового. Недавно сваренного. Эти любезные слова, суетливая готовность угодить гостю не могли скрыть замешательства, в котором находился ювелир. После того как чай был налит в стаканы с потемневшими от времени серебряными подстаканниками, а пахучее варенье разложено по хрустальным розеточкам, Христофор Кузьмич с усилием преодолел свое нежелание продолжить разговор. — Не скрою от вас: я пытался встретиться с женщиной, по заказу которой я переделал кольцо с аметистом. — Пытались? — Да… Но безрезультатно. По данным горсправки, Елизавета Палкина (так себя она назвала) в городе не проживает. — Ну так вот, Христофор Кузьмич, — сказал Игорь, — вы мне сказали многое, но не все… Признайтесь: кольцо с аметистом вам напомнило о каком-то мрачном событии вашей прошлой жизни. О каком именно? Как вы сами сказали, через ваши руки прошли сотни драгоценностей. Не бегали же вы из-за каждой в отдельности по городу, выясняя, откуда она взялась и куда делась. Тут особый случай. Какой? Вы должны мне рассказать. Ради девушки, на которую пало подозрение. — Ну хорошо. Слушайте. Ювелир заговорил быстро-быстро. Теперь ему как будто не терпелось высказаться и тем облегчить душу. — То был самый страшный день моей жизни! До смерти не забуду. Немцы подходили к Привольску. Было дано указание эвакуировать предприятия. Я работал в артели «Красный ювелир». Наш бухгалтер заболел, лежал в жару. Меня вызвали и велели сопровождать в тыл кассу и драгоценности. В суматохе пропустили нужный момент, последний эшелон ушел. Ходили слухи, что железная дорога перерезана немцами, что они вот-вот войдут в город. Все богатства артели погрузили на старенький грузовичок. Тронулись… Нас было трое — я, шофер и инкассатор, которому было поручено охранять ценный груз. Хриплый голос Христофора Кузьмича прервался: — Вы не можете мне налить чаю? Горло пересохло. — На морщинистой, старческой шее дрожал кадык. И шея и кадык выдавали истинный возраст ювелира. — Вы представить себе не можете, как я был горд и взволнован! Мне, молодому человеку, доверили такие ценности! Кольца, кулоны, браслеты из золота и серебра. С самого начала нас преследовали неприятности. Начал барахлить мотор. Потом куда-то скрылся инкассатор. Это был мрачный человек со шрамом над бровью. На протяжении всего пути он не говорил со мной, только по-волчьи скалил зубы. Я думал, что замкнутость, неразговорчивость инкассатора — следствие его профессии, вынуждавшей всегда держаться настороже, ждать опасности. Но, как впоследствии выяснилось, дело было не в профессии, а совсем в другом. Мы с инкассатором время от времени менялись местами, то я ехал в кабине, а он в кузове, то наоборот. И вот однажды мы остановились, я выхожу, заглядываю в кузов, там никого. Инкассатор сбежал. Я бросился к ящикам, с облегчением обнаружил: груз на месте, пломбы не тронуты. Ночью на нас было совершено нападение. Дорогу преграждал завал. Мы притормозили, какие-то люди выскочили из кустов, с криком бросились к нам. Спаслись мы только благодаря хладнокровию шофера. Он нажал на акселератор, крутанул руль, машина съехала на обочину и миновала завал. Вслед нам стреляли, но мы были уже далеко. Ранним утром обнаружили на дороге возле обгоревшего ольшаника следы недавнего боя. Поперек проезжей части лежала на боку подорванная гранатой немецкая штабная машина. Мы вышли на шоссе, чтобы сдвинуть немецкую машину и таким образом освободить себе путь. И услышали стоны со стороны кустарника. Шофер бросился туда и обнаружил тяжело раненного мальчишку. Взрывом мины ему разворотило ногу. Подняли парня, отнесли к машине. Стали класть его в кузов и… о, ужас! Ящиков с имуществом артели там не было! Их похитили. Я сразу же подумал о сбежавшем инкассаторе. По всей видимости, это он со своими дружками устроил на дороге завал, чтобы расправиться с нами и завладеть ценным грузом. Первый раз у них не вышло. Тогда они двинулись вслед за нами, воспользовались нашей отлучкой, перегрузили ящики в свою подводу и были таковы. Я был в отчаянье! Кричал, плакал, рвал на себе волосы. Государство на меня понадеялось, оказало мне доверие, а я… Как я мог теперь доказать, что ценности похищены не мною? Богом клянусь, если бы в тот миг у меня был с собой пистолет, я бы застрелился. Но его не было. — Что же дальше? Христофор Кузьмич вздрогнул и поглядел на Игоря так, как будто видел его впервые. На лице его ясно выразилось смятение. Он был недоволен, что разоткровенничался, сказал слишком много. — Дальше? Это не имеет значения! Вы спрашивали о кольце с аметистом… Так вот, среди похищенных ценностей было несколько таких колец, их выпускала до войны наша артель. Конечно, это вовсе не означает, будто кольцо, которое мне сдали в переделку, из той партии. Скорее всего нет, таких колец много — массовая продукция! Но, как вы сами понимаете, вид кольца с аметистом не мог не пробудить во мне тягостных воспоминаний. Я настроился на определенный лад. И когда с кольцом начали происходить странные вещи, я подумал: а вдруг это то самое?.. Из той партии? Может быть, люди, обокравшие меня, живы? И находятся в этом городе? Все это ерунда, конечно, но мыслям не прикажешь. Теснят, одолевают. Вот почему я побежал в комиссионку, стал наводить справки. Разумеется, не надо было этого делать. Игорь помолчал, помешивая ложечкой в стакане горячий чай. — Эту Палкину вы видели дважды… Она принесла кольцо и забрала обратно. Вы должны были запомнить ее. Описать можете? Ювелир прореагировал на эти слова так, как незадолго до этого Лина. — Вы меня допрашиваете, молодой человек, как будто работаете в угрозыске. Игорь ответил тихо и серьезно: — Поймите меня… Я стараюсь ради человека, который попал в беду. — Хорошо, хорошо. Круглолицая, смазливая бабенка, без особых примет. Хотя, постойте, что это я… Как раз особая примета у нее есть, и очень заметная: большая родинка вот тут, на шее. — Здесь? — Да… — Еще один вопрос, Христофор Кузьмич… Последний. Почему вы не сообщили о своих подозрениях насчет кольца в милицию? Ювелир занервничал: — А почему я должен? Я ничего не знаю. Меня попросили, я переделал. В чем я виноват? Ни в чем. Все остальное — домыслы. И не втягивайте меня, пожалуйста, в это дело. Я уже жалею, что разоткровенничался с вами. Все. Идите. Меня работа ждет. Мне еще замок вставлять. А уже темнеет. Покидая дом ювелира, Игорь обнаружил: за время чаепития третий замок каким-то чудом оказался на месте. Однако Христофор Кузьмич не обрадовался этому, а рассердился. — Это все мой помощник… Хочет облегчить мою жизнь. Но я ведь сказал ему: сделаю сам. Я хочу быть уверен… — Он не договорил фразы.___
На другой день вечером в машине по дороге с завода к директорскому дому Игорь рассказал Беловежскому о напраслине, которую возвела на примаковскую дочку Медея Васильевна. Он понимал, чем это ему грозит — гневом директорской жены, а может быть, и самого директора. Но ему также было ясно, что он не может поступить иначе. Игорь видел, как тяжело переживала Лина случившееся, как угнетало ее подозрение. Да какое там подозрение! До прямого обвинения всего один шаг, ведь с нее уже взяли подписку о невыезде! — Как взяли подписку? — изменившимся голосом переспросил Роман Петрович. Игорь, глядя прямо перед собой, сквозь лобовое стекло, подтвердил. Да, Лину вызвали в городской отдел милиции, подвергли допросу, взяли подписку о невыезде. В машине повисло тяжелое молчание. — Скажите, Игорь, — вдруг спросил Беловежский. — Некоторое время назад, посреди рабочего дня, проезжая по Приморской, я увидел нашу машину. Вы что — купались? Игорь покраснел: — Жарко было… Вот и решил окунуться. — Понятно. А кто был вместе с вами, если не секрет? Лина? «Быстро же последовала расплата», — подумал Игорь и снова честно признался: — Да, Лина Примакова. Мы с нею ездили к директору краеведческого музея. Она сказала, что он может мне помочь в розысках деда… — Ах, вот что… Ну и как? Удалось что-либо обнаружить? Игорь решил, что наступил удобный момент для перехода в наступление. — Совсем немного… Я, например, узнал, что фамилия командира части, в которой воевал мой дед, была Беловежский. В салоне машины снова повисло молчание. Его прервал Беловежский: — Вы в этом уверены? — Почти. — Так. Судя по всему, то был мой отец. Он как раз воевал в этих местах. Казалось, Роман Петрович испытал облегчение от того, что разговор свернул с неприятной истории о краже кольца на другую, далекую и более безопасную тему. Однако эта тема только представлялась ему безопасной. На самом деле она таила в себе много неприятного — и для него самого, и для его отца. Но ни он сам, ни Игорь этого еще не знали. Машина свернула в переулок и остановилась у директорского дома. Беловежский приоткрыл дверцу, спустил одну ногу на землю. Обернулся к Игорю. — Я собираюсь заглянуть к отцу. Быть может, удастся совместить мою поездку с вашей командировкой в Горький за новой «Волгой». Тогда вместе навестим отца, это неподалеку… Что же касается дурацкой истории с кольцом, то я разберусь… Пусть Лина не беспокоится. Жаль, что вы мне раньше не сообщили. На другой день к Игорю в гараж зашла Лина и радостно рассказала, что ей только что позвонили из угрозыска, подписка о невыезде с нее снята. — Я же говорила, что правда обязательно восторжествует! — Глаза ее блестели от возбуждения.___
Слова ювелира о приметах женщины, поручившей ему переделку кольца с аметистом, перенесли Игоря в вагон-ресторан поезда, в котором он ехал из Москвы в Привольск. Он вспомнил официантку Галю, невысокую, плотную, взбудораженную от сознания, что она служит объектом повышенного внимания со стороны посетителей ресторана. Очень, конечно, может быть, что владелицей кольца окажется не официантка Галя, а совсем другая — мало ли на свете женщин с родинками! Но проверить тем не менее надо. На другой день Игорь после работы побывал в отделе кадров местного отделения железной дороги и спросил, не числятся ли у них Палкина Елизавета Сергеевна, которая сдала ювелиру кольцо на переделку, и Разувайкина Наталия Федоровна, по паспорту которой переделанное кольцо с аметистом было принято магазином на комиссию. Работник отдела кадров заявил, что ни той, ни другой в списках личного состава Привольской железной дороги не значится. Тогда Игорь поинтересовался — не знает ли он официантки из вагона-ресторана с большой родинкой на груди. Кадровик рассердился: стар он в такие игры играть, женщин по родинкам угадывать, пусть молодой человек шутит в другом месте, а здесь серьезное учреждение, здесь не до шуток. Расставшись с сердитым кадровиком, Игорь отправился на вокзал. Долго бродил по огромному старому зданию, под высокими гулкими сводами которого кипела суматошная жизнь. Усталые, невыспавшиеся люди тесно сидели на отполированных их многочисленными предшественниками деревянных лавках, вяло бродили между нагромождениями чемоданов, баулов, ящиков, узлов, сваленных в узких проходах. Время от времени с характерным треском включался репродуктор. Хриплый женский голос называл номера прибывающих, отбывающих и опаздывающих поездов, но в плотном шуме и гаме этих объявлений не было слышно. Люди оборачивались друг к другу и спрашивали: «Что она сказала? Что она сказала?» Мимо Игоря прошла поездная бригада, направлявшаяся на перрон. Игорь поспешил вслед за нею. Подойдя к одной из женщин в железнодорожной форме, задал ей вопрос об официантке из вагона-ресторана с родинкой на груди. Женщина ответила: — Приглянулась, что ли? Ох вы, мужики, охочи до нашей сестры! Да вы вроде парень приличный, не охальник. Вот что… Ступайте к девятому вагону, там ресторан. И спросите. Он последовал совету. Сунулся с черного хода в вагон-ресторан, его обругал какой-то мужик, зато официантка, худенькая, востроносая, завитая мелким бесом, быстро и охотно вошла в положение симпатичного парня. Сказала: — Да это же Галка Самохина! Она в другую смену работает. — А где ее найти? — В общежитии. Улица Нахимова, семь. У Игоря дух захватило от радости. Неужели нашел? Он тут же отправился по указанному адресу. Узнал у коменданта номер комнаты, где проживала Самохина, получил письменное разрешение пройти в общежитие. Раскрасневшаяся Галина Самохина сидела за столом в пестром ситцевом халатике. На голове — чалма из полотенца. Близоруко щурясь, она пыталась в тусклом свете электрической лампы разглядеть на распяленном пальцами чулке спущенную петлю. — Здравствуйте! Я — Игорь. Помните, я ужинал в вашем вагоне-ресторане? Галя поглядела на него и сказала: — Какой еще Игорь? Разве всех упомнишь? Ездют и ездют в разные концы как скаженные. Перед глазами Игоря тотчас же возникла картина кочующего цыганского табора, только что увиденная им на вокзале, и он согласился: — Да… кажется, весь народ с места стронулся. — А я что говорю? Не сидится им, чертям, на месте. Все за счастьем шастают. А где оно, счастье-то? Недаром говорится: там хорошо, где нас нет. Так что тебе от меня надо-то? Она плотно сдвинула розовые круглые колени и не без игривости поглядела на гостя. Он спросил: — Скажите… Месяца два назад вы не отдавали ювелиру кольцо с аметистом для переделки? Кровь вмиг отхлынула от румяных щек официантки, она постарела на глазах. — Тебе-то на что? Иль ты из угрозыска? Уже третий человек подряд задает Игорю этот вопрос. — Нет. Я шофер. Могу документы показать. — А ты и покажь, покажь… Что-то подсказало Игорю, что документов своих Самохиной показывать не следует. Пропустив ее слова мимо ушей, он произнес: — Я видел ваше кольцо у ювелира. И оно мне очень понравилось. Решил невесте подарить. Может, продадите? Лицо Самохиной приобрело хитрое и злое выражение: — Ври, да знай меру… Больно ты похож на тех, кто золотые кольца покупают. Так я и поверила. Вишь, ты, невесту приплел. Дакто за тебя пойдет-то, беспачпортного?! Она явно хотела устроить скандал, чтобы не допустить неприятного для нее разговора о кольце. Игорь решил не поддаваться. Спросил как ни в чем не бывало: — Оно у вас? Может, покажете? — Нету его у меня… нету… Было, да сплыло. Понял? А теперь дуй отсюда. — А где вы его достали? Может, там еще такие есть? Она вскочила с места и с угрожающим видом стала наступать на Игоря, тесня его к двери своей высокой грудью, украшенной темной родинкой. — От матери в наследство получила. Мое кольцо! Что хочу, то с ним и делаю. Продала я его. Понял, продала! — А кому? — Откуда мне знать? Снесла в комиссионку, деньги получила, и все. Остальное мне без интереса. — А почему на чужую фамилию сдавали, а не на свою? Она замерла на месте. — Вот ты кто? А брешешь, что шофер. Вызывай по повестке, а потом вопросы задавай. Больше я тебе ни слова не скажу. Поняв, что разговор окончен, Игорь повернулся и вышел. Шагая к дому по затихшей к вечеру улице, он мысленно подвел итог своих розысков. Кое-что удалось узнать. Отыскалась владелица кольца. Это она сдала его — сначала на переделку ювелиру, а потом в комиссионный, по чужому паспорту. Где и как она этот паспорт раздобыла? Скорее всего, одолжила у какой-нибудь проводницы, приписанной к другой железной дороге. Почему не воспользовалась своим паспортом? Видимо, кольцо все-таки краденое и она побаивалась, что переделка в недостаточной мере изменила его облик и оно может быть опознано. И в то же время разговаривала с ним довольно спокойно. Почему? Да потому, что знает — кольца нет, следовательно, главная улика против нее уничтожена. Что касается кражи кольца, то она, скорее всего, только слышала о ней, сама же непричастна. Поэтому и хорохорится — «вызывайте по повестке»… А что, не мешало бы вызвать.___
И вот Игорь Коробов сидит перед следователем Толокно и делится с ним своими соображениями относительно кражи у директорской жены кольца с аметистом. Откровенно говоря, Игорь ожидал, что Толокно примется его благодарить за ценные сведения, которые он принес. Однако первые же слова следователя обдали его холодом. Строго официальным голосом Толокно объявил: — Гражданин Коробов! Вы нанесли следствию непоправимый вред. Предупредили возможных преступников о грозящей им опасности и тем самым предоставили время для того, чтобы окончательно замести следы. Неужели вам это неясно? Следователь набирает номер, звонит. — Общежитие? Мне нужна Самохина Галина. Что? Выписалась и уехала? А куда? В неизвестном направлении? Так я и думал. Что? Нет, это я не вам. Спасибо. Толокно положил трубку на рычаги и с холодным гневом уставился на Игоря. Тот сидел, понурившись. — Была бы моя воля, — продолжал Толокно, — я бы вас за все, что вы натворили, привлек к ответственности. А пока, — он подчеркнул голосом слово «пока», — у меня еще нет для этого достаточных оснований. Но, может быть, появятся. Вы наверняка понадобитесь следствию. Вас вызовут по повестке. Я вынужден вас просить не покидать города. — А я и не собираюсь отсюда уезжать. Мне здесь нравится, — произнес Игорь, оставляя кабинет негостеприимного следователя.___
Буквально через несколько дней Беловежский объявил своему водителю: — Готовьтесь к командировке. Едем. Заодно повидаем отца. Пришлось Игорю снова жаловаться на следователя Толокно, который снял подписку о невыезде с Лины Примаковой, но зато лишил права передвижения директорского шофера. — Они что там, с ума посходили? — раздраженно произнес Беловежский и потянулся к телефонной трубке. …Накануне отъезда Игорю в гараж позвонил ювелир. — У меня к вам большая просьба. Срочно нужно навестить дочь, а дом оставить без присмотра боюсь. Не забрались бы! Не могли бы вы несколько дней пожить в сторожке, приглядеть за домом? Я вас отблагодарю. — А где же ваш помощник? — Обострение. Лежит в больнице. Ему грозит новая операция. — А что у него? — Остеомиелит. — К сожалению, выручить не смогу. Завтра уезжаю вместе с директором в командировку. Ювелир вздохнул: — Ну, чему быть, того не миновать. Ехать нужно позарез. Через час и отбываю. — Ни пуха ни пера. — К черту! После работы Игорь отправился к Примаковым — попрощаться с Линой. Девушка ему обрадовалась. Усадила за стол, принесла тарелку, доверху наполненную лапшой «по-монастырски» (фирменное примаковское блюдо). Еще раз сбегала на кухню, сунула в тарелку пару котлет. — Ешьте, ешьте. А потом расскажете, не удалось ли узнать что-нибудь еще. Ну, о том деле… Игорь почувствовал угрызения совести. После строгого внушения, которое сделал ему следователь Толокно, он на время прекратил розыск похитителей кольца с аметистом. Теперь собственное поведение показалось ему малодушным. Он поведал Лине о звонке ювелира. — А вдруг его ограбят сегодня ночью? — высказала она предположение. — Почему именно сегодня? — удивился он. — Вы же сами сказали, что за ювелиром следят. В таком случае его отъезд не останется незамеченным. Так? Но поскольку никто не знает, надолго ли он уехал — на день или два, они поспешат забраться в дом этой же ночью. А потом этот ювелир еще и свалит все на вас. Рассуждения Лины показались Игорю не лишенными логики. — Может, сообщить в милицию? — А вы представляете, как рассердится этот Толокно, если мы снова начнем морочить ему голову! Игорь почесал в затылке. — Представляю. — Давайте вот что сделаем, — схватив Игоря за руку своей горячей рукой, предложила Лина, — вместе отправимся к дому ювелира… Если что-нибудь покажется подозрительным, позвоним в милицию. А нет, просто погуляем. Вечер-то какой! Перспектива провести вечер наедине с Линой обрадовала Игоря. Он тотчас же одобрил ее план, с одной лишь поправкой: он пойдет в гараж и возьмет директорскую «Волгу». С машиной им будет удобнее. «Волгу» Игорь получил без труда. Стоило только сказать вахтеру: «Приказание Беловежского», и ворота открылись. Было известно, что директор наутро отбывает в командировку, и неурочная поездка его водителя удивления не вызвала. Однако на Садовой, где жил ювелир, царили тишина и покой. Взявшись за руки, Игорь и Лина несколько раз прошли мимо дома Христофора Кузьмича, чутко прислушиваясь, не раздается ли где звук чужих шагов, не скрипнет ли отворяемый ставень… Нет, ничего. Некоторое время спустя они вернулись к машине. Игорь не жалел о ночной поездке, хотя она и не дала никаких результатов. Зато Лина была рядом, его ладони еще хранили тепло ее ладоней. — А вдруг воры заберутся к ювелиру не этой ночью, а следующей? — высказала опасение Лина. — Мы вот что сейчас сделаем… Игорь притормозил машину у телефонной будки. Набрал «02», сказал: — Просим взять под наблюдение дом номер шесть по Садовой улице. Не исключено, что в ближайшее время кое-кто постарается туда забраться. — А кто говорит? — спросил дежурный. — Личный друг следователя Толокно, — ответил Игорь и повесил трубку. — Напрасно это вы насчет «личного друга», — сказала Лина. — Подумают, что розыгрыш, и не двинутся с места. Увы, ее опасения подтвердились. Вернувшийся из командировки Игорь застал Христофора Кузьмича в подавленном состоянии. — Жаль, очень жаль, что вы, Игорь, не могли выполнить мою просьбу и присмотреть за домом. Ко мне забрались. Игорь вздохнул: — Я не мог, вы же знаете. А много ли взяли? — Кто-то их все-таки, видимо, спугнул. Взяли только зеленый сейф, что лежал на серванте в столовой. — А-а… Такой зеленый? Фирмы «Остер-Тага»? А что в нем было? Драгоценности? — Нет. Драгоценностей как раз не было. Я же вам говорил. Только старые бумаги. Однако горестный вид Христофора Кузьмича, его дрожащий голос никак не соответствовали размерам понесенного урона. Он выглядел так, будто пропало, сгинуло все достояние. Едва переступили порог комнаты, как старик тотчас же опустился в кресло, было видно, что силы покинули его. — Странно, — в задумчивости произнес Игорь. — И зачем только жуликам понадобилось уносить пустой сейф, если известно, что в мастерской полно драгоценностей? И почему они полезли в гостиную, а не в мастерскую? Потому что окно в гостиной менее укреплено? — Ерунда. Оба окна укреплены одинаково — решетки и ставни, — ответил ювелир. — Из гостиной попасть в мастерскую еще труднее. Надо возиться с железной дверью. — Но тогда выходит, что их интересовал именно этот сейф! — Вы так думаете?! — воскликнул Христофор Кузьмич. На лице у ювелира был испуг. — А что за бумаги хранились в сейфе, если не секрет? Ювелир замялся. — Я вам как-нибудь расскажу на досуге. Это — целая история. Вернее, продолжение той истории с похищенными драгоценностями, которую я однажды вам поведал. Но об этом — в другой раз. Я устал. Извините, но мне надо остаться одному. Уходя, Игорь не удержался от последнего вопроса: — Христофор Кузьмич, а в милицию вы заявили о краже? — В милицию? А зачем? Я же, кажется, сказал вам, что никаких драгоценностей в сейфе не было. Зачем беспокоить людей по пустякам, — ювелир отвел глаза. Игорь спустился с высокого крыльца. Хотя дело шло к вечеру, солнце еще светило — не ярко, но ласково. В его лучах этот утопающий в садах уголок города выглядел уютным и мирным. Густой охрой отливала остроконечная крыша дома, в стеклах отражались пестрые цвета заката, казалось, будто художник смешал краски на мольберте и замер на мгновение, прежде чем начать задуманную картину, призванную удивить и порадовать мир. Хорошо бы выяснить: зачем понадобился грабителям маленький зеленый сейф производства немецкой фирмы «Остер-Тага», если учесть, что в этом сейфе не хранилось ничего, кроме старых бумаг, как утверждал ювелир. И есть ли связь между кражей кольца у Медеи Васильевны и похищением сейфа?ГРЕХИ ОТЦОВ
Получив телеграмму, сообщающую о неожиданном приезде сына, подполковник в отставке Петр Ипатьевич Беловежский от волнения сунул очки не в кожаный очешник, а в стаканчик для карандашей, хотя в нормальном состоянии никогда бы этого не сделал («вещи, как и люди, должны знать свое место»), резко вскочил со стула и тонким голосом выкрикнул: — Зина! Рома едет! Зина, где же ты?! Уже сердясь, что жены, как всегда, нет в нужную минуту под рукой, он вышел из кабинета в коридор и, шаркая спадающими с ног кожаными тапками без пяток, остановился на пороге кухни. Седые кромки бровей дергались от гнева, сухие бескровные губы приняли осуждающее выражение. Весь этот гнев, все это кипевшее в нем в эту минуту раздражение против жены носили чисто внешний, показной характер, и серьезно к этим гневным вспышкам не относились ни он сам, ни его жена. За долгую совместную жизнь они безмолвно, не сговариваясь, пришли к соглашению. Считалось, что у старого служаки Петра Ипатьевича нетерпеливый и вспыльчивый характер, с которым надо, хотя бы для вида, считаться. На самом же деле (это тоже предполагалось членами семьи) старик отходчив, справедлив и в глубине души добр. — Зина! Где же ты? — еще раз выкрикнул Петр Ипатьевич, но вдруг вспомнил, что вчера ворчливо попенял жене на длительное отсутствие сырников, до которых был большой охотник, и сегодня Зина спозаранку, пока он еще спал, отправилась на поиски творога. Петр Ипатьевич против обычного задержался в постели. У него с давних лет было заведено — вскакивать чуть свет, делать на веранде зарядку, а затем пробегать трусцой по раз и навсегда избранному маршруту — улица Зеленая до конца, далее по периметру городского сада, пологий спуск в овраг, подъем и утоптанная сотнями ног дорога к деревне Зяблово, в которой почти все дома продавались, однако их никто не покупал, поскольку стало известно, что деревню вскоре поглотит развивающийся вдоль и вширь город. Он пробежал деревню на виду у мальчишек, хихикающих по поводу его красного — не по возрасту — спортивного костюма. Из-под заборов брехали собаки. Собак он терпеть не мог. Однажды откуда ни возьмись появился серый, тощий, похожий на волка пес, в два-три прыжка настиг Петра Ипатьевича и молча вцепился ему в ногу. Натянулась и затрещала эластичная красная ткань, Петр Ипатьевич ощутил резкую боль. Не растерявшись, он сильно ткнул собаку в худой бок, наклонился, схватил с земли палку и занес ее над головой для удара. Кешка, так звали этого разбойника, зарычав и оскалив в злобе острые желтые клыки, ретировался. Вернувшись домой, Петр Ипатьевич прижег ссадины — след Кешкиных зубов — йодом, а спортивные брюки отдал на починку жене Зине. Ему было жалко брюк, и он люто возненавидел Кешку, а заодно с ним и всех остальных беспородных и безнадзорных бродячих собак. Это неприятное происшествие не могло заставить Петра Ипатьевича изменить свой утренний маршрут. Но палка отныне с ним была всегда. Поднявшись на взгорок, огибая зеленое дощатое строение продмага и внимательно глядя под ноги — здесь, у магазина, особенно часто попадались бутылочные осколки, поворачивал назад. Трудно сказать, чем привлекал этот маршрут — может быть, правильным чередованием тихих, пустынных деревенских улиц и шумных, людных городских, а может, вид плошающей деревеньки напоминал ему что-то старое, давно забытое. Как бы там ни было, он никогда не изменял своей привычке. Утренние пробежки отменялись лишь в тех редких случаях, когда Петра Ипатьевича одолевал недуг. Какого-то одного, постоянного, недуга у него не было, каждый раз это было что-то новое: то горло распухало так, что нельзя было глотнуть и появлялись неприятные мысли о внезапном спазматическом удушье, которое может застигнуть посреди ночи, то начинало резать в глазу, веки набухали, текли слезы, предметы двоились и троились. Угроза слепоты тоже приводила Петра Ипатьевича в ужас, ведь ему еще надо закончить свои мемуары. Начатая после выхода в отставку писанина продолжалась вот уже с десяток лет, и конца ей не видно было. А вчера вдруг появились неприятные ощущения в кисти правой руки: сначала от мизинца по ребру ладони вверх бежали мурашки, потом пронзала боль, она переходила с кисти в руку и ударяла в локоть, где возникал как бы ее эпицентр. Эта хворь тоже угрожала судьбе начатого труда — а вдруг рука одеревенеет и он не сможет писать? Поэтому Петр Ипатьевич, естественно, не мог не всполошиться. Вчера допоздна Зинуша провозилась с его рукой. Сперва натирала меновазином (смешливая с юности, жена расшифровала название неприятного пахучего притирания меновазин так: «тебе лежать, а мне возиться»). Пока Петр Ипатьевич лежал на диване, прикрыв глаза сморщенными старческими веками — для придания мученического вида, Зинуша старалась вовсю, терла, щипала, массировала. А потом, закончив возню с меновазином, принялась делать мужу спиртовой компресс. Притомившаяся за долгий день, Зина выглядела, прямо надо сказать, неважнецки. Мышцы лица ослабли, а щеки, подбородок как будто стекли вниз; обычно большие, сияющие глаза сделались маленькими и тусклыми. — Хватит. Ты устала. Отдыхай, — слабым, но участливым голосом проговорил Петр Ипатьевич, когда все уже было сделано и плотная марлевая повязка, гладкая, без морщин (небрежной работы он не терпел), охватила руку. — Да… здесь вот что-то давит… дохнуть не могу, — сказала Зинуша и бессильно откинулась на спинку стула. — Будешь ложиться, плесни мне в стакан воды. Мне таблетку запить, — попросил Петр Ипатьевич и, бережно устроив перебинтованную руку поверх накрахмаленного пододеяльника, повернулся на бок. На белой подушке загорелое в процессе ежедневной беготни по городу и окрестностям лицо Петра Ипатьевича, увенчанное стальным ежиком коротко остриженных волос, напоминало профиль прославленного полководца, выбитый на старой медали. …На веранде Петр Ипатьевич сделал несколько быстрых разминочных движений, обратив особое внимание на болевшую с вечера руку. С удовлетворением отметил — притирание и компресс помогли… «Надо будет сегодня обязательно повторить», — подумал он. После этого приступил к обычным упражнениям, наклонялся, вертелся и подпрыгивал до тех пор, пока кожа не стала влажной. Принял холодный душ, растерся и, облачившись в халат, направился на кухню, где, как он знал, посреди стола под белой накрахмаленной салфеткой ожидал его приготовленный Зиной завтрак. После еды вытер губы салфеткой, скомкав, бросил ее на стол и минуту-другую поразмышлял: в чем же сегодня будет заключаться его работа. С приближением старости придумывать себе работу с каждым днем становилось все труднее и труднее. Петр Ипатьевич был суров, упрям и всегда чувствовал себя правым. Ощущение собственной правоты мешало ему становиться на точку зрения собеседника, а врожденное упрямство заставляло всегда и во всем настаивать на своем. Это часто приводило к конфликтам. Ему, например, пришлось оставить так нравившуюся ему должность председателя товарищеского суда, поскольку он упустил из виду одно важное обстоятельство — прилагательное «товарищеский» в словосочетании «товарищеский суд» — и обрушивался на людей с остервенением и гневом настоящего прокурора. Он было взялся за работу с детьми. Под его руководством на пустыре было сооружено нечто вроде загона, обнесенного полутораметровой дощатой стеной. Зимой там залили лед, и ребятня с восторгом гоняла клюшками шайбу. Петра Ипатьевича все хвалили — и взрослые, и дети, но потом, когда наступило лето, выяснилась стратегическая, так сказать, цель Петра Ипатьевича — во что бы то ни стало удержать подростков в том же дощатом загоне. По его инициативе из пенсионеров было создано несколько патрулей, расхаживающих по микрорайону в красных нарукавных повязках. Они останавливали слоняющихся по дворам и подворотням мальчишек, отводили их на пустырь и передавали в руки Петра Ипатьевича. Он с каждым говорил по душам, строго указывал на обязательность посещения пустыря и участия в проводимых мероприятиях — рейдах по сбору металлолома и макулатуры, оказании помощи заболевшим пенсионерам и пенсионеркам, а также в играх под наблюдением взрослых в дощатом загоне. Если подростки не подчинялись указаниям Петра Ипатьевича и его подручных, то он жаловался на них родителям. Если это не помогало — слал жалобы на родителей по месту их работы. Казалось бы, такая продуманная система не могла не принести пользу. Но неожиданно взбунтовались и дети, и их родители, самозваного воспитателя низвергли, и он снова остался не у дел. Тогда он принялся за собак. В городской газете была помещена его заметка, в которой он метал громы и молнии против собак и против собачников. Эпизод с Кешкой, разорвавшим отличные спортивные брюки Петра Ипатьевича, был автором несколько трансформирован — в интересах большей выразительности газетного выступления. Кешка превратился в бешеного пса, покусавшего чемпиона области по бегу на дальние дистанции. Спортсмена ожидала верная гибель, но героические усилия врачей, сделавших ему неимоверное количество уколов в живот и не отходивших от него несколько суток кряду, спасли ему жизнь. После этого следовали обобщающие цифры и факты, которые убедительно доказывали, какой страшный вред приносит человечеству собачье племя, беззастенчиво кусая старых и малых, разнося микробы всевозможных заболеваний и поедая горы мяса, которого и так кое-где недостает. Заметка Петра Ипатьевича вызвала бурю откликов — положительных, которые он любовно разложил на своем письменном столе, и отрицательных, презрительно брошенных им в нижний ящик. Автора вовсе не смутило то обстоятельство, что отрицательных оказалось больше и что в них содержались личные выпады по его адресу. Он-то знал, что прав, и обзорная статья по итогам дискуссии, заказанная ему редакцией, должна была окончательно поставить точку над «и». «Пора взяться за статью», — встав из-за кухонного стола, сказал себе Петр Ипатьевич и упругим шагом направился в кабинет, где его ждала работа. Проходя мимо распахнутой на веранду двери, он отклонился от заданного маршрута и подошел к окну дохнуть свежего воздуха. Взору открылся разбитый на перекрестке скверик. Высокий мужчина с лысиной на полголовы стоял у скамейки, устремив взор в развернутый на руках свежий номер газеты. Поодаль возле куста весело резвился серебристый королевский пудель. А еще дальше, в четырехугольной песочнице, напрасно старалась сделать куличики из сухого и рассыпавшегося песка маленькая девочка в желтеньком платьице. Воображение Петра Ипатьевича мгновенно заработало. Он представил себе страшную картину. Хозяин собаки, мирно читающий газету, превратился в пьянчугу, пытающегося при помощи суковатой палки раздразнить бродячего пса. Наконец это ему удалось. И вот взвывший от боли пес с воем отскочил в сторону, из широко разверстой пасти падала желтая пена. Неожиданно пес повернулся и бросился на девочку. Петр Ипатьевич закрыл глаза, чтобы сохранить в целости возникшую перед его взором картину, и быстро зашагал в дом, к рабочему столу, посреди которого лежала подготовленная с вечера аккуратная стопка белой писчей бумаги. Округлым каллиграфическим почерком он вывел название своего обзора «Трагедия в сквере». И подзаголовок: «Еще раз о собаках в городе». …Он исписал уже пару листов, когда раздался звонок в дверь. Обрадовался. Это, должно быть, вернулась Зина. Новость о приезде сына выбила его из колеи, не терпелось поделиться ею с женой. Он предвидел, как вспыхнет и похорошеет ее лицо, какие приятные хлопоты начнутся в доме. Однако то была не жена. В дверях стояла высокая златокудрая молодая женщина в белом халате. В руках у нее был чемоданчик. — Квартира Беловежских? Он обратил внимание, что одна пуговица на халате у женщины отсутствует. Чтобы полы халата не расходились больше, чем нужно, девушка скрепила их иголкой от шприца. — Да… входите. — Петр Ипатьевич посторонился, пропуская медсестру. Однако сделал это недостаточно проворно. Входя, она задела его плечом. Это мягкое прикосновение привело его в страшное возбуждение. Он засуетился, забормотал: — Проходите… Вы ко мне? Должно быть, жена вызывала… У меня что-то с рукой. Он быстро задрал широкий рукав халата, обнажив костлявую и белую старческую руку. Медсестра вынула из карманчика бумажку, заглянула. — Нет… здесь написано: «Гражданка Беловежская З. И.». З. И. — это ваша жена? — Да… Зинаида Исаевна… Но зачем ей? — удивился он. — Она же здорова. — Да, видно, не совсем, — сказала сестра. — Была бы здорова, таких уколов не прописали бы… — А каких? — поинтересовался было Петр Ипатьевич, но в это время раздался шум поворачиваемого в замке ключа и на пороге появилась Зина. — А, это ко мне… Я сейчас, Петя. Пройдемте туда. Зина увлекла девушку за собой в спальню, оставив Петра Ипатьевича в одиночестве. Он стоял в передней с закатанным рукавом и испытывал сожаление, что медсестра пришла не к нему и он не ощутит прикосновения ее длинных и теплых пальцев. Эта девушка чем-то неуловимым напомнила ему другую медсестру, Раю Поликашину: много лет назад, на фронте, она делала ему перевязку — шальной осколок поразил мякоть руки. Как ни ждали Петр Ипатьевич и его жена сына, ненаглядного Ромочку, как ни выглядывали из окон на пыльную улицу, а приезд его застал их врасплох. Под окнами хлопнула дверца, потом другая, раздался шум мужских голосов и почти одновременно — стук в дверь. На пороге стоял Роман Петрович. Вслед за ним вошел, смущенно улыбаясь, смуглый черноволосый парень. А сзади, на втором плане, виднелась светло-салатная «Волга» с шашечками и таксист в фуражке, копавшийся в моторе. — Как, это ты? Почему на такси? — раскинув руки и загородив проход, спросил сына Петр Ипатьевич. — Здравствуй, папаня… Мама! — чмокнув отца в шершавую щеку (Петр Ипатьевич, оберегая от раздражения кожу, брился через день), сын нежным, но уверенным движением отодвинул с дороги отца и заключил мать в объятия. Зина уткнулась сыну в подмышку и всхлипнула. — Ты что, мать? Не раскисать! — скомандовал хриплым от волнения голосом Петр Ипатьевич и подтолкнул сына к входу в комнату. Умывшись с дороги, сели за стол. Зинуша не ела, а подперев подбородок руками, не сводила взгляда с любимого Ромочки. Иногда несмело протягивала руку и гладила его по лицу. — Как, мама, здоровье? — ласково улыбнувшись матери, спросил сын. — Да я ничего… Вот у отца плохо с рукой. — Мозжит вот тут, — показал Петр Ипатьевич, — обращался к врачам, но они разве что понимают? А ведь мне писать надо! «Хватит тебе уже писать… Отдохни», — мысленно посоветовал отцу Роман. — Так почему же все-таки не на своей машине, а на такси? — повторил свой вопрос Петр Ипатьевич. Для него этот предмет представлял большой интерес. Он гордился неожиданным взлетом сына. В одном из писем поделился с Романом своими выкладками: звание директора, если его перевести на военный язык, ничуть не меньше, чем звание генерала. Самому Петру Ипатьевичу до вожделенных генеральских погон дотянуться не удалось, помешали роковые обстоятельства и недобрые люди. Теперь он утешался тем, что высокой должности удалось достигнуть сыну. «Своя машина» была одним из вещественных доказательств чудесного возвышения Ромки, и Петру Ипатьевичу хотелось видеть это доказательство здесь, под окном. Роман Петрович, снисходительно взглянув на постаревшего и как бы усохшего отца и втайне подивившись его суетности, терпеливо объяснил. В Москву приехал поездом с тем, чтобы на обратном пути заехать в Горький и получить новую «Волгу». Однако на автозаводе выяснилось: в новой модели обнаружился какой-то дефект, производство временно приостановили до тех пор, пока недоработка не будет устранена. Вот и пришлось добираться до родных мест поездом. — Жаль, — нахмурившись, проговорил Петр Ипатьевич. Ему обидно было, что друзья и враги-пенсионеры не увидят под его окнами новенькой машины сына. — Да ты, отец, бери мать и приезжай к нам, в Привольск, прокачу на новой «Волге», — весело сказал Роман Петрович, взглядом приглашая сидевшего напротив Игоря Коробова улыбнуться детскому простодушию старика. — Ну как ты там командуешь, Роман? — произнес отец. — Ты запомни, люди уважают строгих начальников. Надо соблюдать дистанцию. Чуть ослабишь вожжи, подпустишь поближе — и пропал, подставишь палец — отхватят всю руку. Роману Петровичу сделалось неловко за отца. Он вперил глаза в белоснежную накрахмаленную скатерть, стараясь не встречаться взглядом с Игорем. В детстве он чурался отца. Сухой, вспыльчивый, самолюбивый, тот никогда не снисходил к детским проступкам и шалостям, был суров и непреклонен. Зато мягкую, добрую и отзывчивую мать Роман обожал. И сейчас он с любовью и тревогой глядел на ее исхудавшее, бледное, с синими подглазьями лицо. Видно было, что ее съедает изнутри какой-то недуг. «Надо будет свозить мать в Москву, показать профессорам», — решил он. И перевел взгляд на отца, продолжавшего настойчиво вдалбливать сыну науку управления. — …Если и ошибся, не показывай виду, людям нужен авторитет, им нужно верить в безошибочность руководителя, так им легче жить и работать. «Лучше бы он замолчал», — подумал Роман Петрович. Минуту назад он почувствовал к отцу жалость. Вставные зубы, призванные, видимо, омолодить отца, наоборот, состарили его, изменилось выражение лица, затруднилась артикуляция, некоторые слова произносились с трудом. «Сдает старик», — с грустью подумал он. Но стоило отцу непререкаемым тоном произнести несколько наивных до глупости фраз, и волна жалости к стареющему отцу откатилась, уступив место утешающей мысли, что с годами тиранические свойства отцовского характера ослабли, утеряли свою злую силу, и, следовательно, матери с ним сейчас не так трудно, как прежде. — Зина, а где же моя килька? — капризным тоном избалованного ребенка вдруг выкрикнул Петр Ипатьевич. Килька перед обедом — в жизни отца это было нечто большее, нежели закуска, любимая прихоть. То был целый ритуал. Каждый день — вот уже сколько лет — в час обеда жена ставила перед прибором главы дома тарелочку с килькой, рядом клала небольшой ломтик черного, обязательно мягкого хлеба. Усевшись и подвязав под подбородок салфетку, отец начинал священнодействовать. Ножом и вилкой он ловко распластывал кильку, извлекал из нее позвоночник, кусок хлеба намазывал вологодским маслом, клал на него кильку… И вот эту кильку жена сегодня позабыла подать Петру Ипатьевичу. — Ты что же, Зина? — уже более мягким, рассчитанным на гостей тоном укоризненно произнес Петр Ипатьевич и зло посмотрел на жену. Зина смешалась. — Петя! Сегодня же праздничный обед… Я думала… — Она думала, — с ехидным смешком проговорил Петр Ипатьевич. — А спросить? — Я сейчас… Одну минуту. — Зина уже поднялась со стула. — Не надо. Теперь поздно, — сухо произнес Петр Ипатьевич и перенес взгляд на сына: — Ну как у тебя там в Привольске? Много конфликтов? Сложных ситуаций? Без этого, сын, поверь мне, не бывает. Уж я это знаю! — Роман Петрович! Я выйду на веранду, покурю? — спросил Игорь. Беловежский кивнул. Он не мог не отметить про себя тактичность парня, решившего, что ему лучше не присутствовать при разговоре о заводских делах. — Идемте, Игорек, я вас проведу… Вот сюда. — Зинуша захлопотала вокруг гостя. Она видела, что этот симпатичный молодой человек смущен необычностью ситуации, в которую попал. Она всею своей доброю душой сочувствовала ему и пыталась помочь. Роман и Петр Ипатьевич остались наедине. Сын внимательно посмотрел на отца. Вспышка раздражения против старика прошла. Как бы там ни было, перед ним сидел отец, человек, давший ему жизнь, да и не только жизнь, образование, возможность стать инженером, прививший ему желание и в какой-то степени умение руководить людьми. Да, дети не выбирают себе родителей. Это так. Но должны ли они судить их? А если и должны, то имеют ли право выносить родителям приговор? Нет, такого права, пожалуй, они не имеют. Прежде всего потому, что не знают всей их жизни, всех сопутствующих этой жизни обстоятельств, всех причин и следствий. И потом. Этот приговор уже вынесла старшему поколению сама жизнь. Что могут добавить к этому дети? Их долг в меру своих сил облегчить стареющим родителям их ношу — физическую, материальную и нравственную. И в этом найти для себя отраду и утешение. Взволнованный этими пронесшимися у него в мозгу мыслями, Роман Петрович почувствовал желание откровенно ответить на вопрос отца. — Забот до черта! Что ни человек — загадка, что ни шаг — проблема… Есть у меня главный инженер, Хрупов. Понимаешь, еще недавно он был моим начальником, а теперь я им должен командовать. Не мужик — кремень. На дух меня не переносит. Чуть что — костит при всем честном народе. Петр Ипатьевич цепко схватил сына за запястье костлявой, но сильной рукой. Сжал. — На фронте был у меня один такой тип… Все «я, я, я»! Везде лезет, каждой бочке затычка, по любому поводу у него свое мнение. Слабинку я дал. Мог его под трибунал за самоуправство отдать. Не отдал. А потом из-за него чуть сам под трибунал не угодил. Слава богу, знакомый генерал выручил, учел прежние заслуги. Сравнительно легко отделался. Могло быть хуже… Нет, надо было этого Ярцева раньше ломать. — Ярцев? Это какой Ярцев? Не московский ли профессор? Он учитель нашего Хрупова. Андрей Андреевич Ярцев. Петр Ипатьевич сжал кулаки, да так сильно, что побелели костяшки пальцев. — Он это, он. В профессора пролез! А ведь был охламон охламоном… Если твой Хрупов этого Ярцева своим учителем величает, значит, сам такой же… Два сапога пара. Избавляйся от него, сын, пока не поздно! Вот тебе мой совет! — Послушай, отец. Вот ты сказал, что ты чуть под трибунал не загремел… За какие грехи? И где это было? Не в наших ли краях? Петр Ипатьевич поиграл желваками. — Чего старое ворошить? Только-только забывать стал. — Понимаешь ли, отец… Дед моего шофера Игоря воевал под Привольском. Там и погиб. Я, честно говоря, нарочно его с собой прихватил. Думал, может, ты что-нибудь знаешь про его деда. Отец и сын вышли во двор. Игорь сидел на лавке в саду и ел из эмалированной кружки спелые вишни, которыми угостила его Зинаида Исаевна. Когда они подошли, Игорь отставил кружку, вскочил и по-военному вытянулся. — Сидите, сидите, — голосом великодушного, но строгого начальника произнес Петр Ипатьевич. Старик приосанился: — Служили? В пехоте? Выправка видна. Дед, говорите, погиб в сорок втором? — Погиб, — повесив голову, сказал Игорь. — Мда… Фамилия, имя, звание? — Солдат Иван Коробов. — Коробов? Иван? Нет, не помню. Много их было, Иванов. Как на фронте бывало? Ушло двое в разведку — Богданов и Ермаков. Пришел Богданов, а Ермакова нет. Где он? Погиб. Какие основания у командира ставить факт под сомнение? Есть у него время и возможность в условиях боя вести расследование — как и где погиб, при каких обстоятельствах? Ясное дело, нет. Издавали приказ: «В связи с гибелью нижепоименованных рядовых и сержантов в боях под деревней такой-то сего числа сего года из списков части исключить». Ну и перечень. И все. Да и как могло быть иначе? Одного полка хватало на три — пять боев. А вы говорите, где и как… Похоронку получили? — Получили. — Значит, все по форме, — с видимым облегчением ответил Петр Ипатьевич и уже повернулся, чтобы уйти в дом. — Скажите… — остановил его Игорь. — Вот вы сказали «Богданов и Ермаков ушли в разведку…» Вы случайные фамилии назвали? Может, Богданов и Коробов? — Никого не помню — ни Богданова, ни Ермакова, ни Коробова. Сколько лет прошло! Игорь стоял, опустив голову. Да, около сорока лет минуло. Но все это время Бабуля ни на минуту не забывала о своем Ванечке, ветер времени не мог выдуть из ее комнатенки терпкий запах горя. Ванечка смотрел на нее с тарелки, и она вела с ним долгий, нескончаемый разговор, как с живым… Скорее всего, подполковник лично не знал своего солдата Ивана Коробова, но он не имел права даже сейчас, спустя сорок лет после его гибели, говорить с внуком солдата так сухо, так отстраненно, как будто то был не живой человек, а среднестатистическая единица, лишь условно именуемая «Богданов» или «Ермаков». Нет, не Богданов и не Ермаков, а именно Коробов, о нем исходила тоской бабушкина душа, о нем, своем деде, думал по ночам, ворочаясь на кабинетном кожаном диване, в чужой комнатушке Игорь. И какое право имел Беловежский говорить про свой полк: «Его хватало на три — пять боев»? Как у него язык повернулся? Однажды Игорь уже слышал нечто подобное. Где? Когда? Роман Петрович, молча слушавший их разговор, тоже был недоволен отцом. — Но может быть, ты сможешь Игорю чем-то помочь, дать какую-то нить… — Какая там еще нить! — вспылил Петр Ипатьевич, оборвал фразу, круто повернулся на месте, промяв в черной земле две лунки, и пошел к дому. Его узкая спина и седой коротко остриженный затылок выражали несогласие и отчуждение. Игорь стоял растерянный. Роман Петрович положил ему руку на плечо. — Не обращай внимания… Возраст. Кроме того, отец почему-то не любит вспоминать те времена. Петр Ипатьевич хотел бы начисто стереть этот эпизод с магнитной ленты своей памяти. А еще лучше, вырезать бы испорченный кусок и намертво склеить концы. Но это не удавалось. Прошлое с годами не отдалялось, не теряло своей власти над Петром Ипатьевичем, более того — оно определило его настоящее и, наверное, будущее. И хотя Петр Ипатьевич сам никогда не забывал о своей ошибке, он терпеть не мог, когда ему о ней напоминали. Иногда свое раздражение неуемным людским любопытством, желанием разузнать, раскопать, разведать, раскрыть то, что сокрыто временем, он выливал на бумагу, рассылал письма по газетам. Письма эти, однако, почему-то не публиковали, отделывались вежливыми ответами. Появление в доме смуглолицего парня, прибывшего вместе с сыном, его расспросы — все это выбило Петра Ипатьевича из привычной колеи. Нарушило ставшее в последние годы привычным медлительное, размеренное течение мыслей, вертевшихся вокруг каких-нибудь пустяков. Вызвало к жизни картины прошлого, которые он хотел бы напрочь забыть. …Тот старший лейтенант поначалу даже понравился ему. Как он появился, откуда вынырнул? В кромешном аду и круговерти отступления он вместе с остатками своей части примкнул к тому, что еще пару недель назад было батальоном под командованием майора Беловежского. Петр Ипатьевич обрадовался: еще один командир, сможет возглавить одну из двух рот, оставшихся в его распоряжении. Прежде всего майор, конечно, как положено, потребовал, чтобы старший лейтенант представил ему свои документы. Тот ожег его огненным взглядом, сунул под нос удостоверение, что-то буркнул под нос. — Вы, кажется, что-то изволили сказать, товарищ старший лейтенант? — произнес Беловежский. — Изволил, — дерзко отвечал Ярцев. — Я хотя и в меньшем звании, чем вы, однако тоже командовал батальоном. — Что-то я не вижу вашего батальона! Майора Беловежского мучила рана: мякоть руки задел осколок. И, кажется, началось нагноение. Но физическая боль была ничем по сравнению с болью нравственной, которую он испытывал. В мыслях своих Беловежский видел себя образцовым командиром, храбрым, неизменно удачливым. И что же? Возникло такое положение, когда жесткая субординация, царившая в части, гарант его личного авторитета в глазах подчиненных, дававшая ему силу и власть, без которых нельзя было руководить, вдруг рассыпалась в прах, и он оказался предоставленным самому себе. Его знания, талант (а в наличии у себя этих качеств майор не сомневался) — разве они могли быть проявлены в этих обстоятельствах? Он оправдывал свою беспомощность: «Как же бороться, когда средств борьбы нет?» В минуту затишья он собрал в избе военный совет. Присутствовали Ярцев и взводные. Беловежский кратко объяснил обстановку. Часть истощена в ходе предыдущих боевых действий. Большой недокомплект личного состава. Нет артиллерии, пулеметов. Только винтовки и гранаты. У него вырвалась придуманная им, такая убедительная фраза: «Средств борьбы нет». И тотчас же услышал, как грохнул рукоятью пистолета о стол Ярцев. Он вскочил во весь свой огромный рост, губы кривились от бешенства, кожа так туго обтянула скулы, что казалось — вот-вот лопнет и брызнет кровь. — То есть как это средств борьбы нет, майор? — заорал Ярцев. — А руки? А зубы? Я этими зубами буду рвать гадов! Я не понимаю, что вы тут такое… — он запнулся, не в силах найти подходящее слово. — Нам… всем… стыдно! Беловежского охватило смятение. Бунт? Неподчинение? Он схватился за кобуру, но от резкого движения почувствовал боль в руке, заскрежетал зубами, поднял голову: маленький черный зрачок ярцевского пистолета уже смотрел ему в глаза. — Под трибунал! — прохрипел майор. — Это мы еще посмотрим, кто пойдет под трибунал, — вдруг успокоившись, проговорил Ярцев, спрятал пистолет в кобуру и сел, уставившись взглядом в затоптанный дощатый пол. Беловежский тоже постарался взять себя в руки. Сорвавшаяся с языка неудачная фраза «Средств борьбы нет», переданная куда следует, могла причинить ему огромные неприятности. Попробуй тогда объяснить, что именно он имел в виду: необходимость уйти на юг, куда противник, вероятнее всего, не успел подтянуть больших сил, и, сделав большой крюк, соединиться со своими. Закончив, он спросил, не глядя на Ярцева: — Вопросы есть? — Во-первых, почему мы не двигаемся? — Как почему? Надо сначала осмотреться, принять решение… Подлечить раны. — Беловежский скосил глаза на перебинтованную руку. — Немец вам подлечит! Промедление смерти подобно! Второй вопрос. Почему отходить надо именно на юг, а скажем, не на север? — Простая логика… — начал было Беловежский, но старший лейтенант перебил его: — Одной логики мало, нужны разведданные. И снова Беловежский мучительно пожалел о том, что находится с жалкой горсткой бойцов в условиях окружения, где обычно воинские законы не действуют в полную силу, а то бы он быстро призвал к ответу дерзкого старшего лейтенанта. — В мои планы входит посылка разведгруппы, — сухо проговорил майор и отпустил командиров. В избу вошла медсестра. После того как перевязка была закончена и тугая марлевая повязка стянула руку, майор поблагодарил: — Спасибо. Из горницы вынырнул ординарец и сказал медсестре: — Ты, Поликашина, подожди на крыльце. Я сейчас. Товарищ майор. Какой вы в самом деле! — зашептал он, когда девушка вышла. — Попросили бы остаться, чайком попоили. — Прочь отсюда! — визгливым голосом выкрикнул майор. — В штрафбат захотел? Так я мигом! — Да вы что, шуток не понимаете, товарищ майор, — жалостливым голосом проговорил ординарец. И тотчас же, уже совсем другим тоном, деловым, добавил: — Слышали, товарищ майор? Ярцев самолет нашел. — Ярцев? — Да не сам Ярцев, а его солдат… Кстати, земляк мой, язви его душу. Мы с ним в одной деревне выросли, за одной девкой бегали. — Девка, конечно, тебя предпочла? — Нет… Да и к лучшему это… Мне жениться было не с руки. Холостому проще, как поется в песне, по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там… — Да ты давай про самолет. Чей? Где? — Наш, «ястребок». Упал в болото. Земляк углядел, доложил комбату. — Он теперь не комбат, а комроты, — придирчиво заметил Беловежский. — Это земляк его комбатом кличет, по привычке. Так вот Ярцев его за самолет перед строем отличил. — А чего старший лейтенант так обрадовался? Ему-то что за прибыток от самолета? — Солдат летчика похоронил, документы в часть доставил… А еще пулемет ДШК… Старший лейтенант теперь с пулеметом не расстается. Всегда при нем. — Чудачество! — Беловежский испытывал глухое раздражение против Ярцева. Как бы поставить его на место? А то уже поговаривают (ординарец донес), что подлинным командиром части стал старший лейтенант, которому-де раненый майор уступил главенство. Случай вскоре представился. Нужно было в двух направлениях — северном и южном — выслать две группы разведчиков. Когда обсуждался состав группы, которой предстояло двинуться на деревню Соленые Ключи и дальше к шоссе, Ярцев назвал имена двух своих солдат, но Беловежский тоном, не допускающим возражений, заменил одного из них своим ординарцем. Лысенков давно и настойчиво просился в разведку, оправдывая свою просьбу желанием показать себя в настоящем деле. Они направились в разведку вдвоем — он и земляк. Вернулся ординарец из разведки один. Он сообщил: на шоссе наткнулись на немецкуюштабную машину. Земляк струсил, пришлось ординарцу одному отбиваться от двоих немцев. Однако, проявив находчивость, он завладел офицерским планшетом и, отстреливаясь, отошел назад. По дороге земляк подорвался на мине, пришлось похоронить. В доказательство своих слов предъявил личные документы земляка и офицерский планшет с картой. Впившись глазами в карту, Беловежский тотчас же определил, что она представляет несомненный интерес для высшего командования. Он забросал ординарца вопросами: долго ли вели наблюдение за шоссе, видели или нет других гитлеровцев помимо тех, что ехали в машине. Ординарец отвечал: — Да вы посудите, товарищ майор… Будут ли немцы посылать по шоссе штабную машину с важной картой без охраны, коли не заняли уже весь район? Беловежский не мог не признать справедливость его слов. В избу вошел Ярцев. Беловежский сказал ему: — Вот послушайте, как отличился ваш хваленый боец. Выслушав сбивчивый рассказ заробевшего перед ним ординарца, Ярцев воскликнул: — Вранье! Не верю ни одному слову! Лично направлюсь к шоссе и все выясню. — Никуда вы не отправитесь, — жестко произнес майор. — Слушайте приказ: через час выступаем. В южном направлении. — Но это же бессмысленно! Немцы не дураки. Они сейчас наверняка пытаются замкнуть кольцо. А для этого обходят нас с юга. Надо с боем пробиваться на север через шоссе. — Но там же гитлеровцы! — Они нам и нужны, — отвечал Ярцев. — Наша задача — уничтожать живую силу и технику противника. — Я командир части и лучше вас знаю, в чем заключаются наши задачи! — Но мы ведь даже не дождались разведгруппы, посланной в южном направлении! Как же можно выступать, не имея надежных разведданных? — Вы же сами утверждали: промедление смерти подобно. Я уверен, что разведчики присоединятся к нам по дороге! Не позже чем утром… Ярцев ушел на север, майор — на юг, его группа напоролась на танковую колонну противника, потеряв больше половины людей. Впоследствии при разбирательстве дела майору Беловежскому было поставлено в вину, что он, не дождавшись данных второй разведгруппы, пытался, действуя вслепую, осуществить прорыв и понес большие потери в личном составе. Припомнили и его слова: «Как же бороться, когда средств борьбы нет». Над ним возникла угроза военного трибунала. Прощаясь с сыном, Петр Ипатьевич отвел его в сторону и, указав взглядом на Игоря, вполголоса произнес: — Шофер — близкий человек. Он тебе лично предан? Это очень важно, сын, чтобы рядом находился человек, готовый за тебя броситься в огонь и в воду. У меня на фронте был ординарец… Ушлый парень. Чего только о нем ни говорили, а оказалось — надежный человек. Да ты его знаешь… — Завгар Лысенков? — Ты с ним поласковей. Такого лучше иметь другом, а не врагом. — Так именно он был твоим ординарцем? — И неплохим. Игорь узнал об этом в тот же день. Роман Петрович не видел причин, чтобы скрывать от Игоря то, что сообщил ему отец. Беловежскому-младшему от души хотелось помочь Коробову в благородных розысках деда-солдата и тем восполнить недостаток внимания к парню со стороны отца. На Игоря сообщение Романа Петровича произвело сильное впечатление. Как? Лысенков был ординарцем майора Беловежского, выходит, он был вместе с ним и с дедом в окружении? Почему же тогда завгар, отлично зная, с какой целью приехал в Привольск Игорь, ни разу не завел с ним разговора о тех днях? Не сказал, что был с дедом однополчанином? Странно, очень странно! И вот еще о чем подумалось Игорю. Он вспомнил рассказ Примакова о том, как несколько лет назад тот ездил с подшефной бригадой в колхоз, расположенный в Соленых Ключах: «Лысенкова клещами нельзя было затащить в Соленые Ключи. Однако автотранспортом выручал крепко. Отказа не было. Вот мы с ним тогда и подружились». Почему Лысенкова клещами нельзя было затащить в Соленые Ключи? В места, где он воевал? Неужели все эти годы он так ни разу и не побывал в колхозе? И это — несмотря на то, что по роду службы ему следовало бы регулярно общаться с подшефными, так сказать, изучать их нужды… Игорь для себя сделал зарубку: по приезде надо обязательно выяснить в гараже, вправду ли Лысенков в последние годы ни разу не съездил в Соленые Ключи. И еще одно подозрение нужно проверить… Вернувшись в Приморск, Игорь отправился на городской почтамт и заказал разговор с Москвой. В редакции молодежной газеты к аппарату подошел его знакомый Скворцов. Очкарик. Игорь напомнил о себе, попросил: — В прошлый раз вы мне говорили о письме рассерженного подполковника, которое пришло на мою заметку. Вы еще сказали, что фамилия написана неразборчиво. Не могли бы вы еще раз посмотреть на подпись — не Беловежский ли? — Письмо в архиве. Нужно время, чтобы его отыскать. А зачем вам подпись? — Очень нужно. — Тогда позвоните через два дня. Через два дня Игорь вновь позвонил в редакцию. Скворцов сказал: — Вы правы… Фамилия этого сухаря, похоже, Беловежский. Вам заключение прислать? — Нет… Заключение я сделаю сам, — ответил Игорь. — Что вы сказали? — Ничего. Большое спасибо, что помогли. — Пожалуйста. Кстати, ваш товарищ по таксопарку Виктор написал нам неплохую статью. Читали? — Нет. А когда напечатали? — Ровно неделю назад на второй странице. Обязательно прочтите. Нас прямо-таки засыпали откликами. Игорю живо представилось улыбающееся узкое лицо Скворцова. Разговаривая, он поглаживает переносицу. Солнечные лучики сверкают в маленьких круглых стеклах его старомодных или, наоборот, очень даже новомодных очков.ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО
Заседание партбюро, на котором должна была рассматриваться жалоба жены инженера Злотникова на Николая Григорьевича Хрупова, было назначено на четверг. Накануне прошел дождик, мелкий, моросящий, один из первых дождей лета. Делая на листке «Еженедельника» пометку о времени начала заседания, Беловежский подумал: «после дождика, в четверг» и невесело усмехнулся. «После дождика, в четверг» — позже, когда-нибудь, потом, может быть, никогда… Уже давно Роман Петрович собирался выступить перед коллективом привольского завода с новой программой, изложить продуманную систему действий. Да и пора бы — без малого год минул, как он возглавил завод. Впрочем, Громобоев вон сколько просидел в директорском кресле и ни разу не выступал с «новой программой», не добивался крутого переворота, не крушил, не ломал, тем не менее завод не выходил из числа хорошо работающих. У Романа Петровича тоже были поводы для того, чтобы испытывать удовлетворение. Несколько месяцев назад во время встречи с и. о. начальника главка Трушиным он принял решение не добиваться корректировки плана и тем самым поставил на карту репутацию завода и свою собственную. Стоило завалить годовой план — и немедленно последовала бы расплата… И вот план выполнен в полном объеме, с большим трудом, но выполнен. Как тут не помянуть добрым словом хитроумного и изобретательного зама Фадеичева, чудом раздобывшего для завода несколько сот недостающих рабочих, выбившего из поставщиков узлы и сортаменты металла, которые, казалось, никак нельзя было выбить. Да и не только Фадеичева, а и сотни, тысячи других людей, не позволивших заводу соскользнуть вниз, попасть в число отстающих. План выполнен, но этого мало, мало! Надо двигаться дальше, постараться дать привольскому заводу вторую жизнь, с помощью коллектива подтянуть старое производство, созданное полвека назад, к кондициям 2000 года. Вот так, никак не меньше! Об этом Роман Петрович мечтал бессонными ночами, ворочаясь в постели. Но, конечно, ничто не могло быть сделано до тех пор, пока директорская мечта не сделалась мечтой всего коллектива. Выходит, пора, давно пора встать перед этим самым коллективом и сказать… Сколько можно откладывать? Заседание парткома началось с обсуждения жалобы жены Злотникова. Может быть, потому, что письмо зачитывала женщина, заведующая отделом кадров Веселкина, и делала это прочувствованно, с выражением, было ощущение, будто сама жена Злотникова стоит здесь и обращается к присутствующим. — «Врач сказал, что еще немного, и с моим мужем могло случиться непоправимое. Подумать страшно! Молодой, цветущий человек мог уйти из жизни… А из-за чего? До этой черты, до этой опасной грани Леву довел его непосредственный руководитель Хрупов. Об этом нелегко писать. Хрупов для нас не чужой человек, нередко навещал Леву, даже в шутку называл себя «другом дома». Да только никакой он Леве не друг, а злейший враг, я теперь это ясно вижу. Я не хочу, понимаете, не хочу остаться вдовой только из-за того, что ваш Хрупов не умеет работать с людьми!» Члены парткома чувствовали себя не в своей тарелке, выглядели подавленными, сидели, вперив глаза в темно-зеленое сукно, которым был застелен стол в парткоме. Все старались не смотреть в сторону главного инженера Хрупова, со скучным видом расположившегося на дальнем углу стола. — Ну, что, товарищи, приступим? — спросил секретарь парткома Славиков. — Что вы можете сказать по поводу письма Злотниковой, Николай Григорьевич? — Ничего, — не поднимаясь с места, ответил Хрупов. Славиков откашлялся. — То есть вы хотите заявить, что не согласны с письмом Злотниковой? — Кто вам сказал? Согласен. — Значит, все так и было? — Все так и было. Славиков в замешательстве посмотрел по сторонам. — Кто хочет взять слово? — Я хочу! — громко сказала Веселкина. — Да ты только что брала, Анна Федоровна. Письмо вслух читала… Может, других послушаем? — Славиков своей репликой несколько разрядил обстановку. Начальник цеха Ежов поднялся и сказал, почему-то обращаясь к Веселкиной: — Откровенно говоря, я не понимаю, в чем, собственно, вина Хрупова?.. Ну, ставил сложные технические задачи… ну, давал жесткие сроки… — …Ну, довел человека до приступа, — вставил Фадеичев. — Ерунда! — оборвал его Ежов. — Что тут происходит? Эмоциональная женщина в состоянии аффекта написала нам жалобу, а мы, взрослые люди, распустили губы, вот-вот расплачемся! Попробовала бы моя баба… то есть жена, в партком сунуться. Я бы ей! — Ежов потряс костистым кулаком. — Позор! — выкрикнула Веселкина. — И это говорит начальник цеха! Достался бы мне такой муженек! Я бы его в мешок — и в воду! Благо море вон оно, рядом. Ежов огрызнулся: — Это еще бабушка надвое сказала: кто кого. — Тише, товарищи! Тише! — Славиков свел брови у переносицы, но от этого его доброе лицо вовсе не стало грозным. — Я вижу, отвыкли мы с вами полемизировать в спокойных, деловых тонах. Сбиваемся на спор, на крик… А ведь так нельзя. Наш долг во всем как следует разобраться и решить, кто тут прав, кто виноват, как дальше жить. — А мне кажется, виноватых тут вообще нет, — произнес тонким, подростковым голосом начальник производства Сабов. — Товарищ Хрупов настоящий руководитель. Волевой, настойчивый. В производственном отделе все девчонки в него влюблены. Да-да, не смейтесь. Он им кажется таким современным… — Суперменом? — делая вид, что не расслышал, переспросил Фадеичев. — Я сказал: «современным»! — А мне послышалось, суперменом. Все опять засмеялись. — Главный инженер целиком отдает себя заводу… У него даже нет времени на личную жизнь. — Ну, это вы, товарищ Сабов, явно преувеличиваете! — заявил Фадеичев. — Не перебивайте меня, пожалуйста, Александр Юрьевич, я сам собьюсь, — покраснел Сабов. — Жмите дальше. — О главном инженере я уже сказал. Теперь о Злотникове. Лева такой талантливый, просто ужас! Никогда не знаешь, что он еще придумает. У него не голова, а… атомный реактор. И никогда не задается, тихий, скромный, добрый. А как любит своих малышей! А жена… Таня. Я с ней мало знаком. Один раз танцевал в заводском клубе на Новый год. Она мне показалась славной. Я бы гордился своей женой, если бы она написала такое хорошее, умное и искреннее письмо в мою защиту. — И инфаркт — это тоже прекрасно? — снова не удержался от реплики Фадеичев. Беловежскому показалось, что он угадывает мотивы поведения своего зама. О том, что между, новым директором и главным инженером нет ладу, на заводе знали, конечно, все. И о безобразной сцене в директорском кабинете, когда Хрупов в ответ на упрек Романа Петровича швырнул ему в лицо деньги, тоже, без всякого сомнения, было известно. Поэтому перед нынешним заседанием партбюро многие ожидали, что Беловежский не упустит случая свести счеты с непокорным. Фадеичев в этом, по всей видимости, был уверен. Может быть, поэтому он так непримирим к Хрупову? За последние месяцы между директором и его замом сложились особые отношения. Беловежский чувствовал: в этом невысоком, и, казалось, неторопливом человеке таятся ясный ум и огромная нерастраченная энергия. Собственно говоря, Фадеичев тратил эту свою энергию как только мог — трижды был женат, защитил диссертацию, писал экономические статьи в московские журналы, читал лекции в местном политехническом институте. Но все равно нерастраченного горючего еще имелось много, до дна было далеко. Сделав Александра Юрьевича своим советчиком и наперсником, Беловежский вызвал у него новый, может быть, последний взрыв творческой энергии. Фадеичев то и дело давал ему умные советы, вносил дельные предложения. Он многое сделал, чтобы помочь заводу натянуть недостающие проценты к годовому плану. Но долго это длиться не могло! Беловежскому было ясно: пора вводить в действие новые мощные факторы, с протяженным во времени эффектом, обеспечивающие успех на долгие годы вперед. Интересно, понимает это Фадеичев или нет? Иногда Роману Петровичу казалось, что Александр Юрьевич слишком увлекается тактикой в ущерб стратегии. Сейчас, например, он больше всего хлопочет о том, чтобы добиться осуждения Хрупова, принести, так сказать, на подносе голову главного инженера директору и тем самым заслужить его одобрение. Эти угадываемые мотивы поведения Фадеичева Роман Петрович никак не мог одобрить. Нечто в этом роде ему советовал сделать по отношению к Хрупову и отец Петр Ипатьевич… Беловежский откинулся на спинку стула, отдаваясь невеселым размышлениям. Его последняя поездка домой, предпринятая им попытка восстановить прерванные еще в студенческие годы душевные контакты с отцом, сблизиться с ним, результата не дала. Дело было даже не в том, как вел себя по отношению к матери, к нему, сыну, старик. Вызывала неприятие, протест сама жизненная позиция отца, поставившего себя в центр вселенной и легко, без суда и следствия, выносившего суровые приговоры всем, кто думал или действовал иначе, чем он. До сих пор Романа Петровича жег стыд за отца перед шофером Игорем. Вместо помощи и сочувствия он получил от Петра Ипатьевича бессердечные, напыщенные сентенции о жестокой статистике войны. Где был у отца ум? Почему не дрогнуло, не отозвалось на чужую беду сердце? — Кто еще хочет высказаться? — спросил Славиков. Фадеичев тотчас поднял руку. Беловежский поморщился. Одно только допущение, что Фадеичев захочет использовать сложившуюся ситуацию для сведения давних счетов с не любившим его главным инженером, настроило Романа Петровича против зама. Однако чем больше он вслушивался в речь Фадеичева, тем яснее ему становилось: в словах Александра Юрьевича немало жестокой правды. — Я не первый год работаю вместе с Николаем Григорьевичем Хруповым, — говорил Фадеичев. — Ценю его как грамотного инженера. Но его, с позволения сказать, моральные качества не приемлю. И для меня нет секрета в том, кто виноват в возникшей ситуации. Он, Хрупов. Что, собственно говоря, произошло? Главный инженер, возомнивший себя этаким богом автоматизации, собрал из цехов самых перспективных инженеров, тем самым оголив производство, и сгруппировал их вокруг себя, подчинив решению хотя и важной, но, по существу, частной задачи — созданию АСУ. Произвольно установил для них высокие оклады, а взамен требовал неимоверного напряжения сил. Во имя чего? Во имя завода? Отнюдь нет. На карту поставлен был личный престиж главного инженера. Сначала он пытался доказать недоказуемое Громобоеву, а когда тот ушел, то и новому директору товарищу Беловежскому, и всем нам. Спрашивается, что дала заводу бешеная гонка, организованная главным инженером? Каков ее результат? Я уже говорил: цехи оголены, большинство инженерных постов занимают практики. АСУ так и не стала эффективной, экономия от ее внедрения до сих пор является «условной». А инженер Злотников с «безусловным» приступом находится в городской больнице. Не поручусь, что вслед за ним туда не отправятся и другие честолюбивые молодые люди, всерьез принявшие наполеоновскую риторику главного инженера. Надо хорошенько подумать, может ли руководить производством такой человек. Обсуждение достигло своей высшей точки. Присутствующие затихли, ожидая, как развернутся события дальше. Как воспользуется открывшейся возможностью — поставить главного инженера на место — директор, как Хрупов поведет себя — примет ли бой или сдастся… Разумеется, развязка зависела не только от Беловежского или Хрупова, а и от каждого из них, от всех вместе. Члены парткома это понимали. И, готовясь выслушать выступление директора, старались предугадать, как повернется дело, и определить свою личную позицию. Славиков спросил у директора: — Не хотите ли вы, Роман Петрович? Беловежский кивнул: — Вы угадали… Я как раз хотел попросить слова. При этих словах Беловежского главный инженер Хрупов на другом дальнем краю стола подобрался и непроизвольно сжал лежавшие на зеленом сукне пальцы в кулак. — У меня для вас, товарищи, добрая весть, — сказал Беловежский. Все лица обернулись к нему. — Сегодня утром я побывал в больнице, общался и с главврачом, и с самим Злотниковым. И могу сообщить: самое страшное позади. То есть непосредственная угроза жизни миновала. Он переведен из реанимации в обычную палату, жена его навещает… Все с облегчением заулыбались, закивали друг другу, возник шум. — Тише, товарищи… Сказанное, конечно, не означает, что у нас нет предмета для обсуждения… Предмет есть, и очень важный. Письмо жены Злотникова — это очень искренний и важный человеческий документ, который нас о многом заставляет задуматься. Но, прежде чем перейти к сути, хочу сказать о другом. То, как мы все, члены парткома, дирекция, коллектив, прореагировали на это письмо, уже само по себе свидетельствует, что моральный климат у нас на заводе, в нашей партийной организации, хороший, здоровый. Конечно, жену Злотникова прежде всего волнует здоровье мужа, она хочет спасти семью. Это понятно. Мы с нею рядом в этой беде, сочувствуем ей всей душой, чем можем — поможем. Но разве в одном Злотникове дело? Хотим мы этого или не хотим, но его жена выдвинула на повестку дня вопрос первостепенной важности — вопрос о стиле руководства, о человеческих и, я бы даже сказал, о партийных качествах руководителя. Давайте разберемся, товарищи, что же произошло? Точнее всех это сформулировал Фадеичев: главный инженер привлек к созданию АСУ наиболее перспективных молодых инженеров, материально заинтересовал их, к слову заметим, в нарушение всех существующих финансовых правил, и возложил на них сложные технические задачи, требуя их решения в сжатые, рекордные сроки. Так? — Так! Гнал и в хвост и в гриву! — сказала Веселкина. Беловежский кивнул. — Лично мне, как вы знаете, довелось работать под непосредственным руководством Николая Григорьевича. И могу вам со всей ответственностью сказать: рука у него тяжелая. Он требует, чтобы подчиненные ему люди работали, как говорится, на пределе. Хорошо это или плохо? В помещении парткома стало так тихо, что было слышно, как позвякивают на широком мятом лацкане Примакова медали, которые он, один из немногих на заводе, надевал во все торжественные дни. — Мы с вами, товарищи, живем в чрезвычайно интересное время — эпоху научно-технической революции. Страна вручила нам, инженерам, удивительную технику, отпускает огромные средства на ее развитие и освоение. Но означает ли это, что так называемый человеческий фактор сошел на нет, стал второстепенным и подчиненным? Да ни в коем случае. Умение руководителя в том и состоит: добиваться, чтобы каждый раскрывал свои возможности, давал заводу, стране все, что может дать, а иногда и больше. Без ущерба для физического и морального, духовного здоровья. Беловежский обвел взглядом напряженные лица всех сидевших за столом, усмехнулся: — Вот вы, должно быть, ломаете голову: куда гнет директор? Да никуда я не гну. Я не могу с легкой душой осудить одержимость главного инженера… Но… Честно говоря, если бы он в свое время не заставлял меня делать стойку на ушах, вряд ли из меня вышел бы грамотный инженер. Искренность директора понравилась. Члены парткома одобрительно зашумели. Беловежский постучал карандашом о бутылку «Боржоми», стоявшую посреди стола, попросил тишины. — …Но и принять стиль Хрупова мы не можем. Мне говорили, что в последнее время Злотников довольно часто жаловался на сердце, даже обращался к главному инженеру с просьбой об отпуске, о переводе на другой, более спокойный участок. И в том и в другом ему отказали, заподозрив в желании удалиться в тихую заводь, отсидеться… Причем грубо отказали, в оскорбительной форме. Проявлена элементарная черствость, нравственная глухота, на что никто из нас, руководителей, не имеет права. Тут мало высказать товарищу Хрупову свое порицание. Надо идти дальше. Все ли мы отвечаем предъявляемым требованиям? Я вижу необходимость выработать у нас на заводе рекомендации для руководителей, подсказать им, как надо вести себя с подчиненными. Руководитель обязан уметь владеть собой. Грубость — это признак слабости, а не силы. Это элементарно… Но от всех нас требуется нечто большее, умение формировать социально-нравственный климат в коллективе. Как это лучше делать? На этот вопрос пусть ответит комиссия, которую мы создадим. А партком, я думаю, возглавит эту полезную работу. Так, товарищ Славиков? Славиков закивал, заулыбался. — Это наш долг, Роман Петрович. Нас уговаривать не придется. — И еще, товарищи… Не знаю, как вам, а мне в таких условиях работать не нравится: Производственные помещения закопченные, в цехах или духота, или ветер гуляет, того и гляди, ОРЗ схватишь. Зашел тут на днях в бытовку механического цеха, так, честно говоря, неудобно стало. Вы можете сказать: не первый год на заводе, раньше со всем мирился, а как стал директором… Правильно, товарищи. Признаюсь вам: теперь смотрю вокруг такими глазами, будто заново родился. Вот мое предложение: с понедельника, не откладывая, развернем перестройку. Цех за цехом. Отдел за отделом. А начнем с бытовок… Строительство здания нового клуба временно приостановим. Сразу все не поднять. Приведем в порядок завод, тогда и за новый клуб примемся. Есть вопросы, товарищи? Слесарь Примаков обернул к директору свое круглое лицо и простодушно сказал: — Что-то я не пойму… Славиков встрепенулся: — Вы, товарищ Примаков, говорите откровенно, не стесняйтесь. Мы хотим услышать мнение рабочего человека. Что вы обо всем услышанном думаете? Вы же член парткома, вам отмалчиваться негоже. Дмитрий Матвеевич Примаков чувствовал себя неспокойно. Обсуждалась ситуация необычная, поэтому ему трудно было сориентироваться и занять определенную позицию. Раньше, при Громобоеве, этого не было. Вопросы выносили на обсуждение простые, решение было ясно с самого начала, да и роль каждого в разговоре тоже была определена. Не то чтобы давали листок с репликой, как в театре, этого, конечно, не было, но намекали — ты, мол, давай, выскажись в таком-то плане… Сегодня Примакова никто за язык не тянул, к выступлению не подталкивал, но Дмитрий Матвеевич чувствовал, что отмалчиваться нельзя. Его и так все вокруг упрекали: привык, мол, с чужого голоса петь, а сам-то что думаешь, Примаков? Свои мысли-то у тебя есть или нет? Может, смелости не хватает их высказать? Если по-честному, то ее-то, смелости, как раз и не хватало. Не привык еще излагать свое мнение свободно, без оглядки на начальство. Так что же, выходит, он, Примаков, трус? Нет, Примаков себя трусом не считал. Да взять хотя бы фронтовую службу, честно делал свое солдатское дело, просто, исправно, так, как до этого на заводе слесарил. Свидетельство тому — боевые медали, что рядом с мирными, трудовыми, позвякивают сейчас на его груди. Да и чего, спрашивается, Дмитрию Матвеевичу бояться? Ниже рабочего не назначат, на кусок хлеба для себя и для семьи всегда заработает. Смелей, Примаков! Нет, не случайно корил себя за душевную робость, за податливый характер, за непослушный язык Дмитрий Матвеевич. Причина была — обида, которая тяжелым камнем ворочалась в груди и не давала ему дальше спокойно жить. Кто его обидел? Да похоже, что все. И новый директор, который поначалу сгоряча взял Примакова с собою в Москву в командировку, однако, в отличие от Громобоева, к делу не приспособил, да и в вагоне-ресторане вел себя как-то странно, не по-директорски, уделял больше внимания Линке, а не Примакову, словно его тут и не было. А хуже всего был разговор в цехе, о котором доброхоты рассказали Примакову подробно, с деталями. Выходило, будто он не по долгу, а по собственной воле ваньку валял — расхаживал в рабочее время по конференциям и худсоветам. И начальник цеха Ежов Примакова тоже обидел. После директорского визита враз переменился по отношению к Дмитрию Матвеевичу, глядел на него хмуро, слова цедил сквозь зубы небрежно, словно перед ним был не заслуженный слесарь, а пэтэушник-первогодник… А горлохват Шерстков и вовсе обнаглел после того, как Беловежский пожал ему руку и поставил в пример всему цеху. Это особенно было обидно Примакову. Что ж, получается, что вся его долголетняя беспорочная, безотказная служба на заводе вовсе уж ничего и не стоит? Достаточно Шерсткову один раз выкинуть фортель — вернуть деталь для дополнительной обработки фрезеровщикам, и вот уже ему и слава, и почет? Нет, с этим Примаков никак смириться не мог. Дмитрий Матвеевич поднялся, оправил мешковатый пиджак, выловил из-под лацканов ускользнувший внутрь ворот рубашки… — Я скажу… Не было такого никогда. — Чего не было-то? — Чтобы в повестку дня болезнь ставить. У меня инфаркт десять лет назад случился. Ну и что? Привезли в палату кулек яблок от профкома, и все. Поторопили: не залеживайся. Скорее становись в строй, работа ждет. И я… того-етого… даже в санаторий не поехал. В цехе оклемался. — Вы, должно быть, нас не поняли, уважаемый Дмитрий Матвеевич, — Славиков сделал попытку помочь старому рабочему сформулировать мысль. — Мы все тут ратуем за то, чтобы улучшить моральный климат. Что же тут плохого? Однако Примаков подсказки не принял, проговорил упрямо: — Раньше, того-етого… порядок был. А сейчас? Бузотера Шерсткова в первую строку тащат. У всех на глазах ручку жмут. А мне за общественную работу по шее наложили. Вот тебе и весь моральный климат. Беловежский, как и все, с напряжением вслушивавшийся в слова Примакова, нахмурился. — Ну, ясное дело, по Громобоеву тоскует. Понравилось в президиумах-то сидеть, — шепнул своему соседу Фадеичев. Эта его реплика, достигнув слуха Романа Петровича, сослужила последнему плохую службу. Беловежский жестче, чем хотел, произнес: — Не знаю, как там у Шерсткова обстоит с общественной работой, а вот что касается технической смекалки, то поучиться у него никому не грех. В том числе и старым рабочим… Довести свою мысль до конца Беловежскому не удалось. — Ну, спасибо. Уважили. — Примаков поднялся с бледным мучнистым лицом и, нетвердо ступая, вышел из кабинета. Все, как загипнотизированные, смотрели ему в спину. Потом разом заговорили. Славиков сказал: — Зря ты его так, Роман Петрович. Тут разобраться надо. Нам, конечно, проценты нужны, ох как нужны. Но не всякие проценты, а советские. Нам небезразлично, что движет человеком. На кого он работает: на самого себя или на общество. Примаков всю жизнь заводу отдал… Ежов: — Он что — по своей воле по облдрамтеатрам таскался? Звонят из парткома, и я его чуть ли не силой выпроваживаю. Да ему легче десять деталей сделать, чем три слова произнести. Веселкина: — На словах-то мы горазды: «ветераны», «ветераны»… А как дойдет до дела… — Товарищи! Меня не так поняли! — вскричал огорченный Роман Петрович. Но было уже поздно. Славиков пришел на помощь: — Не расстраивайтесь, Роман Петрович. Я с ним поговорю. Ну так какое же мы примем решение? Подготовить, обсудить и утвердить кодекс о взаимоотношениях руководителей и подчиненных, так? — Так, — подтвердил директор и вздохнул. — Что же вам, Александр Юрьевич, не понравилось в моем выступлении? — спросил Беловежский Фадеичева, когда тот после заседания парткома прошел в его кабинет. Фадеичев кинул на директора быстрый взгляд («сделал моментальное фото», — отметил про себя Роман Петрович) и, оценив степень его благодушия, сказал: — Концовка, Роман Петрович, концовка… Смазали вы ее, видит бог, смазали. — Вы имеете в виду мое высказывание по адресу Примакова? — Да нет, пожалуй… Он вас просто не понял и потому обиделся. Тут вы не виноваты. Беловежский не разделял веры Фадеичева в собственную правоту, но оставил эти его слова без внимания. — Вы что, ожидали, что я наброшусь на Хрупова? Втопчу его в грязь? Фадеичев пожал плечами. — Зачем так грубо? Достаточно высказать негодование. И требовать увольнения ни к чему. Можно тихо и спокойно выдвинуть на другую должность. По собственному желанию. В нашем Привольском политехническом институте, например, освободилась кафедра металловедения. Достаточно было придать товарищу Хрупову небольшое ускорение, и он бы сам проделал путь по определенной траектории. — Вы можете ответить мне на один вопрос: зачем мне и заводу избавляться от Хрупова? Фадеичев выглядел растерянным. — Заводу? Нет, заводу Хрупов, пожалуй, не мешает, — пробормотал он. — Я думал, что вы… Эти его выходки… Да вы сами несколько раз говорили, что… — Это очень важный разговор, Александр Юрьевич. От того, как он закончится, зависит, сможем ли мы с вами работать дружно. Я в жизни претерпел многое от человека, который относится к людям так, как вы мне советуете. И внутренне порвал с ним, хотя это очень близкий мне человек. Фадеичев покраснел, растерялся. Но быстро овладел собой. Вскочил, забегал по кабинету. — Что я вам советую? Вы меня не так поняли! — Надеюсь. Немного скепсиса в работе, да и в отношении с людьми не повредит. Но только не цинизм! Он всеразрушающ. А ведь мы с вами по самому характеру нашей профессии созидатели, разве не так? Фадеичев диву давался: этот простоватый с виду, имевший за спиной в полтора раза меньше годков, чем он, новоиспеченный директор поучал его, словно библейский пророк с длинной седой бородой, а он, Фадеичев, вместо того чтобы возмутиться, покорно ему внимал и более того, даже внутренне с ним соглашался. В чем тут дело — не в одном же обаянии высокой директорской должности! Фадеичев уже подумывал, как выйти из неловкого положения, в котором оказался, как вернуть свою обычную позицию, но Беловежский сам прервал затянувшееся внушение, сказав: — Если я правильно вас понял, мы оба ищем путь, чтобы склонить Хрупова к сотрудничеству на пользу завода?.. — Конечно, конечно. Но как это сделать? Беловежский помедлил: — Мне кажется, я это уже сделал… — Когда? — Сегодня. — Сегодня?! — Ну, разумеется! Печальный случай со Злотниковым, конечно, встряхнул его, заставил о многом передумать… Я не сомневаюсь, что он со вниманием отнесется к нашим предложениям. — Как, у нас уже есть предложения? Посредством этих слов «у нас» Фадеичев незаметно вновь объединил себя с директором. — Бессмысленно держать в отделе АСУ несколько десятков инженеров. Сейчас они гораздо нужнее в цехах, а точнее — в узких местах, которых у нас хоть отбавляй. Тут вы правы. Фадеичев всплеснул коротковатыми пухлыми руками: — Но эти инженеры привыкли находиться в особом положении, привилегированном. Уж не знаю как, но Хрупов находил возможность осыпать их благодеяниями — тринадцатые зарплаты, премии, участие в фирмах, работающих на договорных началах, и т. д., и т. п. И вдруг мы низвергнем их с небес на землю. Да они разбегутся! Таких молодцов везде с руками оторвут. — Не разбегутся. Вот взгляните. Беловежский достал из стола мелко исписанный его рукой лист и протянул Фадеичеву. Тот прочел:«Ввести в пределах, утвержденных фондом заработной платы, добавки к должностным окладам конструкторов и технологов, непосредственно занятых разработкой новой техники и технологии… Установить премирование конструкторов и технологов в зависимости от их личного вклада в производство».— Ого! — воскликнул Александр Юрьевич. — А как на это посмотрят в главке? — Пойду к министру. Буду просить дать нам право на эксперимент. Так сказать, в порядке пробы… — К самому министру? А не боязно? Беловежский поежился: — Боязно. Пойду, потому что годовой план закончили с перевыполнением. А то бы не сунулся. Кстати, как насчет квартального? Новые идеи есть? — Идеи-то есть… Но вот как вы на них посмотрите? Фадеичев кратко и деловито изложил план очередной «аферы» — так он сам называл свои операции, находившиеся на грани дозволенного. Для того чтобы выполнить план, заводу спешно требовался определенного вида металл. Однако взять его было неоткуда, на уральском заводе вышел из строя прокатный стан. Этот металл можно было, по сведениям Фадеичева, получить на другом, украинском заводе. Там соглашались срочно отгрузить всю партию, но при условии, что привольский завод отпустит им партию своих компрессоров. — А фонды у них на наши компрессоры есть? — поинтересовался Беловежский, заранее предвидя ответ. — В том-то и дело, что нет. Может, рискнем, нарушим закон? Ведь не ради собственной корысти действуем, а на пользу государства. Беловежский ответил: — Нарушение закона не может идти на пользу государства. Мы вот что сделаем. Садитесь завтра на самолет, летите в Москву и выбивайте фонды для поставщика. А выбьете — летите на Украину и выбивайте металл. Машины им дадим из сверхплановых… — А будут ли они — сверхплановые-то? — Будут, вы же сами ради этого стараетесь. Фадеичев поднял голову и пристально посмотрел на директора. Мальчик, но многообещающий. Как ни странно, Фадеичеву с ним приятно работать. Поверил он в него, что ли? Теперь Фадеичеву захотелось доказать Беловежскому, что тот имеет дело не с ловчилой, находчивым комбинатором, а вдумчивым инженером, способным, на большее, нежели то, чем он занимался все это время: помогал выкручиваться из безнадежных ситуаций и тем самым поддерживать корабль на плаву. — Все это хорошо, — произнес Фадеичев и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза тяжелыми голубоватыми веками, всем своим видом подчеркивая важность того, что собирался сказать. — Тактика важна, но нам пора подумать и о стратегии. Вы сегодня на парткоме меня удивили, сильно удивили. Завод перебивается, еле-еле вывозит план, а вы затеваете реконструкцию. За счет чего, спрашивается? Конечно, обещанного три года ждут. Но ведь и три года пролетят. Что тогда скажете? — Вы уверены, что я заговорил о перестройке ради красного словца? — Не сомневаюсь. — Фадеичев почти бравировал своей проницательностью. — А вот и ошибаетесь, премудрый Александр Юрьевич.
___
Утром, покидая больницу после короткого — буквально минутного — посещения Злотникова, поразившего его застывшей белизной лица и полной неподвижностью, Беловежский встретил в вестибюле миловидную стройную женщину в узкой черной юбке и черной водолазке. Она шагнула к нему навстречу: — Вы Беловежский? Я узнала вашу машину у входа. Мне Лева как-то показал, с антеннами. Не так давно Роман Петрович оборудовал в машине радиотелефон, и теперь директорскую «Волгу» узнавали по дополнительным стрелам антенн, торчащим в разные стороны. — Я только что разговаривал с главврачом… Он говорит… — Да, да, я знаю, — не дослушав, перебила его женщина. — Я вас остановила, чтобы выполнить Левину просьбу. Она сунула руку в хозяйственную сумку и извлекла оттуда пачку листков. Это была докладная записка «О некоторых соображениях по внедрению АСХ». В скобках стояло: «Новая технология с применением гибких производственных систем». По дороге на завод Беловежский внимательно прочитал записку. Это был сжато изложенный план коренного переустройства производства на основе методов, которые на рубеже двухтысячного года должны были стать, по утверждению Злотникова, «повсеместно преобладающими». Впечатление, которое произвело на Романа Петровича чтение записки, было настолько сильным, что ему захотелось тотчас же схватить трубку телефона, позвонить кому-нибудь и поделиться своей радостью. Он с трудом удержался от этого мальчишеского жеста. Беловежский позавидовал Злотникову. Ум этого парня способен на яркие озарения, он мог сделать нечто такое, чего от него никто и не ждал. Сам Роман Петрович обладал умом иного свойства. Его ум был, пожалуй, похож на электронно-счетную машину: быстро просчитывал и отбрасывал варианты, пока не оставался только один вариант — лучший. Вот и сейчас мозг Беловежского стремительно проделал огромную работу и сообщил своему обладателю: Злотников подсказывал верный путь. Но, поняв это, Беловежский понял и другое. Осуществить то, что предлагал Злотников, неимоверно трудно. Надо вызвать энтузиазм коллектива, заразить его идеей переустройства — без этого не обойтись. А начинать переустройство надо не с гибких производственных систем, о которых пока мало кто слышал, кроме узкого круга специалистов, а с того, что знакомо каждому — с бытовок, производственных интерьеров, бытовых услуг. А уже после ставить перед коллективом глобальные задачи. Роман Петрович прикинул: первое никоим образом не противоречило второму. На подготовку технического проекта реконструкции завода уйдет год, не меньше. За это время можно сделать многое для того, чтобы привести завод в порядок. Однако поставленный Фадеичевым вопрос, где взять дополнительные резервы для перестройки, требовал немедленного ответа. И Беловежский его дал. — Помните, вы привели людей с филиала завода кондиционеров? — спросил он Фадеичева. — Как же не помнить! Двести семьдесят три человека. И не какие-нибудь, а живые, деятельные, высококвалифицированные! — Верно. Людей мы уже взяли, а теперь возьмем и сам филиал. Будем туда временно один за другим переводить цехи, чьи помещения подвергнутся реконструкции. Фадеичев не нашел ничего лучшего, как спросить: — А нам его дадут? Этот филиал? — И кто мне это говорит? Человек, который, по собственному выражению, может луну с неба достать! Полетите в Москву за фондами, заодно решите в министерстве и вопрос с филиалом. А я договорюсь с местными властями. Думаю, нас поддержат. Они, кажется, сами не знают, что делать с филиалом. Беловежский с улыбкой смотрел на своего зама. Фадеичева трудно чем-нибудь удивить, но, кажется, сегодня ему это удалось. Роман Петрович имел все основания быть довольным сегодняшним днем, но что-то царапнуло его изнутри. Он вдруг вспомнил нелепую сцену с Примаковым, разыгравшуюся на заседании парткома, и хорошее настроение улетучилось. Если рассматривать ситуацию в чистом виде, без привходящих обстоятельств, то, пожалуй, можно было бы счесть, что и тогда, в цехе, и сегодня, на парткоме, он действовал и говорил искренне и верно. Но истина заключалась в том, что ситуации «в чистом виде» не существовало, производственное и личное шли рядом, переплетались, и так плотно, что порой трудно было разобрать, где одно и где другое. Не была ли обостренная до крайности взыскательность, проявленная Романом Петровичем по отношению к старому слесарю Примакову, продиктована пусть неосознанным, но тем не менее отчетливым стремлением показать, что для него не существует личных пристрастий, что отец Лины может быть им подвергнут критике, как и всякий другой. Реакция членов парткома, не поддержавших его, одновременно и огорчила, и обрадовала Романа Петровича. Хорошо, что Примаков не потерял доверия и любви коллектива, плохо, что он, Беловежский, пошел на поводу у своих не совсем ясных и, кажется, совсем неблагородных побуждений. «Надо будет завтра же распорядиться, чтобы в Аллее передовиков обновили портрет Примакова, а то покоробился весь», — сказал себе Беловежский, успокаивая таким образом угрызения совести… — Запомните, Александр Юрьевич, сегодняшний день! Он для нас — исторический, — сказал Роман Петрович на прощание Фадеичеву. — А какой сегодня день? — Четверг, после дождика, — отвечал директор.СВАТОВСТВО
На другой день после заседания парткома, где Примаков нежданно-негаданно ухитрился вызвать неудовольствие директора, первым, кого он встретил при входе в цех, был Шерстков. Взглянув на худое лицо парня, начисто выбритое, в косых кровяных порезах (видно, слишком уж сильно старался соскоблить со впалых щек пегую щетину), на его торжествующе сверкающие глаза, Примаков понял: его ждут новые неприятности. — Ты что… того-етого… Словно в церковь собрался в престольный праздник? — осторожно высказался Дмитрий Матвеевич. Его удивил праздничный вид Шерсткова. Тот с ухмылкой отвечал: — У меня-то праздник, Матвеевич, а у тебя, похоже, тризна… Все, поцарствовал, дай и другим маненько подкормиться! Примаков прошел в цех и тотчас увидел столпившихся у доски показателей рабочих. При виде старого слесаря они расступились, давая ему проход. Дмитрий Матвеевич достал из нагрудного кармана спецовки очки, надел их на переносицу и… не поверил своим глазам. Вверху столбика, в самой первой строчке, красовалась фамилия Шерсткова. Примаков поискал взглядом свою фамилию. И обнаружил ее где-то в середине списка. Над головами рабочих повисла напряженная тишина. Все ждали, как прореагирует на случившееся старый слесарь, вот уже много лет прочно удерживавший первенство по цеху. Дмитрий Матвеевич понимал: главное сейчас — не подать виду, что происшедшее взволновало, да какое там взволновало! — потрясло его. Самое лучшее было бы — пожать плечами и с легкой, иронической улыбкой отойти от доски, будто ничего особенного не случилось,будто это недоразумение, которое, конечно же, скоро разъяснится. Но сохранить равнодушно-безразличный вид Примакову не удалось. Кровь прихлынула к голове, уши запылали, как раскаленные в печи заготовки. Он пробормотал свое неизменное: «Ну и ну… того-етого… Вот, значится, как»… — и, растерянно оглядевшись кругом, прошел к своему верстаку. Из плотной, будто спрессованной пустоты до него долетали фразы: — А что… все правильно. Насколько потопал, настолько полопал… Сколько можно выводиловкой заниматься?! — Так-то это так… Да только какой Шерстков передовик? Неужто его в первую строку ставить? — Ты сделай, сколько он, тогда говори. Три раза проверяли… Полторы нормы дал, как ни крути. — Вот ты о выводиловке… А вот рассуди: Примаков, что ли, своей волей по другим заводам мотается? Для завода старается, для его славы. Выходит, завод и должен о нем беспокоиться. Человек, почитай, полвека заводу отдал, а тут… Негоже! У Примакова при этих сочувственных по отношению к нему словах, сказанных кем-то, даже слезы на глаза навернулись. Он в чертеж глядит, а там тонкие линии троятся и расплываются, а мелкие цифирьки и сквозь очки не видать. Руки дрожат, ноги ватные, подгибаются. Стресс! Ишь ты, сначала сообща этот самый чертовый стресс придумали, а потом и слово для него. Стресс, пресс — так и давит, так и жмет, дохнуть трудно и в ушах звон. Проработав пару часов, не выдержал. Вытер руки ветошью и, даже не убрав инструмент в шкафчик, что было уж совсем непохоже на Примакова, покинул свое рабочее место. Он шел по цеху и не узнавал его. Сегодня помещение с покатым, густо закопченным потолком, с пыльными окнами, пропускавшими тусклый свет, с гуляющими по проходам сквозняками показалось ему особенно мрачным и неуютным. С трудом одолев полтора десятка ступеней, он остановился за обитой дерматином дверью. За «дерматином» слышался неясный гул голосов: шло заседание. Тем не менее Примаков толкнул дверь и вошел. Начальник цеха Ежов, с годами становившийся все более сухим и строгим, недовольно оторвался от лежавших перед ним сводок и поднял бледные, словно выцветшие от времени глаза на вошедшего. — Что тебе? Примаков молчал, грудь его вздымалась, будто он никак не мог отдышаться после крутой лестницы. Сейчас ему вдруг показалось, будто он не поднялся к кабинету начальника, а, наоборот, опустился вниз, в подземелье, где не хватает воздуха и оттого трудно дышать. Что-то в лице Примакова не понравилось Ежову. Он вдруг пристукнул сухой, тонкой, но крепкой, как многослойная фанера, ладонью по столу и скомандовал: — На сегодня хватит, все свободны. Они остались наедине. Оба молчали, глядя друг на друга. Ежов нахмурился, но первым отвел глаза. — Долго в молчанку будем играть? Примаков с трудом разлепил словно склеенные густой и липкой слюной губы: — Разве это дело, Ефимыч? Ежов все понял, но ему не хотелось понимать, поэтому он постарался вызвать в себе гнев — быстрый и несправедливый. — Ты что, взялся загадки мне загадывать? Есть что сказать — говори, нечего — иди и вкалывай, еще не хватает, чтобы ты в рабочее время слонов гонял, и без того по цеху разговоры идут. Или не слыхал? — Слыхал, все слыхал, — с отчаянием, понимая, что разговора с Ежовым не получилось, забормотал Примаков. — Вам, начальникам, видней, кто сколько наработал и кому что выводить, да только я теперь из цеха ни ногой — ни на заводы с опытом выступать, ни в Москве в кабинетах паркетные полы полировать, ни в облдрамтеатре пьески обсуждать… Пусть он… того-етого… Шерстков. Он первый, ему и карты в руки. В словах Примакова была правда, это понимал Ежов — сам же на последнем заседании парткома вступился за слесаря, стал перечить директору. Но что делать — вместе с Примаковым слезы лить в три ручья? Нет, этого делать Ежов не будет. Не давая возникнуть в себе жалости к стоявшему перед ним желтому и дрожащему, как осенний лист, Примакову, он по начальственной привычке бросился в атаку: — Ты, Примаков, мне тут сцен не закатывай, тут, понимаешь, не базар, а завод, тут работать надо, план выполнять! — Или я не работаю? — успел вставить Примаков. — А коли работаешь, так и работай… И общественные поручения изволь выполнять. А откажешься, мы о тебе не здесь говорить будем. А знаешь где? На парткоме! Понял? А теперь ступай, и чтоб больше я тебя не видел. Понял? Иди! Примаков повесив голову вышел из кабинета. За всю свою долгую жизнь он никогда и ни в чем не перечил начальству, безропотно принимая приказания и поручения. Сегодня первый раз взбунтовался. Внутри у Дмитрия Матвеевича все дрожало от возмущения и жалости к себе. По лестнице спускался медленно и нетвердо, скользя рукой по выкрашенной зеленой краской пупырчатой стене. Вдруг со страхом отметил: стена вибрирует, колышется. Она вибрировала всегда — столь велика была сила заключенных в каменную коробку непрерывно работающих моторов, приводящих в движение станки и машины, что здание содрогалось. Но сейчас это напугало его, стены старые, непрочные, того и гляди, пойдут трещинами и рухнут, погребая под собою все — людей, машины, весь примаковский мир. Внизу, у основания лестницы, на площадке стоял красно-желтый автомат с газированной водой. Примаков пошарил рукой по его пыльной крышке, заранее зная, что стакана не найдет — сколько их ни наставят, все равно утащут. Но вдруг — удача! Стакан отыскался. Нажал кнопку, тонкая пузырящаяся струя ударила в дно. Заныли зубы — вода была холодная. Он выпил до дна. Теперь, по крайней мере, можно было дышать и жить дальше. Хотя жить дальше не хотелось. Дмитрий Матвеевич всю ночь проворочался на отведенной ему половине супружеской кровати. Брошенный Ежовым упрек насчет поездки на базар каленым железом жег душу. Всего один раз и съездил, и вот, пожалуйста, уже всем известно. Кто растрезвонил? Игорь? Нет, вряд ли. Парень не таковский. Тогда кто? Завгар Лысенков? Вспомнил: он, Примаков, так и не рассчитался с завгаром за поездку. Ясное дело, Лысенков рассердился. Он слыл на заводе человеком, который любит деньгу, знает, как ее достать да в дело употребить. Этот долгов не прощает. Наутро Дмитрий Матвеевич едва продрал глаза, кинулся к комоду, откинул свешивающийся вниз и мешающий ему угол салфетки, изукрашенной русским шитьем, и выдвинул верхний ящичек, где хранились семейные капиталы. Сунул несколько бумажек в карман пиджака, висевшего на стуле. «Долг платежом красен», — пробормотал он. И, наводя посредством этой пословицы порядок в своих мыслях и чувствах, пошел умываться и завтракать. По окончании смены Примаков отправился в гараж. Миновал заасфальтированную площадку, где стояла грузовая автомашина с задранным вверх капотом, что делало ее похожей на разинувшее пасть чудовище, и вошел сквозь распахнутые ворота в полутемное помещение. Здесь машин было много — и грузовых, и легковых, и автобусов. Между ними бродили перемазанные машинным маслом, чумазые слесаря, механики, водители. Завгар сидел за колченогим столиком и что-то записывал в толстую синюю книжечку. Увидев Дмитрия Матвеевича, сказал: — Вот кто к нам пришел, — однако с места не сдвинулся, не привстал. Видимо, и до него докатились слухи о постигших Примакова неприятностях. Слесарь присел на край стула, поглядел на завгара. И без того бледное лицо его казалось сегодня еще бледней — то ли от недостатка света, проникавшего в каморку сквозь нестандартное оконце, то ли по контрасту с медно-бурыми волосами Лысенкова. Дмитрий Матвеевич счел невежливым начинать разговор с денег и зашел издалека. — Вижу, у тебя, Адриан Лукич, ни одного седого нет, а ведь мы… того-етого… кажись, погодки. Лысенков нахмурился: — Какие мы погодки?.. Я помоложе буду. — Или ты красишься? Знал я одного мужика, то он чернявый, то бурый, как ты, а то вовсе в зелень отдает… — Примаков засмеялся, довольный тем, что ему удалось выжать из себя шутку и тем разрядить напряжение первых минут. — Ничего я не крашусь, с чего ты взял, — с неожиданной злостью проговорил Лысенков, провел рукой по неестественно бурым волосам, и посмотрел на руку, как бы проверяя, не осталась ли на ней краска. — Да я так… — растерянно проговорил Примаков. Вот те и на, шутка вовсе не развеселила завгара, а, наоборот, вызвала явное неудовольствие. — Ну, чего надо? Зачем пришел? Шутки шутить? Примаков полез в карман, на ощупь отсчитал там восемь десяток, вынул и положил на край стола. — Вот. Тебе. Завгар, не меняя недовольного выражения, взял деньги, пересчитал. Криво усмехнулся. — Много. — Много? — Для тебя, говорю, много. А для меня мало. Это за что? — Так много или мало? — Примаков совсем был сбит с толку. Не получив ответа на свой вопрос, пояснил: — Полсотни за японский платок для Лины, а тридцатка — за машину. Да ты, что ли, Лукич, чуть ли не на весь завод раззвонил, что я по базарам езжу? Меня уж начальник цеха в глаза корил: так, мол, и так… — А почему ты не можешь на базар съездить? Твое право. — Вот я и говорю, — обрадовался поддержке Примаков, — свое продал, а не краденое. — А хошь бы и краденое, кому какое дело, — буркнул завгар и отодвинул пачку денег. — Возьми. Не надо. — Как не надо? — Машина была попутная. Бензин казенный. — А платок? — Подарок дочке. Или не понял? Примаков помотал головой, мол, что это еще за подарок. Но сейчас его больше волновал другой вопрос. — Так ты говорил кому или нет? — Если бы я всему свету рассказывал, что и с кем делаю, я бы, знаешь, где сейчас был? Лысенков, откинувшись на спинку стула, захохотал, бледные губы раздвинулись, стали видны длинные, хотя и желтые, но еще крепкие зубы. «А он, вполне возможно, и впрямь моложе меня», — подумал, глядя на эти зубы, Примаков. — Тогда откуда Ежов про базар прознал? — Может, Коробов трепанул? — Не-е… Не думаю. Примаков замолчал, вперив глаза в затоптанный пол. Тоска сосала его изнутри. — Если денег не хочешь брать, может, того… Пивка выпьешь? — Пивка? — неожиданно обрадовался этой мысли Лысенков. — Пивка выпить не вредно. Вот что… Выходи и жди меня у ворот. Чудеса ожидали Дмитрия Матвеевича сразу же за воротами. Откуда-то вынырнула и плавно подкатила сияющая молочно-белая «Волга», вовсе не похожая на те, не новые и уже потерявшие первоначальный блеск машины, которые он только что видел во дворе заводского гаража. Вдоль кузова лысенковской «Волги» шла двухцветная серебристо-алая окантовка, стекла были зеленые, а заднее — черное. Никелированные колпаки на колесах сверкали как-то особенно ярко, фар было много, помимо обычных имелись и дополнительные, спереди и сзади. — Прошу! — Дверца отворилась. Лысенков, следя глазами за произведенным на Примакова впечатлением, сделал призывный жест рукой. Примаков тщательно вытер ноги о траву и, робея, полез внутрь машины. Уселся и обнаружил, что его чумазые полуботинки упираются в дорогой цветастый ковер, устилавший дно машины. Сиденье, в котором он утопал, сотворено было из бордовой мягкой пушистой ткани. Дверцы изнутри обшиты наборной кожей. — Что, нравится? — не скрывая самодовольства, спросил завгар. На нем сейчас были очки с зеркальными стеклами, в которых, когда Лысенков поворачивался к собеседнику, Примаков видел свое изображение. — Ух ты… Где же это? Откуда? — Выиграл по лотерейному билету. Все чисто, не подкопаешься. — Неужто так все и было? Ковры, стекла? — Как бы не так. Дружок один спроворил… большой мастер. Может, выпить хочешь? Правой рукой Лысенков откинул крышечку, и где-то внизу, между ним и Примаковым, обнаружилось углубление, в котором уютно лежали бутылочка коньяка и две рюмочки. — Да нет… Я натощак не пью, — замахал руками Примаков. — Твоя правда. Вот приедем ко мне, закусим чем бог послал и тогда… Поездку омрачил неприятный эпизод. На перекрестке Лысенкова попытался свистком остановить милиционер. Однако завгар не прореагировал, покатил дальше. Примаков завертел круглой головой: — Э, постой… Да он, никак, тебе свистит. — Пусть свистит, если охота, — высокомерно отвечал Лысенков. — Я не нарушал. Значит, при своем праве. Однако следующий перекресток проскочить не удалось. Стоявший посреди улицы и разговаривающий с прохожим милиционер вдруг приблизил к лицу маленькое переговорное устройство, что-то коротко сказал и быстро двинулся к обочине, где стоял желто-синий мотоцикл. Он быстро настиг «Волгу» и прижал ее к тротуару. Лысенков, зло чертыхнувшись, полез в карман за правами. В большое переднее зеркало (от «мерседеса», как успел сообщить завгар) Примаков отлично видел подробности происходившей позади машины сцены. Сначала Лысенков держался уверенно, потом фанаберия слетела с него. Он начал что-то объяснять, тыкал пальцами в права, полез в карман за десяткой. Однако милиционер при виде денег еще больше рассвирепел и, сделав завгару знак следовать за собой, начал усаживаться на мотоцикл. Лысенков стал бить себя кулаком в грудь, расстегнул ворот и показал милиционеру шрам на груди. Тот смилостивился. Произнес еще несколько фраз и отпустил водителя. — В чем дело? — поинтересовался Примаков, когда расстроенный, налившийся злостью Лысенков уселся на переднем сиденье. — Чем нарушил-то? — Черное стекло ему, видишь, не понравилось! Особое разрешение требуется! Печать какая-то! Достану я им эту печать, в два счета достану. Однако как ни хорохорился Лысенков, недавняя спесь слетела с него, он выглядел подавленным. Только-только Лысенков воспарил в мечтах, ощутил себя хозяином единственной в городе чудо-машины — и вот на тебе, первый встречный гаишник сбросил его с высоты вниз, да еще на глазах у этого простодушного вахлака. Лысенков весь кипел. Он успокоился и повеселел только тогда, когда, загнав ставшую вдруг постыло-опасной «Волгу» в гараж, ввел Примакова в «халупу», как Адриан Лукич с нарочитым уничижением назвал свой загородный дом. — Тут розы… Триста кустов… Уважаю эти цветы. Других не держу… А это бассейн… Сейчас без воды… Я тут как-то раз с перепою чуть не утонул. Мощенная узорчатой плиткой дорожка привела к открытой в сторону дворика веранде, где стоял белый пластмассовый столик и несколько таких же белых стульев. Адриан Лукич отпер дверь и ввел своего спутника в зал. У Примакова разбежались глаза. Ему вдруг показалось, будто Лысенков ограбил какой-то чужой дом или музей и перевез их содержимое к себе. От волнения у него пересохло горло. — А если придут и спросят: где взял? — спросил он. — Тебе-то какая забота? — усмехнулся Адриан Лукич. — Дом не на меня записан. На племяша. — Выходит, твоего тут ничего нет? — Можно и так считать. — Ты зачем меня сюда привез? Богатством племяша хвалиться? — напрямик спросил Дмитрий Матвеевич. Завгар покачал головой: — Не… разговор есть. Только вот на стол накрою и начнем. Чего только не появилось на столе — остатки холодного бараньего шашлыка на ребрышках, отварная рыба сиг, домашний сыр, овощи, травка. Наполняя хрустальные рюмки, Лысенков как бы невзначай бросил вопрос: — Ты зачем в Соленые Ключи гонял? Кто там у тебя — зазноба? Примаков удивился: откуда Лысенков про это знал? Неужто все-таки Игорь трепанул? Он, точно он, больше некому. Дмитрий Матвеевич ответил: — Ты, Адриан Лукич, того… В чужую жизнь не лезь. И снова, наткнувшись на преграду, отступил Лысенков. — Да мне-то что… Я — завгар. Меня автомобильные дела интересуют. Хотел выяснить — самовольно Коробов в Соленые Ключи мотанул или по твоей просьбе. Если по твоей, то ладно… Если сам… То я ему… Лысенков потряс костистым кулаком. Дмитрий Матвеевич понял, что надо выручать парня. Объяснил: в Соленые Ключи завернули по взаимному согласию. Он, Примаков, должен был гостинцы закинуть одному мальцу. У Коробова в Соленых Ключах свой интерес. Дед его в войну погиб в тех местах. Вот и хотел вызнать, как и что… — Ну и вызнал? — спросил Лысенков. Хоть и неловок был рассказчик, сбивался, запинался, десятки раз вставлял свое «вот оно как» и «того-етого», однако Адриан Лукич слушал не отрываясь. Судорожным движением схватил бутылку водки, налил, залпом, выпил. — Двое, говоришь, было красноармейцев? — спросил он, не сводя напряженного взгляда с лица Дмитрия Матвеевича. — Двое… Черный и рыжий. — Рыжий, говоришь. И еще парень из местных? — Он их к шоссейке повел. — А он-то куда делся? — На мине подорвался. У Лысенкова от удивления глаза полезли на лоб. — А это откуда известно? Раз он погиб… — То-то и оно, что не погиб. Говорят, только ногу сильно повредило. Добрые люди подобрали, спасли. — А где же он? — Кто его знает, — ответил Примаков. — Пропал, видно. А то бы дал о себе знать. — Это точно, — без всякой убежденности проговорил Лысенков и впал в мрачную задумчивость. Пустячное происшествие на дороге — неприятный разговор с работником ГАИ, придравшимся к черному стеклу «Волги», произвело на Лысенкова болезненно-сильное впечатление. К тем, кто брал у него рубли, трешки и пятерки, он испытывал сложное чувство презрения пополам с благодарностью. Своим поведением эти люди как бы подтверждали незыблемость старой поговорки: «Закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло». Мысль, что поговорка эта не врет, давала Лысенкову столь необходимое ему чувство безопасности существования. Закон существовал как бы для других, кто не имел возможности его обойти. Всю свою жизнь, сколько себя помнил, Адриан Лысенков находился в непримиримой вражде с законом. Отца его, богатого, справного хозяина, не только раскулачили, но и, осудив на большой срок, сослали в дальние края. Закон, в соответствии с которым все это свершилось, никак не мог устроить Адриана Лысенкова. Он затаил против него самого и тех, чьи интересы этот закон защищал, лютую ненависть. Ее потоки, яростные, жгучие, как кипящая лава, обрушились на его однокашника погодка Ваньку Коробова: сын бедняка, он благодаря крутому повороту колеса судьбы из мрачных низин, в которых обречен был существовать и он сам, и его семья, вдруг был вознесен на взгорок жизни. Для него, Ваньки, теперь светило солнце, ему были открыты все пути-дороги, ему отдала свое сердце Манечка, задумчивая статная девушка с толстой светлой косой, чистыми, как родниковая вода, голубовато-серыми глазами, негромкой, но исполненной силы речью. Мог ли примириться со всем этим сын бывшего деревенского богатея Адриан Лысенков, прозванный своими сверстниками Рыжкой за сходство с местным бродячим псом — злобным и хитрым?! Вскоре Рыжка связался с бандой подростков, которая орудовала в округе, — грабила ларьки, магазины, отделения почты. Поначалу казалось, что у группы не было вожака, и Рыжка уже лелеял надежду самому завладеть браздами правления. Однако вскоре выяснилось, что главарь есть, от него поступали указания — где, что и когда грабить, он же прятал и делил добычу. То был главарь-невидимка, говорили, будто в лицо его не знает никто, а если кому и доведется его раскрыть, то он будет убит на месте. Каково же было удивление Рыжки, когда однажды на улице посреди бела дня его окликнул известный всей деревне колхозный счетовод, тишайший горбун Викентий Захарович, и пригласил его посидеть в тенечке под ракитой — мол, есть разговор. Из разговора, который меж ними состоялся, пораженный Рыжка узнал, что главарь банды — не кто иной, как сам горбун, бухгалтер; что Рыжка отмечен им как самый ловкий и надежный из всей группы, за кои заслуги горбун и объявляет его своим первым помощником. За это горбун тотчас же потребовал у Рыжки услуги: организовать поджог Верки Щеновой, сожительницы горбуна. «Я же знаю, что ты дом у оврага спалил, одним меньше, одним больше — какая тебе, Рыжка, разница», — сказал бухгалтер. «Я не Рыжка, я Адриан», — вспыхнул Лысенков. «Меня горбуном в глаза кличут, я же не обижаюсь. Ну да ладно, Адриан». Некоторое время спустя дом Щеновой вспыхнул, как факел, и сгорел — так же таинственно, как дом у оврага. Назначение первым помощником главаря банды сильно возвысило Рыжку в собственных глазах, в него словно бес вселился, банда под его руководством совершила целый ряд дерзких ограблений. Стали подумывать уже о том, чтобы подобраться к банку в районном центре. Может, и банк бы взяли, если бы горбун внезапно не забоялся, как бы неистовый Рыжка, закусивший удила, не подвел всех, и его самого, в том числе, под приговор. Рыжка был немедля отправлен в дальнюю деревню, к малознакомым родственникам, с наказом до холодов у себя дома не объявляться. Что же из всего этого вышло? Горбун опасался, что его погубит буйная одержимость Рыжки, а подвела собственная жадность. Однажды припрятал у себя на чердаке мешок конфет, добытый после очередного нападения на продмаг. Дети Верки Щеновой, не довольствуясь тем, что уделял им от своих щедрот горбун, забрались на чердак, отыскали мешок, стали таскать конфеты, разбрасывать бумажки от них по кустам и канавам. Одна из них попалась на глаза приметливому Ваньке Коробову, вернувшемуся в родную деревню после окончания милицейской школы. «Попался коготок, так и всей птичке пропасть». Разматывая клубок, Коробов добрался до главаря банды, Викентия Захаровича, а там — и до его подопечных. Рыжке на этот раз опять повезло. Никто его не выдал. Отсидевшись в дальних краях, он некоторое время спустя тайком вернулся в свою деревню, поздним вечером подкараулил возвращавшегося с дежурства милиционера Ваньку Коробова и исподтишка — сзади, из темноты — нанес ему страшный удар железкой. Никому не пришло в голову связывать ночное нападение на милиционера с давно исчезнувшим из деревни Адрианом Лысенковым. …Мог ли Лысенков предположить, что грядущая большая война на одном из своих крутых, непредсказуемых поворотов вновь поставит на пути его извечного врага Ивана. Они встретились на фронте. К удивлению Лысенкова, Ванька будто бы даже обрадовался этой встрече. Похоже, он не принимал всерьез их давние распри, вспоминал о них с грустной улыбкой, как вспоминают люди незабвенные годы голубого детства. — Как там… Маня? — спросил Лысенков, когда улеглось волнение внезапной встречи. По участившемуся биению сердца в груди понял — прежняя привязанность не оставила его. За последние четыре года немало перевидел и баб, и девок, но все это было так, не всерьез… Рассматривая протянутую ему Коробовым фотографию Маши, уже повзрослевшей, округлившейся, но столь же неотразимо привлекательной, Адриан снова испытал прилив жгучей зависти к счастливому сопернику. Нет, не может того быть, чтобы Ванька живым и невредимым вернулся с войны и вошел в свой дом, где его ждала любящая и верная жена.___
Примаков с нескрываемым восхищением оглядывал богатое лысенковское жилище. — Откуда все? Говоришь, племяш? А он, случаем, у тебя не генерал? — Я сам себе генерал… Да вот беда: генеральши никак не подберу… Твоя дочь Лина как, с полюбовниками гуляет или так — одна? Примаков поперхнулся куском, с удивлением воззрился на Адриана Лукича. — Ты того… Дочь мою не трожь. Я за нее знаешь? Все твои хрусталя разнесу, одни осколки полетят. — Да ты что? — вскинулся Адриан Лукич. — Да я за твою Лину сам кому хочешь горло перекушу. Девка что надо. Алмаз. Да только драгоценному камушку оправа нужна. Соответственная. Понял? Примаков хоть и прост, а уловил, куда клонит Лысенков. — Молода она еще, — ответил. — Рано ей замуж. Лысенков опять сорвался: — С мужиками спать не рано, а замуж, чтобы честь по чести, — рано? Примаков подскочил, попытался ухватить хозяина за грудки, да тот — ловок, черт, вывернулся. Прикрикнул на гостя: — Да сиди ты! Дочку твою вон как высоко ставлю. Ничего для нее не пожалею. Ты на меня не кидайся как скаженный — на других. Из дому увезут и ославят. Будешь тогда, старый, волосенки на голове рвать — да поздно. Сколько ей годков? Двадцать три уже? — Двадцать три. — То-то… Самый возраст. Дальше тянуть некуда. Наступила тишина, прерываемая только бульканьем разливаемой по хрустальным рюмкам водки. — Значит, так. Одному тебе, Матвеевич, от молвы людской не отбиться. Однако я тебе помогу. Надейся. Жди в субботу в гости… Повечеряем, поговорим. И чтобы дочь дома была. Как она решит, так и будет. Пока был молод, да и в зрелые годы мысль о женитьбе не занимала Адриана Лысенкова. Место его суженой было раз и навсегда занято, а коли так, то и говорить не о чем. А вот в последние годы, когда к шестому десятку подкатило, начал подумывать о женитьбе. Сейчас, когда был у него свой дом собственный, набитый от крыши до подвала всем тем, что, по его понятиям, необходимо для счастливой жизни, нужна хозяйка. Требования к ней выдвигались точно такие же, как и ко всему прочему, чем владел Лысенков, — то есть к дому, «Волге», мебели, посуде… Он прибирал к рукам самое лучшее. Следовательно, самой лучшей должна быть и его жена. Однажды показалось Адриану Лысенкову, что он такую женщину встретил. В порт вошел теплоход «Кавказ». Огромный, белый, сверкающий сотнями огней, он выглядел как прибежище иной — бездумно-радостной и пленительно-легкой жизни. Адриан Лукич, будто молодой, легко вбежал вверх по трапу. В одном из многочисленных баров теплохода ждал его знакомый бармен, который снабжал Лысенкова, за соответствующую мзду, конечно, заграничной выпивкой. Лысенков мог послать за бутылками на корабль и племяша, но, что скрывать, ему хотелось самому посидеть в роскошном баре, людей посмотреть и себя показать. В баре гуляла развеселая компания. Вниманием Лысенкова тотчас же завладела блондинка с капризным детским лицом. Она говорила неестественно высоким голосом, столь же неестественно смеясь, издавая горловые, курлыкающие звуки. Мелкие золотистые кудряшки над гладким выпуклым лбом дрожали, казалось, они сделаны из тонкого и дорогого металла, и сейчас, когда их хозяйка в очередной раз зайдется в смехе, зазвенят сильным, переливчатым звоном. Один из членов компании, прыщавый парень в жилете из белой блестящей ткани без пиджака, опустился на одно колено, снял с ноги блондинки туфельку, наполнил ее шампанским и попытался выпить. Но это ему не удалось. Шампанское струями полилось ему на грудь, на рубашку с оборками, на нарядный жилет. Это зрелище ужасно развеселило блондинку, которая царственным движением поставила ногу без туфли на плечо неудачливого поклонника и зашлась смехом. Пошлая сцена Лысенкову показалась сказочно прекрасной, чуть ли не величественной. «Вот бы мне такую…» Лысенков, подогретый уже алкоголем, действовал решительно. Бросился вперед, вклинился в компанию, налево и направо стал швырять деньги, угощать, а самую красавицу и ее поклонников он пригласил прокатиться по городу, зазвал к себе домой. Но, увы, все его усилия оказались тщетными. Женщина, как выяснилось, была с солидным поклонником. И он и она не собирались расставаться, по крайней мере на протяжении отпускного месяца. Пришлось Лысенкову удовольствоваться тем, что Лиза, так звали капризную дальневосточную красавицу, согласилась после долгих уговоров принять от него дорогой подарок и в награду за это обменялась с ним адресами — с тем, чтобы впоследствии посредством почты внести ясность в свои отношения с Лысенковым. Однако время шло, а ясности не прибавлялось. Вот тут и остановил Лысенков свой взор на примаковской дочке, впервые увиденной им в поезде Москва — Привольск. Ему показалось, что из Лины, со временем, конечно, можно будет сделать женщину, немного похожую на ту залетную птицу, которую Лысенков встретил когда-то в баре белого теплохода.___
Суббота. В доме Примакова переполох. Ждут гостей. Дарья Степановна то и дело выбегает на кухню, где в огромной эмалированной желтой кастрюле подходит тесто, если зазеваешься, выйдет из берегов и, подобно выброшенной вулканом магме, потечет ручьями, тогда хлопот не оберешься. Наведя порядок на кухне, возвращается в комнату. Смахивает пыль с трех чешских книжных полок, прикрепленных к стене «елочкой», в виде ступенек; с зеленоватого экрана телевизора; с гипсового бюста сухонького бородатого старичка, врученного мужу на каком-то заводе в качестве подарка, но до сих пор не опознанного — писатель какой, что ли? Сам Примаков пыхтит под столом: отвинтилась ножка, если не закрепить, рухнет стол, все, что Дарья наготовила, пропадет. Дочь Лина в бигуди, с белым-белым лицом, вымазанным не то сметаной, не то кефиром, вбегает в комнату и нервным голосом в который раз уже выкрикивает: — Пап, а пап… Может, все-таки скажешь? Какие сваты? Это шутка, да? Розыгрыш? Ну, скажи! Но по выражению лица, по тону голоса видно, что ей ужасно хочется, чтобы это не было шуткой. Примаков из-под стола подает голос: — Пора, пора тебе, дочка, судьбу устроить. Своим домом зажить. — Какой еще дом? Кто придет? — пытает Лина отца. Тот отвечает: — Кто подарок тебе дорогой недавно сделал? Тот и придет. Лина бросает взгляд на серебряное колечко, что блестит на пальце, громко неестественно хохочет и убегает прочь. А с кухни уже доносится веселое железное позвякивание. Дарья Степановна протирает полотенцем парадные вилки и ножи. …И вот наступает вечер. Под окнами примаковского дома притормаживает «Волга». Лина, с высоко взбитыми на лоб волосами, с румянцем на щеках, в нежно-кремовом шелковом платье, украшенном многочисленными оборками, выпархивает на крыльцо… И замирает в недоумении. «Волга» не черная, а молочно-белая. И вылезает из нее вовсе не тот, кого она ждала, а завгар Адриан Лукич Лысенков. Выглядит он, правда, сегодня молодцом: на широких плечах ловко сидит черный костюм, темно-бурые волосы — ни одного седого! — уложены волнами, в руках — букет белых роз. Лина с недоумением смотрит на отца. Но Дмитрий Матвеевич делает вид, что целиком поглощен обязанностями гостеприимного хозяина. Раскинув руки, предлагает гостю войти в дом. Лина, кинув торопливо: «Здрасте!» — убегает в комнату. — Ехал мимо, дай, думаю, загляну на огонек! — донесся до нее шутливый голос Лысенкова. «А может, и вправду… Посидит и уйдет. И никакое это не сватовство». — Лина цепляется за эту мысль. А Лысенков уже в комнате. Подходит к примаковской дочке, вручает букет. Оглядывается в поисках вазы. — Это у тебя, Лукич, всюду хрусталь понаставлен… А у нас… Дочка керамику уважает. Сейчас принесу, — говорит Дмитрий Матвеевич. — Хрусталь и все прочее — дело наживное, — роняет фразу Лысенков. — Сегодня нет, а завтра есть. Лина выбегает из комнаты. Она не в себе. Голова кругом идет. Что с отцом? С ума сошел он на старости лет, что ли? — Садитесь, Адриан Лукич, — слышится за стеной голос матери. Лысенков похохатывает: — Купец здесь, а товара не видно. Примакову не нравится, что завгар круто принимается за дело. — Ты того… не спеши… Посидим, поговорим. Лина, приняв решение, входит в залу, усаживается за стол напротив Лысенкова. — Никак, жениться надумали, Адриан Лукич? — с вызовом произносит она. Лысенкова нелегко смутить. — А почему бы и нет, — с ухмылкой отвечает он. — На товар нележалый — купец неженатый… — Так ли уж — неженатый? — Паспорт показать? — Да ведь не с паспортом жить, Адриан Лукич, а с человеком. А разве в душу заглянешь? — В сватовстве спрашивают не о душе, а о другом, — говорит Лысенков. — Много ли у жениха добра. Сумеет ли суженую содержать в неге и холе. Он закусывает кулебякой с капустой. — Ух, хороша, — нахваливает. — Это вы, Дарья Степановна, такую вкуснятину приготовили или дочка? — Я… — опускает глаза польщенная похвалой гостя мать. — Это в конце концов смешно! — нервно произносит Лина. Она делает попытку рассмеяться, но смеха не получается. — Да ты, дочка, ешь… Смотри сколько мать наготовила. — Дмитрий Матвеевич отрезает огромный кусок студня и сваливает дочке на тарелку. Лина снова накидывается на гостя. — Что же вы, Адриан Лукич, приданым не интересуетесь? — А чего интересоваться, — улыбается Лысенков. — И так видно: приданого гребень, да веник, да алтын денег. — Не в деньгах счастье, — вставляет Дарья Степановна. — Так-то это так… Однако и без них не проживешь, — отвечает ей Лысенков. — Ой, мне дурно. Я кажется, схожу с ума! — всплескивает руками Лина. — Я тут на днях был в гостях у Адриана Лукича… — сообщает Дмитрий Матвеевич. — Ну и дом у него! Что твой музей. — Ну, в моем-то музее не очень-то богато, — говорит Лина. — Да я не про твой… А на дворе… одних роз триста кустов. — Это ж с каких таких доходов? — удивляется Лина. — Бензин налево продаете? — Почему именно «налево», — усмехается Лысенков. — Продавать можно и налево, и направо, одинаковую цену дают. — А сколько лет дают за разбазаривание государственного имущества? — спрашивает Лина. Примаков стучит вилкой по тарелке: — Линка! А ну перестань, кому я говорю! — и обращаясь к гостю: — Она шутит. — Я веселых люблю! — как ни в чем не бывало говорит Лысенков. — Познакомился я тут с одной отдыхающей с Дальнего Востока. Что ни слово — юмор. Так на смех и подымает. Блондинка. Все при ней — и красота, и ум. А наряды! Закачаешься. — Вот и видно, Адриан Лукич, что вы закачались, — вставляет Лина. — Вам бы не упускать своего счастья. Взяли бы да женились. Лысенков сказал с неожиданной откровенностью: — А я бы и женился. Да только она замужем. За адмиралом. Вот, говорит, помрет, тогда пожалуйста. Да я уж, видно, не дождусь. — Вот это хорошо! По крайней мере, откровенно! — глотнув вина, восклицает Лина. — Таким вы мне, Адриан Лукич, больше нравитесь. — То ли еще будет! — Нет, больше не будет ничего, — твердо сказала Лина. — Вы, кажется, поговорками любите говорить. Ну, так слушайте: не по купцу товар, не по товару — купец. Вот вам бог, а вот и порог! Она встала из-за стола и вышла. Мать бросилась за ней. — Доченька… ты что… ну откажи… Да разве так грубо можно? Гость все-таки. Из-за тонкой дощатой перегородки донесся злой голос Лысенкова: — Ишь ты, «не по товару купец»! Я к вам со всей душой, а вы… не хотите по-хорошему, ну что ж, будет по-плохому! Примаков сам не свой. Костит себя почем зря. Хотел как лучше. Думал: надо дочку пристроить, а то как бы с пути не сбилась. И так уж по поселку слухи пошли, то одного хахаля ей приписывают, то другого. Пора мужем обзавестись. Да только не такого мужа ей надо. Дмитрий Матвеевич подходит к Лысенкову, твердо говорит: — Ты нас не пугай, Адриан Лукич… Нам, рабочим людям, бояться нечего. Каждая копейка честным трудом нажита. — На что это ты намекаешь? А я, что ли, нечестно наживал… — Это ты не мне говори. Я так думаю: кому положено, разберутся. Разные мы люди, Лукич. Нам не по дороге. Права Линка. — Ну погоди! — голосом Волка из известного мультфильма воскликнул Лысенков и с силой хлопнул дверью. Послышался рев мотора круто взявшей с места машины. Дарья Степановна, закрыв лицо руками, разрыдалась. Лина, бледная, но спокойная, вышла из-за перегородки. — Спокойно, мама. Все хорошо. Однако ее трясло как в лихорадке.АВАРИЯ
Игорь раздобыл номер молодежной газеты со статьей Витюхи и теперь с волнением вчитывался в нее, вновь погружаясь с головой в такие далекие и такие близкие заботы таксопарка.«Посудите сами! Думаете, мне приятно сознавать, что меня, таксиста, кое-кто в городе недолюбливает? Вы спросите: а за что меня любить? Вечерний час, непогода, вы торопитесь по своим делам, конечно, неотложным… Мимо вас катят машины с зелеными огоньками, а остановиться не хотят. Злодей таксист! Неужели нельзя найти на него управу? Нет, я не злодей. И среди моих товарищей по таксопарку их тоже немного. В чем же тогда дело? Отвечу. Таксисты за час-полтора до окончания смены потому не хотят ехать на окраины, что обратно скорее всего придется возвращаться порожняком, т. е. будет холостой пробег, а значит, можно лишиться прогрессивки. Можно ли этого избежать? Конечно, можно. Надо только добиться, чтобы интересы пассажира и таксиста совпадали. И еще один больной вопрос — «чаевые». В самом деле, почему инженер не просит чаевых, а шофер просит? Да потому, что кое-где в таксопарках сложился такой порядок: раз шофер при деньгах, пусть платит. За что? Да за все: ремонтнику — за то, что сделал ремонт, «вратарям» (дежурным у ворот), чтобы отбили «правильное» время, и т. д. Как вы сами понимаете, в конечном счете все эти «левые» выплаты — из кармана пассажира. Вы, наверное, подумаете, что меня кто-то крепко обидел в таксопарке, вот, мол, я и принялся всех критиковать — налево и направо. Нет, я не на плохом счету, иногда даже хвалят. Работа моя мне нравится и нравилась бы еще больше, если бы нам всем вместе удалось навести в ней порядок. Тогда бы зеленый огонек такси горел чистым светом».Игорь был потрясен. Уж, конечно, не тем, что вычитал из заметки; обо всем этом, и о многом другом, ему хорошо было известно. Прочитав Витюхину заметку, он узнал нечто очень важное о самом Витюхе и о себе самом. Одно дело судачить о недостатках в коридоре, за спиной у начальства — даже сверхосторожный Додик принимал участие в этом безопасном и, увы, бесполезном трепе! А вот Витюха Прошин сказал об этом громко, на всю страну, не побоялся. И преподал всем, и Игорю в том числе, урок, над которым надо подумать. Выходит, у маленького, болезненного Витюхи было то, чего не было у других. И очень важно определить, есть ли это, Витюхино, в тебе самом… Заводской гараж, маленький, примитивный, отсталый, казалось, не давал простора для буйной преобразовательной деятельности. Но так только казалось. Постепенно, шаг за шагом, Игорю открывалось в работе гаража много такого, что можно было изменить, улучшить. Он же чаще вспоминал о таксопарке. Конечно, здесь, в Привольске, масштабы не такие, как там, в столице, но кое-что сделать можно. Однажды разговорился с кладовщиком Макарычевым, худеньким низеньким старичком с белым венчиком волос вокруг лысой головы, делавшим его похожим на господа Бога из спектакля «Божественная комедия», которую показывали по телевидению. Судя но всему, Макарычеву уже давно перевалило за шестьдесят. Говорили, будто он сильно опасается, как бы Лысенков не отправил его на пенсию, поэтому с годами присмирел и уже не выступал на собраниях с острой критикой, как это делал прежде. Поначалу в желании сблизиться с Макарычевым у Игоря был расчет: хотелось выведать у кладовщика секрет пропажи ящиков с запчастями, которые он сам же помогал Лысенкову грузить в поезд Москва — Привольск в первый день их знакомства. Одно из двух — или прибывшие запчасти ушли «налево», или в ящиках были вовсе не запчасти, а что-то другое, что не имело к гаражу никакого отношения. Единственный, кто мог бы пролить свет на это темное дело, был Макарычев, если, конечно, не считать самого Лысенкова. Однако эта задача — войти к старику в доверие с тем, чтобы вызвать его на откровенность, отошла на задний план, когда Игорь получше узнал кладовщика. Он ему понравился. Когда-то, в молодости, работал в крупном ленинградском гараже, знал старых шоферов, помнил их рассказы о революционном Петрограде. Сам любил рассказывать, как вместе с другими шоферами участвовал в розысках броневика, носившего громкое и славное имя «Враг капитала». «У каждого в жизни есть свой «броневик» и своя «война», — подумал Игорь. Он смотрел на Макарычева и пытался перекинуть мост от прошлого к настоящему, от молодого Макарычева — крепкого чубатого парня (он был сфотографирован вместе с товарищами у броневика) к сидящему перед ним человеку, усталому, погасшему, оживлявшемуся только в редкие мгновения соприкосновения со славным прошлым. — У вас, на ленинградской автобазе, должно быть, было больше порядка, чем здесь, — проговорил Игорь, наводя разговор на волнующую его тему. Макарычев обвел темное помещение конторки, где они сидели, отрешенным взглядом. Видно, ему не хотелось так быстро возвращаться из прошлого в настоящее. — Там автобаза. А здесь заводской гараж, — неохотно отозвался он. — У нас в таксопарке, — сказал Игорь, — стены отделаны глазуревой плиткой, полы — мраморная крошка. Деревянных заборов и в помине нет. На территории — деревья, цветы. Это мы сами в субботники и воскресники посадили. Есть красный уголок, две комнаты отдыха с телевизором и бильярдом, ну и все, что положено, — столовая, медпункт, гардероб, душевая. Где бы водитель ни был — вызывают по селектору… — А у нас в Ленинграде… — начал было Макарычев, да спохватился и махнул рукой. — Какой здесь бильярд, когда элементарной дисциплины нет! Ни учета, ни контроля. Один закон — слово Лысенкова. Произнеся фамилию завгара, Макарычев испуганно оглянулся — не слыхал ли кто. Быстро добавил: — Адриана Лукича тоже можно понять: запчастей нет, горючего не хватает, машины старые. Бьется как рыба об лед. — Как же запчастей не хватает? Он же в прошлый раз несколько ящиков из Москвы привез. — Кто эту утку пустил? Не знаю… Раздобывает кое-что по малости… А чтобы ящиками. Нет, такого не упомню. — И все-таки кое-что сделать и у нас можно. — Игорь услышал от кладовщика, что хотел, и теперь поспешил перевести разговор в другое, безопасное русло. — Что, к примеру? — спросил Макарычев. — Разве нельзя, например, создать приличную ремзону? Смотровые канавы сделать более глубокими и удобными. Ширина канавы должна быть такой, чтобы на нее можно было ставить машину любой марки. Домкраты безнадежно устарели. Пневмогидравлический подъемник надо поставить. — Да, да, — оживился Макарычев. — У нас в Ленинграде, помню, чего только не было! Ручные и самоходные тележки с мотоциклетными двигателями, гидроавтокран… А тут шоферы и слесаря все на себе таскают. И о хорошем освещении не мешает позаботиться. Нельзя работать вслепую. — Так, может, сказать обо всем этом Лысенкову? — спросил Игорь и увидел, как на глазах изменился Макарычев, поникли плечи, на лице появилось привычное отрешенно-безразличное выражение. — У него своих делов хватает, — пробормотал кладовщик. — Ему не до нас. «Тут не просто боязнь, что спровадят на пенсию. Тут еще что-то…» — подумал Игорь, отыскивая объяснение непонятной робости Макарычева по отношению к завгару. — Может, в стенгазету заметку написать с предложениями? — вспомнив о подвиге Витюхи, проговорил Игорь. Кладовщик отозвался безо всякого энтузиазма. — Вот и напиши… Кому и писать, как не вам, молодым. Тем более в редакторахтвой дружок Дима. Он уже, почитай, полгода материал для стенгазеты ищет, никак не найдет. — А что, это мысль! — воскликнул Игорь и отправился отыскивать Диму. Конечно, думал он, настенный листок — это вовсе не центральная газета, он выходит в свет не в десяти миллионах экземпляров, а всего в одном. И все-таки, все-таки. Он чувствовал необходимость немедленно что-то предпринять, действовать, действовать…
___
В кабинете директора завода Беловежского щелкнуло в переговорнике, и голос секретарши произнес: — Начальник автотранспортного цеха Лысенков Адриан Лукич. То, что Лысенкова зовут Адрианом Лукичом, Роман Петрович, конечно, знал и сам, без подсказки секретарши. А вот то, что по штатному расписанию тот называется «начальником автотранспортного цеха», услышал впервые… Обычно Лысенкова называли завгаром. «А ведь это и вправду заводской цех, и притом из наиважнейших, — подумал директор. — А мы гаражом совсем не занимаемся. Отдали на откуп Лысенкову, и все тут. Неверно это». — Вызывали, Роман Петрович? На удлиненном бледном лице Лысенкова улыбочка аккуратная такая, скромная: услужливый подчиненный тихо радуется случаю, позволившему ему лицезреть высокое начальство. — Садитесь и ответьте: что у нас происходит с машинами? Почему вчера, как и в прошлый раз, когда я возвращался из командировки, мне подали не мою «Волгу», а какую-то другую… — Парткомовскую, — уточнил Лысенков. — Не важно какую… Где моя машина? — На ремонте, Роман Петрович, — ответил Адриан Лукич голосом, которым сообщают близким о тяжело заболевшем человеке. — На ремонте? Отчего же? Ведь она совсем недавно ремонтировалась! И все было в порядке, мне водитель говорил… Скажите лучше, что вы просчитались. Ожидали, что я прикачу на новой «Волге», и поэтому мою заслали куда-то. А теперь выкручиваетесь! Может быть, потому, что директор то ли случайно, то ли по подсказке («по чьей подсказке? Надо выяснить») назвал истинную причину «накладки», Лысенков дрогнул, изменился в лице. — Кабы так… Я бы вам завтра машину представил. Однако не могу. В капремонте. Надолго. Может быть, на месяц… — На месяц?! На чем же я буду ездить? — Не беспокойтесь. Я договорился с гаражом горисполкома. Они как раз партию новых получили… Завтра выделят нам одну, а мы раздобудем и отдадим. Видимо, спокойная речь Лысенкова убедила Романа Петровича, что тот не врет. Он вперил взгляд в лицо завгара, мысленно определяя, сколько тому лет. Где-то в районе шестидесяти, помоложе отца. — А что же вы мне не говорили, что были у отца ординарцем? — спросил он. — Не хотел… Еще подумаете, что ищу чего. А мне ничего не надо… Вы у папаши были? Как он там, все воюет? Какой-то огонек зажегся в желтых, волчьих глазах Лысенкова. «А ведь он не уважает отца», — догадался Роман Петрович. — Здоров. Велел вам привет передавать. Он-то к вам всей душой… В этих словах Лысенков увидел некий упрек. Сынок Беловежского, хотя и прост с виду и не грозен (не то что папаша, тот был как порох, чуть что — и пых!), однако угадал истинное отношение Адриана Лукича к своему бывшему командиру. Надо срочно выходить из положения. — Вы меня извините, Роман Петрович, — Лысенков улыбнулся и тотчас же прикрыл улыбку рукой. — Может, что лишнее скажу… Но ваш папаня, хотя и грозен, а душой — что дитя малое. Вот и приходилось о нем заботиться. Так что он для меня не только командир, но и отец добрый… вот как для вас. «Ишь ты, в названые братья напрашивается?» — отметил про себя Роман Петрович, лишний раз убеждаясь, что этот Лысенков хитрая бестия и с ним надо держать ухо востро. — Папаня ваш меня каждый раз с праздником поздравляет, спасибо, не забывает солдата и приписку делает: мол, если что нужно, иди к моему Ромке, он, мол, не откажет… Роман Петрович насторожился. — Ну и чем я могу быть вам полезен? То, о чем попросил Лысенков, было до смешного мелко и ничтожно. — Есть просьбишка, не скрою. «Волгу» я купил, всю жизнь копил и вот сподобился. А то как же так — сапожник без сапог. Разукрасил машину как красну девицу. Вставил сзади черное стекло. А гаишник меня и засек. Остановил, придрался, говорит: на черное стекло специальное разрешение надо. Может, позвоните, Роман Петрович, чтобы штампик поставили, а я уж отработаю, отслужу. Роман Петрович удивился: — Вы меня извините, но на кой шут вам это черное стекло? Чем вы там в своей машине таким занимаетесь, что от людей прятаться приходится? Лысенков рассмеялся: — Точно, точно. Спятил на старости лет. Блажь одолела. Я ведь жениться собрался. Она у меня молодая, вот и хочу удивить красавицей «Волгой». А что остается — годы! И снова — искренняя нота, прозвучавшая в словах Лысенкова, примирила Романа Петровича с его просьбой. Пожал плечами, ответил: — Ну хорошо… Если будет случай, скажу где надо. Да только все это пустяки, есть дела и поважнее. Лысенков по-военному вытянулся, прижал руки к корпусу: — Слушаю. Беловежский отчеканил: — На автотранспорт много нареканий. В среду по вашей вине задержалась разгрузка вагона с трубами на подъездных путях. В подшефный колхоз обещали послать ГАЗ на три дня, а она проработала неполных два и была такова. Установите, кто нарушил приказание, и строго накажите. И еще… Помнится, вы привезли из Москвы несколько ящиков запчастей, я еще вам помогал переместить их в багажный вагон. Завтра же дайте мне точный отчет — какие запчасти, сколько… И если каких нет, то когда будут. Ясно? — Ясно, Роман Петрович. — У меня все. Лысенков пошел к дверям. На мгновение задержался, повернулся вполкорпуса. — Зря вы его слушаете, Роман Петрович. — Кого? — Коробова. Он из таксистов, а они знаете, что за народ? — Я вас не понимаю. У вас что — претензии к моему шоферу? — Большую волю взял. Машину в неположенное время берет. Считает, что ему все можно… Роман Петрович тотчас же вспомнил, как однажды, проезжая вместе с секретарем парткома Славиковым по берегу моря, наткнулся на свою «Волгу», а внизу, на пляже, разглядел загорающего Игоря. Нахмурился: — Во-первых, в шоферы Коробова мне рекомендовали именно вы, Лысенков. Во-вторых, ответственность за строгое соблюдение дисциплины вашими подчиненными также целиком лежит на вас. В чем же тогда дело? Вы сказали, что я зря слушаю Коробова… А кто вам сказал, что я его слушаю? Я вас не задерживаю, Лысенков. Завтра же доложите мне по всем вопросам. — Боюсь я за Коробова… Носится как оглашенный. Как бы чего не вышло, — пробормотал Лысенков и покинул кабинет. Он был недоволен собой — зря не сдержался и, не подготовившись, начал разговор об этом выскочке Коробове. Вот и остался в дураках. Явившись в гараж, Адриан Лукич тотчас же навел справки. Ему рассказали, что Коробов последние дни одолевает всех расспросами о каких-то запчастях. Интересные сведения завгару дала диспетчерша. Лысенков начал сердито выговаривать ей за непорядок в подшефном колхозе, но она быстро отбила все нападки, заявив: «Да вы, Адриан Лукич, запамятовали, что ли? Сами же распорядились Заплатова до срока отозвать…» — «Надо было бы им объяснить, — сказал Лысенков. — Мол, временно отзываем. Чтоб не жаловались». На что диспетчерша, которая не привыкла лезть за словом в карман, отрезала: «Сами бы съездили да объяснили. А то даже шоферы уже интересуются: почему вы к подшефным ни ногой?» — «Кто интересуется? Фамилии назови», — насторожившись, потребовал Лысенков. И услышал ответ: «На днях новенький пытал: отчего да почему… Игорь Коробов, директорский шофер». Игорь только что вернулся в гараж из заводской столовки, когда его окликнул шофер Заплатов. — Уже отобедал? — Точно. Борщ и котлеты. — А я как раз хотел подхарчиться. Да вот боюсь, сожительница придет за деньгами, а меня нет. Я дом строю. То одно надо, то другое, дерут, черти, за всякую малость. А где гроши брать? Вот сегодня рубероид завезут, а чем расплачиваться? Ходил к Лысенкову аванс просить, да он не дает. Ну ничего, Заплатов и к нему ключ найдет. Сегодня он у меня не вырвется. За горло схвачу, вот так… — И он сжал свою руку в кулак. За секунду до того мягкая, вялая рука с пальцами-сардельками, вдруг приобрела увесистость и твердость камня. Маленькие глазки шофера сверкнули злобным огнем. Игорь подумал: а ведь он не такая уж рохля, этот Заплатов. Попробуй встань на его пути — и встретишь сильного и опасного зверя, готового на все. — Пойду подзаправлюсь перед разговором с Лысенковым. Машина без бензина не может, а водитель без жратвы. Так? Ты моей бабе скажи: обедает твой. Сей минут будет. Сделаешь? — Почему бы и нет? Заплатов скрылся, и тотчас же раздался звонок: шофера к проходной вызывает жена. От гаража до проходной путь был неблизкий, но Игорь не поленился, отшагал с полкилометра, чтобы лично объяснить женщине отлучку мужа. Однако сделать ему это не удалось. Из проходной он посмотрел в окно и узнал в невысокой грудастой женщине с кудрявой, как у барашка, головой, свою давнюю знакомую Галину Самохину, официантку из вагона-ресторана. После того, как он отыскал эту женщину в общежитии, Галина будто сквозь землю провалилась, за что его строго отчитал следователь Толокно. Было бы непростительной глупостью спугнуть женщину, имевшую, судя по всему, самое прямое отношение к кольцу с аметистом. Поэтому Игорь из проходной выходить не стал, а, притаившись у окна, начал внимательно оглядывать асфальтовую площадку перед проходной, отыскивая заплатовскую «бабу». Однако, кроме Гали, других женщин поблизости не было. Игоря словно током ударило: а что, если именно Галина Самохина и есть та женщина, которую ждет Заплатов? Очень может быть. Теперь надо было проверить догадку. Игорь подошел к старичку-вахтеру и попросил его передать жене Заплатова, что тот скоро придет, вот только доест обед. Старичок охотно выполнил просьбу. С порога крикнул: — Есть тут кто к Заплатову? Галина Самохина тотчас же отозвалась: — Здесь я. — Велено передать, что мужик скоро явится. Обед доедает. — Вот боров, скоро лопнет, а все ему мало, — беззлобно ругнулась Галя и отошла к киоску Союзпечати, чтобы укрыться под его козырьком от лучей палящего солнца. Игорь задумчиво вернулся в гараж. Он выполнил просьбу Заплатова, а заодно и получил информацию к размышлению. Можно предположить, что, напуганная его визитом, Галя, заметая следы, переселилась из общежития в домик Заплатова, где проживала все это время без прописки, что и помешало следователю ее обнаружить. На этом умозаключении Игорь не остановился. Итак, Галя — подруга Заплатова, который, в свою очередь, является доверенным лицом самого завгара Лысенкова. Интересно, в истории с кольцом замешана одна Галя, Самохина или к ней имеет отношение и ее сожитель? Подчиняясь внезапно возникшему в нем импульсу, Игорь отыскал на территории гаража своего приятеля Диму и с ходу спросил у него: не случалось ли шоферам гаража находить во время осмотра салона машин какие-либо ценные вещи? Дима ответил: — А ты что, потерял золотой портсигар? — Может, и потерял бы, если б был, — ответил Игорь. — Ты ответь на вопрос. Дима поскреб пальцами щеку и ответил: — Лично я как-то нашел в «Москвиче» запонку. Думал, золотая, а оказалось — позолоченная. Кроме того, и хозяин быстро объявился. Синичкин из отдела снабжения. Я ему отдал. — А еще случаи были? У других шоферов? — Постой-постой. Кто-то мне говорил, что Заплатов однажды похвалялся, будто нашел очень ценную вещь. Но я-то, зная его, думаю, что скорее стянул, чем нашел. А там кто его знает. Игорь почувствовал, как у него сильно забилось сердце. Неужели напал на след? Прикинул, как лучше подойти к Заплатову. На другой день зашел в «Галантерею» и купил пару дешевых чешских сережек. Заплатова нашел в раздевалке, где тот прятал в шкафчик обычную свою одежду, чтобы переодеться в рабочую. Хотя на глаз было трудно отличить, чем одна отличалась от другой. «Жадноват, — подумал о шофере. — Каждую копейку, видно, бережет». — Спасибо, что к бабе вышел… А то она меня живьем бы съела. Ждать не любит, нетерпеливая, ужас. Мы с ней дом строим. Так она меня издергала: «Когда закончим?» Игорь достал из кармана чешские сережки. — Посоветоваться хочу. Вот в машине после рейса подобрал. Не знаю, что с ними делать? Ценные или как? — Ну-ка, покажь! — толстые пальцы Заплатова схватили сережки Он поднес их к глазам, покрутил, повертел, вернул обратно. Разочарованно произнес: — Пустой номер. Стекляшки. Бузотерия. — Бижутерия? — Я и говорю: бузотерия. Вот у меня случай был… — Он замолчал, спохватившись. Игорь попросил: — Расскажи. Видимо, оказанная ему вчера Игорем пустяковая услуга настроила Заплатова на добродушный лад. Поколебавшись, он наконец решился. Сел на лавку, усадил рядом Игоря. — Ну, слушай, только чтоб молчок. Везу я однажды одну пару. Отдыхающие. Муж и жена. В машине жарко, как в бане. Баба и говорит: «Освежиться хочу». Остановил машину, они и вылезли. Глянул: глазам не поверил. На полочке у заднего стекла золотое кольцо лежит. Я возьми и смахни его за спинку. Если чего, подумают: упало, завалилось. Приехали на место. Мужик и спроси: «А где кольцо?» Баба-дура отвечает: «Я его в сумочку убрала». А убрала она, я сам видел, не кольцо, а зажигалку. Спутала значит. Вот, значит, какие дела бывают. — И что ты сделал с этим кольцом? Заплатов громко захохотал: — Отдал в фонд мира! — А откуда ехала та пара? И куда? В ту же секунду здоровенная ручища Заплатова сгребла у него рубашку на груди. — Постой-ка… Не ты ли мою бабу насчет кольца выспрашивал? А теперь ко мне в душу лезешь? Тебя кто подослал? Ювелир? Или сам директор? Сам того не понимая, Заплатов этими словами полностью изобличил себя в качестве главного действующего лица в афере с кольцом. — Да, я, — спокойно ответил Игорь. — Меня ювелир просил. Беспокоится, как бы его с этим кольцом не замели. Он же переделывал, ни кто другой… И ты, и он, вы оба в одном заинтересованы. Чтобы выйти сухими из воды. Неповоротливый мозг Заплатова долго переваривал услышанное. Пальцы-щупальца разжались. — Ну, смотри, если врешь. Нет кольца. Ти-ти, улети. И больше не суйся в это дело. А то пожалеешь. Кровавыми слезами будешь плакать, а поздно. Он поднялся, одернул на широком заду кургузый пиджачок и, вобрав голову в плечи, потопал к выходу. А Игорь остался на месте, оглушенный внезапным подозрением: именно Заплатов был тем шофером, который по его просьбе однажды отвозил в директорский особняк сверток с продуктовым заказом. Как раз тогда и пропало с подоконника принадлежавшее Медее Васильевне кольцо с аметистом. Хорошо, что он, Игорь, «расколол» Заплатова, выведал у него его тайны. Плохо то, что и тот, в свою очередь, догадался, не мог не догадаться, о той роли, которую Игорь играет во всей этой истории.___
Желтые глаза завгара метали молнии. Игорь слушал Адриана Лукича и не верил своим ушам. — Пора объясниться. Садись и докладывай, как директорскую «Волгу» вконец ухайдакал? — Она целехонькая в боксе стоит. — Это — новая. А старая? Лысенков навалился грудью на стол, приблизил к Игорю бледное лицо и отрывисто спросил: — В ночь перед отъездом в командировку машину брал? — Ну, брал. — Для личных целей? Игорь помялся. Не рассказывать же в самом деле Лысенкову, что он вместе с Линой на директорской машине полночи гонялся за грабителями. — В общем, да… Лысенков повернулся всем корпусом, прогрохотал дверцей сейфа и сунул под нос Игорю бумагу: — Читай. Игорь прочел и ощутил, как меж лопаток побежала холодная струйка пота. Это был составленный по всей форме акт, в котором черным по белому было написано, что водитель Коробов И. И. в ночь на 23 июня самовольно вывел из гаража директорскую «Волгу» и в течение пяти часов использовал ее в личных целях, результатом чего явилось дорожно-транспортное происшествие. Далее следовал длинный перечень повреждений, нанесенных «Волге» в результате аварии. Из заключения следовало: машина может быть возвращена в строй только после капитального ремонта. Примерная стоимость работы — 1 тысяча 670 рублей. — Это ж… вранье, — сказал Игорь. — Будешь отпираться? — Я вернул машину в целости и сохранности. — Ну допустим. А расписка имеется? — Какая расписка? — Удостоверяющая, что, попользовавшись государственной машиной в личных корыстных интересах, ты сдал ее, как говоришь, в целости и сохранности? — Кто бы мне дал такую расписку? Сторож? — Вот именно… Никто бы не дал. Вот и выходит: придется за грехи отвечать. Платить полновесным рублем. Лысенков заглянул в бумагу и с особым, как показалось Игорю, удовольствием прочитал: — Одна тысяча шестьсот семьдесят рубликов ноль-ноль копеек. Игорем овладел нервный смех: — Ну, копейки я бы еще, пожалуй, заплатил… А вот рубликов нет. — Есть — нет, а платить придется. Сполна. — Я не разбивал машину! Лысенков неожиданно произнес: — Может, и не ты… а кто другой… Допустим. А как докажешь? Машину без спроса взял? Взял. Про директорское разрешение неправду сказал? Какая тебе теперь вера будет? Ни-ка-кой! Игорь был ошарашен услышанным. Ему захотелось вскочить, выйти из двери, отправиться на вокзал — и поминай как звали! Прощай, город Привольск! Да только как он уедет, не заплатив долг? Баснословно огромный долг, который повесил на него Лысенков! Лысенков помолчал, давая Игорю время как можно глубже погрузиться в пучину отчаяния. Потом вздохнул: — Эх, молодо-зелено! Вот нам кажется, море по колено, все можем. Змею-горынычу голову срубить, у королевича красну девицу отнять, на ковре-самолете по ночам летать… Так это ж в сказках. А в жизни вот. — Он с силой пристукнул кулаком акт об аварии. — Значит, что остается? Надеяться на добрых людей, авось выручат, отведут беду. Добрые люди, парень, есть, не перевелись еще… Однако они гордые. Любят, чтобы им в ножки поклонились да помощи попросили. А в награду за эту помощь требуют уважения, верной службы, покорности… Вот так-то, брат. Лысенков явно намеревается подсказать ему выход из тяжелого положения, которое сам же завгар, Игорь в этом не сомневался, и создал. В поведении Адриана Лукича произошли разительные перемены. Еще несколько минут назад, когда только начинался разговор, лицо его было откровенно злым, более того, дышало ненавистью. Игорю еще подумалось: откуда такая ненависть? Даже если бы завгар действительно верил, что Игорь разбил машину, все равно его чувство не могло дойти до такого накала. Значит, есть еще что-то… Но прошло всего несколько минут, а Лысенков уже светился участием, доброжелательством. — Может, вот как сделаем, — задумчиво говорит завгар. — Я шепну словечко одному своему знакомому… да ты его знаешь… буфетчик из вагона-ресторана. Автандил. Он одолжит тебе полторы тысячи. Внесешь в кассу. А ему через полгода отдашь две тысячи. — Две тысячи? А где я их возьму? — Не спеши, паря. Две отдашь, да еще самому тысчонка останется. Вот так-то! А акт этот мы спрячем вот сюда, — завгар взял бумагу со стола и сунул в сейф. — И никто о нем не узнает. А расплатишься — порвем. — И все же… Где я деньги возьму? — Заработаешь. Честным путем. Где автовокзал, знаешь? Видел, сколько там всякого люду с чемоданами и сумками ошивается? Все хотят куда-то ехать. Один в Одессу, другой в Киев, третий в Харьков, четвертый в Новороссийск. А автобусов не хватает. Автандил кроме денег одолжит тебе свой «Москвич». Он все равно у него без дела стоит. На нем и поработаешь. Правда, придется некоторое время обойтись без выходных. Ну, как? Согласен? Игорь говорит: — Я должен подумать. Этот ответ не понравился Лысенкову. Похоже, он предпочел бы немедленно закончить неприятное дело. Но Игорь встал и, не прощаясь, ушел.___
Следователь Толокно встретил Игоря без удивления. — А-а… это ты. Давно пора. Садись, рассказывай, — сказал он, соединяя скрепкой два листка и укладывая их в серую картонную папку с четкой типографской надписью «Дело». Игорь поежился. Он вовсе не хотел, чтобы его жизнь, его биография, изложенные казенным языком на бумажном листке, попали в эту папку. Но делать нечего, если он не хочет влипнуть в уголовную историю, надо набраться мужества и объясниться со следователем. — Почему «давно пора»? Откуда вы знали, что я снова у вас появлюсь? — спросил Игорь. — Кто сказал «а», тот скажет и «бэ», — невозмутимо отвечал Толокно. — Разве я сказал «а»? — А «личный друг следователя Толокно», который однажды ночью пытался поднять на ноги милицию, это кто? Случайно, не ты? Игорь покраснел. — Я пошутил… — Понятно. А теперь с чем пришел к своему «личному другу», опять с шуткой? Честно говоря, Игорю сейчас было не до шуток. — Вас предупреждают, а вы не… — он хотел сказать «не чешетесь», но поправился, — не реагируете. Вот ювелира и обокрали! — Обокрали ювелира? — На обычно бесстрастном лице следователя Толокно появилось выражение изумления. — Кто? Когда? — На другой день после того, как ваш наряд спугнул воров. — Но почему же ювелир нам об этом ничего не сообщил? Игорь пожал плечами. Он и сам не понимал причин странной скрытности Христофора Кузьмича. — Ну, а откуда тебе, молодой человек, стало известно о том, что кто-то собирается забраться в дом к ювелиру? Игорь начал объяснять. — Уезжая ненадолго из города, ювелир просил меня приглядеть за домом. В первый же вечер я решил пойти и взглянуть — все ли в порядке. Ничего подозрительного не заметил. Подумал: «А вдруг завтра залезут?» Взял и позвонил. Не верите — спросите у Христофора Кузьмича. Он подтвердит. Ссылка на ювелира, видимо, убедила следователя в том, что Игорь говорит правду. — А почему ты не приглядывал за домом в последующие вечера? — Потому что наутро вместе с директором уехал в командировку. — Так. И что же украли у ювелира? — Небольшой немецкий сейф фирмы «Остер-Тага». Однако драгоценностей в нем не было, одни ненужные бумаги. — Ненужные? — Так говорит ювелир. Поэтому он, должно быть, вам ничего и не сообщил. — Ну-ну. Но ты ведь не из-за ювелира пришел? Есть другая причина? — Другая. Правда, ювелир тут тоже замешан. — Опять замешан? Ай да ювелир. — Я по поводу кольца с аметистом. Помните, его украли у жены Беловежского. — Как не помнить, — потер шею Толокно. — Меня из-за этого кольца начальство до сих пор честит. А тебя-то почему волнует это кольцо? — Вы заподозрили невинного человека. — А-а!.. Ты про эту девушку… Но сам должен понимать: лучший способ снять подозрения с твоей знакомой — это поймать настоящего вора. Игорь замялся. Ему не хотелось раньше времени называть имена шофера Заплатова и его подружки Галины Самохиной. «Пусть воров те ловят, кому по должности положено», — подумал он. — Да, да, — угадал его мысли Толокно, — это мне по должности положено искать воров… Но ниточку-то ты мне дать все-таки можешь? По старой дружбе… — Ниточку могу, — решившись, сказал Игорь. — Только при условии, что вы не будете ко мне приставать с вопросами: кто мне сказал и почему. Следователь Толокно поморщился. Он не любил, когда ему ставили условия. — Хорошо. Выкладывай. — Золотое кольцо с аметистом принадлежало женщине, которая этой весной отдыхала вместе с мужем где-то в наших краях. — Фамилия? — Не знаю. И в каком санатории отдыхала, тоже неизвестно. Но вполне возможно, что она заявила о пропаже, и тогда… — Не учи меня, что делать. Как-нибудь разберусь… Кто украл кольцо? Игорь отвел глаза в сторону. — Она оставила кольцо в машине… оно завалилось за спинку заднего сиденья. Ну, а потом… — Раз кольцо оказалось в нашем городе, значит, свалил его за спинку и похитил из машины здешний шофер. Кто-то из твоих сослуживцев? — Я этого не говорил. — Это и так ясно. Но ты почему-то решил укрыть вора. — Кажется, вы мне обещали, что не будете… — Ну, хорошо. Молчи. Мы сами узнаем. Все? — Нет. У меня есть к вам просьба. Не могли бы вы узнать у гаишников… то есть у работников ГАИ: составлялся ли в июле нынешнего года акт на машину ГАЗ-24, номерной знак РОФ 12-30? Она попала в аварию на одной из дорог, ведущих из Привольска. Толокно побарабанил пальцами по столу. — Может быть, я и смог бы оказать тебе эту услугу. А ты не мог бы мне помочь разобраться с тем, что происходит на нашем автовокзале? Игорь про себя подивился тому, как естественно разговор подошел к теме, которая целиком занимала его с той самой минуты, когда завгар Адриан Лукич Лысенков, запугав его фиктивным актом, начал склонять к участию в левых поездках с клиентами городского автовокзала. Через несколько минут Игорь, успокоенный, с окончательно сложившимся у него решением, поднялся с места. — Если узнаю что-нибудь интересненькое, зайду… Так и быть, выручу милицию, — с улыбкой сказал он. — Ну, ты не очень-то там, — сказал следователь. — Не строй из себя сыщика. А то неровен час…«ЕСЛИ ВЫ ТАКОЙ СМЕЛЫЙ…»
В этот день Хрупов виделся с Надеждой трижды… С того страшного для него утра, когда стало известно о приключившейся с молодым инженером Злотниковым беде — инфаркте, когда Хрупову пришлось испытать на себе всю тяжесть людского осуждения («Словно под стотонный пресс угодил»), в его отношениях с чертежницей Надеждой наступил перелом. Хрупов стал почти ежедневно звонить ей, интересоваться здоровьем, ее нуждами и заботами — всем тем, что еще совсем недавно его просто не интересовало. И виделись они теперь гораздо чаще… Хрупов почти силой заставил Надежду взять у него деньги на ремонт обветшавшей квартиры, подбрасывал ей продукты, дарил подарки. И с удивлением видел, как на глазах меняется, преображается эта казавшаяся ему робкой и бесцветной женщина. Она похорошела, даже помолодела! Скинув с себя оковы сдержанности, Надежда теперь часто рассказывала Николаю Григорьевичу о том, что происходило в отделе, где она работала, набрасывала меткие портреты сослуживцев. Он удивился ее наблюдательности. — Ты знаешь, Дюймовочка сегодня опять заснула на оперативке, — сообщала она Хрупову. — Дюймовочка? Кто такая? — Как кто… Веленевская. Это я ее так прозвала. Хрупов начинал смеяться. Веленевская была маленькой и довольно вредной старушкой, обладавшей острым языком, которого в заводоуправлении все боялись. — Вот уж действительно — Дюймовочка! — воскликнул Хрупов, понимая, что это столь неподходящее для Веленевской прозвище теперь прилипнет к ней надолго, может быть, навсегда. Однажды, вскользь упомянув о начальнике механического цеха, Надежда приписала ему реплику Дубровского из повести Пушкина: «Ради бога, не пугайтесь. Я не француз Дефорж, я — Ежов!» Сначала Хрупов ничего не понял, а потом зашелся смехом. Вот уж кто не француз Дефорж, так это прямолинейный Ежов, привыкший говорить резко, рубить сплеча. — А меня как ты прозвала? — спросил он Надежду. Она смутилась. Однако, после некоторых колебаний, сказала: — Щелкунчик. — Почему именно Щелкунчик? Она объяснять отказалась. Догадался сам. — Потому что проблемы и людей разгрызаю, как орешки? Она засмеялась. И Хрупов понял, что не ошибся. Первая встреча с Надеждой в этот день произошла в коридоре заводоуправления. Он едва узнал ее: вместо гладких, схваченных заколками прядей на голове ее возвышалось замысловатое сооружение, придававшее женщине нарядно-праздничный вид. — Боже, что это? — воскликнул он. Надежда испугалась: — Что? Не идет? — Кажется, идет. И очень. Но разве ты… разве мы сегодня куда-нибудь идем? Она улыбнулась: — Но ты ведь сказал, что, возможно, вечером заедешь… Отменилось? — Нет. Он помолчал. — Выходит, это ради меня? Хрупов окинул Надежду внимательным взглядом. И, кажется, впервые обратил внимание на перемены. На ней было пестрое, очень шедшее ей платье из натурального шелка, на ногах модные, похожие на тапочки, туфли без каблуков, на пальце сверкало золотое кольцо с камнем, которого он раньше не видел. — А это откуда? — Купила. Можешь считать, что ты подарил… — Но я ведь дал на ремонт квартиры. Она легкомысленно отмахнулась. — Ремонт — на зарплату. А это — подарок. — Еще не хватало, чтобы ты сама делала себе подарки от моего имени. Что, я сам не могу? Оглянувшись, она коснулась его руки. — Так ты придешь? — Постараюсь. Только умоляю: не хлопочи. — Хорошо. Вторая встреча произошла у проходной. По случайности они одновременно вышли из заводоуправления. Поколебавшись (слишком много свидетелей!), Хрупов предложил женщине подвезти ее. — Я еду мимо. Мне еще в горком, — пояснил он. Надежда, как он и ожидал, стала отказываться, тогда Хрупов чуть ли не силой втолкнул ее в машину, рядом с шофером. Сам уселся сзади. — Поехали! Ему неприятно было, что заводские видели этот пышный отъезд и что шофер не его собственный, а директорский (хруповская машина была на техосмотре). Но поступить иначе Николай Григорьевич не мог. В его груди сдвинулась какая-то защелка, заработал мощный механизм. Он-то и заставлял Хрупова делать все новые и новые шаги навстречу Надежде. Когда главный инженер, отсидев на совещании, вышел из здания с колоннами и уселся на переднем сиденье, директорский шофер Игорь Коробов спросил его: — Вы не знаете случайно, Николай Григорьевич, у кого ваша знакомая раздобыла золотое кольцо? Я видел у нее на руке. С камнем. — Кольцо? А какое это имеет значение? Игорь ответил: — Имеет. Сдается мне, что это то самое, которое несколько месяцев назад украли у Медеи Васильевны, директорской жены. Хрупова бросило в краску. Третья за день встреча с Надеждой не принесла радости им обоим. Ворвавшись к Надежде, Хрупов учинил ей форменный допрос. Заливаясь слезами, — уж больно грозен был Николай Григорьевич! — Надежда поведала, что купила кольцо с рук на местной толкучке. Продал его — и недорого — мужчина в кепке, лица его она как следует не разглядела, дело было вечером. — Оно же краденое! — в сердцах воскликнул Николай Григорьевич. — Директорский шофер, тот, что вез нас сегодня, говорит, будто из-за этого кольца уже безвинно пострадала одна молодая женщина. Опасается, как бы ты не оказалась второй… Ну не плачь, я во всем разберусь. Ты же, в конце концов, не крала. После этих слов Надежда уткнулась своей красивой прической в плечо Хрупова и разрыдалась еще горше. Николай Григорьевич осторожно снял с ее пальца золотое кольцо с аметистом и сунул в карман. В машине, выслушав рассказ Игоря Коробова о кольце, Хрупов поначалу засомневался: а не сочиняет ли парень? А может, он просто ошибся, приняв одно, увиденное мельком кольцо, за другое? Но Коробов утверждал, будто злополучное кольцо побывало в руках у ювелира, он внес в него изменения, которые отличают его от всякого иного. Ошибка невозможна. Игорь говорил с Хруповым спокойно и убежденно. Слушая его, Николай Григорьевич дивился переменам, которые произошли за последнее время с парнем. От былой скованности ни следа. Живой, деятельный. До Хрупова доходили слухи о той кампании за переустройство гаража, которую развернул директорский водитель, о его критических выступлениях в стенгазете. И сейчас Коробов был активен, наступал на Хрупова, чуть ли не командовал им. — Обязательно спросите у Надежды Семеновны, кто продал ей кольцо, — наказывал он. — Думаешь, кто украл, тот и продал? — насмешливо спросил Хрупов. — Нет, Николай Григорьевич, я так не думаю, — спокойно ответил Игорь. — Тем более, что я почти догадываюсь, кто стоял за кражей. Хочу узнать — не женщина ли продавала, небольшого росточка, смазливая, с родинкой на шее, вот здесь… Расставаясь с Хруповым, Игорь Коробов обратился к нему с просьбой, не поможет ли он связаться с профессором Ярцевым. Говорят, что в молодости он воевал здесь, под Привольском, вместе с дедом Игоря выходил из окружения, не исключено, что может пролить свет на обстоятельства его гибели. — А откуда ты узнал, что Ярцев именно здесь выходил из окружения? — От отца Беловежского, — отвечал Игорь. — Он упомянул о Ярцеве в разговоре… — Выходит, отец Беловежского тоже здесь воевал? Все все знают, одному мне невдомек. В последний раз Хрупов виделся с профессором Ярцевым месяца три назад, вскоре после обсуждения его персонального дела на заседании заводского парткома. Приехав по делам службы в Москву, он тотчас же отправился в ярцевский институт. Приоткрыл старую, недавно «освеженную» лаком тяжелую дверь и, ощутив щемяще острое воспоминание о своей невозвратной студенческой молодости, вошел в аудиторию. На мгновение он снова почувствовал себя худющим и загорелым до масляной черноты пареньком, бесконечно уверенным в себе и в своем будущем. Хрупов и сейчас был черен и не толст. Только вот веры в себя поубавилось. Знакомый голос властно завладел его вниманием. — В тысяча девятьсот девятом году пятнадцатилетнему студенту Гарвардского университета Норберту Винеру отказали в приеме в студенческий союз «Пи-Бета-Каппа», полное название которого означало — «Философия — кормчий жизни». Руководители союза сочли, что претендент на вступление слишком молод и слабо подготовлен. Спустя несколько лет Винер не без усмешки вспомнил о нанесенной ему когда-то обиде, а новой, созданной им науке дал название «кибернетика». Хрупов уселся в заднем ряду, утвердил локоть на скользком покатом пюпитре, обхватил пальцами подбородок и заслушался. Он любил Андрея Андреевича Ярцева. Доктора технических наук, профессора, ректора института кибернетики. Своего учителя. Ярцев был зрелым ученым уже тогда, когда Хрупов еще только бегал на лекции. Со временем возрастная разница между ними как бы уменьшилась. Теперь они оба были не молоды. Хрупов уже начал стареть, Ярцев еще не сделался стариком. Николай Григорьевич внимательно вглядывался в своего учителя. Да, седых волос явно прибавилось, в басовитом голосе не было прежней звонкости. Но, с другой стороны — надо ли ему теперь кричать, надрывать связки? Его авторитет непререкаем. Теперь ему достаточно говорить шепотом, чтобы быть услышанным. — …С кибернетикой, — впустил он в себя негромкий, с басовитой хрипотцой голос, — по образному выражению одного немецкого автора, произошло сначала то же, что с Красной Шапочкой. Красную Шапочку, как вам без сомнения известно, съел волк. А кибернетику съели… Кто бы вы думали? Роботы! Да, да, роботы! Должно быть, не все знают, что эти чудовища возникли в воображении чешского писателя Карела Чапека. Он впервые описал человекоподобные машины, обреченные на тяжкий труд. Поначалу кибернетика возникла как наука о роботах. И только потом уже кибернетика превратилась в серьезную науку, значение которой в эпоху научно-технической революции становится все большим и большим… Революции, в том числе и промышленные, не готовят, они приходят сами, когда для этого созревают условия. В середине 70-х годов начался новый технологический переворот, основанный на новейших открытиях в науке и технике. Речь идет о коренных структурных сдвигах в области производства и управления… После лекции Ярцев и Хрупов сидели в просторном директорском кабинете и пили чай с лимоном. — А ведь я вас заслушался, — сказал Хрупов, с симпатией глядя на своего учителя. — Ну что, еще не надумал к нам возвращаться? Как и обещал, дам кафедру… Нам практики позарез нужны. — Похоже на то, что недельки через две появлюсь у вас. — Так скоро? — насторожился Ярцев. — Что, земля под ногами горит? Это плохо. «Все начальники на одно лицо, — подумалось Хрупову. — Им подавай того, кого не отпускают. А тот, кого гонят в шею, им и задаром не нужен». — С выговором возьмете? — кисло усмехнулся он. Ярцев ответил столь же прямо. — Смотря за что выговор. — Нет. Не за моральное разложение. — Не темни. Рассказывай. Хрупов обрадовался возможности высказаться, излить душу. Но вдруг обнаружил, что обрисовать несколькими штрихами положение, в котором оказался, не просто. Нарисованная им картина в силу своей схематичности так же сильно будет отличаться от подлинной, реальной, как контурная географическая карта от настоящей. Он промямлил: — Директором назначили молодого парня. Еще недавно ходил у меня в учениках… Отношения не складываются. — Понятно, — сказал Ярцев. Так же, как Хрупов, он был нетерпелив. Только у Хрупова эта нетерпеливость шла от темперамента, а у Ярцева от умения с необыкновенной быстротой, почти интуитивно постигать ситуацию. — Чувствуешь себя обиженным? — Да разве в этом дело! — вспыхнул Хрупов. Не хватало, чтобы он предстал в глазах своего учителя обиженным чиновником, которого обошли по службе. — Наши противоречия носят чисто принципиальный характер. — Принципиальный? — Хрупову показалось, что в серых глазах Ярцева промелькнул насмешливый огонек. Профессор откинулся на спинку кресла. Взял в руку со стола пустую трубку, пососал. — Вот, бросил курить. — сообщил он. — Я вижу, все не так просто, как мне поначалу показалось. Так в чем ваш спор? — Директора не устраивает наше АСУ. — Ах, вот как! Хрупов вздохнул и стал рассказывать по-новому, уже с большей степенью приближения к истине. Признал: первая очередь внедренной на привольском заводе системы ожидаемого эффекта не дала. Он, Хрупов, за немедленное внедрение второй очереди, а директор против. Принято решение расформировать отдел АСУ, а работавших в нем инженеров распределить по цехам. — А сколько их? — Кого? — Ну, этих, инженеров… — Что-то около сотни. — Ого! В ваших условиях — огромная силища. В цехах-то небось одни практики? — Не одни. Много дипломированных, но и практиков хватает. — И ты надумал бежать? Ярцев так умело вел разговор, что незаметно подвел Хрупова к пониманию несерьезности принятого им решения. Взглянул на искаженное болезненной гримасой лицо Хрупова и осекся. Ему легко рассуждать. Путь науки тернист, хорошее приходит на смену плохому, лучшее — на смену хорошему. Это нормальный процесс. Хвала и честь науке, не знающей пределов в своем стремлении к совершенству! А что делать в этих условиях Хрупову? Перечеркнуть несколько лет труда, признаться, что силы и деньги — немалые! — потрачены во многом напрасно? И кому признаться? Человеку, который еще вчера был его подчиненным? — Мда, — произнес Ярцев и задумался. Ему всей душой хотелось помочь Хрупову. — А выговор за что? Николай Григорьевич кратко сообщил: партком наказал его за невнимательное отношение к людям. — А это уже плохо! — с огорченным видом воскликнул Ярцев. — АСУ жесткое отношение еще кое-как выдержит, она — железная. А вот люди — живые, с ними надо поосторожнее да поласковее. Что, директор тебя под выговор подвел? Хрупов вынужден был признать: Беловежский вел себя на парткоме вполне гуманно, даже выступил в его защиту. — А ты говоришь: «Не сложились отношения». Отношения, друг мой, штука обоюдоострая. Как правило, в плохих отношениях виноваты две стороны. Ты — не в меньшей степени, чем он. Даже в большей. Он — директор, на нем огромная ответственность. Ему нужна помощь. Он готов принять ее. А ты зажался. Ни тпру, ни ну. Как, ты сказал, фамилия твоего директора? — Беловежский. — Знавал я одного Беловежского. Ну да это было давно… Слушай меня: захочешь остаться на заводе, помогу… Заключим официальный договор на содружество. Институт — завод, сейчас это в духе времени. Решишь уйти — возьму. С выговором. Пойду в президиум академии и пробью. Все. Мой тебе совет: подумай хорошенько.___
Беловежский… Что показалось ему странным, а потом и неприятно раздражающим в раненом майоре, с которым судьба столкнула его на лесной дороге осенью далекого 1942 года? Ярцев понял это позже: несоответствие между упорядоченным внешним обликом этого человека и его смятенным внутренним состоянием. Он стоял прямо, двигался четким уверенным шагом, его треугольное — широкое сверху и сходящее на конус книзу — лицо было тщательно выбрито, в отличие от лица самого Ярцева, обросшего трехдневной щетиной. — Старший лейтенант! Предъявите документы! — Металлический, командный голос звучал громко и властно. Но в глазах таилась неуверенность, стеклянный взгляд не переходил, а перескакивал с одного предмета на другой, как перескакивает стрелка уличных электрических часов. Казалось, майору, чтобы перевести взгляд, требовалось дополнительное усилие. Сейчас, сорок лет спустя, Ярцев понимал, что майор был растерян, нуждался в понимании, поддержке и помощи. Но тот, молодой Ярцев, также тяжело переживавший то, что произошло три дня назад с его батальоном, столкнувшимся с немецкой танковой колонной, не собирался входить в положение этого майора. Они сразу же невзлюбили друг друга. Все, что говорил и делал один, другому казалось показным, ненужным, даже вредным. Они не могли сговориться: майор считал целесообразным отходить на юг, старшему лейтенанту было ясно, что предпочтительнее северное направление. Все, конечно, должны были решить точные разведданные, но времени Для разведки было в обрез. Наспех организовали две группы. В последнюю минуту в «северную» группу майор включил наряду с «ярцевским» бойцом своего ординарца. Тогда и Ярцев настоял, чтобы в «южную» группу вошли также представители двух подразделений. Стали нетерпеливо ждать возвращения разведчиков. Первым явился ординарец Беловежского. Из его слов явствовало, что боец Ярцева в сложных обстоятельствах растерялся, струсил и пал жертвой собственной оплошности. Надо ли говорить, что майор воспринял это сообщение с полным доверием, а Ярцев встретил в штыки! Он обвинил ординарца во лжи и потребовал расследования на месте. — Нам некогда заниматься проверками. Мне лично все ясно: путь на север, который вы предлагали, перекрыт, надо двигаться на юг. — А мне не все ясно, — пробовал возражать Ярцев, но майор, наступая на него грудью и побледнев, проговорил: — Командую я. В двенадцать ночи выступаем. Не выполните приказ — пойдете под трибунал. В конце концов они пришли к компромиссу: Ярцев пойдет на север и прикроет основные силы. Майор, получив разведданные от южной разведгруппы, двинется на юг. Он поспешил: раньше срока отправился в путь, рассчитывая встретить разведчиков на марше. Однако встретили они не свою разведгруппу, а немецкую часть, спешившуюзамкнуть кольцо окружения. Из этого кольца группа Беловежского вырвалась, потеряв больше половины личного состава. Уже позже, спустя десятилетия, обращаясь мыслью к тем далеким и страшным временам, Ярцев, повзрослев и помудрев, вынужден был признаться себе, что его поведение в той ситуации было не столь безупречно, как это ему казалось раньше. Не поддайся он тогда чувству личной неприязни к майору, попытайся найти пути взаимопонимания, и все могло повернуться по-иному. Как именно, он и сам не знал. Но по-иному.___
Часов в восемь вечера Хрупов поднялся по ступеням директорского особняка и дернул за бронзовую ручку колокольчика, сохранившегося, должно быть, с давних, чеховских времен. Лежавшее в кармане пиджака кольцо с аметистом жгло его бедро. Дверь открыла Медея. На ее лице промелькнуло удивление. Потом, видимо, вспомнив о недавней сцене в гастрономе, когда на Хрупова из-за нее накинулась продавщица, улыбнулась: — Проходите, пожалуйста, Николай Григорьевич. Вы к Роману Петровичу? Его нет дома. Хрупов признался: он это знает. И снова тонкие брови на лице Медеи удивленно поползли вверх. — Так вы ко мне? — Да. Вздохнув, Хрупов извлек из кармана злополучное кольцо и протянул его Медее. — Ваше? Она поднесла кольцо к глазам и, изменившись в лице, ответила: — Мое. Откуда оно у вас? Николай Григорьевич ответил: его знакомая по случаю приобрела на толкучке. — А почему вы принесли его именно мне? — Шофер Коробов увидел кольцо на руке моей знакомой и сказал мне, что оно как две капли воды напоминает то, которое украли… — Этот Коробов всюду сует свой нос… — Он сказал, что из-за кольца уже безвинно пострадала одна девушка… и что моя знакомая может оказаться второй. — А вы не хотите, чтобы ваша знакомая пострадала… — Не хочу. — И поэтому… — …возвращаю кольцо вам. Медея нервно рассмеялась: — Просто так? Бесплатно? Или за деньги? Хрупов передернул плечами: — Как вы могли подумать… конечно, бесплатно. Некоторое время Медея молча глядела на кольцо. Думала, как поступить. Одно ей было ясно уже сейчас, без всяких раздумий. Взять кольцо у Хрупова она не может. С какой стати ввергать в расходы незнакомого человека? Предложить ему денег — он уже сказал, что не возьмет. Да кольцо и не нужно ей: после сцены с этой девчонкой Линой Примаковой, признавшейся, что поначалу Роман предлагал кольцо ей, после тяжелого объяснения с мужем, упрекнувшим Медею, что она возвела на Лину ложное обвинение, после всего этого кольцо опротивело ей. Может быть, посоветовать Хрупову снести кольцо в милицию? Пусть разбираются, кому положено! Нет, начнутся бесконечные допросы, в судебное разбирательство будут наверняка втянуты и Роман и Хрупов. Этого допустить нельзя. Что же тогда? Медея не была бы Медеей, если бы не отыскала решения. Через минуту оно было готово. Обворожительно улыбнувшись, Медея протянула кольцо Хрупову. — Нет. Такой подарок я принять у вас не могу. — Тогда снесу в милицию. — Не советую. Вашей знакомой не избежать неприятностей. Это ведь не совсем обычный способ приобретения золотых вещей — на толкучке, с рук, у неизвестного и скорее всего подозрительного человека. Ей не поздоровится. — Что же делать? То, что Хрупов обращался с этим вопросом к ней, жене Романа Беловежского, было результатом той большой внутренней работы, которая произошла в нем в последнее время. Влияние общественного мнения, судя по всему возложившего на него, Хрупова, ответственность за их несложившиеся отношения, разговор с профессором Ярцевым, прямо указавшим своему ученику на его просчеты, — все это привело к тому, что неприязнь Хрупова к Беловежскому подтаяла, как льдышка под напором теплых вешних вод, и готова была вот-вот треснуть и рассыпаться. Николай Григорьевич искал примирения с Ромкой, то есть с Романом Петровичем. Его поход к нему домой, доверительный разговор с Медеей по поводу украденного и купленного кольца был шагом в этом направлении. — Что делать? — Медея прищурилась, глаза ее лукаво заблестели. — А ничего… Верните кольцо вашей знакомой… Она ведь заплатила за него деньги, значит, кольцо принадлежит ей. Только пусть ваша знакомая недели две его не надевает… А мы с вами за это время что-нибудь придумаем… Я вам дам знать о своем решении. И снова встретимся. Хорошо? Медея не нуждалась в двух неделях, чтобы определить линию своего поведения. Эта линия уже была ей ясна. Она чувствовала себя виноватой перед Романом Петровичем. Не надо было ей возводить напраслину на его бывшую пассию. Мужчины романтики, честь дамы сердца для них превыше всего. Даже если эта дама уже давно гуляет с шофером и носит на пальце подаренное им жалкое серебряное колечко… Любой ценой Медея должна вернуть расположение мужа. Сейчас судьба дает ей удачный случай. Что Роман скажет, если она накинет уздечку на его врага, буйного и строптивого, как необъезженный скакун, главного инженера и приведет его в стойло — объезженного, присмиревшего? — До свидания. Хрупов поднялся. Прошел в переднюю. У двери замешкался, переступил с ноги на ногу. Медея поняла его замешательство по-своему: — Вы, должно быть, не хотите, чтобы муж знал о нашей встрече? Я ничего не скажу ему. Это останется нашей маленькой тайной. — Хорошо, — сказал Хрупов. Честно говоря, у него не было твердого мнения — что лучше: чтобы Ромка знал или не знал о его вечернем визите?___
Николай Григорьевич Хрупов все раздумывал — идти или не идти к Беловежскому с предложением профессора Ярцева, а директор сам явился к нему. Это случилось накануне его отъезда в командировку на уральский завод-смежник. — Добрый вечер, Николай Григорьевич! Тут я сочинил одну бумаженцию, не взглянешь ли? Он небрежно, как совершенный пустяк, протянул Хрупову свернутый в дудочку листок. — Что это? — Проект приказа… Пока только проект. Как говорится, глаза страшатся, а руки делают. Побывал в райкоме, подготовил почву в райфо. А теперь думаю: проглотят ли в главке, не всыпят ли за это под первое число? Посмотри? Хрупов, конечно, посмотрел. Почему не посмотреть, раз человек просит. И его будто током ударило! Ах, Беловежский, ах, сукин сын! Чего только не было в директорском приказе! Предусматривались «надбавки к должностным окладам для конструкторов и технологов, непосредственно занятых разработкой новой техники и технологией с учетом их личного вклада». Объявлялось, что «оклады ИТР будут отныне утверждаться без оглядки на так называемые средние оклады, ограниченные действующими до сих пор схемами». Премирование, притом в повышенных размерах, также увязывалось с «личным вкладом». Хрупов откинулся на спинку кресла. Подобно тому, как профессиональный музыкант, заглянувший в партитуру, уже по первым тактам угадывает новизну и объем всего произведения, так он за казенными, неудобочитаемыми фразами ощутил важность затеянной акции. Собственно говоря, он сам давно мечтал об этом. Но не верил, что подобное нововведение может быть осуществлено на отдельном предприятии, на острове, хотя и обитаемом, но связанном такими жесткими узами с метрополией, что потверже перешейка. И вдруг Беловежский ничтоже сумняшеся посредством своего приказа тщится изменить ход движения планет, время восхода и захода солнца. Николай Григорьевич произнес почти равнодушно: — Ну и что тут такого? Чего бояться? Я вот в сегодняшней газете прочел… — Он подошел к столу, выдернул из пачки газет нужный номер, продекламировал: — «В последнее время немало говорят о том, что надо расширять самостоятельность объединений и предприятий, колхозов и совхозов. Думается, что настала пора для того, чтобы практически подойти к решению этого вопроса». Беловежский простецки поскреб пятерней затылок. — Так-то оно так… Да боязно. Голова-то одна. Слова эти прозвучали почти по-детски искренне. Хрупов ничего не ответил, только передернул плечами. Беловежский вспыхнул: — А вам не боязно? Так подпишите! Хрупов сунул трубочку приказа в стол. — Подумаю. Может, и подпишу. Директор удалился. Хрупов подошел к окну. На дворе было пасмурно. Стекло отразило его узкое, словно вырезанное из твердого дерева лицо, глубокие морщины — везде, где только нашлось для них место — на лбу, на щеках, на жилистой шее. Лицо закаленного в битвах бойца. Что же ты сделаешь теперь, Хрупов? Чем ответишь на вызов своего вчерашнего подчиненного, Ромки Беловежского? Он вернулся к столу. Свернутая в трубочку бумага, лежавшая в его верхнем ящике, не давала ему покоя. Она, казалось, раскалилась докрасна, как наконечник паяльника, и ее малиновый жар сквозь дерево жег брошенные на крышку стола темные от загара пальцы Хрупова.___
Пусть Беловежский уезжает в свою командировку. У Хрупова будет время все обдумать и сделать ответный ход. Еще раз перечитав переданный ему директором проект приказа и поразмыслив над ним, Хрупов понял, что ему определить свою позицию в этом деле будет не так-то легко. Он вновь вернулся мыслями к заседанию парткома и выступлению Беловежского. Неожиданно став на сторону главного инженера и оградив его от демагогических и поэтому трудно опровергаемых обвинений, он вместе с тем в двух заключительных фразах поставил под сомнение многое из того, что тот сделал на заводе. Прежде всего его страсть к АСУ, обернувшуюся пренебрежением к технологии, но не только, а и нечто другое: систему расстановки инженерно-технических работников. Речь шла, по существу, о ликвидации громоздкого отдела АСУ и переводе занятых в нем инженеров на другие, решающие участки производства. Хрупов тогда не без злорадства подумал про себя: ничего у Ромки не выйдет. Задуманная им реорганизация затронет интересы десятков самых квалифицированных заводских инженеров и, следовательно, вызовет, не может не вызвать, их противодействие. В самом деле, многим ли захочется покинуть тихие отделы и лаборатории, где под шелест кальки, шуршание ватмана, скрип карандаша и рейсфедера, в жарких спорах, решаются перспективные вопросы НТР? И вместо этого перейти в шумные, со сквозняками, цехи, спуститься с заоблачных высот на грешную землю, переключиться с вдохновенных мозговых атак в генеральном штабе на утомительные, выматывающие душу бои в окопах передней линии? Да они же вылезут на первом собрании, разнесут этот проект в пух и прах. Эти ребята молчать не будут. Кто-кто, а он, Хрупов, их знает, сам годами собирал на заводе головастиков. И вдруг этот приказ! Если удастся провести проект в жизнь, положение переменится. То, что прежде было невыгодным, сделается выгодным и желанным. Каждый захочет трудиться там, где его труд будет особенно необходим, а личный вклад заметен и оценен по заслугам. После работы он отправился к Злотниковым. Впервые после Левиного выздоровления. Хрупов поднялся по ступеням к лифту, безрезультатно постучал пальцем по пластмассовой кнопке, после чего двинулся наверх пешком. Взбирался по лестнице тяжело, еле передвигая ноги. Тяготила неизвестность: как встретят его Лева и Таня Злотниковы? Опасения оказались напрасными. Лева явно обрадовался приходу Хрупова, схватил за руку, потащил в комнату: — Таня! Смотри, кто к нам пришел! Таня тоже держалась гостеприимной хозяйкой, словно не было неприятного объяснения в полутемном подъезде хруповского дома, ее жалобы на Николая Григорьевича, обсуждения на парткоме. Словно счастливое выздоровление ее мужа перечеркнуло все, что было. Злотников бледноват, движения неторопливые, размеренные, словно кинопленку, на которую снята его жизнь, сейчас пустили в замедленном темпе. — Ты, Лева, не хлопочи, тебе вредно. Я ненадолго. Зашел узнать, как ты, не нужно ли чего. Пока Таня звенела на кухне чашками и ложками, приготавливая чай для неожиданного гостя, Лева жадно расспрашивал Хрупова о событиях на заводе. — После парткома… — начал было рассказ Хрупов и осекся. — Да, да, я знаю, — извиняющимся тоном произнес Лева. — Ну, в общем, началась катавасия. Отдел АСУ расформировывается. Ребят распределят по отделам и цехам. Хрупов внимательно вглядывался в Левино лицо, его интересовала реакция молодого инженера на его сообщения. Лева слушал, по-детски склонив голову. Сказал: — То, что перестали нянчиться с АСУ, — это, пожалуй, хорошо, сколько можно? А вот что собираются распылить инженерно-технические силы, плохо. Придет время, придется их снова в кулак собирать. Вы мою записку читали? — Не читал, — с легким осуждением в голосе, сказал Хрупов. — Она у директора. Но слышал. Оба замолчали. — Ну и как ребята? Бунтуют? Хрупов пожал плечами. — Для них у Беловежского приготовлен пряник. Он рассказал Леве о проекте приказа, об изменении оплаты труда инженерно-технических работников. Простодушный Лева воскликнул: — Господи! Так это ж я Романа Петровича надоумил! Сижу как-то в ВЦ, а он заходит. Ну и разговорились. А он молоток, наш директор. «Наивный… — подумал Хрупов. — Нахваливает мне прямо в глаза Беловежского, откровенно гордится своим участием в его затеях. Не допускает даже мысли, что мне это может быть неприятно…» — Это замечательный приказ! Вы его поддержите, правда ведь? — Лева искательно заглядывал Хрупову в глаза. — Дело же не в деньгах. Хочется знать, чувствовать… Что твои усилия не проходят незамеченными… Что твоя работа нужна. Что она ценится. Это же не игра… это жизнь. Хочется верить, что не зря живешь. — Успокойся. Тебе вредно волноваться, — сказал Хрупов. Встал, чтобы прервать разговор, прошелся по комнате, выглянул в коридор. В углу, в темноте хлюпал носом старший сын Злотникова Тема. Взъерошенные, цвета соломы, волосы, раскрасневшиеся пухлые щеки, налитые слезами серые глаза. — Ты что тут один делаешь? — Не подходите ко мне! — дрожащим от волнения голосом ответил Тема. — Я плохой мальчик! — Ты — плохой мальчик? Кто это тебе сказал такую глупость? — спросил Хрупов. Ответ поверг его в смущение: — Мама! Со мной нельзя разговаривать! — А что же ты такое натворил? — Вася разорвал книжку, а я его за это стукнул по голове. Хрупов осмыслил услышанное. — Рвать книжки нехорошо. Но и бить младшего брата… это тоже, я тебе скажу, не дело. Тема из темноты с любопытством следил за нитью рассуждений дяди Хрупова. А тот совсем запутался. — Вот что давай сделаем, — предложил Хрупов. — Давай ручку, пойдем к маме и попросим прощения. Немного поломавшись, Тема великодушно согласился. Они оба пошли на кухню и попросили у мамы Тани прощения. — Мы больше не будем, — смеясь глазами, произнес Хрупов. Таня понимающе улыбнулась: — Кто старое помянет, тому глаз вон! — Мам, а что значит «глаз вон»? — спросил Тема. — Иди, иди отсюда, а то опять в угол поставлю. Все вместе отправились в комнату пить чай. Снова зашел разговор о переменах на привольском заводе. На этот раз Беловежского принялась нахваливать Таня. Она устроила Тему в заводской детсад, ходила туда дважды в день — утром и вечером, и была теперь в курсе всего, что происходило на заводе. На территории появились палатки: здесь продаются мясные заказы, там овощи, а там цветы. Открылся павильон, где заказы принимают представители службы быта. — Это правда, что на заводе появился парикмахер и любая женщина может к нему утром записаться и ее вызовут с рабочего места, когда придет очередь? — спросила Таня. — Правда, — буркнул Хрупов. — На днях встретил в заводоуправлении одну свою знакомую, а у нее на голове вавилонская башня. А с вечера ничего не было. — Это замечательно! — хлопнула в ладони Таня. — Ведь если женщине надо сделать к вечеру прическу, она все равно отпросится с работы, отправится в город, потеряет несколько часов в очереди. А тут — полчаса, и готово. Каждая с удовольствием отработает эти полчаса в другой день. — Так-то это так… — неопределенно ответил Хрупов, которому все эти новшества были не по сердцу. — Мне сказали, что Беловежский сам подписывает меню для детсада… Вы представляете? Его любят. Люди ценят уважение и добро! «А может, и впрямь это не заигрывание, а забота? — думает Хрупов. — И Ромка прав: все его усилия окупятся во сто крат?» Что скрывать, поначалу Николаю Григорьевичу все нововведения Беловежского казались пустячными. Вместо того чтобы с места в карьер заняться перевооружением производства, повесил себе на шею филиал завода бытовых кондиционеров, стал перекидывать туда технику, вовсю развернул перестройку бытовок в цехах. А главное, думал Хрупов, тем временем упускается. Теперь он уже не был так уверен в своей правоте, как прежде. Восторженные похвалы Тани и Левы по адресу директора не могли не произвести на него впечатления.___
На другой день, утром придя в свой кабинет. Хрупов достал из ящика стола проект приказа об изменении оплаты труда НТР и еще раз внимательно его перечитал. Встал, подошел к книжной полке, взял словарь. Открыл, на слове «приказ». Прочел: «приказ — официальное распоряжение того, кто облечен властью». Хрупов пожал плечами… Распоряжение «того, кто облечен»… А разве не может быть другого приказа, продиктованного чувством долга или совестью? Он стал читать дальше. «Приказ по войскам. Приказ директора…» Его удивило, что автор словаря поставил рядом приказ по войскам и приказ директора. Однажды учитель Хрупова Ярцев в разговоре упомянул о каком-то военном приказе, который он не должен был выполнять и в то же время не мог не выполнить. К этой ситуации, по его словам, он возвращался мыслью не раз на протяжении своей жизни, и каждый раз воспоминание мучило его. «Как прикажете»… Хрупов поморщился: реплика подхалима, приказчика. «Да вот и он сам, «приказчик». автор словаря его не позабыл: «приказчик — наемный служащий». В памяти Хрупова всплыли слова, сказанные Беловежским на одном совещании: «Мы не служащие, выполняющие указания сверху. Мы с вами пайщики, люди, делающие общее дело и в равной степени заинтересованные в его конечном успехе». Николай Григорьевич усмехнулся, поставил словарь на место, вернулся к столу, пододвинул к себе приказ, вычеркнул в правом верхнему углу слово «проект» и рядом с напечатанной на машинке подписью: «Директор завода Беловежский Р. П.» поставил свою закорючку. Перед фамилией директора была сделана черточка, означавшая, что главный инженер в данном случае заменил Беловежского. В тот же день приказ был размножен и вывешен на общее обозрение. После этого к Хрупову один за другим стали подходить инженеры и пожимать ему руку. «Давно пора!» Еще несколько часов назад Хрупову представлялось, что, подписывая приказ, он чуть ли не совершает подвиг жертвенности, вызывая на себя огонь главка. А получилось, что он просто-таки взял и присвоил себе чужую славу — славу Беловежского. — Смелый ход, — сказал, встретив его в столовой, зам. директора Фадеичев. — А вы, оказывается, не так просты, как мне казалось. Хрупов, несколько выбитый из колеи неожиданными результатами своего поступка, ответил резко: — А вы, оказывается, не так догадливы, как мне казалось, Фадеичев! Вечно подозреваете людей в «ходах», которые им и не снились. Фадеичев осуждающе потряс головой, отчего толстые щеки, его заколыхались. «Теперь он все сделает, чтобы представить Беловежскому мой поступок в неверном свете. Впрочем, тот же сам меня подначивал: «Подпишите, если такой храбрый!» Вот я и подписал». Вернувшийся из командировки Роман Петрович, узнав от Хрупова, что приказ им подписан, почесал переносицу, подумал и сказал: — Знаете, а может, это и к лучшему, что приказ подписали именно вы… Он не пояснил, в чем это самое «лучшее» заключается и для кого именно будет лучше, поэтому фраза прозвучала довольно загадочно. Прошло две недели. Хрупов шел по коридору заводоуправления к своему кабинету, когда его остановила секретарь директора Людмила Павловна. Высокомерная по отношению ко всем остальным, с членами руководства она была необыкновенно вежлива и тактична. С Хруповым — тоже, он ведь принадлежит к этому самому руководству… Пока, во всяком случае. — Вот взгляните, Николай Григорьевич. Беловежский еще не видел. Вы первый. Людмила Павловна была некрасива. Маленькая, как у змеи, голова, выступающие вперед губы, необыкновенная худоба. Но умный блеск огромных глаз, к тому же еще увеличенных линзами очков, тщательность в подборе одежды и украшений, выверенность движений и модуляций голоса заставляли забыть о ее непривлекательности. Она была значительной и претендовала на внимание. Хрупов, сам того не желая, почтительно склонился к ее узкому плечу, ощутил тонкий запах французских духов, подумал: «Диор?» — и пробежал глазами телеграмму. Это был лаконичный, но громкий, как удар хлыста, вызов на коллегию министерства, адресованный сразу двоим — директору Беловежскому и главному инженеру Хрупову. Под телеграммой стояла подпись и. о. начальника главка Трушина. От наклеенных на желтоватый бланк отрывков серовато-шершавой телеграфной ленты веяло плохо скрытой неприязнью и даже злорадством. Хрупов знал, что этот вредный старикан Трушин, ходивший в друзьях у прежнего директора Громобоева, по какой-то одному ему известной причине ополчился против нового руководителя привольского завода. — Когда? Во вторник? Хорошо. Спасибо. Он, конечно, сразу догадался, что означает приглашение на коллегию и чем оно им обоим, ему и Беловежскому, грозит. А может быть, кому-то одному из них. Все дело в этом приказе, подписанном здесь, на заводе, без предварительного согласования с министерством. Внезапно содеянное им предстало перед глазами Хрупова в новом, довольно-таки мрачном свете. Приказ — распоряжение того, кто облечен властью… Приказ директора. Он, Хрупов, не был директором, он лишь замещал его в те несколько дней, когда Беловежский находился в командировке. Халиф на час. Приказчик, допустивший самоуправство, когда хозяина не было в лавке. Вполне возможно, что его поступок будет истолкован на коллегии министерства именно таким образом. В ушах Хрупова прозвучала двусмысленная фраза Беловежского: «Может, это и к лучшему, что приказ подписали именно вы…» Что он хотел этим сказать? Хрупов круто повернулся и направился к кабинету директора. Надо немедленно объясниться! Вслед ему прошелестел голос секретарши: — Вы к Роману Петровичу? Его нет. Выехал ночью. У него несчастье. Умер кто-то из родственников. У Хрупова в голове тяжело ворочалась глупая фраза из словаря: «Приказал долго жить». Он отнес ее не к родственнику Беловежского, а к себе самому.ЛЕВЫЕ РЕЙСЫ
Игорь вышел из кабинета директора оглушенный. Только что Беловежский сообщил: проведенная по его приказу проверка в гараже показала: ящики с запчастями для автомобилей, которые несколько месяцев назад совершили путешествие из Москвы в Привольск (сначала в подсобке вагона-ресторана, а потом в багажном отделении поезда), вовсе не испарились, как утверждал Коробов, а преспокойненько стоят в кладовке. — Как же так? — растерянно воскликнул Игорь. — Если запчасти есть, почему же мы все это время мучаемся? На свои деньги покупаем то тумблеры, то сальники, то прокладки. Почему все это не выдается? — А это уж я не знаю, — ответил директор. — Возможно, потому, что Лысенков рачительный хозяин и приобретает запчасти для действительно важных случаев, серьезных поломок, аварий… Кстати, что там произошло с моей «Волгой»? Я интересовался у Адриана Лукича, но он ответил что-то непонятное, намекал, что вам, Игорь, известно об этом больше, чем ему самому… Так в чем дело? Игорь отвел глаза в сторону. — Откуда мне знать, Роман Петрович? Я простой водитель… — Ну, а если вы простой водитель, то идите и работайте, а не заставляйте меня заниматься ненужными проверками. Игорь стоял как оплеванный. Выступать в роли добровольного фискала, чуть ли не клеветника — нет, это не по нему. Зачем же он тогда брякнул в свое время о несуществующих ящиках? Сказанул в сердцах, когда директор посетовал на то, что машину долго продержали на техосмотре. Мол, запчастей в гараж чуть не полвагона завезли, а их днем с огнем не найдешь. И вот, выходит, нашли ящики, днем и даже без огня. Как это могло случиться? Игорь собственными глазами видел пустые полки кладовки. Старик Макарычев однажды распахнул перед ним двери своей сокровищницы — на, смотри — хоть шаром покати. И вот теперь это сообщение директора. Игорь себя чувствовал препаршиво. А тут еще левые рейсы. Игорь ни за что на свете не согласился бы на предложение Лысенкова — отработать несуществующий долг, развозя в свободные дни отпускников по побережью на частной машине, если бы не настойчивый совет следователя. — Соглашайся, — сказал Толокно после минутного раздумья, во время которого сидел неподвижно, постукивая карандашом о поверхность стола и упершись взглядом в облупленную дверцу сейфа, как будто пытался сквозь нее разглядеть то, что заключено там, внутри. — Мы давно хотим разобраться в том, что происходит на автовокзале. Поступают очень неприятные сигналы… Игорь хотел было сказать, что «неприятные сигналы» в данную минуту его мало интересуют, его больше волнует якобы совершенная им авария и не выплаченный долг, с которым он не знает, что делать. Но следователь, обладавший способностью предугадывать ход мыслей людей, если и не всех, то, во всяком случае, ход мыслей Игоря, сделал в воздухе движение карандашом, словно перечеркивал невидимую запись, и сказал: — И авария, и долг пусть тебя пока не волнуют. Я этим займусь… — А деньги? — Какие деньги? — не понял на этот раз следователь. — Ну те, которые я буду зарабатывать левыми рейсами. — Деньги отдавай тому, кого укажут. Только веди учет, сколько и кому дал. Это пригодится. Там, в кабинете Толокно, к которому Игорь в последнее время почувствовал необыкновенное доверие, все казалось простым и ясным. А вот сейчас, после разговора с директором, ясность и простота куда-то делись, сердце давила тяжелая забота. А ну, как Роман Петрович прознает про левые рейсы? Может быть, Лысенков все это и затеял именно для того, чтобы скомпрометировать Игоря в глазах директора и тем самым оградить себя от новых обвинений? Защитит ли Игоря в этом случае следователь Толокно? Или скажет: сам кашу заварил, сам и расхлебывай?___
И вот начались левые рейсы… Задача Игоря Коробова заключалась в том, чтобы по вечерам, после работы в субботние и воскресные дни, а также в дни отгулов на ярко-голубом «Москвиче», принадлежавшем старому знакомому, буфетчику вагона-ресторана Автандилу Шалвовичу, развозить тех, кто по каким-то причинам не мог или не хотел добраться до места назначения автобусом, поездом или самолетом. Военнослужащие, прибывшие в отпуск и дорожившие каждым днем, родственники, спешащие на похороны, люди, возвращавшиеся с работы в районах Севера или Дальнего Востока, моряки дальнего плавания, отдыхающие с путевками, которых ждали в домах отдыха и санаториях, и «дикие», которых никто не ждал. Ну и разный прочий люд. Игорь оставил машину возле киоска «Мороженое», расположенного метрах в пятидесяти от автовокзала. Машина должна находиться под рукой и в то же время не торчать на виду, не мозолить глаза. Он поднялся по каменным ступеням и вступил под своды здания с огромной вывеской «Автовокзал». Хриплые выкрики диспетчеров, объявлявших время отправления рейсов, голоса пассажиров, плач детей, отражаясь от бетонных сводов, многократно усиливались, образуя плотный, упругий, больно бьющий по ушам шум. Народу, как всегда в летнее время, было много, но Игорь без труда отыскал Толстого Жору, который по-хозяйски расхаживал по вокзалу с черной клеенчатой записной книжкой в руке. Толстый Жора был подпольным диспетчером. Говорили, что когда-то он матросом плавал на сухогрузе к дальним странам, вел шикарную жизнь. Сейчас от той жизни у Толстого Жоры только и осталось что белая фуражка с крабом да тельняшка, туго обтягивающая объемистый живот. По красному носу и слезящимся глазкам было видно, что Жора пьет. Однако в «рабочее» время, на автовокзале, никто пьяным его не видел. Нетрудно было догадаться, что Толстый Жора — человек несамостоятельный, «шестерка», что он работает на «хозяина». Но кто «хозяин», неизвестно. — А-а, Цыган? На «Москвиче»? Сейчас… Есть семья. До Лазаревки. Иди в машину. Сейчас подойдут. Вскоре к машине приблизились двое. Мать, толстая крашеная блондинка, договариваясь с Игорем, томно заводила глаза, видимо полагая, что таким образом добьется от водителя более льготных условий. Сын-подросток с худым и нервным лицом стыдился матери и злился на нее. Он дергал мать за руку, приговаривая: «Ну, мам, ну, мам, перестань… Сколько надо, столько заплатим. Попросим у отчима и заплатим». — Сколько раз я тебе говорила, не называй его отчимом. Он сердится. Зови его папой. Что тебе, трудно? Игорь отъехал от автовокзала. На заднем сиденье мать втолковывала сыну: — Слушай, Коля. Если Аверкий Сидорович спросит, с кем мы проводили время, ты отвечай: «Вдвоем с мамой. Много купались, загорали, рано ложились спать». Про Погорелова ни слова. Слышишь? — А что, Погорелов тоже там будет? А зачем? — Молчи! Не твое дело! Сын уткнулся в стекло, где, освещенные слабым вечерним светом, пробегали мимо одноэтажные дома, сараи, сады, огороды… — Товарищ водитель, — кокетливым голосом произнесла женщина. — Вы бы не могли нам по ходу движения рассказать о здешних местах? «За те же деньги хочет получить и гида», — подумал Игорь, ответил: — Извините, но я нездешний. Самому бы кто рассказал. Женщина замолчала. Он был рад этому: она ему была неприятна. В Лазаревке он довольно быстро отыскал пассажиров для обратного рейса. В «Москвиче» разместились инвалид с протезом, жена и дочка. Дочка все время хныкала. Она плохо переносила дорогу, ее подташнивало. Инвалид, виновато косясь на Игоря, несколько раз обращался к нему с просьбой остановиться. Из машины он выбирался так, как парашютист из самолета во время первого своего прыжка — руками цеплялся что есть силы за окантовку двери, а потом, решившись, выбрасывал вперед обе ноги. Игорь догадался, что у него не один протез, а два. Сообразив, подбежал к открытой дверце, помог пассажиру вылезти наружу. Он смотрел на болезненно-бледную хилую девочку, на ее мать, физически крепкую, но павшую духом от возни с калекой-мужем и больной дочерью, на главу семьи, стеснявшегося всех — несчастной жены, дочери, которая скоро должна понять, что отец у нее не такой, как все, инвалид, и Игоря, терявшего время, а следовательно, и деньги из-за частых остановок. Игорь достал из машины стакан, подошел к придорожному роднику, набрал воды и протянул девочке. — Сырая? — испуганно спросила мать. — А то какая же… Кипяченая, что ли? — испытывая перед Игорем неловкость за глупый вопрос жены, оборвал ее инвалид. Девочка схватила обеими руками стакан и стала жадно пить. Вода текла на платьице, белое, с нашитым на подол вислоухим зайчиком. Когда пришло время расплачиваться, инвалид подошел к жене, и они о чем-то горячо зашептались. Игорь, конечно, сразу смекнул: обсуждали, какую сумму заплатить шоферу. Собственно говоря, сумма была оговорена заранее — и немалая. — Я говорила, на автобусе надо было ехать! — жена повысила голос. — Но ведь Аня не может… Ее тошнит. — Ее и тут тошнило всю дорогу, — зло выкрикнула жена. — Только зря деньги псу под хвост выбросили. — Тише! Молчи! Неудобно! — Это перед кем неудобно-то? Перед этими жуликами? Инвалид вырвал из рук жены тряпицу с завернутыми в нее деньгами и заковылял к Игорю. Подошел, не смея поднять глаз. Игорь спросил: — Москвич? — Точно, — ответил инвалид. Он с благодарностью поглядел на Игоря, сделавшего вид, что не расслышал выкриков жены. — Ничего. Отдохнули, набрались здоровья. Теперь полегче будет. И дочке тоже. — Спасибо, — тихо сказал инвалид. Развернул тряпицу, отсчитал несколько десяток. Подумал. Добавил к ним еще одну. — Это зачем? — Ну как же… Вы пять раз останавливались, теряли время. Разве я не понимаю? Больше бы дал, да… Игорь вернул инвалиду три десятки. — Все. Больше не надо. Он быстро сел в машину и уехал. В зеркальце увидел: инвалид стоит у дороги, смотрит ему вслед, а в руке его полощется развернутая тряпица, словно белый флаг, выброшенный в знак перемирия в той многолетней битве, которую он вел со сварливой женой. Как Игорь и ожидал, Толстый Жора, выслушав его рассказ о несчастном инвалиде, не растрогался. Равнодушно цапнул деньги, протянутые водителем, процедил: — Значит, для себя впустую съездил… Ну и дурак. Однако Игоря вопрос о деньгах сейчас не занимал. Несколько минут назад, подъезжая в сгустившейся вечерней темноте к автовокзалу, он заметил юркнувшую в переулок бежевую «Волгу», до отказа набитую пассажирами. У окна дергался под порывами ветра фиолетовый эллипс воздушного шарика… Однако не воздушный шар привлек внимание Игоря. Ему показалось, что «Волга» заводская. За те несколько дней, что он разъезжал на голубом «Москвиче», Игорю не приходилось встречать у автовокзала заводских машин. Может быть, потому, что он работал в выходные, днем? Сегодняшнее вечернее дежурство было в его практике первым. Действительно ли свернувшая в переулок машина была заводская? И кто сидел за рулем? Игорю вспомнилось его первое появление в городе Привольске. На городском вокзале директорской «Волги» не было. Беловежский был этим недоволен. Прибывший тем же поездом Лысенков выглядел смущенным и злым. Где тогда была директорская «Волга»? Может быть, набитая «левыми» пассажирами, бежала по прибрежному шоссе, направляясь в уютное курортное местечко? Ясно, что кто-то в отсутствие Игоря совершил на его машине аварию. А расплачиваться за это приходится теперь ему. Не исключено, что увиденная им бежевая «Волга» и впрямь окажется заводской, а за рулем кто-то из своих, например, Заплатов. Тогда ключ к загадке в его руках. Если заводские машины используются для подобных рейсов, то кто может поручиться, что и его «Волгу» не постигла та же самая участь? Конечно, это предположение нуждается в тщательной проверке. Но как это сделать? Игорь небрежно спросил Толстого Жору: — Ты Заплатова не видал? — А на что он тебе? — Он просил обменять мелкие деньги на крупные купюры. У меня как раз есть. — Покажь. Игорь мысленно похвалил себя за то, что не придумал про крупную купюру, она у него действительно имелась. — На, бери… — Сколько всего? Когда Игорь назвал сумму, Толстый Жора немедленно занес ее в клеенчатую книжицу. Игорь не сводил с книжицы глаз. Понимал: интересующие его сведения хранятся именно там. Как добраться до этой книжицы? Добровольно Толстый Жора ее перед ним не откроет. — Жора, — сказал он, — мне нужна твоя помощь. Тот оторвался от книжицы. — Это какая еще помощь? — Ты тут хозяин, все ходы и выходы знаешь. А я будто в темном лесу. Может, поучишь уму-разуму? Заявляя Толстому Жоре, что он «как в темном лесу», Игорь не очень-то кривил душой. На «Автовокзале» действовала сложная система, разобраться в которой новичку совсем нелегко. Водители частных машин делились на «козырных», или «королей», и «лишних». Первые имели связи, вес и авторитет. Вторые — подбирали тех пассажиров, от которых отказались «козырные», и радовались, что их допустили к доходному промыслу. Конкуренции между первыми и вторыми не было, да и быть не могло. Стоило кому-то из «лишних» покуситься на большее, нежели крошки от «барского» стола, как их тотчас же наказывали. Для начала прокалывали шины. Если упрямец не поддавался, его «спаливали», то есть анонимным звонком сообщали работникам ГАИ, кто, куда и за какую сумму подрядился везти пассажиров. «Лишнуху», естественно, тотчас же останавливали на контрольном пункте и лишали водительских прав. Если и это не помогало, применяли более решительные меры — выводили из строя машину. — Правила у вас тут строгие, — сказал Игорь, — боюсь нарушить. Кому охота лишаться прав? — Да уж, с ГАИ лучше не связываться. — Толстый Жора посмотрел на Игоря изучающим взглядом. — Так и быть, поучу тебя. Тем более что меня об этом просили. — Кто? — Один человек. — Встретимся в «Антее», — предложил Игорь. Толстый Жора вскинулся, как боевой конь при звуке трубы. — В «Антее»? А когда? — В конце недели. Я скажу… — Лады.___
В гараже Игорь остановился у стенгазеты. Его привлекло название первой статьи «Враг капитала». Под ней стояла подпись кладовщика Макарычева. Он припомнил: «Враг капитала» — так назывался броневик, в восстановлении которого в дни своей молодости довелось участвовать Макарычеву. Слова эти, вынесенные в заголовок, звучали многозначительно. Разве перевелись у нас любители наживы, умножатели своего собственного капитала? Вынужденные «левые рейсы» настроили Игоря на агрессивный лад. Что касается автора заметки, то его настоящее как бы вовсе не интересовало. Только прошлое. Рядом с заметкой Макарычева была помещена заметка самого Игоря. Передавая ее редактору стенгазеты Диме, он честно предупредил приятеля: смотри, не попало бы тебе. Лысенков будет недоволен. Игорь писал о непорядках в гараже, о том, как улучшить работу, ставил в пример московский таксопарк, где раньше работал. Дима прочитал. По его красивому лицу прошла судорога. «А что, все правильно, — сказал он. — Сколько можно терпеть? Обязательно поместим». Игорь был приятно удивлен. Обычно нерешительный, Дима, кажется, обрел способность к действию. А ведь еще год назад он, Игорь, сам был склонен принимать жизнь такой, какая она есть. Как ни подталкивал его к откровенному выступлению на собрании в таксопарке новый симпатичный начальник колонны, он так и не решился взять слово. Сидел тогда и молчал, целиком погрузившись в свои переживания, — его отношения с Юлькой, мучительные и сложные, понятные только им двоим, неожиданно стали тогда темой для разговора на производственном собрании в таксопарке. Лишь совсем недавно уже здесь, в Привольске, в нем появилась потребность активно выступать на стороне добра и противоборствовать злу. Отчего это произошло, он не понимал. От человека часто бывают скрыты пружины его собственных действий и поступков. Игорь направился к боксу, в котором стояла машина. На дороге ему попалась диспетчер Клава. Вполне возможно, что это произошло не случайно. Клава симпатизировала Игорю, разговаривала с ним не грубо, как с другими шоферами, а ласково, умильно глядя ему в лицо не потерявшими еще яркой голубизны глазами. Сейчас Клаву мучили угрызения совести. Она, сама того не желая, выдала нравившегося ей парня Лысенкову, сказав, что Коробов проявлял интерес к тому, ездил ли завгар в подшефный колхоз Соленые Ключи? Судя по тому, как Адриан Лукич прореагировал на эту информацию — гневно сверкнув глазами и пристукнув огромным костистым кулачищем по мутному плексигласу, покрывавшему стол, она поняла — не надо было выдавать Коробова. И теперь ей не терпелось загладить свою вину. — Что-то пригорюнился, Игорек… Случилось что? — в ее голосе звучали участливые нотки. — Увлекся стенгазетой… Оглянувшись, Клава близко подступила к Игорю и взяла его за руку. — Вы такое понаписали, Игорь! Адриан Лукич, часом, не рассердится? Она никак не могла решить — рассказать Игорю о своем разговоре с завгаром или нет. Поразмыслив, пришла к выводу — о разговоре не упоминать, а то, не ровен час, Игорь на нее же и рассердится за болтливость. Она потянула руку Игоря на себя, приблизилась, жарко зашептала: — Вот вы Солеными Ключами интересовались… На днях Адриан Лукич гонял туда Макарычева. А зачем — не знаю. Вроде бы никаких делов у нас там нет. Если бы были, я бы знала. — Спасибо, Клава, за информацию, — сказал Игорь. И изменил свой маршрут, направился не в бокс, а к кладовке. Макарычев сидел у металлических дверей кладовки, выставив в вырезанный квадрат голову с седым венчиком волос. Подойдя поближе, Игорь увидел, что Макарычев с увлечением что-то читает. Увидев Игоря, он закрыл книгу. На обложке было написано «Блокадная книга». Душою Макарычев находился не здесь, в Привольске, в тесной кладовке заводского гаража, а в городе на Неве, в звонкой и чистой своей молодости. — Только что прочитал «Враг капитала». Лицо Макарычева осветилось радостью. — Да, надо время от времени напоминать молодежи… Вы заходите. Надпись «Посторонним вход запрещен» к вам не относится. Игорь последовал приглашению. Внимательно оглядел стеллажи. — А где же ящики с запчастями? Что-то я их не вижу. Макарычев смутился. — Ящики? Да зачем нам ящики… Мы их выбросили. А детали разложили по ячейкам. — Что-то не видно прибавления. — А мы их раздали, — Макарычев произносил слова с затруднением, будто читал по бумажке или вспоминал сказанное ему кем-то другим. Игорь перевел разговор на другую тему. — Вас война в Ленинграде застала? Макарычев кивнул. — Многие шоферы и ремонтники во главе с директором автобазы отправились на фронт, защищать город. Мне, в числе других, было приказано остаться. Не знаю, чья судьба тяжелее — тех, кто ушел, или тех, кто остался. Мерзли, падали от голода, погибали под артобстрелами и бомбежкой. Но руль держали крепко, не выпускали из рук… — Это вы хорошо сказали: «Руль держали крепко, не выпускали из рук». А почему сейчас-то выпустили? Вырвавшийся у Игоря вопрос застал Макарычева врасплох. Тщедушная его фигура выпрямилась, будто внутри сработала пружина. Подчиняясь силе, которая в это мгновение находилась словно бы вне его и руководила словами и поступками со стороны, Игорь жестко сказал: — Не обижайтесь на меня, скажу, что думаю. Все говорят, раньше вы были другим. За обиженного вставали горой, правду-матку резали в глаза. Лысенков и тот вас боялся. И вдруг… Какой же вы теперь враг капитала? Игорь взглянул на Макарычева и испугался. Тот был белее недавно выбеленной стены коридора. Бледные губы шевелились, но членораздельные звуки не слетали с них, только невнятный клекот слышался. Навалившись локтями на стол, Макарычев закрыл лицо ладонями. Игорь наклонился к нему. Догадка, только что озарившая его ум, показалась настолько верной, что он высказал ее Макарычеву без каких-либо сомнений, с полной убежденностью в том, что так все и было: — Я вам скажу, как всепроизошло. В один прекрасный день вам в кладовку, на сохранение, были помещены ценные вещи. А ночью они пропали. Ответственность за пропажу возложили на вас. Вам грозила выплата большой суммы, какой вы не смогли бы собрать до конца жизни. Вы были в отчаянии. И тогда вам намекнули, что дело можно как-то уладить, все, мол, зависит от вас. От того, как вы будете себя вести. А взбунтуетесь, с позором выгонят. Так? Пальцы, загораживающие лицо Макарычева, раздвинулись, как прутья решетки, и на Игоря с ужасом глянули полные слез глаза: — Откуда вы все это знаете? — Вы же боевой человек. Вам стыдно раскисать. Возьмите себя в руки. Знаете что? Вечером я зайду к вам домой, если не возражаете. И мы спокойно все обсудим. Откуда я все это знаю? Нетрудно было догадаться. Нечто вроде этого произошло и со мной самим. — С вами?! — Да, со мной. Но оставим разговор до вечера. Договорились? …Они сидели под развесистой яблоней во дворе маленького домика. Могучие ветви дерева были обильно усыпаны яблоками. Хотя вечер был теплый, Макарычев зябко кутался в меховую безрукавку. Его била дрожь. Лицо синюшно-бледное, под глазами темные круги. Игорь не смел осыпать и без того расстроенного Макарычева упреками, а просто рассказал свою историю. Макарычев слушал, низко склонив голову. С его бескровных губ слетало: — Подлец… Какой подлец! — Скажите, зачем Лысенков посылал вас в деревню Соленые Ключи? Мне нужно знать. Макарычев рассказал. Неделю назад его пригласил завгар и дал поручение. Взять машину, съездить в деревню и постараться собрать сведения о судьбе одного мальчишки, подорвавшегося на мине в тех местах в 1942 году. Макарычев приказание исполнил. Однако привезенные им сведения были скудные. Мальчишку двое наших солдат взяли с собой в разведку проводником. Назад он не вернулся. Трупа его тоже никто не обнаружил. Пропал, как в воду канул. Родственники (дальние, потому что близких у него не имелось, парень был сиротой) считали его погибшим. — А фамилию мальца Лысенков вам назвал? — Нет. Только имя. Тимоша. — Фамилию вы узнали на месте? — Да. Ерофеев. Тимофей. У них там полдеревни Ерофеевы. Игорь посидел молча, переваривая услышанное. Какой вывод можно сделать из рассказа Макарычева? Только один. Лысенков интересуется судьбой паренька, которого, видимо, считал погибшим. Какие у него появились основания полагать, что Тимоша жив? Неясно. Зачем он его разыскивает? Почему эти розыски начались именно сейчас, спустя четыре десятилетия после войны? Тоже неизвестно. — Ну хорошо… А что произошло с запчастями, которых сначала не было, потом появились, а потом снова пропали? Макарычев покорно ответил: — Ящики с запчастями появились вскоре после того, как ими заинтересовался директор. Он даже прислал комиссию проверить — на месте ли они. Вот тогда-то их и привезли. На «Москвиче» доставил какой-то кавказец. — Кавказца зовут Автандил, а «Москвич» голубой? Макарычев поглядел на Игоря чуть ли не с суеверным ужасом. — Вам и это известно? Точно. — Ну а куда они делись потом? — По заданию Лысенкова я их оприходовал. После чего они исчезли. Прихожу, а их нет. Я к Лысенкову. А он говорит: «Если не хочешь, чтобы их тоже на тебя повесили, постарайся списать. Израсходовали, мол, и все». — Понятно. Ну, я пойду… В сгустившихся сумерках тщедушный Макарычев выглядел как бесплотное привидение. Игорь пошел к калитке. За спиной услышал учащенное дыхание нагонявшего его кладовщика. Он схватил Игоря за руку. Произнес горячечным, спотыкающимся голосом: — Лысенков — подлец! А я… Сейчас не понимаю, как мог? Поддался на провокацию… Испугался пустой угрозы. Вы открыли мне глаза. Спасибо. Я бы уничтожил Лысенкова, если бы мог… Не могу. Но молчать больше не буду.___
Ресторан «Антей», куда Игорь пригласил на ужин Толстого Жору, подпольного диспетчера автовокзала, в те времена был главным злачным местом Привольска. В дверях ресторана его встретил бородатый старик в мундире с золотыми галунами. «Местов нет!» — возвестил он. Игорь сунул ему трешку и был пропущен в чрево «Антея». — Вы к Варьке обратитесь, черная такая, субтильная. Скажите, Захарыч просил. Она усодит, — отрабатывая трешку, доброжелательно напутствовал Игоря швейцар. В зале гремела бодрящая музыка. Танцующие с поразительным единодушием выполняли одновременные «па» — то взмахивали руками, то приседали. Было такое впечатление, что все эти люди день за днем проводят в этом зале, вдыхают ароматы кухни, духов и неустанно тренируются. Игорь с беспокойством огляделся вокруг: свободных столиков не было. Однако ему не пришлось разыскивать «субтильную» официантку, вчитываться в меню и заказывать ужин. Все уже было сделано без него. Игорь тотчас нашел Жору глазами. Странно было видеть его без привычной белой морской фуражки с крабом. Зато тельняшка была на месте, выглядывала из распахнутого ворота рубахи. — Коробов, сюда! — Могучий голос Толстого Жоры перекрыл ресторанный шум, как обычно перекрывал гомон сотен голосов в бетонной коробке автовокзала. Жора сидел за столом не один. Кроме него было еще двое — старый знакомый Игоря, владелец голубого «Москвича», на котором он совершал левые рейсы, Автандил, и неказистого вида мужичок в очках. Игорь присоединился к компании, с опаской покосился на заставленный батареей бутылок стол, на стеклянные миски черной икры, на эллипсовидные «рыбные» блюда с разворошенными масляно-розовыми ломтиками лососины. Зеленой горкой была набросана травка — петрушка, тархун, соблазнительный аромат распространяла клубника, щедро высыпанная в глубокую тарелку. В вазе лежали фрукты. Апельсины, яблоки, гранаты были необычно крупного размера, как будто зрели не на грешной земле, а в садах Эдема. Игорь, прихвативший с собой для ужина с Жорой полсотни рублей, поежился: его денег явно не хватит, чтобы оплатить этот стол. Была и другая причина для огорчения: присутствие посторонних явно помешает выведать у Жоры нужные сведения. Однако делать нечего, уселся за стол, пододвинул фужер, который Автандил тут же доверху наполнил марочным коньяком. — Гостя посылает бог! Прошу: отведай всего, не наступай ногой на наше гостеприимство. Еще раз за здоровье твоего начальника дорогого Адриана Лукича! «Значит, они уже пили за здоровье Лысенкова. С чего это вдруг?» — подумал Игорь. — Человек большого ума, — отозвался незнакомец в очках. У него было узкое и темное лицо, как у хорька. Он казался хилым, нездоровым, однако рюмку опорожнил до дна. — Вы с ним скоро встретитесь, — проговорил Автандил, как будто обещал гостю нечто такое, чего тот жаждал всей душой. Хорек наклонил голову, выказывая свое удовлетворение предстоящим событием. Жора пил молча. Снова грянула музыка, и разговор поневоле прекратился. Автандил орлиным взором окинул ресторан. С неожиданной легкостью вскочил, шагнул к соседнему столу. Там сидел круглолицый молоденький лейтенант с девушкой в платье из зеленой тафты. Нетвердо ступая, Автандил подошел к лейтенанту: — Разрешите пригласить вашу даму, дорогой. Лейтенант нахмурился, но кивнул. Однако девушка решительно отказалась танцевать с Автандилом. — Я не могу танцевать… У меня голова болит. Автандил опешил. Вступив в соглашение с лейтенантом, он не ждал отказа от женщины. — Зачем так говоришь? Я видел, как ты танцевал, — от волнения он стал коверкать слова. — Голова не болела, а сейчас болит? — Я же вам русским языком сказала… Неужели непонятно? У меня голова болит. — Если болит, лечить надо, — сердито сказал Автандил. — Хочешь, деньги на лекарства дам? Сколько надо? — Ах, оставьте меня, не надо мне ваших денег! — То есть как, деньги не надо? Всем надо, тебе не надо? Серьги у тебя из пластмассы. Это красиво, да? Девушка покраснела. Машинально потрогала красные пластмассовые розочки в ушах и нахмурилась. — А бриллиантовые розочки не хочешь? — Ну, Паша… Чего он пристал? Паша встал и подошел к Автандилу. Он был ниже ростом, но разворот плеч, крепкая шея произвели на кавказца впечатление. — Не хочет — не надо, — сказал он. Лейтенант взял девушку за руку и пошел с нею танцевать. Разъяренный Автандил Шалвович вернулся к столу. — Как так можно? Говорит: голова болит, не могу танцевать. А потом идет танцевать? Что, голова прошла? Может так быстро пройти? — Может, может. Успокойся, — сказал Толстый Жора. — Коли впрямь охота танцевать, ты вон ту пригласи. Это Клавка. Она пойдет танцевать. Автандил тотчас же бросился в указанном направлении. Жора поглядел ему вслед: — Вот кому завидую… Легко живет. Пьет, гуляет. Завтракает в Москве, обедает в Ленинграде, ужинает в Тбилиси. Думаете, про бриллиантовые розочки он просто так сказал? Для куража? Если девица понравится, вмиг отвалит. Вот это жизнь! Мужчина в очках, которого Игорь про себя назвал «хорек», подцепил вилкой ломтик лососины, отправил его в рот, тщательно прожевал, после чего ответил: — Нет. Что нажил, то и прожил — это не мой стиль. Мне больше по вкусу, как живет Адриан Лукич… Толстый Жора метнул испуганный взгляд в сторону Игоря. Парень не относится к числу доверенных людей, откровенничать при нем не стоит. Но Жора не нашелся, как остановить гостя, вместо этого налил себе коньяка и залпом выпил. — Я уважаю Автандила Шалвовича. Человек широкой души. Живет с размахом… Но зачем гулять при всех, дразнить людей? Так недолго накликать беду на свою голову. Вот Адриан Лукич — это человек! Какой мозг! Он делает деньги из воздуха. Но знает им цену. На ветер не бросает. Ему достаточно сознания, что он может все. Понимаете, может! Лично я завидую только ему. — Вы что, к нему на выучку приехали? — спросил Игорь. Его поддержал Жора: — На семинар! — воскликнул он и пьяно захохотал. «Хорек» обиделся, поджал губы. — Я, между прочим, у себя дома тоже кое-что представляю. Мы с Адрианом Лукичом полноправные партнеры. Я учусь у него, а он у меня. Сейчас мы с ним затеваем дело, которое… впрочем, это не важно. Давайте лучше выпьем. — Вот вы сказали, что Лысенков делает деньги из воздуха. Как это? Я вот целыми днями ломаюсь на автовокзале, можно сказать, здоровье на это положил, ежечасно рискую. А палат каменных не нажил. «Хорек» посмотрел на Жору с усмешкой: — Олимп — это гора. На ее вершине места мало, только для богов. А простым смертным путь туда заказан. По высокомерному тону «хорька» нетрудно было догадаться, что себя-то он причисляет к числу богов, обладающих властью «делать деньги из воздуха». Толстый Жора тяжелым мрачным взглядом глядел на гостя. Напряжение разрядило появление Автандила. Он был возбужден и весел. Его лицо блестело от пота. — Звонил хозяину. Он ждет. Пора идти. Жаль. Клава очень хорошая женщина. Просила остаться. Умная. Красавица. — Это Клавка-то красавица? — захохотал Жора. Оглянувшись на соседний столик, где, сблизившись головами, рядком сидели лейтенант и его девушка, Автандил громко произнес: — Да. Красавица! Я ей денег дал. Мы пошли. Пейте, гуляйте, дорогие. За все заплачено. Толстый Жора и Игорь остались одни. — Выпьем, что ли? Раз подфартило, — хмуро произнес Жора. Невеселые мысли, навеянные разговором с «хорьком», не оставили его. — Вот так и получается… — сказал он. — Одни вкалывают, а другие их руками жар загребают. Они боги, а мы все шестерки. И я, и Заплатка, и прочие. Игорю хотелось вызвать Толстого Жору на новые откровения. Он решил подбросить в затухающий костер беседы горючего материала. — Знаешь, Жора, — сказал он. — Мне не дает покоя одна история. Садится тут ко мне в машину главный инженер Хрупов со своей знакомой. Гляжу, а у нее на пальце золотое кольцо с аметистом. Батюшки мои! То самое, что недавно утянули с подоконника у директорской жены. «Откуда?» — спрашиваю. А она отвечает: «Купила на толкучке». Заплатка играет в опасную игру. — А почем ты знаешь, что кольцо Заплатка продал? — Кто же еще? У нас весь гараж знает, что год назад он в машине кольцо с камнем нашел. А ведь если он сгорит, то и другим не поздоровится. — Ты это о ком, о другом-то? Игорь выдержал пристальный, проникающий в душу взгляд Жоры. Ответил небрежно: — Будто сам не знаешь. Жора сжал толстые пальцы в кулак. — Ух Заплатов, ух падла. Жадюга. Ему баба сказала: не построишь дом, уйду. Он и старается. Стены поставил, а на крышу не хватает. Кинулся к хозяину, попробовал за горло взять. Да не вышло — руки коротки. — А кольцо-то он зачем продал? — Он божится, будто не виноват. Сплавил его родственнику в деревню, взял с него слово, что придержит… А тот не послушался, видно, самого прижало. Да только Заплатке все одно отвечать придется… — Как отвечать? Жора подозрительно взглянул на Игоря. Он уже корил себя за то, что разоткровенничался с парнем. — Много будешь знать — скоро состаришься. Игорь решил перевести разговор на другую тему. — А зачем этот тип в очках к нам прилетел, не знаешь? — Много будешь знать — скоро состаришься и умрешь, — мрачно пошутил Жора, но ответил: — Он там у себя овчинные шкурки заготавливает. А у нас шьют. Получается что-то вроде дубленок. — А к чему здесь, на юге, дубленки? — Чудак. Шьют на юге, а продают-то на севере. В который раз за этот вечер Игорь ощутил приступ ярости. Откуда их столько набралось, любителей незаконных махинаций и легких заработков? — Выпьешь, Игорь? — Вот ведь как получилось, хотел тебя отблагодарить, а выходит, ты меня угощаешь. Не знаю, как быть. — А ты мне полсотни дай, и баста, — спокойно произнес трезвым голосом Толстый Жора. Игорь протянул деньги. — Держи. Только выполни одну мою просьбу. Дай заглянуть в твою записную книжицу. Хочу посмотреть, сколько наездил. Толстый Жора взглянул на хрустящую в его руке новенькую ассигнацию и полез в карман за книжкой. Игорь, не выдавая своего нетерпения, небрежно взял ее, перелистал несколько страниц. И сравнительно быстро обнаружил то, что искал. Аккуратно сделанная бисерным Жориным почерком надпись гласила: «10.VII — ГАЗ-24 номерной знак РОФ 12-30, Одесса. З-ов». Сердце учащенно забилось. Итак, в тот день, когда он находился вместе с Беловежским в командировке, директорская машина мчалась по дороге из Привольска, держа курс на Одессу, за рулем сидел Заплатов, в салоне — левые пассажиры. Тогда-то, видимо, и произошла авария. Игорь перевернул еще несколько листков. И не поверил своим глазам. Снова замелькал знакомый номер РОФ 12-30. Машина отсутствовала три дня, а потом снова появилась у автовокзала. А ведь Лысенков утверждал, что она так разбита, будто нуждается в капитальном ремонте! Ресторанные звуки снова ударили по нервам. Картины всеобщего гульбища придвинулись и обрели реальность. Толстый Жора, задыхаясь от навалившейся духоты, рванул ворот, выставляя напоказ тельняшку, все, что у него осталось от давней, молодой и, быть может, честной тогда жизни моряка. В какой-то точке своего пути он избрал другое плавание — по взбаламученному морю прохиндейства. Лицо у Жоры лоснилось от пота, маслянистые глазки почти скрылись в веках, но голос прозвучал на удивление трезво: — Велено было сегодня тебя прямо отсюда доставить к хозяину. Для серьезного разговора. Да вот очкарик дорогу перебежал. Так что жди следующего раза и не унывай, паря… «Паря» и не думал унывать. Хорошо, что решающий разговор с Лысенковым откладывается. Пожалуй, минуту назад Игорь ошибся, сказав себе: все нити распутаны. Нет, еще не все. — Я, Жора, пойду?.. Ему не терпелось выйти на улицу и глотнуть свежего ветра, налетавшего по вечерам с моря на Привольск.НИЖНИЙ ВЕНЕЦ
Медея в развевающемся алом кимоно (на груди и спине золотом вышиты драконы) с широченными рукавами (у японок они служат карманами, куда можно складывать всякую всячину) скользит по сверкающему паркету директорского особняка, с гордостью осматривает плоды своих трудов. Беловежский строго-настрого предупредил жену: ремонт должен быть скромным. Подправить, подлатать, сделать только то, что необходимо. Заводской ОКС (отдел капитального строительства) не привлекать ни в коем случае, все работы вести с помощью городской конторы по ремонту квартир, с оформлением через сберкассу, чтобы на все имелись квитанции, подтверждающие уплату наличными. Только так. Сегодня Медея торжествует победу. Все сделано. В лучшем виде. Отциклеваны и покрыты импортным лаком полы, сменены двери, ручки индийские под бронзу, на стенах — финские и югославские обои, люстры из чешского хрусталя, мебель завезена тоже наимоднейшая — финско-югославская смесь, на кухне — ярко-красный — опять-таки чешский — гарнитур «Мария». Все хорошо, не стыдно гостей принять. Одна только неприятность: под террасой пол просел. Говорят, на заводе есть кудесник Михеич. Взглянет и тотчас определит, в чем дело. Медея, была не была, ослушалась мужа: позвонила в ОКС. Для очистки совести подчеркнула: только в нерабочее время и за деньги. В ОКСе ответили: — Конечно! Какие разговоры! На другой день появляется Михеич. Маленький, тщедушный мужичок. Нечесаный, небритый. С хмурым видом ходил по террасе, попрыгивая на упруго дышащей половице, наклонив голову, прислушивался. Потом спустился в сад с топором в руке. Подошел к стене, всунул серебристое, сильно отточенное лезвие между плотно прижатыми друг к другу, сверкающими свежим лаком досками «вагонки», нажал — послышался оглушительный треск ломаемого дерева. — А нельзя поосторожнее? — хмурится Медея. Но Михеич на нее — ноль внимания. Одна за другой отлетают и падают в пожухлую осеннюю траву желтые, словно медяные, рейки. Михеич опускается на колени и тычет топором в образовавшуюся щель, где будто в ране кровенеет кирпичная кладка, сереет гнилая плоть бревна. — Нижний венец… того… — бормочет Михеич. — Менять надо. Сгнил. — То есть как это сгнил? — А вот так… — плотник тычет заскорузлым пальцем с почерневшим ногтем в бревно, и оно расступается, пропускает внутрь себя человеческую плоть, словно та — железная… — Ну глянь, труха, — Михеич довольно смеется, вызывая у Медеи чувство паники. — Отчего это? — беспомощно шепчет она. Плотник объясняет: — Ну-ка глянь сюда. Сверху «вагонка», а под ею что? Деревянный сруб, бревна то есть… Четыре бревна — венец. Один на другом. Нижний венец оперся на фундамент. На кирпич то есть… Однако кирпич что? Он влагу любит. Так и жрет ее, так и жрет… А бревно что? Для нее влага хуже яда… Как напьется, загнивать начинает. Потому кладут рубероид, чтобы воду к дереву не пускать. Однако сгнил твой рубероид. Амба. Нет его. А след, и нижний венец погиб. — То есть как погиб? Что же, по-вашему выходит, в доме и жить нельзя? — Почему нельзя? Сколько-нибудь еще поживешь. Только недолго. — Господи! Что вы говорите? Как это недолго? Вы не пугайте меня, а скажите лучше, что делать. Я ведь только что ремонт закончила. Пять тысяч истратила. — Пять тысяч? — Михеич присвистнул. — Это ж надо! На такие деньги можно того… гулять и не работать. Медея начинает злиться на него. Как будто это по его вине сгнил нижний венец. — Вам бы только гулять! — гневно произносит она. — Как же это можно — жить и не работать? — Ты ж не работаешь, — дерзко отвечает Михеич. — Как это я не работаю? Да я вкалываю больше вас. От зари дотемна. Думаешь, легко одной такое хозяйство вести? Она указывает в сторону дома, который стоит, сверкая яркой краской крыши, блеском лакированных дощечек «вагонки», ладный и крепкий на вид. От резкого движения широкий красный рукав кимоно соскальзывает, обнажая белую гладкую руку с голубыми жилками, просвечивающими сквозь кожу. — Ишь, какая гладкая, — одобрительно говорит Михеич. — Видно, что на белых булках выросла да на сметане. Медеей овладевает смех. Он накатывает на нее волнами. Кажется, у нее сейчас начнется истерика. Плотника этот приступ веселья пугает. — Ну, будя, будя… Исделаем. Заменим тебе нижний венец. — Разве это возможно? — Мы все могем. Вытурим тебя и хозяина с дачи. Подымем дом и заведем нижний венец. — Господи! Чем же вы собираетесь дом поднимать? Домкратом, что ли? — Не… Домкрат, тот что у автомобиля, не выдюжит. Тут трехтонный надоть, а где его взять? Мы без домкрата обойдемся. Рычагом. Навалимся всей артелью и сделаем. А ты нас не обидишь, хозяйка. Ведь не обидишь? — Только сделайте! — вырывается у Медеи. Закусив губу крупными белыми резцами, она со страхом смотрит на дом. И ей кажется, что не жилое строение, а вся ее семейная жизнь находится под угрозой, того и гляди — осядет, даст трещину и повалится на сторону.___
Примаков не отходит от верстака. Из театра звонят в партком, требуют немедленно прибыть для читки пьесы на рабочую тему. Ему говорят, а он словно не слышит. Буркнет: «Пусть Шерстков пьесы слушает» — и снова за работу. Сам начальник цеха Ежов к Примакову пожаловал: — Чтобы был в театре в шестнадцать ноль-ноль! А Дмитрий Матвеевич и ухом не повел. Ежов хотел обругать упрямого слесаря, да поглядел на доску показателей, где фамилия Примакова вновь заняла привычную, первую строку, и промолчал. Нет у него, начальника цеха, такого права, чтобы рабочего из цеха гнать. Да и не он ли сам недавно не сдержался, попрекнул слесаря его многочисленными отлучками по общественным делам? Вот и получай, Ежов. Начальник цеха потоптался возле слесаря и ушел к себе. В обед — все в столовую, а Примаков опять-таки на своем рабочем месте. Сбегал куда-то, приволок тяжелую махину, установил на верстаке. Что-то пилит, вытачивает, прилаживает. Не дает ему покоя одна мыслишка. Надумал он соорудить шлифовальное приспособление для очистки торцов сегментов. Есть такая долгая и утомительная работа — опиловка торцов. Делать это приходится вручную, в тисках, обычным напильником. Из этих сегментов впоследствии надо собрать полное кольцо. Точность при шлифовке требуется ювелирная, стоит малость ошибиться — и все, пиши пропало, кольца не получится. Трудно сказать, что подвигло старого слесаря на этот труд. Может, пример Шерсткова? Пустой малый, а смотри-ка — придумал, как облегчить свою работу и норму перевыполнить. Однако Примаков даже себе в мыслях не признается, что его Шерстков «завел». Пришла в голову идея, и все тут. Действуй, Дмитрий Матвеевич, реализуй. Как мог, набросал схему, сбегал к технологам. Те, одобрив идею, превратили набросок в чертеж. Дмитрий Матвеевич на чертеж взглянул с уважением: вот это да! Неужто это он сам все придумал? Он тотчас же представил свой механизм в действии: шлифовальный круг займет место на роторе электродвигателя. Деталь до упора войдет в сменную часть приспособления. Стол вместе с деталью начнет перемещаться по основанию, и вот тут-то будет происходить шлифовка! Просто и эффективно, как сказал, вникнув в замысел Примакова, технолог. Производительность труда возрастет более чем вдвое, повысится качество пригонки, отпадет надобность в ручном труде. Но это все впереди. А пока что-то не сходится, где-то не получается, в общем, выходит не так, как задумано. Однако Дмитрию Матвеевичу упорства не занимать, взялся за гуж — не говори, что не дюж, руки в кровь сотрет, а своего добьется. …Примаков оглядывается — не видно ли Шерсткова. Работа Дмитрия Матвеевича над приспособлением не укрылась от его взгляда. Раздосадованный тем, что Примаков снова потеснил его на доске показателей, он не оставляет старого слесаря в покое. Подходит, смотрит из-за плеча, скалит зубы, отпускает шуточки: — Ты, Матвеич, никак, в рационализаторы податься решил? Не выйдет, дядя! Тут мозгой шевелить надо! Бригадир Бубнов не выдержал: — А ну-ка, дуй отсюда. Не мешай человеку работать. А то дам по шее. — Ишь, чего затеял! По шее. Это тебе, Бубнов, так не пройдет! Товарищи, слышали? Кто пойдет в свидетели? Никто не отозвался на крик Шерсткова. Рабочие были довольны, что Примаков снова оказался первым. Фронтовик, ветеран, а силенок еще хватает, чтобы выскочку на место поставить.___
Накануне отъезда в Москву на заседание коллегии министерства Беловежский получил телеграмму из родных мест. Распечатал, прочитал. — Роман Петрович! Что с вами?! — встревоженно воскликнула секретарь Людмила Павловна. Беловежский сидел в кресле желтовато-белый, как листок бумаги, который лежал перед ним, из-под сжатых, набухших и покрасневших век выкатилась слеза и поползла по щеке. Людмила Павловна где-то вдалеке звенела графином о край стакана, наливала воду. Он сделал глоток, вздохнул. — Спасибо… Вот… Я поверить не могу… Доставал лекарство для отца… А оказывается, мама… — Что поделаешь, Роман Петрович, крепитесь. Все там будем. Беловежского удивили простые бабьи слова, сказанные Людмилой Павловной, обычно неестественной и манерной. — Да, да… Дайте телеграмму в министерство. Сообщите: на коллегии быть не смогу. Поеду к матери. Он сказал «поеду к матери», хотя отец был жив, а матери уже не было. Он вылетел в тот же день. Отец поразил его. Роман Петрович ожидал увидеть пришибленного горем старика, утратившего вместе со своей спутницей цель жизни, смысл существования. Однако Петр Ипатьевич был хотя и печален, но энергичен, деловит. Весь в черном и от этого казавшийся еще более стройным и подтянутым, чем обычно, он быстро двигался по дому, негромким, но отчетливым голосом отдавал многочисленные распоряжения, неизбежные, когда в дом приходит смерть. Роману Петровичу отец показался отстраненным, чужим, надменно-властным. Он подумал: должно быть, таким — сухим и жестким — отец становился в те давние трудные дни на фронте. Тяжесть лежавшей на нем ответственности за успех дела и судьбы людей не соединяла его с этими людьми, а поднимала над ними, отгораживая от них непроницаемым заслоном. И сейчас, когда внезапно умерла его жена, он требовал от окружающих не сочувствия, не соучастия, а лишь беспрекословного послушания и исполнительности. — Это ты, сын? Горе-то какое… А еще говорят, что женщины живут дольше мужчин! Он притянул голову сына к себе. К Петру Ипатьевичу подошел молодой мужчина и доложил о покупке гроба. До ушей Беловежского донеслось: «Обтянут шелком… Покрывало с кружевами…» — Зачем шелк, кружева? — резко проговорил отец. — Кому это нужно? Покойница была скромной женщиной… У Романа Петровича заныло сердце. Слово «покойница», произнесенное отцом по отношению к матери, покоробило его. Похороны, поминки слились для Романа Петровича в одно сплошное мучительное действие. Все это время он пытался восстановить в памяти картины детства и отрочества, представить мать молодой, в расцвете сил, красоты, и телесной, и душевной. …Мама сидела на широкой выскобленной добела лавке под солнцем и накалывала вилочкой вишню для варенья. Солнце припекало. Она была в белом сарафане, отделанном кружевами. Ей было жарко. Выпятив нижнюю яркую и свежую, как вишня, губу, она дула вверх, чтобы сбросить со лба пушистую челку. Вишни из маминой руки падали в эмалированную миску. Вишневый сок стекал по тонким маминым пальцам. Потом Беловежский со стеснением в груди вспомнил другую картину. Мать, невысокая, хрупкая, фигурой похожая на девочку-подростка, дрожа — от холода или от только что пережитого ужаса? — стоит посреди комнаты, закрыв лицо руками, а с них стекают тонкие струйки крови. Она работала учительницей в школе рабочей молодежи тракторного завода. Уроки начинались и кончались поздно. Хулиганы встретили ее на Всполье, огромном темном пустыре, когда она возвращалась домой. Сняли шубейку, сорвали с шеи пуховый платок. Угрожали бритвой порезать лицо. Мать закрыла его руками, бандит чиркнул по пальцам. Прибежала домой. У нее началась истерика. А на другой день кто-то подкинул в сени поношенное материно пальтецо с каракулевым воротничком. Из кармана торчал пуховый платок. Слух, что ограбили и поранили учительницу, быстро облетел завод. Мать знали и любили — за кроткий нрав, за всегдашнюю готовность помочь ближнему и дальнему. Говорили, что это ее ученики отыскали участников ночного нападения и отняли у них добычу. После этого события еще долгое время учительница возвращалась домой в сопровождении почетного эскорта своих учеников. Мама была необыкновенной. Понимал ли он это, пока она была жива? Ей не было нужды раздумывать, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации. Она просто физически не могла совершить ложного шага, неправедного поступка. Потому что была нравственна изначально, по самой своей природе и сути. Он пытался сохранить в себе благоговейное чувство к матери во время похорон, но не получалось. Мешали грубые в своей осязаемости и в то же время нереальные детали похорон и поминок: ощущение больно врезавшегося в шею края гроба — неожиданно тяжелого, хотя лежавшая в нем выглядела бестелесно-хрупкой, усохшей; фальшивый сбой трубы в оркестре из трех человек, стук молотка о плохо поддававшийся под ударами гвоздь; слишком шумное, если не сказать — веселое, поведение приглашенных за поминальным столом; слезливая и бестактная жалоба отца, зажавшего в сухой и крепкой руке рюмку с водкой: «А кто же обо мне будет заботиться?» Всю ночь после похорон Романа Петровича мучили кошмары, они не имели ни образа, ни подобия, и их даже нельзя было бы припомнить и пересказать после пробуждения. К утру забылся, ему казалось: только-только прикрыл глаза, а отец уже трясет за плечо: — Вставай, сын. Пора! Петр Ипатьевич стоял у дивана, одетый в спортивный костюм. Заметив удивленный взгляд сына, сказал: — Если я утром не побегаю, то весь день как побитый… Голова тяжелая, и тело ломит. — Как твоя рука? — спросил Роман Петрович, вспомнив жалобы отца во время последней встречи. — А-а… Обошлось. Вычитал, что Пушкин для укрепления здоровья бродил по окрестностям Михайловского с тяжелой железной палкой в руке. Вот и завел себе такую. Врач узнал и говорит: а вы бросьте палку… И что ты думаешь? Боли как не бывало! Они вышли из дому и не бегом — от бега отец сегодня все-таки отказался, а тихим шагом спустились в сырой от прошедшего ночью дождя овраг, потом поднялись по крутому склону. И дальше — к стоявшей поодаль деревеньке. — Как же ты теперь будешь… один? Может, продашь дом и переберешься ко мне? — Да нет. Куда я отсюда? У меня дом, хозяйство. Я тут договорился с одной женщиной. Медсестрой. Обещала помочь. Не бесплатно, конечно. — Денег я тебе буду присылать. Отец кивнул. Он был озабочен налаживанием жизни на новом для него этапе и с готовностью принимал предложенную помощь. — Ты неплохой сын, Рома, — сказал Петр Ипатьевич тоном строгого учителя, старающегося явно завышенной оценкой поощрить лентяя к более усидчивому труду. — Да, неплохой… Но ты не можешь подняться над своей сущностью… — Что, что? — удивился Роман Петрович. — В каком это смысле? — Я тут увлекся одним философом. Он жил еще при Толстом и Достоевском… Так вот, он писал, что биологический прогресс состоит в поглощении младшим старшего, в вытеснении сыновьями отцов, при котором любовь к отцам заменяется бездушным превознесением над ними, презрением к ним. — Ну, это ты напрасно, батя. Я, кажется, не давал повода… — Да я не о тебе… Я же сказал, что ты хороший, заботливый сын, но слушай, что он дальше говорит. Рождение ребенка есть принятие им жизни от отца, то есть лишение отца жизни. Откуда вытекает… слушай, слушай… это очень важно… вытекает долг воскрешения отцов, который детям дает бессмертие. «И где он только это выкопал?» — подумал Роман Петрович. — Воскрешение отцов? Чьи это слова? — Федорова Николая Федоровича. Уже позже, вернувшись в Привольск, Роман Петрович в своем служебном кабинете снял с полки философский словарь. Прочел. Федоров. Мыслитель-утопист, представитель русского космизма. Вел аскетическую жизнь. Считал грехом всякую собственность, даже на идеи и книги. И поэтому ничего из написанного не публиковал. Высшую цель видел в достижении бессмертия через овладение природой, переустройство человеческого организма, освоение космоса… Роман Петрович поставил словарь на место. Что заинтересовало отца в рассуждениях скромного библиотекаря Румянцевского музея, жившего в минувшем веке? Какой смысл он вкладывает в вырванные из контекста слова «воскрешение отцов»? Что это — отрицание грядущей смерти? Или претензия на некую «особость», требование на некритическое восприятие его собственного жизненного опыта? Но это же бессмысленно и наивно. Это было позже. А тогда, в доме отца, он не стал углубляться в философские дебри, а постарался успокоить старика: — Батя, если тебе что нужно, так ты скажи. Я готов. Все, что в моих силах. Петр Ипатьевич с довольным видом покивал головой, украшенной пестрой вязаной шапочкой с помпоном. …Деревня открылась вдруг сразу, как только они поднялись на гребень небольшого холма. Роман Петрович хорошо знал эти места. Подростком вместе со сверстниками, такими же, как и он, сорванцами, тщательно обследовал все окрестности. Правда, близкая деревня эта была для него и его друзей зоной запретной, здесь всегда вспыхивали драки между городскими и деревенскими. Сейчас он, взрослый и проживший уже достаточно долгую жизнь человек, со смешанным чувством радостного узнавания и печали смотрел на этот живописный уголок родной земли. Босоногие мальчишки и девчонки его детства выросли, переженились, нарожали детей. Некоторые остались дома. А иные разлетелись по стране, сохранив в сердце эти утопающие в зелени улицы, белую колокольню на холме, поваленную кладбищенскую ограду… А вон те отштукатуренные и побеленные низкие строения под покатой темно-бурой крышей (животноводческий комплекс?), они тогда уже были или появились впоследствии? — Я здесь бываю каждое утро, — прервал молчание отец. — Эта деревня мне напоминает другую… — Та, другая, была на фронте? — догадался Роман Петрович. — Да… — В наших краях? — Да… На отцовское лицо легла темная пелена. Видимо, воспоминания, волновавшие его, были не из приятных. Зачем же тогда он снова и снова, каждый день, возвращался в эти места, вид которых воскрешал в его душе память о «тех» местах, бередил старую рану? — И все же я тогда был прав, — сказал Петр Ипатьевич, но уверенности не было в его голосе. — Этот старший лейтенант не понимал самого главного… — Какой лейтенант? — Я тебе говорил о нем. Ярцев. Учитель твоего главного инженера. Он не понимал: в трудных обстоятельствах все решает авторитет начальника. Есть он — и все будет хорошо. Нет — все полетит к чертовой матери. Губы отца побелели. Вязаная шапочка съехала набок, придавая ему комичное выражение. «Бедный старик, — подумал Беловежский. — До сих пер его волнуют детали, частности… И это не дает ему возможности охватить мысленным взором происшедшее в целом и вынести справедливое суждение». — А что Лысенков, твой бывший ординарец? Ты ему, отец, чем-нибудь обязан? — спросил Роман Петрович. Он давно хотел поинтересоваться отношениями отца с завгаром. Ему не по душе была настойчивость, с которой Лысенков требовал от него каких-то услуг. Отцовский ответ обескуражил Романа Петровича. — Прохвост он. Понимаешь, один человек прислал мне полуграмотное письмо, в котором честит Лысенкова почем зря, называет трусом и лиходеем. Я написал Лысенкову, потребовал от него объяснений. Однако он ничего объяснять не стал, а стал требовать, чтобы я сообщил ему адрес автора письма. Тут уж я решил: шабаш. Адреса ты не получишь. От этого Лысенкова чего хочешь можно ожидать. Натворит делов, а мне отвечать. Так он вздумал мне угрожать. Он — мне? Представляешь?! Вот прохиндей! Отец повернулся и побрел по тропинке назад, к оврагу. Со спины — узкоплечий, ссутулившийся, понурый, в нелепой вязаной шапке, сбившейся на одно ухо, он выглядел бегуном-неудачником, до срока сошедшим с дистанции.___
Если бы кто-нибудь еще месяц назад сказал Николаю Григорьевичу Хрупову, что он превратится в «подружку» директорской жены Медеи Васильевны, он бы счел его сумасшедшим. Однако же что-то вроде этого произошло. После того как Хрупов однажды вечером появился в директорском особняке с золотым кольцом, купленным Надеждой на толкучке, он встретился с Медеей еще один раз. Она сама позвонила ему на работу (Беловежский в то время был в отъезде) и назначила свидание — для того, чтобы окончательно решить вопрос с кольцом. Встреча произошла в пригородном кафе «Золотая рыбка». …Стоял август. Даже сейчас, вечером, было жарко, душно. Хотя море плескалось где-то рядом, свежести не чувствовалось. Они сидят рядком на деревянных чурбачках и потягивают из бокалов кисленькое сухое вино. Сегодня Медея выглядит не так, как в прошлый раз. По-другому. Что значит «по-другому»? Лучше? Хуже? Хрупов не знает. Тогда у Медеи гладкие, отливающие золотом волосы были перехвачены зеленой лентой. Сейчас у нее высокая замысловатая прическа. Неужели из-за него постаралась? Берегись, Хрупов! Что-то ей от тебя надо. — Хорошо здесь, — облизывая губы, говорит Медея. — А если муж узнает о нашем свидании? — спрашивает Хрупов. — Что скажет Рома? Да ничего. Он ведь знает, что я его люблю. Моя любовь к нему — это оправдание всей моей несчастной жизни, искупление, что ли… — А есть что искупать? Она ответила со вздохом: — Есть. Дура была. Мне казалось: главное в жизни брать, брать, брать. И ничего не отдавать. Мне кажется, что чувство собственности у меня было развито с детства. Мне до сих пор запомнилось одно лето. Ласковое солнце, запах земляники на лесной поляне, вкус парного молока. Молоко хранило теплоту коровьего вымени и поначалу вызывало у меня легкую тошноту, а впоследствии даже нравилось. Хотя мне было уже четырнадцать лет, но я еще не рассталась с куклами. Каких только у меня не было! Блондинки, брюнетки, роскошно одетые и голыши, которых можно было одевать в специально приложенные к ним комплекты одежды. Я захватила весь свой кукольный гарем с собой на дачу, хотя родители отговаривали меня — зачем они тебе там в деревне, в глуши? Как-то я привела к нам в дом своих новых знакомцев из соседней деревни, показала своих кукол и испытала острое наслаждение, увидев, какое впечатление произвели на них мои красавицы. Я торжествовала, но недолго. Однажды, вернувшись с купания, обнаружила — куклы пропали. Все до единой. Трудно передать мое горе. Я плакала навзрыд, со мной случилась истерика. Куклы вскоре нашлись: они валялись в заболоченном овражке, в километре от нашего дома. Из грязи торчали бледно-розовые руки, ноги… Яркие разноцветные шелка превратились в грязные тряпки, осквернявшие целлулоидную наготу моих бывших красавиц. Я вмиг охладела к ним. Такими они мне были уже не нужны. История с куклами как бы открыла новый, мрачный период в моей жизни. Вскоре после этого у нас в семье начались раздоры, закончившиеся тем, что отец ушел, бросив нас. У матери начались психические отклонения. Характер, прежде веселый и уравновешенный, испортился. Она стала угрюмой, раздражительной. Медея подняла на Хрупова повлажневшие глаза: — Вы представляете, что значит вступать в жизнь без отца, с больной матерью на руках? Дома мне было плохо. Бежала куда глаза глядят. Гуляла вовсю! А потом схватилась за голову: жизнь проходит. А вспомнить-то и нечего. Тут судьба послала мне Рому. Он меня из такого болота вытащил! Я за него держусь руками и ногами. А если надо будет — и зубы в ход пущу. — Еще не пускали? — он произнес эти слова без всякой задней мысли. А она напряглась. — Вы что-нибудь слыхали? — Нет, честное слово, нет. — Однажды дала слабинку, век себе не прощу. Вздумала с одной вашей заводской дурочкой объясниться. А он, конечно, узнал. Как я испугалась! Думаю: ну, все. Но он ни слова не сказал. Он необыкновенный. — Это Ромка-то? — Вы с ним долго работали вместе, а по-настоящему его не знаете. — Что-то я вас не пойму, — проговорил Хрупов. — Для чего вы встречаетесь со мной? Чтобы говорить о своем муже? Или вы ведете какую-то игру? А в один прекрасный день возьмете и выдадите меня с потрохами своему Ромочке! Медея рассмеялась: — Зря беспокоитесь. Беловежский — это личность. Он способен на поступок. Из вас двоих сторона слабая не он, а вы. И моя помощь понадобится именно вам, а не ему. Мой совет — не мешайте ему… Впрочем, давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом. Например, о кольце. Что вы надумали с ним делать? Хрупов пожал плечами: — А чего тут думать. Я уже сделал. Медея напряглась: — Что именно? — Снес в милицию. И рассказал об обстоятельствах, при которых кольцо попало в мои руки. — А они? — Поблагодарили. — И взяли кольцо? — Конечно. — Плакали ваши денежки. — Зато ваши к вам вернутся. В виде кольца. — Оно мне больше не нужно. Я уже купила себе новое. Вот смотрите. Она подносит руку к шее и указывает Хрупову на золотую змейку с зелеными глазами. — Изумруды, — поясняет Медея. — Камни июля… Да, да, не удивляйтесь, каждый камень становится талисманом в один из месяцев года. Гранат, например, в январе, хризолит — в октябре. «Она играет с драгоценностями, как в детстве с куклами», — проносится в голове у Хрупова. Ему в этой игре сейчас, кажется, отведена роль деревенских мальчишек и девчонок, завистливо разглядывающих богатства заезжей принцессы. — Мне пора, — говорит он. — Да, да. Мне тоже. Да и прохладно становится. Они вышли в темный двор. Под ногами в слабых лучах ущербной луны поблескивали каменные плиты, которыми выложена дорожка. По обе стороны развешаны рыбацкие сети. Медея подумала, что все это выглядит как безвкусная декорация. Хрупов молча шел рядом с нею. Две длинные черные тени крались за их спинами, как оперные злодеи. Им не повезло. Выйдя на дорогу, Хрупов стал голосовать. Первая же машина остановилась. То была директорская «Волга». За рулем сидел Игорь Коробов.___
Только-только у Примакова стали в цехе дела налаживаться, а тут снова семейная неприятность. Пришло письмо из деревни Соленые Ключи. От Тоси. Пишет, что полученные от Дмитрия Матвеевича деньги потеряла. Закружилась голова, упала на дороге. А когда очнулась, тряпицы с завязанными в ней десятками не было.«Мне-то ничего не надо, я картошки поем и сыта, а он дитё, ему витамины требуются, опять же надеть нечего, летом-то хорошо, а наступят холода, придется в избе сидеть».Дмитрию Матвеевичуне денег, конечно, жалко, о Феде душа болит. Не придумал ничего лучшего, как письмо жене показать. А Дарьюшка, на что всегда была тиха и безответна, так тут взъерепенилась: «Ах, она такая-сякая. Все ей мало. Ты и так — деньги в доме заведутся, сразу на почту бежишь. Когда все это кончится?» Дарья ходит бледная, молчаливая, тяжело переживает, пожалуй, первую — за тридцать лет — ссору с мужем. До слез ей жаль своего Митю и хочется утешить его да приласкать. А нельзя, надо твердость проявить, в его же интересах, а то весь дом по бревнышку растащит. Дмитрий Матвеевич дуется на свою половину, не ожидал от нее такой душевной черствости. И от дочери поддержки не жди. Она не может простить ему сватовства Лысенкова. Да если бы все сватовством и кончилось! Так нет. Лысенков не унялся. Не выбросил дури из головы. Вчера приходит Лина с работы сама не своя, на локте ссадина. — Передайте, папаша, своему дружку, что, если еще раз ко мне сунется, я его в тюрьму засажу! Старый хулиган! Она шла по своим делам, когда к тротуару подкатила «Волга». Лысенков высунулся в окно, предложил девушке, подвезти ее. Лина отказалась. Тогда он вылез, ухватил за руку и попытался силой втащить в машину. Она сильно дернулась, ободрала об угол дверцы руку и ушла. — Смажь йодом, обязательно смажь, дочка, — сказал он, но по лицу дочери увидел, что в эту минуту она меньше всего расположена внимать отцовским советам. Дмитрий Матвеевич вконец расстроился. Чувствовал себя виноватым перед дочерью за то, что случилось. Он вдруг подумал, что неприятности начались у него с того дня, когда принял предложение Лысенкова подбросить его с овощами в соседний город. Машину завгар дал, а денег за услугу не взял. Замыслил содрать с Примакова плату покрупнее. А когда дали ему от ворот поворот, тут он и давай порочить Дмитрия Матвеевича и его дочь на всех перекрестках. Так оставить этого нельзя. Пора окоротить Лысенкова. …На дворе моросил дождь, покрывал асфальт темным узором в крапинку. Дмитрий Матвеевич двигался вперед, подчиняясь бушевавшему в нем гневу. Вот и знакомый двухметровый забор, выложенный из крупного серого камня, с выдавленными наружу затвердевшими нашлепками цемента, железная дверь. Он нажал на кнопку звонка, раздался злобный собачий лай, знакомый голос, шаги. — А-а, это ты? Тебе чего? На пороге стоял Лысенков, глядел на Примакова. За его спиной, во дворе, здоровенный кавказец со знакомым лицом тащил к распахнутым дверям сарая огромный, скрепленный стальной лентой ящик. Споткнулся, ящик выскользнул из рук, тяжело грохнул о глазурованную плитку дорожки. — Эй, Автандил, ты бы поосторожней… Ну так чего тебе? Примаков спросил: — Что? На порог не пустишь? — Да я тебя вроде в гости не звал, — сказал Лысенков, но сделал два шага назад, пропуская Примакова. — А вот звал, — входя произнес Дмитрий Матвеевич. — Ты что, дочь надумал мне отдать? Да не нужна она мне… У меня девах знаешь сколько? Примаков сперва оторопел от нарочитой наглости лысенковских слов, но потом догадался, что тот нарочно заводит, злит его, чтобы не сумел высказать то, ради чего пришел сюда. — Ты мою дочь не трожь, не пара она старику, — хмуро проговорил слесарь, чувствуя, как пальцы сами собой сжимаются в кулаки. — Подале держись. Понял? Лысенков скрипнул зубами, хотел что-то сказать — судя по выражению лица, угрожающе-злое, но в последнее мгновение передумал и, осклабившись, произнес: — Ты ко мне выпить пришел? Ай-ай-ай! Нехорошо. Думал, я тебе прошлый раз поднес, так ты теперь каждый день ко мне ходить будешь? Нет, голубчик, не выйдет! Эй, Автандил, подсоби, друг, надо гостя проводить. — Я тебя предупредил, — хмуро сказал Дмитрий Матвеевич. — А в случае чего, найду управу и на тебя, и на твоих дружков. Он с грохотом захлопнул за собой железную дверь.
___
Механического цеха не узнать… Перестройка, начавшаяся с инструментального, докатилась и сюда. Оборудование окрасили в светлые, нарядные тона, под ноги на бетон положили разноцветную плитку, стены побелили, закопченные фрамуги отмыли до блеска, где недоставало, вставили новые стекла. В бытовках красота, белый кафель, для курения — красивые металлические урны, все остальное — тоже в порядке. Теперь дошло дело и до территории. Объявили субботник для уборки, поставили задачу — расчистить прилегающий к механическому цеху с тыльной стороны обширный пустырь. Чего тут только нет — заржавевшие металлические конструкции, мотки спутанной проволоки, доски, бумага, тряпки, грязь! Примаков подошел к бригадиру, попросил выделить ему долю, чтобы, управившись во дворе, он мог отправиться в цех и немного потрудиться над своим приспособлением для шлифовки сегментов. — Давай, Матвеич, мастери свою машину, — одобрительно сказал ему Бубнов. — Мы ее знаешь как ждем. От этих слов в груди у Примакова разлилась приятная теплота, словно и не было неприятной сцены у Лысенкова и напряженности дома. С охотой принялся за работу. Не заметил, как пролетело время. Спохватился, глянул на часы: ну ничего, успеет часок со своей «железкой» повозиться. Направился к цеху. На дороге у него возник Шерстков. Привыкший задирать, дразнить людей, он и сейчас не удержался, хотя потом и жалел о сорвавшихся с языка глупых словах: — Зря стараешься, дядя. Я только что в Аллее передовиков был. Так вот, выставили твою карточку. На траве лежит и в небо глядит. Все. Ти-ти, улети. Примаков обошел Шерсткова, словно тот был не человек, а фонарный столб, оказавшийся на пути. Однако слова парня произвели на него впечатление. Появилось ощущение слабости, закружилась голова, ватными стали ноги. Все неприятности последнего времени придвинулись, к нему, тяжелым грузом легли на плечи. «Что ж они… того-етого… И Славиков тоже хорош. Мог предупредить, так, мол, и так… Не век тебе, Примаков, пора молодым дорогу дать… Разве бы я не понял? А то от Шерсткова… Негоже». Усилием воли Дмитрий Матвеевич отогнал от себя черные думы. За его спиной долгая и честно прожитая жизнь. Все было в этой жизни: и лихолетье войны, и непомерный труд, и почет, и уважение. Были и сбои, ошибки. Как без этого? Жизнь не футбольное поле с ровно подстриженной травкой. Бывает, и спотыкаешься… Но в главном Примаков был уверен. Работал на совесть, не из-за грамот и наград, а потому что не мог иначе. В труде он проявлял свою суть. Стараясь твердо ступать, пошел к цеху. Там ждало Дмитрия Матвеевича железное детище, еще одна нелегкая ноша, которую он добровольно взвалил на свои плечи. Это детище сейчас, как никогда, сильно манило, притягивало его. Что же тут удивляться? Так устроен рабочий человек — труд для него и тяжелый крест, и утешение, и награда. …Прошло несколько минут, и в привычный шум и лязг совершаемой людьми на заводском дворе работы вторглись другие, тревожные звуки. Какой-то парень выбежал из цеха с выпученными глазами и что есть мочи заорал: — Там! Там! Человек лежит! Люди бросились к цеху. А потом вышли, неся на руках Примакова. Голова Дмитрия Матвеевича запрокинулась далеко назад, из бокового кармашка торчала самодельная железная расческа. Кто-то подошел, поправил ее: — Выскочит, пропадет… — Вот чудак… Тут человек пропасть может, а он о расческе… — Что случилось? — Кто знает? Железяка работает, стучит, а он рядом… — Несчастный случай? — Выходит, так.___
По утрам Игорь Коробов брился у зеркала в золоченой раме. Если говорить честно, то о былой позолоте можно только догадываться. Может быть, рама была не позолочена, а посеребрена? Неизвестно. В лучах солнца деревянные завитушки отливали золотым, а в электрическом свете их оттенок становился серебристым. Очень старое зеркало. Амальгама во многих местах отслоилась от стекла, там виднелись тусклые проплешины. А середина ничего. Зеркальное стекло отразило смуглое в белоснежных нашлепках мыльной пены Игорево лицо, встревоженные горящие черные глаза. Сколько всего, должно быть, повидало на своем веку это старое зеркало! В него гляделись лица бездумно молодые и старческие, утомленные жизнью. В минуты радости, упоения и в минуты печали, горя. И зеркало безмолвно разделяло чувства того, кто в него смотрелся. Вернее сказать, с помощью зеркала в позолоченной раме человек гляделся в самого себя. И угадывал в себе то, что до времени было от него скрыто. Лучше познавая себя, человек тем самым лучше познает свое место и свою роль в этом мире. Игорь схватил в охапку постель, сунул ее в шкаф, по-быстрому умылся. Сейчас он позавтракает в «Пельменной» напротив клуба и отправится в город. Стук в дверь. Игорь удивляется: кто это в такую рань? — Входите, не заперто! Он не верит своим глазам. Перед ним, дерзко и одновременно смущенно улыбаясь, стоит директорская жена Медея Васильевна. — Можно, Игорь, к вам? Он бросается снимать с единственного стула ворох белья, приготовленного для стирки. — Так вот оно, знаменитое зеркало в золоченой раме! — произносит Медея, окидывая комнату быстрым внимательным взглядом. — Садитесь. Что-нибудь нужно? Он торопливо заправляет майку в джинсы, а она никак не хочет заправляться. — Вам здесь нравится, в этой комнате? — спрашивает Медея. — Нравится. И все-таки… — Вы хотите узнать, зачем я пришла? Не в моих правилах ходить вокруг да около. Так вот… Вчера я посоветовала Роману Петровичу сменить шофера. Мне не хотелось бы делать это тайно, у вас за спиной. Лучше, если вы узнаете это от меня. Игорь опускает глаза, стоит молча. Потом произносит: — А это хорошо — вмешиваться в служебные дела мужа? Медея вспыхивает: — Ах, вот вы как заговорили! А поначалу представлялись таким скромным. Что ж, я отвечу. А разве вы не вмешались в мои личные дела? Не вы ли сообщили Роману Петровичу, будто я оговорила вашу пассию Лину Примакову? Игоря возмутила бесцеремонность, с которой Медея вторглась в его дом, с которой ведет этот бесстыдный разговор. Он поднимает голову, взглядом отвечает на ее гневный взгляд. — Какое же это ваше «личное дело», Медея Васильевна, если вы оговорили невинного человека, накликали на него беду? — Невинного? Вы, Игорь, должна вам сказать, переоцениваете скромность этой девицы. Вы хоть знаете, где вы живете? В комнате, где она жила одно время. Да, да… удивлены? Вам этого не сказали? Ей, видите ли, далеко было ездить из дому на завод, и ей устроили эту комнату. Пожалели бедную. И зеркало это притащили сюда, из театрального реквизита, по ее просьбе. Чтобы она могла на себя любоваться! Думаете, зря так для нее старались? — Замолчите… — Игорь не знает, что делать. Его охватывает сильное желание схватить эту женщину в охапку и выбросить из комнаты. Неожиданно Медея Васильевна закрывает лицо руками, опускается на стул. Ее голос звучит глухо: — Я вижу: вы меня ненавидите. Я сама себя ненавижу. И ее… И Романа… Мне жить не хочется. Игорь хватает стакан, подносит ей воды. Ставит стакан на стол. На его краях — следы помады. Медея смотрит на Игоря тоскливым взором, говорит: — Я сказала неправду… Я вовсе не просила Романа Петровича вас уволить. Я вам симпатизирую… Вы хороший парень. Игорь сидит на диване, смотрит на расстроенную директорскую жену и не может разобраться в своих чувствах. Он ошарашен всем тем, что только что услышал о Лине от Медеи. Ему жаль себя, жаль Лину и эту сидящую перед ним на стуле и, по всей видимости, страдающую женщину тоже жаль. Медея встает, оправляет платье. Но почему-то медлит, не уходит. — Послушайте, Игорь, — не поднимая глаз, говорит она. — Вы знаете: на днях я была в кафе с одним человеком. Это была деловая встреча. Но все равно, мне не хочется, чтобы о ней знали. В том числе и Роман Петрович. Я хочу вас попросить… — слова даются ей с трудом. — Я никому ничего не собираюсь говорить. — Спасибо… «Так вот зачем она приходила!» — думает Игорь после того, как за директорской женой закрывается дверь. Но он не совсем прав. У Медеи было, по крайней мере, три причины, чтобы прийти сюда. Ей хотелось заставить его хранить тайну, увидеть комнату с зеркалом в золоченой раме. И выплакаться. Накануне у нее произошел тяжелый разговор с Романом. И теперь она чувствовала себя как человек, впервые очутившийся в зоне землетрясения. Подземные толчки — все сильнее и сильнее, нарастает чувство опасности и тревоги, и вот уже почва заколебалась под ногами, того и гляди, пойдут трещины, земля разверзнется и поглотит и ее, и дом, в создание которого она вложила столько сил. С чего начался разговор? С «нижнего венца». Узнав от Медеи приговор Михеича, Роман нахмурился и сказал: — Ты призвала плотника Карасева? Но я же строжайше запретил тебе обращаться с личными просьбами в ОКС! Медея вспылила: — Нашему дому угрожает опасность, а тебя беспокоит какая-то ерунда. — Это не ерунда! Я уважаю людей, с которыми работаю, и мне небезразлично их мнение обо мне. Как ты не можешь понять: речь идет о моей личной чести, об авторитете руководителя, если хочешь знать. Наверное, ей нужно было признать свою ошибку и прекратить разговор. Но нервы Медеи были расстроены, и она в сердцах воскликнула: — А твой авторитет позволяет тебе встречаться на глазах у всего завода со своей бывшей секретаршей, прогуливаться с нею по парку, названивать в прокуратуру, чтобы снять с бедной девочки подозрение? Это он позволяет? Роман Петрович изменился в лице. Глаза его посветлели, в них появился холодный стальной отблеск. Он разжал губы и ответил: — Ты возвела на Лину Примакову напраслину. Это было низко! Мой долг был защитить ее от твоих наветов. Кстати, кольцо нашлось. Мне звонили из милиции. — Я знаю, — вырвалось у Медеи. — Ты знаешь? Откуда? Медея прикусила губу. У нее появилось желание одним ударом отвоевать все, что она только что проиграла в глазах мужа. — От Хрупова. Он как-то приходил сюда, в твое отсутствие. Чтобы сказать: его знакомая приобрела мое кольцо на толкучке. Он советовался, что делать. — Почему же ты меня тотчас не поставила в известность об этом разговоре? — Понимаешь, Роман, все не так просто. Дело не только в кольце. Мне показалось, что Хрупов готов превратиться из твоего врага в надежного помощника. Вот я и подумала, что могу тебе помочь… — Своими чарами? — Роман Петрович кипел от бешенства. — Да ты с ума сошла! Он внезапно остановился. Сказал, уже обращаясь не к ней, а к самому себе: — Да, я сам виноват… Не надо было жениться очертя голову. У каждого человека должна быть нравственная основа, «нижний венец»… Если этого нет, все летит к черту. Он резко повернулся и вышел, оставив Медею в страхе и печали. В этот момент у нее в голове билась только одна мысль: «Только бы он не узнал о моей второй встрече, в «Золотой рыбке»!» И она отправилась к Игорю Коробову.___
Взвизгнули под окном примаковского домика машинные тормоза, и по деревянным ступеням крыльца громко зазвучали шаги. — Кто тут есть? Хозяева, принимайте незваного гостя! — раздался громкий голос директора Беловежского. Лина, как была с полотенцем на только что вымытой голове, в распахнутом халатике, выскочила из светелки, спохватилась, охнула — и назад. Пришлось Роману Петровичу самому отыскивать больного. Да не велика беда, дом в четыре окна, три комнатенки, тут не заблудишься. — Дмитрий Матвеевич? Здравствуйте. Я вас не разбудил? У Примакова от волнения на щеках сквозь трехдневную щетину проступил румянец. — Днем спать? Что я, дите малое? Проходите, Роман Петрович, садитесь… На табурете вам неудобно будет. Вон в то кресло, а кошку турните, за шкирку и в угол. Ничего с нею не станется. — Нет, зачем, мы Мурку беспокоить не будем. Чем плох табурет? Дмитрий Матвеевич близко-близко от себя увидел склоненное к нему лицо директора. — Дорогой Дмитрий Матвеевич, — с усилием проговорил Беловежский. — Пришел навестить и попросить у вас прощения. За ту реплику на парткоме, не понял я вас тогда. Мне от Славикова, секретаря нашего, знаете как влетело? Выходит, понапрасну я вас обидел. — Какое там? Мы ведь работаем… того-етого… не в бирюльки играем. Тут не до обид. — Нет-нет. Я должен был с вами поговорить, разобраться. И тогда не было бы этого недоразумения. — Мы сейчас поговорим… Разве поздно? — А вам не вредно? Врачи разрешают? — Врачи тело лечат. А не душу. А ведь душа тоже своего просит. — Ну, коли так, выкладывайте, Дмитрий Матвеевич, что у вас на душе. Примаков посмотрел на потолок, где сквозь побелку проступали желтоватые разводы, словно письмена неведомой цивилизации, которые ему сейчас надо расшифровать. Заговорил с непривычной свободой, выкладывая наболевшее: — Мы вот порядок навели в цехе… И вокруг. Хорошо. Я сколько лет работаю, а не знал, что в цехе может быть чисто и пригоже, как дома. Сколько трудов положили, нелегкое дело. А есть дело и потяжелей. Как с человеком совладать? У нас все люди разные. Один, получив чертеж, думает: «А для чего это?» Начальство все без него обдумало, бери и делай. А он крутит-вертит, как лучший вариант отыскать. Чтоб сделать побыстрей да получше. А другому это ни к чему. Ему главное — от чертежа не отступать… У одного за дело душа болит, а у иного на уме длинный рубль, ради него и старается. — Если вы имеете в виду Шерсткова, то мы… — начал было Беловежский, но Дмитрий Матвеевич прервал директора: — Не в нем дело… А в том, что — кому завод мать родная, а кому злая мачеха. — Что-то я не пойму. — А вы поглядите… Если выработка у меня одного высокая — мне одному выгодно, потому как нормы не пересматриваются, остаются прежними. Значит, перевыполнение большое, отсюда заработок. Если я других обучил своим приемам, сделал для завода доброе дело, он, завод то есть, тут же пересмотрел нормы и заработок обрезал… Или другой пример. Попала на сборку бракованная деталь. Что с ней делать? Один сделал вид, что брака не заметил, пустил ее в дело и за следующую взялся. Я, к примеру, к такой работе не привык. Не привык, тогда, будь ласков, бери деталь и тащись с нею в ОТК. Там акт составят. С этим актом и опять-таки с деталью я должен идти к начальнику цеха Ежову. Чтобы он убедился, что не я ее запорол. Новую деталь не сразу получишь. Выходит, полсмены потерял. Значит, и в заработке тоже. Молодой рабочий поглядит со стороны и подумает: как же сподручнее работать — как Примаков или как Шерстков? Вот и выходит, что завод, сам того не желая, штампует Шерстковых. — Да, да, у нас еще много недостатков в организации производства, — с досадой сказал Беловежский. Он знал, что Примаков прав. — Мы собирали начальников цехов и говорили об этом. Странно, что Ежов ничего не сделал… Может, откладывает до перехода на бригадный подряд? — Пока Ежов у нас в цехе командует, никакого бригадного подряда не будет, — с несвойственной для него решительностью сказал Примаков. — А почему? — растерялся Беловежский. — Что на заводе дороже всего стоит? — задал вопрос Дмитрий Матвеевич. И ответил: — Не машина, не станок. А хороший распорядитель. У нас каждый на своем инструменте играет. Один на трубе, другой на скрипке, третий на барабане. Так тот начальник хорош, кто знает и понимает каждого. И не будет людей заставлять бить в барабан или колотить по скрипке. Бригадный подряд, как я понимаю, это когда бригада все решает — что хорошо и что плохо. А уважаемый товарищ Ежов как привык? Он наш отец, а мы — дети… Потрафим — конфетку даст, провинимся — выпорет. Нет, с ним не получится! Поздно ему переучиваться. — Ну, учиться никогда не поздно, — проговорил Беловежский, но уверенности в его голосе не было… — Да, хотел узнать, что с вами в цехе-то приключилось? Голова закружилась или оступились? Дмитрий Матвеевич усмехнулся в своей новой манере, как бы предполагавшей, что у его слов есть еще и другой, потаенный смысл. — И оступился, и голова закружилась. Однако выкарабкался. — Вот и замечательно. Мы тут в Аллее передовиков старые портреты на новые заменили. Так вы просто орлом выглядите. Набирайтесь сил — и на завод. Ждем! Директор встал, прощаясь. — Мы вскоре заводской дом будем сдавать, — сказал он. — Я решил переехать. Может быть, и вы, Дмитрий Матвеевич? А то у вас, я погляжу, тесновато. — Пусть дочка переезжает. А мы уж с жинкой тут. Привыкли. Беловежский постучал ногой по половице. — Как нижний венец? — Еще сто лет простоит. — Это хорошо, когда нижний венец крепкий, — задумчивым голосом произнес Беловежский. Из своей светелки вышла принаряженная Лина. — Может, чаю выпьете с домашним вареньем, Роман Петрович? — Спасибо. Некогда чаи гонять. Дела ждут. Лучше проводите меня до крыльца, Лина Дмитриевна. Беловежский и Лина вышли на крыльцо. В открытую форточку до Примакова доносились их голоса. — Как ваш музей? Слышал, вы неплохую экспозицию сделали? Не нужно ли вам чего? Говорите, не стесняйтесь. — Что-то вы какой невеселый, Роман Петрович? Может, вам что нужно? — То, что мне нужно, я когда-то имел… Да потерял по собственной глупости. Прощайте, Лина Дмитриевна. — Прощайте, Роман Петрович.ЗАГАДКА ЗЕЛЕНОГО СЕЙФА
У Игоря не шел из головы сейф, похищенный из дома ювелира. На вопрос, почему он не сообщил об этом в милицию, ювелир ответил: «А зачем? Он был пустой… В нем не было ничего, кроме ненужных бумаг». Игорь усомнился тогда в искренности Христофора Кузьмича. В его дом забрались грабители. Как же не поставить в известность милицию? Да и сейф жалко. Старинный сейф немецкой работы. Еще крепкий. Старик им явно дорожил. А иначе не держал бы его в комнате на видном месте, словно какую-то ценность. Сейф был пустой? В нем не было ничего, кроме ненужных бумаг? Но, может быть, эти бумаги все-таки были кому-то нужны? Ну, прежде всего самому ювелиру, иначе он не хранил бы их в стальном ящике. Вполне можно предположить, что у ювелира есть своя тайна. Только, в отличие от Игоря, который старается свою тайну разгадать, Христофор Кузьмич ее прятал. И вот его тайна оказалась похищенной вместе с зеленым сейфом фирмы «Остер-Тага». Но зачем понадобился сейф? Что вообще могло потребоваться грабителям от старого ювелира? Ответ ясен: конечно, драгоценности, деньги. Почему же тогда они остались спокойно лежать в доме Христофора Кузьмича, а пустой и вроде бы ненужный сейф украден? Игорь чувствовал, как им овладевает азарт человека, идущего по верному следу. Может быть, это в нем наследственное? Когда-то дед Иван Коробов был милиционером в родной деревне и тоже разгадывал запутанные истории. Игорь вовсю вел свой поиск и вдруг… Его азарт как рукой сняло. Парнем овладели апатия, вялость. Навалилась стопудовая тяжесть, не дает двигаться, дышать, жить. Где уж тут разгадывать чужие тайны. Взять бы и удрать из этого городка. Куда? Да куда глаза глядят. Виной всему директорская жена Медея Васильевна. Он вовсе не собирался поднимать завесу над личной жизнью Лины. С тех пор как полюбил девушку — собственное прошлое и прошлое Лины словно бы перестали для него существовать. Важным казалось только настоящее и будущее. Но Медея Васильевна со змеиной ловкостью проникла не только в комнатушку под крышей клуба, где жил Игорь, но и в его душу, отравила ее губительным ядом подозрений. Как он ни уговаривает себя, что все сказанное Медеей о Лине, — лишь наветы недоброй женщины, не помогает. …В тот день, когда Роман Петрович Беловежский захотел навестить дома заболевшего слесаря Примакова, за рулем директорской «Волги», как всегда, сидел Игорь. Был мрачен и замкнут. Беловежского, который понимал, что может встретить в доме не только Дмитрия Матвеевича, но и его дочь, тоже одолевали невеселые мысли. Так, молча, они и доехали до примаковского дома. Стоял солнечный августовский день, такой же жаркий и душный, как год назад, когда Игорь впервые появился в Привольске. Оставил Москву, сорвался с места, бросился очертя голову в далекий приморский городок и вот живет здесь. Зачем? Кому это нужно? В Москве у него квартира, жена. Хотя и бывшая, но все-таки. Юлька регулярно пишет ему. Напрашивается в гости. Намекает: она не прочь, чтобы он вернулся. А может, и впрямь — рассказать все, что удалось узнать о лысенковских художествах, дотошному следователю Толокно и махнуть назад, в Москву, к Юльке? На крыльцо выбегает Лина. Игорь и хотел бы не глядеть в ее сторону, а взгляд будто сам собой охватывает ее всю, от светлых волос, пропущенных сквозь алое пластмассовое колечко и заброшенных за спину, до голых ног в немецких пляжных босоножках, украшенных двумя большими желтыми ромашками. «Желтый цвет — цвет измены», — мелькает у него в голове. Хотя в данном случае кто и кому изменил, неизвестно. Лина прикладывает ладошку ко лбу козырьком и негромким голосом, чтобы не услышали в доме, окликает: «Игорь, это вы?» Ему хочется выскочить из железной душегубки на волю и во весь голос крикнуть: «Да! Это я! Неужели ты не понимаешь, как мне тяжело? Почему я должен так страдать?» Но он ничего не говорит, отворачивается, делает вид, что не слышит Лининого голоса и не видит ее. «Ишь ты… Еще Лысенкову смотрины устраивали! — говорит он себе, еще более растравляя свою сердечную рану. — Им главное, чтоб с положением…» Жестокая несправедливость этих слов становится ему ясной в то самое мгновение, как они рождаются в нем. Но Игорь заглушает в себе угрызения совести. Сейчас он не способен критически оценивать движения своей души. У него такое ощущение, будто Лина обидела, оскорбила, даже предала его. Лина скрывается в доме. А потом снова появляется, на этот раз вместе с Беловежским. Они о чем-то говорят, потом директор подходит к машине. Игорь рывком трогает «Волгу» с места. Мчится по тихим улицам, разгоняя гусей и пугая собак. Погруженный в свои мысли, Беловежский словно бы не замечает этой бешеной гонки. Доставив директора к дому, Игорь на обратном пути останавливается у почтамта и отправляет в Москву телеграмму, Юльке. В ней только одно слово: «Приезжай». Последний раз Игорь видел свою бывшую жену месяца два назад, когда был в командировке в Москве. Она показалась ему повзрослевшей. С удивлением узнал, что девчонка взялась за ум, поступила на вечернее отделение юридического института. Юлька — и вдруг в институте! Это показалось ему странным, необъяснимым. Похоже, что она попала под чье-то сильное и, видимо, доброе влияние. Не выдержал, задал ненужный вопрос: — У тебя кто-то есть? Она взглянула насмешливо: — Хочешь, чтобы раскрыла тебе всю душу? Игорь смутился: — Не надо, не отвечай… Я просто так, из любопытства. Они вместе побывали на кладбище у Бабули. Юлька вся в черном, даже колготки и те черные. Лицо без румян, помады и туши выглядело почти детским. Игорь ощутил болезненный укол вины и жалости. Бабуля успела привязаться к непутевой Юльке, хотела заменить ей мать, поскольку с настоящей матерью у девчонки контакта не было. Игорь был обязан сделать для Юльки то, что Бабуля не успела, а он взял и укатил в приморские края. Только сунул бывшей жене ключи от квартиры: мол, живи, пользуйся. А ведь отдельная квартира для Юльки, при ее прежнем образе жизни, могла обернуться злом. Хорошо, если этого не произошло. Двинулись в глубь кладбища. Наглядевшись по дороге на массивные, из мрамора и камня, надгробия, на затейливые железные да чугунные решетки, Игорь со стесненным сердцем шел к Бабулиной могиле, ожидая увидеть осыпавшийся, размытый дождями могильный холмик, бурьян, чертополох, запустение. И не смог сдержать возгласа удивления, когда Юлька остановилась у зеленой ограды: — Вот… Могила была скромная, но ухоженная. На сером, с неровными краями камне золотом выбиты слова: «Дорогой Бабуле от Игоря и Юли». — Это все ты? — спросил Игорь, хотя и так все было ясно. Конечно, Юлька, а кто же еще? — А деньги? — Ты же мне оставил на прожитье. Вот я и решила… Игорь виновато повесил голову: — А я могилу деда еще не нашел. — А когда найдешь, вернешься? Юлька, не глядя на Игоря, что-то молча чертила мыском кроссовок на песке. Он присмотрелся: большой-пребольшой вопрос. Вопрос, на который ему нечего ответить. Дома они помянули Бабулю. — Я останусь? — спросила Юлька. — Конечно! Тахта в твоем распоряжении. А я — на кухне, на раскладушке. Пока он укладывался, Юлька несколько раз забегала в кухню — то наливала в стакан воды из-под крана, то зачем-то хватала кухонное полотенце. На ней был шикарный розовый пеньюар, отделанный кружевами. Игорь повернулся к стене и закрыл глаза. А когда утром проснулся, Юльки в квартире уже не было. …Юлька приехала в Привольск через два дня после того, как он дал телеграмму. Выглядела немного чудно. Волосы завиты мелким бесом, то тут, то там с головы свисают ниточки бус. Вместо туфель — шелковые тапочки без каблуков, привязанные ленточкой к щиколотке. — Ну, как я?.. — Как с модной картинки. — Знай наших. Фирма Джипсон… — Веников не вяжет, — с улыбкой закончил Игорь. Скептически осмотрев комнатенку Игоря, сказала: — Могло быть и лучше. Ты ради этих хором покинул столицу? — Быстро ты прикатила, — сказал Игорь. — Мне надо с тобой посоветоваться. Как с другом. Помнишь, ты как-то спросил: есть ли у меня кто? Так вот появился один человек… У него, как писали раньше в романах, серьезные намерения. — А у остальных были несерьезные? — На грубость, парниша, нарываешься… — Кто он? — Золотопромышленник. — Что?! — Не знаю, как сказать… Золотоискатель, что ли? В общем, он начальник прииска. — Тогда все-таки скорее золотопромышленник. Зубов золотых много? — Нет. Все свои. Еще не старый. Да я за старого и не пошла бы. — Так за чем же дело стало? — Хочу узнать твое мнение. Советуешь? Игоря новость огорчила. Вот и Юлька уходит. Теперь совсем один останусь. Он пожал плечами. — Ну, если человек хороший… — Очень хороший. Мать от него без ума. Двоюродные братья тоже. Вернее, сначала были без ума… Побросали работу, кинулись к нему на прииск. Думали, там золото лопатой можно копать. Месяца два погорбатились, и их как ветром сдуло. Теперь они к нему с прохладцей… — А жить где будешь? На прииске или в Москве? — То здесь, то там… Он сказал: «Как ты хочешь, так и сделаем. А скажешь, так я в Москву переведусь. Меня давно в главк приглашают». — Ну, будь счастлива, Юлька! Заметив, что ее рассказ про золотопромышленника явно неприятен Игорю, Юлька приободрилась. С довольным видом уселась на диван, поджала ноги. Еще раз критически оглядела комнату. — Дыра. Единственное, что тут стоящее — это зеркало. Вещь! Видно, с доисторических времен. Игорь тяжело вздохнул. После визита директорской жены он в сторону зеркала не смотрел. Даже брился на ощупь. Юлька вскочила, подбежала к зеркалу и стала вертеться возле него, принимая разные позы. — Что-то в горле пересохло. Сейчас воды принесу, — Игорь взял из шкафа чашку, вышел. Когда вернулся, Юлька стояла перед зеркалом в одном купальнике из блестящей ткани. Ее голову украшал тюрбан. Золоченая рама красиво обрамляла Юлькино отражение в овале зеркала. — Индриани Рахман дочь Рахни деви, — объявила Юлька. В движение пришло все, не только ноги, но и руки, плечи, голова. — Исполняется танец «Одасси»! — Я и не знал, что ты умеешь так хорошо танцевать индийские танцы. Только не мешало бы прикрыться. А то неудобно… — Дай мне косынку. Она в сумке. Я оберну ею бедра. Но Игорь не успел передать Юльке косынку. Отворилась дверь, и на пороге появилась Лина. Широко распахнутыми глазами она смотрела на полуголую Юльку, на смущенного Игоря. — Я, кажется, не вовремя? Извините! — сухо сказала Лина и скрылась за дверью. …Наступил вечер. Помрачневший, замкнувшийся в себе Игорь постелил Юльке на диване, сказал: — Ложись спать. А я переночую в другом месте. — Все ясно, — проговорила Юлька. Игорю показалось, что она сейчас заплачет. Но, честно говоря, ему было не до Юльки. Он видел, какое впечатление на Лину произвел вид Юльки, в полураздетом виде изображавшей индийскую танцовщицу. Выходит, он, Игорь, не совсем ей безразличен. Он чувствовал потребность немедленно объясниться с девушкой, выложить все, что волновало его. Объяснения не состоялось. Примаковы уже спали. Побродив вокруг погруженного в темноту дома да потаращив глаза на окно Лининой комнатенки, — а вдруг она каким-то чудесным образом ощутит его присутствие и выйдет на крыльцо? — Игорь направился в дальний конец участка, к сараюшке. Недели две назад Игорь с разрешения Беловежского переправил из цеха в этот сарай примаковское изобретение. Вечерами с разрешения хозяина дома подолгу возился со сложным механизмом, стараясь вдохнуть в него жизнь. Нередко к нему присоединялась Лина. В накинутой на плечи старой кофте и тапочках на босу ногу стояла, прислонившись к притолоке, перебрасывалась с парнем многозначительными фразами. В ее присутствии работа у Игоря особенно спорилась. Однако в этот душный августовский вечер ему меньше всего хотелось думать о железяке. Подошел к сараю, потянул на себя дверь. Несмазанные петли громко заскрипели. В помещении было темно, пахло деревом, металлом. Игорь на ощупь пробрался к топчану и улегся на жесткое ложе, подложив под голову снятую с гвоздя примаковскую телогрейку. Он вдруг подумал, что безвозвратно потерял Лину, она теперь и разговаривать с ним не захочет. Как странно устроен человек. Два дня назад он, сидя в машине, не откликнулся на ее зов. А теперь страшился, что она останется глуха к его призыву. Тихий скрип прервал его размышления. На пороге, на фоне набирающего ночную густоту неба, появилась легкая фигура. Дверь закрылась. Сердце у Игоря забилось так, что, казалось, его стук разбудит все вокруг. Он привстал. Теплое, душистое дуновение коснулось его. Голос Лины, дрожащий, трепетный, произнес: — Игорь, милый, господи, как я тебя люблю! Если бы ты знал… если бы знал… Ей не хватало слов. Но слова были и не нужны. На рассвете Лина сказала: — Было время, когда я, глупая, думала, что самое главное у меня в жизни уже позади. Нет, я не отрекаюсь от прошлого. И ты, пожалуйста, не отрекайся. Без того, что было, мы, наверное, не были бы сейчас такими, какие есть. А значит, не смогли бы любить друг друга так, как любим. Могли бы проворонить свое счастье. Вот был бы ужас! На другой день Игорь отправился на вокзал, чтобы проводить Юльку. Она вспомнила, что у нее в Москве есть неотложное дело. Игорь догадывался, что Юлька это «дело» выдумала, но не удерживал ее. Зачем? Еще вчера днем он был один на целом свете. А сейчас у него Лина! Юлька была бледная и тихая. Перед расставанием сказала: — Вот и все. Скорее всего, мы с тобой сегодня видимся в последний раз. Нет, не думай, я на тебя не сержусь. Не за что. Ты хороший парень. Правда, для меня, наверное, было бы лучше, если бы ты был похуже. Помнишь, ты меня спросил, есть ли у меня кто? Я думала, что есть. Ты. Но выяснилось, что ты любишь другую. Нет, не спорь. Я видела вчера ваши лица… И мне все стало ясно. А про золотопромышленника я выдумала. То есть не совсем так… Он есть и действительно сделал мне предложение. Но я за него не пойду. Потому что люблю не его… — Юлька замолчала, сглотнула слезы. — Я знаю, ты удивлялся: почему Юлька так переменилась? Взялась за ум, поступила в институт, наверное, на нее кто-то повлиял. Да, такой человек есть. Это — ты. Думала, стану другой и он меня полюбит, по-настоящему… В общем, сказка для младшего возраста. Спокойной ночи, малыши. Сказок в жизни не бывает. Но ты меня не жалей. И себя ни в чем не упрекай. Я уже обязана тебе многим, очень многим. Спасибо за все. Прощай. — До свидания, Юля. Я думаю, что ты еще будешь счастлива. Поезд унес Юльку в Москву, а Игорь остался здесь в Привольске. Апатии и уныния последних дней как не бывало. Он горы готов сейчас своротить.___
…Поднявшийся к ночи предгрозовой ветер раскачивал железный фонарь у лысенковского дома. Тот скрипел, желтые пятна света скользили по засыпанному гравием заулку, по большой, выше роста человека, каменной ограде. Сопровождающий, незнакомый Игорю мрачный мужчина, нажал кнопку звонка. Из-за стены раздался бешеный лай собаки. Дверь распахнулась. На пороге стоял Лысенков. Свет фонаря выжелтил его лицо. — Игорь? Заходи. Гостем будешь. Они прошли на участок. Дурманящий цветочный дух ударил в нос. — С дорожки не сворачивай, розы потопчешь. Их тут у меня знаешь сколько? Триста кустов! Лысенков держался так, будто Игорь по собственной воле завернул к нему на огонек, а не прибыл по его приказанию в сопровождении незнакомца. Они вошли в дом. Незнакомец остался в передней. — Садись. На Лысенкове был темно-бордовый халат, надетый поверх шерстяного свитера. Он походил на старого жуликоватого тренера из кинофильма о спортсменах. — Что скажешь? И снова Лысенков себя вел так, как будто встреча состоялась по инициативе Игоря. Тот запустил руку в карман курточки, извлек из нее деньги, протянул Лысенкову. — Вот остаток долга. Больше работать на автовокзале не буду. — Почему? — Надоели левые рейсы. Того и гляди, загремишь на несколько лет. А я свободу люблю. — Свободу все любят. Не ты один, — заметил Лысенков. — Значит, выходишь из игры? — Выхожу. — А почему остаток долга принес не Автандилу, а мне? Игорь взглянул в лицо Лысенкову: — Потому что Автандил — пешка. А король — другой. Завгар вытащил из квадратной, темно-зеленой с золотом, пачки тонкую и длинную сигарету, закурил. Рукой отогнал дымное облако. — Ну, а кто же, по-твоему, король? — Вы, Адриан Лукич. Наступило молчание. Лысенков, скрестив руки на груди, пристально смотрел на Игоря. Что было в его взоре? Удивление, страх? И то и другое. И еще что-то — страшное, темное. Будто разверзлись такие бездны, в которые даже ему, мужику не робкого десятка, заглядывать жутко. Перед ним стоял внук Ваньки Коробова. Его семя. Он, Лысенков, пытался его сломать. Не вышло. Вон парень какой вымахал! И на Ваньку похож. Та же сила в нем. На Ваньке Коробове Лысенков в свое время сосредоточил всю силу своей ненависти. Почему именно на нем? Разве Ванька раскулачивал его отца, лишал Адриана его законного богатства? Нет, не он. Но, рожденный в семье горемычного бедняка и сам обреченный быть бедняком, довольствоваться жалкими крохами со стола жизни, Ванька повел себя так, будто был ее хозяином, увел из-под носа Лысенкова девку. Стал служителем нового закона, который сделал Адриана нищим и которого признать он не мог. Разве мало причин для ненависти? Лысенков мстил Ваньке как мог. Спалил его дом. Покусился на его жизнь. И все же Ванька выжил, выстоял. А Лысенкову пришлось уйти из родных мест. Как неприкаянный мотался по белу свету, менял обличия, заметал следы, ускользал от возмездия. Жизни не было. И виноват был во всем он — Ванька Коробов. Лысенков думал, что они уже не встретятся. Но судьба свела их на войне. Оба были солдаты, и оба оказались в окружении. В тот день Лысенков, пользуясь своим особым положением при командире части, сам напросился вместе с Ванькой в разведку. Расчет у него был поначалу простой: воспользовавшись моментом, скрыться, бежать и таким образом спастись, выбраться из окружения. Этот план изменился под влиянием обстоятельств. На шоссе им попалась идущая в сторону города немецкая легковая машина «мерседес». Вспыхнул короткий бой. Ванька полез на рожон и погиб, а Лысенков, не торопившийся вылезти из укрытия, не только уцелел, но и стал обладателем огромных ценностей. В покореженной взрывом гранаты машине обнаружился плоский железный ящик. В нем были награбленные гитлеровцами сокровища: золото, бриллианты, камни. Неизвестно, что фрицы очистили — музей или банк. Скорее всего, музей. Впрочем, Лысенкова прежние хозяева драгоценностей не интересовали. Превратности смутного времени сделали его обладателем редких сокровищ. Вот что главное! Он понимал, что нельзя оставаться дальше на дороге, надо скорее спрятать зеленый ящик, зарыть в приметном месте и убираться подобру-поздорову. Но нахлынувшая радость на некоторое время лишила его сил. Сапоги налились свинцовой тяжестью, он не мог их стронуть с места, они будто прилипли к мокрому асфальту шоссейки. Сбылась давняя мечта Лысенкова. Судьба послала ему желанное богатство! Огляделся. Шоссе было пусто. Он прижал железный ящик к груди, отнес по ту сторону шоссе и закопал под приметной сосной. Призадумался. Если он убежит, станет дезертиром, то не видать ему сокровищ как своих ушей. Доброе имя, хорошая репутация — вот что сейчас ему нужно! Где их взять? Как? Только одним путем: лишив доброго имени Ваньку Коробова, присвоив себе его заслуги. Благо свидетелей у Лысенкова сейчас не было. И тут он вспомнил о мальчишке-проводнике. Стал окликать его. И тот отозвался из кустов. Лысенков стал подманивать мальца. Но что-то в выражении его лица, видимо, насторожило парня. Он бросился бежать и — снова Лысенкову повезло! — подорвался на мине. Вернувшись в часть, Лысенков превознес свои заслуги в бою на шоссе и очернил Ваньку Коробова. Правда, ему не поверил старший лейтенант, но майор принял сторону Лысенкова. Адриан готов был окончательно уверовать в свою счастливую звезду. Но, увы, она оказалась ненадежной, переменчивой, то светила вовсю, то скрывалась в черных лохматых тучах, повергая в отчаяние. Такое отчаяние охватило Лысенкова в тот день и час, когда, раскопав яму под высокой сосной, он обнаружил: сейфа нет, сокровище кем-то похищено. Это был удар! Сейчас, оценивая задним числом то, что произошло почти сорок лет назад в двухстах метрах от шоссе, Лысенков усматривал в этом направляющую руку судьбы. Открытие, что сказочным путем доставшееся ему столь желанное богатство пропало, похищено, пробудило в нем такую бешеную злость, вызвало к жизни такие неукротимые силы, которые позволили ему с лихвой восполнить свою потерю. Как? Колоссальным трудом, небывалым напряжением ума и воли. Сколько блестящих комбинаций задумано и проведено Лысенковым, сколько глупых, слабых и жадных вовлечено в орбиту его махинаций. Сколько добра накоплено и сбережено! Он богат. Почему же такое страшное возбуждение охватило Лысенкова, когда подробно рассказывавшая ему о своем посещении дома ювелира Галя, сожительница Заплатки, упомянула о плоском железном ящике темно-зеленого цвета? Неужели это тот самый ящик, который он, Лысенков, собственноручно закопал в землю у высокой сосны? Неужели наконец отыскался след утерянных сокровищ? Он было протянул руку, чтобы завладетьэтими сокровищами, как на его пути встал внук Ваньки Коробова. Вот он перед ним, крепкий, цыганский, похожий на деда. Смотрит на Лысенкова тем же спокойным, исполненным внутренней силы взглядом. Говорит как равный с равным. Хотя он, Лысенков, баснословно богат, а Игорь Коробов беден, как и его дед. Это не смущает парня. Он держится и разговаривает так, как будто ему дано право судить Адриана Лысенкова и даже вынести ему приговор. Проклятое семя. Лысенков заходится в нервном смехе, обнажая крепкие желтые клыки. — Молодец, Игорь! Хвалю. У тебя возникло подозрение, и ты взял на пушку Толстого Жору. Дуралей напился как свинья и подтвердил, что шеф, или король, как ты говоришь, — это я. Мне нетрудно было бы отказаться, но я темнить не буду. Почему? Потому, что давно успел понять, чего ты стоишь. И хочу тебе сделать предложение. Слушай сюда… Долг, что ты выплачиваешь Автандилу, липовый. Да, да, не удивляйся. Никакой аварии не было. Акт я порву. Уловил? Игорь ушам своим не верил. Неожиданно Лысенков выложил перед ним все свои карты. Как объяснить эту странную откровенность? Уж не считает ли Лысенков Игоря и впрямь своим человеком? Конечно, нет. Просто он ведет какую-то темную игру и сообщает Игорю лишь то, о чем тот и сам уже догадался. — Ну, как? По сердцу тебе мое предложение? Игорь сделал вид, что колеблется. — Сначала бы хотелось прояснить одну вещь, — говорит он. — Вы знали моего деда? Воевали вместе с ним? По лицу Лысенкова скользит тень. Он молчит, обдумывая ответ. Что сказать пащенку Ваньки Коробова? — Откуда ты взял?.. Ну, что мы вместе с ним воевали? Не знал я никакого Коробова. Он что — тоже в наших местах пулю искал? Знаешь, сколько нас там было? Тыщи! А остались сотни. Вот потому и не люблю в тех местах бывать… Тяжело вспоминать. — Припомните, — говорит Игорь. — Однажды в окружении вы вызвались пойти в разведку. Кто с вами в паре был? — Николаем звали. Имя помню, а фамилию забыл. Сколько лет прошло. Лысенков говорит, а в мозгу у него теснятся беспокойные мысли. Пока Коробов рыщет по Соленым Ключам да расспрашивает диспетчершу Клавку, еще жить можно. А если раньше его, Лысенкова, отыщет того парня, проводника Тимоху? Быть беде. Хорошо еще, что судьба вовремя привела Лысенкова в дом на Разгуляе и состарившаяся жена Ваньки Коробова по собственной воле сунула ему тогда в руки письмо от Тимохи! Лысенков прихватил это письмо с собой. Теперь он настороже. Нет, он, Лысенков, и пальцем до Марьи не дотронулся. Перед ним сидела пожилая женщина, лишь отдаленно напоминавшая ту молодую и пригожую девушку, к которой когда-то присохло его сердце. Жизнь ее позади, по всему видно, не долго осталось. Он так и сказал ей. Не сразу, а потом, когда она разозлила его своей упрямой верой в то, что ее Ваня погиб героем. Он пытался вдолбить ей, что Ванька никаким героем не был, что она насочиняла о нем себе невесть что и сама же верит. Выходить ей надо было не за Ваньку, а за него, Адриана, тогда бы прожила всю жизнь в довольстве, а не мыкалась одна-одинешенька на закате дней. Что же получилось из-за ее глупого упрямства? Ванька уже сорок лет лежит в сырой земле, даже могила его — и та неизвестна. Он, Лысенков, сколько лет мыкался по белу свету как неприкаянный. А она стара, больна и скоро, видать, помрет. Он выкрикнул ей эти слова в злобе и гневе, а она взяла и померла. Он ушел, унося с собой письмо Тимохи, увы, без обратного адреса. Надо же так случиться, что этот чертов парень Игорь Коробов не только разведал его настоящее, но и разворошил прошлое. Если настоящее и прошлое Адриана Лысенкова соединятся, получится взрыв почище ядерного, одни ошметки полетят. Нельзя этого допускать. — Сейчас я тебе твои деньги принесу, — сказал Лысенков. Вышел в соседнюю комнату. Зазвенела связка ключей, со скрипом открылась тяжелая дверца, потом с грохотом упала вниз. «Значит, не шкаф, а ящик», — подметил про себя Игорь. И перед его взором тотчас же возник четырехугольный ящик с медной табличкой фирмы «Остер-Тага», который он не раз видел на серванте в доме ювелира. Неужели выкраденный у ювелира сейф Лысенков держит у себя? И не боится? Почему-то завгар уверен, что Христофор Кузьмич не обратится в милицию с заявлением о пропаже. Почему, интересно? Вернулся Лысенков. Протянул толстую пачку денег. — Держи. Твои кровные. Скоро их у тебя будет вдоволь. Сначала поработаешь у Толстого Жоры помощником, будешь на подхвате. Переймешь опыт, а потом мы тебя, повысим, а его уберем. Войдешь в долю. За два года себе такой же домище отгрохаешь. Будешь в достатке жить-поживать со своей ненаглядной Линой. Звук знакомого имени заставил Игоря сжать кулаки: — Вы бы ее не трогали! Я ведь знаю, как вы к ней сватались… На лице завгара появилась гримаса неудовольствия. — Это старый дурак тебе трепанул? Или она сама? Чушь! У меня есть другая. Женщина моей мечты… Лысенков пристально взглянул на Игоря, усмехнулся. — Впрочем, ты с нею скоро познакомишься. — Мне ни к чему. Не собираюсь ни с кем знакомиться. — А ты не зарекайся! Жизнь заставит. Она, жизнь, такие кренделя выписывает, что только диву даешься. Вот почему я уверен, что мы с тобой, Коробов, сговоримся. Предчувствие у меня такое, понимаешь? Вручив Игорю деньги, Адриан Лукич успокоился. Не раз убеждался: купить за деньги можно многое. А не помогут они, у Лысенкова припасена для парня другая крепкая сеть. Из нее не вырваться. А у Игоря свои мысли. Засовывая в куртку переданные Лысенковым деньги, он говорит себе: надо ускорить развитие событий. Он импровизирует: — Вот хорошо, что деньги появились. Смогу с ювелиром расплатиться. Он ведь уезжает. По тому, как встрепенулся Лысенков, понял: удар попал в цель. — Как уезжает? Куда? — К зятю. Он у него военный. Будет с ним жить. Внучонка нянчить. А дом продает, — продолжает фантазировать Игорь. — Это дело не одного дня — дом продать, — успокаиваясь, говорит Лысенков. — Я и сам не понимаю, чего он так торопится. Подхватился и уезжает. В конце недели. Лежащая на столе рука Лысенкова сжимается в кулак. — Так, — угрожающе произносит он. Игорь думает про себя: Лысенков наверняка тотчас же сделает следующий ход. И тогда прояснится загадочная роль пустого зеленого сейфа, похищенного у ювелира по приказу завгара. Игорь хотел на другой же день посетить Христофора Кузьмича, но не удалось. Пришлось вместе с директором съездить в подшефный колхоз. Всю дорогу — туда и обратно — волновался: не случилось бы чего с ювелиром в его отсутствие? Выбрался на Садовую только следующим вечером. Однако разговора не получилось, ювелиру было не до него. Христофор Кузьмич нездоров. Щеки ввалились. В красных веках прячется испуганный взгляд маленьких глаз. — Оставьте меня в покое! — с непривычной резкостью говорит он. — Я знаю: вы все хотите меня погубить. Уйдите! Оставьте меня, наконец, одного. Я болен. Я жду врача! У меня нет ни минуты времени!.. Игорь так и не решился признаться в своей выдумке. Ювелир явно торопится выставить его из дому. Огорченный, медленно спустился с крыльца. Медлил, не уходил. Ювелир кого-то ждет. Игорь принял решение. Сделав несколько шагов в сторону, подпрыгнул, уцепился за край забора и рывком перебросил тело по ту сторону. Подобрался к окну. Что это?.. Треньканье колокольчика у входной двери. К Христофору Кузьмичу кто-то пришел. Врач? Сейчас посмотрим. Он приник к стеклу. Дверь в комнату отворилась. Вошел Адриан Лукич Лысенков. Христофор Кузьмич, шагнувший ему навстречу, выглядел испуганным и растерянным. Лысенков, наоборот, был хмур и властен. Надо обязательно узнать, о чем они будут говорить. Игорь метнулся к задней двери. На его счастье, она оказалась незапертой. Он отворил ее и оказался в темном коридорчике, примыкавшем к залу, где беседовали двое, ювелир и завгар. — Вы мне звонили… угрожали. Вам что-нибудь известно о судьбе моего сейфа? — Вашего? — в голосе Лысенкова прозвучало негодование. — Да, а чей же он? — Вы еще спрашиваете — чей? Мой! У Христофора Кузьмича от удивления отвисла челюсть. Он с трудом овладел собой. — Послушайте! Вы приходите сюда и откровенно признаетесь, что забрались в мой дом и похитили сейф с важными документами. Для чего они вам? Что вы собираетесь с ними делать? Я понял, вы хотите погубить меня. Но зачем? Что я вам сделал плохого? — Это уже другой разговор. Поговорим спокойно, Христофор Кузьмич. Да, откровенно признаюсь, я завладел вашим сейфом! Теперь и вы столь же откровенно признайтесь: куда вы дели мои драгоценности, которые в этом сейфе находились? Христофор Кузьмич с ужасом смотрел на Лысенкова. Руки его тряслись. Мелко тряслась и седая борода клинышком. — Вы молчите? Тогда я вам скажу: вы их присвоили! Ювелир еще сильнее затряс головой. Дар речи вернулся к нему. — Нет-нет! Я бы никогда… За кого вы меня принимаете? Я их передал представителям подпольщиков… Для целей борьбы с оккупантами. У меня есть расписка товарища Игумнова. — То есть она у вас была, — криво усмехнулся Лысенков. — Теперь она у меня. Я ее прочитал. Там черным по белому сказано, что вы передали некоему Игумнову доверенное вам для эвакуации имущество артели «Красный ювелир». При чем тут сейф и драгоценности? Христофор Кузьмич уронил голову на грудь. Долго молчал. Потом до Игоря донесся его тихий голос: — Доверенное мне при эвакуации имущество артели было у меня украдено злоумышленниками. Позже я передал вместо него подпольщикам другие драгоценности, случайно попавшие в мои руки. Вот и все. — То есть вы выдали мои драгоценности за те… артельные? — Теперь Лысенков выглядел растерянным. Ювелир облизнул пересохшие губы. — Да, признаю. Но откуда могли взяться эти богатства у вас? Сколько вам тогда было? Двадцать? Так кто ты такой? Сын Али-бабы? Или графа Монте-Кристо? В одну секунду Лысенков подскочил к ювелиру и схватил его за горло. — Я вам покажу, кто я такой! Вы меня еще узнаете! Отвечайте лучше, несчастный старик, как к вам попал мой зеленый сейф? Кто указал вам место тайника? — Мальчик… я подобрал его, тяжело раненного. — Где? — На сороковом километре Приморского шоссе… Он подорвался на мине. Я, по существу, спас его. И тогда он из чувства благодарности… Лысенков вскинул жилистые руки, обхватил голову. — Вы понимаете, что вы сделали? Я уже держал этот ящик в руках. Тяжелый! Невыносимо тяжелый! Но я держал, потому что это была тяжесть золота. Моего золота! И вот на днях мне приносят этот паскудный ящик. Я открываю его. Пустой! Вы понимаете, пустой! Все пусто. Вчера было, сегодня нет. Как в цирке, фокусник накрывает столик цилиндром и открывает. Есть! Снова накрывает. Нет! Есть — нет, есть — нет, есть — нет. Лысенков, казалось, сошел с ума. Бессвязные слова слетали с его губ: — Все пусто, пусто… Ничего! Он упал в кресло напротив Христофора Кузьмича, бессильно откинулся на спинку. Трудно было сейчас сказать, кто из этих двоих выглядел наиболее разбитым, опустошенным. Два человека, чью жизнь разрушил не принадлежащий им зеленый сейф. Лысенков первым пришел в себя: — Вот что. Вы мне его наполните. Доверху. А иначе вам не жить. Ювелир встрепенулся: — Но откуда я возьму? Я бедный человек… — Бедный ювелир? Это что-то новое! Никогда не поверю, что вы так просто, за здорово живешь, собственными руками отдали все богатство. Кое-что прилипло к рукам, не так ли? Теперь о мальчике. Этот щенок остался жив? — Почему вы его так называете? Да, он жив. — Я так и знал. Где он? Ювелир покачал головой: — Вам с ним лучше не встречаться. Он вас ненавидит. — А мне его любовь не нужна. Просто хочу взглянуть на старого знакомого. — Нет-нет, эта встреча кончится катастрофой. Я чувствую, я знаю! — Он живет здесь? В этом городе? Ювелир вскочил с кресла: — Можете меня убить, но я вам его не выдам. — Ничего. Я его сам найду. Поняв, что беседа подошла к концу, Игорь выскочил во двор и поспешил скрыться.___
Когда утром Игорь в своей комнатенке приводил в порядок записи, сделанные им за период работы на автовокзале, с тем чтобы позже передать их следователю Толокно, его занятие прервал стук. Он вышел из-за стола, подошел к двери. Отворил ее и замер от удивления. Кто только не навещал его здесь, в этой комнатенке, — Юлька, Медея Васильевна, Лина. Но меньше всего он ожидал увидеть у себя в Привольске женщину, которая с преувеличенно восторженным видом сейчас стояла на пороге. Лизка! Его мать! Откуда она здесь?! — Игоречек! Сыночек мой! Наконец-то мы увиделись, — ребячливый, плаксиво-патетичный голосок избалованной девочки. Как хорошо он знаком ему! Лизка уже давно не ребенок. Сколько сейчас ей? Сорок. Жизнь Лизку не баловала. Росла без отца, ребенка растила без мужа. Ее часто обманывали, унижали. Но это не мешало Лизке ощущать себя прелестным, неотразимо привлекательным существом, созданным для неги и радости. Годы не изменили ее. — Какие ветры занесли тебя в этот городок? Кто тебе сказал мой адрес? — Игорь засыпал мать вопросами. Лизка села, закинула ногу на ногу. Достала из сумочки золоченую коробку сигарет, крошечную зажигалку с болтавшимся на цепочке камнем-брелоком, закурила. Из сведенных в сердечко ярко накрашенных губ выпустила струйку дыма, проследила за ней взглядом подведенных глаз. Ответ ее поразил Игоря. — У меня здесь друг. Ты знаешь, у него роскошный особняк с бассейном, на участке триста кустов роз. Он говорит, что высадил их в мою честь. — Как его зовут? — Игорь уже предвидел ответ. — Лысенков Адриан Лукич. Это такой человек! Мы познакомились два года назад. В баре теплохода, здесь, в Привольске. Он уже тогда сделал мне предложение. Но я… была не одна. Вернулась на Дальний Восток. Но мы переписывались. Он меня уговаривал переехать. И уговорил! У него сильная воля. И страсть… Такую страсть редко встретишь в наше время. У Игоря голова кругом шла. — Слушай, а ему известно, что я твой сын? — Конечно! Я ему сказала. Так вот почему Лысенков с такой легкостью открыл Игорю свои сокровенные тайны! Итак, мать Игоря Лизка — «женщина его мечты». Игорь не знал, что делать: смеяться или плакать.ВЫЗОВ НА КОВЕР
«Филиал» открылся взору тотчас же, как «Волга», взяв крутой поворот, выскочила на взгорок. Выложенные в давние времена из темно-красного кирпича стены, плавные окружия въездных ворот, узкие, как бойницы, окна придавали производственному корпусу вид старого замка. У Беловежского защемило сердце. Он вдруг ощутил себя главой воинства, которому вот сейчас, через считанные минуты, предстоит пойти на штурм неприступной твердыни. Но нет. Главная «твердыня» — завод — осталась позади, у моря. А это был всего лишь «филиал», подсобный производственный корпус, так пригодившийся Беловежскому для реализации его глобального замысла — полной реконструкции завода. Старое, но крепкое кирпичное здание, построенное когда-то в качестве складского помещения, сменило много хозяев. Размещались там парки — трамвайный, автобусный, троллейбусный, одно время там «прописался» авторемонтный завод. В последние годы здесь был расположен филиал завода бытовых кондиционеров. Перейдя к привольскому заводу, здание сохранило название «филиал». Хотя теперь определить его профиль было бы нелегко. Здесь попеременно размещались заводские цехи, чьи помещения подвергались перестройке. Навстречу директорской «Волге», затормозившей напротив главного входа, уже спешил начальник филиала Ежов. Как всегда, он был подтянут, сосредоточен, хмур. Недовольное выражение не сошло с его лица даже в тот момент, когда он пожимал протянутую директором руку. — Послушай, Сидор Ефимович, ты когда-нибудь улыбаешься? — спросил Роман Петрович. — Что? — Ежов поднес руку к уху, как это делают люди, начинающие плохо слышать. «Стар становится. Да и не мудрено ж оглохнуть в том адском шуме, который стоит в цехах, где металл давят, режут, строгают, шлифуют». Беловежский уже не рад был, что задал свой вопрос. — Как, говорю, настроение? — произнес он. Но до Ежова, видно, уже дошел смысл того, первого вопроса. — Я на работу хожу не для того, чтобы хиханьки-хаханьки разводить, — ответил он. — У меня вот о чем голова болит: как назло, почти одновременно вышло из строя несколько станков. Того и гляди, у вас там конвейер станет. Легкомысленное настроение вмиг покинуло Романа Петровича. — Срыва суточного графика допускать нельзя, — сдвинув светлые брови, озабоченно произнес он. — Какие меры принимаете? — Ремонтники во главе с Глебовым устраняют неполадки. Недостачу деталей стараемся покрыть на действующих станках. Выполняем сразу по нескольку операций… — Ну-ну, — успокоившись, проговорил Беловежский. Он еще раз отметил про себя: решение назначить Ежова начальником филиала было правильным. Такой человек — жесткий, дисциплинированный, с повышенным чувством ответственности — и нужен здесь, где, как на перевалочном пункте, постоянно меняются люди и техника и остается неизменным только одно — требование ни при каких обстоятельствах не выходить из суточного ритма. Назад, в механический цех, Ежова возвращать не стоит. Надо будет ему подыскать другое место. Новая техника требует новых людей — это аксиома. Однако от аксиомы Беловежскому почему-то вдруг сделалось грустно. Перед ним, переминаясь с ноги на ногу, стоял живой человек, его не выкинешь за ворота как устаревшее приспособление. — Роман Петрович, как там наш механический? Надоело здесь, на выселках… — словно прочитав мысли Беловежского, спросил Ежов. — Потерпи, Сидор Ефимович, — туманно ответил Роман Петрович и двинулся вдоль станков, стараясь на глаз определить, какие из них отказали, вышли из строя. Впрочем, сделать это оказалось нетрудно: возле инвалидов хлопотали врачи — ремонтники. Уже в машине, возвращаясь назад, на привольский завод, он, в который уже раз, задал себе вопрос: правильно ли было начинать перестройку производственных помещений уже сейчас, пока Ярцев только-только приступает к разработке новой технологии, пока новая техника еще, по существу, едва выходит из бумажных пеленок — чертежей. И тотчас же ответил себе: «Правильно! История не оставляет нам времени для раскачки, технологический прорыв нужно делать сегодня, сейчас, шаблонные решения постепенного врастания в будущее не годятся». Беловежский вошел в кабинет быстрым упругим шагом человека, уверенного в правильности избранного пути. Его переполняли бьющая через край энергия и радость. Но пребывать в таком состоянии ему было дано недолго. — Можно к вам? Срочное дело! — прозвучал по селектору искаженный аппаратом взволнованный голос Фадеичева. — Прошу. На Фадеичеве лица не было. — Мы пропали, Роман Петрович! — Так ли уж все ужасно? — спокойно произнес Беловежский, не желавший расстаться с владевшим им с самого утра настроением всесильной уверенности. — Мне только что сообщил надежный человек… Трушин собирается нам спустить дополнительный план — под филиал. Мол, раз завод получил дополнительные производственные площади, значит, должен давать и прирост продукции. Фадеичев выглядел виноватым. В конце концов, это он втянул директора в историю с филиалом. — Это же ерунда! Мы не скрывали от министерства своих мотивов. Филиал взяли временно. Они, что там, с ума посходили? Фадеичев пожал плечами: — Сила солому ломит. Увеличат план, и адью… Изволь выполнять. — А это мы еще посмотрим, скорректируют они или нет, — отвечал Беловежский. Год назад, в кабинете и. о. начальника главка Трушина, он отказался от корректировки плана — в сторону уменьшения. Теперь у него есть все основания, чтобы отказаться от корректировки плана — в сторону увеличения. Он будет отстаивать свою позицию. Если понадобится, перед самим министром. …Когда через две недели на завод пришел новый вариант плана, Беловежский, положив его в конверт, запечатал и отослал обратно Трушину. Без комментариев. После чего стал ждать вызова в Москву, на коллегию министерства. К нему вновь вернулось прежнее, тревожное настроение — предощущение надвигающегося боя.___
Профессор Ярцев снял очки (раньше говорили — роговые, сейчас не говорят, оправу делают из пластмассы, однако выглядит она лучше, красивее, чем прежде), потер переносицу, задумался. Свет из окна просвечивал тонкую дужку очков. В нежно-бежевой глубине проступала запрессованная внутри тонкая и прочная металлическая основа. «Зачем это понадобилось — запрессовывать, если пластмасса по прочности уже не уступает металлу?» Этим пустячным вопросом Ярцев хотел себя отвлечь от другого, более важного вопроса: что будет с фирмой «Эврика»? Минуту назад его рабочий кабинет покинул Евгений Сычев, заместитель директора по общим вопросам. Говорил азартно, доказывал: у фирмы отличные перспективы. Несколько лет назад, когда вопрос о внедрении в промышленность научных разработок встал особенно остро (подсчитали, что в дело идет не более двадцати процентов и ужаснулись), по всей стране стали создавать общественные конструкторские бюро. К Ярцеву явились «комсомолята», как он ласково называл своих молодых помощников, предложили создать при институте нечто вроде общественного хозрасчетного объединения, куда бы вошли молодые ученые и конструкторы, добровольно взявшие на себя нелегкий труд внедрения достижений науки в производство. Между Ярцевым и Сычевым, возглавлявшим в то время институтскую комсомольскую организацию, состоялся исторический диалог, напоминавший игру в вопросы и ответы. Ярцев: — Не пострадает ли основная работа? Сычев: — Ни в коем случае… Трудиться на «Эврику» будем только в нерабочее время. — «Эврика». Это что — название фирмы? — Угадали. — Раз хозрасчетная, значит, работать будете не бесплатно? — Конечно, нет. Мы живем при социализме. Каждому по труду. — А кому по шее? Мне? — Не совсем так. Мы хотим создать фирму при райкоме комсомола. От вас ждем поддержки и научного руководства. Будем работать по хоздоговорам, официально заключаемым с предприятиями. — Есть уже желающие? — Сколько угодно. Только свистни. — Так… Что нужно фирме, чтобы начать работать? — Ничего. Ни рубля денег. Ни одного гвоздя. Ни одного квадратного метра производственной площади. Правда, парочка кабинетов нам потребуется, райком обещал помочь. Ярцев задумался. По существу, на его глазах рождался новый принцип организации научно-исследовательских и внедренческих работ. Как к этому отнестись? По многолетнему своему опыту он знал, что каждое новое дело, каким бы оно на первый взгляд ни казалось привлекательным и перспективным, неизбежно обречено на долголетний, болезненный, чреватый опасностями процесс приживления, уже в силу того, что оно новое. А тут еще деньги! С другой стороны, как можно требовать от них, чтобы они делали огромную и общественно полезную работу «за бесплатно»? Ярцев прошелся по кабинету, остановился возле Сычева. Посмотрел в его лицо, узкое, заросшее рыжеватыми волосами (комсорг носил усы и бороду, придававшие ему явно не комсомольский вид), сказал: — Сильны ребята. Вон ведь как тонко все рассчитали! Старик на всех перекрестках кричит о малом проценте внедрения научных разработок. Тут мы ему и подсунем «Эврику». У него рука не поднимется перечеркнуть проект. Так ведь? Между усами и бороденкой комсорга родилось подобие улыбки. — Так вот мое решение. Сбреешь, Сычев, свою поповскую бороденку, тогда поддержу! Сычев на месте подскочил от радости: — Поддержите? — Поддержу. Сычев потоптался на месте, не зная, как выразить свою благодарность, потом выскочил из кабинета. Через секунду в дверной щели снова появилась его голова. — Хочу уточнить. А усы можно оставить? Ярцев вздохнул: — При одном условии. Если они не будут мешать работе. Усы, уменьшенные в размерах и аккуратно подстриженные Сычевым, не помешали. Для благодарственных писем отвели специальный ящик. Его открывали только для того, чтобы положить туда новые отзывы. Но сегодня у Ярцева мелькнула мысль: недалеко время, когда благодарственные отзывы потребуются для объяснений. Для оправданий. Как аргументы в споре, может быть, безнадежном. Ярцев встал из-за стола и быстрым шагом пересек кабинет по диагонали — самое большое расстояние по прямой. Он всю жизнь предпочитал прямые пути. Ярцев признался себе: ожидание неприятностей в нем жило давно. Не зря он так возражал против «появления» восторженной статьи об «Эврике» в одной большой газете. Стоит ли привлекать всесоюзное внимание к эксперименту, лишь недавно начавшемуся, действовавшему без утвержденного статуса, можно даже сказать, без законной основы? Сычев и другие ему отвечали: но разве эксперимент не оправдал себя? Разве не пора подвести под него эту самую законную основу? И не лучший ли путь к цели — гласность, публичное обсуждение накопленного опыта? Что Ярцев мог ответить? Только то, что мудрый герой крыловской басни: «Ты сер, а я, приятель, сед…» Опыт не подвел Ярцева. Вслед за хвалебной статьей газета напечатала в порядке обсуждения «сердитое письмо», разносившее в пух и прах идею хозрасчетной фирмы. Письмо называлось так: «Выгодно. Но кому?» Ярцев перечитал письмо дважды. Что ж, этому Б. Ревизорову (явный псевдоним!) в остроте глаза не откажешь. «Эврика», говорилось в статье, не зря свила гнездо под крышей райкома комсомола. Банковские счета общественных организаций весьма удобны. Во-первых, они не попадают на обычный контроль финорганов. Во-вторых, цифры переведенных на эти счета «безналичных» средств можно в любой момент превратить в наличные — зеленые трешки, синие пятерки и красные червонцы — и положить в кошелек. Мало того, что открываются лазейки для обогащения корыстолюбцев, еще и увеличивается количество реальных денег, находящихся в обращении, а следовательно, повышается нехватка товаров народного потребления, то есть искусственно создается дефицит». «Вот это: да! — чуть ли не с восхищением подумал Ярцев о Б. Ревизорове. — Эка загнул! Ему бы не письма писать, а прокурором работать!» «Жизнь есть борьба», — он снова, в который уже раз, успокоил себя этим нехитрым афоризмом. Что ж, Ярцев готов к борьбе. Жаль только, что зловещие тучи нависли над «Эврикой» именно сейчас, когда Ярцев решил возложить на фирму небывало сложную и интересную работу — участие в технической реконструкции привольского завода. …Спустя два дня позвонили из министерства и пригласили на заседание коллегии. И сообщили: будет слушаться отчет привольского завода. Ярцев воспринял этот звонок как знак свыше, во всех смыслах — в прямом и в переносном.___
Узнав о повторном вызове на коллегию (первый не состоялся из-за печальных обстоятельств — смерти матери), Беловежский, как ни странно, не встревожился, а, наоборот, успокоился. Даже почувствовал облегчение. Представьте, что вас долго мучит зубная боль и страх предстоящего лечения. И вот наконец сообщают день и час, когда вас примет врач. И — о чудо! — все страхи, которые только что терзали душу и воображение, куда-то отлетают. Даже зубная боль затихает. Вы говорите себе: да, меня ждут муки в зубоврачебном кресле, но они вполне переносимы, к тому же ограничены во времени — пять, десять минут, не более. Как-нибудь вытерплю, сдюжу, зато потом станет легче, боль совсем уйдет, я вновь сделаюсь здоровым человеком, смогу, как прежде, жить, действовать! Скорее бы уж наступил этот день! Нечто вроде этого испытал и Беловежский, пробежав глазами телеграмму, которую передала ему с озабоченным лицом Людмила Павловна. — Отчет о работе завода? Вызывают на ковер? Давно пора, — горько пошутил он. Задумался. О чем пойдет речь на коллегии? Ну, это-то ясно. Не только о работе завода. О самовольстве нового руководителя привольского завода, осмелившегося вернуть в главк документ, корректирующий годовой план в сторону увеличения, о пресловутом приказе, изменяющем формы и размеры оплаты труда заводских инженерно-технических работников, о реорганизации (будут, конечно, говорить, о «ликвидации») громоздкого отдела АСУ, о не согласованной с главком программе обновления производственных помещений, о таинственном «филиале», прибранном к рукам неизвестно для какой цели… Конечно, многие из этих вопросов, будь они своевременно согласованы с главком, вовсе бы не возникли. Но в том-то и дело, что Трушин занял по отношению к новому руководителю привольского завода позицию, исключавшую возможность каких-либо самостоятельных решений. И. о. начальника как рассуждал: уж если такому зубру, как Громобоев, это оказалось не под силу, то куда суется со своими проектами сосунок, который без году неделя как сидит в директорском кресле, а уже самонадеянно полагает, что ухватил бога за бороду. По существу, Беловежский обрекался на пассивное следование трушинским директивам и указаниям, как правило, не облегчавшим положение старого завода, работавшего на пределе своих возможностей, а, наоборот, еще более усложнявшим его. Роман Петрович давно уже понял, к чему приведет подобное «послушание», и решительно отказался быть пай-мальчиком. «Пусть лучше меня снимут за самовольство, чем за неспособность и бездеятельность», — сказал он себе. И вот теперь, в самые ближайшие дни, ему предстояло узнать, за что именно его накажут — за первое или за второе? Невеселая перспектива! В момент этих размышлений в кабинет вошел заместитель директора Фадеичев. Видимо, он считал своим долгом морально поддержать Беловежского. — Это все Хрупов, — усевшись в кресло, заявил он. — Кто его просил подписывать тот приказ в ваше отсутствие? Не ребенок, не мог не понять, чем это грозит, — давать ход документу, не согласованному с инстанциями. Захотелось похитить у вас лавры смелого реформатора? Вот пусть теперь и отдувается. С какой стати вам за него костьми ложиться? Мне говорили: Трушин буквально взбешен. — Трушин взбешен, а вот его аппарат придерживается другого мнения. Я тут говорил со знакомым инженером из главка. Так он нас нахваливает. Молодцы, мол, давно бы пора это сделать. При таких условиях, как у вас, можно работать, двигать вперед НТР… Если, говорит, после коллегии останешься на посту директора и приказ не будет отменен, все брошу и приеду в Привольск, поработать несколько лет. Надоело бумажки перелопачивать. — Если он хочет, чтоб приказ не был отменен, пусть действует, ваш дружок. Выяснит, как настроен министр, как замы… Это важно знать. Беловежский улыбнулся: — Чего тут выяснять! Заранее могу сказать: главный забойщик Трушин. Недолюбливает он меня. Где-то наступил ему на любимый мозоль. А министр… Что министр? Он молодой, решительный. Под трушинскую дудку плясать не будет. Однако действия его непредсказуемы. — То-то и оно, — озабоченно произнес Фадеичев. — Лично меня Хрупов беспокоит. Думаете, он будет там сидеть и отмалчиваться, ждать, пока с работы снимут? Как бы не так! Он постарается вызвать огонь на себя, приковать к себе внимание, а потом так обрисует положение на заводе, что вы окажетесь во всем виноватым… Ни за что не отдавайте ему инициативы. Надо дать понять: хозяин на заводе — вы, а не выскочка Хрупов! Вот увидите, он пойдет ва-банк. Для него это последний шанс. Другой такой в обозримом будущем вряд ли представится. Беловежский про себя не мог не признать обоснованности высказанных Фадеичевым опасений. Отношения с главным инженером были переменчивы и непредсказуемы, как море в осеннюю пору. Утром светит солнышко и зеленоватая гладь кажется отлитой из бутылочного стекла. А через пару часов глядишь — ветер натащил туч. По морю гуляют белые барашки, а ночью шторм, многотонные водяные громады обрушиваются на берег, сносят пляжные постройки, налетевший неизвестно откуда смерч вырывает с корнем могучие деревья!.. После заседания парткома Хрупов пошел было на сближение. Внес несколько дельных предложений по расстановке инженеров. У них стали устанавливаться хорошие рабочие отношения. И вдруг Беловежский узнает, что Медея и Хрупов втайне от него встречаются, решают судьбу подаренного им жене и затем украденного у нее кольца с аметистом. Это его возмутило. После того как снесенное Хруповым в милицию кольцо было возвращено Медее, заботу о нем Беловежский взял на себя. Взял кольцо, принес на завод и вызвал чертежницу Симакову, купившую кольцо на толкучке. Она явилась, испуганная и смущенная. Роман Петрович положил кольцо перед ней. — Это ваше? — Нет. То есть да… Я его купила. — За какую цену? Симакова потупилась: — За двести рублей. — Кто же покупает золотые кольца на толкучке? — вздохнул Беловежский. — Что ж, возьмите это кольцо. Вы за него заплатили. Оно ваше. Симакова отшатнулась: — Нет. Я не могу. Я же знаю, что оно краденое! — А с какой стати вам лишаться своих двухсот рублей? Они-то, рубли, не краденые, а честно вами заработаны. Я не могу допустить, чтобы вы оказались в убытке. Он вышел из-за стола и вложил кольцо в руку Симаковой. У нее от волнения вспотела ладошка и покраснел острый носик. — Я вас прошу. Возьмите. Подчиняясь просьбе, она взяла. В тот же день рассказала о разговоре с директором Хрупову. Наступившая было в отношениях Беловежского с главным инженером оттепель сменилась холодными заморозками. В Москву на заседание коллегии они добирались отдельно. Хрупов — поездом. Беловежский — самолетом.___
Массивные, с отполированными до блеска медными ручками двери зала заседаний коллегии министерства выходили на просторную лестничную клетку. Шарканье подошв о мраморный пол, приятный дымок заграничных сигарет, негромкие голоса, нервные смешки… Каждый из присутствующих уже побывал возле дверей, проверил: есть ли его фамилия в висевшем на стене под стеклом списке, озаглавленном: «На заседание коллегии приглашаются…» Беловежский и Хрупов в списке были. Заглянув в него, они разошлись в стороны. Беловежский выспрашивал у бывшего институтского сокурсника, а ныне сотрудника контрольной инспекции министерства, подробности работы коллегии, а мрачный, погруженный в себя Хрупов стоял у окна и дымил. — За отрасль отвечает министр. А коллегия… она ему помогает, что ли. — Помогает отвечать? — Да нет… Отвечает-то он сам. Помнишь ленинские слова: «Дальше абсолютно необходимого минимума коллегиальность не должна идти…» Вот она и не идет. Помогает министру разобраться в делах. Установить, кто прав, кто виноват. — Ну, это не трудно. Вот меня вызвали на коллегию именно потому, что заранее сочли — виноват. Считали бы, что прав, не позвали бы. Что же тут разбираться? — Не робей, — засмеялся приятель. — Главная твоя задача — произвести хорошее впечатление на министра. — И на коллегию? — Да, и на коллегию. — Ничего себе задачка, — поежился Беловежский и направился к внезапно раскрывшимся дверям зала. Встречным курсом с другого угла площадки двигался Хрупов. На его темных худых щеках играли желваки. Отчет привольского завода обсуждался в конце заседания. После Беловежского слово взял и. о. начальника главка Трушин. Вновь, как когда-то, Беловежский подивился его сходству со своим отцом. Нет, не внешнему. Отец подвижный, суховатый. Трушин ширококостный, грузный. А говорили одинаково веско, безапелляционно, словно давным-давно открыли для себя законы, управляющие всем сущим, объявив себя их хранителями и толкователями. Позиция довольно выигрышная. Она как бы отделяла их от других людей и возвышала над ними. Холодно-властные, они были уверены в своей непогрешимости. Что им еще оставалось, как не сокрушать каждого, кто осмелится посягнуть на их непогрешимость? — В последнее время было модным… вон даже иные газеты это оправдывают… нарушать закон. Нас убеждают, что хозяйственник, чтобы выполнить план, может, чуть ли не должен прибегать ко всяким противозаконным ухищрениям. Ловчат, левым путем приобретают материалы и оборудование, задабривают поставщиков, подмазывают, выплачивают в нарушение существующих правил всякие там надбавки и премии. — Это — безобразие! — резко произнес министр. — Мы будем со всем этим решительно бороться. Умение руководить в том-то и заключается, чтобы находить законные пути к цели. — Вы совершенно правы, Сергей Михайлович! А вот на привольском заводе дошли до того, что отменяют государственные задания, в нарушение существующих норм и правил вводят свои, местные, бросают на ветер народные деньги. Беловежский поднялся. — Что? Это действительно так? — отрывисто бросил министр. Несколько мгновений они пристально смотрели друг на друга — министр и директор. Оба были молоды, относительно, конечно. Молоды для своих должностей. Они могли в одно время учиться в институте, скажем, Беловежский на первом курсе, а будущий министр — на пятом. Однако сейчас их разделяло нечто большее, чем пять лет… Беловежский представлял небольшой, по масштабам страны, завод. Сергей Михайлович — правительство страны. Дистанция между ними показалась вдруг Роману Петровичу такой огромной, что у него закружилась голова, как будто он стоял на краю пропасти, над самым обрывом… Он почувствовал, как язык у него во рту распухает и делается вяло-неповоротливым. Издалека, с края стола послышался резкий голос Хрупова: — Разрешите мне объяснить! — Хрупов поднялся. — Что? Кто? Почему? Министру объяснили: главный инженер привольского завода Хрупов. — Что, Хрупов, к директору в адвокаты напрашиваетесь? — Никуда я не напрашиваюсь. Высказаться хочу. Тут и. о. начальника главка нас всех пугает… А мне, признаться, не страшно. Что он имеет в виду? Если приказ о новой системе оплаты труда НТР, то подписал его я, а не директор. Его тогда на заводе не было. Значит, мне и держать ответ. — Это верно, товарищ Трушин? Не дождавшись ответа Трушина на вопрос министра, Хрупов обидчиво произнес: — Раз я говорю, значит, так и есть. Вранья за мной не водится! Министр нахмурился. Он был молодой министр и пока еще полагал, что его авторитету может быть нанесен урон одной невежливой фразой, сказанной подчиненным. — А вы, товарищ Хрупов, не хорохорьтесь! Извольте спокойно и по-деловому изложить, что вы там натворили на привольском заводе. А вы, Беловежский, садитесь. Вам на этот раз повезло. У вас алиби. Все засмеялись. Напряжение разрядилось. Будто издалека, распыляемый огромной кубатурой зала, донесся голос Хрупова: — Наш эксперимент ставит своей целью… — Вы нам о вашем эксперименте не рассказывайте, а лучше скажите, кто вам дал право без разрешения министерства… — прервал его и. о. начальника главка. — Товарищ Трушин! Вы подаете плохой пример, — сказал министр. — Не мешайте Хрупову! Трушин с трудом дождался паузы в речи главного инженера, веско сказал: — Товарищ Хрупов приковывает наше внимание к второстепенному эпизоду. А речь идет о гораздо более серьезных вещах. О манкировании государственным планом, об отказе подчиниться указаниям вышестоящих инстанций. Дело доходит до того, что директивы министерства возвращают обратно. Наверстывая упущенное, Трушин быстро перечислил многочисленные грехи руководителей привольского завода. Беловежскому стало жарко, душно. Он пальцем рванул ворот рубашки под галстуком, маленькая пуговица оторвалась и покатилась по полу. — А теперь разрешите мне, — сказал он. Встретил напряженный взгляд министра, но усилием воли взял себя в руки, начал говорить спокойно, даже суховато: — Мы любим повторять фразу, что государственный план закон… — Это не фраза! — прервал его министр. — Увы, — не согласился с ним Беловежский. — Часто — только фраза, и я это сейчас докажу… На протяжении последних нескольких лет привольскому заводу в конце года регулярно корректировался план. — В сторону уменьшения? — Да… Что и позволяло нам кое-как справляться с выполнением плана, не числиться в отстающих. — Что же тут хорошего? Зря они вам шли навстречу, зря. Мы их за это накажем. — Сейчас не за что, — сказал Беловежский. — В прошлом году мы впервые за много лет с такой просьбой в главк не обращались. — Это правда, товарищ Трушин? — Попробовали бы они обратиться! — Отвечайте по существу. Обращались или не обращались? — Нет. — А план выполнили? Трушин нехотя разжал губы: — Выполнили. Беловежский быстро произнес: — Но если государственный план нельзя корректировать в конце года в сторону уменьшения, то также нельзя его изменять и в сторону увеличения… Без достаточных на то обстоятельств. Закон у нас, кажется, для всех один. Уверенность, с которой говорил Беловежский, по-видимому, произвела на министра впечатление. — Но ведь вам даны новые производственные площади, — сказал он. — Нам никто ничего не давал. Нам удалось отвоевать старый трамвайный парк… Ни единицы оборудования, ни одной копейки денег, ни одного человека! И вот под этот каменный сарай товарищ Трушин спускает нам дополнительное задание. — А зачем вам понадобился этот каменный сарай? — поинтересовался министр. — В настоящее время для того, чтобы, не останавливая производства, за счет временной перебазировки отдельных участков, привести в порядок завод. Он построен в начале века, обветшал, я могу показать фотографии… — Беловежский потянулся к папке. — Фотографии мы посмотрим потом. Вы сказали «в настоящее время». А в будущем? — В будущем мы планируем разместить там экспериментально-конструкторскую базу для технического переустройства завода на основе прогрессивной технологии с использованием гибких производственных систем. — Гибких производственных систем? — переспросил министр. — Я не ослышался? А мне докладывали, что вы на новую технику гонение устроили, АСУ прикрыли? Беловежский быстро сказал: — Не АСУ, она живет и здравствует… насколько это возможно при нынешнем состоянии производства. А вот отдел, который ее обслуживал, действительно подужали, нам люди для других целей нужны. — Для каких же? — Хотим добиться такого положения, чтобы технический прогресс на производстве превратился в единственное средство выполнения плана! — ответил Беловежский. — Мы тоже этого хотим, — сказал министр. — Но как сделать? Вы там, в Привольске, реально представляете себе масштабы задач и размеры собственных возможностей? У вас есть серьезный план? — Мы создали на заводе инициативнуюгруппу. Толковые ребята подобрались… Набросали проект технического перевооружения завода. Собираемся доработать с проектным институтом. А что касается новых технологий, но тут… — он запнулся, — есть еще белые пятна. Нам обещал помочь профессор Ярцев. Мы с институтом договор о содружестве заключили. Беловежский оборвал свою речь и твердо сказал: — После реконструкции будем с тем же количеством людей вдвое больше выпускать продукции. — Вдвое? Вон куда махнули. А это реально товарищ Ярцев? Заводчане не преувеличивают? Что думает об этом наука? Пока профессор Ярцев поднимался с места, чтобы ответить на вопрос министра, Хрупов успел выкрикнуть: — Удвоим! При условии, если главк будет нам помогать, а не совать палки в колеса! — Мы взялись! — раздался громкий уверенный голос Ярцева. Беловежский с радостным изумлением глядел на поднявшегося вдруг высокого осанистого седоволосого мужчину, о котором слышал от Хрупова. — Раз взялись, Андрей Андреевич, так сделаете? — спросил министр. — Конечно, сделаем, если не прикроют нашу фирму. — «Эврику»? — выказывая знание подробностей, спросил министр. — Так точно, Сергей Михайлович. Нас уже обвинили в газете. — Не волнуйтесь… В случае чего возьмем вас на поруки. — Покорно благодарю. Он сел на место под смех зала. — Замах у вас, товарищ Беловежский, бедовый. Посмотрим, какой будет удар… У вас все? Роман Петрович поколебался: говорить или не говорить? Решил сказать. — Год назад, когда меня назначили директором, я завел клеенчатую тетрадь. И вот месяц за месяцем, квартал за кварталом записываю в нее, какими могли бы быть показатели работы завода, если бы… — Он сделал паузу. — Продолжайте. Если бы… — нетерпеливо произнес министр. — …Если бы завод по собственной воле мог изменять структуру, штатное расписание, оклады, конечно, в пределах выделенного фонда, сам выбирал бы себе поставщиков… — Все хотите сами. А к нам почему не обратитесь? — Так ведь боязно: наши предложения по повышению производительности труда и качества продукции примете, а остальное останется как было. В зале раздались голоса: — Верно! — Демагогия, посредством которой товарищ Беловежский прикрывает свое неумение управлять заводом! — выкрикнул Трушин. Беловежский всем корпусом повернулся к и. о. начальника главка. — Сейчас вам достанется на орехи, товарищ Трушин, — со смешком сказал министр. Тут же согнал улыбку с лица, спросил у Беловежского: — А это правда, что у вас женщин во время смены вызывают с рабочего места в парикмахерскую прическу делать? — Правда. У нас работает группа социологов. Так вот она подсчитала: потери рабочего времени заметно сократились. Женщина без прически в театр или в гости не пойдет, вы это знаете… Под любым предлогом отпросится с работы в парикмахерскую. Там просидит два часа, заодно в магазин или на рынок завернет. А у нас по списку. Тридцать минут, и готово. Прямой выигрыш. Тем более что это время потом отрабатывается. — Ну если социологи подтверждают, мы поднимаем руки, сдаемся, — усмехнулся министр. — Теперь вот что скажите: кто у вас на заводе командует: вы или главный инженер? Беловежский понял, что любой его ответ на поставленный вопрос вызовет у аудитории смех. Поэтому сказал другое, как будто вопроса не было: — Приказ, за который нас сегодня песочат, составлен лично мной. В мое отсутствие его подписал главный инженер. Так что вся полнота ответственности за это, как и за остальное, лежит на мне. — Это хорошо, что вы друг у друга наказания вырываете, а не награды, — сказал министр. — И что на гибкие производственные системы замахиваетесь. Если уж перестраиваться, то на уровне самых последних мировых достижений! Это сейчас задача из задач. А вот что лезете в воду, не спрося броду, это плохо. «В области управления, говорил Ленин, ничего нельзя поделать нахрапом, бойкостью или энергией или каким бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще». Умение управлять с неба не валится, святым духом не приходит, этому необходимо обучаться. Вот мы вас и поучим! Беловежский и Хрупов вышли из зала и стали спускаться по лестнице. На одном из этажей сильно дуло из полуоткрытой фрамуги. Беловежский хотел было застегнуть ворот рубашки, но пуговицы на месте не оказалось. — Вот, пуговицу в зале оставил, — сказал он. — Скажи спасибо, что не голову. Снаряды ложились рядом, — ответил Хрупов. Они рассмеялись и поглядели друг на друга с симпатией, как когда-то, в прежние времена. Они вышли из министерства через стеклянные, раздвинувшиеся при их приближении автоматические двери и двинулись по Калининскому проспекту. Он был хорошо знаком им не столько по визитам в министерство, сколько по многочисленным кинозарисовкам, не сходившим с экрана телевизора. Конечно, хороша старая матушка-Москва, но и новая имеет немало поклонников. Калининский проспект с геометрическими линиями зданий, рациональной планировкой первых этажей, целиком отданных многофункциональным бытовым службам, с широкими тротуарами, по которым валом валил молодой, энергичный и красиво одетый народ, что там ни говори, в большей степени, чем старый Арбат, отвечает нынешнему ритму жизни. Так думал Роман Петрович. Он ночами не спал, размышляя о промышленных роботах, которые в будущем выстроятся вдоль обновленных корпусов привольского завода. Что же удивляться его прямо-таки страстной любви к новому Арбату — первой, подлинно современной артерии Москвы. — Ты, Николай Григорьевич, не сегодня-завтра позвони Ярцеву… Пригласи к нам в Привольск. Он ведь, кажется, воевал в наших местах? — А откуда ты это знаешь? — принимая предложенный Беловежским обратный переход на «ты», спросил Хрупов. — От отца. Они вместе из окружения выходили. «Вызов на ковер», в общем, закончился благополучно.ДОМ ПОД ГОЛУБЯТНЕЙ
Лина, узнав о появлении в Привольске матери Игоря, высказалась решительно: — Если ты немедленно не приведешь ее к нам, разговаривать с тобой не буду! Значит, так: завтра вечером у нас дома. И не вздумай отказываться. Подумать только: сначала Федя приехал. А теперь твоя мама. Двойная радость! Мысль забрать к себе из деревни Соленые Ключи сына Федю появилась у Примакова давно. Хоть и малец, однако заботы требует — и материальной, и всякой иной. Живой человек, а живому многого надо. Из сердца не выкинешь, из головы — тоже, утром встанешь, а внутри свербит, как они там, не больны ли, не голодны ли, не босы ли? На Тосю какая надежда. Она и в молодости странная была, а сейчас и того пуще. Как найдет на нее хворь, так она вовсе с постели не поднимается, обеда не готовит. Начнет сын плакать, есть просит, она погладит его вялой, бессильной рукой по голове, скажет: «А ты к Корякиным сбегай, попроси… Они добрые, авось не откажут». Малец подтянет спадающие штаны и шуганет по деревне пропитание искать. Иногда и матери кое-что принесет. Только Тося есть не станет. Скажет слабым голосом: «Иди-ка погуляй, да только смотри…» А куда смотреть, долго ли гулять и что потом делать — не скажет. Какая она мать? Ей самой до себя. Конечно, забрать мальца не трудно, да как с Дарьей быть? Что скажет, когда ненаглядный муженек приведет в дом сорванца и скажет: расти, корми да одевай, ласкай, выхаживай. И не то даже важно, что она, Дарья, по этому поводу подумает или скажет, а как это их жизнь повернет, в какую сторону? А ну, как все пойдет наперекосяк? Расползется семейная жизнь, как трухлявое сито, в котором Дарья моет мелкие плоды да ягоды, разлетится в разные стороны, попробуй тогда собери. Тяжелые мысли одолевали Дмитрия Матвеевича, мешали выкарабкаться из-под насевшей на него болезни. Однако Дарья не слепая, видит, что с ее муженьком происходит, какая забота у него на сердце. Однажды днем задремал Дмитрий Матвеевич, во сне стонет, мечется. Кто-то положил ему на лоб прохладную руку и ласково проговорил: — Митя, дорогой… Что ты кричишь? А вспотел-то как. Или приснилось что? Открыл глаза, увидал родное лицо жены. А рядом другое — худенькое большеглазое лицо Феди. Вот он. — Ты что, захворал? Смотри не помри, я теперя у вас жить буду! Тетя Даша! Можно я у вас в сараюшке голубятню сделаю? Дарья шмыгнула носом. — Можно. Мы и голубей купим. Поедем вместе на рынок и купим. — Вот еще! Деньги попусту тратить! Я лучше чужих приманю! Я умею. Не веря глазам своим, Дмитрий Матвеевич всматривался в такие близкие, такие любимые лица — Дарьи, Феди, а слезы так и лились…___
«Двойная радость», — сказала Лина о приезде Феди и матери Игоря. Ну, насчет Феди все ясно. А вот может ли радоваться Игорь неожиданному появлению Лизки? Он места себе не находит. Мать — избранница Лысенкова? Подумать только: Игорю остается сделать всего один шаг, чтоб вывести подлеца на чистую воду. И как раз тут на его пути становится мать. Не так просто нанести удар стареющей женщине в момент, когда ей кажется, что все ее мытарства позади и она приблизилась наконец к тихой гавани. Игорь понимает: обед у Примаковых нечто вроде его помолвки с Линой. Ему бы радоваться, однако парню не до веселья, никак не решит: что делать в сложившейся ситуации? Мать явилась к Примаковым в платье из люрекса и была похожа на певичку из ресторана «Антей». А пальцы унизаны кольцами, как у Медеи Васильевны. В ушах серьги с крупными зеленовато-фиолетовыми камнями. «Краденые камни приносят несчастье», — вспоминает Игорь слова Медеи. А какие еще и могут быть драгоценности у Лысенкова, как не краденые? Игорь стесняется матери. Напустила на себя необыкновенную важность. Начала с того, что скептически отозвалась о захудалом примаковском жилище («Неужели вам тут не тесно?! Я бы не смогла…») Не жалея слов, стала расписывать просторные лысенковские хоромы. Игорь не знал, куда от стыда деваться. Однако хозяева не обижались, пропускали бестактные Лизкины замечания мимо ушей, подкладывали гостье на тарелку куски домашнего пирога с капустой. — Разрешите мне… того-етого… как говорится… поскольку такое дело… Примаков, бледный и худой после болезни, в ставшем просторном праздничном пиджаке, на котором позвякивали боевые медали и мирные ордена, откашлялся. Ему конечно разрешили. Он повел речь об Игоре, с которым случайно познакомился в вагоне поезда и теперь выходит, так и будет с ним вместе ехать всю жизнь, до самой последней остановки. — До моей, конечно, — спохватившись, сказал Примаков. Он сообщил, что Игорь сразу «показался» ему, а потом, со временем, нравился все больше и больше. — Лучшего зятя мне не надо, — заявил Дмитрий Матвеевич, вогнал в краску дочь Лину, которая со словами: «Ну, папа ты уж скажешь», — вскочила со стула и убежала на кухню. Расхвалив Игоря за золотые руки — помог довести до ума сложное приспособление, не забыл Дмитрий Матвеевич и про его добрую душу. Вон какую голубятню мальцу, отгрохал, голубей подарил. При этих словах Федя повис на плече у Игоря. Зашептал: — Игорь, а у меня сизарь пропал! Утром еще был, а потом улетел и нету. Увидев, что парень чуть не плачет, Игорь его успокоил: — Ясное дело, твой сизарь к хозяину улетел, на Морскую улицу. Вот мы с тобой завтра туда пойдем, отыщем его, голубчика, и назад принесем. А под конец Дмитрий Матвеевич от души пожелал Игорю успеха в том большом и благородном деле, которое привело его в Привольск. В розысках деда, пролившего кровь за Родину. Лизка из этих слов мало что поняла, но тоже высказалась: — У меня для всех вас приятная новость: Адриан Лукич сказал: «Как твой сын женится на примаковской дочке, пусть живет с нами. Дом большой, всем места хватит, я не возражаю». Вот он какой! Дмитрий Матвеевич при этих словах закашлялся, пирог попал не в то горло, Лина снова выскочила из-за стола, а Игорь, хмурый-прехмурый, уставился в тарелку и на мать не глядит. А Лизке невдомек. Она хорошую новость принесла, а они надулись. Какие люди все-таки неблагодарные! Предчувствие Игоря не обмануло: праздничный обед у Примаковых не удался. Когда Игорь с Лизкой вышли на улицу и остались наедине, он в сердцах сказал ей: — Неужели ты, мать, всерьез думаешь, что Лысенков заботится о моем счастье? — Ты не знаешь, Игорек, какой он добрый. Мне шубу подарил, а племяшу золотые часы. Представляешь, снял с руки и отдал. И тебе он что-нибудь на свадьбу подарит. — Он уже подарил, — с горечью сказал Игорь. — Ты знаешь, как он расправляется с неугодными людьми? Стоило Заплатову выйти из-под его воли, и у него тотчас же сгорел недостроенный дом. А сам он пропал, будто сквозь землю провалился. Вчера меня чуть не сбила грузовая машина с заляпанным грязью номером. А сегодня при съезде с Лысой горы жму на тормоз, а он проваливается под ногой… Еле остановил машину, притер к насыпи. — Ой, Игорек, боюсь я за тебя! — говорила Лизка, — Пообещай мне, что будешь ездить осторожно. Игорь поглядел на Лизкино лицо — лицо состарившегося ребенка, не желавшего понимать жизнь, и махнул рукой: — Ладно. Не будем об этом.___
Игорь затормозил возле здания заводоуправления, недавно покрытого по фасаду светло-желтой метлахской плиткой, что придало ему нарядно-праздничный вид. У входа парень электродрелью со свистящим визгом сверлил дыры под новую — черная с золотым — вывеску: «Привольский компрессорный завод». Пока она стояла у его ног прислоненная к стене. К машине подошли двое — Роман Петрович и приезжий, которого Игорь вчера встречал на вокзале. То был московский профессор Андрей Андреевич Ярцев. Прибыв в Привольск, он изъявил желание проехать по местам, где сорок лет назад из вражеского окружения выходила его часть. Беловежский вызвался сопровождать его. Он давно уже испытывал угрызения совести: здесь, под Привольском, воевал отец, а он до сих пор не удосужился побывать в памятных местах. Машина вышла из города и некоторое время плавно катила по шоссе вдоль берега моря. День был осенний, ненастный. Небо над морем напоминало провисшую серую холстину, из нее сыпался мелкий дождь. Взъерошенное несильным ветром море выглядело как развороченная плугом пашня. Потом шоссе свернуло в сторону, в степь. Пейзаж мало изменился: то же серое небо, та же туманная даль. Полегший от дождя ковыль напоминал свинцовые волны. Ярцев нарушил молчание. — Если бы немного севернее от этих мест степь не переходила в лесостепь, сегодня я вряд ли ехал бы вместе с вами… Перестреляли бы нас, как куропаток. И снова наступило молчание. Каждый думал о своем. Игорь Коробов о том, что ему делать дальше. Мать в Привольске… Ее появление спутало все его планы. Он не обманывался насчет Лизки. Даже Бабуля называла ее «непутевая». Она неумна, эгоистична. А ее представления о счастье — несерьезны, ребячливо-наивны. Скорее всего, карточный домик ее иллюзий снова рассыплется сам собой, как это не раз уже бывало в прошлом. Простит ли Лизка ему крушение своих надежд на лучшую жизнь? Ведь, нанеся удар Лысенкову, он неизбежно повергнет в прах воздушный замок, который, может быть, в последний раз в своей жизни выстроила в мечтах его мать. …Роману Петровичу Беловежскому места, по которым они ехали, навеяли воспоминание об отце, об их последней, увы, малоприятной встрече. Недавно он снова побывал дома, вызванный тревожной телеграммой. Петр Ипатьевич медленно приходил в себя после тяжелого приступа. Причиной его послужил забавный щенок, которого он как-то раз привел с прогулки и поселил в своей комнате. Еще совсем недавно Петр Ипатьевич в городской газете метал громы и молнии против собак и собачников. Песик же, имевший счастье ему понравиться и взятый им в дом, как бы перестал принадлежать к постылому собачьему роду, а сделался частью жизни своего хозяина. Однажды, проголодавшись после долгой прогулки по привычному маршруту дом — овраг — деревенька — городской сад, Петр Ипатьевич с песиком зашел в кафе. Заглянул в меню, заказал два отбивных шницеля. Привыкший к вольностям у себя дома, песик встал на задние лапы и быстро сдернул с продолговатой алюминиевой тарелки свою порцию. Сидевший рядом гражданин схватил песика за ошейник и выкинул в окно. Петр Ипатьевич впал в бешенство. «Да как вы посмели! Смирно! Вы знаете, кто я? Да я вас…» Ему стало дурно. Выхаживала его рыжеволосая медсестра, которая поселилась в доме после смерти жены. При Романе Петровиче она вошла в комнату, чтобы сделать отцу укол. Он ворчал: «Еще вколешь какую-нибудь гадость». Видимо, подозревал женщину в том, что она вышла за него по расчету, чтобы завладеть домом и участком. Медсестра разрыдалась. «Если вы думаете, что я такая, распоследняя… зачем же звали?» — сквозь слезы проговорила она. «Ладно, ладно, я пошутил», — ответил Петр Ипатьевич. Он обращался с медсестрой так же, как с покойной матерью. Романа Петровича сцена покоробила. Несчастный старик! Всю жизнь тиранил мать, а теперь принялся за эту женщину. Что заставило ее связать свою судьбу со стариком? Должно быть, крах собственной личной жизни… Знает ли она, что попала из огня да в полымя? Перед отъездом у Романа Петровича состоялся с отцом неприятный разговор. Тот спросил: — Это правда, Рома, что ты собираешься перестраивать свой завод с помощью Ярцева? Роман Петрович, удивившись непонятной осведомленности отца, ответил: — Правда. И встревожился, увидев, как по лицу отца, и без того бледному, разливается мертвенная синева. — Ты этого не сделаешь! — Но почему? Что с тобой? Дать тебе лекарства или воды? Но Петр Ипатьевич пропустил мимо ушей заботливые восклицания сына. — Как ты можешь! Я же говорил тебе, что этот человек — причина всех моих несчастий! И ты, мой сын, протягиваешь ему руку?! — Я не знаю, что между вами произошло сорок лет назад. Сейчас это известный и уважаемый человек, фирма которого может принести заводу большую пользу. Это чисто деловой контакт, отец. Петр Ипатьевич цепко схватил сына за запястье горячей рукой: — Умоляю, Рома… Не делай этого. Он втянет тебя в трясину. Эта «Эврика» — ширма, за которой орудуют махинаторы. Они тебя погубят. У Романа Петровича мелькнуло подозрение. — Постой, отец. Откуда ты все это знаешь? — Я изучал… по прессе. И считаю, что… — Уж не тобой ли написана та злополучная заметка «Выгодно. Но кому?» Признайся, отец. Ревизоров — это ты? Петр Ипатьевич сел в постели. Теперь бледность сменилась лихорадочным румянцем. Жидкие волосы были взлохмачены. — Да, я! Что из того? Почему я должен молчать, когда недостойные люди на глазах у всех… — Господи! Зачем тебе это нужно? Навел тень на белый день. Начнутся комиссии, проверки. Отец выкрикнул: — Зачем бояться проверок тому, кто честен? Видишь, ты сам признал, что дело тут не чисто. Роман Петрович почувствовал, как в нем закипает гнев. В эту минуту отец уже не казался ему больным и не вызывал жалости. Он должен был сказать, не мог не сказать ему того, что рвалось сейчас наружу. — Ты помнишь — мы приезжали сюда вместе с моим водителем? Игорь расспрашивал тебя насчет того, второго, бойца, который отправился в разведку с твоим ординарцем Лысенковым? Ты ответил, что не помнишь. А Игорь выяснил, что отклик на его заметку с фотографией деда послал в газету ты. Значит, ты знал, что фамилия второго бойца Коробов. Знал, но не сказал? Петр Ипатьевич отвел глаза в сторону, сказал нетвердым голосом: — Рома, как ты разговариваешь с отцом? Неужели ты не понимаешь? У войны свои суровые законы. А кое-кто пытается сейчас оценивать то, что было, исходя из мерок нынешней мирной жизни. Я считаю это принципиально неверным, почему же я не могу высказать свое мнение публично? Роман Петрович поймал ускользающий взгляд отцовских глаз, сказал твердо: — Не может быть благородных поступков, в основе которых лежат неблагородные побуждения. Тебя не волнует судьба фирмы «Эврика», ты просто сводишь счеты с Ярцевым. И фамилию Коробова ты «позабыл» не случайно… Я тут читал недавно… За последние миллионы лет Аравийский полуостров снесло на несколько миллиметров. Я не знаю, почему сносит материки, а вот почему «сносит» людей, знаю: потому что у них нет простой нравственной основы. Такие люди не знают, где север, где юг, где черное и где белое, где честность и где нечестность. Это страшно, отец. …Сейчас, глядя из окна машины на приближающиеся кустарники, служащие началом леса, Роман Петрович с запоздалым сожалением подумал: пожалуй, он зря был так резок со стариком. Его военный опыт был отмечен крупной неудачей. И не уяснив для себя, в чем истинная причина этой неудачи, он не смог правильно построить свою дальнейшую жизнь. Это трагедия. Но первая жертва ее — он сам. Что там ни говори, а отец прошел сквозь огонь войны, был ранен и кровью оплатил если и не все, то хотя бы часть своих ошибок и заблуждений. Словно отвечая на его мысли, Андрей Андреевич Ярцев повернулся и сказал: — А вот тут мы проходили с вашим отцом. Воевали с гитлеровцами… и спорили друг с другом. Скоро дорога вбежала в густой лиственный лес. Кроны лип, берез, клена закрыли небо, и стало темно. Разговор затух, чтобы вспыхнуть вновь, когда деревья расступились, стало светло и машина, буксуя по осклизлой дороге, выскочила на пригорок. С него открылся вид на деревню. Ветер разорвал пленку туч, и солнечные лучи заблестели в окнах изб. — Соленые Ключи! — объявил Игорь. — Все-таки хороша жизнь, — сказал Ярцев. — Ум отказывается понимать, как могут люди, да еще ученые люди, находить оправдание ядерной войне! — Вы имеете в виду американца Тейлора и ему подобных? — Тейлор, конечно, большой негодяй. Ему мало водородной бомбы, в создании которой он участвовал. Теперь ему подавай «космические войны». Но есть и другие… Недавно я был на симпозиуме. Так вот один гусь познакомил нас со своей оригинальной теорией. Согласно ей, мы, люди, сидим, подобно гребцам в лодке, спиной к будущему. Судьбы нашего «шарика» предопределены где-то вне его пределов. Всеобщая ядерная война и последующая катастрофа не что иное, как запрограммированный в мироздании способ «разогреть» погасшую планету Земля и вновь вернуть ее в число живых планет. Стоит этот деятель на трибуне — упитанный, лощеный, в твидовом костюмчике — и спокойненько рассуждает о конце света. Побегал бы он, как я, по этим лесам с ДШК в руках, вот тогда бы его не потянуло на дерьмовые теорийки. — А что такое ДШК? — спросил Беловежский. — Пулемет. Мои ребята сняли его с обгоревшего самолета… Может, выйдем, разомнем кости? Они вышли. Дождь кончился. Ветер довольно скоро разогнал облака над деревней, погнал их в сторону леса. Ярцев спросил: — Вы не знаете, что это шофер так странно на меня все время поглядывает? — Его дед воевал под началом моего отца и погиб в этих краях. Он специально приехал из Москвы, чтобы разузнать что-нибудь о нем… отыскать могилу. Я познакомился с ним в поезде и пригласил к себе на работу. — Фамилия? — Коробов. — Коробов!…Рассказ профессора А. А. Ярцева:
— Когда решено было послать разведгруппу в сторону шоссе, чтобы наметить пути для отхода к своим, я тотчас же включил в нее вашего деда. Коробов был одним из лучших моих солдат. Кстати, ДШК с самолета снял и принес в расположение части именно он. В последнюю минуту в разведгруппу распоряжением майора был назначен его ординарец. Пренеприятнейший тип. Фамилии не помню, помню только, что он был огненно-рыжим. Ординарец утверждал, что они с Коробовым друзья, чуть ли не из одной деревни, и это, дескать, им поможет лучше выполнить задание. Положение было тяжелое. Ярцев помрачнел, призраки тех дней обступили его. …Раненый майор Беловежский, сбитый с толку трагическими событиями последних дней, потерявший уверенность в самом себе и в успехе, предложил рассредоточиться на мелкие группы и по ночам, скрытно, по возможности неслышно, таясь от противника, просачиваться сквозь сжимающее их кольцо окружения. Ярцев открыто, при всех, выкрикнул со страстью и злостью, переполнявшими его и наконец нашедшими выход: — Никогда не бегал по кустам, как заяц, и не буду! В повышенных тонах Ярцев изложил свой план — собрать все силы в кулак и, избрав верное направление, ударить. Их должно волновать не собственное спасение, а уничтожение максимально большего числа фашистов. Впоследствии, обращаясь мыслями к тому дню и своему тогдашнему поведению, Ярцев думал: изложи он свои мысли майору наедине, найди убедительные, не обидные для него слова, и вполне возможно, все повернулось бы по-другому. Однако они оба были тогда молоды и возбуждены. Майор не прислушался к доводам старшего лейтенанта. Единственное, на что согласился командир части, — это дождаться возвращения разведчиков и уже потом определить пути отхода. Разведчиков не было два дня. А затем вернулся один ординарец. Из его слов выходило, будто сам он действовал предприимчиво и смело, а старший по группе Коробов заробел, со страху выстрелил в гитлеровца, чем и сорвал выполнение задания — взять пленного. На обратном пути он вместе с мальчишкой-проводником подорвался на мине. — Вот ваш Коробов! — сухо сказал майор. — Я требую немедля выслать на шоссе людей для проверки обстоятельств боя! — сказал Ярцев. — Нам некогда заниматься проверками, старший лейтенант, — оборвал его Беловежский. Про себя Ярцев не мог не признать справедливости его слов. Оставаться на месте было нельзя, обстановка могла ухудшиться каждую минуту. Ординарец майора принес гитлеровский офицерский планшет. В нем была карта. Когда майор с картой в руках отправился в избу, Ярцев подошел к ординарцу. Сейчас он показался ему еще более неприятным, еще менее заслуживающим доверия, чем два дня назад, когда он вместе с Коробовым уходил в разведку. От Ярцева не могло укрыться, что при разговоре с ним ординарец нервничал, его прошибал пот, глаза бегали, в уголках губ вскипала пена. — Говори правду, только правду, а не то… — Ярцев положил руку на пистолетную кобуру. По телу ординарца прошла дрожь, он тоскливо поглядел в сторону избы, в которой только что скрылся расположенный к нему майор. У Ярцева был свой план… Он хорошо знал солдата Коробова, его мужицкую основательность, сноровистость в любом деле, за какое бы он ни взялся. Эти исконные его качества были усилены внутренней строгой дисциплиной, которую он обрел еще до армии, в бытность свою милиционером. Положение сельского милиционера, как бы предоставленного самому себе (ближайшее начальство в районном центре), развило в нем чувство ответственности. Оно не раз проявлялось в его нелегкой солдатской службе, и, в частности, в той истории с самолетом, где Коробов действовал на свой страх и риск, но обдуманно и четко, Ярцев это признал. Старший лейтенант не сомневался, что точно так же, хладнокровно, обдуманно и четко, Коробов вел себя в схватке на шоссе. Поэтому он не поверил ни одному слову ординарца. Сейчас ему важно было не столько уличить этого типа во лжи, сколько выяснить истинный характер полученных Коробовым разведданных, поскольку от них зависело, какое решение ими с майором будет принято — правильное или ошибочное. Коробову как старшему в группе было поручено, по возможности не обнаруживая себя, выяснить местоположение гитлеровских войск, плотность их боевых порядков в районе шоссе. И однако он принял решение атаковать шедшую по дороге немецкую машину. Чем это было продиктовано? — Отвечай быстро! — скомандовал Ярцев. — На протяжении какого времени велось наблюдение на шоссе? У ординарца на переносице выступили зерна пота. — У меня часов нет. — А что на руке? — Остановились. Видите, стекло треснуло… — Когда треснуло? — Да когда бой был… — Ну-ка покажи. Остановившиеся часы показывали без пяти шесть. «Как раз в это время и показалась на шоссе машина», — отметил Ярцев. — К дороге из леса вышли затемно? — Да, не видно было ни зги… — Так сколько же вы провели времени у шоссе? — Час просидели. Не меньше… «Ясно, часовое наблюдение за шоссе показало, что гитлеровцы или не дошли, или уже прошли, во всяком случае, дорога на длительном отрезке свободна. Поэтому он и решился перехватить одинокую штабную машину: был уверен, что подразделений противника поблизости нет… Тот факт, что немецкий «мерседес» шел без сопровождения, тоже говорил о многом. Ясно, что гитлеровцы крупными силами уже прорвались вперед. Отрезок шоссе, по которому шла одинокая машина, по существу, уже был для немцев тылом, что и породило у штабного офицера ложное чувство безопасности». Ярцев отчетливо представил себе нить рассуждений Коробова, как будто сам лично находился рядом с ним в то слякотное осеннее утро возле шоссе. «Надо немедля, думал Коробов, пока фрицы не спохватились, пересечь дорогу и идти на север для соединения со своими. Здесь немцы не ожидают удара, их легче застать врасплох. На юге, куда противник, стараясь замкнуть кольцо окружения, рвется с двух сторон, успеха добиться будет труднее». Что должен был делать Коробов, придя к такому выводу? Это ясно: позаботиться о том, чтобы раздобыть данные, убедительно подтверждающие справедливость своей оценки обстановки. Такими данными могли оказаться показания гитлеровского офицера или захваченные у него документы. По каким-то причинам Коробову не удалось полностью осуществить свой замысел. Более того, сам он погиб. Что было тому виной? Неожиданные действия противника или этот трусливый ординарец? На этот вопрос Ярцев в данную минуту найти ответа не мог. Он резко отвернулся и быстро направился к крыльцу, на которое несколько минут назад поднялся майор. Между ними снова вспыхнул острый спор, результатом которого было решение: майор с частью двинется на юг — он нашел на немецкой карте то, что искал, — подтверждение правильности избранного им направления. А Ярцев со своими людьми произведет разведку боем в районе шоссе и, если понадобится, задержит гитлеровцев, прикроет отход части. И тот и другой понимали, что это компромиссное решение. — Вашему деду я и мои товарищи обязаны жизнью, — сказал Ярцев Игорю. — Он действовал как разумный и храбрый солдат. Мне нравится, что вы так хлопочете о его памяти. Память нужна не мертвым, она нужна нам, живым. Особенно сейчас, когда, быть может, мы вновь стоим на пороге суровых испытаний. Зарево войны высветило тогда самые сокровенные качества людей. И мы обязаны воздать каждому по делам его. — А кое-кто утверждает, будто у войны была своя логика и нельзя судить о событиях тех дней с позиции наших сегодняшних представлений о добре и зле, — сказал Беловежский, вспомнив рассуждения отца. — Ерунда, — резче, чем ему хотелось, ответил Ярцев. — Понятия о добре и зле не меняются в течение тысячелетий. Тем и жив род человеческий. Но меньше всего меня сейчас волнуют абстракции. Добро и зло не существуют сами по себе, их носители — люди. И если приверженцы зла процветают, значит, зло набирает очки в извечной борьбе против добра. Под знамена зла тут же стекутся новые слабые души. Вот почему зло не должно оставаться безнаказанным, негодяи не могут торжествовать! Мы с вами не должны проигрывать им ни одной битвы! Игорь с облегчением вздохнул. Под влиянием ярцевских слов неразбериха, царящая в последние дни в его уме и сердце, улеглась, уступив место спокойной решимости. Директор и профессор заговорили о другом — о путях грядущей перестройки привольского завода. — Нам с вами, Роман Петрович, потребуется человек, который будет осуществлять повседневную связь между институтом и заводом. Так сказать, между наукой и производством… — сказал Ярцев. — Это должен быть человек с воображением, с научным, конечно. Он должен обладать способностью время от времени подниматься над грешной землей, над сегодняшними заботами и заглядывать в завтрашний день. Найдется у вас такой уникум? Перед глазами Беловежского тотчас же возникла высокая фигура в ковбойке и потертых джинсах, со связкой ключей, болтающихся в соответствии с современной модой на карабине возле пояса… Лева Злотников. «Этот парень своими ключами может открыть любую дверь», — подумал он. Вслух сказал: — Такой человек есть. Злотников. Ученик Хрупова. — Ну и добре.___
Сколько себя помнил Тимоша, в нем жила боль. Сначала она гнездилась в ноге, истерзанной осколками. Он не видел этих осколков. Но они часто снились ему — неправильной формы, грязно-серого цвета, с острыми зазубренными краями, на изломе сверкали кремневые зерна. Должно быть, кремень добавляли в металл, чтобы был тверже, глубже проникал в мягкую человеческую плоть. Иногда боль становилась нестерпимой. И тогда думал: может, лучше отнять ногу вовсе, чтобы вместе с нею отпала боль. Однако что-то заставляло его противиться этому неразумному желанию. Вместе с болью, подсказывал он, уйдет способность самостоятельно жить и двигаться. Это было бы пострашнее боли! Единственное, что он мог, — это двигаться. Производить какую-нибудь простую и тяжелую работу. Бог его силой не обошел. Но эта сила могла проявить себя только в движении. Обезножеть — это значило обессилеть. А обессилеть — значит умереть. Но умирать он пока не хотел. В этот день он пробудился, как всегда, рано. Еще темно, даже не видно досок потолка, но пройдет немного времени, и займется рассвет. Спал он мало. Ровно столько, сколько было нужно его телу, чтобы восстановить способность двигаться. Ровно столько, сколько позволяла боль, отступавшая на несколько часов перед усталостью. Как только появлялась сила, появлялась и боль. Когда-то мальчишкой он впадал в отчаяние от этого странного противоестественного союза, заключенного между силой и болью. Роптал. Но, заматерев, став мужиком, привык видеть в союзе силы и боли одно из проявлений царящего в жизни жестокого закона. Радости противостоит горе, сытости — голод, справедливости — подлость, самой жизни — смерть. А умирать он пока не хотел. Надо сперва воздать злодею по делам его. После этого можно и не жить. Эта мысль гнездилась в его голове давно, пожалуй, так же давно, как и боль. Боль все-таки, должно быть, появилась немного раньше, уж не она ли привела с собой мысль о возмездии? Об этом он не задумывался. Одно знал: стоит появиться мысли о данном себе и не выполненном зароке, как тут же подкатывает приступ нестерпимой боли. Правда, боль только начинается с ноги, а потом стремительно перемещается в туловище, начинает давить и раздирать грудь. В голове появляется шум, в глазах — красная пелена. В последние годы приступы участились, стали более тяжелыми. Он подумал: это ему за то, что не исполнил до сих пор своего долга. Исполнит — и приступы прекратятся. Почему-то он был в этом уверен. Теперь ждать осталось недолго. Если бы мог радоваться, он бы сейчас целиком предался этому чувству. Но он не знал этого чувства. Просто сжигавшее его нетерпение стало в последние дни особенно острым, просто непереносимым. Скорее бы, скорей! Резким движением, которые давно уже не позволял себе из-за ноги, он сел на лавку, охнул, но, не давая боли разрастись и завладеть им, поднялся, прошел босиком по горнице, зачерпнул кружкой воды, выпил. Прислушался к ноге. Она капризная, никогда нельзя заранее угадать, как поведет себя сегодня, какой фортель выкинет. Даст ему двигаться, жить или заставит весь день, скрючившись, проваляться на лавке, стонать от боли. Что сегодня? Отлегло: хотя боль и не покинула ногу. Нога — это ее дом, как его собственный дом — эта изба на берегу моря. Он слышал на Птичьем рынке разговоры: здесь пройдет приморская набережная. Всюду будет зелень и асфальт, будут гореть яркие фонари, играть музыка, гулять красиво одетые люди. Его все это не волновало. Он даже не задумывался над тем, где будет жить, когда дом снесут. К тому времени он успеет выполнить свой долг. А это главное. Теперь ему казалось, что жизнь его началась с того дня, когда он поклялся наказать подлеца, и закончится тогда, когда он исполнит клятву. Он, прихрамывая, прошел к столу, отщипнул от краюхи хлеба несколько крошек, бросил в рот. Захотелось еще. То был добрый знак. Есть хочется тогда, когда утихает боль, когда она не ест его самого. Он съел почти всю краюху. Сегодня он почти здоров. Даже весел. Он вспомнил, как еще мальчишкой-несмышленышем отомстил извергу, отняв у него единственное, что было в этом мире для него дорого, — деньги, богатство. Спрятавшись в кустах, мальчишка наблюдал за каждым его шагом. Он видел, как тот тащил через шоссе, к ольшанику, тяжелый ящик, прижал его к груди обеими руками, словно мать сосунка, как метался в поисках лопаты — вновь вернулся на шоссе, к валявшейся на боку машине, тускло светившей в тумане черными гладкими боками и хромированным металлом, как рыл яму у подножия сосны… Сколько раз впоследствии мальчишка, валяясь на больничных койках или на жесткой лавке в своем доме, представлял себе, как рыжий вновь возвращается к сосне, срывает дерн, выбрасывает землю и застывает, обнаружив, что тайник пуст. Да, он, мальчишка, сумел нанести ироду удар, но этого мало, мало! Око за око, зуб за зуб, смерть за смерть! Он не умел мыслить, борьба с болью отнимала у него все силы. Но инстинктивно чувствовал: не будь встречи с иродом, загнавшим его на мину, жизнь сложилась бы по-иному. Он мог быть счастлив, иметь жену, детей. Все отнял, проклятый. Как он хотел его найти! Не получалось. Однажды в московской больнице на глаза попалась газета, со страницы которой на него глянуло знакомое лицо. Иван! Он схватил газету со стола дежурной медсестры, проковылял в палату, забился в угол. Ивана разыскивал внук. Он хотел узнать, как погиб его дед-солдат, где его могила. Тогда он испытал два чувства — радость, что отыскались родственники Ивана, и угрызение совести — то был упрек ему. Уж могилу-то Ивана он мог обозначить. Знал, где он погиб. Видел собственными глазами. Поклялся себе: вот рассчитается с иродом, тогда и могилой займется. Соорудит. Он написал внуку письмо, обещал по выздоровлении зайти и все рассказать. Однако, с трудом разыскав после больницы нужный дом, в квартире никого не нашел. Соседи сказали: бабка умерла, парень куда-то уехал. Совсем потерял надежду разыскать ирода. И вдруг подфартило… Он рубил дрова на заднем дворе ювелира. Голоса, доносящиеся из открытого окна… Что заставило его бросить на траву стальной тесак, вонзить в чурбак топор и подойти к окну? Внутри у него все натянулось, напряглось, еще минута — и сердце разорвется. Он закрыл глаза, стараясь прогнать наваждение. Снова открыл. То был он, постаревший на сорок лет, не рыжий, а бурый. Спросил у ювелира: — Кто таков? Тот пожал плечами: — Заказчик. Он у меня уже был. Христофор Кузьмич пытался произнести эти слова небрежно, как ни в чем не бывало. Но по тому, как внезапно сорвался, упал до хрипоты голос, как испуганно метнулись под полуприкрытыми веками глаза, Тимоша понял, почувствовал нутром: хозяин знает, какой страшный человек перешагнул порог его дома под видом заказчика. Но пусть хозяин не тревожится. Есть кому отвести беду. Он выследил Лысенкова, отыскал дом ирода. Не дом, а дворец. Должно быть, супостат отыскал взамен утерянного другой клад. А может, порешил кого на большой дороге? Тщательно осмотрел толстые каменные стены дома, двухметровый забор, из-за которого доносился надсадный собачий лай. Попробовал подкараулить ирода в темноте. Застать его одного не удавалось. Да и не хотелось лишать ирода жизни тайно, исподтишка. Хотелось встретиться лицом к лицу. Излить в словах ту лаву ненависти, которая клокотала внутри все эти сорок лет. Увидеть следы страха на наглом лице. Решил: лучше, если встреча состоится в его доме, на тихой приморской улице, которую уже покинули люди. Под крышей, где столько лет в страданиях и муках росла и крепла мечта о конечном торжестве справедливости. Какой она ему представлялась. Накануне вечером пробрался к дому ирода и швырнул в стекло большой булыжник. Стоял, ждал, пока ирод появится на пороге. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Понял: он его узнал. После этого повернулся и, не таясь, заковылял к автобусной остановке. Он вернулся домой. И снова предался ожиданию.___
Игорь увидел возле универмага лысенковскую молочно-белую «Волгу» с черным задним стеклом и, перестроившись с нарушением правил с третьего ряда в первый, причалил к тротуару. Сердце стучало, как перегревшийся мотор, он не знал, что сделает, что скажет завгару, но чувствовал, что встреча эта окончится плохо. Однако в белой «Волге» Адриана Лукича не было. За рулем, развалившись, сидел племяш, бывший у Лысенкова на побегушках. Из распахнутых стеклянных дверей универмага валил народ. Люди с беспокойством поглядывали на низкое хмурое небо и раскрывали зонты. — Игоряша! Сыночек! — Игорь узнал голос матери. На Лизке надет серебристый плащ, на голове — косынка из такой же серебристой ткани, на туфлях серебристые чехольчики. В руках — коробки, пакеты, свертки. Она передала покупки услужливо подскочившему племяшу и потащила Игоря к входу в кафе-мороженое. Официант поставил перед ними металлические вазочки, в них лежали по три разноцветных шарика — сливочное, крем-брюле, шоколадное. Игорь мрачно слушал, как мать нахваливает нового своего спутника жизни. …Это была ее извечная мечта — отыскать мужчину, который будет ее «носить на руках» и «выполнять каждое желание». Теперь ей казалось, что эта мечта осуществилась. — Ты не думай, он тебе добра желает, сынок. Игорь заскрипел зубами и согнул в кольцо металлическую ложку, которую держал в руках. Лицо Лизки приняло плаксивое выражение. — Ты его не любишь, я знаю. А ведь он так много для тебя сделал: устроил в гараж, дал возможность заработать большие деньги, познакомил с Линой… — Он меня познакомил с Линой? Да он сам к ней сватался, этот старый хрыч! Он тут же пожалел о своих словах. Лицо матери приобрело беззащитно-растерянное выражение. Ярко накрашенные губы задрожали. — Ты плохой, неблагодарный. — А за что мне его благодарить? Он виновник гибели твоего отца. А может быть, и Бабули… Он и меня не прочь отправить на тот свет. Лизка замотала головой и заткнула уши пальцами: — Нет-нет… Ничего не хочу слышать. Тебе его оклеветали. Это все он, его враг, проклятый инвалид. — Инвалид? Что ты о нем слышала? Лизка широко раскрыла глаза, зашептала: — Ты понимаешь, у Адриана в войну были огромные богатства. Так вот этот тип взял и украл их у него. Представляешь? — Говори, говори… — Он задался цельюпогубить Адриана. По всей стране рассылает клеветнические письма, позорит его. А на днях знаешь, что сделал? Схватил огромный булыжник и как грохнет в окно. У меня рядом с головой вот так пролетело. Представляешь, еще несколько сантиметров, и все! Она вздохнула, облизала губы. — Но ничего. Сегодня все это прекратится. — Сегодня? — Игорь вздрогнул. — Что произойдет сегодня? — Они встретятся… И объяснятся. Адриан уверен, что ему удастся убедить этого человека в том, чтобы тот оставил его в покое. Да, да… Он так и сказал: «Больше он трепаться не будет. Прикусит язычок». Игорь схватил мать за руку: — Когда и где они встретятся? Лизка захныкала: — Отпусти… Ты сделал мне больно! — Когда они встречаются? Стараясь угодить сыну, Лизка проявила необычную для нее сообразительность. — Постой… Он сказал: «Вернешься из магазина, перекуси, прими ванну, закрутись и смотри мультики. А тут и я…» Из магазина я должна вернуться… — Лизка бросила взгляд на золотые часики, украшенные голубой, под цвет ее глаз, эмалью, — в пять тридцать… так… тридцать минут на перекусон… в ванне я провожу час… двадцать минут, чтобы закрутиться… Мультики… они больше двадцати минут, к сожалению, не идут… а жаль, я их обожаю! Так что выходит? Ну да, встреча у них часов в восемь. — Вычислила? Молодец. Она, как ребенок, радовалась своей находчивости. — Я уж не такая глупая. Правда. Ты меня слушай, я тебе плохого не подскажу. И вообще, мать есть мать! — Где они будут объясняться? — Наверное, у инвалида. — Адрес? — Не знаю. Правда, не знаю. Он помолчал, собираясь с мыслями. У него в кармане — пачка мелко исписанных листков, отчет Игоря следователю Толокно. Надо их скорее передать. Мало ли что может с ним случиться? — У тебя нет случайно пакета? Лизка нагнулась к сумке и извлекла оттуда целлофановый пакет, на котором была изображена девица, надевающая джинсы фирмы «Леви». — А попроще? Без девицы? Лизка во второй раз за сегодняшний день проявила находчивость: взяла и вывернула пакет наизнанку. Теперь он стал гладкобелым. Игоря словно током ударило. Наблюдая за манипуляциями матери, он вдруг вспомнил другие руки, не молодые, белые и мягкие, а старые, худые, с задубевшей от черной работы кожей — руки Бабули. Сидя в халате на диване, Бабуля высыпала в ложку из конверта сильно пахнущий травяной порошок. Конверты с порошками: «наперстянка», «ландыш», «африканский строфант» — она хранила в коробке из-под печенья «Крымская смесь». Иногда она выворачивала конверты наизнанку, чтобы они были как новые. Он вскочил с места и бросился к выходу из кафе. Вслед ему летел испуганный голос матери: — Игоряша! Куда же ты? Я что-нибудь не так сказала? Да?! — Все так! Спасибо! Через час Игорь дозвонился в Москву Юльке, попросил ее отправиться на кухню, взять из шкафчика картонную коробку из-под печенья и вывернуть хранящиеся в ней конверты наизнанку. Через пять минут Юлька сообщила ему адрес: г. Привольск, Морская улица, дом № 13. Фамилия? Ерофеев Т. Ф. И тут Игорь понял, что знает этого человека. «Знает» — это сильно сказано. Человек без возраста, но скорее старый, чем молодой. Волосы закрывают лоб, спутались с усами, бородой. Глухой, ровный голос. Где он его видел? В последний раз — на Птичьем рынке, куда отправился вместе с Примаковым Федей покупать голубей. …Какой только живности не было на этом рынке! Поначалу Федя надолго застрял у клетки с попугаями. Попугаев было двое — желто-зеленый самец и серенькая самочка. Перед серенькой птичкой висело кругленькое зеркальце с колокольчиком. Сидя на жердочке, самочка то и дело поглядывала в зеркальце, вертела головой, охорашивалась. В потоках воздуха зеркальце поворачивалось, колокольчик позвякивал. Игорь спросил у мальца: — Может, попугаев хочешь? Дороговато, конечно, но если по душе… — Не, дядя Игорь, ну их! Мне бы голубей! После долгих поисков Игорь и Федя отыскали наконец то, что было нужно. Показавшийся знакомым инвалид продавал пару голубей. В разговоре выяснилось, что дома у него есть еще десяток. Он продал бы их всех в одни руки. В хорошие. — Переезжаете в многоэтажку? — догадался Игорь. — В больницу кладут. Он и вправду выглядел нездоровым. Землистый цвет лица, взгляд, обращенный вовнутрь, как бывает у людей, которых постоянно гложет боль. Был он неухоженным: одежда хотя и чистая, но старая, бесцветная, мятая. Они все вместе отправились к нему домой на Морскую улицу. Домик, где жил инвалид, был землисто-серым, как и его хозяин. Голубятня, в виде башенки возвышавшаяся над крышей, по контрасту с домом была светлой, легкой, ажурной. Видно было, что хозяин голубей любил, к себе же относился с полным равнодушием. Он взобрался на голубятню, посовал птиц в прихваченный с собой мешок, сунул его в руки Игорю и, понурясь, вошел в дом. — А деньги? Сколько я должен? — крикнул ему вслед удивленный Игорь. Хозяин вернулся, глядя куда-то в сторону, протянул широкую, как лопата, заскорузлую ладонь. Игорь положил в нее деньги. Тот, не считая, сунул их в карман и скрылся, не сказав на прощание ни слова. На другой день половина голубей, выпущенных Федей в небо, улетела и не вернулась. Пришлось Игорю снова отправиться на Морскую улицу. На его счастье, инвалид оказался дома. Он сидел на коньке крыши и из рук кормил сизаря. Поодаль примостились остальные голуби. Увидев Игоря, хозяин безропотно собрал голубей и снова вручил их новому владельцу. — Приручать надо, — буркнул он. — Почему одни улетают, а другие нет? — спросил Федя. Игорь, в детстве сам гонявший голубей, ответил: — У тебя остались тучерезы. Они кружат над домом. А почтовые могут улететь на восемьсот километров. Но вернутся, если ты их приручишь. Вскоре Федя под руководством Игоря приручил голубей. Больше они уже не улетали. Кроме одного сизаря. Федя уже пару раз бегал за ним на Морскую улицу. По дороге с почтамта домой Игорь забежал в горотдел милиции. Следователя Толокно на месте не оказалось. — А где он? — спросил Игорь у дежурного — молодого рослого лейтенанта. — В деревню уехал сына женить, — добродушно ответил тот. — А когда вернется? — Недели через две. — Вы не могли бы ему кое-что передать? — Смотря что, — ответил лейтенант. Игорь достал из пакета и передал ему стопку исписанных листов. Неужели хозяин голубей и есть тот самый Тимоша? Единственный свидетель гибели деда? Человек, за которым охотится Лысенков? Оказывается, Игорь встречал его и ранее. В первый раз, когда Тимоша на дворе у Христофора Кузьмича рубил дрова. Во второй раз в краеведческом музее, где он исполнял при Окоемове роль не то помощника, не то истопника. Третья встреча была на Птичьем рынке. Какой окажется следующая? И чем окончится? Удастся ли Игорю отвести от Тимоши угрозу? Услышит ли он от него то, что хочет услышать?___
Ночная тьма опустилась на город и его пригороды. Она стала такой плотной, что редким светильникам едва-едва удавалось вырвать у нее небольшие желтые окружия, дрожавшие и перемещавшиеся по выщербленному асфальту в зависимости от порывов ветра. Где-то поблизости погромыхивал лист железа на ветхой крыше. Это была странная улица. На выщербленном тротуаре ни одного прохожего. В лепившихся друг к другу кособоких домишках ни одного светящегося окна. Улица была ближней к морю. Гулявший по ней ветер бросал в лицо мелкие соленые брызги. Игорь двигался вперед в полной темноте, стараясь производить как можно меньше шума. Не получалось. Треснет под подошвой стекло, зашуршит, зашепчет что-то зловещее ворох старой бумаги, зазвенит отброшенная в сторону дужка от ведра. Звуки били по натянутым нервам, усиливая владевшее им чувство тревоги. Что привело его сегодня в столь поздний час на эту безлюдную улицу? Желание спасти инвалида? Но откуда он взял, что ему угрожает опасность? И вообще все это бессмысленно. Даже если он и спасет его сегодня, что помешает свершиться черному делу завтра? Тем не менее он убыстряет шаг. Вот и знакомый домик с прилепившейся к крутому скату крыши голубятней. Он подходит к окну. Света нет. Скорее всего нет и хозяина дома. Игорь топчется на месте. Что-то мешает ему повернуться и уйти. Толкает ногой калитку. И вздрагивает от громкого скрежета давно не смазанных петель. Что это? На дорожке, ведущей в глубь дворика, лежит тусклый квадрат света, падающего из окна. Игорь возвращается к входной двери, стучит. Ответа нет. Тогда он плечом нажимает на дверь. Она раскрывается. Игорь достает из кармана разводной ключ и шагает в темноту. Еще одна дверь. Она полуоткрыта. Прислушивается. Ни звука. Делает шаг. Протискивается в слабо освещенную комнатенку. На столике, застланном старой клеенкой, лампа без абажура. Рядом с лампой — пустая клетка для птиц. Нет ни птицы, ни хозяина. Он натыкается на опрокинутый табурет. Наклоняется, чтобы поставить его на место, и в ужасе замирает. На затоптанном полу ничком лежит человек. Одна рука неловко подвернута под туловище. Лысенков! От неожиданности Игорь вскрикивает и выпускает из рук разводной ключ. Он с глухим стуком падает на пол. В лужу крови. Опоздал! В скованное ужасом сознание врывается визг автомобильных тормозов, топот ног на крыльце, голоса. Милиция! Странная апатия овладевает им. Так, должно быть, чувствуют себя подводники. Вся предшествовавшая погружению жизнь с ее радостями и печалями, где-то еще существует, но, отделенная от них многометровой толщей воды, кажется далекой и нереальной.ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
В то утро Роман Петрович Беловежский проснулся с хорошим настроением. Никакие дурные предчувствия не мучили его. Солнце, собрав слабеющие силы, выпустило в сторону Привольска мощный поток лучей, прежде чем уступить зимней непогоде. Весело блестели вымытые стекла, шумно чирикали под окнами воробьи, легкомысленно радуясь вернувшемуся летнему теплу, с кухни доносились дразнящие запахи свежемолотого кофе, звуки расставляемых чашек, позвякивание ножей и вилок. Роман Петрович, обычно не любивший разлеживаться в постели, на этот раз несколько минут пребывал в неподвижности, прислушиваясь к своему собственному состоянию. Минул год его директорствования на привольском заводе. Всего лишь год? Ему казалось, что прошло гораздо больше времени с того дня, когда он впрягся в этот воз. Он знал, что будет не легко. Но не ожидал, что так трудно. Его предшественник Громобоев, казалось, выполнял свои сложные директорские обязанности легко, играючи. Было впечатление, что он появился на свет, чтобы директорствовать, распоряжаться судьбами завода и людей. Только теперь Беловежский понял, чего стоила Громобоеву эта легкость. «Надо навестить старика, давно у него не был, — подумал Беловежский. — Может быть, спросить: не захочет ли вернуться в этот особняк?» Тут же ответил себе: нет, не захочет. Если бы захотел, не был бы самим собой, Громобоевым. То, что Беловежский давно не навещал Громобоева, отнюдь не было следствием его черствости или забывчивости. Нет. Не было дня, чтобы он не вспомнил старика. Потому что не было дня, когда бы не приходилось ломать того, что было заведено еще при Громобоеве. С чем же было к нему идти? Роман Петрович мог заранее предугадать, что скажет ему старик: «Ломать, Рома, легко, вот строить… трудно». Сейчас, конечно, было еще далеко до того момента, когда вырисуются контуры обновленного привольского завода. Но направление, по которому пойдет его перестройка, уже определилось. После заседания коллегии министерства Роман Петрович мог это сказать себе и другим с полным основанием. Вот почему у него возникло желание не сегодня-завтра навестить Громобоева. Теперь ему было что сказать старику, объяснить — во имя чего затеяна ломка. Трель телефонного звонка отчетливо разнеслась в утренней тишине. Послышались легкие шаги Медеи за полуприкрытой дверью. Раздался ее приглушенный, еще не освободившийся от сонной хрипотцы голос: — Да, это квартира Беловежского. Он еще спит… Это его жена. А что случилось? Что?! Я его сейчас позову. Медея появилась в дверях спальни. — Что там? — спросил Роман Петрович нарочито спокойным голосом, не желая расставаться с тем состоянием душевной умиротворенности, с которой пробудился сегодня. — Арестован твой шофер Игорь Коробов. Он подозревается в убийстве завгара Лысенкова! — Что?! — Боже мой, какая неприятность! — прижав руки к груди, сказала ему Медея Васильевна после того, как он, закончив разговор со следователем горотдела милиции, положил трубку на рычажки. — Он же бросил тень на твое доброе имя, Рома! Беловежский с недоумением посмотрел на жену и начал быстро одеваться.___
Для расследования убийства гражданина Лысенкова была создана оперативно-следственная группа во главе со следователем прокуратуры. В нее вошли следователь Толокно и инспектор Зубов.___
Молодой следователь Люсин, которому временно в отсутствие уехавшего в кратковременный отпуск Толокно поручили дело об убийстве на Морской улице, зашел к начальнику отдела капитану Сарычеву и положил ему на стол несколько листков, соединенных канцелярской скрепкой. — Что это? — Письмо подозреваемого Коробова на имя капитана Толокно. Оно написано еще до убийства. Передано в день убийства им самим дежурному по горотделу. — А кто нам, кстати, сообщил о предполагаемом преступлении? — Невеста Коробова Примакова. — Та самая, у которой мы брали подписку о невыезде? — Да… Она оказалась не виноватой. — Что ж это она? Хотела заложить дружка? — Говорят, что, наоборот, хотела его спасти. Боялась, что на него нападут. Начальник отдела рассмеялся: — Удружила, нечего сказать! Мотивы преступления выяснили? Он придвинул к себе листки и углубился в чтение: «На автовокзале города Привольска орудует подпольная группа махинаторов. Они имеют личные машины или работают по доверенности. Занимаются левыми ездками…» Дочитав, сказал: — Ну, тут все ясно. Видимо, с Лысенковым деньги не поделили. Вот тебе и мотив для убийства! — Мотивов тут больше чем достаточно, — сказал Люсин. — Этот Коробов считал Лысенкова виновником гибели своего деда. — Уже разобрался? Что ж, поздравляю. Готовь обвинительное заключение. Люсин помялся: — Не рано ли? Сарычев поднял голову: — Считаешь, что у нас недостаточно доказательств, подтверждающих вину Коробова? Ну и ну! Задержан на месте преступления? — Да. — Орудие убийства — разводной ключ принадлежит ему? — Ключ действительно принадлежит ему. Однако эксперты сомневаются, что смертельное ранение Лысенкову могло быть нанесено этим ключом. — Сомневаются? А что, удалось отыскать другое орудие убийства? — Нет. — Так, может быть, у нас есть улики, указывающие, что преступление совершено другим лицом? — Достаточных улик против других лиц пока нет. — Тогда в чем дело? Люсин задумчиво посмотрел в окно. Дубовый лист прилип к стеклу. Он был похож на отпечаток грязной ладони на светлой прозрачной стене. — Понимаете какое дело, товарищ капитан. От народу нет отбоя. Все идут и идут. Утверждают в один голос, что Коробов не мог совершить убийства. — А кто же его совершил? Святой дух? Люсин выложил последний козырь: — Директор завода товарищ Беловежский тоже уверен в невиновности Коробова… Может быть, дождемся капитана Толокно? Говорят, он был раньше знаком с задержанным, ему знакома его личность… — Ждать Толокно? А сроки? — Он через пару дней выйдет. — Как? Уже? Ну, ладно, будь по-твоему, — нехотя согласился Сарычев.___
Дмитрий Матвеевич Примаков, бледный от перенесенной болезни и нового, свалившегося на него несчастья — ареста Игоря, звеня орденами и медалями, вошел в кабинет следователя Толокно и сердито проговорил: — Где это видано, чтобы ни в чем не повинных людей в тюрьму сажать? — Во-первых, не в тюрьму, а в изолятор. А во-вторых, мы с посторонними людьми своих дел не обсуждаем. Этот Коробов кто вам — сват или брат? — Не сват и не брат, однако, может, скоро родней станет. Лучшего зятя я бы не хотел. — Хорош зятек, в убийстве подозревается, — поддразнил Примакова Толокно. — Вы того, товарищ следователь… Говорите, да знайте меру. Нет за Коробовым вины! — Так вы его выгораживать пришли? — То есть, как это, того-етого… выгораживать? Выгораживают подлецов да жуликов вроде вашего Лысенкова. — Выбирайте выражения! Вовсе он не мой. А потом — кто вам сказал, что Лысенков подлец и жулик? Коробов? — Кое-что порассказал, не скрою. Да я и сам не слепой, шестой десяток землю топчу. Этот Лысенков был такой тип… Как его только земля носила! — Как я вижу, вы, гражданин Примаков, разделяли с Коробовым его ненависть к Лысенкову. — Ничего я ни с кем не разделял, — почуяв подвох, сказал Примаков. — Вы еще скажете, что мы… того… вместе его порешили. — Вас лично никто не подозревает, — заметил следователь Толокно. — Я вам говорю: никогда бы на такое дело Игорь не пошел. Да вы сами посудите. Коробов оставил в Москве квартиру, работу и сюда приехал… не за заработком. Они у него и так неплохие были, таксистом работал, у него цель какая была? Могилу деда своего, солдата, отыскать. О добром имени его позаботиться. Вот и посудите, может такой человек собственное доброе имя в грязь затоптать? Людей о нем поспрошайте. Они вам расскажут, что это за человек, чем дышит, что у него главное, в жизни. — Все это так, — сказал Толокно. — Однако улики… — Ничего не стоят все ваши улики против факта человеческой жизни: честный работящий парень. Вот вам весь сказ. — Ваша позиция мне ясна, Дмитрий Матвеевич. Вы мне лучше вот что скажите: куда у вас пуговицы с рукавов подевались? Примаков непонимающе глядел на следователя: — Какие пуговицы? При чем тут они? — Маленькие, металлические… думаю, были такие же, как вот эти, только поменьше диаметром, не так ли? Примаков вывернул руку, приблизил обшлаг рукава к глазам. — И впрямь нет. Ух, Дарья. Совсем мужика запустила. Выдам жинке по первое число. — Семья большая? Дети малые в доме есть? — Какая большая… Я, жена, дочка да сын. — Сколько ему? — Девять лет. Федей звать. Сынок. Шустрый такой мальчишка. Целыми днями на голубятне сидит. — А вы не будете возражать, если я как-нибудь к вам в гости зайду? — Милости просим! Чаю попьем с бубликами.___
Он возникает в комнате следователя Толокно бесшумно. Еще секунду назад его не было, и вот он уже стоит у стола. Румяные щечки, седая бородка клинышком, спортивная куртка. На голове яркая вязаная шапочка с помпоном. Современный гномик, прибывший по судебной повестке. — Я и сам собирался к вам, — с мрачной торжественностью объявляет ювелир. — Собирались? По какой причине? Если не секрет? Христофор Кузьмич тяжело вздыхает. Он снимает свой вязаный колпак и хватается за табуретку, чтобы подтащить ее поближе к столу. — Я пришел с повинной, — торжественно сообщает он. — Сорок лет назад из-за моей халатности утеряны ценности артели «Красный ювелир». Их украли. Но я расплатился… Да, да… Передал в руки представителей подполья другие ценности… У меня есть… то есть была расписка. — А где она, расписка? — Хранилась в сейфе. Но он не так давно был похищен из моего дома. Следователь просит Христофора Кузьмича подробно рассказать о том, что произошло в промозглый сентябрьский день 1942 года на шоссе, ведущем в Привольск. Когда ювелир оканчивает свое повествование, Толокно спрашивает: — Почему вы решили рассказать об этом только сейчас, спустя сорок лет? Ювелир часто-часто кивает, клинышек бородки трясется. — Я знал, что вы зададите этот вопрос! Я молчал потому, что… Потому, что… — Он не знает, что сказать, и выкрикивает: — Но я ведь вернул! — Понятно, — говорит следователь. — Вы боялись ответственности за свою халатность. А теперь уже не боитесь, потому что истек срок давности? Христофор Кузьмич отрицательно качает головой. — При чем тут это? Для совести нет срока давности. Если бы вы знали, сколько бессонных ночей я провел, проклиная тот день и час, когда согласился взять на себя ответственность за имущество артели! — Могу вас успокоить. Имущество артели нашлось. В похищении ценностей участвовали инкассатор и его дружки… Но воспользоваться награбленным им не удалось. Попали под бомбежку и погибли. Ящики, обнаруженные в кустах у дороги, спрятал у себя в сарае сельский кузнец. Когда гитлеровцев прогнали, он передал ценности властям. Я знаю об этом от отца, он тоже был следователем, и именно ему в свое время довелось заниматься этим делом. Христофор Кузьмич обхватил голову руками. — Боже мой! Выходит, я возместил пропажу, которой, в сущности, не было?! Подумать только, по собственной воле отдал драгоценности на сотни тысяч рублей! — вырвалось у Христофора Кузьмича. Следователь прищурился: — А откуда у вас, позвольте спросить, скромного труженика артели, появились такие сокровища? — Это клад! Я нашел клад… Христофору Кузьмичу ничего не оставалось, как поведать следователю о содержимом стального сейфа фирмы «Остер-Тага», волею обстоятельств попавшего к нему в руки. — Так… — следователь задумался. Потом задал вопрос: — Не эти ли сокровища интересовали лиц, похитивших недавно из вашего дома упомянутый сейф? Христофор Кузьмич сидел понурившись. Потом поднял голову и начал рассказывать: — Все началось с этого проклятого кольца… — Какого кольца? — Кольца с аметистом. О! Кровяной аметист — это коварный камень! — Ювелир говорил словно в бреду. — Созвездие аметиста Овен, он господствует в небе с двадцать первого марта по девятнадцатое апреля. Если человек появился на свет именно в этот период, аметист будет благоприятен для него. Если нет… — Вы, видимо, появились на свет в иное время. Так в чем же коварство аметиста и как оно, это коварство, проявилось по отношению к вам? — сдерживая улыбку, спросил Толокно. — Подлинными талисманами считаются камни подаренные или полученные по наследству, — не отвечая на прямо поставленный вопрос, произнес ювелир, — купленные становятся ими лишь спустя много лет… А краденый аметист приносит своему новому, незаконному владельцу страшное несчастье. Толокно усмехнулся: — Выходит, кража аметиста — преступление — уже само таит в себе неотвратимость наказания. Любопытно! Но ближе к делу. Итак, к вам в руки попало краденое кольцо с аметистом… Дальше! — С этого все началось… Женщина, которая сдала кольцо мне на переделку, видимо, сообщила своим сообщникам о сейфе «Остер-Тага», и тогда они похитили у меня сейф. — Вы знаете, кто это сделал? — Знаю, потому что этот страшный человек пришел ко мне. В грубой форме он потребовал вернуть драгоценности… — Это был Лысенков? — Да. — А как ценности попали к нему? Вам что-нибудь известно об этом? — Он обнаружил сейф в немецкой машине… Награбленное добро… — От кого вы об этом узнали. От Лысенкова? — Нет… От Тимоши Ерофеева. Он был свидетелем боя на шоссе… видел, как Лысенков обнаружил, а затем закопал сейф. Лысенков хотел устранить свидетеля, погнался за Тимошей. Убегая от своего преследователя, он подорвался на мине. Я подобрал Тимошу раненого возле дороги и спас ему жизнь. Он был благодарен мне. — Как Ерофеев относился к Лысенкову? — Считал его виновником своих бед. Ненавидел этого человека. Искал его долгие годы, но не мог найти. — При каких обстоятельствах произошла их встреча? — Это случилось в тот день, когда Лысенков пришел ко мне в дом во второй раз, Тимоша увидел его поднимающимся на крыльцо и стал за ним следить. — С какой целью? — Я этого не знаю. — Как подействовала встреча с Лысенковым на Ерофеева? — Ужасно. Он был страшно возбужден! Еще бы, сорок лет отыскивать негодяя и потом вдруг столкнуться с ним нос к носу! — Убийство Лысенкова избавило вас от его домогательств. Не так ли? — Не полагаете же вы, что я… что мы с Тимофеем… — Вас я не подозреваю. Но разве не мог Ерофеев, который, как известно, вам лично был весьма предан, попытаться освободить вас от опасного врага? Христофор Кузьмич прошептал: — Не думаю… Несмотря на мрачную внешность, Тимофей добрый, безобидный человек. — Ну и где он, по вашему мнению, сейчас находится, этот безобидный человек? — Он готовился к поездке в Москву. На операцию. Голубей продал. И отправился. Я думаю, он уже в больнице. — А я в этом сомневаюсь, — сказал Толокно. — Ну, ничего. Поищем. Если что узнаете о нем, сообщите. Христофор Кузьмич не уходил, медлил. — Это правда, что в убийстве подозревается Игорь Коробов? — Допустим. — Я уверен, что это не он. — Даже уверены? А почему? — Хороший парень. Светлая душа. Я ему серебряное колечко подарил. Для невесты. Сказал, что деньги можно не платить. Но он принес, с первой же зарплаты отдал. Все это мелочь, конечно. Но когда их набирается много, таких мелочей, можно уже говорить о характере. О личности. — Но если не Коробов? Кто же тогда? Ерофеев? Несколько мгновений ювелир молчал. Губы его тряслись. — Извините, мне тяжело рассуждать на эту тему. Ерофеев близкий мне человек. Мне остается только надеяться, что вы во всем разберетесь и невиновные не пострадают.___
Следователь Толокно вошел в кабинет начальника отдела Сарычева и сказал: — Все свидетели в один голос твердят, что Коробов не мог убить Лысенкова. — Кто же тогда? Ерофеев? — Ювелир отрицает это. Тем не менее известно, что Ерофеев ненавидел Лысенкова. Разыскивал его много лет. Писал и отсылал во все концы порочившие его письма. Налицо острый конфликт между ними. — Выходит, физически сильный Лысенков стал жертвой инвалида? Старика? — Он не старик… На десять лет моложе Лысенкова. — Да, но ведь годами из больниц не выходил… Кстати, где он находился в момент убийства? Выяснил? — Ювелир утверждает, что Ерофеев выехал на лечение в Москву. — На место прибыл? — Нет. В больницу не явился. — Что ж, — поскреб пальцами лоб Сарычев, — я не исключаю, что Коробов и Ерофеев были в сговоре. И вдвоем ухлопали Лысенкова. Тот ожидал встретить одинокого хиляка, а Ерофеев взял и позвал себе на подмогу здоровенного парня. После убийства Ерофеев скрылся, а Коробов не успел. Не мог же он предположить, что Примакова позвонит нам. Или такой вариант исключен? Толокно призвал на помощь всю свою объективность. — Не исключен. Но именно потому, что вариантов несколько, необходимо продолжить следственную работу. Пока не останется только один вариант. — А я что — возражаю? Продолжай, на то ты и следователь. Ерофеев связан с прошлым Лысенкова. Коробов — с настоящим. Второе, на мой взгляд, гораздо существеннее. Напрасно ты ищешь мотивы убийства в седой старине. То, что было, быльем поросло. Надо выяснить, что не поделили Лысенков и Коробов сегодня, сейчас? Ясно? Лично мне это дело представляется простым, как апельсин. Следователь Толокно поморщился. Он не любил апельсинов. У него была на них аллергия.___
Выйдя из машины возле горотдела милиции, Беловежский увидел Лину, медленно спускавшуюся по выщербленным ступеням. — Лина? Вы? Здесь? Лина обратила к Беловежскому бледное лицо. — Я просила свидания с ним. Но они говорят, что это запрещено. Беловежский испытал болезненный укол от того, что Лина так свободно и так открыто, не таясь, выказывает свое чувство к другому. — Да, идет следствие. Видимо, позже… — сбивчиво сказал он. — Что — позже? Разве его не освободят? — Я убежден, что Игорь ни в чем не виноват и скоро все разъяснится, — уже твердо произнес Беловежский. Лина сделала шаг вперед и схватила его за руку. — Вы должны добиться его освобождения! Понимаете, должны! Они вас послушают! Она смотрела на него покрасневшими воспаленными глазами. В них были надежда и сомнение. «Она опасается, что я могу из ревности, из неприязни к Коробову отказаться помочь ему», — догадался Роман Петрович. — Лина. Вы можете меня не любить. Но не уважать меня вы не имеете права, — тихо проговорил он. — Да, да… не знаю, что со мной. Ведь это я позвонила в милицию и сказала, что он там. Хотела его спасти. И вот что вышло. Обещайте мне, что вы не оставите его. Я верю в вас! Примерно за час до этого другая женщина — Медея уговаривала Романа Петровича не ввязываться в это дело, предоставив события их естественному течению. Сейчас Лина требовала от него прямо противоположного. — Мужайтесь, Лина. Вот увидите, все будет хорошо. — Беловежский прошел к следователю. — Я вас пригласил, чтобы вы, Роман Петрович, помогли нам разобраться в существе отношений между вашим личным водителем Коробовым и заведующим гаражом Лысенковым, — сказал Толокно директору привольского завода. — Отношения? Что я могу знать об их отношениях? — спросил Роман Петрович. Толокно уточнил вопрос: — Не поступали ли к вам, как к директору завода, от Коробова заявления на неправильные действия заведующего гаражом? Беловежский подумал. — Знаете, поступали. Коробов неравнодушный человек, ему казалось, что в гараже нет порядка, работы ведутся по старинке. Это естественно, он прибыл к нам из столичного таксопарка. До московских кондиций, сами понимаете, мы не дотягиваем. Да, еще вот что… Он жаловался на нехватку запчастей, я даже комиссию посылал в гараж для проверки его сигнала. — Сигнал не подтвердился? — Нет. То есть да. — Как прикажете понимать? — Комиссия, ознакомившись с положением дел, пришла к выводу, что запчасти имеются, но буквально вчера стало известно, что Лысенков комиссию обманул… То есть выясняется, что Коробов был прав. Эти сведения Беловежский получил накануне от секретаря партбюро Славикова. А тот, в свою очередь, от кладовщика Макарычева. Макарычев много чего порассказал о художествах Лысенкова. Передавая директору подробности этого разговора, Славиков сказал: «Да, запустили мы с тобой автохозяйство, Роман Петрович», — что Беловежский воспринял как неприкрытый упрек в свой адрес. Сейчас, беседуя со следователем, он вторично испытал чувство неловкости за упущения в гараже. Это чувство еще более возросло, когда Толокно спросил: — Чем объяснить, Роман Петрович, ваше терпимое отношение к заведующему гаражом? Вам говорили, сигнализировали, а вы… — Уж не хотите ли вы намекнуть на какие-то мои особые отношения с Лысенковым? — поднял брови Роман Петрович. Но Толокно этих поднятых бровей не увидел, поскольку взор его был устремлен на лежавшую перед ним на столе шпаргалку, согласно которой он и вел с Беловежским беседу. — Скажите, а это правда, что завгар Лысенков в свое время был ординарцем вашего отца Беловежского? — Вам это известно? — Некоторое время назад у Лысенкова были недоразумения с ГАИ. И вот в подтверждение своих былых заслуг он предъявил письмо вашего отца. Мне его показали. — Я хочу внести ясность в этот вопрос, — решительно сказал Роман Петрович. — Никакого отношения к появлению Лысенкова на заводе я не имею. Когда я сюда прибыл, он уже работал. — Мы это знаем, — спокойно ответил следователь. — Между мной и завгаром существовали строго официальные отношения. Хотя признаю: давно бы надо заняться гаражом, да все руки не доходили. Судя по всему, Лысенков здорово запустил дело. — Боюсь, что вы недооцениваете размаха и характера его деятельности, — проговорил Толокно и пододвинул к Беловежскому полученный им отчет Коробова о махинациях Лысенкова на городском автовокзале. — Да это же черт знает что такое! — быстро пробежав глазами записку, воскликнул Беловежский. И не удержался от удивленного возгласа: — Безобразие! Отчего же он меня не поставил в известность?! Следователь заметил: — Я бы мог ответить: потому что его сигналы на заводе игнорировали… Но я этого не скажу. Дело в том, что это мы просили Коробова до поры до времени держать сведения в тайне. — Это не меняет сути, — мрачно произнес Беловежский. — Тут прямая моя вина. Махинатор орудовал под самым носом, а мы… Стыдно! — Вы сказали «махинатор»? А вот ваш отец в своем письме дает гражданину Лысенкову совсем другую характеристику. — И что из этого следует? Толокно поднял наконец глаза на своего собеседника. То, что он увидел, показало ему, что он зашел слишком далеко. — Да, вы правы. Только то, что у вас и у вашего отца диаметрально противоположные взгляды на гражданина Лысенкова и его деятельность. Впрочем, этому можно найти объяснение. Вы знали его в последнее время, а ваш отец — в далеком прошлом. Люди меняются… — Увы, нет, — с горечью произнес Беловежский. — У меня есть основания полагать, что отец в свое время не разобрался в Лысенкове. — А что — Лысенков действительно сыграл пагубную роль в судьбе деда вашего водителя? — Откуда мне знать? Одно хочу сказать, какова бы ни была эта роль, свести с ним счеты при помощи убийства Коробов не мог. — Все словно бы сговорились — «не мог», «не мог». Неожиданно Беловежский улыбнулся. — Да вы сами, товарищ Толокно, в этом уверены… В противном случае не стали бы мне давать записку Коробова о махинациях Лысенкова. Разве не так? Толокно строго взглянул на Беловежского. — Одно дело «считать», что не мог, а другое — «доказать», что не мог. Дистанция большого размера! Без свидетеля тут не обойтись. — Без какого свидетеля? Толокно ответил: — И Лысенков, и Коробов искали встречи с Ерофеевым по одной причине. Тот, будучи мальчиком, оказался единственным свидетелем того, что произошло между Лысенковым и дедом вашего Коробова в тот осенний день, когда они остановили на шоссе гитлеровский «мерседес».___
Федя Примаков, тщательно вымытый и причесанный на прямой пробор, чинно сидел, положив исцарапанные, с обгрызенными ногтями руки на острые худые колени, обтянутые чулками в резиночку. — Я слышал, ты себе соорудил хорошую голубятню? — начал разговор с мальчиком Толокно. — А что? Нельзя? — Почему нельзя. Можно. Гоняй голубей на здоровье. — А ты, дядя, из милиции? Следователю ничего не оставалось, как подтвердить этот факт. — Ты, выходит, воров ловишь? — Приходится иногда. — Так ты чо, решил, что у меня голуби краденые? Следователям обычно не нравится, когда им задают вопросы. Но одергивать мальца тоже не хотелось. Стараясь направить разговор в нужное русло, Толокно спросил: — А ты где голубей раздобыл? Федя ответил с вызовом: — Взял и на Птичьем рынке купил! — Да ну? — понарошку удивился следователь. — А деньги откуда? Ты же, Федя, вроде еще не работаешь. — Дядя Игорь дал. Он к нашей Лине ходит. Следователь Толокно вовсе не собирался выведывать у мальчонки личные тайны примаковской семьи. Поэтому снова перевел разговор на голубей. — Ты знаешь, Федя, а я ведь тоже в детстве голубей гонял. — Не врешь? — Почему ты не веришь? — Маманька говорила, кто на голубятне целый день торчит, у того ветер в башке. Он ни учиться, ни работать не станет, и толку из него не будет. А ты вот в милиции служишь, деньги зарабатываешь. Сколько платят-то? Много или мало? Следователь Толокно тяжело вздохнул. Ему еще никогда не доводилось брать показания у такого свидетеля. — Голубей-то приручил? Или улетают? — А почем знаешь, что улетают? Игорь сказал? — Сам догадался. — Летают. — Федя сделал хитрое лицо и засмеялся. — Да я знаю куда. Хвать-похвать, и домой. — Ты не только голубей гоняешь. Еще и в расшибалочку режешься… — Я не на деньги! — выкрикнул Федя. — А на что? — На пуговицы! — Ну, тогда ладно, — сказал следователь Толокно, полез в карман и достал из кармана носовой платок, завязанный в узелок. Распустил узел, высыпал на стол несколько металлических пуговиц. — Это не твои? — Мои! — радостно сообщил Федя и сделал попытку схватить пуговицы с края стола. Толокно накрыл их ладонью. — Скажи, Федя, зачем ты в пятницу ходил на Морскую улицу и что делал в доме номер тринадцать? Лицо Феди сморщилось, губы задрожали, и он горько заплакал. Потекло из глаз и из носа одновременно. В комнату с встревоженным лицом заглянула Дарья Степановна. — Господи! Что такого наделал? Малец еще. Чтой-то вы за него взялись? Следователь ответил строго: — Не мешайте нам. Поплачет и перестанет. Ничего с ним не случится. Наплакавшись вволю, Федя заговорил, Медленно кружилась бобина принесенного следователем магнитофона, записывая рассказ мальчика.___
На Морскую улицу за улетевшим сизарем Федя собирался идти вместе с дядей Игорем. Однако тот почему-то не пришел. Тогда Федя незаметно улизнул из дому и отправился в путешествие один. …Толкнул калитку, и она, заскрипев, отворилась. Он оказался во дворе. На пожухлой траве стояли деревянные козлы для дров, вокруг были набросаны опилки. На боку лежало ржавое ведерко без дна. От покосившегося сараюшки к дому натянута была веревка. На ней бултыхались на ветру задубевшие штаны. Федя задрал голову. Голубятня была пуста. Однако на стрехе крыши ворковал один голубь. Сизарь! Сердце забилось от радости. Феде не терпелось взобраться поскорее наверх и завладеть своим любимцем. «Вот куда забрался… Сейчас я тебя», — проворчал он и полез на чердак по наружной лестнице. Некоторые перекладины были сломаны, другие вовсе отсутствовали. Но это не могло остановить деревенского мальчика, привыкшего лазать по лестницам, заборам и деревьям. Вскоре он очутился на чердаке. Отсюда лаз вел на голубятню. Голубь сидел на стрехе. Шея его вертелась как на шарнирах, круглые глазки стеклянно поблескивали. Казалось, птица настороженно следит за Федиными движениями. Мальчик добрался до конька крыши. Голубь незамедлительно перелетел на другое место. Так оно и пошло. Стоило Феде приблизиться к сизарю, тот отскакивал в сторону, словно затеяв с мальчиком игру. Федя сунул руку в карман за остатками сладкого коржика. Однако добраться до крошек было нелегко. Пришлось выложить все свое богатство — рогатки с намотанной на черенок красной резинкой и кожаным лоскутком и металлические пуговицы, споротые с отцовского пиджака. Наконец он собрал крошки и на ладони протянул голубю. И что вы думаете? Голубь взмахнул крыльями и доверчиво подлетел к Феде. Тот ловко ухватил его. Теперь было делом минуты пробраться сквозь лаз в крыше обратно на чердак. Он совсем уже было собрался спуститься на двор, но неожиданно зазвучавшие громкие голоса заставили замереть на месте. «Что там за шум?» — «Голубь…» — «Скажи-ка мне, друг Тимофей, зачем ты мне камнем в окно шарахнул? Молчишь? Не отвечаешь? Тогда я тебе скажу. Этим камнем ты мне хотел что сказать? Вот, мол, я, Тимофей! Жив! И хочу с тобой, Лысенков, поговорить! Так? Ведь так?» — «Так». Слышно было хорошо. Где-то была щель, и звук проникал через нее на чердак. Федя поискал и обнаружил сгнившую трухлявую доску. Полез в карман за ножиком, но вспомнил, что оставил его дома. Сучковатой рогаткой начал полегоньку отковыривать от дощечки гнилушки. Распластавшись по полу, прильнул к щели глазом. Порыв ветра толкнул калитку, и она отворилась с противным скрежещущим скрипом. Инвалид вскочил с лавки и склонился к оконцу: не идет ли кто? Воспользовавшись моментом, Лысенков выхватил из кармана нож, нажал пальцем на кнопку, и из него бесшумно выпрыгнуло узкое стальное лезвие. Не помня себя от страха, Федя на чердаке закричал. Голубь вырвался из его рук и захлопал крыльями. Инвалид быстро повернулся. Лысенков был уже рядом, уже занес руку для удара. Инвалид отпрянул, нож, разрывая рубаху, скользнул по руке… «Не уйдешь, собака!» — страшным голосом закричал Лысенков и, вновь замахнувшись, бросился на инвалида. Тот встретил его сильным ударом. Лысенков вскрикнул и повалился как подкошенный на пол, головой под стол. — А чем он его ударил? — спросил следователь. Федя ответил: — Как чем? Кулачищем! Дядька как грохнется под стол. Я все видел, я глазастый. — Какой же ты глазастый, если говоришь, что дядька упал головой под стол. Он же возле двери лежал. Федя сделал хитрое лицо: — А вот и врешь. Сбить меня хочешь? Не выйдет! Голова под столом, а тулово тут, посреди… — А в какое место он его ударил? Федя, не раздумывая, указал рукой на правый висок. Следователь снова хотел выразить сомнение в Фединой наблюдательности — смертельная рана была нанесена в левую часть головы Лысенкова, а не в правую, но вспомнил горячность мальчонки и оспаривать его не стал. — А дальше что было? Дождавшись ухода инвалида, Федя поймал голубя, спустился по наружной лестнице во двор, вышел на улицу, прикрыл за собой ногой скрипучую калитку. Дверь в дом была полуотворена, Федя постоял минуту, подумал. Сказал голубю: «Погодь!» — и шмыгнул в дом. — Так… — проговорил следователь Толокно. — А теперь скажи, Федя, куда ты спрятал нож, который взял в доме? Федя не стал упираться. Слез со стула, вышел во двор, полез на свою голубятню и через пару минут вернулся с ножом. Следователь взял нож, внимательно осмотрел его. Нажал на кнопку. Выскочило острое стальное жало. В ложбинке на лезвии запеклась струйка крови. Он не сомневался, что это кровь инвалида. — Спасибо, Федя, — произнес следователь Толокно. — Ты нам очень помог. Мальчик замялся. — Тебе чего? — А ножик не отдадите? Я бы его Антошке показал. — Не могу, Федя. Вещественное доказательство.___
«Спасибо, ты нам очень помог», — сказал Толокно Феде. А что делать? Не говорить же мальчонке, что его показания еще более замутили и без того нечеткую картину убийства на Морской улице. Усевшись за свой стол, Толокно выдвинул ящик, порылся в бумагах. После чего снял трубку телефона и позвонил ювелиру Христофору Кузьмичу. Спросил: — Ерофеев случайно не левша? — Левша! — отвечал Христофор Кузьмич. — Вы не путаете? — Да что вы! Когда рубил дрова, колун всегда держал в левой руке, а тесак в правой. — Какой еще такой тесак? — Стальной. От немецкого карабина. «Вот, кажется, и орудие убийства нашлось», — подумал про себя Толокно. — А где он, этот тесак? — Поищите у него в халупе. Должно быть, там. «Да мы все там обыскали, а нашли шиш с маслом», — хотелось ответить ювелиру, но Толокно удержался. Попрощавшись, повесил трубку. Он посиделминуту в неподвижности, потом снова набрал номер. На этот раз у него состоялся разговор с медэкспертом. Толокно попросил выяснить, нет ли на левом виске Лысенкова следа от удара кулаком. Через некоторое время медэксперт перезвонил и подтвердил: да, есть небольшая гематома, не замеченная при первом осмотре. — Так, — проговорил Толокно. Теперь он задумался надолго. Утверждение Феди, что инвалид ударил Лысенкова кулаком в левый висок, подтвердилось, выходит, с уважением нужно отнестись и к другому его свидетельству. Он утверждал, что Лысенков после удара свалился на пол возле стола. Получается, что, очнувшись, он встал на ноги и двинулся по направлению к двери, где его и встретил неизвестный со стальным тесаком в руке. Кто это был — вернувшийся обратно Ерофеев, Игорь Коробов или еще кто-то — третий? Вот это и предстояло выяснить следователю Толокно.___
Все последнее время Толокно не оставляло ощущение, что он ищет убийцу не там, где следует. Это подозрение переросло в уверенность после того, как удалось отыскать инвалида Ерофеева. Помог это сделать ювелир Христофор Кузьмич. Он позвонил следователю и, сказав, что по-прежнему свято верит в невиновность Тимоши, сообщил: тот собирался до своего отъезда в Москву на операцию сделать одно дело, «заплатить последний долг», как он выражался. Тимоша собирался поставить памятник на могиле одного солдата. Не исключено, что после объяснения с Лысенковым инвалид занялся этим. — А где он собирался ставить памятник? — спросил Толокно. Последовал четкий ответ: — На сороковом километре Приморского шоссе. В тот же день Толокно вместе с Люсиным выехал в указанное ювелиром место. Памятник — огромный белый валун у дороги — обнаружить оказалось нетрудно. А вот Ерофеева отыскали не сразу. Надорвавшись, устанавливая валун, он теперь в беспамятстве лежал в районной больнице. Как только Тимофей пришел в себя, Толокно с разрешения врача допросил его. Запинаясь и с трудом подбирая слова, Ерофеев рассказал о своей ссоре с Лысенковым, повторив почти в точности все то, что следователю уже было известно от Феди. На вопрос, где находится тесак, которым он колол дрова, Тимоша ответил: на полке у двери. Толокно поверил: очень может быть, что тесак и впрямь спокойно лежал на полке у двери, пока случайно не подвернулся под руку убийце. Кто же этот убийца? У Толокно была привычка: когда розыск заходил в тупик, он принимался философствовать. Как ни странно, отвлекающие, казалось бы, рассуждения не раз выводили его на правильный путь. Из документов, из показаний свидетелей перед Толокно мало-помалу вырастал образ Лысенкова — фигуры зловещей, даже страшной. При всем своем желании казаться исключительным он был вполне зауряден, этот Лысенков, в нем угадывались черты целого явления — лысенковщины, как определил его для себя Толокно. Да, социальные корни Лысенкова уходили в далекое прошлое, он был порожден действительностью, которая давно ушла в небытие. Действительность ушла, а Лысенков остался. Он растворился среди других, себе подобных. Что скрывать, они еще есть, лысенковы, которые воспринимают окружающий мир и людей лишь как средства для удовлетворения своих безграничных и корыстных вожделений. Но кто же все-таки и за что убил Лысенкова? Жизненный опыт научил Толокно при встрече с незнакомыми людьми прежде всего определять для себя движущую силу их существования. У одних эта сила была со знаком плюс, у других — со знаком минус. Преступниками чаще всего оказывались вторые, те, кто ставил свой личный, эгоистичный интерес выше интереса всех остальных людей. Ни Игорь Коробов с его остро развитым чувством справедливости и трогательной заботой о доброй памяти деда, ни калека Тимофей Ерофеев, не приемлющий подлости Лысенкова, — не отвечали представлению Толокно об убийце. Так стоит ли держаться за эти версии только потому, что других нет, а эти как бы сами просятся в руки? Толокно сгреб протоколы допросов со стола, запер их в сейфе и поехал в гараж привольского завода. Он уже был здесь ранее — недели две назад, сразу же после убийства Лысенкова. Разговора с шоферами тогда не получилось. Все они с похвалой отзывались об Игоре Коробове, а на расспросы про Лысенкова отмалчивались, словно он не утерял своей власти и после смерти. Да и сам Толокно тогда еще не ясно себе представлял, о чем именно спрашивать этих парней. Сейчас следователем двигала определенная цель. Убийцу нужно искать среди таких же преступников, каким был сам Лысенков, среди многочисленных его пособников по махинациям, которые он проворачивал в гараже и на автовокзале. Толокно повезло. К нему подошел маленький сухонький человек с венцом седых волос над оголенным, загорелым черепом — кладовщик Макарычев и предложил свои услуги. Он хотел бы быть полезным следствию. — Как и все остальные, вы считаете, что Коробов этого сделать не мог? Макарычев с горячностью подтвердил: да, не мог. Тогда Толокно поинтересовался: много ли было у Лысенкова врагов, не случалось ли у него в последнее время ссор, столкновений с кем-нибудь из подчиненных? Макарычев тотчас же припомнил: совсем недавно у завгара было крупное объяснение с водителем Заплатовым. Они громко и злобно кричали друг на друга. Заплатов выскочил из конторки Лысенкова красный как рак, потрясая в воздухе кулаками и изрыгая ругательства. — А где он сейчас, этот Заплатов? — Пропал. — Как пропал?! Когда? — Да на другой день после того, как у него сгорел дом, который он строил. — Сгорел дом? Когда точно это произошло? — Примерно за неделю до убийства Лысенкова. — А вы не можете сказать, что послужило причиной размолвки между завгаром и Заплатовым? — Я не могу. Не слышал их разговора. А вот Дима в момент их перепалки находился в диспетчерской: рядом с конторкой. До его ушей кое-что донеслось. — Кто такой этот Дима? — Шофер, комсомолец. Редактор стенгазеты. Дима, высокий парень с красивым лицом, подтвердил. Да, он слышал обрывки разговора между Лысенковым и Заплатовым. Сперва завгар в чем-то упрекал Заплатова, тот отпирался, говорил, что вещь всплыла на толкучке случайно, что вины его в этом нет. Однако Лысенков этим объяснениям не поверил, стал упрекать шофера в непомерной жадности, она его-де когда-нибудь погубит. «Вот сгорит синим пламенем твой дом, тогда узнаешь», — сказал он. Эти слова завгара вызвали у Заплатова бешеную ярость. Он закричал во весь голос: еще неизвестно, у кого дом раньше сгорит, у него или у Лысенкова, с силой хлопнул дверью и прогрохотал сапогами по железной лестнице. — О какой вещи шла речь? Что именно всплыло на толкучке? — поинтересовался следователь. — Может, кольцо? — высказал предположение Дима. — В гараже ходили слухи, что Заплатов продает и перепродает какое-то кольцо, стараясь достать денег на достройку дома. Вернувшись в горотдел, Толокно зашел в следственный изолятор, куда к этому времени был переведен Игорь Коробов, и задал ему вопрос: — Фамилия шофера, укравшего когда-то у пассажирки кольцо с аметистом, Заплатов? Игорь подтвердил. И добавил: — Кольцо на переделку ювелиру сдавала сожительница Заплатова Галина Самохина. — А кто украл его с подоконника директорского особняка? — В момент кражи Заплатов находился в особняке. По моей просьбе он как раз в то время отвозил Медее Васильевне продуктовый заказ. — А раньше сказать не мог? — сердито произнес Толокно. — Вы же не спрашивали… — Ах, так? Ну и сиди, раз такой умный. Толокно захлопнул за собой железную дверь и ушел.___
Мрачного вида мужчина рубил дрова возле остова полусгоревшего сруба. Он казался рыхлым, вялым, болезненно слабым. Но стоило ему, приметившись, взмахнуть тяжелым колуном, как под нездорово бледной кожей, под линялой голубой майкой мгновенно вздувались крутые шары мышц. Следовал мощный удар по стальному тесаку, и огромная, в сучьях, коряга разваливалась надвое, обнажая белое, слоистое, свое древесное естество. В глаза бросилось дикое несоответствие между неторопливым и безмятежным хозяйствованием дровосека и зловещим видом высившегося за его спиной черного остова полусгоревшего дома. Следователь Толокно оглянулся на шагавшего вслед за ним инспектора Зубова. Тот кивнул, правая рука его юркнула за полу пиджака, где находился пистолет. «А что, все может быть», — подумал следователь, охватывая взглядом коренастую фигуру с колуном в одной и тесаком в другой руке. — Вы гражданин Заплатов? — окликнул Толокно мужчину. От неожиданности тот промахнулся, сверкающий на солнце стальной тесак, по утолщенной части которого Заплатов наносил удар, со звоном выскочил из бревна и отлетел в сторону, в траву. Толокно быстро подошел, наклонился и поднял тесак. — Жадность в очередной раз вас подвела, Заплатов, — сказал он. — Этот тесак не ваш, он принадлежит гражданину Ерофееву. Он его, конечно, опознает, да и ювелир подтвердит… Заплатов сильнее сжал в руках топорище. Зубов вышел из-за спины следователя. В руках у него был пистолет. — Не делайте глупостей, Заплатов, — быстро сказал он. — Бросьте колун. Сила на глазах покидала Заплатова. Опали бугры мышц, обвисла на лице, на покатых плечах бледная кожа, пальцы разжались, и колун с глухим стуком упал на землю. — За что вы убили Лысенкова? Из-за дома? Это он поджег? По сверкнувшему в маленьких глазках Заплатова огню Толокно понял, что угадал. Перед ним стоял человек с неразвитым умом и грубыми чувствами, проявлявшими себя слепыми и буйными вспышками. Его жизненный кругозор был ограничен четырьмя плоскостями будущего домика, обгорелые останки которого чернели за его спиной, — декорации к разыгравшейся драме. В тот роковой вечер Заплатов шел по следу завгара. Он видел, как Лысенков скрылся в доме под голубятней. Некоторое время спустя оттуда выбежал хромой и быстро растаял в темноте. Заплатов ждал Лысенкова, но тот не появлялся. Из дома вышел мальчишка с прижатым к груди голубем. Подождав еще немного, Заплатов шагнул в дом. Он увидел распростертого на полу Лысенкова. Вместо радости почувствовал острое сожаление: кто-то разделался с завгаром раньше его. Вдруг лежавший на полу Лысенков шевельнулся и застонал. А потом стал медленно подниматься. Ошалело взглянул на Заплатова. «Ты?!» Заплатов, подчиняясь горевшему внутри него мстительному чувству, схватил с полки у двери стальной тесак и с силой ударил Лысенкова в висок. У него не осталось ощущения, что он убил человека. Просто доделал то, что другой, видимо, по ошибке не довел до конца. Уходя, Заплатов прихватил тесак с собой: «Хорошая вещь, — пронеслось у него в голове, — пригодится колоть дрова».___
Игорь сидел в кабинете следователя и, сжав голову руками, слушал записанный на магнитофонную пленку рассказ Феди Примакова о разговоре Лысенкова с инвалидом. Феде сейчас было примерно столько же лет, сколько было Тимофею Ерофееву сорок лет назад. Поэтому у Игоря поначалу было ощущение, будто звучащий в комнате мальчишеский голос принадлежит не Феде, а самому Тимоше. Лысенков. Ну вот я к тебе пришел и спрашиваю: за что ты столько лет меня ненавидишь? Повсюду письма шлешь, напраслину возводишь. Мол, негодяй Лысенков, убивец… Ату его! Нет ему места под солнцем! Тимофей. Нету. — Ага, подтверждаешь! Так вот я тебя спрашиваю, в чем моя вина? Кого я погубил, со свету сжил? — Того… чернявого… Коробова. — Так разве это я его порешил, дурья твоя голова? Фриц в него стрельнул, фриц. Ты, должно быть, не видел? — Видел. Вы как сговорились? Думаешь, я не помню? Все помню. Он машину гранатой подорвал и фашиста на тот свет отправил… А ты? Ты что должен был делать? Второго фрица на мушке держать. Где ж ты был? Почему Коробова одного против двух оставил? — Почему да почему… Дождь шел, глина раскисла. Вот и оскользнулся. — Врешь! — Я же потом немца добил. — То-то что «потом». И языка не взял, и товарища загубил. И давай в машине шуровать. Вот шкура! Шкура и есть! — Эй ты, язык-то не распускай. А то я его мигом окорочу. — Не боюсь я тебя, нехристя. — Нехристя. Ты-то больно верующий… В Библии что сказано: простим врагам нашим. — Простить? За то, что на мину меня погнал? — И поделом тебе, не подглядывай! — Убивец, черная душа… — Эй, ты, полегче, а то не ровен час! Вон калитка скрипит. В гости кого ждешь? Может, дружка своего, ювелира? Вот бы кстати. Я с ним давно потолковать хотел. Пора должок получить. С него. И с тебя.___
…Следователь нажал на клавишу, и голос Феди замолк. В комнате тихо. Только слышен шелест бумаг, которые Толокно собирал со стола, складывая их в стопку. Игорь с волнением посмотрел на Толокно. Что он знает об этом человеке? Казался сухарем, отрывистость его суждений можно было принять за резкость. А на самом деле отличный следователь. Дотошный. Вон как до всего докопался. Игорь сказал: — Спасибо. — Ты Феде Примакову спасибо скажи… Отцу его Дмитрию Матвеевичу… Да директору своему, да старику ювелиру. И чего они за тебя, спрашивается, распинались? Что ты им такого хорошего сделал? Толокно и раньше задавался этими вопросами. Кто он им, внук солдата Игорь Коробов, почему всех так занимает его судьба? Размышляя об этом, пришел к выводу: уж таков, видимо, механизм возвышения человеческой души. Активно отыскивая в жизни главную линию своего поведения, перестраиваясь сам, человек невольно вовлекает в орбиту этой перестройки и тех, кто живет, работает рядом с ним. В трудную для парня минуту люди пришли, помогли отыскать и подлинного убийцу, и вещественные доказательства его преступления. — А вообще-то главное вещественное доказательство — это мнение людей о тебе. Пока оно доброе, это мнение, будь спокоен: ты, парень, на верном пути, — вслух закончил свои размышления следователь Толокно, соединил лежащие перед ним листки железной скрепкой (предварительно подложив под нее уголок ярко-зеленой бумаги), сунул их в папку «Дело», а папку — в сейф.___
На другой день после возвращения Игоря к нему в комнату, расположенную на верхнем этаже заводского клуба, поднялся поэт Окоемов. — Лина мне рассказала. Я всей душой с вами. Ваш дед… я, да, мы воевали вместе, если и не рядом, то неподалеку друг от друга. Я сейчас пишу книгу о войне. Это мой долг. Я принес вам несколько страниц… Прочтите. Не сейчас, потом. Вот.ИЗ ЗАПИСОК ОКОЕМОВА
«Стояла поздняя осень 1942 года. Может быть, самое суровое время года для 46-й параллели, где происходили эти события. Нелегкие времена для людей. Потому что шла война. Под низким свинцово-серым небом, под дождем, по раскисшей глинистой дороге шли двое солдат. Один — среднего роста, темноволосый, серьезный, озабоченный предстоящим делом. Он шел впереди, то ли добровольно, то ли по команде приняв на себя роль ведущего. Другой, длинный, рыжий, мосластый, с бледным невыспавшимся и хмурым лицом, как бы нехотя тащился сзади. — Эй, ты, слышь, цыган! — крикнул он. — Постой! Не беги. Пошто тебе в избе не сиделось? Тепло. Куда побег? Зачем? А? Темноволосый, остановившись, круто обернулся и цепко ухватил рыжего за отвороты шинели. Притянул к себе. Черные глаза его сверкнули. — Ты что мелешь? Ты воевать послан или по избам греться? Смотри у меня! Позади, на косогоре, с которого только что спустились солдаты, возникла тщедушная фигура мальчишки в огромной, не по росту телогрейке. Тонкий голос прокричал: — Эй! Дядечки! Да погодите же… Бегу, мочи нет! — Тимоша! — обрадовался чернявый и отвернулся от своего спутника. — Ты чего же, пострел, не пришел? Мы уж думали, возле мамки пригрелся. — Да нет у меня мамки, — отвечал звонкий мальчишеский голос. — Меня Катылиха не отпускала. Подперла дверь, так я в окно сиганул. Рыжий еще более помрачнел. Видимо, появление деревенского парня не входило в его планы. — Да чего он разорался! Того и гляди, немцев прикличет. На кой ляд он сдался? — Покажет дорогу и вернется… — Не, дядечки, я с вами… к своим пробиваться. — Вперед, вперед! — поторапливал своих спутников темноволосый солдат. Мальчик жался к этому человеку, не разумом, а сердцем угадывая в нем добрую и правильную силу. Они двинулись дальше, к неясно видневшейся за сиреневой сеткой дождя ольховой роще. Ни темноволосый солдат, ни его рыжий напарник, ни тем более мальчонка не знали, да и не могли знать, что их ожидает там, впереди, за рощей. Асфальтовое шоссе, по которому им навстречу, еще невидимая, катила гитлеровская штабная машина, не просто было полоской тверди в океане раскисшей, ускользающей из-под ног земли. То была линия, черта, отделяющая жизнь от смерти, честь от бесчестья…»

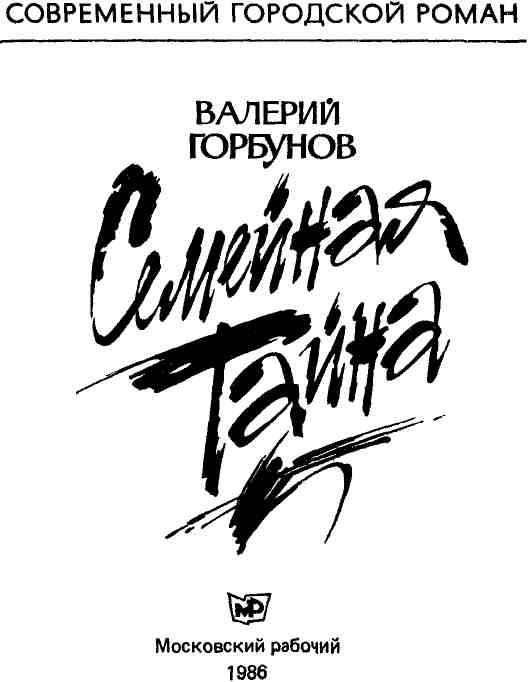
Последние комментарии
9 часов 44 минут назад
16 часов 58 минут назад
17 часов 12 секунд назад
19 часов 43 минут назад
22 часов 8 минут назад
1 день 40 минут назад