Плещеев [Николай Григорьевич Кузин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Николай Кузин
ПЛЕЩЕЕВ

*
Рецензенты: доктор филологических наук КРАСНОВ Г. В. доктор филологических наук КОРОВИН В. И. доктор филологических наук ПРИЙМА Ф. Я.
В книге использованы фотоматериалы из Государственного театрального музея имени Бахрушина; фототеки Государственного литературного музея.
© Издательство «Молодая гвардия», 1988 г.
ПРОЛОГ
Душа томилась по желанной весне, по морозы в Москве никак не хотели отступать. Вот уже вторую неделю Алексей Николаевич почти не прогуливался по Плющихе. А нынче и вовсе похолодало, да еще подул резкий промозглый ветер. Нет, положительно не хочется выходить на улицу, но это, может быть, и к лучшему — стихотворное послание к молодому поколению обретало наконец завершенность. Стихотворение, которое поэт озаглавил «К юности», бродило в душе давно, пожалуй, еще с осени 61-го года, когда московское студенчество, возмущенное арестами своих товарищей, вышло 13 октября на демонстрацию протеста перед домом генерал-губернатора. Но именно сегодня, в этот холодный февральский день, поэта посетило то нетерпеливо-радостное состояние, когда «и мысли в голове волнуются в отваге…. и. пальцы просятся к перу, перо к бумаге», и он спешил не упустить этот долгожданный момент, вдохновенно набрасывая несколько размашистым почерком первые строки своей исповеди-обращения.«ДЕТСТВА ДАЛЕКИЕ ГОДЫ…»
Но быстро та пора исчезла…Где и когда впервые встретились коллежский асессор в отставке Николай Сергеевич Плещеев и дочь костромского помещика Елена Александровна Горскина, нам в точности не известно. Николай Сергеевич служил ранее при олонецком, вологодском и архангельском генерал-губернаторах, бывал по делам службы и в нижегородском краю, и в костромских землях. Вероятно, в эту пору и пересеклись судьбы Плещеева и Горскиной. Можно предположить, что родителям Елены Александровны — коренным костромичам — льстило внимание к их дочери потомка старинного плещеевского рода, внесенного в VI главу родовых книг Московской, Орловской, Пензенской и Тамбовской губерний и ведущего свое фамильное начало от костромского наместника Александра Плещеева. Во всяком случае, известно: 22 ноябри 1825 года у Николая Сергеевича и Елены Александровны Плещеевых родился мальчик, нареченный Алексеем, видимо, в память именитого предка — святого Алексия, Московского митрополита во время княжения Дмитрия Донского. Жили Плещеевы в это время в старинном русском городе Костроме, вернее, постоянно жил Николай Сергеевич, исполняя службу чиновника особых поручений, а Елена Александровна только навещала мужа, предпочитая оставаться в родительском имении. С рождением Алексея Плещеевы уже окончательно обосновались в Костроме, но ненадолго. Спустя два года Николай Сергеевич перевелся на службу губернским лесничим казенной палаты в Нижний Новгород, куда вскоре переехала и Елена Александровна с сыном. В Кострому, по всей вероятности, Плещеевы больше не возвращались, и детство будущего поэта прошло в Нижегородской губернии, где Елене Александровне и ее сыну вскоре отошло родовое имение при селе Шахманове и деревне Чернухе в Княгининском уезде. Как засвидетельствовано в «Формулярном списке о службе причисленного к Государственному контролю Титулярного Советника Алексея Плещеева», составленном 31 августа 1872 года: «У матери его имение Ярославской губернии Пошехонского уезда и кроме того у него вместе с матерью Нижегородской губернии Княгининского уезда имение доставшееся по духовному завещанию от дяди», — каллиграфически и без каких-либо знаков препинания зафиксировал составитель «формулярного списка»… Всего четыре года прожили Плещеевы в Нижнем, как их постигло большое горе — скончался глава семьи Николай Сергеевич. Шестилетний Алеша остался без отца, и совсем еще молодая Елена Александровна — без мужа. Как жить дальше?.. Елена Александровна вместе с Алешей уезжает в Княгинин[5] — небольшой уездный городок, расположенный на правобережье Волги, в ста верстах от Нижнего, на берегу реки Имзы, притока Урги[6]. Земли здесь чуть ли не самые плодородные в нижегородском крае, и большая часть населения издревле занималась хлебопашеством. В поймах реки — заливные луга, обрамленные небольшими, но многочисленными лесными грядами, в которых сполна водилось всякой живности. Просторные поля, причудливые овраги, похожие на горные массивы, обилие речушек и рек — такое раздолье окружало новое пристанище Плещеевых.Л. Н. Плещеев. Отчизна
Сыну пошел четырнадцатый год, и Елена Александровна с тревогой замечала, что он снова, как и два года назад, замкнулся, стал равнодушен к занятиям, даже книги любимых авторов читал с каким-то безразличием. Мать понимала, что с переездом в столицу Алеша изменился скорее всего потому, что сильно тосковал по приволжским раздольям, и старалась делать все возможное, чтобы развеять Алешину грусть — частыми посещениями театров, прогулками по городу, во время которых, казалось, сын преображался, снова становился восторженным, любознательным и… очень доверчивым. Но в то же время Елена Александровна чувствовала, что причина возникающей замкнутости Алексея нынче несколько иная, чем в Княгинине, догадывалась: сын взрослеет, переживает переломную пору от отрочества к юности… Ну что ж, возрастная грусть сына — не беда, а скорее радость для материнского сердца, и надо заботиться о главном: исполнить желание покойного мужа и определить Алешу в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров — в своем роде единственное в России военное учебное заведение, доступное для юношей из небогатых дворян. А Плещеевы, несмотря на прошлую родовитость, увы, не могли похвастаться богатством нынче: оба их имения (и нижегородское и ярославское) приносили очень малый доход, незначительной была и пенсия, которую Елена Александровна выхлопотала в Нижнем Новгороде как вдова отставного коллежского асессора и губернского лесничего — всего пятьдесят семь рублей в год. Поэтому определение Алеши в «казенную» школу во всех смыслах устраивало Елену Александровну — исполнилось бы завещание покойного Николая Сергеевича и в какой-то мере уменьшились бы расходы на дорогую петербургскую жизнь. Только сначала надо присмотреться к этой наполненной новыми заботами жизни, ибо Петербург — не крошечный Княгинин и не Нижний с его незабываемой стариной. Опять же и сырой климат на берегах Невы ощутимо разнится с приволжским — недаром Алеша, и всегда-то не отличавшийся крепким здоровьем, в первые педели совсем было расхворался. К счастью, вскоре окреп и часто сам звал мать на прогулки по городу… Поселились Плещеевы на Литейном — сняли небольшую квартиру из двух комнат, но и за нее приходилось платить немалую долю из скромного семейного бюджета. Впрочем, квартира уютная, с просторной прихожей, широкими окнами, выходящими в дворовую часть дома. Мальчика поначалу ошеломил один из крупнейших и красивейших европейских городов с полумиллионным населением. Нева, Фонтанка, Мойка, Екатерининский канал оделись в гранитные берега, через реки перекинуты сотни чугунных мостов, многие из которых дивили взор чудным изяществом своих линий. А дворцы и соборы? Разве не вздрогнет сердце у подножия могучего Исаакия или устремленного в небо золоченого шпиля Петропавловского собора?! Или голубые купола Воскресения в Смольном монастыре? А подковообразный Казанский с установленными перед ним в двадцать пятую годовщину Отечественной войны памятниками Кутузову и Барклаю-де-Толли! Алексей во время прогулок с матерью особенно часто останавливался возле памятников полководцам — ведь в скором времени ему самому предстояло стать военным. Приходилось бывать Алексею и на Суворовской площади, когда выезжали в Летний сад, но памятник Суворову казался нарочито-торжественным и странным. А вот в Троицком соборе Александро-Невской лавры его чрезвычайно удивила простота надгробья великого полководца (по сравнению с роскошными надгробьями Шереметева, Безбородко и других) с лаконичной надписью на плите: «Здесь лежит Суворов». Ошеломляли своим богатством и величием дворцы: Аничков, Таврический, Мраморный, здание Биржи на Стрелке. Заканчивались работы по восстановлению сгоревшего недавно Зимнего, от которого не хотелось уходить — сказочная нарядность его просто очаровывала… А гигантская колонна-монумент императору Александру!.. Гулянья по паркам и садам Петербурга, поездки в Петергоф, Ораниенбаум — все это сначала было похоже на длинный чудный сон. О предстоящей учебе в школе подпрапорщиков, право, не хотелось думать, особенно после того, как Алексей увидел здание школы, расположенное вдоль Обводного канала — мрачноватое, даже отпугивающее. А тут еще несколько выездов в театры — в Мариинскую оперу, Александрийскую драму… «Аскольдова могила» Верстовского, гоголевский «Ревизор»… Да, по сравнению с нижегородской жизнью Плещеевых Петербург и в самом деле почти что сказочный город! Только вот мать все чаще стала говорить о необходимости выполнить наказ отца, и Алексей снова приступает к усердным занятиям, чтобы выдержать «конкурентный экзамен» в школу подпрапорщиков. Готовясь к испытаниям, он все же выкраивает время и на чтение «для души», особенно его влекут поэтические сочинения. Как бы заново открывается необыкновенная красота и пленительность музы Жуковского, глубина внутреннего чувства в стихах Батюшкова, в элегиях Баратынского. Если раньше из сочинений Жуковского больше других нравились патриотическая поэма «Певец во стане русских воинов» и баллады поэта, то теперь Алексей с особым восторгом читал романсы и песни Василия Андреевича, находя в них много созвучного трепетным порывам собственной мечтательной души… В эту же пору сердце юного Плещеева обжигает тревожная поэзия Лермонтова, которого он раньше знал в основном по стихотворению «Бородино», опубликованному в журнале «Современник» в 1837 году, — стихотворение было настолько ярким и запоминающимся, что Алексей сразу же выучил его наизусть. И вот недавно Елена Александровна принесла домой несколько номеров «Отечественных записок» за 1839 год — в них напечатаны новые стихи Лермонтова, которые сильно взволновали Алексея, — то были «Дума», «Поэт», «Не верь себе» и «Три пальмы». Юноша многократно с упоением перечитывал эти стихи, хотя и не все в них было ему понятным, но энергия, сила, страстный призыв «скорее жизнь свою в заботах истощить», пробуждали в нем неподдельное и горячее желание к действию, заронили в его душу возвышенные чувства, готовность посвятить себя благородной цели служения Отчизне, народу, вселяли надежду на непременное участие в светлом обновлении жизни… Экзамены Алексей выдерживает успешно и в 1840 году поступает в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой, как он узнает позже, в 1832–1834 годах учился боготворимый им автор «Думы» и «Трех пальм»… Мечтательный и восторженный Алеша Плещеев и никогда-то не испытывал большой охоты к военной профессии, а первые же занятия в «казенном» заведении и вовсе разочаровали его. Если бы Алексей знал, что его кумир Лермонтов называл время, проведенное в школе, «двумя страшными годами» (а Плещееву предстояло пройти четырехлетний курс!), он бы, возможно, не так безропотно исполнил материнское желание… Занятия в школе стали для юного Плещеева настоящей пыткой. Воспитанники школы хотя и получали кое-какие сведения по истории, литературе, но подавалось это все казенно и в довольно скудном объеме, большая же часть времени на занятиях отводилась военному делу. Утомительные и однообразные строевые учения, непрерывные смотры, бессмысленная зубрежка уставов, наставлений, поощрение культа силы, боевитости — все это представлялось миролюбивому, любознательному, развитому и жадно тянувшемуся к знаниям Алексею Плещееву жестокой игрой, насилием над человеческой личностью. Случались, правда, порой и настоящие игры — веселые, азартные, бесшабашные, с распеванием «Юнкерской молитвы» (воспитанники тогда еще не знали, что слова молитвы написаны Лермонтовым) — этого весьма своеобразного юнкерского «Гаудеамуса»:
«ПО ЧУВСТВАМ БРАТЬЯ МЫ С ТОБОЙ…»
Да, много было горестных утрат и досадных разочарований.К Валериану Майкову Плещеев относился не просто дружески, он с молодым пылом полюбил этого человека за светлый ум, общительность, глубокие знания с первого знакомства на одном из весенних молодежных вечеров на квартире Бекетовых, в 1845 году. И Валериан, со своей стороны, выказывал очень дружеские и теплые чувства к Алексею, поэтому молодые люди довольно быстро и близко сошлись, стали встречаться и у Бекетовых, и в доме Майковых. Пожалуй, только младший из Бекетовых, Николай, с которым Алексей крепко подружился еще в первую пору студенчества, располагал Плещеева к таким же откровенно-исповедальным разговорам, какие теперь зачастую велись между ним и Валерианом Майковым… Человек выдающихся способностей, вступивший на поприще общественной деятельности очень рано («в то время, когда другие еще сидят на школьной скамье», как заметил И. А. Гончаров), Валериан Майков был образованнейшим человеком; отличное владение французским, немецким и английским языками давало ему возможность знакомиться со всеми лучшими произведениями мировой литературы; с не меньшей степенью он интересовался естественными науками, сложнейшими философскими и политическими вопросами, прекрасно зная важнейшие сочинения социалистов, политэкономов, философов и в первую очередь работы Гегеля и О. Конта. Майков побывал за границей, слушал лекции в Сорбонне. Словом, это был человек, у которого всегда можно и полезно поучиться. Валериан был к тому же исключительно чутким слушателем, никогда не демонстрирующим своего превосходства над собеседником, что особенно пленяло Алексея, хотя, как он знал, многие из его знакомых, ощущая громадную интеллектуальную силу Майкова, часто не решались вступать в открытый спор-дуэль, предпочитая, так сказать, коллективную полемику с молодым редактором «Финского вестника». Но в один из вечеров у Бекетовых Плещеева заинтересовал бородатый человек, который, казалось, напротив, все время стремится вызвать Майкова на поединок, а Валериан почему-то не принимал вызова. Этот громкоголосый и чернобородый спорщик назвался Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским. Вскоре Алексей узнает, что Петрашевский и Майков почти одновременно учились на юридическом факультете, там, видимо, хорошо изучили характеры друг друга, выяснили симпатии и антипатии. Там же, вероятно, Петрашевский и в силу своего возрастного старшинства (он на два года был старше Майкова), но более всего из-за «врожденной» склонности повелевать, настойчиво навязывать свои убеждения другим, не считаясь с самолюбием собеседника, вызвал некоторое чувство отчуждения у Валериана, не терпевшего не только «диктаторства», но и малейшего покровительства. Впрочем, это не помешало двум сильным натурам объединиться ради общего дела: оба к моменту знакомства с ними Плещеева увлеченно занимались подготовкой «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». В нем весьма своеобразно истолковывались важнейшие социально-философские учения — идеи западноевропейского утопического социализма, борьбы с тиранством, с деспотизмом; в словаре были литературно-критические, философские материалы, и не случайно на обложке его первого выпуска указывалось, что он «из простого словотолкователя превратился в краткую энциклопедию искусств и наук…»[14]. В тот вечер Петрашевский, оставив всякую надежду вызвать Майкова на единоборство, решил, видимо, «отыграться» на своем новом знакомом: с первой же минуты он засыпал Алексея вопросами о его теперешних занятиях, увлечениях, благосклонно отозвался о стихотворении «Дума» с эпиграфом из Беранже, заметив при этом, что он, Петрашевский, вообще-то скептически относится к нынешней поэзии. Плещеев с юношеским задором не замедлил вступить в спор, пытаясь доказать собеседнику, что хотя после Лермонтова сильных талантов появилось не так уж много, но они все-таки есть. — Да кто ж конкретно? — задумчиво спросил Михаил Васильевич. Плещеев все с тою же запальчивостью стал называть имена, вероятно, малознакомые собеседнику, потому как на лице Михаила Васильевича отразилось некоторое недоумение. Но когда Алексей упомянул книгу Я. Полонского «Гаммы», стихи Аполлона Майкова, Петрашевский, нахмурившись, сказал: — Я недавно имел возможность прочитать обоих этих пиитов и скажу вам, что это лишь второй род поэзии. — Вы хотели сказать, Михаил Васильевич, второй сорт? — Нет, я не оговорился, именно второй род. Впдите ли, Алексей Николаевич, я считаю, что существует три рода поэзии: поэзия мысли, чувства и слова. Часто встречал последнюю, реже вторую в соединении с последней и весьма редко первую с двумя последними в стройном гармоническом сочетании. Вот стихи Беранже, по-моему, самый впечатляющий пример такого сочетания. Алексей почувствовал в словах Петрашевского о Беранже как бы похвалу и в свой адрес (ведь эпиграфом к «Думе» он как раз и поставил строки из стихов знаменитого француза), хотя и понимал прекрасно: прочитай Михаил Васильевич все написанные им, Плещеевым, стихи, — вряд ли он поставит их выше второго рода, да и дотянут ли они до второго? Не являются ли его стихи всего лишь «поэзией слов»? Соблазн почитать стихи Петрашевскому и прямо спросить его мнение был велик, но какая-то внутренняя пружина сдерживала неуместные при первом знакомстве исповедальные желания. Петрашевский спросил между прочим, как находит Плещеев лекции нынешних профессоров университета, например, лекции В. С. Порошина, заметив, что этот человек раскрыл ему глаза на великого Фурье. И сразу же устроил Алексею нечто вроде экзамена по фурьеризму. Плещеев читал и Фурье, и Кабе, и Луи Блана, потому с пафосом начал развивать свои представления о социализме, но Петрашевский чуть грубовато прервал пылкого юношу, заявив, что тот толкует идеи Фурье как Барбье, а это несколько разные мыслители[15]. Алексея задела столь высокомерная реплика Петрашевского, он уже было собрался ответить дерзостью, но в это время его подхватил под руку Николай Бекетов и со словами: «Не лучше ль слепо им во всем повиноваться» — повел в другую комнату, шутливо пригрозив Петрашевскому кулаком. — Мой поэт, вы слишком возбуждены, и я боюсь, как бы ваша словесная дуэль с Михаилом Васильевичем не закончилась дуэлью всамделишной. — Но, Николя, он все время стремился дать мне понять, что я просто невежественный мальчишка. — Нет, Алексей, это тебе показалось. Михаил Васильевич очень расположен к тебе, но его неприятная манера поучать всегда воспринимается первоначально в штыки. А потом к ней привыкаешь. Сколько я знаю, пожалуй, все, за исключением Валериана Майкова, привыкли. Но у Валериана какие-то особые счеты с Петрашевским, тянущиеся еще с университетских лет. — Может быть, ты и прав, Николя, но, честное слово, мне бы не хотелось выслушивать сентенции… Кстати, об университете. Я ведь уже говорил тебе, что подал на имя Плетнева прошение об отчислении? — А может быть, все-таки не стоит спешить, Алексей, не окажется ли твой шаг чересчур опрометчивым? — Нет, Николя, я все крепко обдумал и раскаиваться не буду. Потом, ведь я все равно сдам за университетский курс. Позанимаюсь дома и сдам экстерном. Слава богу, нам — гуманитарам, все-таки не надо биться над разными органическими и неорганическими соединениями, возиться с разными колбочками, пробирками, спиртовками. — Ну что ж, Алексей, коль твердо решил, то не буду тебя раздражать назойливыми отговорами. А что — служить пойдешь куда или…? — Еще не решил, но первое время думаю целиком заняться самообразованием, чтобы не давать повод тому же Михаилу Васильевичу подтрунивать над моими познаниями в философии… Да и на литературную фортуну надеюсь: хочу собрать свои стихи и переводы в отдельную книжечку; как ты считаешь, Николя, не будет это выглядеть самонадеянностью? — Отчего же самонадеянностью, Алексей. Мы все, твои друзья, верим в твой поэтический талант. — Спасибо, Николя, спасибо, друг. — Плещеев братски обнял Бекетова. В это время в их комнату вошла группа возбужденных юношей, среди которых были и Петрашевский с Майковым. — Да они, кажется, объясняются в любви! — воскликнул Майков. Валериан познакомился с братьями Бекетовыми раньше Плещеева и в общении с Андреем и Николаем по праву старшего взял на себя несколько покровительственную роль, не допуская, конечно же, ничего подобного в отношениях со старшим из Бекетовых — Алексеем. С Плещеевым Майков старался тоже поддерживать равноправные отношения, почувствовав, что начинающий поэт ранимо воспринимает всякое покровительство. — Алексей Николаевич, молю бога, чтобы Николя не задохнулся в ваших объятиях — ведь тогда некому будет читать наставления, а лишь самому выслушивать их от Михаила Васильевича. — Майков говорил громко, хитровато поглядывая то на Петрашевского, то на Плещеева. — Довольно, Валериан, иронизировать, а то я, право, обижусь. — Петрашевский произнес это с какой-то горьковатой усталостью, как показалось Алексею, и это почему-то сразу же притупило чувство обиды, которое еще недавно бурлило в душе. «А ведь Михаилу Васильевичу тут, пожалуй, не совсем хорошо. Он, кажется, чувствует себя неуютно». Мечтатель и романтик Плещеев всякую неординарную личность считал обязательно чуть несчастной. А Николай Бекетов еще в преддверии знакомства Плещеева с Петрашевским рассказывал Алексею о действительно не очень удачливой жизни Михаила Васильевича. Оказывается, и лицей тот закончил по самому последнему разряду (снизили балл за «вольнодумство»), и в университет поступил только вольным слушателем, хотя, правда, закончил университетский курс блестяще; и в личной жизни что-то не сложилось, и по службе не все благополучно: совсем недавно пытался занять место преподавателя юридических наук в Александровском лицее, но неудачно и вынужден тянуть лямку в департаменте министерства иностранных дел… Чувство недавней неприязни сменилось любопытством и сочувствием: Алексей даже ощутил в душе неожиданный прилив нежности к этому мрачноватому и резкому человеку. А Петрашевский между тем стал прощаться со всеми, несмотря на то, что остальные гости Бекетовых вроде бы еще не собирались расходиться. Подойдя к Плещееву, Михаил Васильевич широко улыбнулся, и в его больших карих глазах опять сверкнул огонек иронии. — Алексей Нпколаевпч, рад был познакомиться с вами, простите меня, если мое замечание относительно ваших суждений о Фурье могло показаться вам обидным, но я был бы рад продолжить с вами разговор о великом Франсуа… скажем, в моем доме в одну из пятниц. Между прочим, там вы можете встретить некоторых из своих университетских приятелей, которые у Бекетовы, не бывают, а также и из числа присутствующих здесь. Алексей искренне обрадовался такому приглашению, однако заговорил торопливо о занятости, и своем намерении оставить университет и о связанных с этим хлопотах, но тут его прервал подошедший к ним Валериан Майков: — Михаил, ты опять вразумляешь Алексея, что будущее России — в фалангах и фаланстерах? — Нет, Валериан, я приглашаю Алексея Николаевича навестить как-нибудь старого холостяка Петрашевского, если, конечно, он не посчитает для себя зазорным мое общество. — Петрашевский произнес эти слова глухо, и Алексею почудилась в голосе Михаила Васильевича скрытая горечь. — Только не пугай, пожалуйста, Михаил, нашего поэта холостяцким затворничеством своим, не то он может подумать, что у тебя собираются одни только помешанные на Фурье аскеты, для которых самые красивые женщины — это фаланги. — Майков с иронической усмешкой отошел от Плещеева и Петрашевского. «Однако Валериан и Михаил Васильевич не столь, видимо, дружны, как рассказывал Бекетов», — подумал Алексей. Петрашевский стал прощаться с Плещеевым, еще раз напомнив, что он будет рад видеть Алексея Николаевича в своем доме, в Коломне, что у собора Покрова. При этом Алексею показалось, что Петрашевский что-то недоговаривает. «Да ведь он знает, что я проживаю недалеко от него, наверное, Николя или Валериан сказали ему». Догадка эта сразу подсказала Алексею незамедлительный ответ: — Если я буду возвращаться из университета дорогой, проходящей мимо вашего дома, то непременно воспользуюсь вашим приглашением. Домой Алексей добирался долго (Бекетовы жили на Васильевском острове), кружным путем: от моста через Неву на Невский проспект, потом вдоль Екатерининского канала — и по многочисленным переулкам. Ехал и думал о новом своем знакомом, с которым непременно захотел свести Владимира Милютина с юридического факультета — с ним Плещеев в последнее время подружился, восторгаясь аналитическим умом Владимпра, его большой начитанностью, особенно по части политической экономии. И вообще Владимир, хотя и был на несколько месяцев моложе Алексея, производил впечатление старшего, если товарищи появлялись вместе. «Петрашевский и Майков кончили университетский курс по юридическому отделению, у них с Владимиром найдется много общих тем для разговора». Плещеев уже твердо решил, что если и пойдет к Петрашевскому, то только с Милютиным. Владимир Милютин принял предложение Плещеева весьма охотно, однако засомневался: удобно ли явиться незваным гостем к совершенно незнакомому человеку, на что Алексей стал горячо возражать, убеждая приятеля, что для себя он, Плещеев, ничего предосудительного не видит, еслизаявится в гости не один, а с падежным другом, и вряд ли Петрашевский сочтет такой поступок бестактным. — Хорошо, я согласен с твоими доводами, Алексей, однако, когда будешь меня знакомить с Петрашевским, отрекомендуешь меня надежным своим другом или?.. — Милютин, увидев в глазах Плещеева недоумение, добавил: — Аполлон Григорьев называет меня неустойчивым юношей. — Ты знаком с Григорьевым? — Алексей всегда с большим интересом читал в «Репертуаре и Пантеоне» острые театральные заметки, рассказы Григорьева, его стихи, знал, что Григорьев в настоящее время живет в Петербурге, бывает у Бекетовых, но Плещееву все еще не довелось встретиться с Аполлоном лично, хотя он не раз просил Николая Бекетова познакомить их при первой возможности. — Когда ты с ним сошелся? — Совсем недавно. Меня познакомил с ним Н., он служил вместе с Григорьевым в какой-то управе благочиния… К Петрашевскому Плещеев и Милютин пошли-таки вместе, и хозяин дома, к удивлению и радости Алексея, отнесся вполне благосклонно, увидев, что Плещеев пришел не одни, а с товарищем. Получилось так, что доводы Алексея реально подтвердились, — с первой минуты встречи (Петрашевский на звонок вышел к гостям сам) Михаил Васильевич дал понять, что появление Плещеева с приятелем вполне, так сказать, нормальное. А когда Алексей, представляя Владимира хозяину дома, заметил, что знакомящиеся по всем статьям должны быть сподвижниками (оба юристы и пристрастны к политической экономии), то Петрашевский удовлетворенно хмыкнул, а потом сказал, что и Алексей Николаевич не будет нынче скучать, и повел приятелей по лестнице вверх, в просторную комнату, где за большим столом, уставленным вином и закусками, сидело человек восемь незнакомых Алексею молодых мужчин, оживленно спорящих. Когда Плещеев и Мплютин, перешагнув порог комнаты, вопрошающе посмотрели на Петрашевского, тот оставил их и резко подошел к спорящим, которые словно бы и не замечали вошедших. — Господа! Разрешите прервать вашу увлекательную дискуссию и представить вам еще двух молодых поклонников великого Фурье, — произнес Петрашевский громко и даже несколько торжественно. Сидящие за столом неторопливо поднялись, а один из них воскликнул: — Ба! Владимир Милютин! Как ты попал в дом, где царствует метафизика, где смеются над сводами законов. которые ты столь прилежно штудируешь в стенах университета?! — С этими словами говоривший быстро шагнул к стоящим все еще у порога Плещееву и Милютину, порывисто пожал руку Владимиру и, не дав возможности произнести Милютину и слова, столь же порывисто протянул руку Плещееву, произнеся скороговоркой: — Аполлон Григорьев, временный житель Санкт-Петербурга. Алексей назвал себя, хотел было спросить про причину «временности», но тут подошли и остальные участники беседы, стали шумно знакомиться, называя себя и толкуя, что рады появлению представителей студенческой молодежи (как будто сами были невесть какими почтенными старцами!), что Михаил Васильевич привел их «сюрпризно», без предварительного предупреждения… За столом Алексей оказался возле смуглого, возбужденного Александра Пантелеймоновича Баласогло, который сразу же покорил сердце юноши, с пафосом прочитав:А. И. Пальм-Альмииский. Алексей Слободин
Вскоре после ухода из университета Плещеев собирался вместе с матерью съездить в Москву навестить родственников (в Москве жила тетка, под Москвой — двоюродный брат), решить некоторые деловые вопросы, касающиеся плещеевских имений на Волге. Материальные затруднения Плещеевых натолкнули Елену Александровну на мысль продать имение своей родной сестры, живущей в Москве, Алексей поддерживал идею матери. Но обстоятельства сложились так, что Елена Александровна поехала в Москву одна, Алексей же остался в Петербурге: возможно, это объяснялось сложностью его отношений с любимой девушкой. К сожалению, мы ничего не знаем об этой девушке, кроме того, что еще в 1844 году Плещеев посвятил ей стихотворение «Люблю стремиться я мечтою…», озаглавив его загадочными (по крайней мере, для нас) инициалами М. П. Я-й. Вероятно, и стихотворение «Встреча» тоже посвящено ей (здесь адресат зашифрован под инициалами «А. П. Я-вой»), В стихах воплотилось сильное и серьезное чувство поэта:
А сотрудничать в петербургских газетах Плещеев начал активно после выхода из университета. В «Русском инвалиде», «Литературной газете» А. Краевского, а затем и в «Санкт-Петербургских ведомостях» он публикует рецензии, фельетоны, статьи; в середине 1846 года договаривается с газетой «Русский инвалид» вести в ней раздел «Петербургская хроника» и в течение почти полутора лет (с сентября 46-го по январь 48-го года) поместит в нем множество материалов на литературные, театральные и политические темы. Литературные привязанности Плещеева, в сущности, остаются неизменными: поэтическими маяками для него по-прежнему служат Пушкин и Лермонтов, в прозе он выше всех ставит гений Гоголя, направление, связанное с именем великого писателя: «…теперь только изредка слышится какой-нибудь охриплый голос, восставший против направления, данного Гоголем русской литературе, и этот охриплый голос тотчас же заглушается энергическими протестами молодого поколения, обратившего на гениального юмориста полные ожидания очи…» — отмечает он в одной из рецензий в 1846 году. Помещая фельетоны в «Русском инвалиде», Плещеев, конечно, не претендовал на роль зрелого литературного критика, чаще всего выступая анонимно, и все же эти фельетоны и заметки молодого поэта — труд человека, наделенного тонким чувством слова и образа. Начинающий критик, испытывавший большое влияние Валериана Майкова, придерживается в оценках художественных произведений, к некоторому удивлению его друзей, точки зрения, далеко не всегда совпадающей с теоретической концепцией «гуманистического космополизма», напротив, часто выступает как последователь того направления в критике, которое формировалось под непосредственным воздействием идей Белинского, стремится понять характеры, созданные литературой, исходя из их особенностей: «…В Татьяне русская душа, русский характер, русская природа; в ней все так верно русской действительности — каждый шаг, каждое слово ее…» — рассуждает Плещеев в «Русском инвалиде» еще в 1846 году по поводу пушкинского романа «Евгений Онегин», отмечая, что именно эти качества героини романа являют непреходящее значение и для выражения общечеловеческого, а это ведь совсем не совпадало с тем, что развивал В. Майков в статье «Стихотворения Кольцова». И «Мертвые души» Гоголя дороги Плещееву прежде всего как произведение, в котором как «нигде русская жизнь раскинулась так широко…». В то же время Алексей Плещеев в своих критических отзывах всегда обращает внимание и на социальную сторону произведений, в частности, дает высокую оценку роману Искандера-Герцена «Кто виноват?». Разделяя мнение Валериана Майкова, что бездоказательная, памфлетическая манера, якобы свойственная публицистическим статьям Белинского, «не может быть полезной долго», Плещеев-критик в своей творческой практике солидаризируется зачастую больше с Белинским, нежели с Майковым, в отличие от многих товарищей по кружку Петрашевского признавая «изменяемость человеческой натуры под влиянием внешних обстоятельств». Только вот в собственном поэтическом творчестве Алексей Плещеев не избежал абстрактных деклараций об общечеловеческом гуманизме; к тому же и Валериан Майков, и многие из новых друзей, посещавших дом Петрашевского, расхваливали как раз те его стихи, в которых утверждалась идея всечеловечности:
С Федором Достоевским Алексей знакомится вскоре лично. Встреча произошла на квартире братьев Бекетовых. То был период, когда имя Достоевского приобрело громкую известность в литературных кругах не только Петербурга. Уже после публикации «Бедных людей», получивших восторженную оценку Белинского, на молодого писателя смотрели как на большую надежду русской литературы. Поэт Н. М. Языков писал в феврале 1846 года Н. В. Гоголю: «В Питере, по мнению «Отечественных записок», явился новый гений — какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова. Прочти ее и скажи мне твое о ней мнение…» Следом за «Бедными людьми» на страницах второго номера «Отечественных записок» публикуется новое произведение Достоевского «Двойник», которое еще больше укрепило публику во мнении о необыкновенном таланте писателя. Белинский отмечал, что в «Двойнике» автор «обнаружил огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература…», хотя одновременно критик предъявлял и серьезные претензиик автору этого произведения, отметив, что в «Двойнике» видно «страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил…, определять разумную меру и границы художественному развитию задуманной им идеи», относил к недостаткам и «фантастический колорит» повести… Достоевский становится вделанным гостем на литературных званых вечерах, и если до второй половины 1845 года, то есть до знакомства с Белинским и его окружением он вел полузатворнический образ жизни («Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Григоровича, но тот и сам еще тогда ничего не писал…» — говорил Достоевский в «Дневнике писателя» о поре, предшествующей знакомству с Белинским), то с появлением в печати «Бедных людей» и «Двойника» связи его с литераторами столицы значительно расширяются. Он начинает посещать дом Майковых, часто бывает у Бекетовых, куда его ввел Григорович; с Бекетовыми очень крепко подружится и одно время — с ноября 1846 года по февраль 1847 года — будет снимать с ними общую квартиру. А встреча Плещеева с Достоевским произошла на первой квартире Бекетовых, которую они снимали тоже на Васильевском острове, и в первую же минуту знакомства Плещеев с жаром заговорил о том, какое сильное впечатление на него произвели и «Бедные люди», и «Двойник». В словах Алексея было столько неподдельной искренности, что замкнутый и самолюбивый Достоевский тоже почувствовал к новому знакомому доброе расположение. Вскоре Достоевский и Плещеев по-настоящему сблизились, нередко вместе прогуливались по городу, живо обсуждая со свойственными молодости пылом и задором все тревожащие их вопросы. Оба восторженно верили в неизбежное торжество новых социалистических учений — Плещеев основательно познакомился с этими учениями у Бекетовых и Петрашевского, Достоевский — в кружке Белинского. «Я уже в 46-м году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновления мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским», — отмечал Достоевский в «Дневнике писателя». В кондитерской Вольфа и Беранже у Полицейского моста, куда зашли Плещеев с Достоевским, гуляя по Петербургу, и произошло знакомство Федора Михайловича с Петрашевским. Плещеев заговорил со своим знакомым — коренастым чернобородым человеком, которого Достоевский, как он писал впоследствии, толком не разглядел, так как читал газету. Этот бородач уже на улице неожиданно догнал Достоевского, «спросил об идее его будущей повести (видимо, Плещеев назвал бородачу его имя) и назвался Петрашевским. Обменявшись незначительными фразами, они разошлись. Плещеев при их разговоре не присутствовал, он несколько отстал и шел поодаль. Достоевский, подождав друга, поинтересовался, давно ли он знаком с этим странным бородачом. Алексей стал рассказывать о своем знакомстве, начавшемся несколько месяцев назад. В доме Петрашевского, по его словам, по пятницам собираются весьма интересные люди и ведут содержательные и злободневные беседы, по преимуществу, правда, на политические и философские темы, много толкуют об учении Шарля Фурье, которого Петрашевский прямо-таки обожествляет. Достоевский заметил, что фурьеризм и в самом деле прекрасная система, что о ней с большим уважением отзывается Белинский. Молодые люди с увлечением заговорили о том влиянии, которое оказывают на общество страстные проповеди неистового Виссариона, о своих желаниях посвятить себя такому делу, чтобы оно оказалось нужным и полезным России, народу. Незаметно перешли они к воспоминаниям о прошлом, и тут выяснилось, что у них есть некоторые совпадения в судьбах: оба готовились к военной карьере и оба разочаровались в ней — один еще на заре туманной юности, а другой, хотя и закончил военное инженерное училище и даже дослужился до чина инженера-поручика, сохранил к своей бывшей армейской службе только глухую неприязнь, граничащую с ненавистью. Алексей рассказал Федору Михайловичу о скором выходе из печати своего первого сборника стихотворений, о помощи в этом деле князя В. Ф. Одоевского, которого, как выяснилось, Достоевский тоже очень глубоко уважал. Федор Михайлович попросил тут же Плещеева что-нибудь прочитать. Плещеев, смущенно оглядываясь на прохожих, прочитал, понижая голос, хотя душа и жаждала восклицаний:
Ну вот и вышел благодаря помощи В. Ф. Одоевского сборник «Стихотворения А. Плещеева», на который Алексей возлагал немалые надежды. И они, пожалуй, оправдывались: друзья и знакомые поздравляют, предрекают успех, да Алексей и сам замечает, что имя его становится известным не только в среде окружавших единомышленников. Конечно, эта известность не могла равняться с громкой популярностью его нового друга Федора Достоевского (да ведь и таланты-то их несоизмеримы), но — слаб человек на славу — Алексей тоже надеялся, что на сборник его обратят внимание в критике. И он не ошибся: сборник стихов был замечен и вызвал довольно спорные мнения на страницах разных изданий. В спорах приняли участие литераторы, далеко не безразличные Плещееву, люди, к которым он относился с большим уважением. Один из наиболее лестных и наиболее полных отзывов на сборник дал Валериан Майков в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1846 год. Майков, приглашенный заведовать отделом критики в журнале Краевского на смену ушедшему в «Современник» Белинскому, был как раз увлечен теорией «наднациональной» всечеловечности, поэтому и сборник Плещеева расценивал прежде всего с позиций этой теории… «Стихи к деве и луне кончились навсегда. Настает другая эпоха: в ходу сомнение и бесконечные муки сомнения, страдание общечеловеческими вопросами, горький плач на недостатки и бедствия человечества» — такими решительными словами начал критик свою рецензию на книгу Плещеева. И не менее решительно продолжал: «…В том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, г. Плещеев — бесспорно первый наш поэт в настоящее время… Он, как видно из его стихотворений, взялся за дело поэта по призванию; сильно сочувствует вопросам своего времени, страдает всеми недугами века, болезненно мучится несовершенствами общества и сгорает нетщетно жаждою споспешествовать его совершенствованию и торжеству на земле истины, любви и братства». Алексей прочитал эти слова в майковской рецензии с чувством благодарности, но и не без смущения, ощутив в словах Валериана явный перехвал. Первый поэт после смерти Лермонтова — это, конечно, преувеличение, как будто Валериан считает его, Плещеева, талантливее и Аполлона Майкова, и Аполлона Григорьева, и Афанасия Фета, и Якова Полонского, и Николая Некрасова… Нет, тут Валериан, наверное, исходил все из той же идеи «совершенствования человечности» — Алексей хорошо помнит, с какой восторженностью принял Майков стихотворение «Страдал он в жизни много, много…», в котором прославлялся герой, который «мир считал своей отчизной и человечество семьей», помнит, как и другие товарищи, за исключением, пожалуй, Достоевского, хвалили это стихотворение… «Да, Валериан очень верно подметил главный, определяющий пафос моих стихов и сказал об этом страстно и более чем проницательно». Алексей взволнованно перечитывал в рецензии следующие рассуждения Майкова: «…Плещеев вообще нередко говорит в своих стихах о самом себе, но это не плаксивые жалобы на судьбу, не стоны разочарования, не тоска по утраченном личном счастии — нет, это вопли души, раздираемой сомнением, глухая и упорная битва с действительностью, безобразие которой глубоко постигнуто поэтом и среди которой ему душно и тесно, как в смрадной темнице. Он хотел бы выломить железные решетки, отворить двери и окна, чтобы, пропустив в это жилище мрака и зловония живительный луч солнца, благоуханную струю свежего воздуха, дать отогреться и вздохнуть вольною грудью своим страдающим, изнеможенным и бессильным братиям…» Как это верно и как радостно, что именно Валериан первым сказал об этом… Читая майковскую рецензию, Алексей испытывал не просто чувство благодарности к другу и единомышленнику, он понимал, что Валериан, давая столь высокую оценку стихам, тоже переполнен желанием «выломать железные решетки, отворить двери и окна…» Вспомнилось, как тот же Майков посоветовал Алексею открыть сборник стихотворением «Сон», что очень обрадовало Плещеева, ибо он и сам считал его программным для себя. В сущности, это было не стихотворение, а отрывок из задуманной поэмы, которая так и не была закончена. Отрывок Алексей несколько раз читал у Майковых и Бекетовых, его хвалили; мысль о поэтическом пророчестве, о гражданском долге поэта обвинять «рабов греха, рабов постыдной суеты», возвещать «мщенья грозный час тому, кто в тине зла и праздности погряз», была близка друзьям поэта, как близки им были и развиваемые в стихотворении идеи революционного преобразования мира, идеи социалистов-утопистов. Аллегорию (явление богини поэту во сне) все прекрасно понимали, а эпиграф из памфлета «Слова верующего» Ф. Ламенне прямо говорил: «Земля печальна и иссушена зноем; но она зазеленеет вновь. Дыханье зла не вечно будет веять над нею палящим дуновеньем». Отзыв Валериана о сборнике — это ведь еще и страстное пожелание и дальше идти по избранной дороге: «…Голос его не слабеет, изнемогая в борьбе, но, далекий от того, чтобы уступить, бесславно бежать с поля битвы, он восклицает к своим друзьям:
Осенью 1846 года на одной из «пятниц» у Петрашевского возник жаркий спор о значении литературы в общественной жизни страны и о том, какой из родов словесности играет большую роль — поэзия или проза. А. П. Баласогло, как всегда, темпераментно высказывался в пользу поэзии, ссылаясь опять же на имена Державина, Пушкина, Лермонтова в России, Барбье, Беранже, Гюго — во Франции, Шекспира и Байрона — в Англин. Александр Ханыков возражал Александру Пантелеймоновичу и делал упор на современность, утверждая, что в нынешней поэзии нет равных по таланту не только Гоголю, но даже молодому Достоевскому, что поэзия нынче захирела, стала уделом прихотливых и беспринципных бар. Ханыкова пытался урезонить сам Петрашевский и прежде всего, пожалуй, потому, что в комнате присутствовал Плещеев — автор недавно вышедшего поэтического сборника, с горячим одобрением встреченного всеми, кто приходил по «пятницам» в дом на Покровской площади. И тут, к удивлению всех, Плещеев произнес целую речь в защиту прозы, почти во всем поддержал Ханыкова. — Поверьте, друзья, я ничуть не намерен принижать работу наших поэтов, напротив, высоко ставлю стихи современников: и Майкова, и Полонского, и Григорьева; превосходны недавно опубликованные пьески Некрасова «Огородник», «В дороге», умны и благородны стихотворения Фета и Тургенева, но все это не то, что ждет от нас, стихотворцев, образованная публика, — решительно заявил Алексей и взволнованно заговорил о том, какое великое дело выпало на долю теперешней прозы, ибо только ей, по его мнению, под силу изобразить действительный мир во всей правдивости, показать все язвы и пороки общества, указать пути к избавлению от этих пороков. Он восторженно говорил о Гоголе и Достоевском, сказал, что знает необыкновенно даровитых людей, которые в скором времени подарят России замечательные картины нынешних нравов — от Майковых Плещеев знал, что близкий друг их дома, а ныне чиновник министерства финансов Иван Гончаров написал замечательный, по словам Валериана, роман; известно ему было, что его знакомые по майковскому и бекетовскому домам Дмитрий Григорович и Михаил Салтыков тоже написали интересные произведения. Плещеев и сам решил теперь уже всерьез испробовать свои силы в прозе (вчерне были написаны первые беллетристические сочинения — рассказы «Енотовая шуба» и «Папироска»), но об этом знали только самые близкие друзья, вот почему его похвальное слово прозе показалось несколько странным многим присутствующим у Петрашевского. — Алексей Николаевич, я, признаться, весьма удивлен, слушая вас, — Александр Пантелеймонович Баласогло никак не ожидал такой «измены» поэзии со стороны Плещеева. — В вашем сборнике есть прекрасный перевод из Гейне… Как там у вас сказано… нет, не в сборнике, а в той строфе, которую, вы говорили, не пропустила цензура: «…Сильнее стучи и тревогой ты спящих от сна пробуди. Вот смысл глубочайший искусства, а сам маршируй впереди…» А разве прозаик может маршировать впереди? Нет, он всегда предпочитает находиться в арьергарде. — Помилуй, Александр Пантелеймонович, ты наговариваешь на наших беллетристов. Что же, по-твоему, и Гоголь идет в арьергарде? — Это теперь вмешался Петрашевский, который еще несколько минут назад защищал поэзию от «нападок» Ханыкова. — Я полагаю, что восхваление прозы в ущерб поэзии и наоборот есть непростительное заблуждение наше, потому как та и другая — родные сестры, и задача у них одинаковая: будить от сна спящих, сеять благородные мысли о равенстве и братстве людей, о счастливом будущем человечества, способствовать усовершенствованию общества… Разговор незаметно стал снова входить в русло социально-экономических доктрин, в которых хозяин дома чувствовал себя как рыба в воде. Познания Петрашевского в экономических и политических вопросах были немалые. хотя и несколько эклектичные. Обстоятельно изучив работы Сен-Симона, Фурье, Ламенне, Оуэна, Прудона, Фейербаха. Штирнера и других западноевропейских философов, Михаил Васильевич отдавал явное предпочтение учению французского утопического социалиста Шарля Фурье. В духе идей Фурье Петрашевский даже в собственном имении под Петербургом намеревался устроить нечто вроде фаланги-фаланстера. Другие же посетители «пятниц» далеко не во всем и не всегда разделяли фанатическую преданность Петрашевского фурьеризму и, знакомясь с учениями других социалистов-утопистов (сочинения которых брали в основном тоже у Михаила Васильевича), часто вступали с хозяином дома на Покровской в серьезные споры. Вот и сегодня, когда Петрашевский вновь заговорил о необходимости решительного освобождения крестьян и объединения их в фаланстеры, ему стал возражать Владимир Милютин. Милютин, начав вместе с Плещеевым регулярно посещать дом Петрашевского, продолжал учебу в университете, готовился нешуточно посвятить себя специальному изучению политической экономии. В эти дни он увлеченно писал работу «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции», и в споре с Петрашевским ему представилась возможность проверить убедительность своих тезисов о сближении экономических учений с социализмом. В частности, Милютин в отличие от Петрашевского совсем не обожествлял Фурье, считал учение французского утописта недостаточно «научным». У Милютина был свой «бог» — французский философ-позитивист Огюст Копт, социологическая концепция которого представлялась молодому русскому ученому высшим достижением экономической мысли. Именно идеи Конта позволяют открыть новые законы развития человека и общества, утверждал Милютин, бросая явный вызов Петрашевскому, который называл Копта примиренцем по отношению к существующим порядкам, отступником от идей своего учителя Сен-Симона (Конт приходил к выводам о бесполезности революционного изменения буржуазного общества). Спор разгорался, ни один из спорящих не хотел уступить, да и другие участники встречи незаметно втягивались в полемику, попеременно защищая то Петрашевского, то Милютина — в зависимости от того, чьи доводы казались убедительными. Даже Плещеев принял на этот раз живейшее участие в обсуждении политических вопросов, которые прежде казались ему чересчур скучными и утомительными. Алексей, правда, не считал себя достаточно подготовленным для таких серьезных споров, хотя со многими произведениями из библиотеки Петрашевского был хорошо знаком. Его тоже привлекали идеи Фурье, Конта он тоже пробовал читать, но без интереса. Однако сегодня, зараженный возбужденной задиристостью своего друга, он готов был признать немалую правоту в суждениях Милютина — ведь Владимир, несмотря на преклонение перед Контом, ратовал за необходимость общественных преобразований на тех же социалистических началах, которые пропагандировали и Сен-Симон, и Фурье, и Кабе — так, по крайней мере, казалось в этот вечер Плещееву… А когда стали расходиться от Петрашевского, Алексей пригласил Владимира Милютина в свою квартиру. Владимир охотно согласился, заметив, что ему нынче и совсем не хочется быть дома, встречаться с «вельможными» родственниками (он происходил из богатой, близко стоящей к правительственным кругам семьи). В тот же вечер Плещеев и подарил Милютину сборник «Стихотворения А. Плещеева». Этот экземпляр сборника не был похож на все остальные. В присутствии Владимира Алексей вложил в книгу лист бумаги, на котором убористым почерком в правом углу стояла надпись «Посвящается Владимиру Милютину», а ниже — стихотворные строфы:
А братский круг все расширяется и расширяется. Крепнет дружба с Федором Достоевским, возвратившимся из Ревеля. Федор Михайлович, взявшийся с весны 1847 года вести воскресный фельетон в газете «С.-Петербургские ведомости», привлек к сотрудничеству в газете и Плещеева. Здесь вслед за первым фельетоном Достоевского «Петербургская летопись» (27 апреля) была опубликована 30 апреля статья Плещеева о книге «Очерки Рима» Аполлона Майкова, старшего брата Валериана. Достоевский, правда, пока не очень жаловал собрания у Петрашевского, приходил на «пятницы» редко — разговоры, которые велись в доме на Покровской, казались Федору Михайловичу малоинтересными в сравнении с теми, какие ему доводилось слышать в кружке Белинского. Зато другой из новых друзей Плещеева, поэт Сергей Дуров, как и Алексей, старается при каждой возможности заглядывать на Покровскую, принимает живейшее участие в обсуждении и литературных, и политических вопросов. Теплые отношения поддерживает Плещеев и еще с одним активным посетителем дома Петрашевского — поэтом и прозаиком Александром Пальмом, хотя друзьями они так и не стали: по-прежнему Алексей дружит с Николаем Мордвиновым, Владимиром Милютиным, Дмитрием Ахшарумовым, тоже писавшим стихи; в 1847 году станет заходить к Петрашевскому один из первых политических наставников Плещеева П. В. Веревкин, который, правда, вскоре уедет на лечение за границу. Знакомится и довольно близко сходится Плещеев с некоторыми из молодых людей, начавших с недавнего времени посещать «пятницы» на Покровской: студентом Павлом Филипповым, человеком решительным, жаждущим практического дела в борьбе с «бичами страны родной», молодым правоведом Василием Головинским… А с начала 1847 года дом в Коломне на Покровской площади посещает еще более решительный сторонник активных методов борьбы с правительством — лицейский приятель Петрашевского Николай Александрович Спешнев, с появлением которого деятельность кружка резко оживилась. Н. А. Спешнев вернулся недавно из-за границы, где прожил без малого четыре года. В Европе он изучал немецкую классическую философию, социалистические и коммунистические доктрины, исследовал работу тайных обществ, а в Швейцарии ему пришлось даже повоевать на стороне кантонов против Зондербунда[23]. Умный, волевой, целеустремленный Спешнев отстаивал самые радикальные методы пропаганды социалистических идей вплоть до вооруженного восстания, конечной целью которого должно стать уничтожение крепостного права и установление демократической республики, но подготовку к вооруженному перевороту предлагал начать с действий террористических групп («пятерок»), которые, по его мнению, будут способствовать зарождению у народа мыслей о необходимости насильственного взлома существующего строя. «Я, нижеподписавшийся… поступаю в русское общество и беру на себя следующие обязанности: когда распорядительный комитет общества… решит, что настало время бунта, то я обязуюсь, не щадя себя, принять полное открытое участие в восстании и драке… вооружившись огнестрельным или холодным оружием… бору на себя обязанность увеличивать силы общества приобретением обществу новых членов…» — вот на какой обязательной подписке для членов тайного общества настаивал Николай Спешнев. Личная обаятельность Спешнева, его убежденная уверенность в отстаивании принципов, полулегендарные слухи о его бурных приключениях в Европе — участие в военных операциях, знакомства с революционными деятелями Запада, любовные романтические истории — способствовали тому, что в скором времени Николай Александрович станет центральной фигурой в кружке Петрашевского. Даже Достоевский после знакомства со Спешневым почувствует в «барине», как он окрестит Николая Александровича, личность незаурядную, действительно способную на серьезное практическое дело, и станет с этого времени регулярно посещать «пятницы», с любопытством приглядываясь к лицейскому другу Петрашевского. Плещеев, который тоже был «полонен» Спешневым, становится последователем воззрений последнего на современное общество, хотя практическую программу, предлагаемую Николаем Александровичем, не разделял, а создание террористических «пятерок» отвергал вовсе. Однако влияние Спешнева на Плещеева и других членов кружка Петрашевского было велико, и не случайно уже через много лот Алексей Николаевич в письме Добролюбову от 12 февраля 1860 года так охарактеризует личность Николая Александровича: «Рекомендую вам этого человека, который, кроме большого ума, обладает еще качеством — к несчастью, слишком редким у нас: у него всегда слово шло об руку с делом. Убеждения свои он постоянно вносил в жизнь. Это в высшей степени честный характер и сильная воля. Можно сказать положительно, что из всех наших — это самая замечательная личность». И все же молодые люди, посещавшие «пятницы», мечтавшие о практическом деле и видевшие в Спешневе несомненного лидера на этом практическом пути, оставались во многом еще мечтателями-романтиками, склонными больше к отвлеченному теоретизированию, нежели к революционной практике. Кроме того, многие из них всерьез увлекались литературным творчеством, любили музыку, искусство, поэтому бурные споры на политические темы, усилившиеся с приходом Спсшнева, не всех удовлетворяли, некоторые стали приходить на «пятницы» реже, а другие и совсем перестали появляться в домо на Покровской. Но кружок не распадался, пополнялся новыми посетителями. Плещеев продолжал приходить на «пятницы» часто — там была возможность общения с людьми, к которым он искренне привязался и которых полюбил, — Федором Достоевским, Сергеем Дуровым, людьми, которые, как и он, страстно мечтали видеть свой народ вольным, радостным, хотели творить для этого народа… Установились у Плещеева более тесные отношения и с другими участниками «пятниц», некоторые из них, в том числе и сам Петрашевский, бывали на квартире поэта. И все же Плещеев, как и Достоевский, Дуров, Ахшарумов, Пальм и некоторые другие, держался в кружке несколько особняком — их сближали прежде всего литературные интересы, а к общественно-политическим вопросам они были меньше пристрастны, чем, скажем, Петрашевский, Спешнев, братья Дебу, Ханыков, поручик Момболли или давнишний приятель Плещеева по детским годам, ныне поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка Николай Григорьев, ставший приходить в дом Петрашевского с начала 1848 года, для которых на первом плане стояли философия, социология, конкретные социально-экономические преобразования России. Но литераторы (впоследствии они образуют «дуровский» кружок и будут собираться на квартире Сергея Дурова на Гороховой, недалеко от Семеновского моста, где проживала неразлучная троица Дуров — Пальм — Щелков) отнюдь не были безучастными к проблемам, касающимся непосредственной российской действительности. Более того, именно от литераторов можно было услышать речи, обличительный пафос которых против существующего строя в России отличался смелостью и конкретностью, включая требования об освобождении крестьян от крепостной зависимости, замены деспотического монархического правления республиканским или хотя бы ограничение его конституцией, которая дала бы «свободу книгопечатания, открытое судопроизводство, устроило бы особое министерство для рассмотрения новых проектов и улучшенной общественной жизни и чтобы не было никаких стеснений, никаких вмешательств в дела частных людей, в каком бы числе они ни сходились вместе», — как считал Д. Д. Ахшарумов. Разногласия на «пятницах» случались больше по кардинальному вопросу действительности — освобождению крестьян. Николай Спешнев настойчиво проводил идею неизбежности восстания. Его поддерживали офицеры Николай Григорьев и Николай Момбелли, Федор Достоевский же, вступая в политические споры, со свойственной ему страстностью, с вдохновенной убежденностью отстаивал свои принципы, свою позицию и, в частности, по крестьянскому вопросу неотступно придерживался мнения, что освобождение крестьян в России возможно только легальным путем — здесь для Достоевского высшим авторитетом был боготворимый им великий русский поэт с его призывом-мечтой:
А в это время в Петербурге многие из знакомых Алексея Плещеева продолжают регулярно собираться по вечерам как у Дурова, так и у Петрашевского. Более того: у кружковцев наступило нечто вроде примирения-перемирия, вызванного в первую очередь чтением переписки Белинского с Гоголем, которую Алексей Плещеев прислал в Петербург на имя Федора Достоевского. Когда Петрашевский, зайдя на квартиру Дурова и Пальма, узнал об этой плещеевской посылке, он попросил Федора Михайловича приехать к нему, Петрашевскому, на очередную «пятницу» и прочитать эту переписку, то есть «Письмо Белинского к Гоголю». Достоевский с готовностью согласился и 15 апреля 1849 года в доме на Покровской площади при внимательном слушании двадцати собравшихся прочитал страстный призыв покойного критика к «пробуждению в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе…» Впечатление от чтения было огромным, все высказали живейшее желание принять самое активное участие в практической реализации заветов Виссариона. Кто-то внес предложение о размножении переписки, если не литографическим способом, то хотя бы переписыванием в нескольких экземплярах, и это предложение было горячо поддержано. Однако дни их свободной жизни были сочтены, и все порывы останутся в памяти цепью «горестных утрат и досадных разочарований». За хозяином дома уже более трех лет — со времени выхода «Карманного словаря иностранных слов» — вел наблюдение один из видных сановников министерства внутренних дел Липранди, который еще с 1848 года приставил к Петрашевскому провокатора — агента № 1 большеносого блондина Антонелли. Этот Антонелли, устроенный на службу в тот же департамент, где служил Петрашевский, довольно скоро вошел в доверие к Михаилу Васильевичу, стал посещать его «пятницы», познакомился со многими наиболее видными кружковцами из тех, кто собирался у Петрашевского в последние годы, и уже вскоре после сближения с — Петрашевским доносил Липранди: «…известное лицо» (так конспиративно он именовал Михаила Васильевича) считает, что только «одно правительство республиканское представительное достойно человека», что «перемена правительства нужна, необходима для нас». Сам Петрашевский, если верить воспоминаниям Ахшарумова, будто бы заподозрил Антонелли, чересчур старательно рвущегося к приятельству со всеми, но дальше субъективного недоверия, видимо, не пошел, был даже незадолго до ареста на новоселье у Антонелли. Наблюдение за Петрашевским и посетителями его дома держалось в большой тайне, о результатах наблюдения Липранди докладывал непосредственно шефу III Отделения графу Орлову, даже всесильный генерал Дубельт ничего не знал о «деле» почти до самого ареста петрашевцев. 21 апреля 1849 года государь император «благословил» министра внутренних дел Перовского и шефа жандармов Орлова «приступить к арестованию», те, в свою очередь, дали соответствующие «благословения» Липранди и Дубельту, и ночью с 22 на 23 апреля 1849 года 43 человека из посетителей кружков Петрашевского, Дурова, Пашкина были арестованы и доставлены к дому на Фонтанке у Цепного моста — в III Отделение. Тогда же, 23 апреля, в Москву отправляется срочное и «весьма секретное» предписание «о немедленном и внезапном арестовании литератора Плещеева». 28 апреля Плещеев в сопровождении специального фельдъегеря был отправлен в Петербург, а 2 мая препровожден в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.
«КРЕПОСТНОЕ» ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Души мрачна, мечты мои унылы, Грядущее рисуется темно.Николай Некрасов. Последние элегии
Из сорока трех арестованных петрашевцев Алексей Плещеев был доставлен в Петропавловскую крепость одним из последних. В Алексеевском равелине, куда он был определен в куртину № 1, уже находились Петрашевский, Достоевский, Дуров, Баласогло… Поселили Алексея среди главных «преступников» (даже Николай Спешнев первый месяц провел в Никольской куртине, куда определяли «второстепенных» вроде Пальма, Кузьмина и некоторых других), видимо, потому, что рассматривали его поездку в Москву как важное задание всей организации. Кроме того, еще в начале 1849 года Антонелли доносил Липранди, что Петрашевский очень дружен с Плещеевым и часто с ним видится — все это и определило место Алексея среди главных обитателей крепости. Так началось для Алексея Плещеева удручающее «крепостное» десятилетие, если включить в него время, которое поэт проведет либо в крепостях — сначала в тюремных, потом в солдатских, — либо возле них, служа в Оренбургской пограничной комиссии вплоть до 1859 года. Алексеевский равелин, за стенами которого располагалось двадцать одиночных камер, уже имел свою более чем столетнюю историю (укрепление было заложено в 1733 году императрицей Анной Иоанновной в честь деда — царя Алексея Михайловича): в его камерах прежде «гостили» Радищев, декабристы, участники польского восстания 1830–1831 годов. С начала мая начались вызовы в военно-следственную комиссию, созданную по делу арестованных. Комиссию возглавил сам комендант крепости генерал Набоков. Среди членов ее были генерал Дубельт, князь Гагарин, генерал Ростовцев — тот самый, что донес Николаю I о готовящемся восстании войск 14 декабря 1825 года (Ростовцев был деятельным членом Северного декабристского общества). Работала комиссия в комендантском доме. Чуть ли не каждодневные вызовы были в первый месяц, потом реже, а в последние недели до самого дня суда Алексея не приводили в комиссию вовсе, и это особенно угнетало — уединение в камере казалось нескончаемой пыткой. После первого же вызова в комиссию с Алексея потребовали подробных объяснений о его поездке в Москву и о петербургских знакомых. Плещеев догадывался, что, коль комиссию заинтересовало сразу же его московское путешествие, то именно где-то здесь лежит главная зацепка для его обвинения. Поэтому он обстоятельно мотивировал вынужденность поездки в первопрестольную, а именно: двоюродный брат его, постоянно живущий с матерью в своей деревне под Москвой и оказавшийся проездом в Петербурге, предложил Алексею совместную поездку в Крым, куда Плещеев собирался летом и сам, так как у него обострилась глазная болезнь, и врачи постоянно рекомендовали ему морские ванны. А помимо этого, Плещеев принял предложение двоюродного брата еще и потому, «что давно имел желание повидаться с теткой, живущей в Москве, с которой не виделся около девяти лет». Что же касается его знакомств в Петербурге, то Плещеев назвал среди людей, с которыми находился в наиболее коротких отношениях, Николая Мордвинова, братьев Достоевских, Сергея Дурова, Александра Пальма, Петра Веревкина, находящегося в это время на лечении за границей. Остальных же, среди которых упомянуто имя Буташевича-Петрашевского, Плещеев назвал просто знакомыми. В объяснении поэт умышленно уменьшил срок своего знакомства с Петрашевским до трех лет, хотя знаком был с ним почти полных четыре года. На вопрос следственной комиссии, с каких пор проявились у него «либеральные или социальные направления» мыслей, Плещеев отвечал: «В прошлом году случилось мне прочесть несколько книг подобного рода, действительно возбудивших во мне разные вопросы, но определенного, систематического направления я не имел, то есть не почитал себя последователем той или другой системы». Давая такие ответы, Плещеев, естественно, не очень-то надеялся, что они убедят членов следственной комиссии, так как понимал, что комиссия достаточно хорошо осведомлена о политических убеждениях арестованных. И все-таки он продолжал настаивать на своих ответах. Отрицал политический характер собраний в своем доме, хотя и не предвидел, что в пользу этого утверждения дал показания Николай Спешнев, заявивший следственной комиссии, что «как салон Кашкина, так и Плещеева имели очень эфемерное существование: каких-нибудь месяца два». Но некоторые из других обвиняемых признались, что и на квартире Плещеева, как и в доме Петрашевского, велись философские и политические разговоры, излагалось учение Фурье, в частности Н. Я. Данилевским, а сам Данилевский (тот самый будущий знаменитый публицист, автор нашумевшей работы «Россия и Европа») заявил, что на вечере у Плещеева однажды обсуждалось предложение Спешнева о печатании за границей работ петербургских литераторов, но практически из этого ничего не вышло. А друг детства Плещеева поручик Николай Григорьев прямо сказал на следствии, что собрания у Плещеева носили «характер социально-политический» и что «социалисты завербовали Плещеева в ученики». Впрочем, у членов следственной комиссии и бее показаний Григорьева имелся факт, неоспоримо доказывающий противоправительственный поступок обвиняемого Плещеева — пересылка им в Петербург из Москвы «преступного письма» литератора Белинского к Гоголю. В самом деле: мог ли преданный государю императору человек (если верить тому плещеевскому письму накануне ареста, в котором царю приписывалась идея освобождения крестьян) считать безобидным и достойным распространения возмутительное письмо, в котором чуть ли не в каждой строчке — прямой призыв к изменению существующего порядка: «…самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть… Нет, восторгаться таким письмом, в котором русские писатели именуются защитниками и спасителями «от мрака самодержавия, православия и народности», не только непозволительно, но и просто преступно, тут скорее дело вовсе не в особенностях психологического склада, юношеской экзальтированности, молодой горячности. Здесь уже проглядывается убеждение, в основе которого та самая французская социалистическая зараза, которую те же гг. Петрашевский и Достоевский пытаются представить чуть ли не благодетельницей человечества». Председатель комиссии по разбору бумаг арестованных князь Гагарин, вытирая платком свою лысину, искоса бросил взгляд на допрашиваемого Алексея Плещеева и резко спросил: — Скажите, милостивый государь, как вы расцениваете деятельность покойного литератора Белинского? Вы, вероятно, считаете ее весьма полезной Отечеству? Плещеев понимал, что от его ответа, может быть, будет зависеть и будущая судьба его, что скажи он сейчас… ну хотя бы о своей неприязни к Белинскому, подкрепив ее даже фактическими примерами (а был такой косвенный, когда Алексей провозглашал в «Русском инвалиде» Валериана Майкова лучшим критиком России) «диктаторства», «бездоказательности» статей покойного Виссариона Григорьевича, наклонностями к «смутьянству» и т. д. — члены комиссии могут отнестись к судьбе Алексея более благосклонно. Плещеев оглядел членов комиссии: Гагарин улыбался, Набоков выглядел равнодушно-невозмутимым, Дубельт полувнимательно слушал что-то нашептывающего ему Ростовцева. — Считая себя в какой-то мере причастным к современной литературе, не могу отрицать благотворного воздействия Белинского на многих русских литераторов, вступивших на творческую дорогу в наше десятилетие. Прежде всего этим и должно мерить степень пользы или вреда Белинского для Отечества, — тихо произнес допрашиваемый. — Что ж, по крайней мере в вашем ответе нет лукавства. — Князь Гагарин переглянулся с другими членами комиссии и не проронил больше ни слова. После еще ряда вопросов, заданных Дубельтом и касающихся встреч с московскими литераторами и журналистами, офицер, приставленный к Плещееву, сопроводил Алексея Николаевича в Алексеевский равелин… Потекли дни, похожие один на другой: четыре стены камеры с единственным окном, почти целиком закрашенным, кроме небольшой полоски в верхней части (про эту полоску и писал Петрашевский в прошении следственной комиссии, требуя разрешения для арестованных «глядеть… на мимо летящих ворон в верхнюю частицу окна»), изнурительное лежание на деревянной кровати в арестантском платье — холщовая рубашка и штаны, халат из толстого шинельного сукна. Никаких прогулок, никаких книг, никаких свиданий. Книги, к радости заключенных, вскоре все-таки разрешили, и чтение их главным образом и помогало скрашивать время. Плещеев продолжал числиться в списке главных обвиняемых, оставаясь в камере Алексеевского равелина, хотя ему и не вменялось в вину особо опасных деяний против правительства, как Петрашевскому, Сиешневу, Львову, Момбелли или Григорьеву. Но и виновность его считалась неоспоримой, в отличие от некоторых, освобожденных летом и осенью 1849 года «с высочайшего разрешения» по причине недоказанности их вины — Михаила Достоевского, Щелкова, Порфирия Ламанского и даже — Александра Баласогло, освобожденного в ноябре и высланного на службу в Олонецкую губернию «за дерзость против своих начальников». Дни проходили за днями, недели за неделями. Теперь на допросы почти не «приглашали», до самой глубокой осени, а когда снова доставили в белый комендантский дом, то Плещеев понял, что вызов этот не совсем обычный: в зале, куда его ввели, за внушительным длинным столом, покрытым бордовым сукном, сидели почти незнакомые ему по прежним допросам люди. В центре, на высоком кресле, сидел генерал в казачьей форме, белая папаха, лежащая перед ним, невольно останавливала на себе взор каждого входящего — то был председатель военно-судной комиссии генерал от кавалерии В. А. Перовский, брат министра внутренних дел, бывший оренбургский генерал-губернатор. Перовский возглавил новую, учрежденную 24 сентября взамен военно-следственной (следствие фактически было завершено уже 17 сентября) военно-судную комиссию, надо сказать, без особой охоты: император повелел судить преступников по Полевому уголовному уложению, то есть по своду законов военного времени, составленному в войну двенадцатого года, и Перовскому, участнику Отечественной войны, трудно было понять «высочайший каприз». Вскоре, правда, военный министр князь Чернышев «разъяснил» Перовскому причину столь необычного суда в мирное время… Кроме того, среди подсудимых было много литераторов, и Перовскому не очень-то льстило положение верховного судьи над ними, ибо… он питал к отечественной словесности неподдельную любовь, прекрасно знал ее, дружил со многими виднейшими русскими писателями. Конечно, противоправительственные намерения арестованных литераторов Перовский глубоко осуждал. Но одно дело — осуждать в душе, и совсем другое — вершить судебный приговор… Мог ли предполагать тогда Алексей Плещеев, что и в его будущем этот казачий генерал сыграет немалую роль?! Арестованного попросили подойти ближе к стене, где стоял другой небольшой столик, на котором лежала синяя папка, — то была часть многотомного дела о петрашевцах, посвященная ему, «неслужащему дворянину А. Н. Плещееву». Здесь же лежала стопка бумаги, перья возле чернильницы. Аудитор — секретарь военно-судной комиссии — зачитал Плещееву нечто вроде сообщения-приказания о том, что военно-судная комиссия (утвержденная для суда по полевым законам!) предлагает арестованному дать в оправдание своей вины какие-либо дополнительные сведения к ранее данным следственной комиссии. Плещеев никаких оправдательных сведений дать не мог, да и понимал, что фактически от него этого и не требуется, что это лишь формальная процедура. Перовский велел ему взять со столика верхний лист, прочитать и подписать. Нерешительно Алексей взял лист, прочитал: «Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что ничего не могу привести в свое оправдание» и так же нерешительно обмакнул перо в чернильницу и подписался…
Морозным утром 22 декабря 1848 года Алексей Плещеев был разбужен, ему подали платье, в котором был арестован в Москве, и приказали поживее переодеться. «Неужели свобода?» Сердце его учащенно забилось. Однако столь радостную мысль сразу же пришлось отбросить, как только его вывели во двор крепости. Он увидел возле комендантского дома множество крытых карет и отряд конных жандармов. Больше ничего разглядеть не успел, так как был почти насильно втолкнут в одну из карет, рядом с ним сел солдат, и карета тронулась вместе с другими, стоящими рядом. Отряд жандармов с саблями наголо тронулся следом. Плещеева с товарищами — он догадался, что в других каретах были они, — везли к Семеновскому плацу через Неву, Знаменскую и Лиговку. Часам к восьми утра двадцать одна карета в сопровождении конного отряда жандармов подъехала к заснеженной площади гвардейского Семеновского полка. На валу плаца толпился народ, а сама площадь была окружена войсками. В центре площади возвышался эшафот, а возле него — вкопанные в землю три грубоотесанных столба. Когда Плещеев в сопровождении солдата вышел из кареты и огляделся, то раньше эшафота и столбов он заметил знакомых и близких людей, которых не видел целых десять месяцев — со дня его отъезда в Москву: Федор Достоевский, Дуров, Пальм, Ахшарумов… Не знал он, что Пальм и Ахшарумов, не выдержав одиночного заключения, издерганные допросами, принесли раскаяния «в необдуманных поступках». Ахшарумов даже обращался к Николаю I с просьбой о помиловании… Обросшие, исхудавшие, бросились они друг к другу, но появившийся генерал прервал их трогательную встречу, приказал построить всех в одну шеренгу. На эшафот повели вдоль рядов войск: первым поставили Петрашевского, последним — Пальма. Войскам дали команду «На караул!», а арестованным «Шапки долой!». Перед каждым арестованным в отдельности зачитали смертный приговор, затем под барабанный бой начался обряд приготовления к казни. «Дали приложиться к кресту, переломили над головами шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты… Я успел… обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу провели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры…» — описал в тот же день жуткий маскарад с казнью на Семеновском плацу Ф. М. Достоевский в письме к брату Михаилу. Плещеев об этих минутах вспоминал позднее: «Сначала у меня, не скрою, упала душа, и я был близок к обморочному состоянию; продолжалось это очень недолго, а потом овладела мною невероятно болезненная апатия». Обморочное состояние можно понять: жить оставалось считанные минуты, и вдруг… среди стоящих на валу плаца сотен людей Алексей узнал свою мать. «Или померещилось? Нет, пет, он ничуть не ошибся: да, это она, мама — самый родной, самый-самый близкий человек… Господи, как опа оказаласьтут?.. Зачем?.. Неужели меня расстреляют на ее глазах?.. Нет, надо закричать, чтобы уходила… мама, родная!!» Кажется, не закричал, впал в забытье, а когда пришел в себя, то уже не мог разглядеть в толпе дорогое лицо… И все стало безразлично… Первые трое из привязанных к столбам, о которых упоминает Достоевский, были Петрашевский, Момбелли и Григорьев. Рядом с Достоевским стояли Дуров и Плещеев, ожидавшие второй очереди в числе наиболее «опасных» преступников. А вот окончательный приговор оказался для Плещеева более мягким по сравнению с некоторыми другими: Петрашевский был приговорен к бессрочной каторге, Григорьев (тоже, как оказалось, покаявшийся во время следствия) — к 15 годам, Львов и Момбелли — к 12, Достоевский — к «четырехлетней каторжной работе в крепости, а потом в рядовые…». Для Плещеева же окончательный приговор, утвержденный императором, гласил: «По высочайшей конфирмации за участие в преступных замыслах, происходящих у Буташевича-Петрашевского, и другие противозаконные поступки, во внимание к молодым летам лишить всех прав состояния и отдать на службу в отдельный Оренбургский корпус рядовым». После объявления осужденным приговора — из 21 человека был помилован один Пальм, которого переводили из гвардии в армию тем же чином, — Петрашевского заковали в кандалы сразу на эшафоте, разрешили попрощаться с товарищами и отправили прямым этапом в Сибирь. Остальных узников отвезли опять в Петропавловскую крепость. Отвезли точно так же, как привезли: в крытых каретах поодиночке.
В «Дневнике писателя» Ф. Достоевский, вспоминая ритуал казни 22 декабря 1849 года, писал: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех, но думаю, что не ошибусь сказать, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Приговор смертной казни расстреляньем, прочитанный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку: почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас… инстинктивно углублялись в себя и, проверяя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь, — может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайнике совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающими, мученичеством, за которое многое нам простится!» Алексей Николаевич Плещеев целиком был солидарен с этими словами своего друга, о чем неоднократно говорил впоследствии и самому Достоевскому, и другим, хотя и не скрывал минутного апатичного «шока» после прочтения смертного приговора. Да, в те страшные минуты он ничуть не раскаивался в мыслях и делах своей молодой жизни. С очищенным чувством мученичества, «за которое многое… простится», отправлялся 24 декабря 1849 года он, закованный в кандалы, в Уральск, где ему предстояло отбывать службу рядовым Оренбургского линейного батальона № 1, и не просто рядовым, а еще и с кличкой «конфирмованный», то есть осужденный военным судом… Почти две недели добирались до Уральска. Фельдъегерь, сопровождавший Плещеева, беспрестанно пил, а когда трезвел, то поглядывал на Алексея Николаевича сочувственно, отчего конфирмованному становилось совсем худо. «Ведь этот пьяница жалеет меня… Сейчас жалеет… А что меня ждет впереди? Муштра, от которой я сбежал восемь лет назад, муштра да еще в унизительной форме?.. Где нынче все наши: Петрашевский, Достоевский, Дуров?.. В тот прощальный день, 22 декабря, Федор выглядел очень возбужденным, всем кричал: «Непременно свидимся!» — дай-то бог, чтобы слова его сбылись… А Пальма-то помиловали… Странно все получилось… Пальма помиловали, меня в солдаты, Федора — на каторгу, Сергея — тоже. А ведь вина-то у всех одинакова… Да какая вина, черт побери?! Алексей Николаевич выглянул из кибитки — необъятный снежный простор на секунду ослепил глаза. Несколько часов назад им сменили лошадей в Самаре, где Плещеев, пожалуй, впервые за многодневную езду с интересом глядел на прохожих, рассматривал занесенные снегом улицы этого заштатного губернского города. …А до Самары на всех пересадочных пунктах он был ко всему безразличен, не стараясь даже запомнить города, городки и селенья, которые проезжали. Если бы не крепкие морозы, он бы и на пересадочных станциях по возможности не выходил из кибитки — всякий раз, ловя на себе любопытствующие взгляды, испытывал нечто вроде удушья — хотелось сбежать куда-нибудь даже вот в этих позванивающих кандалах… Ему вспомнилось весеннее путешествие из Петербурга до Москвы — тогда он с жадностью вглядывался в дорогу, хотя мартовская серость и не радовала взор. Теперь и подавно: снега, овраги, черные дома и белые церквушки деревень, голые, сиротливые лесные колки — что тут может остановить взгляд, вызвать душевный трепет… Плещеев снова выглянул из кибитки и невольно удивился: белое безмолвие снегов сохраняло те же контурные очертания, что и полчаса назад, словно они и не ехали, только скрип санных полозьев да покрикивание ямщика заставляли верить в передвижение. «Откуда мне знакомо это белоснежное раздолье? Как будто я уже проезжал здесь и как раз зимой… Наваждение какое-то, честное слово». И вдруг вспомнил: «Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом… Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи», — ведь это Пушкин, его «Капитанская дочка»: юный Гринев, сопровождаемый Савельичем, едет на Службу в Оренбург и встречается по дороге с Пугачевым. Может быть, как раз где-то в этих местах — вот откуда и наваждение…» Алексей почувствовал в сердце щемящую боль и посмотрел на своего сопровождающего — подвыпившего фельдъегеря, тот блаженно дремал — ему-то, верно, не вспоминалась «Капитанская дочка»… В Уральск приехали ночью: городок Плещеев даже не смог, разглядеть, только успел заметить, что улицы здесь широкие и прямые, дома по большей части каменные. Ныли ноги, нестерпимо клонило в сон. Фельдъегерь приказал ямщику остановиться возле длинного кирпичного дома с одиноким фонарем перед большими воротами — здесь размещался штаб 1-го линейного батальона. Фельдъегерь вышел из кибитки и настойчиво стал стучать в ворота. Минуты через две в правой створке открылось небольшое оконце, в котором показалась заспанная фельфебельская физиономия… 6 января 1850 года Алексей Плещеев был зачислен в Оренбургский линейный батальон № 1 рядовым и определен на постоянное местожительство в одной из казарм этого батальона, расположенного в крепости, на правом берегу реки Урал. Начались однообразные солдатские будни в степном заснеженном городке, который и назывался более ста лет Яицким городком, а после усмирения в 1775 году Пугачевского восстания именным указом в том же году переименован в Уральск «для предания всего случившегося полному забвению», ибо, основанный в год избрания на престол Михаила Романова, Уральск за всю свою историю знавал и помнил только одного «государя Петра Федоровича» — Пугачева. В первые месяцы новой своей жизни Плещеев почти и не бывал в городе: в увольнение новобранцев — а к ним причисляли всякого вновь прибывшего, — да еще конфирмованных, само собой, не пускали, поэтому все дни и ночи приходилось проводить внутри крепости. Днем — обучение шагистике, ружейным приемам на заснеженной площади или расчистка этой же площади и территории вокруг казарм от снежных сугробов после метелей. Под командованием новых «отцов-командиров» — самодовольных и бездушных унтер-офицеров — «восстанавливал» Плещеев все премудрости военной муштры, осточертевшей ему еще в те юные годы, когда по воле матери Елены Александровны он был зачислен в Петербургскую школу подпрапорщиков и юнкеров… «Ах, мама, бедная мама. Сколько тебе пришлось пережить из-за своего единственного и непутевого сына. Увольнение из школы, оставление университета, первая крупная ссора… Потом опять помирились — ты простила, мама, все капризы, черствость, неблагодарность… Ты слишком любила… а я, тоже сильно любя тебя, все-таки не переставал приносить новые и новые огорчения». Алексей часто вспоминал день обрядовой казни на Семеновском плацу и бесконечно дорогое, растерянное лицо матери в толпе, что стояла на валу плаца. «Господи, что пережил, когда узнал мать!.. Нет, лучше забыть, забыть тот страшный день… Буду вспоминать тебя, мама, только веселую, улыбающуюся и молодую — такую, какой ты водила меня по Нижнему, какой ветре-чала всякий раз, когда я приходил домой по увольнительной из школы юнкеров… Но чем ты занята теперь? Не печалься, родная моя, все будет хорошо», — обращался часто мысленно к самому родному человеку рядовой Алексей Плещеев в свободные от муштры минуты, не подозревая даже, что хлопоты матери уже облегчили в какой-то мере его участь, и он оказался не на каторге, а здесь, в солдатской казарме; еще до суда над петрашевцами Елена Александровна подавала на имя государя прошение о помиловании сына. Ночами Плещеев нередко вспоминал своих товарищей по Петербургу. Алексей знал, что некоторые из них тоже отбывают солдатчину в этих краях: Александр Ханыков — в Орской крепости, Головин — в Троицкой; в Оренбурге должен отбывать наказание в рабочем батальоне петербургский мещанин Петр Шапошников, с которым Плещеев познакомился тоже у Петрашевского. А как Федор Достоевский… ведь он томится в Омском остроге… он, столь близкий духовно человек… Выдержит ли — здоровье у него совсем не богатырское? Постарел, наверное? Да, все мы обречены, пожалуй, на преждевременную старость. Вот ему — Алексею Плещееву, не так давно только двадцать четыре исполнилось, и он, увы, чувствует себя далеко не юным, а Достоевскому уже двадцать восемь… С наступлением весны жизнь в крепости вроде бы стала более сносной: шагистики и муштры не убавилось, но конфирмованный стал получать разрешение выходить за стены крепости, бывать в городе. Многому дивился Плещеев, прогуливаясь по этому степному городку, разбросанному по берегам реки Урал и его притока Чаган; на пыльных широких улицах, на которых, кроме редких кусточков крапивы и полыни, почти не было никакой растительности, можно было встретить караваны верблюдов, вереницы ослов, стада коз и отары овец. Коренные жители городка — казаки, но они терялись в толпах «инородцев» — хивинцев, киргизов, кокандцев, бухаров и других коренных жителей азиатских степей и полупустынь, кочующих в этих краях. Нередко можно было услышать в такой толпе украинскую речь, а то и вовсе незнакомые для слуха выкрики — среди пришельцев, движущихся на юг, были даже уроженцы далекой Индии. Часто ходил рядовой Плещеев вдоль берега Урала, где кустились небольшие рощицы, по преимуществу осиновые и тальниковые. В реке водилось много рыбы, Алексей часто встречал здесь казаков-рыболовов; рыболовством и хлебопашеством городок и жил. Лето наступило жаркое, сухое, и Алексею Плещееву на первых порах было странно видеть «вечное» безоблачное небо — в Петербурге-то даже единственный безоблачный день — редкость. К жаре молодой организм ею постепенно, к концу лета, привык. Как раз в эту осень Плещеев встречается и знакомится с Тарасом Григорьевичем Шевченко, который уже три года отбывал ссылку рядовым Оренбургского отдельного корпуса «под строжайшим надзором с запрещением писать и рисовать». Тарас Григорьевич, арестованный в Киеве в апреле 1847 года как член Кирилло-Мефодиевского братства и как автор «возмутительных, в высшей степени дерзких стихотворений», был доставлен 5 июня в Оренбург, а затем отправлен в Орскую крепость, где провел осень и зиму. Летом 1848 года он по распоряжению оренбургского генерал-губернатора Обручева был включен в качестве художника в состав экспедиции для обследования и описания берегов Аральского моря. Экспедицию возглавил капитан-лейтенант Алексей Иванович Бутаков, которого впоследствии назовут «Аральским Колумбом», открывший богатства Средней Азии. За описание Аральского моря по предложению самого Гумбольдта Бутаков в 1853 году был избран почетным членом Берлинского географического общества. Собственно Бутакову и принадлежала идея включения Шевченко в экспедицию, так как исследователь, высоко ценя поэтический и художественный талант ссыльного, стремился хоть как-то облегчить его судьбу. Шевченко сдружился с Бутаковым и благодаря этой дружбе получил определенные неофициальные льготы, мог ходить даже в партикулярном платье. То был для опального Кобзаря исключительно продуктивный период в творческом отношении: две «захалявных» (то есть потайных) тетрадки стихов, множество картин, запечатлевших своеобразную природу Кос-Арала, жизнь казахского народа. Но когда после окончания экспедиции на Аральском море и возвращения в Оренбург в ноябре 1848 года Шевченко вознамерился и далее воспользоваться этими льготами, то и он, и его покровитель Бутаков были примерно наказаны: Бутаков получил выговор, а Шевченко вновь был отослан в Орскую крепость в арестантскую роту, а затем по распоряжению из Петербурга поэта отправили на семилетнее заточение в Новопетровскую крепость на берегу Каспийского моря. В крепости гарнизонную службу несли две роты 1-го линейного батальона, штаб которого находился в Уральске, поэтому по дороге в Новопетровск Шевченко и был сначала препровожден в степной городок, где к этому времени тянул солдатскую лямку другой литератор — Алексей Плещеев. Но Алексей Плещеев, увы, «стихи писать давно отвык», как он признается чуть позднее. Казематы Петропавловской крепости, изнурительная дорога, солдатская муштра и… постоянная склонность к рефлексии отнюдь не вызывали желания что-либо сочинять в условиях казарменного прозябания. И вот встреча с собратом по перу, не прекращающим энергичной творческой деятельности и в условиях солдатчины!.. Несказанно обрадовался Алексей Николаевич знакомству и общению с Тарасом Григорьевичем. И для Шевченко встреча с начитанным, благородным, отзывчивым молодым русским поэтом стала подлинной отрадой. Дружеские, даже братские, как скажет Шевченко позднее в одном из писем к Плещееву, чувства, возникшие между русским и украинским поэтами, закрепляются перепиской после отправки Шевченко в Новопетровское укрепление, и шевченковские письма станут для Алексея одной из постоянных душевных поддержек в годы его «нравственных страданий». Когда же оба поэта окажутся на воле, их дружба еще более окрепнет, и Плещеев одним из первых познакомит русского читателя со стихами из «захалявных» тетрадей Кобзаря. В эту же пору в Уральске отбывал солдатчину «конфирмованный» польский революционер Сигизмунд Сераковский, с которым Алексей Плещеев тоже сдружился, а через него познакомился потом и с другими польскими ссыльными — Брониславом Залесским, Яном Станевичем.
25 марта 1852 года Алексей Плещеев переводится в Оренбургский линейный батальон № 3, который дислоцировался в самом губернском городе. С 1851 года военным губернатором и командиром отдельного Оренбургского корпуса вновь был назначен Василий Алексеевич Перовский (до этого он губернаторствовал в Оренбурге в 1832–1842 годах, в 1839–1840 годах руководил неудачным походом русских войск на Хиву) — это был тот самый Перовский, который возглавлял военно-судную комиссию по делу петрашевцев. Честолюбивый властелин — в управляемом им крае, Перовский обладал, можно сказать, неограниченными правами — капризный, вспыльчивый, властный генерал — колоритная и весьма самобытная фигура среди военных чинов своего времени. Это был человек широко образованный, блестящий знаток истории и литературы (при случае всегда любил подчеркивать свою действительную дружбу с Пушкиным, Гоголем, Жуковским и другими крупными писателями России), умный администратор и способный военачальник. Ценя других не столько по родовитости — сам Перовский был побочным сыном графа Разумовского, — сколько по личным достоинствам, он не терпел в своем окружении титулованных бездельников, но весьма благоволил энергичным и деловым труженикам. Еще в первый период своего правления в Оренбурге Василий Алексеевич взял с собой в качестве чиновника особых поручений одного из таких тружеников — Владимира Ивановича Даля, литератора, фольклориста, лексикографа, этнографа, будущего создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». И в это время в Оренбурге тоже проживали истинные подвижники своего дела, среди которых: Василий Васильевич Григорьев, крупный ориенталист, первый историк Средней Азии, Алексей Иванович Бутаков, неутомимый путешественник, исследователь среднеазиатских водных бассейнов. Этих людей Перовский всячески поддерживал. Но, пожалуй, наибольшим расположением генерал-губернатора пользовались два молодых капитана русской армии: офицер по особым поручениям Виктор Дезидерьевич Дандевиль и Алексей Иванович Макшеев[27] — уже теперь в них Перовский видел своих достойных преемников на военно-государственном поприще, истинных и верных сынов Отечества. Перовскому либо не было известно, что Макшеев в бытность службы в Петербурге посещал кружок Петрашевского, либо он просто решил не обращать на это внимания. С В. В. Григорьевым, А. И. Бутаковым, В. Д. Дандевилем и А. И. Макшеевым устанавливает Алексей Плещеев близкие товарищеские отношения вскоре после приезда в Оренбург в июне 1852 года матери поэта Елены Александровны — радостного в жизни Алексея события, сыгравшего исключительную роль в его дальнейшей судьбе. Елена Александровна приехала с решительным намерением облегчить сыну участь непосредственно через самого Перовского, с которым была немного знакома. Еще год назад, узнав, что Перовский вновь назначен военным губернатором Оренбургского края, она стала усиленно хлопотать за сына, добиваясь, чтобы Алексей Николаевич был переведен из Уральска в губернский город, где, как полагала, Перовский не позволит «обидеть» ее Алешу. Но в Оренбурге Алексею на первых порах пришлось тоже хлебнуть лиха — наряжали на трудные работы, часто посылали нести караульную службу, — и первые вести от Алексея пугали унылым тоном, равнодушием к жизни. И Елена Александровна, заручившись письмами к Перовскому от некоторых влиятельных лиц, отправилась в нелегкую дорогу. Приехав в Оренбург, Елена Александровна проявила большую настойчивость — нанесла визит Перовскому, добилась от него твердого обещания содействовать улучшению положения ссыльного Алексея Плещеева, познакомилась с другими представителями общества — все это в значительной степени способствовало проявлению даже почтительного любопытства к личности ссыльного литератора в глазах его непосредственных начальников, относящихся до этого к рядовому Плещееву весьма подозрительно и с пренебрежением. Несказанно счастлив был Алексей приезду матери — целых четыре недели вблизи самого родного и близкого человека! Как коренной оренбуржец, хотя и жил в городе всего несколько месяцев, знакомит он свою мать со столицей степей, показывает немногие достопримечательные места города. Город и вправду при всей внешней неказистости имел лицо довольно оригинальное: от крепости, расположенной на крутом правобережье Урала, строения уходили в низину, напоминающую огромный плац, разрезанный неширокими улицами, небольшими парками. Центральная улица этого «плаца» застраивалась довольно добротными административными учреждениями, дворянскими особняками, ничуть не уступающими по своей внушительности и некоторым столичным домам. Впечатляюще выглядело здание, именуемое Караван-Сараем — красивое сооружение с мечетью и минаретом, построенное в первый период губернаторства Перовского. Мимо замысловатого строения менового двора проходили порой целые толпы в азиатских халатах, караваны верблюдов. В Оренбурге еще свежа память о недавнем холерном потрясении — в 1848 году в городе в течение десяти дней вымерло более четверти всего населения, — однако центральные улицы почти всегда выглядели многолюдными, оживленными и пестрыми. На левом берегу Урала виднелась большая роща, но Алексею пока еще не пришлось побывать там, и он надеялся теперь, с приездом матери, получить увольнительную и съездить на другой берег. А пока особенно часто ходили по правому берегу быстротечного Урала, вспоминали здесь давнишние прогулки в Нижнем, родную Волгу. Урал по сравнению с Волгой казался диковато-неприветливым — кроме редких рыбацких лодок и крикливых чаек, тут и увидеть-то больше нечего. И все же эта вольная горделивость водного потока тревожила сердце, ласкала взор, и совсем порой забывалось про неволю — ведь рядом мама, ее голос, ее укоряющая улыбка, ее наполненный любовью взгляд… С приездом Елены Александровны в Оренбург положение Плещеева-солдата разительно изменилось: он стал получать увольнительные, был освобожден от несения караульной службы, а вскоре получил официальное приглашение в дом самого Перовского, весьма благосклонно был принят хозяином дома и стал частым посетителем губернаторского особняка. Здесь, в доме Перовского, у Плещеева завязались добрые отношения с некоторыми офицерами, представителями местной интеллигенции, а с капитаном Виктором Дезидерьевичем Дандевилем и его женой Любовью Захаровной крепко сдружился. Среди новых знакомых, бывших в доме Перовского, оказался и Василий Васильевич Григорьев — ученый-востоковед, в котором Алексей Николаевич всегда находил очень умного и приятного собеседника и от которого много узнал нового об истории Оренбуржья и Средней Азии. «Третий» Григорьев, встретившийся на жизненном пути Плещеева (после друга детства Николая и поэта-критика Аполлона), смотрел на Алексея Николаевича как на человека, случайно сбившегося с пути. Василий Васильевич придерживался концепции особого исторического предназначения России, поэтому всякое увлечение новомодными западными учениями считал не более чем временным заблуждением. В беседах с Григорьевым Алексей Плещеев нередко противился категорическим утверждениям ученого, но чувствовал в этих утверждениях и огромную убежденность, исходящую от веры Василия Васильевича в великую созидательную силу русского народа. «Удивительное все-таки дело, — думал Плещеев. — Григорьев — важный чиновник, так сказать, верный слуга царю и Отечеству, но убеждения его никак не назовешь верноподданническими, напротив, в них проглядывает неприкрытая оппозиция к официальной политике правительства. Однако Григорьев отнюдь не теряет надежды добиться осуществления своих планов и в нынешних условиях. Вот и капитаны Бутаков, и Макшеев тоже переполнены идеями, замыслами во имя действительной реальной России, а не какой-то будущей, абстрактной, о которой он, Алексей, и его друзья так много толковали в Петербурге… Нет, положительно, они там о многом судили наивно и отвлеченно, если не сказать резче…» Товарищеские отношения установились у Плещеева с Иваном Васильевичем Павловым, служившим по медицинской части при оренбургском губернаторстве. Человек острого ума, наделенный большой фантазией и зорким взглядом, Иван Васильевич, пробующий к тому же кое-что сочинять «почти беллетристическое», с искренней симпатией относился к Плещееву, знал и ценил стихи опального поэта. Впоследствии Плещеев возобновит дружбу с Павловым — оба станут соредакторами газеты «Московский вестник». В этот период знакомится Плещеев и с Алексеем Михайловичем Жемчужниковым — одним из авторов знаменитых «Сочинений Козьмы Пруткова», служившим одно время в числе помощников Перовского. В обществе таких людей, как Павлов и Жемчужников, Алексей Николаевич поистине преображался, ощущая себя петербуржцем времен вольной жизни. Но особенно близко сошелся Плещеев с Дандевилями, в доме которых чувствовал себя настолько раскованно, что порой забывал о своем положении ссыльного. Если бы только не его нелепый солдатский мундир!.. А так все, как на свободе, в знакомой петербургской квартире: увлекательные разговоры за ужином об искусстве, литературе, музыкальные вечера, нежный голос обворожительной и умнейшей Любови Захаровны Дандевиль; она всегда старалась уговорить Алексея Николаевича читать его собственные стихи, от которых Плещеев за два с половиной года мытарств как-то отошел, и они казались ему порой такими… беспомощными и неубедительными. Но Любовь Захаровна, если ей удавалось уговорить Плещеева что-нибудь прочитать, всегда так нежно смотрела на него, что Алексей испытывал действительную радость вдохновения. Он снова ощущал себя поэтом, человеком, способным восхищаться, восторженно любить… да, да и любить — тоже, любить Любовь Захаровну, конечно, любить в мечте, ибо он видел, что ее чувство к мужу — настоящее и глубокое. В обществе Дандевилей Плещеев возрождался в полном смысле этого слова и чувствовал, что жизнь его стала наполняться внутренним смыслом, надеждой и верой в будущее. И самое радостное — возникла настоятельная потребность передавать мысли и переживания свои бумаге, потребность исповедоваться стихами, которые, казалось, уже разучился писать. Первым толчком, благодаря которому Алексей вернулся к стихам, послужил такой эпизод: однажды, на одном из вечеров у Дандевилей, Плещеев рассказал Любови Захаровне о гравюре с картины Рафаэля «Сикстинская мадонна», которую ему оставила мать, и Любовь Захаровна изъявила желание увидеть эту гравюру. Тогда Алексей Николаевич попросил разрешения подарить ее Любови Захаровне и вместе с гравюрой отправил на имя Л. З. Дандевиль письмо и стихи, которые так и назвал «При посылке Рафаэлевой Мадонны». Стихотворению Плещеев предпослал эпиграф из лермонтовской «Молитвы». Дата, стоящая под стихотворением — 17 февраля 1853 года, — стала для Алексея Николаевича своего рода днем возвращения в поэзию. В ответ на подарок Плещеева Любовь Захаровна подарила поэту альбом для стихов, в который Алексей Николаевич стал заносить рождающиеся строки, строфы, целые стихотворения, многие из которых были посвящены Л. З. Дандевиль. Стихи по большей части имели ярко выраженную минорную окраску, и — что там говорить — чувствовалось, что написаны они человеком с надломленной судьбой, человеком, еще не совсем уверенным в том, что его ждет впереди. Да и как можно быть уверенным, когда предстояли нешуточные испытания, связанные с военным походом и штурмом кокандской крепости Ак-Мечеть, расположенной за сотни километров от Оренбурга — в далекой среднеазиатской пустыне.
Новый поход на Ак-Мечеть был подготовлен Перовским и его помощниками Макшеевым и Дандевилем очень тщательно — ведь кокандская крепость считалась почти неприступной. Обстоятельно и детально были учтены и предстоящие трудности самого похода по голой песчаной пустыне. Зная все это от Макшеева и Данде-виля, Плещеев и решается принять участие в походе — в случае благополучного исхода и овладения кокандской крепостью всех участников похода ожидало вознаграждение, и Алексей Николаевич мог надеяться на производство в офицеры. Это была реальная возможность избавиться от опостылевшей участи конфирмованного, и Плещеев по совету оренбургских друзей, обещавших всяческую поддержку, подает на имя Перовского рапорт-прошение о своем добровольном желании принять участие в походе на Ак-Мечеть. Перовский решает вопрос положительно, и 2 марта 1853 года Плещеев переводится из 3-го в 4-й Оренбургский линейный батальон, участвующий в походе. Вместе с Плещеевым в поход были взяты и другие политические ссыльные: Залесский, Брежеровский, Мочульский. В стихотворении «Перед отъездом», адресованном Л. З. Дандевиль, Плещеев писал:
Весной 1854 года Плещеев вновь прибыл в Ак-Мечеть. Служба в крепости поначалу складывалась чересчур нудно, и Алексей Николаевич обращается к В. Д. Дандевилю: «И вот моя просьба к вам — похлопочите, голубчик Виктор Дезидерьевич, чтобы меня представили в 4-й батальон. Вероятно, это устроить нетрудно, как вы думаете? В штаб куда-нибудь прикомандироваться тоже пет особой приятности: сидеть целые дни, не разгибая спины, за бумагами, весьма мало меня интересующими. В степи же жизнь может быть деятельная и в то же время не утомительная. Да и двойное жалованье для меня имеет свое значение. Что касается до веселостей, до удовольствий — бог с ними. Мне всюду весело, где у меня есть книги и где есть два-три человека, которых я люблю и которые меня любят». В крепости Алексей Николаевич поселился вместе со своим командиром роты. Офицеры гарнизона относились к Плещееву с большим уважением, хотя главный начальник Сырдарьинской линии генерал-майор барон Фитингоф, человек очень недалекий, взбалмошный и вздорный, явно не жаловал опального поэта и при каждом возможном случае стремился унизить его, намеревался даже выслать Алексея Николаевича из Ак-Мечети в отдельный форт № 2, в Кармакчи, но, вероятно, заступничество Дандевиля помешало Фитингофу осуществить такое намерение. «Вы очень интересуетесь знать наше житье-бытье и хотите, чтобы я сообщил вам о всем, что здесь происходит. Но как однообразна эта жизнь, если б вы знали! Здесь все, как по рецепту…» — информирует Плещеев Дандевиля в одном из первых писем из крепости, рассказывая в шутливой форме о развлечениях с «неизбежной водкой, неизбежными разговорами о наших местных интересах», с картежными играми и песнями («Молодежь собирается в кружок и запевает хором русские или малороссийские песни, по большей части скромного[28] содержания…»); иронизирует над вечерами у гарнизонных «аристократов», где «все обстоит необыкновенна чинно», рассказывает о бытовых условиях жизни: «Мы соорудили себе из сырцового кирпича нечто вроде дома, но все-таки в нем лучше, чем в кибитке. У нас три комнаты, и в каждой по камину. От множества труб на крыше наше жилище походит на сахарный завод. Сожители мои — люди прекрасные…» Близко сходится Плещеев с Сигизмундом Сераковским и другими польскими ссыльными, отбывавшими службу в Ак-Мечети, всерьез изучает польский язык, пробует переводить польских поэтов. В крепости Плещеев много читает. «Я в последнее время многое перечитал: сделал значительные успехи в языке Шиллера, Гёте и барона Фитингофа и научился польскому языку, на котором есть тоже вещи бикьякши[29] (Мицкевич — например). Кроме того, аккуратно читаю русские журналы и рекомендую вам в «Современнике» повесть Тургенева «Затишье» и рассказ Писемского «Фанфарон», — сообщает Алексей Йиколаевич Дандевилю в том же письме, в котором рассказывал о гарнизонных «развлечениях». И не только читает «многое» в эту пору Алексей Николаевич, но и кое-что пробует творить — перевел на русский язык некоторые стихи знакомого по Оренбургу ссыльного польского поэта Эдварда Желиговского (Антония Совы), особенно удался перевод стихотворения «Два слова», удостоенный доброго отзыва Тараса Григорьевича Шевченко. А вот на просьбу самого Тараса Григорьевича посодействовать публикации в «Современнике» его повести «Княгиня» Алексей Николаевич откликнуться бессилен — сам пока еще тоже ни с петербургскими, ни с московскими журналами связей никаких не имеет. «Тарасу Григорьевичу, видимо, очень тяжело в Новопетровске. Жалуется он в письмах и мне, и Сигизмунду Сераковскому. Сигизмунд недавно спросил про шевченковское апрельское письмо, а сам показал адресованное ему, в котором Тарас Григорьевич писал Сераковскому. — «О моем настоящем горе сообщил я А. П.», то есть ему, Алексею Плещееву. Да, то письмо крепко расстроило. Тарас Григорьевич сетовал, что его совершенно замучили муштрой: «Теперь из пятидесятилетнего старика тянут жилы по восемь часов в сутки». Кажется, Тарас Григорьевич, никогда еще не писал с таким надрывом, болью, и обидно в его-то лета, хотя он и несколько преувеличивает свой возраст, сносить солдатские невзгоды. Слава богу, что здесь, в Ак-Мечети, он, Плещеев, как и Сигизмунд, избавлены от муштры…» Конечно, служба в крепости не отличалась особым разнообразием, не доставляла особых радостей, но все же не была горше монотонного прозябания в Оренбурге. По крайней мере, какую-то новизну поэт чувствовал, знакомясь с бытовым укладом кочевых племен, с их нелегкой жизнью. За время службы в Ак-Мечети Плещеев принимал еще участие в походах против кокандцев, походы, правда, нередко оказывались безрезультатными. «Мы совершили поход, но поход неудачный», — сообщает Плещеев Дандевилю в письме от 10 февраля 1855 года. — Нас захватил мороз, какой здесь никогда не бывает — до 28 градусов. Кибиток у нас не было, и уже на позиции киргизы[30] привезли две кибитки, но без кошм. Судите же, каково нам было ночевать! Многие познобили себе ноги… Кокандцы спюхали и ушли. А говорят, был препорядочный отряд, при двух орудиях. Мы, грешные… обрадовались было: авось, думали себе, подеремся, где драка — там и отличие. Не тут-то было! Прогулялись верст за 60, да и вернулись назад с незаряженными ружьями после разных горестных приключений. В самом деле, эти две-три ночи, проведенные в степи, хуже всего ак-мечетского похода». Не очень вдаваясь в официальные причины таких походов, царское правительство, безусловно, готовило ими плацдармы для присоединения к России Туркестана, Коканда, Бухары и Хивы. Плещеев находил иной — благородный смысл в борьбе с кокандскими племенами, смысл, объяснение которому дает в письме к Дандевилю летом 1855 года: «Мы ходили в поход, о котором подробную реляцию вы получите этой почтой. Кокандцы подступили почти к самому Бирубайскому посту и произвели страшные неистовства: резали преданныхнам киргизов, как баранов, разграбили множество аулов, и как мы ни старались догнать их, — не могли ничего сделать. Они ушли в безводную степь. Это нас ужасно взбесило. Никогда еще так сильно нам не хотелось побить этих подлецов. Все приходили в негодование при виде изувеченных трупов, валявшихся на дороге. Цель похода была благородна — защита утесненных, а ничто такие воодушевляет, как благородная цель…» Алексей Николаевич и здесь, в безбрежных просторах Средней Азии, остается верен своим главным идеалам: защитить «утесненных». В письмах его нередко можно встретить восторженные характеристики простых казахов-киргизов, с которыми поэт много общался, сочувствие к их традициям, обычаям, уважение национальной самобытности казахского народа, трудолюбия. Стремясь внести посильный просветительный элемент в жизнь степного городка, Плещеев создает в форте общественную библиотеку — из своих личных книг и из той литературы, что выписывалась гарнизоном. «Кстати, на будущий год гарнизон выписывает почти все русские журналы и газеты, выписывает бильярд, военную игру, шахматы, эспадроны… Это может вам показать, что наклонности у гарнизона более благородные и что не в пьянстве, буйстве и ночном шатании ищут развлечения от скуки», — пишет Плещеев Дандевилю. Алексей Николаевич внимательно следит за всеми литературными новинками, в письмах его высокие оценки новых произведений Тургенева, Островского… Он рекомендует своему адресату (все тому же Дандевилю) непременно приобрести для библиотеки при канцелярии оренбургского генерал-губернатора «Русскую историю» С. М. Соловьева — «замечательный труд, осветивший нашу историю новым взглядом». Не прерывает он в этот период и собственного поэтического творчества: еще перед отъездом в Ак-Мечеть откликнулся на события Крымской войны 1854–1855 годов стихотворением «После чтения газет»[31], об увиденном и пережитом во время службы в Ак-Мечети — стихотворение «В степи». В эти же годы, вернее в 1855 году, Алексей Николаевич написал стихотворение «С…….у» («Перед тобой лежит широкий новый путь…»), в котором снова зазвучал призывный голос автора русской «Марсельезы» — так впоследствии назовут знаменитое плещеевское «Вперед!..».
Долгожданное производство Алексея Николаевича в офицеры произошло весной 1856 года, 11 мая. Производству в прапорщики способствовали хлопоты матери, друзей, да и сам Плещеев, почувствовав ухудшение здоровья, стал с конца 1855 года энергично хлопотать о «высочайшем» помиловании, стремясь теперь уже вырваться из крепости в Оренбург. Потому и в письмах этого периода он часто сетует на скуку, дикость, ограниченность офицеров-сослуживцев, интриги, сплетни в командных кругах. «Ради бога, Виктор Дезидерьевич, вытащите меня из этого омута, называемого Сыр-Дарьин-ской линией», — просит он своего покровителя, которому с горечью признается, что жизнь «гибнет бесплодно, гибнет без пользы и счастья» и что «за два месяца, проведенных где-нибудь в большом городе, Петербурге, например, где общественная жизнь, науки, искусства — все в полном развитии, блеске, — я отдал бы охотно остальную жизнь». О тяжелом состоянии духа говорит поэт и в стихотворении «Раздумье». Вместе с получением офицерского чина прапорщика Плещеев переводится из форта Перовский в 3-й Оренбургский линейный батальон, расположенный в самом губернском городе. Выехав из крепости 14 июня, Плещеев только через месяц с небольшим прибыл на место. Теперь уже на положении полноправного члена общества мог он посещать кружок местной интеллигенции, группировавшейся непосредственно вокруг самого В. А. Перовского, удостоенного не так давно графского титула. Для упавшего духом, истерзанного унижениями и оскорблениями за пять с лишним лет солдатчины поэта такая перемена в жизни значила очень много. Возобновились встречи с В. В. Григорьевым, налаживались новые знакомства; особенно близко сошелся Плещеев с начинающим литератором С. Н. Федоровым, которого опекал потом всю жизнь, посвятил ему ряд произведений. Летом 1856 года в Оренбурге остановился М. Л. Михайлов — поэт, публицист, возглавлявший по заданию морского министерства литературно-этнографическую экспедицию по Оренбургскому краю, и Плещеев устанавливает дружеские отношения со столичным литератором — одним из активных сотрудников «Современника», другом и сподвижником Некрасова, Чернышевского, Добролюбова, Шелгунова и других революционно настроенных деятелей культуры… Но Оренбург встретил Плещеева не без горестей: скоропостижно скончалась еще в 1855 году Любовь Захаровна Дандевиль, к которой Алексей Николаевич испытывал самые нежные чувства, а В. Д. Дандевиль в чине полковника уезжает вскоре на постоянное жительство в Петербург — утрату этих друзей поэт переживал особенно тяжело. Здоровье самого Алексея Николаевича тоже оставляло желать лучшего, и он вскоре по возвращении в Оренбург стал хлопотать об увольнении с воинской службы, благо что заключение медицинской комиссии о нездоровье его было отправлено в высшие инстанции еще из форта Перовского. Осенью 1856 года Плещеев подает на имя императора прошение о дозволении ему по состоянию здоровья перейти на гражданскую службу. Генерал-губернатор Перовский это прошение поддерживает, и 17 ноября того же года Алексей Николаевич «увольняется из военной службы с переименованием в коллежские регистраторы и с дозволением перейти на гражданскую службу, кроме столиц». Расставшись с опостылевшей казарменной обстановкой, Плещеев решил некоторое время отдохнуть в самом прямом смысле: он часто посещал званые вечера у «оренбургских аристократов», куда теперь его приглашают не без удовольствия (умен, образован, молод — прекрасный кандидат в мужья), а существование свое поддерживает уроками французского, русского языков в тех же домах. Атмосфера светского общества, конечно, не могла удовлетворить поэта.
Отпуск, затянувшийся на целый год и проведенный в мире, от которого Алексей Николаевич был изолирован в течение почти десяти лет, оказался не только благотворным, но и окончательно укрепил решительность поэта во что бы то ни стало добиться разрешения на постоянное жительство в Москве, так как в проживании в Петербурге ему было окончательно отказано. На прошение, которое Плещеев подал перед отъездом из столицы весной 1859 года, ответа не было, и Алексей Николаевич, вернувшись в Оренбург, оказался в несколько неудобном положении: он был зачислен на службу в штат канцелярии оренбургского гражданского губернатора еще до возвращения из отпуска. Постоянная резиденция этой канцелярии находилась в Уфе, но Плещеев не спешил с выездом на новое местожительство, ожидая ответа на свое прошение императору о переводе в Москву. И вот 30 августа 1859 года Алексей Николаевич получает свидетельство за № 556, в котором удостоверялось: «г. Плещееву по всеподданнейшей его просьбе высочайше разрешено постоянное жительство в Москве». Правда, не снимался секретный надзор за ним — это, конечно, и оскорбительно и унизительно. И терпеть такое придется, вероятно, еще долго. Но главное радовало — Москва. Старая, древняя Москва, где как раз и прервалась арестом 28 апреля 1849 года вольная жизнь литератора Плещеева. Как-то она, Москва, встретит возвращающегося поэта, как примет его новые песни?
ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОСКВЕ
Град срединный, град сердечный, Коренной России град!Федор Глинка. Москва
Как все-таки меняет нас время! То, к чему не так давно, казалось, был если не равнодушен, то, по крайней мере, спокоен, нынче волнует, тревожит, восхищает, удивляет с нарастающей силой. Десять лет назад Алексей Николаевич в своих письмах из Москвы Достоевскому, Дурову и другим петербургским товарищам отзывался о древней столице довольно снисходительно, а вот теперь, поселившись в Москве, все больше и больше влюбляется в этот неповторимый по своему облику город. Да и можно ли оставаться равнодушным к Москве, где все дышит историей Отечества: Красная площадь, чудо русской архитектуры Покровский собор, величавый Кремль с часами на Спасской башне, краснокирпнчные стены которого напоминали нижегородский, знакомый с далекого детства… А церкви и часовенки — их еще осталось в Москве, сказывают, больше полутысячи и панорамная златозвездность которых особенно впечатляла с высот Воробьевых гор: могучие монастырские башни, внушительные остатки Камер-коллежского земляного вала… Да и сами московские улицы — извилистые, дугообразные, ничуть не похожие на стрельчатые «фрунтовые» петербургские, ласкали взор, манили-звали на прогулку и не казались почему-то теперь неуклюжими, неприбранными, как десять лет назад. Вот и Арбат с его многочисленными улочками и переулочками (в одном из таких переулков — Трубниковой, что выходил к церкви Спаса на Песках, и поселилось семейство Плещеевых), своим уютом и тишиной они влекли Алексея Николаевича. В Москву приехал Плещеев, можно сказать, при деньгах, вернее, с перспективой быть при деньгах: еще в 1857 году он получил наследство в пятьдесят тысяч рублей от одного из умерших родственников. Но деньги эти как-то быстро растратились, ибо «банкир» из Алексея Николаевича вышел никудышный. Большая часть денег из полученного наследства была израсходована для выплаты долгов на имение в Княгининском уезде — это имение, принадлежащее Плещееву и его матери, приносило давно одни убытки, а почему — Алексей Николаевич понять не мог, испытывая и всегда-то удивлявшую всех знакомых беспомощность, когда дело касалось практической стороны житейских предприятий. Вот и теперь оставшейся части денег наследник не находил применения. В письмах к Е. И. Барановскому в Оренбург Плещеев неоднократно говорит о намерении «пристроить свой капиталец, который лежит без употребления». но не знает, как это сделать толково. Наконец, «определив кое-как свой капитал, купил дом, но сам в нем жить не буду пока…», — сообщает он тому же Барановскому. А для собственной семьи намеревался построить флигель. Приобретенный на Малой Дмитровке дом и стал, в сущности, «свободным капиталом» Плещеева в первые годы московской жизни. А «движимая» часть наследства была использована для оказания помощи другу: еще в 1858 году Алексей Николаевич, узнав о тяжелом материальном положении Ф. М. Достоевского, высылает ему в Семипалатинск тысячу рублей: благодаря этой помощи Достоевский рассчитался с долгами и выехал в Тверь. В собственном доме на Малой Дмитровке Плещеев так и не жил, а снял квартиру на Арбате. Сделал это, вероятнее всего, потому, чтобы иметь возможность в любое время дом продать и на случай нужды вновь обратить «недвижимое имущество» в «свободный капиталец» — никаких дополнительных доходов Алексей Николаевич не имел и все свое будущее связывал с литературной работой, ибо еще до отъезда в Москву уволился 13 августа 1859 года со службы в отставку. Владельцем дома на Малой Дмитровке Алексей Николаевич тоже пребывал недолго. Сначала дом был заложен в кредитное общество, а потом продан, когда Алексей Николаевич стал одним из пайщиков и редакторов «Московского вестника» в 1859–1861 годы. Ну а деньги от заложенного в кредит, а затем и проданного дома «\текли», как говорится, незаметно: пай, внесенный в «Московский вестник», семь выпусков пособия для учащихся и самообразования «Географические очерки и картины, составленные по Грубе и другим источникам» (1861–1866 годы), издание собственных повестей и рассказов в 1860 году в двух частях… В Москве первый месяц — в хозяйственных заботах, в «хлопотах по обзаведению», как сообщит чуть позже Алексей Николаевич в письме А. П. Милюкову — товарищу по кружкам Бекетовых и Петрашевского, а ныне петербургскому литератору, одному из редакторов организуемого нового журнала «Светоч». Кстати, в этом же письме Плещеев уже жалуется на свои материальные затруднения — видимо, «свободный капиталец» истощался… В первые недели московской жизни Алексей Николаевич ведет несколько уединенный образ жизни, но постепенно связи его расширяются: 19 декабря 1859 года московское Общество любителей российской словесности избирает поэта в действительные члены, он встречается со всеми видными московскими литераторами, со многими налаживает товарищеские отношения. Трогательная встреча с Тарасом Григорьевичем Шевченко, который навестил Алексея Николаевича и передал свою автобиографию (была опубликована в «Московском вестнике» 1 апреля 1860 года), особенно порадовала. Тарас Григорьевич от души поблагодарил Алексея Николаевича за переводы стихов, особенно расхвалил «Сон» («Она на барском поле жала…») и песни. Оба вспомнили о памятных для них встречах осенью 1850 года в Уральске… И все-таки, поселившись в Москве, Плещеев всеми силами стремится установить тесные связи с петербургскими изданиями, а не с московскими, хотя тепло принят и в московских журналах, и газетах, в частности, в том же «Русском вестнике» М. Н. Каткова. Впрочем, на какое-то время Алексей Николаевич, войдя в число пайщиков и соредакторов газеты «Московский вестник», активно включается в журналистскую жизнь. «Московский вестник» стали издавать четыре пайщика: А. Н. Плещеев, Н. А. Основский, И. В. Павлов и Н. А. Воронцов-Вельяминов. Иван Васильевич Павлов — приятель Плещеева по Оренбургу, где в 50-е годы служил у генерала Перовского, вернулся в 1860 году в Москву, вышел в отставку и начал деятельно сотрудничать в различных изданиях, публикуя под псевдонимом Л. Опухтин статьи, фельетоны, очерки. Человек недюжинного ума и сильных организаторских способностей, Павлов, став соредактором «Московского вестника», играл, пожалуй, главную роль в газете, хотя, как и Плещеев, был всего лишь «приглашенным» пайщиком, а единственным издателем первых номеров газеты считался Н. А. Основский. Если Плещеев и Павлов видели в газете трибуну для выражения важных общественных и литературных проблем, то Основский подходил к газетному делу чисто коммерчески. Будучи книгоиздателем прежде всего, причем плутоватым издателем-торгашом, Основский к этому времени почти отошел от занятий литературой, хотя в середине 50-х годов пробовал публиковать свои охотничьи рассказы в «Современнике», в «Русском вестнике», выпустил эти рассказы даже отдельной книгой. Теперь же Основского, ставшего типичным дельцом, обуяла жажда денег. В 1860 году он покупает у Тургенева право на издание его сочинений в 4-х томах, запутывает дело с выплатой гонорара автору, выставив виновниками двух других пайщиков издания — Павлова и Плещеева, которые оказались под угрозой обвинения в бесчестии. К тому же Основский сумел убедить в этом А. А. Фета, которого И. С. Тургенев уполномочил «взять на себя все сношения с Основским». Афанасий Афанасьевич Фет извещает Ивана Сергеевича Тургенева о «вине» Плещеева и Павлова, и Алексей Николаевич вынужден вести с Тургеневым затяжную переписку, доказывать фактами мошенничество и нечистоплотность Основского… Редактирование «Московского вестника» отнимает уйму времени, но Алексей Николаевич помаленьку входит в ритм московской жизни. Спервых же месяцев в Москве он снова становится страстным театралом: посещает спектакли, налаживает связи с драматургами, актерами, много пишет о театральных постановках. А в эту пору русская сцена переживала необычайный подъем: 16 ноября 1859 года в Малом театре состоялась премьера «Грозы» А. Н. Островского, имевшая огромный успех, в театрах шли и другие пьесы знаменитого драматурга. С Островским Плещеев сходится довольно близко, становится впоследствии, с декабря 1865 года, одним из его ближайших помощников в качестве старшины московского Артистического клуба. Дружеские отношения устанавливает Плещеев с виднейшими актерами Малого театра М. П. Садовским, С. В. Васильевым, С. В. Шумским, Л. П. Косицкой, раскрывшими своп таланты благодаря гениальным пьесам Островского. Часто Алексей Николаевич после спектаклей заходит на дружеские вечеринки к актерам, нередко приглашает их в свою квартиру. Тонкий ценитель сценической игры, наделенный и сам драматургическим даром, Плещеев вскоре становится душой организованного по инициативе Островского Общества русских драматических писателей и композиторов…[34] Новая квартира поэта (на Арбате Плещеевы прожили недолго и в 1860 году переехали в дом Дарагана на Плющиху) всегда открыта для вновь приобретенных и старых друзей: здесь бывают Островский, Л. Толстой, Константин и Иван Аксаковы; останавливающиеся проездом в Москве Тургенев, Салтыков-Щедрин, Некрасов тоже не забывают навестить Алексея Николаевича. Возобновились дружеские отрешения с Алексеем Михайловичем Жемчужниковым, которого Плещеев полюбил еще в Оренбурге. К сожалению, не со всеми старыми друзьями довелось Алексею Николаевичу свидеться. А как хочется обнять Федора Михайловича Достоевского, получившего в конце 1859 года разрешение поселиться в Петербурге! Но пока с Федором Михайловичем, как и с другими друзьями-петербуржцами, общение ограничивается перепиской… В первые послессыльные месяцы в Москве познакомился Алексей Николаевич с Иваном Ивановичем Лажечниковым, автором «Ледяного дома» — романа, про который Пушкин сказал, что многие его страницы «будут жить, доколе не забудется русский язык». И какая приятная неожиданность: Иван Иванович изъявил желание опубликовать в «Московском вестнике» мемуарные «Записки для биографии В. Белинского»! Алексею Николаевичу, всегда благоговевшему перед памятью Белинского, не без основания причислявшему себя к ученикам одного из первых пропагандистов социализма в России, такое предложение почтенного романиста представляется драгоценным даром: Иван Иванович был не просто другом великого критика, но в какой-то мере и первооткрывателем способностей совсем юного Белинского, учившегося в Пензенской гимназии как раз в те годы, когда Лажечников директорствовал в ней. Несмотря на большую возрастную разницу, Лажечников был старше Плещеева на 33 года, между Иваном Ивановичем и Алексеем Николаевичем установились вполне приятельские отношения, которыми оба были весьма и весьма довольны… Жизнь налаживалась, и хотелось посвятить себя настоящему большому делу, но тут возникали и серьезные сомнения: а хватит ли силы духа, способностей, воли, мужества?.. Общество живет ожиданием неизбежных коренных перемен, и самый больной вопрос для России — освобождение крестьянства. Но далеко не одинаковое разрешение этого вопроса предполагали и предлагали деятели различных лагерей общественного движения 60-х годов. Программа революционно-демократических преобразований, выдвигаемая петербургскими знакомыми Плещеева: Чернышевским, Добролюбовым и их соратниками, предусматривала вместе с ликвидацией крепостничества необходимость других немедленных социально-политических преобразований в стране: установление подлинных политических свобод, установление народовластия как единственной формы правления, обеспечивающей полную социальную справедливость. Чернышевский вслед за Радищевым и декабристами звал общество к республиканскому самоуправлению, категорически отвергая всевозможные иллюзии относительно «доброго» и «мудрого» самодержавия, настойчиво разъясняя, что проблема освобождения крестьян (он настаивал на безвозмездном наделении всех крестьян землей) должна решаться в тесной взаимосвязи с другими демократическими преобразованиями в обществе, сломом существующего уклада жизни в России и заменой его иным, социалистическим, в котором «отдельные классы наемных работников и нанимателей исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе». Но другая часть русской интеллигенции (в нее входило, пожалуй, и большинство литераторов) возлагала серьезные надежды на реформы властей, придерживалась позиции «мирного» улучшения общества, полагая, что оно, это общество, не готово к революции, ибо народ разобщен с интеллигенцией — такого мнения были не только публицисты из лагеря либералов-западников вроде К. Д. Кавелина, М. Н. Каткова, В. П. Боткина, его разделяли в предреформенный период (в 1859—60-е годы) даже Герцен и Огарев, не принявшие революционной программы Чернышевского и Добролюбова, многие крупнейшпе художники слова, среди которых: И. С. Тургенев, А. Н. Островский, И. А. Гончаров, молодой Л. Н. Толстой… На «мирные», хотя и коренные преобразования общества по-прежнему рассчитывали славянофилы, не теряя надежды вместе с падением крепостничества увидеть в России приведение государственного порядка в соответствие с народными идеалами; славянофилов во многом поддержат представители возникшего в разгар осуществления крестьянской реформы (февраль 1861 года) нового общественного течения почвенничества (Ф. М. Достоевский, А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов), ратовавшие за сближение интеллигенции с народом на этической основе, на основе идей, взращенных на родной почве, и прежде всего идее единого развития русского национального самосознания. Алексей Николаевич колеблется: испытывая большую личную симпатию к Чернышевскому и Добролюбову, почти целиком разделяя их позицию, он в то же время далеко не столь решительно, как они, разделяет идею «взлома», не совсем расстается с иллюзиями «мирных» перемен в обществе. Эти колебания особенно сказываются в первый послессыльный год в Москве, когда Плещеев возвращается к активной литературно-общественной деятельности. Высоко оценивая роман Тургенева «Накануне», который вызвал исключительно бурную полемику в печати, Плещеев особо выделяет в произведении дорогую ему идею жертвенности «во имя любви к правде». В письме к Е. И. Барановскому говорит, что роман «заставляет крепко призадуматься», что «все живое, молодое и мыслящее будет на стороне Тургенева», а месяцем позже в письме Ф. М. Достоевскому от 17 марта 1860 года выговаривает своему другу, отрицательно отнесшемуся к тургеневскому произведению: «Я на тебя, братец ты мой, очень сердит за твой отзыв о романе Тургенева. Что за ярлычки ты везде находишь. После этого — не смей художник выставить ни одного типа, служащего представителем известной породы людей, известного класса общества, все ярлычки. И почему так легко жить болгару, посвятившему себя великому делу освобождения родины? Не знаю, легко ли ему жить, но я бы желал пожить такой жизнью. Непосредственным натурам, цельным, не подточенным анализом и рефлекторством, не путающимся в разных противоречиях, жить, конечно, если хочешь, легче… но когда эти натуры несут на плаху головы во имя любви к правде — ужели они менее гамлетов и гамлетиков достойны сочувствия?..»[35] Плещееву дорога в тургеневском Инсарове прежде всего способность к деятельности, и он готов простить ему некоторую сухость, равнодушие к искусству. В отличие от многих, упрекавших Тургенева за то, что он возвел на пьедестал человека чересчур «железного», Плещеев придерживается совсем иного мнения: «…А что натуры практические, деятельные не любят по большей части искусства — это факт, повторяющийся беспрестанно в действительности. Тургенев взял этот факт и был вправе так сделать. Он вовсе не хотел сказать, что эти люди не могут или не должны любить искусства. Но показал только, что есть на самом деле. Артистическпе натуры по большей части — не деятели», — заканчивает Алексей Николаевич свое письмо к Достоевскому. Такими людьми, способными к практической деятельности, были для Плещеева и разночинцы-демократы во главе с Чернышевским и Добролюбовым, но себя-то Алексей Николаевич причислял к иному типу людей, считая себя пригодным только к литературной работе. Правда, и здесь его порой одолевали сомнения, и оп однажды в 1861 году скажет в письме к Некрасову: «Стихи мои пи-кого не волновали и были хуже плоской прозы, несмотря на искренность писавшего их». Но следом за столь самоуничижительным отзывом (Плещеев в этом же письме спрашивает у Некрасова совета, не бросить ли писание вообще, и это после пятнадцатилетия литературной деятельности!) следует и такое признание: «Только вот беда, Николай Алексеевич, едва ли я способен к какой-нибудь деятельности, вследствие разных «неблагоприятных обстоятельств». Жизнь помяла меня порядком — и практическим человеком уже мне не сделаться. Литература была единственным моим прибежищем. Здесь я мог, по крайней мере, оставаться «человеком». Всякая другая деятельность у нас более или менее холопская…» Говоря о том, что ему не сделаться «практическим человеком», теперь, в начале 60-х годов, Плещеев, вероятнее всего, имел в виду участие в том реальном деле, к которому готовили себя революционные демократы в складывающейся ситуации. А ход событий к тому времени, когда Плещеев писал Некрасову, обретал еще большую напряженность в связи с тем, что царское правительство, начав осуществление крестьянской реформы, сумело привлечь на свою сторону часть либеральной оппозиции. Но и в предреформенную пору Плещеев все свои силы отдавал литературной работе, и в том «малом» литературном деле он на стороне революционных демократов в кардинальных вопросах, хотя и принимает попытки «примирить» их с деятельностью людей, придерживающихся противоположных взглядов или почти противоположных — со славянофилами, в которых тоже видел честных искателей истины, поборников добра и справедливости, противников крепостничества. Будучи сам «человеком 40-х годов», убежденным «западником», Плещеев, вернувшись из ссылки, во многом углубляет свое видение проблемы соотношения национального и общечеловеческого, поддерживает критику славянофилами «русского европеизма», не учитывающего особенностей национального характера. И в своей газете «Московский вестник» Алексей Николаевич горячо приветствует возобновление издания «Русской беседы» — журнала, редактируемого И. С. Аксаковым: «В каком бы виде ни возобновилась «Беседа», мы приветствуем ее от души, потому что всегда считали ее весьма полезным органом в нашей литературе, и хотя далеко не во всем соглашались с так называемыми славянофилами, по даже и увлечения их постоянно считаем достойными уважения». В первый период проживания в Москве Плещеев довольно близко сходится с Константином и Иваном Аксаковыми (которых- в 40-е годы только «созерцал»), и личное общение с ними убеждает Алексея Николаевича, что противоречия между славянофилами и демократами из «Современника» не такие уж непримиримые, более того, он находил, что общинные принципы развития России, провозглашаемые и теми и другими, как никогда, сближают их — тут Плещеев, не поняв на первых порах всей существенной разницы между «общинным» социализмом Чернышевского и идеализацией русского общинного быта славянофилами, определенно заблуждался, как заблуждался и относительно кажущейся лояльности Чернышевского к «мирному» завоеванию политических, конституционных свобод — на самом деле и в пореформенный период Чернышевский всегда выступал за решительную ломку самодержавно-бюрократической системы правления России, установление социально-экономического и политического равенства в стране на основе революционного народовластия. Но главное, что должно было бы, по мнению Плещеева, рано или поздно объединить петербургских революционных демократов и московских славянофилов — безграничная любовь к трудовому народу и столь же безграничное неприятие крепостничества, — Алексей Николаевич чувствовал, пожалуй, абсолютно безошибочно. А вот московские «западники», увы, растратили свой былой радикализм и осторожничают на каждом шагу, что особенно было неприятно Алексею Николаевичу, оставшемуся верным идеалам молодости, за которые он поплатился десятилетием свободы. В одном из писем Добролюбову поэт сообщает: «Признаюсь, что хотя И. Аксаков славянофил, но в нем гораздо больше сочувствия всему живому, современному и молодому, чем в московских западниках, которых он справедливо упрекает в старческой умеренности и благоразумии». Раскол в литературном мире из-за обострившейся идейной борьбы Алексей Николаевич воспринимал очень болезненно, потому что не терял надежды на соединение лучших литературных сил — в начале 60-х годов это лейтмотивом звучит в его письмах к одному из редакторов журнала «Светоч» А. Милюкову, в письмах к Достоевскому, Некрасову и другим видным литераторам-современникам. «Каждый писатель в наше время берется за перо вследствие потребности высказать свои задушевные убеждения, свой взгляд на окружающую его действительность в полной уверенности, что каждый верно освещенный факт, каждый живой образ, являющийся в литературном произведении, принесет пользу», — утверждает Плещеев в одной из статей на страницах «Московских ведомостей» в 1861 году и, исходя из этого, полагает, что разногласия между представителями различных направлений вполне устранимы, ибо «истинный художник не может оставаться равнодушным к происходящему перед его глазами». Алексей Николаевич по-прежнему остается идеалистом, романтиком, продолжает свято верить в добро и справедливость, в принципы, усвоенные в 40-е годы из утопических сочинений социалистов (над такой любовью иронизировал герой Достоевского в «Записках из подполья»: «Я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем… Все плачут и целуют меня…»). Да, ссыльное десятилетие не произвело в Плещееве сильного духовного переворота, как в его друге 40-х годов Достоевском, и Алексей Николаевич все еще продолжал верить в жертвенность ради идеи, воспринимая идеалы любви и правды в несколько романтическом ореоле — потому и возражал «сердито» Достоевскому в письме по поводу романа «Накануне». Не последнюю роль эта старая «мечтательность» сыграла и в сближении Плещеева с революционными демократами. Он видел в них прежде всего поборников «любви и правды», как и в сподвижниках по 40-м годам, а в деятельности Чернышевского, Добролюбова, Михайлова было немало общего с пропагандистами социализма первой половины века, они во многом, и не без основания, считали себя продолжателями дела Белинского. Алексей Николаевич, как это с ним часто случалось, на почве идейного родства вскоре проникся и большой личной симпатией к боевым публицистам из редакции «Современника». С того памятного для Алексея Николаевича знакомства с Добролюбовым и Чернышевским, что произошло еще в период отпускного приезда поэта из Оренбурга, минуло достаточно времени, и оно ничуть не убавило возникшее при первых встречах взаимное доверие и дружелюбие. Не имея возможности встречаться с сотрудниками «Современника» лично, Плещеев поддерживает с ними постоянную письменную связь как «свой человек», и он оказался чуть ли не единственным из петрашевцев, нашедшим общий язык с революционными деятелями из этого журнала, почти целиком разделяя их литературные и социально-философские взгляды — ведь все активные «пропагаторы» социализма 40-х годов, пережив период реакции 50-х, не сумели (за исключением, пожалуй, М. Е. Салтыкова-Щедрина) поладить ни с Чернышевским, ни с Добролюбовым. По своей философской и этической позиции далек от платформы революционных демократов был и Ф. М. Достоевский — в 40-е годы убежденный сторонник утопического социализма на русской почве. Испытав за время каторги и ссылки гигантский духовный переворот, выработав для себя новый символ веры — преклонение перед правдой народа («если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его», — писал он брату Михаилу с каторги), придя к решительному убеждению, что мир и людей можно изменить лишь подвижнической и длительной работой по духовному перевоспитанию общества, а не скоропалительными, как ему казалось, призывами «к социальному перетряхиванию» в духе утопических социалистических доктрин, Достоевский не мог принять теорию «разумного эгоизма» Чернышевского и его сторонников, уравнивающую, по мнению Федора Михайловича, пользу и добро и оправдывающую таким образом принцип… расчетливости в поступках человека. И хотя в период «приглядки» к «теоретикам» (так иронически называл А. Григорьев Добролюбова, Чернышевского и их последователей) — в 1859–1862 годы Достоевский, считая, что они, может быть, и ошибаются, но действуют искренне, честно, нередко защищал их, например, от Каткова и К0, однако сблизиться с ними не мог и не хотел — это Плещеев с огорчением видел, но не понимал всей глубины расхождений позиций Достоевского и Чернышевского. Сам же Алексей Николаевич, поэт-романтик, поэт-идеалист, все больше и больше сдружается с трезвыми реалистами из «Современника», видя в них самых деятельных защитников народа от крепостного гнета, самых верных продолжателей дела Белинского и других социалистов 40-х годов… Он хорошо сознавал, что эти люди не дрогнут ни при каких условиях, готовы выдержать самые трудные испытания.
Литературные дела у Алексея Николаевича спарятся, а вот отношения с редакцией журнала «Русский вестник» ухудшились, а точнее — с главным редактором-издателем М. Н. Катковым, который прежде вроде бы благоволил Плещееву. Натянутость отношений привела в конечном итоге к полному разрыву Плещеева с катковским журналом, в котором были опубликованы многие стихи и прозаические произведения Алексея Николаевича второй половины 50-х годов. Бывший пропагандист Гегеля и член кружков Станкевича и Белинского Михаил Никифорович Катков после заграничного путешествия в начале 40-х годов и профессорства в Московском университете целиком посвящает себя журналистской деятельности, а с 1856 года при содействии товарища министра просвещения П. А. Вяземского — известного поэта, критика, друга Пушкина — получил разрешение на издание журнала «Русский вестник». В первые годы журнал занял весьма либерально-демократическую позицию, чем привлек к себе лучшие литературные силы: в журнале стали сотрудничать Тургенев, Салтыков-Щедрин, в 1859 году публикуется в журнале «Семейное счастье» Льва Толстого… Плещеев тоже возобновил свою прерванную ссылкой литературную деятельность в катковском «Русском вестнике». В отпускной приезд в Москву из Оренбурга Алексей Николаевич встретился с Катковым лично, и Михаил Никифорович произвел первоначально довольно приятное впечатление: умен и даже очень, сторонник общественных преобразований (правда, постепенно, а не путем решительной ломки) с обязательной отменой крепостного права, выступает за освобождение крестьян с землей — это не могло не вызвать симпатию. Но, поселившись в Москве и узнав Каткова поближе, Плещеев все больше и больше убеждается, что Михаил Никифорович из тех либералов-постепеновцев, которые отнюдь не жаждут ускорения преобразований в обществе, напротив, решительно противятся любой ломке жизненного уклада в России, возлагают надежды только на реформы «сверху». Либерализм Каткова, как и его «англоманство» (после поездки в Англию он стал энергично пропагандировать английскую систему государственного и общественного управления), обретали все более охранительно-консервативную позицию (приведшую его в конце концов в послереформенные годы в лагерь защитников монархического трона), что не могло не претить Плещееву, который всей душой был на стороне Добролюбова и Чернышевского. Коробили и открытая неприязнь Каткова к революционным демократам, и нечистоплотные методы его борьбы с противниками… И вот нужда заставила опять идти на поклон к Каткову — Алексей Николаевич передал в «Русский вестник» повесть «Пашинцев». «Передать-то передал, а теперь раскаивается, признаваясь в письме Добролюбову от 25 ноября 1859 года: «На днях продал я в «Русский вестник» большую повесть. И не хотел туда давать, да деньги понадобились — а мне дали по 75 рублей за лист; ну и отдал. Да уж не рад и деньгам. Эту редакцию «Вестника» обуял дух какого-то евнушеского целомудрия. Пристают ко мне — то вычеркни, да другое вычеркни — неприлично. Совсем окастратить хотят… Нет! Уж в другой раз лучше Краевскому или Дружинину пошлю, а не в «Русский вестник». Добролюбов-то поймет и не осудит, но на душе противно, что вновь связался с Катковым. К тому же Михаил Никифорович и его окружение открыто выражают неудовольствие и даже возмущение, что он, Плещеев, в газете «Московский вестник» восторженно отзывается о критической деятельности Добролюбова, называет его «лучшим из современных наших критиков», дает высокую оценку социально-экономическим статьям Чернышевского. Говорят, Катков прямо-таки вознегодовал, прочитав в одной из плещеевских «Заметок кое о чем» такой отзыв: «г. Чернышевский при всем отсутствии педантских замашек и всякого научного рутинерства должен иметь в касте ученых специалистов много врагов. Но он может хотя несколько утешиться тем, что публика читает его статьи с жадностью и что все живое, молодое, мыслящее и способное к развитию произносит имя его с уважением…» Еще бы: и в «Отечественных записках», и в «Русском вестнике», и в других солидных журналах не раз с сарказмом писали о грубости, нахальстве, пустозвонстве, невежестве Чернышевского, а тут такой, по мнению катковых, просто безответственный мадригал, да и только… Да что Катков, даже такие очень уважаемые Алексеем Николаевичем лица, как А. В. Дружинин, А. П. Милюков, А. А. Григорьев, говорят, весьма и весьма неодобрительно отнеслись к его, плещеевским, похвалам Николаю Гавриловичу. Хорошо хоть Федор Достоевский в своем журнале «Время» дал чувствительную отповедь противникам и хулителям Чернышевского, косвенно, можно сказать, поддержал меня, высмеяв «элегический вой» вокруг Николая Гавриловича в почтенных либеральных изданиях: «И ведь престранная судьба г. Чернышевского в русской литературе. Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал, что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего… «Отечественные записки» поместили в одной своей книжке чуть ли не шесть статей разом единственно о г. Чернышевском. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале?..» В журнале братьев Достоевских «Время» Плещеев начал сотрудничать с первого номера, опубликовав стихотворение «Облака» («Вот и гроза прошла, и небо просветлело»), которое очень пришлось по душе Федору Михайловичу, а в последующих выпусках этого журнала опубликовал переводы из А. Теннисона, М. Гартмана, оригинальные стихи, пьесы. И все же наиболее удавшиеся, программные, как они ему представлялись, произведения Алексей Николаевич теперь предпочитает отдавать в «Современник», журнал, «направлению которого принадлежат все мои симпатии», как говорит поэт в письме Добролюбову от 15 апреля 1860 года. И вообще с ведущими сотрудниками «Современника» отношения крепнут, идейная- близость Алексея Николаевича с Добролюбовым и Чернышевским становится все более ощутимой. «Никогда я не работал так много и с такой любовью, как в эту пору, когда вся моя литературная деятельность отдана была почти исключительно тому журналу, которым руководил Н. Г. (то есть Чернышевский. — Н. К.) и идеалы которого были и навсегда остались моими идеалами»[36], — скажет позднее Плещеев в письме к двоюродному брату Чернышевского А. Н. Пыпину. А главного редактора «Современника» Н. А. Некрасова Алексей Николаевич больше чем уважал — он видел в Некрасове истинно народного поэта, чуть ли не единственного выразителя народной жизни в современной русской поэзии: «Все дышит здесь глубоким, непритворным сочувствием народному быту… таким сочувствием, которым разве отличаются песни Кольцова… Мы понимаем, отчего наша публика только и читает из русских поэтов одного Некрасова и отчего его стихи расходятся в тысячах экземпляров ежегодно. Никто не говорит более его нашему сердцу… Никто не отзывается с такою страшной, жгучей болью на вопли и стоны всего угнетенного и страждущего», — отмечал Плещеев в «Московских ведомостях» по поводу поэмы «Мороз — Красный нос». Из Москвы в Петербург чаще, чем другим, Плещеев пишет Некрасову да еще, пожалуй, Добролюбову, делится в этих письмах своими литературными и житейскими заботами, а перед Николаем Алексеевичем даже исповедуется в самом сокровенном, признается в горячей любви к нему, например, в том же письме, где говорит о литературе как о своем «единственном прибежище», но одновременно и сомневается в полезности своей литературной работы. «К Вам я обратился…, потому что искренно люблю Вас и дорожу Вашим отзывом; да и мне казалось, что и Вы несколько расположены ко мне. К другим же у меня пет желания обращаться с подобными «признаниями» и вопросами», — с доверительной сердечностью писал Плещеев. Особенно высоко ценит Плещеев литературный вкус Некрасова, его большой ум, крупное поэтическое дарование, сердечность, отзывчивость, готовность при возможности протянуть руку помощи. Алексею Николаевичу хорошо запомнилась оживленная дискуссия в редакции «Московского вестника» вскоре после того, как на страницах «Современника» было опубликовано плещеевское «Лунной ночью». Спор разгорелся вокруг стихотворения прежде всего потому, что Основский увидел в нем «чистой воды некрасовский мотив». Как же: для кого из поэтов луна не была источником вдохновения! И вдруг:
Добрые отношения с И. Аксаковым еще больше укрепляются, он редактирует газету «День», где Алексей Николаевич становится постоянным автором, публикует стихи, среди которых получившие широкую известность «Дети», «Природа — мать! к тебе иду…», «Лжеучителям», «Две дороги». Стихотворение «Две дороги» Алексей Николаевич посвятил И. С. Аксакову.
Жизнь в Москве, насыщенная интенсивной литературной деятельностью, скрашивала многие неприятности, вызываемые материальными затруднениями, житейской неустроенностью. Переезд на новую квартиру в дом Дарагана на Плющихе опять потребовал немалых расходов; издание собственных прозаических произведений, повестей и рассказов Тургенева, «Географических очерков», паевые вклады в «Московский вестник», покупка летней дачи в подмосковном селе Иванькове — расходы, расходы, расходы, удручающе действующие на душевное состояние. И на издательском поприще далеко не все благополучно, напротив, Алексей Николаевич при всем неумении вести «коммерческие» дела, при полном отсутствии у него «практической жилки» с каждым месяцем убеждался, что компаньонство с оборотистым и хитрым Н. А. Основским грозит ему разорением — это он почувствовал при издании четырехтомника Тургенева, когда Основский пошел на откровенное мошенничество при распродаже тургеневских сочинений. Тут невольно можно прослыть чуть ли не кляузником, когда, махнув рукой на всякую галантность, приходится вместе с объяснительными письмами Тургеневу писать… тому же П. В. Анненкову в Петербург: «…Если Тургеневу… все равно, за что же я-то теряю 3 тысячи400 рублей, которое мне стоит это издание! Я далеко не такой богач, чтобы считать эту сумму вздором. Войдите в мое положение. Я ничего еще почти не продал, а Основский продал две тысячи — если не больше — экземпляров и требует с меня за печать деньги, без чего не дает мне третьего тома. Ведь это решительный грабеж! Я, кажется, вынужден буду всю историю с ним напечатать в газетах — больше мне ничего не осталось…» До газеты, правда, дело не дошло, так как вскоре и сам Тургенев, и Анненков убедились в жульнических махинациях Основского, не выславшего всей суммы гонорара Ивану Сергеевичу, но Плещеев окончательно прозревает и видит, какую большую ошибку он совершил, вступив в издательскую «коалицию» с Нилом Андреевичем Основским — «самым гнусным мошенником», как охарактеризует он его в письме к Анненкову от 21 января 1861 года… А в семье ожидается пополнение. Еликопида Александровна, к великой радости Алексея Николаевича, снова готовится к родам — благо и квартира нынешняя позволяет без особых осложнений создать для жены и второго ребенка вполне приличные условия. В ноябре 1861 года у Плещеевых родилась дочь, которую назвали Еленой, — то был самый праздничный день для Алексея Николаевича за время московской жизни. Дети… Вот смотрит Алексей Николаевич на своего первенца, трехлетнего Сашу, сосредоточенно перелистывающего книжку, и сердце переполняется невыразимой нежностью и теплотой. Кажется, нет более отрадных, более светлых в жизни минут, чем те, которые проводишь в кругу детей. Леночка, правда, совсем еще крошечная, и Еликонида Александровна даже не позволяет Алексею Николаевичу играть с дочкой… Зато первенец Саша всегда любит порезвиться в присутствии отца, часто прибегает к нему в кабинет для «секретных» разговоров.
Алексей Николаевич, как и многие из русских интеллигентов, с нетерпением ждал манифеста об освобождении крестьян. Манифест, подписанный Александром II 19 февраля 1861 года и официально опубликованный 5 марта, глубоко опечалил. В нем объявлялось, что крестьяне освобождаются лично, без земли, а «земля составляет неотъемлемую собственность помещика» — что можно было придумать несправедливее такого «благодеяния»? Особых надежд на реформу Плещеев, правда, не возлагал, зная, сколь скептически относился к пей Чернышевский, но искренне рассчитывал, что правительство не оставит крестьян без земли. А вышел форменный обман народа. Крестьяне, узнав, что они не получат земли, взбунтовались, особенно сильные волнения прокатились в Тамбовской, Пензенской, Казанской губерниях. До Москвы доходили слухи о крутых расправах над крестьянами в селах Кандеевке и Бездне Казанской губернии, других местах. В городах заволновалась молодежь, студенчество. Алексею Николаевичу самому довелось стать свидетелем недоуменно-неприязненного восприятия «Положения 19 февраля», которое было оглашено воскресным днем 5 марта (как раз заканчивалась масленица) в Успенской церкви Новодевичьего монастыря, куда Плещеев пришел вместе с Еликонидой Александровной, всегда любившей посещать службу в храмах этого монастыря. Когда священник по окончании службы зачитывал текст манифеста, то публика, слушавшая до этого слова, произносимые с амвона, при идеальной тишине, невольно зароптала, особенно после провозглашенных священником мест из «Положения», где говорилось, что законно приобретенные помещиками права на землю не могут быть взяты от них без добровольной уступки и что крестьяне, пользуясь поземельным наделом, обязаны исполнять в пользу помещиков определенные повинности, быть в прежнем повиновении у них. Волнение прихожан, правда, было робкое, но и оно свидетельствовало о неприятии манифеста. А в университете произошли серьезные столкновения с властями студенческой молодежи, прямо заявившей, что царь обманул народ, — и тут уж явно сказывалось влияние агитационной деятельности Чернышевского, который в прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» развенчал грабительский характер реформы, и Герцена, который, поняв тщетность своих надежд на правительственную реформу, начал публиковать в «Колоколе» серию статей, разоблачающих обман народа царем. И кажется, обман этот узаконится и станет нормой жизни… При всех мелких житейских неувязках первые годы в Москве все-таки сложились для Алексея Николаевича славно, и он с полным правом назвал это время «лучшими днями жизни» потому прежде всего, что никогда еще Не испытывал такого духовного подъема, такой увлеченности работой, такой творческой энергии: вслед за двумя частями повестей и рассказов, получивших довольно благосклонный отзыв самого Добролюбова, выходит в свет новый стихотворный сборник, тоже сочувственно встреченный читающей публикой и журнальной критикой. Милый Михаил Ларионович Михайлов отозвался на стихи пространной рецензией в третьей книжке «Современника» за 1861 год, энергично вступив в полемику с «серьезными» рецензентами 40-х годов, враждебно якобы встретивших первую плещеевскую книжку стихов. Михаил Ларионович, конечно, зря предъявляет упреки топ критике — ведь среди тех, кто дал высокую оценку первому сборнику, был Валериан Майков, а разве он не из числа действительно серьезнейших ценителей искусства? И все-таки, несмотря на полемические перехлесты, на довольно критическую оценку некоторых переводных стихов, отзыв Михаила Ларионовича очень тронул. Да и как не встрепенуться душе, прочитав такие проникновенные слова о себе: «Поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам…» Или: «За г. Плещеевым осталась одна сила — сила призыва к честному служению обществу и ближним». «Выходит, не совсем уж незаметная ваша работа на поэтической ниве, Алексей Николаевич, как вы самокритично и порой излишне настойчиво внушаете себе? И если такой строгий ценитель, как Михаил Ларионович Михайлов, находит эту работу нужной и полезной обществу, то надо и впредь быть достойным такой оценки… А вот относительно неразборчивого отношения при переводах Михайлов прав: тут надобно быть построже в выборе, тут вы, любезный Алексей Николаевич, прислушайтесь к советам друга-рецензента… И все же очень приятно, когда ты замечен критикой боевой, критикой, направлению которой ты симпатизируешь всем сердцем». Плещеев, перечитывая рецензию Михайлова, не сомневался, что это точка зрения и всей редакции журнала. Вот только из Петербурга пришла горестная весть: редакция «Современника» отправила за границу на лечение тяжело больного Добролюбова; болезнь, говорят, настолько серьезная, что почти нет никакой надежды на выздоровление. Верить этому никак не хотелось, но коль и Некрасов подтвердил то же — значит, опасность действительно велика. Обратившись мыслью к Добролюбову, Алексей Николаевич снова (в который раз!) открыл седьмой номер «Современника» за 1860 год, где была опубликована добролюбовская статья о нем «Благонамеренность и деятельность» — критик прислал ее в журнал уже из-за границы. Нельзя сказать, чтобы эта статья была очень лестна и тешила тщеславие Алексея Николаевича, как в свое время майковская статья о первом его поэтическом сборнике. Отнюдь. Добролюбов вовсе не щедр на похвалы, а местами и обидно ироничен, когда снисходительно говорит о скромных беллетристических возможностях автора, о том, что проза Алексея Николаевича «не заслуживает подозрения в гениальности» и что главное достоинство этой прозы характерно для многих беллетристических сочинений века: «общественный элемент». Да и сам разбор произведений сделан Добролюбовым чересчур «по поводу», без всякого эстетического анализа, почти без желания увидеть в повестях и рассказах, кроме благонамеренных юношей (пустых и праздных, по мысли критика, мечтателей, абсолютно непригодных для «дела»), и тех, кто умеет сострадать забитому, бесправному человеку. Но для Добролюбова и такое в высшей степени бесценное нравственное качество людей представляется, видимо, тоже лишь «элементом» благонамеренности? О пет, конечно же, это не так, тут Алексей Николаевич, памятуя о своих встречах с Николаем Александровичем, готов обвинить критика в чем угодно, по только не в равнодушии к такому благороднейшему качеству, как душевная отзывчивость. Конечно, Алексею Николаевичу очень хотелось бы, чтобы Добролюбов обратил внимание и на такую немаловажную особенность его прозы, как верность натуре, художественную убедительность изображенных характеров — людей по преимуществу дюжинных, беспомощных, неустроенных в жизни, но не растративших совестливости, светлой мечты в лучшее будущее. И хотя Алексей Николаевич, как верно подметил Добролюбов, чаще иронично относился к своим героям-мечтателям, по он и сочувствовал тем, кто сохранил нравственное благородство, а этого Добролюбов как бы умышленно не хотел замечать, полагая, наверное, такую «мелочь» недостойной внимания? Или Николай Александрович и вправду не заметил в его, плещеевской, прозе устремленности к тому идеалу, который критик особо подчеркнул, анализируя, например, роман Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные»: «Каждый человек должен быть человеком и относиться к другому, как человек к человеку, — вот идеал, сложившийся в душе автора помимо всяких условных и порицательных воззрений…» Грустно, если он, Плещеев, не сумел показать, что и его идеал имеет много общего с идеалом любезного Федора Михайловича… И все-таки сколько мыслей и страстной убежденности при кажущейся рассудочности, блестящих прозрений в добролюбовской статье. И как верно сказано об авторском «сострадании» к героям, все еще играющим в «лишних людей»: «Перечитывая повести г. Плещеева, мы всего более рады были в них веянию этого духа сострадательной насмешки над платоническим благородством людей, которых так возносили иные авторы. Начальные типы пустых либеральчиков, без всякого уже сочувствия к ним, набросаны уже были в некоторых повестях г. Тургенева. Но у г. Тургенева эти господа были постоянно второстепенными лицами… У г. Плещеева эти лица — главные, они составляют часто основу и цель повести, и из их изображений все более выясняется требование дела и дела вместо громких слов, младенческих мечтаний, несбыточных надежд и верований». Да, это так, абсолютно так, только Алексей Николаевич не обольщается такой похвалой, прекрасно сознавая свои скромные возможности прозаика, о которых и сам однажды писал Добролюбову, заметив, что «нашего брата беллетриста дюжинного — теперь как собак нерезаных…». И все же Алексею Николаевичу хотелось бы знать дельное мнение относительно художественных достоинств своей прозы. Добролюбов же об этом почти не обмолвился, а от других критиков тоже вряд ли дождешься объективного разбора. Другие критики… Нынче многие довольно продуктивно подвизаются в этом жанре, не выказывая особых склонностей к нему. Плещеев и сам в том же «Московском вестнике» регулярно выступает со статьями и рецензиями, хотя и не претендует на роль идеолога. Более того: позднее, во второй половине 60-х годов, в письме к поэту и критику А. Н. Александрову прямо признается: «Чтобы быть критиком — из ряду выходящим, надо иметь к этому такое же призвание, как в живописи и музыке, надо, кроме того, иметь, что называется, философскую подкладку. Я бы, например, не взялся за критику, потому что не чувствую в себе ни таланта, ни знания достаточного для этого…» И хотя статьи и обзоры Плещеева ценились современниками, Алексей Николаевич из-за всегдашней повышенной взыскательности готов считать себя всего лишь случайным дилетантом на критическом поприще. Из современных критиков Алексей Николаевич ценил почти столь же высоко, как Добролюбова, Аполлона Григорьева. Несмотря на то, что до Плещеева доходили слухи, как Григорьев саркастически высмеивает «заигрывание» Алексея Николаевича со «свистунами» из «Современника», — это не мешало Плещееву относиться к Аполлону Александровичу с большим уважением, находить «в статьях Григорьева… всегда много поучительного», как он скажет в письме к М. М. Достоевскому[38]. Да и как не уважать эту страстную натуру, до самозабвения влюбленную в искусство… А сколько свежих, совершенно новых идей содержат недавно опубликованные в «Светоче» и во «Времени» статьи Аполлона Александровича «Народность и литература», «Искусство и нравственность» и «Реализм и идеализм в нашей литературе»? Общего пафоса этих статей Алексей Николаевич не разделял, но принимал многие меткие григорьевские характеристики творчества Тургенева, Писемского, целиком соглашался с призывом критика — «…надобно же идти дальше» старых идеалов, — а эстетическое чутье Григорьева всегда восхищало. Особенно много удовольствия доставляли Алексею Николаевичу как страстному поклоннику театра темпераментные григорьевские статьи о драматургии… Михаил Михайлович Достоевский пишет, что Григорьев, начав сотрудничать в журнале «Время», неожиданно уехал из Петербурга в Оренбург, где устроился преподавателем в кадетский корпус. «Наверное, перемывает сейчас вместе с оренбургской братией мои косточки, — незлобиво подумал Алексей Николаевич. — Только вряд ли найдет Аполлон Александрович в Оренбурге даже интересных собеседников себе: если верить Барановскому, оренбургское общество совсем измельчало… И что это заставило Григорьева ринуться в столицу степей?» Почему возник этот неожиданный «побег» в Оренбург, когда, казалось, все складывалось как нельзя лучше: сотрудничество в журнале близких по духу людей на правах чуть ли не соредакторства? Алексей Николаевич, размышляя о Григорьеве, снова вспомнил давний вечер на одной из «пятниц» у Петрашевского, одухотворенное лицо Аполлона Александровича, читающего «Город», — эта сцена нередко вставала перед ним и в оренбургской ссылке, где он тоже всегда с большим интересом прочитывал григорьевские статьи, публиковавшиеся на страницах «Москвитянина» и «Библиотеки для чтения«…Вспомнился и первый послессыльный период в Москве, когда Алексей Николаевич начал сотрудничать в журнале А. П. Милюкова «Светоч», — там же, вернувшись из заграничного путешествия, публиковал статьи Григорьев, статьи, как всегда, страстные, проникнутые глубокой верой в великое предназначение русской литературы… Аполлон Григорьев обучает словесности оренбургских кадетов, Николай Добролюбов скитается по курортам Франции и Италии, скитается почти обреченный… Какое-то проклятье, что ли, преследует даровитейших русских критиков? Безвременно ушли Белинский, Майков, Добролюбов болен, Григорьев «в бегах», Чернышевскому скорее всего грозит тюрьма: либералы после реформы 19 февраля теперь не скрывают своего злорадства по адресу Николая Гавриловича, а III Отделение, по словам Михайлова, ищет повода, чтобы открыто расправиться с редакцией «Современника» и в первую очередь с Чернышевским[39].
Увы, время, которое Алексей Николаевич называл лучшими днями своей жизни, отнюдь не было безмятежно-радостным. Отрадно, когда отлично работается, когда в душе не затухает огонь творческого вдохновения, когда рядом любимые жена и дети, прекрасные друзья, — в таком приподнятом настроении создавался цикл «Летние песни». Но грустно, когда разочарования подстерегают даже там, где, казалось, им не «отводилось» места… Как горько, нестерпимо больно терять друзей и единомышленников… Умер Константин Аксаков, отправленный на лечение за границу, скончался на пустынном греческом острове Занте («Человек он был» — эти слова из шекспировского «Гамлета» ставит Плещеев эпиграфом к стихотворению «Памяти К. С. Аксакова»); совсем молодым ослеп, а вскоре тоже скончался замечательный актер Малого театра Сергей Васильев, с которым Алексей Николаевич крепко сдружился в Москве… «…Не в мишуре, не в ложных блестках являлся ты перед толпой — ты на сценических подмостках был человек, а не герой!» — сказал поэт об актере в стихотворении «Друзья свободного искусства»… когда ослепший Васильев навсегда покидал сцену… Да, это были прекрасные товарищи и замечательные люди… Человеческая естественность — основа основ личности, самое высшее качество духа, залог гражданской бескомпромиссности, — считал Алексей Николаевич и прежде всего за человечность, за отсутствие позерства, рисовки глубоко уважал и своих друзей из «Современника» — Чернышевского, Добролюбова, Михайлова… И вот удар за ударом: Михайлов осужден и сослан в Сибирь, Добролюбов, вернувшийся из-за границы ничуть не окрепшим, вскоре умирает, оплакиваемый не только друзьями, но и противниками, признававшими выдающееся дарование двадцатипятилетнего критика… О тяжелых утратах той поры — цикл стихотворений «Новый год» с посвящением Н. А. Некрасову. В этих стихах, опубликованных в первой книжке «Современника» за 1862 год, поэт шлет сердечный привет «всем застигнутым ненастьем», всем, «не склоняющим покорно перед пошлостью чела». А через полгода совершилось то, чего уже давно опасался Алексей Николаевич: 15 июня 1862 года было приостановлено издание «Современника», 7 июля арестован Чернышевский. Некрасов пишет, что журнал, возможно, удастся возродить, а вот Чернышевского-то, пожалуй, не вызволить из Алексеевского равелина Петропавловки — дорога из «особняка», в котором и сам Алексей Николаевич провел некогда около девяти месяцев, ведет либо в Сибирь, либо на эшафот… Так что же делать? Гибнут лучшие люди, реакция свирепствует. Одновременно с «Современником» правительство приостанавливает издание и другого журнала — «Русское слово», в котором Плещеев опубликовал несколько стихотворений, призывающих к действию, к мужественной борьбе с «тьмой и злом»: «Нет! лучше гибель без возврата…», «Завидно мне глядеть на мудрецов…», «На сердце злоба накипела…». Только «мудрецы», что «знают жизнь так хорошо по книгам», по-прежнему предпочитают отделываться демагогическими фразами. Или напрямую атакуют революционную мысль, как, например, достопочтенный Катков: тот перепечатал в своем журнале сочинение философа-богослова Юркевича «Из науки о человеческом духе», сочинение, целиком направленное против Чернышевского… Но хорошую отповедь «Русскому вестнику» дали и сам Николай Гаврилович в «Полемических красотах», и молодой критик из «Русского слова» Писарев в статье «Московские мыслители». Писарева тоже арестовали за какую-то неопубликованную статью, в которой он прямо призывал к свержению Романовых… Тургенев сообщил, что отдал свой новый роман «Отцы и дети» в катковский журнал — зачем это сделал Иван Сергеевич, для Плещеева было ясно наполовину: он знал, что Тургенев порвал с «Современником» окончательно. Но знал и прохладное, даже неприязненное отношение знаменитого писателя к «англоману» Каткову. А теперь вот новое произведение Тургенева в руках Михаила Никифоровича Каткова — что бы это значило?! «Нечего Вам говорить, как все почитатели Ваши нетерпеливо ждут этого романа; но не могу умолчать, что большая часть их скорбит: зачем он явится в «Русском вестнике». Что Вам за охота отдавать?» — запрашивает Алексей Николаевич Тургенева, но тот предпочел отмолчаться… Поистине в обществе что-то творится неладное. И где спасенье от такой взбаламученности и бездорожья?.. В минуты таких тревожных раздумий родилось у Алексея Николаевича стихотворение, которое он считал одним из наиболее удачных по художественной завершенности.
Как раз в сложный период 1862–1864 годов Алексей Николаевич, пожалуй, чаще, чем когда-либо, возвращался в своих стихах к проблеме предназначения поэта. Это было и своего рода продолжение спора с теми поэтами, чей талант он высоко ценил, но никак не мог понять их. как ему казалось, отрешенности от социальных вопросов жизни — спор с Афанасием Фетом, Аполлоном Майковым, Яковом Полонским и отчасти с Федором Тютчевым, было и стремление четче и яснее разобраться в собственной позиции в атмосфере продолжающихся репрессий. Плещеев по-прежнему не утрачивает веры в «свободную песнь воскресшего народа». В стихотворении «Опять весной в окно мое пахнуло…» поэт радостно говорит о «рое светлых дум», приходящих на смену «гнетущей тоски», преисполнен желания выйти в «поля родимой стороны» в ряду деятелей-пахарей, а не резонерствующих соглядатаев.
Все же правду говорят, что жизнь человеческая не минует года несчастий. Вот и для Алексея Николаевича, видимо, наступил такой год, тысяча восемьсот шестьдесят четвертый по календарю и тридцать девятый — со дня рождения. Тяжелым, самым трудным и трагичным оказался этот год. Сначала — известие о приговоре над Чернышевским. Временами казалось, что не возродиться уже больше живой, воспламеняющей мысли, а завещание, оставленное Николаем Гавриловичем — роман «Что делать?», написанный в Петропавловской крепости и опубликованный Некрасовым в «Современнике» сразу же, как только было получено разрешение на возобновление издания журнала в 1863 году, — затеряется в ворохе краснобайской болтовни либералов. Да, в безотрадные минуты так и думалось загоревавшему Алексею Николаевичу. В сентябре того же 1864 года до Москвы доходит еще одна печальная весть — весть о смерти Аполлона Григорьева. А ведь была надежда, что после возвращения из Оренбурга в Питер Григорьев снова обрел себя: его статьи «Стихотворения Н. Некрасова», «По поводу издания старой вещи», «Граф Л. Толстой и его сочинения», статьи о русском театре, опубликованные в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха», по-прежнему свидетельствовали о выдающейся проницательности бунтаря-идеалиста… И вот, говорят, новые беды свалились на Аполлона Александровича: попал в долговую тюрьму и умер через четыре дня после освобождения из нее. Освобожден, рассказывают, был генеральшей Бибиковой, пожелавшей купить его сочинения, каково?! Умер или погиб? Трудно сказать. Смерть Григорьева Алексей Николаевич переживал больноеще и потому, что память о неистовом искателе идеала невольно возвращала мысль к незабываемым сороковым годам, к Белинскому, Петрашевскому, ко всем тем, с кем мечталось светло и чисто. Нынче, пожалуй, по пальцам можно пересчитать тех оставшихся, с которыми еще поддерживаются какие-то отношения: Достоевские, Милюков… где-то в Пскове затерялся Спешнев, Дуров — в Одессе, Пальм — в Кишиневе, Владимир Милютин скончался, когда Алексей Николаевич жил еще в Оренбурге… «…Кажется, все, кто был «примерно» наказан и остался в живых, давно на свободе? Но на какой теперь свободе они, вышедшие из «мертвых домов», один из которых Федор Достоевский описал в свои «Записках…» так, что при чтении сердце кровью обливается?.. А братья Достоевские — молодцы! Не побоялись вот открыто выступить в своем «Времени» в защиту восставших поляков, хотя, наверное, и предвидели, какая участь может постигнуть их журнал. Не побоялись, потому что остались верными тому пониманию свободы, которое воспитали в себе в те незабываемые 40-е годы… Вот и Аполлон Григорьев, знакомство с которым произошло как раз в то время, тоже в известной степени был одним из «могикан» той поры, хотя и разошлись наши пути-дороги. Дороги-то наши разошлись, но почему же в душе ощущение невосполнимой утраты?..» Одно известие печальнее другого. Но никак не мог предполагать Алексей Николаевич, что роковой 1864 год уготовил ему удар непоправимый, утрату тягчайшую из всех доселе пережитых: 13 декабря 1864 года умерла любимая жена Еликонида Александровна — сыпной тиф оборвал жизнь 23-летней женщины, оставившей на руках мужа трех малолетних детей, — как перенес такое горе Алексей Николаевич, ведомо только ему одному… Мог ли думать Алексей Николаевич, что сон, рассказанный женой незадолго до болезни, окажется вещим?.. Плещеев хорошо помнит ту странную ночь: он сидел в своем кабинете, работал. Неожиданно раздавшийся в спальне резкий вскрик жены не столько испугал, сколько удивил его. Забежав в спальню, Алексей Николаевич еще больше удивился странному виду жены, сидящей на кровати с отрешенным лицом. — Голубушка, милая, что случилось? — Алексей Николаевич теперь уже не на шутку испугался. — Знаешь, Алеша, мне сейчас приснилось, что меня живую уложили в гроб и заколотили крышку на нем. — Помилуй, что ты толкуешь, любовь моя. Забудь про этот бредовый сон, забудь и успокойся. — Плещеев обнял Еликониду Александровну, стал ей рассказывать какие-то малозначащие истории об Оренбурге, которые сам узнал из письма, полученного от Е. И. Барановского. Он знал, что любая весточка об Оренбурге освещала душу жены приятным воспоминанием. Не ошибся Алексей Николаевич и на этот раз: жена вскоре успокоилась, а через несколько минут весело вспоминала свой первый выезд из Илецкой Защиты в оренбургский свет. И вот беда нагрянула, откуда ее вовсе не ждали: нянька, на попечении которой были Леночка и маленький Кока-Николенька (Саша уже считал себя «взрослым» и старался держаться от няни подальше), заболела тифом и заразила Еликониду Александровну. Болезнь неожиданно приняла столь обостренную форму, что врачи оказались бессильными приостановить ее, хотя и утешали Алексея Николаевича. «С середины вечера — очень дурно, — дорогой Алексей Михайлович. Прошлую ночь бред был ужасный; беспамятство полное продолжается до сей минуты… Доктор, впрочем, уверяет, что ход болезни правильный и никаких осложнений нет; но говорит, что это тиф сильнейший — настоящий больничный», — горюет Алексей Николаевич в письме к А. М. Жемчужникову. Но «правильный» ход болезни, увы, обернулся роком — Еликонида Александровна скончалась. «Я получил от вас письмо в такую страшную, роковую для меня минуту, когда не мог ни благодарить вас за участие, ни ответить на ваше предложение… Не зову вас теперь к себе. Я почти не бываю на своей квартире. Обедаю у матери, ночую на квартире Унковскогр. Тоска смертельная меня мучит, и никуда и никогда мне от нее не уйти; но дома — сердце мое еще больше разрывается. Там все — на каждом шагу — напоминает мне ту, с которой я был так бесконечно счастлив семь лет и чьей преданной самоотверженной любви не умел ценить достаточно…» сообщает теперь уже убитый горем Алексей Николаевич в другом письме А. М. Жемчужникову. Похоронили Еликониду Александровну на территории Новодевичьего монастыря, возле Смоленского собора…
Вначале беда виделась непоправимою, дальнейшая жизнь теряла всякий смысл. Первейшую помощь оказали друзья, а всепоглощающая любовь к детям — к осиротевшим Саше, Леночке и Николеньке — взывала к деятельности, возвращала Алексея Николаевича в русло нормальной жизни. Но сколько пришлось пережить ему, прежде чем страшная рана стала постепенно затягиваться?! Вот уж когда поистине много прибавилось седины в волосах, вот когда ощущение полнейшей безысходности оказалось пострашнее тех симптомов старости, на которые поэт недавно сетовал. В скорбные дни, переполненный невыразимым чувством опустошенности, Алексей Николаевич пишет реквиемный триптих «Памяти Е. А. Плещеевой».
НЕВЗГОДАМ ВОПРЕКИ
«О память сердца! Ты сильней Рассудка памяти печальной.Константин Батюшков.Мой гений
Больное сердце дорожит И призраком счастливых дней…Алексей Плещеев.Где ты, пора веселых встреч…
Итак, в год и чуть ли не в день своего сорокалетия видный русский поэт и прозаик Алексей Плещеев волею судьбы снова стал мелким чиновником одного из московских ведомств и вынужден опять тратить уйму времени на дела, к которым испытывал если не отвращение, то полное безразличие, хотя формально исполнял обязанности весьма исправно[40]. Чиновничья служба — постылая, нудная — с одной стороны, давала надежду на элементарное улучшение семейного бюджета, но с другой, — совершенно выбивала из творческой колеи. Вот и приходится отказаться от предложения Некрасова вести для «Современника» московскую хронику. «…Для этого нужно быть очень распространенным в обществе — нужно быть свободным человеком, а у меня большую часть времени отнимает служба. Мне сдается, что моя литературная карьера вовсе покончена. Порой, правда, является сильное желание работать, писать, но все это только порывами…» — с горечью сообщает Плещеев Николаю Алексеевичу в письме от 17 апреля 1866 года. А затем и вовсе отчаянные строки: «…Очень трудно живется, очень не красно жизнь сложилась — и, право, говоря без фразы и без всякого желания напускать на себя что-либо, — все чаще и чаще думаешь и все больше и больше убеждаешься, что наилучшее было бы перестать жить. Ребятишки, разумеется, еще привязывают меня к жизни — и покинуть их жаль, но, с другой стороны, — не лучше ли было бы им без меня? Сумею ли я сделать из них что-нибудь путное? Не выйдут ли из них, под моим влиянием, такие же бесполезные и бесхарактерные люди, каков я сам?..» Однако поэт и в минуты отчаяния остается поэтом. В этом же безысходном письме к Некрасову Алексей Николаевич восторгается стихотворением «старца» Тютчева «О, этот Юг! О, эта Ницца!..», опубликованным в «Русском вестнике», восторгается беспощадной правдивостью тютчевских строк:
Среди однообразной суеты периода службы в контроле ради хлеба насущного запомнился Алексею Николаевичу день 25 мая 1867 года. В этот день члены Артистического кружка, старостой которого Плещеев был избран по предложению А. Н. Островского, решили устроить банкет в честь приехавших в Москву на этнографическую выставку участников Славянского съезда в России — гостей из южных и западных славянских земель. Деятельнейшее участие во встрече славянских гостей и организации выставки приняли М. П. Погодин и И. С. Аксаков — руководители Славянского благотворительного комитета, созданного еще в 1858 году. Через Погодина и Аксакова, собственно, была организована и встреча славян с членами Артистического кружка — этого детища А. П. Островского (великий драматург относил день открытия кружка — 14 ноября 1865 года — к важнейшим событиям своей жизни). В новом помещении Артистического кружка, в бывшей гостинице Лабада, 25 мая 1867 года состоялся настоящий праздник. Гостей из Болгарии, Черногории, Хорватии, Словакии пришли приветствовать все виднейшие деятели культуры Москвы. Тут можно было увидеть не только непосредственных членов кружка — драматургов, артистов, музыкантов (а среди них, кроме «самого» Островского, были А. Ф. Писемскпй, молодой профессор Московской консерватории П. И. Чайковский, недавно сочинивший чудесную симфонию «Зимние грезы», все звезды Малого театра: А. П. Савина. С. В. Шумский, И. В. Самарин, М. П. Садовский, П. А. Стрепетова, П. Г. Степанов…), но и тех, кто непосредственно к кружку не примыкал, но поддерживал с кружковцами тесные отношения. Пришел, несмотря на преклонные лета свои, Иван Иванович Лажечников, пришел Николай Григорьевич Рубинштейн — директор и профессор недавно открытой Московской консерватории, пришли молодые профессора этой же консерватории Герман Августович Ларош и Николай Дмитриевич Кашкин… По прибытии славянских гостей вечер начался исполнением бетховенского трио (es dur) на фортепьяно, скрипке и виолончели; потом один из музыкантов сыграл на скрипке соло на славянские мотивы. А. Н. Островский в приветственном слове пожелал «славянскому миру единодумия и славы», выразил надежду, что пожелания эти в скором времени станут явью. На банкете было произнесено немало теплых слов в адрес гостей, речи выступавших нередко сопровождались шумными рукоплесканиями, но особенно восторженно участники банкета встретили выступление Алексея Николаевича Плещеева, который был в этот вечер, как говорится, в ударе. Сказав, как и все выступавшие, несколько приветственных фраз в адрес гостей, Алексей Николаевич, отталкиваясь от мысли Островского о единодумии и славе, неожиданно прочел на эту же тему сочиненное экспромтом стихотворение — неожиданно и для всех знавших о творческом кризисе поэта, и… для самого себя.
Особо утешительными переменами жизнь по-прежнему не баловала. Правда, в личной судьбе произошли изменения, скрасившие житье-бытье отца и вдовца Плещеева: в 1866 году Алексей Николаевич женится на Екатерине Михайловне Даниловой, урожденной Успенской. Первый брак Екатерины Михайловны с губернским секретарем сложился неудачно, и она была очень тронута вниманием, сердечностью и лаской Алексея Николаевича. А он, со своей стороны, чувствуя искреннюю привязанность к нему Екатерины Михайловны, ценя на редкость доброе ее сердце, проникся надеждой, что она сможет в какой-то мере заменить ему покойную жену, а детям — мать. Увы, доброта и привязанность новой его подруги никак не могли восполнить того чувства, что, видимо, навсегда унесла с собой в могилу незабвенная Еликопида Александровна, образ которой возвращал Алексея Николаевича к поэзии, возвращал исподволь, но настойчиво. И вот рождались стихи, посвященные памяти Е. А. Плещеевой-Рудневой: «Когда тебе молчанием суровым…», «Где ты, пора веселых встреч…» Это стихи-воспоминания, стихи-плачи по утраченному навеки, и свет воспоминаний уже «не греет, не живит», и все-таки «жизнь без них еще мрачней», ибо «больное сердце дорожит и призраком счастливых дней…». И, наверное, никто уже не сможет заменить ту, кто, «чиста, правдива и добра», шла об руку с поэтом по жизни в течение небольшого, но самого счастливого периода его жизни: Алексей Николаевич купил даже место для своей будущей могилы (!) на территории Новодевичьего монастыря рядом с могилой Еликониды Александровны, недалеко от Смоленского собора… Екатерина Михайловна, конечно, прекрасная женщина, много пережившая (ее прежний муж был, как писал Алексей Николаевич в одном из писем Н. А. Некрасову, «в полном смысле мерзавец, она рада была, что хоть кто-нибудь высказал ей участие, и ушла от него»), и Плещеев глубоко уважал ее. Но не было той любви и того трепетного чувства, а потому и не приходило «исцеление» от тоски по Еликопиде Александровне.
Но подлинной надеждой повеяло от письма Н. А. Некрасова, полученного Плещеевым в начале декабря 1867 года. Николай Алексеевич писал, что он снова возвращается к редакторской деятельности и теперь будет редактировать журнал «Отечественные записки», который он вместе с М. Е. Салтыковым-Щедриным приобрел у Краевского, и приглашал Плещеева в число постоянных сотрудников журнала. Предложение было более чем приятное для Алексея Николаевича, который отвечал Некрасову в письме от 8 декабря: «Многоуважаемый Николай Алексеевич! Сейчас получил Ваше письмо и сейчас же спешу ответить Вам. Разумеется, я весь к Вашим услугам. Кажется, Вы не могли сомневаться, что быть сотрудником журнала, редактируемого Вами, я считаю не только за особенное удовольствие, но и за честь. Все, что только напишется, пришлю Вам… Ведь, право, руки отнимались — работать никакой охоты не было, когда ни одного сколько-нибудь сносного журнала не было…» А в письме поэту-переводчику Н. В. Гербелю Плещеев тоже сообщает: «Некрасов писал мне об «Отеч. зап.». Я душевно порадовался, что наконец будет порядочный журнал. Теперь работать охота явилась, а то просто руки опускались. «Вестник Европы» тоже, вероятно, будет хорош — но я думаю, что некрасовский журнал должен выглядеть живее и разнообразнее». От редактора-издателя «Вестнпка Европы» М. М. Стасюлевича Плещеев тоже получил приглашение и также дал согласие выслать в журнал, если «напишется что-нибудь стоящее». Два солидных журнала, предложившие свои страницы издерганному житейскими невзгодами Алексею Николаевичу, — разве это могло не воодушевить?.. Старый литературный «волк» Плещеев отлично чувствовал, что возрождение этих двух журналов являет в значительной степени не только оживление русской литературы как искусства слова, но знаменует и некоторое раскрепощение социально-общественной мысли. Некрасов сообщил, что пригласил к сотрудничеству в «Отечественных записках» критика Писарева, что журналу обещали новые произведения Островский, Салтыков, Глеб Успенский, Слепцов. «Хорошо бы заполучить Некрасову в сотрудники графа Льва Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова, но те, памятуя старые обиды на «Современник», вряд ли согласятся: Толстой все свои новые произведения отдает в «Русский вестник», а Тургенев, Достоевский, Гончаров скорее предпочтут «Вестник Европы», нежели некрасовский журнал. Однако не исключается, что Некрасов сумеет поладить и с корифеями — Николай Алексеевич, безусловно, талантливейший редактор и положительно сделает журнал первым в России… И как все-таки приятно, что Николай Алексеевич вспомнил и обо мне, «старике». Плещеев теперь уже убежденно зачислял себя в категорию литературных стариков, на что имел и некоторое моральное право: прошло более двадцати лет с той поры, когда он волею Валериана Майкова был окрещен «первым поэтом» России… Воспоминания о Майкове растревожили душу, когда Алексей Николаевич, получив от Некрасова предложение прислать новые стихи для «Современника», пребывал в угнетенном состоянии. Новое, давно задуманное стихотворение вырисовывалось, увы, не очень жизнерадостным. «Как ты ошибся, милый друг юности, как бы ты разочаровался нынче, Валериан, узнав, что провозглашенный тобою «первый поэт» влачит жалкое существование мелкого чиновника и неудачника-литератора… Правда, насчет неудачника, может быть, я и преувеличил — ведь вспомнил же меня Некрасов и вспомнил, надо полагать, не только из жалости… И все же не оправдал я твоих надежд, дорогой Валериан, признаюсь, как на духу: не оправдал». Алексей Николаевич приподнялся из-за стола и подошел к зеркалу. «Седею, как говорят, не по дням, а по часам, даже в бороде появилось много седины, а еще года два-три назад я не замечал ее… Но что это я…» Плещеев вернулся к столу, взял чистый лист бумаги, карандаш. Весомые ложились на страницу строки:
Московская контора Императорских театров ежегодно приглашала Алексея Николаевича в качестве почетного члена конференции на экзаменах в Театральном училище. Плещеев пользовался большим авторитетом и уважением в Московской театральном среде, был дружен со многими видными актерами и никогда не упускал возможности расширить круг знакомства с театральней студенческой молодежью, ибо продолжал возлагать на юнее племя самые большие надежды, связанные с будущим русского искусства. Поэтому на экзаменационные конференции в Театральное училище приходил аккуратно, специально даже отпрашивался со службы. Под впечатлениями тесного общения со студенчеством и родилось стихотворение «Тосты», которое поэт впервые прочитал тоже на одной из встреч со студентами в Артистическом кружке. В письме к Марко Вовчок от 15 января 1871 года Плещеев рассказывает об этой встрече: «…На днях был я на студенческом обеде (12 января), но не на генеральном, а на том, где молодежь. Написались у меня на этот случай стихи, которые молодежь приняла с горячим сочувствием, и это сочувствие на несколько часов заставило меня самого помолодеть… Так хорошо прошел вообще этот день — и так я любил тогда то, что мне подумалось: а ведь будь я поставлен в менее тяжкие условия жизни, я бы еще, может быть, годился на что-нибудь путное и кому-нибудь мог быть полезен…» Энтузиазм и сочувствие, с которыми молодежь восприняла плещеевское «Тосты», можно понять: стихотворение действительно дышит энергией и задором, свойственными лучшим стихам автора «Вперед» в перу его наибольшего творческого подъема.
СЕКРЕТАРЬ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»
И отчего так сильно сердце бьется, Как билось в дни весны моей оно…Алексей ПлещеевРасстался я с обманчивыми снами…
Накануне нового 1872 года Алексей Николаевич вместе со всем семейством был уже в северной столице. Поселились Плещеевы в доме Фишера на Надеждинской улице, сняв несколько небольших комнат. Самую маленькую из комнат Алексей Николаевич, как всегда, взял себе и устроил в ней нечто вроде рабочего кабинета с письменным столом, книжным шкафом; здесь же был и поставлен диван для гостей и несколько стульев — вот и все убранство. Переезд, обустройство квартиры, хлопоты по определению Саши в 17-ю гимназию — все это на первых порах отнимало массу времени. Но самое неприятное — продолжающееся безденежье. Произошли неурядицы с переводом по службе: в Петербурге Алексей Николаевич был причислен к контролю, но без сохранения за ним ревизорского места, поэтому годовое жалованье его оказалась на 200 рублей меньше того, какое получал в Москве. В мае 1872 года Плещеев пишет Некрасову в Карабиху: «Настоящее мое положение, Николай Алексеевич, просто невыносимо. Будь оно хоть сколько-нибудь сносно, я бы никому не докучал, никого не тревожит. У меня нет каких-либо барских замашек, пет стремления к роскоши. Я бы только желал не нуждаться в необходимом, а дозволять себе того, что мне не по средствам, я счел бы не только недобросовестным, а просто подлым при моем положении — 100 р. я получаю в контроле и 75 р. от Вас[47]. Это мой постоянный доход. Литературой я здесь еще пока заработал немного. Я плачу за квартиру без дров 40 р., плачу за уроки детям 25 р., на стол выходит ежедневно от 2 до 3 р. Судите сами — что мне остается, Детей надо одеть, надо самому одеться… Часто бывает, что не спишь ночь и ломаешь голову, как бы завтра быть сытым! Настанет утро, и идешь искать где-нибудь три рубля. Случается, что не только на извозчика нет, но нечем заплатить за письмо, когда принесут его…» Расходы нависали неотвязно. Единственно, на чем еще мог «сэкономить» Алексей Николаевич, — это отсрочить плату за уроки детям, так как учителем их был чудесный человек, влюбленный в Плещеева, — Дмитрий Петрович Сильчевский (будущий известный библиофил и журналист, участник революционного движения), который мог, конечно, и подождать с расчетом. Сильчевский-то мог подождать, но Алексею Николаевичу было от этого еще конфузливее и горше… О трудностях своих, возникших в первые месяцы жизни в Петербурге, Плещеев пишет и другим своим друзьям — Е. И. Барановскому, А. М. Жемчужникову, хотя и с менее отчаянными жалобами, чем Некрасову, что вполне объяснимо: Алексей Николаевич все же не терял надежды выправить положение… Николай Алексеевич Некрасов всячески поддерживал своего бедствующего друга: на первых порах он почти избавил Плещеева от серьезной работы в редакции, хотя и выплачивал ему ежемесячное жалованье; кроме того, Некрасов неоднократно оказывал денежную помощь Плещееву и другим путем, и постепенно Алексей Николаевич воспрянул духом, особенно после того, как свозил ослабшую, переболевшую тифом Леночку к морю, где она на чистом воздухе заметно поправилась, — без «субсидий» Некрасова такая поездка была бы попросту невозможной. Но дружеская поддержка Николая Алексеевича отнюдь не ограничивалась деньгами. В редакцию «Отечественных записок» Плещеев хотя и был введен вполне официально, однако все ведущие сотрудники —от Салтыкова и Елисеева до Михайловского и Скабичевского — отлично понимали, что Некрасов мог вполне обойтись и без секретаря редакции и что здесь в первую очередь Некрасов руководствуется мотивами, несколько отвлеченными от насущных литературных забот журнала. Плещеев тоже прекрасно понимал, что его секретарские обязанности носят скорее символический, нежели практический характер, поэтому и не претендовал на руководящую роль в журнале. Однако литературный авторитет Алексея Николаевича был достаточно высок, а его близость к Некрасову и Салтыкову — общеизвестна, и он нередко воспринимался как молодыми авторами, так и подписчиками журнала в числе тех, кто определял направление «Отечественных записок». Со временем Плещеев и действительно займет свое место в числе виднейших сотрудников журнала, но в первый год секретарства Алексею Николаевичу чаще приходилось извиняться перед Некрасовым за бездействие, сетовать на невозможность отплатить журналу настоящей работой, потому что в этот год «жизнь сквозь строй гоняла» нового секретаря «Отечественных записок». Алексей Николаевич не в состоянии порой был даже заглянуть в дом на углу Литейной и Бассейной (дом, где жил Некрасов и помещалась редакция «Отечественных записок») в каждый понедельник, как было обусловлено секретарскими обязанности… Ох, как неловко пребывать в нахлебниках журнала! Надо поскорее бы изменить такое положение, Салтыков, передают, начинает сердиться… Постепенно жизнь стала все же налаживаться. Жену Екатерину Михайловну Данилову удалось пристроить помощником секретаря в журнале «Семья и школа», себе Алексей Николаевич взял дополнительную работу в Таможенном департаменте — все это в значительной мере способствовало пополнению скудного семейного бюджета. Леночка выздоровела, Саша поступил в гимназию — отцовскому сердцу отрада. И на службе Алексей Николаевич был «отмечен» — 20 июля 1872 года произведен в титулярные советники, хотя к такому «повышению» сорокасемилетний Алексей Николаевич отнесся совершенно безразлично. Наконец, кажется, с него снят тайный надзор — даже дышать стало вольготнее при этом известии… И литературная работа начала постепенно налаживаться, и в дела журнала Алексей Николаевич теперь уже вникает не как «временный приживальщик», а как полноправный член редколлегии: принимает деятельное участие в издании поэтического сборника для детей «На праздник», способствует публикации на страницах «Отечественных записок» поэмы Я. Полонского «Мими», переводит роман Э. Золя «Брюхо Парижа» и часть извлечений из этого романа (ныне более известного под названием «Чрево Парижа») публикует в летних номерах «Отечественных записок» за 1873 год. Хорошие отношения устанавливает Алексей Николаевич с молодыми постоянными сотрудниками журнала: Н. К. Михайловским, А. М. Скабичевским, а с другими членами редакции — Салтыковым и Елисеевым — Алексей Николаевич поддерживал товарищеские отношения уже много лет. С Григорием Захаровичем Елисеевым не было особой дружбы, но оба относились друг к другу с большим уважением, несмотря на некоторую обоюдную «недооценку»: Плещеев не признавал за Елисеевым серьезного критического таланта, а Елисеев, в свою очередь, иронизировал над беллетристическими сочинениями поэта, да и к стихам последнего тоже относился чуть высокомерно. Однако оба неплохо ладили как сотрудники-единомышленники — сказывалась, видимо, «закваска», полученная обоими во времена сотрудничества в «Современнике» при Добролюбове и Чернышевском. Не было полной близости у Плещеева и в отношениях с М. Е. Салтыковым-Щедриным, хотя добрые отношения между ними длились уже более двух десятков лет. В одном из писем А. М. Жемчужникову Алексей Николаевич дает такую характеристику Салтыкову: «…как талант, как сила — это человек незаменимый и заслуживающий всякого уважения, но любить его как человека трудно. Не раз пытался я с ним сблизиться, но пришел к убеждению, что это положительно невозможно. Это человек, смотрящий на все и вся сверху вниз; с ним чувствуешь себя тяжело, неловко. Деликатностью в отношениях он тоже не отличается. Я с ним постоянно был в хороших отношениях, но никогда в коротких, хотя знаю его двадцать лет, если не больше…» Но Салтыкова Плещеев очень уважал за «огромный талант», несоизмеримый с дарованиями остальных сотрудников журнала, за исключением разве только Некрасова, к которому Алексей Николаевич относился с большой любовью, потому что видел в нем всегдашнее горенье сердца, «без которого ум ничего не сделает путного и не оставит в людях следа». Ко времени прихода Плещеева в «Отечественные записки» из постоянных сотрудников журнала выбыл Николай Степанович Курочкин, с которым Плещеев был знаком еще по кружку Петрашевского. Не поладив то ли с Салтыковым, то ли с самим Некрасовым, Курочкин, заведовавший почти четыре года отделом библиографии журнала, неожиданно прекращает свою редакторскую деятельность как раз в первый год секретарства Плещеева. «Увольнение» Курочкина Алексей Николаевич считал недоразумением, так как высоко ценил редакторские способности Николая Степановича. Из других сотрудников журнала и постоянных авторов его Плещеев в первые годы подружился с Глебом Ивановичем Успенским, на талант которого возлагал большие надежды.
Несмотря на некоторые огорчения в первый год петербургской жизни, возникающие чаще всего из-за материальной нужды, и мелкие неприятности на ревизорской службе, которую, увы, приходилось еще пока тянуть, Плещеев не раскаивался, что покинул Москву. В «Отечественных записках» он, конечно же, найдет надежную опору — в этом сомнений не было, так как Некрасов обещает всяческую поддержку. И товарищей-единомышленников в Питере, пожалуй, побольше, чем осталось в Москве. Очень рад Плещеев встречам со старыми товарищами. Недавно навестил Федора Михайловича Достоевского, познакомился с его женой Анной Григорьевной — какая славная женщина! И как любит Федора, как верит в него! С самим Федором Михайловичем потолковать много не пришлось, но договорились встретиться в скором времени и… отвести душу. С Достоевским они непременно «побратаются», видно, что Федор искренне рад был встрече со старым другом. А вот некоторые другие московские приятели Плещеева, тоже переселившиеся в Питер, например, В. П. Буренин и А. С. Суворин, почему-то стали отчуждаться. Или это только кажется Алексею Николаевичу?.. Суворин по-прежнему ведь говорит о своей любви и признательности — когда-то он в плещеевском пальто и с рекомендательными письмами от Плещеева к В. Ф. Коршу и другим петербургским литераторам приехал из Москвы «завоевывать» северную столицу, — по почему-то не очень ему веришь. А вот Буренин уже не толкует о признательности — видимо, забыл все доброе, что для него делал Алексей Николаевич в Москве, когда Виктор Петрович приносил свои слабенькие стихи и слезно просил «пристроить» их… Алексей Николаевич пристраивал их в московских изданиях, рекомендовал даже Некрасову в «Современник». Некрасов, кажется, даже опубликовал несколько буренинских стихотворений… и получил недавно в ответ «благодарность»: в «Петербургских ведомостях» Буренин опубликовал фельетон, в котором вылил ушат грязи на «Отечественные записки»… Однако бог с ним, с Бурениным, с этим беспринципным борзописцем… Зато другие старые приятели — и Достоевский, и Некрасов, и М. А. Балакирев, и И. Ф. Горбунов и многие другие — остались верными дружбе, и это радовало. В первый год своей литературной жизни в Питере Алексей Николаевич много переводит: стихи Гейне, Прутца, Гамерлинга, прозу Э. Золя, пишет и оригинальные стихи, но мало. Задумывает написать монографию о Прудоне, вернее начинает работать над ней, ибо она задумана была давно, да все как-то руки не доходили приняться за нее. А в следующем 1873 году Плещеев деятельно включается в работу редакции «Отечественных записок». Более того: почти все члены редакции в этом году разъехались (Некрасов — в Чудово, а потом за границу, Салтыков — в свое подмосковное имение Елисеев — за границу), и почти вся тяжесть работы по редактуре легла на плечи Скабичевского и Алексея Николаевича. «Теперь только я и Скабичевский орудуем здесь», — сообщает поэт А. М. Жемчужникову. Трудновато приходилось, но и удовлетворение было немалое — воплощалось давнее желание по живому литературному делу… Теперь как Плещеев, так и Скабичевский приходят в редакцию не только по понедельникам, как прежде, а почти каждый день — работы накапливалось много: ответы корреспондентам, чтение рукописей, корректуры, приходилось вникать и в чисто организационные вопросы издания, которые вообще-то целиком велись исключительно Некрасовым и Салтыковым как главными редакторами журнала: вести переговоры с цензурой, с Главным управлением по делам печати. Поэтому Алексей Николаевич вынужден был нередко отпрашиваться со службы в контроле, тратить на журнальные дела даже редкие дни отдыха. «Я живу на даче в Стрельне… лишен всякой возможности наслаждаться даже скудной природой, какая есть под рукой, потому что сижу за срочной журнальной работой буквально с утра до поздней ночи…» — сетует Плещеев в одном из писем А. М. Жемчужникову. И все-таки работа не казалась изнурительной и бесполезней — журнал всегда выходил к читателям в срок и с неплохими материалами; тут, конечно, немалая заслуга принадлежала и А. М. Скабичевскому, взявшему на себя основную нагрузку по редактированию, несмотря на переживаемые им серьезные неприятности: по указаниям цензуры недавно была конфискована и уничтожена книга Александра Михайловича «Очерки развития русской мысли». И вообще в это время Плещеев и Скабичевский по-настоящему сблизились. Алексей Николаевич ценил большую работоспособность Скабичевского, его проницательность и эрудицию. Как раз в этот период Плещеев закончил большой очерк о Прудоне и опубликовал его в одиннадцатой книжке «Отечественных записок» за 1873 год. Сочинение Алексея Николаевича удостоилось похвального отзыва такого строгого читателя, как Иван Гончаров. Автор «Обломова», встретив Плещеева на Невском, к удивлению Алексея Николаевича, первый неожиданно заговорил о нужности и полезности плещеевского труда, отметив безыскусность, живость слога, точность и объективность изложения перипетий французского философа и экономиста. — И самое замечательное, Алексей Николаевич, в вашем сочинении то, что Прудона видишь очень живым человеком, всегда осторожным и в то же время непреклонным в своих реформаторских устремлениях. — Иван Александрович задумчиво поглядывал на прохожих, словно бы выискивая среди них поклонников и приверженцев идей Прудона. Но Плещеев знал, что Гончаров столь внимательно разглядывал публику только «для себя», знал, что правый глаз Ивана Александровича совсем «вышел из строя», поэтому напряженность гончаровского взгляда и производила впечатление задумчивости. «И все же этот шестидесятилетний старик держится молодцом». Плещеев окинул взглядом тучноватую и коренастую фигуру Гончарова, и ему живо представилась печальная встреча с автором «Обломова» более четверти века назад тоже на Невском, вскоре после трагичной кончины Валериана Майкова. — А знаете, Иван Александрович, когда я корпел над «Жизнью и перепиской Прудона», то часто обращался мысленно к образу незабвенного Валериана Майкова — вашего ученика и одного из лучших друзей моей юности. Мне почему-то казалось, что по психологическому складу Валериан и Прудон в чем-то близки — меня это даже поразило, когда я изучал переписку Прудона с родственниками. — Я не настолько хорошо знаком с эпистолярным наследием Прудона, чтобы делать какие-то обобщения, но никак не могу согласиться с вами относительно «родства» Валериана Майкова и Прудона. — Гончаров резко вскинул крупную голову, улыбнулся и добавил: — Валериан был прежде всего литературный критик и критик высшего разряда, он жил в мире искусства, а Прудон все-таки публицист-резонер, хотя и превосходный экономист-реформатор. — Да и Майков был превосходным экономистом, но я, Иван Александрович, имел в виду совсем другое, когда сказал о некотором психологическом родстве Валериана и Прудона: я имел в виду напор страсти, одержимости в отстаивании принципов. — Плещеева озадачило, что Гончаров вроде бы отделяет Валериана Майкова — общественного идеолога от Майкова — литературного критика[48]. Увлеченные, возбужденные, Гончаров и Плещеев еще долго продолжали беседу, прогуливаясь по Невскому, и это, пожалуй, была самая продолжительная их встреча с глазу на глаз за четвертьвековое знакомство. Иван Александрович, между прочим, заметил, возвращаясь к плещевской работе о Прудоне, что она является, по существу, чуть ли не первым добротным жизнеописанием выдающегося человека, написанным русским литератором, и посетовал на то, что заветы Пушкина, начинания Владимира Даля, Владимира Одоевского по написанию биографий лучших людей России все еще не получили должного резонанса в писательской среде. — Вот и вы, Алексей Николаевич, взялись за Прудона, а ведь и в нашем Отечестве есть немало славных мужей, достойных, чтобы об их деяниях писались книги. Только, ради бога, не сердитесь на старика и правильно поймите мое ворчание. А биографию Прудона, еще раз скажу, вы написали дельную и нужную. — Гончаров говорил это, ласково улыбаясь, и Плещеев понимал, что Иван Александрович хвалит его сочинение не ради любезности… Дома, в своем рабочем кабинете, Алексей Николаевич неоднократно возвращался мыслью к гончаровскому замечанию о невыполнении русскими литераторами заветов Пушкина. «А ведь старик очень и очень прав. В неоплатном мы пока долгу перед своими великими соотечественниками. Например, тот же Грибоедов, о бессмертной комедии которого Иван Александрович опубликовал недавно в «Вестнике Европы» превосходную статью, разве его жизнь и деяния не достойный пример для потомков?.. А сколько еще замечательных подвижников русской земли, о которых мы имеем самые скудные и весьма поверхностные представления…» Плещеев надолго задумался, вспоминая со всеми подробностями задушевный разговор с Гончаровым. Тепло отозвался о плещеевской работе, посвященной Прудону, и Некрасов, вернувшийся из заграничной поездки. Николаю Алексеевичу пришлись по душе и несколько стихов Плещеева, опубликованных в «Отечественных записках» в отсутствие главного редактора, особо удостоившего похвалы «Стариков» и «Теплый день осенний». В «Стариках» Николаю Алексеевичу, наверное, больше всего приглянулась мысль о небесполезности дороги, пройденной поколением «людей 40-х годов», иначе как еще расценить оброненную Некрасовым фразу: «А я и вправду почувствовал себя не совсем никудышным стариком, когда прочитал у вас, Алексей Николаевич, о том, что нынешняя молодежь и нас помянет добрым словом?» Ведь именно в «Стариках» есть строки о юности:
Все же скудный достаток в дом приносят литературные гонорары, несмотря на активное сотрудничество в журналах и газетах Петербурга, крупные публикации в «Отечественных записках»: в первом номере за 1874 год Плещеев поместил «Очерк жизни и деятельности Стендаля», в последующих номерах — переводы стихов Гейне, отрывки из трагедий Байрона «Сарданапал», ряд оригинальных стихотворений. И все-таки Алексей Николаевич стал подумывать об увольнении из контроля, надеясь, то постоянное жалованье за секретарство в «Отечественных записках» и сторублевое жалованье в «Биржевых ведомостях» (тоже за секретарские обязанности) помогут сводить концы с концами. «Очень уж опротивела мне эта служба», — сообщает он в письме Жемчужникову от 25 июля 1875 года и следом признается: «Работой никакой в газете (в «Биржевых ведомостях». — Н. К.) не брезгую: и романы компилирую, и фельетоны пишу, случается, и библиографию, и театральные заметки, что придется, лишь бы давали деньгу. Разумеется, для работы «по сердцу», для художественной работы не остается времени. Это та же служба, с той разницей, что здесь все-таки больше заняты и ум, и воображение…» Формально Алексей Николаевич еще продолжал числиться в контроле до января 1875 года, но, по существу, перестал ходить на службу еще с осени 74-го, целиком отдавшись литературной работе. В «Отечественных записках» Плещеев начинает играть все более видную роль[51], не претендуя, однако, на равновластие не только с Салтыковым или Елисеевым, но и с тем же Михайловским. И все-таки за три года постоянного сотрудничества в журнале он приобрел солидный авторитет, а секретарство свое теперь вовсе не считал синекурой, как в 1872 году. В семье тоже, слава богу, все пока хорошо. И хотя старший сын Саша вынужден был покинуть гимназию (отчислили из-за несвоевременного взноса платы за обучение), эта неприятность, кажется, выправляется. Саша пытался поступить в университет, но… неожиданно увлекся театром и подался в актеры недавно открывшегося Павловского театра — в Павловске Плещеевы каждое лето снимали дачу. Что ж, пусть испытает свою судьбу, может, и вправду у него артистическое призвание. Владимир Николаевич Давыдов — ведущий актер Александрийского театра, с которым Алексей Николаевич давно дружен, считает, что у Саши — несомненные актерские способности — дай-то бог, чтобы Давыдов не ошибся! Леночка тоже почти взрослая и обещает стать истинной красавицей. Кока-Николенька, видимо, станет военным — зачитывается книгами о войнах, а «Севастопольские рассказы» графа Л. Н. Толстого выучил наизусть. Узаконил, наконец, Алексей Николаевич и свои отношения с Екатериной Михайловной Даниловой, а вот их дочь Люба пока остается… всего лишь воспитанницей Плещеева — Правительственный Сенат отказал в первой просьбе Плещееву разрешить Любе принять фамилию и отчество Алексея Николаевича. Дети подрастают, кажется, получаются из них сердечные и отзывчивые натуры. Но догадываются ли они, чего стоило и стоит Алексею Николаевичу их воспитание и сравнительно безбедная для них жизнь? Саша и отчасти Леночка, видимо, догадываются, стараются отказываться даже от минимума удовольствии, которые Алексей Николаевич стремился все же доставлять своим детям. Они начинают понимать, что их отец, хотя и уважаемый, но очень бедный человек. Недаром и гости-то к отцу приходят не так уж часто, за исключением ежегодного дня именин 12 февраля, когда Плещеев устраивал маленький пир с чаепитием для самых близких друзей. Друзей у Алексея Николаевича и в Питере оказалось не так уж мало. Помимо давнишних, испытанных временем (среди них, кроме Некрасова и Салтыкова, А. Н. Островский, заглядывавший иногда в северную столицу, И. С. Тургенев в период своих редких приездов в Россию, II. Ф. Горбунов. И. З. Суриков, П. II. Вейнберг, М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи), появились новые, с которыми Алексей Николаевич сдружился тоже основательно и сердечно: это и Г. II. Успенский, и Н. К. Михайловский, и А. М. Скабичевский, и П. Д. Боборыкин, и брат П. И. Чайковского Модест Ильич, и актеры В. Н. Давыдов и М. Г. Савина. Друзей много, и есть среди них очень близкие, а всех все равно не пригласишь даже и на день именин — и квартирка. которую Плещеев снял в Поварском переулке, маловата, и стесненность в деньгах опять же не последнюю роль играла: вот недавно, несмотря на ходатайство Некрасова, Комитет литературного фонда отказал Плещееву в пособии «за отсутствием достаточного числа поручателей». Написал письмо Ф. М. Достоевскому с просьбой прислать рублей-150 в счет старого долга (той тысячи, которую Плещеев посылал Достоевскому в 1858 году в Семипалатинск), хотя и не очень хотелось тревожить Федора таким напоминанием — знал, что и сам-то Достоевский еле сводит концы с концами — наверное, не от хорошей жизни согласился стать официальным редактором «Гражданина» князя В. П. Мещерского… И встречи с другом юности стали редкие и больше случайные. В первый год, когда Плещеевы приехали в Питер, у Алексея Николаевича и Федора Михайловича бывали и задушевные беседы, и споры, теперь же видятся от случая к случаю. Житейская суета виновата или несхожесть литературно-общественных позиций? Оба считали. что скорее всего и то и другое, хотя и не высказывались об этом открыто при тех мимолетных и редких встречах на петербургских улицах, на литературных вечерах, у общих знакомых. Да Федор Михайлович мало где стал появляться: после публикации романа «Бесы», он получил репутацию «реакционера», ретрограда в некоторых кругах молодежи, да и кое-кто из литераторов тоже усматривает в романе чуть ли не окарикатуривание деятелей революционного движения, несмотря на опровержения самого Достоевского в «Дневнике писателя», который он начал вести в «Гражданине». Некрасов и Салтыков, резко полемизировавшие с Достоевским еще в середине 60-х годов, теперь и вовсе осерчали на старого плещеевского друга… Впрочем, роман «Бесы» Алексею Николаевичу тоже казался чересчур тенденциозным.
А в редакции «Отечественных записок» вызывали тревогу частые цензурные гонения: так, в 1874 году был арестован и уничтожен майский номер журнала за опубликование анонимной статьи Варфоломея Зайцева «Франсуа Рабле и его поэмы» и рассказов Г. Успенского «Очень маленький человек» и В. Короткова «Рекрутский набор». Возглавивший Главное управление по делам печати Василий Васильевич Григорьев — профессор-ориенталист С.-Петербургского университета, давнишний покровитель Плещеева по Оренбургу, тоже настороженно относится к направлению журнала. Беспокоило ухудшающееся здоровье двух главных редакторов: Некрасова и Салтыкова. Михаил Евграфович страдает ревматизмом, пробовал лечиться и за границей (осень и зиму 1875–1876 годов провел в Баден-Бадене, в Ницце, в Париже), но не очень-то успешно: вернувшись в Москву, снова захворал, часто стал выезжать в свое подмосковное имение Витенево и оттуда присылал мрачноватые письма, жалуясь на стеснение в груди и другие боли. А Николай Алексеевич, никогда не отличавшийся крепким здоровьем, с весны 1875 года почувствовал себя настолько плохо, что… заговорил о приближающейся смерти. По настоятельному требованию врачей ездил лечиться в Крым, в Ялту, но не чувствуется, чтобы здоровье его улучшилось — говорят, и болезнь-то у Некрасова- неизлечима — страшно представить, если она сведет Николая Алексеевича в могилу… В последние годы Плещеев привязался к своему покровителю и другу. «В эти три-четыре года, что я здесь, мне случалось провести с ним два-три вечера — таких, которые надолго оставляют след в душе», — пишет Алексей Николаевич в этот период в одном из писем А. М. Жемчужникову. «А ведь случись с Некрасовым беда, — тревожился Алексей Николаевич, — утрата для русской поэзии невосполнима, а для «Отечественных записок» дело может обернуться катастрофой… Конечно, характер Некрасова не назовешь открытым, как и у всякого смертного, есть у Николая Алексеевича качества, не совсем и не всех влекущие к нему, но они просто ничтожны в сравнении с теми, за которые нельзя не любить этой богатой, много перестрадавшей души, нельзя не преклоняться перед действительно титанической литературной и журналистской работой этого истинного подвижника нашей словесности…» Плещеев часто обращался мыслью к начальному периоду своего сотрудничества в «Отечественных записках», когда Некрасов попросту спас разуверившегося во всем, истрепанного нуждой чиновника Контрольной палаты Алексея Николаевича Плещеева. Вот и фотография, которую в те труднейшие дни подарил Плещееву Некрасов (датирована 30 мая 1872 года), подтверждает, как окрепла тогда их дружба, пожалуй, ни разу не омраченная и за все последующие годы… Нельзя сказать, чтобы Некрасов жаловал все писания Плещеева, нет. если ему что-то не нравилось, он говорил прямо, а порой и резковато, нередко отвергал предлагаемые в «Отечественные записки» плещеевские стихи, переводы. статьи, но и не скупился на теплые и сердечные слова, если Какие-то вещи ему нравились. А нравились Некрасову прежде всего те из стихов Алексея Николаевича, в которых Плещеев делал шаг из мира грез в мир реальной действительности. Но особенно ценил редактор «Отечественных записок» работу Плещеева-переводчика и популяризатора. Некрасов неоднократно высказывал похвальное слово в адрес плещеевских монографий о Прудоне и Стендале, а однажды, к величайшему удивлению Алексея Николаевича, наизусть процитировал целый абзац из его статьи об Анри Бейле (Стендале): «Книги Бейля можно назвать психологией в действии. Пз нее можно было бы извлечь целую теорию страсти, столько в ней маленьких новых факторов, которые все признают верными, но которых никто не замечал… Нужно читать его медленно или лучше перечитывать, и вы признаете, что он доставляет прочное наслаждение…» Некрасов, помнится, произнес эту фразу своим тихим голосом на одном из редакционных понедельников в присутствии Михайловского и Елисеева, хитровато поглядывая на последних, и как бы укоряя их: «Вот вы, мол, матерые критики, верно, никогда не способны извлечь, как Плещеев, теорию страсти, вам все голые идеи поскорее подавай». Плещеев тогда был приятно поражен не столько феноменальной памятью Николая Алексеевича (очерк о Стендале печатался в журнале вместе с третьей частью поэмы «Кому на Руси жить хорошо», поэтому Некрасов мог «специально» выучить цитату), сколько его неподдельным сочувствием к смыслу цитаты… «А что же, может быть, авторам нашего журнала как раз и недостает именно психологии в действии? — Алексей Николаевич неожиданно обратился мыслью и на другие грустноватые дела в журнале. — В самом деле, беллетристика у нас, увы, «прихрамывает». Нет сильных, будоражащих ум и сердце произведений. Из Владимира присылает свои повести-очерки Златовратский. Что ж, его «Крестьяне — присяжные» — вещь дельная, но читается, право, с трудом. Наверное, новый роман «Устои», над которым Златовратский работает и первые части которого уже прислал в журнал, будет небезынтересным с познавательной стороны, но вряд ли в нем найдутся страницы, способные доставить художественное наслаждение… Опять стала присылать в журнал свои повести Надежда Дмитриевна Зайончковская-Хвощинская, пишущая под псевдонимом В. Крестовский. Эта давнишняя знакомая Салтыкова, разумеется, не без способностей, некоторые ее вещи, например, «Учительница», очень недурны, но все равно ей далеко до уровня первостепенных беллетристов наших, которые, к сожалению, предпочитают публиковать свои вещи либо у Каткова, либо у Стасюлевича. Один Островский еще продолжает поддерживать тесные отношения с журналом, да и то не столь тесные, как кажется: «Снегурочку» почему-то отдал в «Вестник Европы»… Впрочем, «Отечественные записки»-опубликовали следом превосходные пьесы Александра Николаевича: «Волки и овцы», «Богатая невеста». И вскоре получили еще одну — «Правда — хорошо, а счастье лучше», в которой могучий дар драматурга проявился в полную мощь. Да, Островский еще «наш», а вот другие великаны обходят нас стороной. И Тургенев, и Толстой…» Недавно Некрасов и Салтыков поручили ему, Плещееву, обратиться с просьбой к Достоевскому, чтобы тот дал что-нибудь в «Отечественные записки», так как якобы обещал еще раньше Салтыкову передать журналу, помимо романа «Подросток», еще что-нибудь[52]. Обещать — обещал, а ничего не дает и после напоминания. Нет, и Федор, опубликовав «Подросток», по-видимому, не желает больше с нами сотрудничать… Грустновато, а рассчитывать на молодежь особенно не стоит, за исключением разве Глеба Ивановича Успенского, — это мощный талант, но ведь… один в поле не воин, как говорят… К тому же Глеб Иванович и не совсем здоров, и совсем не романист. А романы Боборыкина, конечно, погоды в журнале не сделают — тут надо прямо сказать при всей моей симпатии к милейшему Петру Дмитриевичу… Увы, его книги скорее напоминают не психологию в действии, а действие без психологии, действие мертворожденных персонажей, обреченных произносить фразы, пересыпанные терминами из позитивистского лексикона…» — печалился секретарь «Отечественных записок».
Лето 1876 года Плещеев со всем семейством, как и в прежние годы, провел в Павловске, часто выезжая в Петербург в основном по журнальным делам. С газетами Алексей Николаевич тоже продолжал поддерживать постоянные связи — как с «Биржевыми ведомостями», таки с «Голосом». Открывалась возможность наладить сотрудничество и с третьей газетой, обретающей силу: давний приятель Плещеева Алексей Сергеевич Суворин стал во главе «Нового времени». Но, сделавшись издателем «Нового времени», бывший фельетонист «Петербургских ведомостей» неожиданно резко начал менять свою политическую ориентацию, явно отказываясь от прежних весьма радикальных убеждений. А в обществе, и всегда-то неспокойном русском обществе, начался поистине небывалый подъем, охвативший все слои населения: он был вызван повышенным вниманием к освободительной борьбе на Балканах против турецкого ига, начатой в Герцеговине и Боснии в 1875 году и подхваченной в следующем 76-м Болгарией и Сербией. Восстание славянских народов против многовекового турецкого владычества встретило со стороны русских людей, переживших в свое время владычество татаро-монголов, полное сочувствие и поддержку. Благодаря деятельности Славянского общества и прежде всего его Московского комитета, возглавляемого И. С. Аксаковым, началось повсеместное формирование отрядов добровольцев для оказания помощи восставшим братским народам, в число этих добровольцев записывались не только мужчины, но и тысячи девушек, изъявивших желание поехать на Балканы сестрами милосердия. Возбуждение общественного внимания к событиям на Балканах в значительной мере приглушило интерес печати к внутренним вопросам — это особенно видно было по издаваемой А. С. Сувориным газете «Новое время». Сам издатель к этому времени от симпатий к Гелинскому и Чернышевскому, которые испытывал в 50-е—60-е годы, перешел в лагерь их противников; столь явная беспринципность бывшего демократа заставляла сомневаться и в искренности его патриотических проповедей за солидарность с движением балканских славян. Вообще-то Алексей Николаевич сначала с сочувствием отнесся к издательской деятельности Суворина, по вскоре понял, что Суворин, пожалуй, не нуждается в сочувствии старых друзей: карьера издателя «Нового времени» положительно шла в гору со стремительностью, которую, пожалуй, не знал никто из молодых журналистов. Уже в 1876 году Суворин собрал более 16 тысяч подписчиков, намного опередив по количеству последних все другие газеты, в том числе и «Голос» Краевского, где продолжал сотрудничать Плещеев. Но Алексей Николаевич видел, что бурная деятельность Суворина сродни «одержимости» С ужевого маклера, знающего только одну «святыню» — капитал, выгоду. Вот и теперь, когда события на Балканах приняли особенно напряженный характер, когда восставшие против турецкого ига народы Боснии, Герцеговины, Болгарии и Сербии ожидали помощи от России, Суворин стал рьяно, но вряд ли искренне, как полагал Плещеев, утверждать, что славянский вопрос нынче важнее всех внутренних вопросов, явно намереваясь извлечь из своих «патриотических» призывов определенный политический капиталец… Впрочем, Алексей Николаевич продолжал сохранять с А. С. Сувориным вполне добрые отношения, высоко ценя эстетический вкус своего давнишнего протеже, и прежде всего его способности как театрального критика…
События между тем накалялись: борьба балканских славян за свое освобождение с каждым днем усиливала подъем общественного движения внутри России, и стало очевидным, что в скором времени война между Россией и Турцией окажется неизбежной, особенно после того, как Сербия потерпела поражение в сербо-турецкой войне летом 1876 года. Добровольческое движение в России приобрело всенародный характер, за Дунай отправляются первые русские отряды, чтобы принять непосредственное участие в боях, — все это вынуждает царское правительство вступить в 1877 году в войну с Турцией. После блестящих побед русской армии на Шипке, под Плевной, зимнего перехода через Балканский хребет и взятия Андрианополя. в январе 1878 года между Россией и Турцией был подписан Сан-Стефанскип мирный договор, по которому Турция признавала независимость Болгарии, Сербии и Черногории[53]. Плещеев тоже был горячим сторонником освобождения балканских славян от владычества турок (встреча славянских гостей в Артистическом кружке девять лет назад и ныне грела дзшу приятными воспоминаниями), но склонялся в этом вопросе к позиции Некрасова и Салтыкова, считавших, что правительство использует широкое общественное движение русского народа в пользу братских народов для своих корыстных целей — такого мнения придерживались многие непосредственные сотрудники «Отечественных записок». Многие, но не все: находившийся в Париже один из авторитетнейших и постоянных авторов журнала Глеб Иванович Успенский уезжает осенью 1876 года в Сербию в качестве военного корреспондента «Санкт-Петербургских ведомостей» и оттуда шлет свои «Письма из Сербии», в которых все сим-п тип на стороне восставшего народа. Оставаясь верным своей главной задаче — способствовать развитию борьбы с «внутренними турками», — руководители «Отечественных записок» все же порой недооценивали великую силу патриотического движения в русском обществе, вызванного событиями на Балканах: пример тому — «Внутреннее обозрение» журнала в десятой книжке за 1876 год (оно написано, как предполагают, Г. З. Елисеевым), в котором автор весьма поверхностно иронизирует по поводу пожертвований крестьянского населения России в пользу борющихся с турками славян. Впоследствии Алексей Николаевич назвал это обозрение «странным»…
Все больше и больше начинает тревожить Плещеева состояние здоровья Некрасова: Николай Алексеевич, обреченный, угасал на глазах, и все посещавшие в эти дни и месяцы семьдесят седьмого года больного поэта понимали неотвратимость конца того, кто призывал своих собратьев:
Но весть о смерти Николая Алексеевича все равно показалась почему-то неправдоподобной. Ведь именно в этот день, 27 декабря 1877 года, Алексей Николаевич навестил Некрасова, и хотя тот показался ему почти совсем угасшим, известие о столь скорой кончине не хотелось принимать за истинное. Плещеев ехал 28 декабря в дом на углу Литейной и Бассейной, еще на что-то надеясь, еще почему-то веря, что непременно застанет Николая Алексеевича живым, с печально-страдательной улыбкой на исхудалом восковом лице… Увы, этим желаниям не суждено было сбыться — это Алексей Николаевич с болью понял, увидев возле дома огромное скопление людей и карет… В день похорон Некрасова 30 декабря выдался сильный мороз, но пришедших проститься с покойным была тьма-тьмущая. Тысячи людей сопровождали тело поэта до места захоронения на Новодевичьем кладбище, особенно много пришло молодежи. Такого грандиозного шествия долгие годы не знала северная столица России, это был, в сущности, первый случай демонстрации последних почестей Поэту и Гражданину, и, как засвидетельствовала газета «Биржевые ведомости»: «Поэту суждено было даже и самою смертью своею возвысить значение поэтического творчества в глазах русского народа». А для Алексея Плещеева смерть друга, покровителя, ближайшего по духу поэта, превосходного редактора-вождя стала утратой невосполнимой, самой тяжелой со времени смерти любимой жены Еликониды Александровны. Убитый горем, Алексей Николаевич даже и в день похорон не мог полностью оправиться от угнетенного состояния и мало вслушивался в речи ораторов на могиле покойного. Выступавших было много, опять же из молодежи, но Плещеев до конца и с полным вниманием прослушал только речь Ф. М. Достоевского. Федор Михайлович был тоже чрезвычайно взволнован, говорил горячо и страстно о заслугах покойного перед русской литературой и поставил имя Некрасова в один ряд с Пашкиным и Лермонтовым. Но стоило только Достоевскому произнести слова о месте покойного в истории русской словесности, как из толпы, окружавшей могилу, раздались протестующие возгласы: «Нет — выше! Выше!», эти возгласы были подхвачены тысячами людей — зрелище представлялось настолько величественно-впечатляющим и захватывающим, что Плещеев и сам непроизвольно вторил вместе со всеми: «Выше! Выше!», отлично сознавая стихийность, случайность такой оценки, но никак пока не подозревая, что стихийно возникший на могиле спор продолжится вскоре и в печати. А он, этот спор, завязался сразу же; уже в некрологических статьях, посвященных памяти Некрасова, можно было отчетливо обнаружить две далеко не одинаковые точки зрения на жизнь и деятельность поэта: одни явно стремились принизить значение Некрасова, называли его выразителем только определенного «кружка» (в отличие от Пушкина и Лермонтова, которые признавались выразителями всего русского общества), другие же отстаивали мнение, впервые заявленное во всеуслышание во время похорон Николая Алексеевича, и в полемической запальчивости снова отдавали певцу мести и печали «первое место на русском «поэтическом Олимпе». Алексей Николаевич Плещеев, опубликовавший в «Биржевых записках» № 334 статью-некролог «Н. А. Некрасов», невольно тоже как бы принял участие в полемике. Автор некролога, в частности, отметил, что еще во времена «Современника» Некрасов сумел «сгруппировать около себя… самые крупные литературные силы той эпохи и создать журнал, который имел огромное влияние на тогдашнее общество», сказал о глубокой человечности Некрасова, которую зачастую отрицали недоброжелатели и враги поэта, распуская о нем всевозможные небылицы и сплетни. «Некрасов никогда не оставался глух к нуждам своих сотоварищей по профессии, умел войти в положение писателя и не только оказать ему помощь, но оказать ее так. что она не оскорбляла самолюбия одолженного», — писал Плещеев и в полной уверенности добавлял: «Еще много голосов, без сомнения, раздастся в подтверждение моих слов». Самую высокую оценку дал Плещеев поэзии Некрасова, а четыре года спустя, в 1882 году, он опубликует в журнале «Устои» стихотворение «Памяти Н. А. Некрасова», в котором скажет такие слова о социальной сущности некрасовских песен:
После смерти Некрасова в состав основных редакторов «Отечественных записок» был введен Н. К. Михайловский, получивший к тому времени широкую известность как влиятельный литературный критик и социолог, особенно после публикации статей «Десница и шуйца Льва Толстого», «Теория Дарвина и общественная наука», а вскоре ставший, по мнению революционно настроенной молодежи, «властителем дум» нового поколения. Плещеев ценил большую эрудицию и яркий публицистический талант нового соредактора «Отечественных записок», но для него — человека, воспитанного на идеализме 40-х годов, имеющего в своем характере много черточек «кающегося дворянина» — так Михайловский иронически называл передовых деятелей дворянской интеллигенции 40—60-х годов, — не очень близки были идеи, развиваемые Михайловским в области «субъективной социологии» и в области политической экономии. Прекрасно понимая и принимая революционную устремленность Николая Константиновича, искреннее сочувствие его обездоленным и униженным, Алексей Николаевич все же видел, что идеалы нового «властителя дум» не столь стройны и последовательны, как, например, у Чернышевского, продолжателем дела которого считал себя Михайловский, и что гимн «сильной личности» грешит какой-то натужностью, ненатуральностью, как и абстрактная идеализация крестьянства как чего-то единого, непротиворечивого, но нуждающегося в пробуждении сознания. И. К. Михайловский был выразителем и одним из главнейших идеологов (наряду с эмигрировавшим за границу П. Л. Лавровым) нового этапа социально-политического движения в России — народничества, программные положения которого опирались на признание приоритета интеллигенции («критически мыслящей личности») как решающего фактора исторического прогресса. Однако народническое движение было далеко не однородным: группа народников-эмигрантов, поддерживающих Лаврова, придерживалась мнения, что подготовка революции должна вестись путем предварительной социалистической пропаганды в народе, другая группа, разделявшая точку зрения П. Н. Ткачева, считала, что революцию, освобождение народа может совершить партия заговорщиков, опирающаяся на якобы «разрушительно-революционную» силу народа, а Н. К. Михайловский, поддерживая связь с революционным подпольем (практическими деятелями возникших в конце 70-х — начале 80-х годов народовольческих организаций, ставящих своей целью уничтожение самодержавия, передачу земли крестьянам, установление демократических свобод), подчеркивал, что является сторонником преобразования общества с помощью реформ… властей предержащих. Идеи народничества получили распространение и в литературе, возникало целое течение демократической литературы (Н. И. Наумов, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, Н. Е. Каронин-Петропавловский), находившееся под воздействием теорий народников и в частности Н. К. Михайловского (идеи общинного социализма). Литературно-критические работы Михайловского Плещеев ставил высоко, вкусы обоих сотрудников «Отечественных записок» во многом совпадали: как и Плещеев, Михайловский решительно не принимал «вандализма» Писарева, отрицавшего гений Пушкина, высоко ценил талант Г. Успенского, молодого начинающего В. Гаршина. Но Алексей Николаевич видел огрехи Николая Константиновича и в плане чисто эстетическом, далеко не разделял категорически утилитарных взглядов критика на искусство; были расхождения и другого, более мелкого характера, но в целом отношения Плещеева и Михайловского и после смерти Некрасова оставались дружески надежными, не обретая, правда, особой близости — слишком разнились оба по психологическому складу. Плещеев симпатизировал Михайловскому и еще по одной причине: старый петрашевец догадывался (а может быть, и знал), что первый критик «Отечественных записок» поддерживает тесный контакт с нарождающимися народовольческими организациями, ищущими пути для осуществления практических задач, с юношеских лет занимавших автора «Вперед»… Далеко не все, даже многое не разделял Плещеев в программах народовольцев-практиков, вовсе не одобрял их методы борьбы с правительством (особенно террористическую деятельность), но искренне и горячо сочувствовал их самоотверженной устремленности к скорейшему преобразованию общества на основах «нравственного идеала» и крестьянского социализма. В стране свирепствует реакция. Один за другим идут политические процессы, из которых особенно крупные — «Процесс 50-ти» над труппой «москвичей» и «Процесс 193-х» — над участниками «хождения в народ», когда было арестовано несколько тысяч народников. Однако, несмотря на многочисленные аресты, революционное брожение в среде интеллигенции нарастало непрерывно. Сам Алексей Николаевич уже не был настроен по-бойцовски, как в 40-е или даже 60-е годы, однако душой он всегда был с теми, кто «жаждал правды, жаждал света», как скажет он в стихотворении, посвященном памяти Добролюбова и написанном к 20-летию со дня смерти великого «шестидесятника»[54]. И другие представители старой гвардии, работавшие бок о бок с Плещеевым в «Отечественных записках» (Салтыков-Щедрин, Елисеев), продолжали дело, завещанное Чернышевским и Добролюбовым, хотя, конечно, далеко не с той силой, как раньше. Салтыков, впрочем, и нынче необыкновенно силен, несмотря на непрестанную болезнь и всевозможные «подножки», которые ему ставят все верноподданные, начиная от Каткова и Суворина и кончая… В. В. Григорьевым — председателем Комитета по делам печати и, возможно, самим… государем императором. Самое удивительное, что Михаил Евграфович не только успешно обороняется, но и продолжает энергично атаковать врагов, наносить им чувствительные удары. Правительство давно жаждет расправы с «Отечественными записками», с теперешним главным редактором журнала, и, наверное, такая расправа скоро свершится, ибо Михаил Евграфович в отличие от Некрасова плохо «ладит» с начальством… Впрочем, пока еще дела в журнале идут совсем неплохо: «Устои» Златовратского положительно имеют успех у публики, с интересом читаются и новые повести Зайончковской-Хвощинской, то бишь В. Крестовского. Но лицо журнала по-прежнему определяют сочинения Салтыкова, Глеба Успенского, умные статьи Михайловского…
Тяжелое горе постигло Алексея Николаевича в 1879 году — скончалась мать Елена Александровна — самый родной, любимый на земле человек. Умерла Елена Александровна в довольно преклонном возрасте, после долгой болезни, уход ее из жизни не был неожиданностью, но разве от этого легче на сердце?.. Мать. Мама. В самые трудные минуты приходила Елена Александровна на помощь к своему дорогому и вечно «неудачливому» сыну, всегда была рядом, когда жизнь и вправду оборачивалась самыми черными гранями: тюрьма, ссылка, нежданно-негаданная смерть любимой жены, жуткие годы безденежья с тремя малолетними ребятишками на руках… И вот теперь уже больше никогда не придется видеть чуть печальный, чуть укоряющий, но всегда такой родной и ласкающий взгляд человека, который, может быть, понимал тебя как никто на всем белом свете… Умер, подточенный чахоткой, Иван Захарович Суриков. Алексей Николаевич любил Сурикова как сына, много надежд возлагал на своего ученика, и вот такая преждевременная смерть… Вспомнился приезд Сурикова в Петербург, вспомнилось, как тот, став теперь сам известным поэтом, продолжал благоговеть перед ним, Плещеевым, хотя Алексей Николаевич всегда немного конфузился от неподдельного обожания милого Ивана Захаровича… В газете «Молва» Плещеев поместит заметку-некролог, в которой воздаст должное дарованию поэта-самоучки и отметит, что «Суриков, несомненно, занимает весьма видное место» среди современных ему поэтов, особо подчеркнет горячую любовь покойного к литературе, его чуткость к явлениям общественной жизни… Все это — истина, но почему так часто приходится писать некрологи?..
После смерти Некрасова на Плещеева, помимо секретарства, были возложены еще и обязанности вести стихотворный отдел «Отечественных записок», что отнимало немало времени и энергии. Но и в этот период были кое-какие творческие удачи, а выход книжки стихов «Подснежник» обернулся, как признают многие, праздничным подарком русской детворе. Даже недруги поэта не решились на хулу, зато друзья не отмалчивались, выражая искреннюю благодарность автору «Подснежника». «Если в наше время трудно быть поэтом вообще вследствие известных особенностей нашей эпохи, то писать стихи для детей едва ли не еще труднее. Плещеев понимает эту трудность… Он согревал созданные им образы «собственным внутренним чувством», — писал рецензент «Отечественных записок» в пятой книжке за 1878 год. К творческим удачам относил Алексей Николаевич и кое-какие свои переводы (как стихов, так и прозы), считая, правда, эти удачи «вторым сортом утех». Не бросал поэт и драматургии, продолжал изредка сочинять и прозаические вещи, но такую работу делал в основном ради дополнительного заработке — материальная нужда, как и прежде, продолжала преследовать. Иногда исполнял такую работу «для денег» и не без удовольствия, как, например, перевод романа Альфонса Доде «Жак»: этого французского прозаика Алексеи Николаевич очень любил, находил в его произведениях много созвучного своим думам о жизни, но в целом все эти переводы, переделки, компиляции довольно здорово выматывали. Литературная поденщина порой становилась противнее недавней службы в Контроле, нередко было стыдно не только перед близкими друзьями, но в первую очередь перед самим собой, стыдно потому, что чувствовал в себе еще силы и на серьезное дело, а тратил их на ничтожные поделки, подписывая их различными криптонимами… И это в период, когда вся русская литература готовится к своеобразному смотру в преддверии июньских дней 1880 года — дней, посвященных памяти величайшего из русских поэтов Александра Пушкина.
Как назло, к концу мая Алексей Николаевич почувствовал недомогание и очень испугался, что не сможет поехать в Москву на пушкинские торжества. К счастью, недомогание прошло, и Плещеев принял участие во всех московских мероприятиях, связанных с чествованием великого Пушкина. Да и не мероприятия это были, а сплошной праздник во славу отечественной словесности, во славу гениального сына русского народа. Со всех концов страны съехались в Москву литераторы, деятели искусства, чтобы засвидетельствовать свое преклонение перед гением Пушкина. Кого здесь, в Москве, можно было встретить в эти незабываемые июньски дни? Да почти что всех, кто составлял цвет русской литературы, цвет русского искусства. Приехал из своего заграничного «уединения» Тургенев, приехали Достоевский, Григорович и вместе с «коренными» москвичами Островским, Писемским, Иваном Аксаковым деятельно включились в работу по проведению торжеств. К сожалению, по болезни не могли приехать в Москву Салтыков-Щедрин, Гончаров, отсутствовал и Лев Толстой, давая новый повод для обвинения в «капризности», и это был, пожалуй, действительно один из наиболее странных «капризов» яснополянского затворника. Петр Ильич Чайковский, братья Рубинштейны, Аполлон Майков, Полонский, Фет, с которыми Алексея Николаевича связывали долголетние приятельские отношения, видные ученые, общественные деятели, представители московского дворянства во главе с генерал-губернатором Долгоруковым, — все взволнованные, радостные… Нет, это не официальное торжество, а поистине национальный праздник русской культуры… Как старейший член Общества любителей российской словесности Плещеев тоже принимал непосредственное участие в организационных заседаниях, совещаниях, хотя и чувствовал себя еще не совсем окрепшим… Праздник начался 6 июня с торжественного открытия памятника великому поэту на Тверской площади и возложения венков к подножию памятника. А 7 июня в зале Благородного собрания состоялось первое публичное заседание Общества любителей российской словесности. На самое почетное место за громадным столом, установленным на эстраде, был усажен Иван Сергеевич Тургенев, которому еще вчера студенты Московского университета устроили шумную овацию по случаю избрания Почетным членом университета. Алексей Николаевич расположился за столом возле Аполлона Майкова и Якова Полонского, вел с ними непринужденную беседу, но внутренне очень волновался — ведь ему вскоре предстояло прочитать собственное стихотворение, посвященное великому Пушкину, стихотворение, написанное специально к празднику и никому еще не читанное. Тревожили не только переполненная аудитория (особенно много было молодежи), но и сам акт необычайной торжественности заседания, поэтому Алексей Николаевич склонялся к мысли прочитать свое стихотворение не на заседании, а за обедом, который должен состояться в этот же день в другом доме Благородного собрания — там обстановка, должно быть, чуть разрядится… Но вот Тургенев вроде бы ничуть не волнуется внешне, а ему сейчас выступать… Уверенно вошел на кафедру Иван Сергеевич, очень свободно и раскованно заговорил своим неизменившимся тонким голосом о «первом русском художнике-поэте», обращая большею частью свой взор к тем рядам, где преобладала молодежь. «Да, Иван Сергеевич приехал на пушкинские торжества в зените своей славы». Алексей Николаевич, слушая оратора, радовался, что тургеневские мысли о великом поэте во многом созвучны и его раздумьям. Тургенев закончил свою речь под шумные рукоплескания и несколько утомленный возвратился на свое почетное место за столом… Из других ораторов, выступавших после Тургенева, наиболее яркое впечатление своей темпераментностью произвели на Плещеева митрополит Макарий и академик Я. К. Грот. А вот за обедом всех покорил «Застольным словом о Пушнине» Александр Николаевич Островский. Чувствовалось, что слово свое о великом поэте драматург выстрадал, поэтому речь его лилась действительно «от полноты обрадованной души», захватывала внимание слушателей основательностью и страстностью мысли, глубиной проникновения в художественный мир поэта. Взволнованно и убежденно звучали из уст Островского слова о пушкинской школе в русской литературе, о самобытном складе русской мысли, русского характера, как никем подмеченных Пушкиным и не просто подмеченных, но и с непревзойденной художественной силой воплощенных в великих творениях поэта. Особенно восторженно восприняли участники обеда заключительные слова Островского, провозгласившего: «Я предлагаю тост за русскую литературу, которая пошла и идет по пути, указанному Пушкиным. Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Мы выпьем очень весело этот тост: нынче на нашей улице праздник». Да, русские литераторы с полным правом солидаризировались с Островским: это был первый и самый большой праздник на «их улице»… Стихотворение же свое «Памяти Пушкина» Алексей Николаевич прочитал на втором торжественном заседании Общества любителей российской словесности 8 июня, прочитал перед публикой, охваченной необычайным воодушевлением, вызванным пророческой речью Достоевского. Выступать вслед за Достоевским было трудно, Иван Аксаков даже отказывался от выступления, объяснив свой отказ тем, что после гениальной речи Достоевского «более нечего добавить». Публика просто неистовствовала, наэлектризованная страстной проповедью Федора Михайловича. В своей речи Достоевский не только дал исключительно емкое толкование гения Пушкина, во всей полноте воплотившего русский дух, самобытность русского народа и его всемирную отзывчивость: «…И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после него, не соединялся так задушевно и родственно с народным поэтом; Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк», — утверждал Достоевский и добавлял, что «…назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. Он высказал поистине пророческие мысли о будущем русского народа, России: «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей», вызвав у слушателей небывалый восторг и невообразимое ликование. Однако Плещеев, тоже сильно взволнованный речью Достоевского, не мог все же согласиться с некоторыми основными положениями этой речи и прежде всего со страстно развиваемой Федором Михайловичем идеей мессианской судьбы русского народа в истории человечества и с трактовкой Пушкина как глашатая такого мессианства[55]. Для Плещеева, воспринимавшего творчество великого русского поэта не столь многомерно, как Достоевский, Пушкин был прежде всего солнцем поэзии, провозвестником «красоты и правды», безукоризненной гражданственности, честнейшего служения Отечеству — эта мысль выражена уже в двух эпиграфах, предпосланных стихотворению «Памяти Пушкина»: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» и «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» Очень волновался Алексей Николаевич, когда ему предоставили слово, — публика все еще находилась под впечатлением гениальных откровений Достоевского. Однако, когда Алексей Николаевич, войдя на кафедру, громко произнес эпиграф: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — в зале раздались рукоплескания, а затем неожиданно наступила тишина, позволившая Алексею Николаевичу справиться с волнением и прочитать свое стихотворение с одушевлением, которого он уже давно не испытывал.
Пушкинский праздник обернулся для Алексея Николаевича своего рода поэтическим возрождением, и он снова почувствовал настоятельную потребность выражать сокровенные мысли в стихах, несмотря на то, что журнальная и газетная поденщина продолжала отнимать бездну времени. Конечно, душа наполнялась не только мгновениями радости, но и затяжными печалями непредвиденных бед. В самом деле: как можно восхищаться «пиром ликующей природы», если душа поражена утратами столь частыми, что «сияющий небесный купол» видится «могильным сводом», как скажет он в стихотворении «Бурлила мутная река…», смерть матери, Некрасова, Достоевского, Писемского, Сурикова — близких людей — злое предопределение какое-то! В стране атмосфера мрачная: после убийства народовольцами 1 марта 1881 года Александра II правительство обрушило репрессии отнюдь не только на террористические организации. Начались массовые преследования революционеров, подавлялась даже либеральная мысль. Правительство стремилось свести на нет результаты реформ 60-х годов, вводило ограничения в и без того скудные права в области просвещения, усиливало цензурный гнет в печати — все это в результате сыграло зловещую роль в приглушении общественного движения: перерождение народничества (исповедование теории «малых дел») в мелкобуржуазную оппозицию, пессимизм, разочарование в мироощущении стали преобладающими — недаром Н. С. Лесков назвал это время «пошлым пяченьем назад».
Вскоре после похорон Тургенева «Отечественные записки» подверглись новым правительственным гонениям. Второе предостережение было дано журналу еще в феврале 1883 года (за публикацию в январском номере «Современной идиллии» М. Е. Салтыкова-Щедрина), но затем наступило нечто вроде временного затишья. Но затишье оказалось недолгим и, самое грустное, обманчивым: правительство окончательно пришло к решению о закрытии журнала. После совещания в апреле 1884 года министров внутренних дел, народного просвещения, юстиции и обер-прокурора синода в «Правительственном вестнике» за № 87 было опубликовано «Правительственное сообщение», начинающееся следующими словами: «Некоторыеорганы нашей периодической печати несут на себе тяжелую ответственность за удручающие общество события последних лет…» И заканчивалось сообщение приговором, «обжалованию не подлежащим»: «Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Отечественных записок» не кажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества. Независимо от привлечения к законной ответственности виновных, правительство не может допустить дальнейшее существование органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ». 20 апреля 1884 года журнал «Отечественные записки» был закрыт навсегда, и ответственный секретарь этого журнала… снова оказался в ряду других уцелевших от репрессий сотрудников — «вольным» литератором без каких-либо постоянных средств для жизни.
В ОКРУЖЕНИИ МОЛОДЫХ СОРАТНИКОВ
Он был тем притягательным комельком, около которого без всяких партийных церемоний отогревались люди самых противоположных интересов.Иван Леонтьев (Щеглов)Из «Воспоминаний».
Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется, — И нам сочувствие дается, Как нам дается благодать.Федор Тютчев
В начале 80-х годов Плещеевы переехали из небольшой квартиры в Троицком переулке в более просторную — на Спасской площади, и эта новая плещеевская квартира стала местом постоянных встреч молодых людей, пробующих свои силы в литературе и попавших под дружески-отеческую опеку Алексея Николаевича. Еще в конце 70-х годов познакомились с Плещеевым и удостоились его трогательного расположения Всеволод Гаршин, Иван Леонтьев (Щеглов), чуть позднее — Семен Надсон, Константин Станюкович, Александр Круглов, в свою очередь, всей душой полюбившие Алексея Николаевича, сердечно привязавшиеся к нему, — ведь для большинства из них он был поистине литературным «крестным отцом». Молодые люди шли к своему Padre[57] на Спасскую, разыскивали его на даче в Павловске, где Алексей Николаевич чаще всего проживал летом, забегали по понедельникам в редакцию «Отечественных записок», оставляя на плещеевский суд свои стихи, рассказы, повести, пьесы… И всегда встречали со стороны пожилого седобородого «патриарха» — часто теперь прихварывающего, но сохранявшего всегда живую молодость духа, — самый радушный прием. «…Он действительно был истинный, любвеобильный и попечительный Padre для всякого начинающего поэта, беллетриста, драматурга, для всякого мало-мальски даровитого, вступающего в жизнь юноши…» — вспоминал И. Леонтьев (Щеглов). Плещеев был, конечно, не единственным из писателей старшего поколения, к кому тянулась литературная молодежь. Те же Гаршин, Надсон охотно и довольно регулярно посещали «пятницы» Я. Полонского, «среды» Л. Вейнберга, но, судя по их переписке между собой и с приятелями, нигде они не чувствовали себя столь свободно и раскованно, как в плещеевской квартире на Спасской. Рабочий кабинет Алексея Николаевича и в квартире на Спасской не отличался по обстановке и размерам от прежних и был, по свидетельству И. Леонтьева (Щеглова), как всегда, «уютно-тесным и трогательно-скромным». В небольшой этой комнате с двумя окнами размещался письменный стол, всегда заваленный рукописями, журналами, газетами; здесь же, на столе, бронзовый бюст Тургенева, в рамках — фотографии детей. Над диваном, что напротив стола, — тропининский портрет Пушкина, а на высоком книжном шкафу — гипсовый бюст Герцена. В простенке, между окнами, литографический портрет Белинского… Но молодые люди, когда собирались вместе, предпочитали большую часть времени проводить в зале, где музицировала Елена Алексеевна — дочь хозяина квартиры, а в кабинет самого хозяина заходили по одному, когда возникало сильное желание поделиться своими творческими замыслами с Padre. Заходили в дом на Спасской отнюдь не только в дни званых обедов или ужинов. Некоторых Алексей Николаевич приводил к себе весьма часто, особенно тех, к кому чувствовал большую симпатию, а то и отеческую любовь. К числу таких любимцев Плещеева и принадлежал Всеволод Михайлович Гаршпн, первый рассказ которого «Четыре дня», опубликованный в десятой книжке «Отечественных записок» за 1877 год, свидетельствовал о недюжинном даровании автора. Рассказ этот Гаршин выслал в журнал вскоре после ранения (он участвовал добровольцем в русско-турецкой войне на Балканах) из Харькова. А через некоторое время Гаршин объявился в Петербурге и сам навестил в один из понедельников редакцию «Отечественных записок», где и познакомился с Плещеевым. Алексей Николаевич сразу проникся сим-па тлей к нервному, впечатлительному, очень застенчивому офицеру, пригласил его к себе домой, и с тех пор Всеволод Михайлович стал одним из наиболее желанных посетителей маленького плещеевского кабинета в доме на Спасской. После публикации в «Отечественных записках» гаршинских рассказов «Происшествие», «Трус», «Встреча», «Художники» увлекающийся Алексей Николаевич везде и всюду, где ему приходилось бывать — у знакомых, в редакциях газет и журналов, — с восторгом говорил о молодом прозаике, называл Гаршина надеждой русской литературы. И очень обрадовался, узнав, что столь же высокую оценку творчеству Гаршина дали Тургенев и Толстой. Даже еще более посуровевший к старости Салтыков, кажется, благоволил Всеволоду Михайловичу. Однако Михаил Евграфович и тут, как всегда, озадачил Плещеева: не принял к печати чудесную вещь «Attalea princeps», назвав ее фаталистической. Плещеев же, напротив, усматривал в пессимистическом финале и подлинную правду безысходной окружающей действительности, и гимн «безумству храбрых». Но что мог сделать Алексей Николаевич в споре с непреклонным Михаилом Евграфовичем?.. Рассказ, правда, вскоре увидел свет на страницах нового журнала «Русское богатство» (редактировал его Н. Н. Златовратский), но «…как бы суровая непреклонность Салтыкова не отпугнула от «Отечественных записок» этого архиталантливого юношу», тревожился порой Плещеев. С Гаршиным Алексею Николаевичу вообще было всегда хорошо, несмотря на неровность характера Всеволода Михайловича. Плещееву импонировала довольно высокая культура молодого беллетриста, поэтичность мирочувствования, эрудиция, серьезное знание отечественной и западной литературы, естественных наук. Гаршин прекрасно разбирался в живописи, опубликовал еще до отъезда в армию несколько интересных статей в газете «Новости» о работах художников-передвижников, учеников Академии художеств… Радовало старого пропагандиста культуры, что среди представителей молодого поколения есть, оказывается, люди, не ограничивающие себя какой-то узкой областью знаний, смотрящие на искусство не только с утилитарной точки зрения. Не обходилось, разумеется, и без споров, даже небольших, но очень кратковременных размолвок: так, например, Алексей Николаевич совсем не одобрял гаршинского пессимизма, когда речь заходила о будущем России, но относился к этим «заблуждениям» своего собеседника с мудрой снисходительностью — зная о психическом нездоровье Всеволода Михайловича, Плещеев считал, что такие «заблуждения» являются следствием не столько убеждений, сколько… предубеждений, вызванных тяжелыми обстоятельствами жизни. Более критично реагировал Плещеев на увлечение Гаршиным некоторыми новыми толстовскими идеями (нравственного самоусовершенствования, самоотречения), ибо не принимал как раз то толкование, которое давал им сам Толстой. Однако частные разногласия не могли омрачить обоюдную привязанность двух людей, одаренных подлинным талантом человечности, — талантом сострадания. Особенно доверительные и теплые отношения между Плещеевым и Гаршиным установились, когда Всеволод Михайлович после двухлетних странствий — в 1880 году он, выйдя к этому времени в отставку, неожиданно занемог душевно, покинул Петербург, много скитался, а потом большей частью жил в Харькове — вернулся в Петербург с намерением «обосноваться основательнее»: женился, поступил на службу секретарем канцелярии Общего съезда представителей русских железных дорог. С этого времени до самой трагической кончины Гаршин почти безвыездно жил в Петербурге, продолжал часто навещать плещеевскую квартиру на Спасской, где познакомился и подружился с двумя молодыми офицерами, обласканными Алексеем Николаевичем: капитаном И. Леонтьевым (Щегловым) — прозаиком, драматургом, публицистом и недавним выпускником Павловского военного училища подпоручиком С. Надсоном — поэтом, имя которого обретало популярность. И. Леонтьев (Щеглов), как и Гаршин, был участником-добровольцем военных сражений 1877–1878 годов (только на Кавказском фронте), но теперь намеревался уйти в отставку и посвятить себя литературе. Мечтал о том же и С. Надсон. До самозабвения увлеченный театром (на этой почве и сошелся с Плещеевым), Щеглов больше пропадал в актерской среде, а вот Гаршин и Надсон очень часто стали встречаться, вместе бывать на вечерах у Полонского, Вейнберга… Гаршин и Надсон, несмотря на некоторую возрастную разницу, считали самих себя детьми одного поколения и даже несколько общей судьбы: тот и другой — офицеры, оба разделяли идеи части народнической интеллигенции, охваченной в это мрачное реакционное время скепсисом, трагической безысходностью, с одной стороны, и в то же время продолжающей подспудно верить в «вождей и пророков», способных стряхнуть «тяжесть удушья и сна» (Гаршин, правда, и в «вождей» уже не верил); тот и другой с горечью признавали надломленность своих духовных сил. Все это, как и общность эстетических воззрений, способствовало скорому установлению между Всеволодом Гаршиным и Семеном Надсоном дружеских отношений, чему, конечно, не мог не радоваться Плещеев. А Надсон боготворил Плещеева, считал его своим единственным «литературным крестным отцом». «Бесконечно обязан его теплоте, вкусу и образованию, воспитавшим мою музу», — вспомнил Надсон в «Автобиографии», в которой трогательно рассказал и о первом своем знакомстве с Плещеевым: «…Темно и скверно было кругом, но на душе моей цвела и горела радужным блеском самая нарядная, самая благоуханная весна: вечер, о котором я вспоминаю, был вечером первого знакомства с маститым известным поэтом Плещеевым, обратившим внимание на мои стихи, напечатанные в журнале «Слово» и письменно пригласившим к себе «потолковать и познакомиться». Я был как в чаду. Перед глазами моими неотступно стояла высокая, широкоплечая фигура с благородным и добрым лицом, с белыми волосами, откинутыми назад, и широкой «патриархальной» бородой, упадающей на грудь. Я слышал еще этот несколько глухой и усталый, но мягкий и задушевный голос, и светлые перспективы широко открылись передо мной». И действительно, после первой же встречи Надсона с Плещеевым перед юношей открылись двери… в самый авторитетный литературный журнал. Кроме того, Алексей Николаевич, почувствовав в Надсоне серьезный поэтический дар, истратил немало сил и энергии, чтобы создать для развития этого дара максимум благоприятных условий, давая непосредственные советы и рекомендации молодому поэту по отделке стихов, пропагандируя творчество Надсона, где только представлялось возможным: знакомым редакторам журналов и газет, на литературных вечерах, в письмах к деятелям искусства[58]. Старых друзей оставалось все меньше и меньше (Островский и И. Аксаков — в Москве, а Салтыков дружить «не умел»), а натура у Алексея Николаевича всегда жаждала сердечной привязанности, коротких общений, не ограниченных иссушающими душу деловыми отношениями. Потому-то и приглашает Алексей Николаевич в свой дом молодых поэтов, прозаиков, драматургов, ночи напролет читает их пусть еще шероховатые по отделке, но искренние, взволнованные стихи, рассказы, повести и, если находит в них «искру божью», то прилагает все усилия, чтобы эти стихи, повести и рассказы пошли к читателям — в этом Плещеев видел свой прямой долг опытного литератора, неравнодушного к судьбам отечественной словесности. Читает, восторгается, но иногда и ворчит, по-отечески упрекая своих молодых друзей, что работают они не в полную силу. «Я прочел Гаршина. Рассказ хорош, оставляет впечатление, но от Гаршина ждешь большего», — пишет Алексей Николаевич 18 октября 1883 года Надсону, прочитав гаршинский рассказ «Красный цветок». И добавляет: «К январю или февралю Вы обязаны дать хорошее стихотворение в «Отечественные записки». Слышите ли — хорошее, а не только недурное». Строгую, весьма критическую оценку дает Плещеев стихам Д. С. Мережковского — восемнадцатилетнего юноши, которого Надсон привел однажды в плещеевский дом. Уже в первых стихах «Мережка», как прозвал Алексей Николаевич Мережковского, старый поэт уловил мистический туман и расплывчатость мысли… Стихийно возникшее содружество молодых литераторов под покровительством Padre — Плещеева укреплялось: Щеглов и Надсон добились отставки и целиком отдались литературной работе, Гаршин, казалось, совсем выздоровел. Однако с закрытием «Отечественных записок» все почувствовали себя неуютно. Сам Плещеев опять попадает в капкан безденежья, снова через посредничество А. С. Гацисского пытается продать свое княгининское имение, но терпит неудачу: хотел продать землю крестьянам, однако те требовали рассрочки на многие годы, что для Алексея Николаевича в сложившейся ситуации было неприемлемо. А кулакам продавать не хотел, опасаясь, что «кулак… сок из крестьян выжимать станет». Надеялся еще Плещеев получить 800 рублей из Ярославля (сумма, удержанная банком при выкупе материнского имения в Пошехонье) и тем самым рассчитаться хотя бы чуть-чуть с долгами, но ожидаемой суммы не получил. Долги растут, литературные гонорары становятся совсем ничтожными, снова подступает противное, опустошающее чувство бренности жизни. И здоровье ухудшается: «сильные сердцебиения бывают и одышка», — сообщает Алексей Николаевич в одном из писем И. Щеглову…
Уже совсем было отчаялся Алексей Николаевич. «…Сколько приходится терпеть всяких неудач и невзгод, что порой совсем опускаются руки, и, не видя ничего лучшего впереди, рад был радешынек, если бы поскорей пришла на выручку смерть. Это без фраз и без всякого рисования. Просто устал нравственно и физически…» — «жалобится» Плещеев в письме к А. С. Гацисскому в январе 1885 года, но тут же делится с адресатом и приятной новостью. «Здесь затевается журнал, редакция которого рассчитывает на ваше сотрудничество. Редактором его должна была бы быть не безызвестная вам, вероятно, Анна Михайловна Евреинова (доктор прав), уже просившая меня списаться с вами. Тут сгруппировался бы кружок очень порядочных людей…» «Затевавшийся» журнал станет выходить с сентября 1885 года под названием «Северный вестник». В этот журнал Алексея Николаевича пригласили редактором беллетристического отдела «за очень хорошее вознаграждение», как писал он тому же А. С. Гацисскому, что в значительной степени избавляло поэта от беспросветного бедственного существования, которое снова угрожало ему. Но не только ради «хорошего вознаграждения» согласился Плещеев работать в «Северном вестнике», а прежде всего потому, что возлагал надежды видеть журнал с «дельным направлением»: к сотрудничеству в нем приглашались многие бывшие авторы и сотрудники «Отечественных записок», да и редактор журнала Анна Михайловна Евреинова заслуживала доверия — видная деятельница женского движения, первая из русских женщин, удостоенная в 1875 году в Лейпцигском университете звания доктора права, уважаемая людьми, близкими по духу Алексею Николаевичу… В горестную пору после закрытия «Отечественных записок» Плещеев, несмотря на трудности жизни, не прекращал собственного творчества. Правда, много хлопот доставляли проблемы «пристройки» сочинений в печати: в «Русской мысли», на сотрудничество в котором надеялись многие из авторов «Отечественных записок», публиковаться из-за придирок цензуры почти не было возможности, и Плещеев вынужден обращаться в такие незначительные издания, как «Еженедельное обозрение» и «Театральный мирок»[59]. И с открытием «Северного вестника» Алексей Николаевич энергично включился в число постоянных авторов журнала, публикуя на его страницах компилятивную монографию «Публика и писатели в Англии в XVIII веке», цикл переведенных им стихов английского поэта-демократа Томаса Мура, «Ирландские мелодии» которого с увлечением переводил раньше. Но значительную часть времени в этот период Плещеев отдавал организационной журнальной работе, стремясь привлечь в число сотрудников и авторов «Северного вестника» лучшие литературные силы. И тут тоже было не все просто. Отказался от сотрудничества М. Е. Салтыков-Щедрин: больной, ставший совсем раздражительным и обидчивым, Михаил Евграфович не пожелал печататься в подцензурном «Северном вестнике» и попросил Плещеева «прозондировать почву» в бесцензурных изданиях. Жаль, конечно, что Салтыков пренебрегает услугами нового журнала, однако и его можно понять: столько он перетерпел от цензуры, особенно в последние годы… Другие сотрудники «Отечественных записок», в числе которых были Г. И. Успенский, Н. К. Михайловский, A. М. Скабичевский, тоже, как и Плещеев, были приглашены в «Северный вестник» и вместе с Алексеем Николаевичем сыграли в первые годы определенную роль в формировании «физиономии» нового журнала. Но редакция «Северного вестника» делала основную ставку на молодые литературные силы, и здесь Плещееву, безусловно, принадлежала первостепенная роль как человеку, пользующемуся не только безукоризненной репутацией, но и искренней, большой любовью у молодежи. Алексей Николаевич, став одним из редакторов «Северного вестника», сразу же привлекает к сотрудничеству и Гаршина, и Надсона, и Леонтьева (Щеглова), и Круглова… С большим интересом приглядывается Алексей Николаевич к молодому новеллисту Антону Чехову, часто помещавшему свои рассказы на страницах юмористических журналов «Осколки», «Стрекоза», в суворинской газете «Новое время» и выпустившему сборник «Пестрые рассказы». Не все в этом сборнике было Плещееву по душе, смущала некоторая легковесность молодого писателя, этакая вызывающая разбросанность, но в лучших вещах Чехова Алексей Николаевич проницательно улавливал подлинную зоркость художника, его глубокий ум и предсказывал в беседах с товарищами блестящее литературное будущее веселому, «многописучему» и… лично неизвестному пока писателю. Из литераторов среднего поколения Алексей Николаевич выделял К. М. Станюковича, хотя весьма прохладно и даже иронично относился к его пухлым романам на бытовые темы, считал их «хуже боборыкинских», то есть не художественными вовсе… Но Плещеев, сам толком не зная почему, верил в талант Станюковича[60], испытывал к нему и большую личную симпатию. Когда в 1885 году Станюкович был обвинен в связях с русскими революционерами-эмигрантами и приговорен к ссылке в Томскую губернию, то Алексей Николаевич, рискуя репутацией «благонадежного», полученной, к слову сказать, не так уж и давно, пришел проводить Константина Николаевича в дальнюю дорогу. Еще в бытность секретарем «Отечественных записок» Плещеев внимательно читал произведения неизвестного очеркиста с Урала, публикующего свои произведения в журналах «Дело», «Устои», «Вестник Европы» и подписывающего их либо Д. Мамин, либо Д. Сибиряк. Особенно понравился Плещееву роман «Приваловские миллионы», опубликованный в 10 номерах журнала «Дело» в 1883 году. Понравился масштабностью, прекрасным знанием жизни уральского края, его заводского быта. А вскоре Д. Сибиряк прислал большой очерк «Золотуха» и в «Отечественные записки», который Салтыков принял весьма доброжелательно. Затем Д. Н. Мамин-Сибиряк опубликовал в «Отечественных записках» очерк «Бойцы» и роман «Горное гнездо», и Алексей Николаевич с удовлетворением видел, как растет мастерство уральского прозаика, как мужает дарование этого «провинциального бытописателя». Однако Мамин-Сибиряк жил где-то в Екатеринбурге, отношения поддерживал в основном только с Салтыковым, а Алексей Николаевич был, в сущности, только читателем незнакомого уральца, которому, по словам Михаила Евграфовича, немногим больше тридцати лет — возраст не совсем, конечно, юношеский, однако сравнительно молодой, вселяющий надежду на дальнейший рост, будущее развитие… А к молодежи (и не только литературной) Алексей Николаевич поистине «питал слабость», связывал с молодым поколением все надежды на будущее Родины, верил в ее силы, несмотря на жестокость правительственных репрессий, непрекращающиеся аресты, судебные процессы, верил, что она, молодежь, не уронит «знамя правды вечной и святой», та самая молодежь, от представителей которой получил Алексей Николаевич так много приветствий в дни, когда праздновался 40-летний юбилей его литературной деятельности.
Чествование 40-летней литературной деятельности Алексея Николаевича в Петербурге и в Москве состоялось несколько позже 60-летия поэта — последнюю дату Плещеев отметил, как всегда, очень скромно, в узком семейном и дружеском кругу, о чем сообщал, между прочим, чуть с грустинкой и чуть иронически в письме С. Я. Надсону от 23 ноября 1885 года: «Вы, конечно, не подозреваете, что вчера, в день моего рожденья (мне исполнилось 60 лет, невеселый возраст!), Вы вместе с некоторыми юными поэтами преподнесли мне адрес с выражением сочувствия за то, что я на старости лет не исподлился. Инициатива шла от милейшего Всеволода Михайловича Гаршина, который не только сочинил и собственноручно написал этот задушевный и очень тронувший меня адрес, но и подписался за Вас…» Адрес, сочиненный Гаршиным, выражал Алексою Николаевичу горячую признательность молодежи за помощь, которую Плещеев оказывал начинающим писателям. Некоторые из старых литераторов (Я. П. Полонский, И. А. Гончаров), не зная содержания адреса, выразили Плещееву сожаление, что составители адреса не известили их, и прислали отдельные письма юбиляру, исполненные тепла, задушевности, признания литературных заслуг Алексея Николаевича. Однако поздравления по случаю 60-летия в большинстве своем ничуть не отличались от тех, которые Алексей Николаевич получал ежегодно, а вот чествование его сорокалетней литературной деятельности 15 января 1886 года обернулось для поэта праздником, которого он и не чаял. Сам Алексей Николаевич всегда считал свою литературную деятельность «рядовой», никоим образом не заслуживающей какой-то славы. И потому очень любил читать в кругу своих молодых друзей переведенные им незадолго до юбилея стихи из «Ирландских мелодий» Томаса Мура:
Антон Павлович Чехов к этому времени поддерживал уже тесные контакты с рядом петербургских литераторов: публиковал свои рассказы в «Новом времени» Суворина, переписывался с маститым Григоровичем, которого очень высоко ценил и который, в свою очередь, первым из крупных писателей выделил Чехова из среды молодых беллетристов, отметил настоящий талант молодого рассказчика и советовал ему бережно и серьезно воспитывать дарование, бросить газетные побрякушки и написать что-нибудь крупное. Дмитрий Васильевич Григорович «натолкнул» на Чехова в какой-то мере и Плещеева, расхваливая однажды на заседаниитеатрально-литературного комитета рассказы малоизвестного Чехонте. Алексей Николаевич, недолюбливавший Григоровича еще с юношеских лет, не особо доверявший и вкусу автора «Антона Горемыки», на этот раз сильно заинтересовался новым кумиром Дмитрия Васильевича и внимательно прочитал «Пестрые рассказы» Чехонте — Чехова. Прочитал и почувствовал в авторе первостепенного художника слова, стал внимательно следить за всеми публикациями молодого новеллиста, радовался его крепнувшему мастерству. Новый чеховский сборник рассказов «В сумерках» особо пленил Алексея Николаевича поэтичным изображением природы. «Когда я читал эту книжку, передо мной незримо витала тень И. С. Тургенева. Та же умиротворяющая поэзия слова, то же чудесное описание природы», — рассказывает Плещеев одному из знакомых. А в декабре 1887 года состоялось и личное знакомство Плещеева с Чеховым. Чехов приехал из Москвы в Петербург 30 ноября, остановился в гостинице «Москва», где его 9 декабря «подкараулил» жаждущий познакомиться с ним Иван Леонтьевич Леонтьев (Щеглов). А на следующий день по просьбе Антона Павловича Леонтьев ведет Чехова к Плещееву. «Алексей Николаевич при виде Чехова пришел в некоторое трогательное замешательство… И вот не прошло получаса, как милейший А. Н. был у Чехова в полном «душевном плену» и волновался, в свою очередь, тогда как Чехов быстро вошел в свое обычное философско-юмористическое настроение… Загляни кто-нибудь случайно тогда в кабинет Плещеева, он, наверное бы, подумал, что беседуют давние близкие друзья… Да, явился Чехов к Плещееву почти чужим человеком, а вышел от него закадычным приятелем…» — вспоминал Щеглов. В следующую встречу все трое (Плещеев, Чехов и Щеглов) и в самом деле уже закадычными приятелями обедают в ресторане, где Антон Павлович своими бесподобными импровизациями окончательно влюбил в себя старого поэта. В этот день Алексей Николаевич подарил Чехову свою книгу «Стихотворения А. Н. Плещеева», изданную в 1887 году и включившую в себя почти все стихи и переводы поэта за 40 лет (с 1846 по 1886 год) с надписью «Антону Павловичу Чехову на добрую память от автора»[62]. За день до отъезда из Питера Антон Павлович еще раз навестил гостеприимную квартиру Алексея Николаевича на Спасской, где встретился и познакомился с некоторыми из плещеевских друзей, среди которых был и В. М. Гаршин. С этого периода между Плещеевым и Чеховым завязывается интенсивная переписка, этот же период можно с полным основанием считать прологом к постоянному сотрудничеству Антона Павловича в «Северном вестнике». Следуя советам Григоровича, Короленко и, наконец, откликаясь на просьбу Плещеева написать что-либо для «Северного вестника», Чехов с увлечением берется за первую свою крупную вещь — повесть «Степь». В письмах к Алексею Николаевичу Чехов подробно делится замыслом этого произведения, называя его «степной энциклопедией», высказывает сомнения в своих силах, опасаясь сорваться «с того тона, каким начал», и, между прочим, обращается к старому поэту с такой просьбой: «Дебютируя в толстых журналах, я хочу просить Вас быть моим крестным батькой». С удовольствием и не без гордости принимая эту просьбу, Плещеев с нетерпением ждет от Чехова повесть, а при получении рукописи «Степи» пишет Антону Павловичу восторженный отзыв на нее: «Не мог оторваться, начавши читать. Короленко тоже… Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать Вам не могу и никаких замечаний не могу сделать, кроме того, что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность…» Но некоторые члены редакции «Северного вестника» к повести Чехова отнеслись довольно сдержанно, и среди них были Михайловский и Глеб Успенский. Признавая чеховский талант, оба обвиняли писателя в безыдейности, в том, что он идет «по дороге не знамо куда и незнамо зачем», однако Плещеев решительно выступил в защиту нового произведения Чехова. Спор «вокруг Чехова» обострил разногласия сотрудников редакции, возникшие прежде всего из-за диктаторских замашек Н. К. Михайловского, заведовавшего критическим и научным отделами в журнале. Николай Константинович и всегда-то отличался склонностью повелевать, но в последнее время, видимо, возгордившись своим немалым влиянием на русскую интеллигенцию, и вовсе стал выказывать свой редакторский «вождизм»: бесцеремонно начал вмешиваться в планы беллетристического отдела, которым ведал Плещеев, настаивая на публикации хотя и слабых, но идейно близких ему, Михайловскому, вещей, причем зачастую, если Плещеев отвергал эти требования, то Михайловский угрожал выходом из редакции журнала. Долго терпел Алексей Николаевич капризы Михайловского («…мне уже несколько раз приходилось выносить довольно неприятные щелчки моему самолюбию, и только нежелание усиливать распри, делать скандал заставляло меня сдерживаться, хотя не раз у меня являлось желание крупно поговорить с ним», — писал Плещеев в Нижний Короленко), но избежать раскола в редакции не удалось: в марте 1888 года Михайловский, а затем и Глеб Успенский оставили «Северный вестник». Потеря для журнала ощутимая, да и лично Алексей Николаевич тяжело переживал этот раскол, ибо не только высоко ценил дарования Михайловского и Успенского, но и многие годы связан был с ними дружескими отношениями. Новые критики, которые с недавнего времени стали сотрудничать в журнале — Н. А. Протопопов и А. А. Волынский (Флексер), конечно, не в состоянии заменить Николая Константиновича. Протопопов, кажется, и не без дарования, но уж очень горазд видеть в литературе утилитарную прислужницу идейным «веяниям», и только. Михайловский тоже как будто бы не жаловал чистое художничество, но все-таки никогда не игнорировал эстетическую сторону, а Протопопов готов всю литературу свести к голой публицистике. Что же касается бойкого Флексера-Волынского, к которому уж очень стала благоволить Анна Михайловна Евреинова, то эта личность вызывала у Алексея Николаевича неприкрытое раздражение: суетлив, беспринципен, способности средние, а оригинальничанья пруд пруди. Корчит из себя эстета, морщится и отворачивается от «утилитаристов-шестидесятников», но за всем этим нередко скрывается внутреннее убожество, схоластическая накипь и такое порой верхоглядство, что у Плещеева, если ему доводилось присутствовать при разглагольствованиях Акима Львовича, всегда возникало желание выйти из комнаты, и только «джентльменская» воспитанность помогала поэту вести себя с Флексером в рамках приличия… Большая отрада для Алексея Николаевича в эту пору работы в журнале — интенсивная переписка с людьми, близкими по духу — с Короленко и Чеховым. Всей душой поддерживает Плещеев идею Короленко совершить втроем (Короленко, Чехов, Плещеев) путешествие по Волге. Еще бы: навестить места, где прошло детство и юность, навестить проживающего в Астрахани Чернышевского — разве это не заманчиво?.. Если здоровье позволит — непременно надо проехаться по великой русской реке и непременно уговорить Чехова, сообщавшего о намерении взяться за роман, довести эту работу до конца. «Нечего говорить Вам, — пишет Плещеев Чехову, — что Вашего романа я буду ждать как манны небесной… ибо считаю Вас в настоящее время самой большой художественной силой в русской литературе…[63] Сколько я похвал слышу Вашей «Степи». Гаршин от нее без ума. Два раза подряд прочел. В одном доме заставил меня вслух прочесть эпизод, где рассказывает историю своей женитьбы мужик, влюбленный в жену…» Чехов отвечает Плещееву очень теплыми письмами, посвящая поэта в творческие планы, заверяет Алексея Николаевича, что, несмотря на раскол в «Северном вестнике» (Чехов сожалел об уходе Михайловского), он непременно будет сотрудничать в журнале. В марте 1888 года Чехов снова приезжает на несколько дней в Петербург, опять навещает Плещеева. А в Москве в гости к Чехову заглядывают сначала младший сын Плещеева Николай — офицер Павловского полка, потом старший, Александр — актер и начинающий драматург, — и оба встречают радушный прием в чеховской семье. Чехов приглашает и самого Алексея Николаевича приехать летом 1888 года погостить на снятую Антоном Павловичем дачу в село Луки Сумского уезда Харьковской губернии, и старик Плещеев принимает приглашение своего молодого друга.» Но до поездки этой нежданно-негаданно происходит трагедия: 20 марта В. М. Гаршин бросается с четвертого этажа в пролет лестничной клетки. В хирургическое отделение Красного Креста на Бронной, куда Гаршин был доставлен с сотрясением мозга и сломанной ногой, Плещеев, узнав о несчастье 24 марта, приехал… к другу уже умершему. Причина самоубийства обескураживала: Гаршин, еще недавно заглядывавший в плещеевскую квартиру, вовсе не производил впечатления тяжело больного. Он интересно толковал о литературных новинках, восторгался чеховской «Степью», говорил, что Чехов как будто воскресил его и он чувствует себя так хорошо, как никогда не чувствовал. Собирался съездить на Кавказ и провести там лето с семьей художника Ярошенко, с которым был давно дружен. И вдруг такая трагедия…
На дачу к Антону Павловичу Чехову Плещеев все-таки поехал, хотя и выбрался из Петербурга не без труда. Сначала Алексей Николаевич совсем уж было собрался выехать в Сумы в начале мая, о чем извещал Чехова в апрельском письме, упрашивая Антона Павловича не заботиться «о комфорте, подобающем моему «чину», но редакционные дела задержали его в Питере до середины мая. Чеховы приехали в Луки Сумского уезда в первой декаде мая, приехали всем семейством: мать, братья, сестра. А к концу месяца к ним прибыл Плещеев, радушно встреченный как семейством Антона Павловича, так и хозяевами дачи — близкими знакомыми Чехова Павлом Михайловичем и Еленой Михайловной Линтваревыми, милыми интеллигентными людьми (Павел Михайлович — земский деятель, а Елена Михайловна — врач), к которым Алексей Николаевич проникся самым искренним уважением. «…Три недели прожил я на юге, и несмотря на то, что погода эти три недели не постоянно была хороша, но все-таки сравнительно с нашей это была благодать… И в продолжение этих трех недель, которые я там прожил, меня окружали таким вниманием и участием, относились ко мне с такой сердечностью, что я был глубоко тронут. Место необыкновенно живописное; мы ездили по окрестностям, катались на лодках по реке Пселу, совершали большие прогулки, и я с большим сожалением уехал оттуда», — делился Алексей Николаевич своими впечатлениями о своей поездке в «Милую Чехию», как он любовно назвал дружное чеховское семейство, «где нет ни светской чопорности, ни карт, ни пошлой болтовни, с пустою жизнью неразлучной, но где в трудах проходят дни». Чехов, глубоко уважая Алексея Николаевича, в то же время в отличие от многих молодых литераторов, близких поэту, не так уж и нуждался в плещеевской опеке. Это прекрасно чувствовал и сам Плещеев, не допуская в отношениях с Антоном Павловичем никаких наставнических рекомендаций и ограничиваясь всегда дружескими советами. Еще перед отъездом в Сумы Чехов просил Плещеева дать оценку рассказам молодых журналистов Н. А. Хлопова и В. А. Гиляровского и очень обрадовался положительным отзывам Алексея Николаевича о них[64]. Да и высылая «крестному батьке» свои сочинения, Чехов просит последнего судить их по самому строгому счету и очень часто принимает большинство замечаний Алексея Николаевича. Так, например, Антон Павлович сначала не хотел соглашаться с критическими требованиями Плещеева по поводу рассказа «Именины» и просил Алексея Николаевича опубликовать рассказ без какой-либо правки, но вскоре в письме к Плещееву почти целиком согласился с критикой Алексея Николаевича и для отдельного издания переработал рассказ с учетом плещеевских рекомендаций. Внимательно прислушался Чехов к замечаниям Плещеева, касающимся рассказа «Скучная история». В целом это произведение Алексей Николаевич ставил очень высоко («…у Вас еще не было ничего столь сильного и глубокого, как эта вещь…»), но очень точно отметил ряд стилистических погрешностей, указал на некоторые «затемненные» места, советовал изменить заглавие рассказа. Не согласившись с некоторыми замечаниями и отказавшись от перемены заглавия, Чехов все-таки выражает большую признательность Плещееву «за указания, которыми, — пишет Антон Павлович, — я непременно воспользуюсь, когда буду читать корректуру», — и воспользовался ими действительно. Плещеев же со своей стороны необыкновенно чутко относился к авторскому самолюбию Чехова, шел на уступки, хотя опытное редакторское чутье почти не изменяло ему, и многие из шероховатостей, которые он замечал, были впоследствии устранены самим Антоном Павловичем. «Да и как не идти на уступки Чехову, талант которого набирал силу не по дням, а по часам! Вдруг возьмет и прекратит сотрудничество с «Северным вестником»? Короленко вон совсем было отказался давать новые вещи вскоре после ухода из редакции Михайловского, но, слава богу, все-таки решил продолжать сотрудничество. И так Антон Павлович многие рассказы (и какие превосходные) отдает Суворину в «Новое время», причем вполне серьезно толкует о том, что, публикуясь в «Новом времени», он делает доброе дело, полагая, что читателю лучше «пережевать» его «индифферентный рассказ», чем какой-нибудь «ругательный фельетон» Буренина. Милый, умный, талантливейший Антон Павлович никак не хочет согласиться с тем, что хитроумный Суворин пользуется его, Чехова, именем, его растущей известностью… для приобретения нового числа подписчиков, для прикрытия залысин своего либерализма, давно слинявшего и обесцвеченного…» А с беллетристикой в «Северном вестнике» опять худо: Короленко отдал все же рассказы в «Русскую мысль», Григорович, обещавший новую повесть, заигрывает с «Русским вестником», кажется, неплохую повесть предложил Боборыкин, но все-таки, это всего лишь «чтиво», а надобно бы иметь в запасе и кое-что настоящее, свежее по мысли и талантливое по исполнению… И бомбардирует старик Плещеев Антона Павловича просьбами: «Ради бога, голубчик, давайте что-нибудь… хоть маленький рассказец, а если два, то еще лучше…» Чехову можно рассказать обо всем: рассказать и о неприятностях по службе у младшего сына, и о маленькой радости в связи с избранием почетным членом Общества искусства и литературы, похвалить больного Салтыкова, который «перещеголял молодых и здоровых писателей», и побранить даже высокочтимого Чеховым Григоровича — Антон Павлович все поймет и всегда душевно отзовется, он стал совсем близким человеком. Сохрапяется и крепнет семейная дружба: дети Алексея Николаевича, приезжая в Москву, обязательно навещают Чеховых, а Чеховы, заглядывая в Питер, непременно навещают плещеевскую квартиру на Спасской.
В конце апреля 1889 года умер Михаил Евграфович Салтыков — человек, которого Плещеев искренне и глубоко уважал; из всех, вступивших на литературную дорогу в 40-е годы и доживших до сумеречной поры 80-х, эти два очень разных по психологическому складу человека сохранили великую веру юношеским идеалам: «Борьбе с гнетущей силой зла». Со смертью М. Е. Салтыкова Плещеев, в сущности, потерял последнего из собратьев по перу, с кем вместе входил в литературный мир единомышленников. Ведь позиции оставшихся «патриархов» (Григоровича, А. Майкова) никогда не были близки Плещееву. И хотя в поздравительном письме А. Н. Майкову по случаю полувековой литературной деятельности последнего Алексей Николаевич с особенным удовольствием вспоминал ту пору, когда оп, начинающий литератор, встретил в майковском семействе много теплого участия и одобрения, но участие-то проявил прежде всего покойный брат Аполлона Николаевича Валериан… Салтыков же при всей суровости своей и желчности всегда оставался для Плещеева человеком близкого лагеря и потому всегда приходящим на помощь в трудные минуты… Прочувствованно-глубокий некролог Салтыкову написал недавно ушедший из редакции Протопопов. Узкий вроде бы человек, очень уж склонен к прямолинейному и утилитарному взгляду на искусство, а своеобразие и силу сатиры Салтыкова уловил верно. Анна Михайловна Евреинова дает понять, что Протопопов снова вернется в редакцию журнала — бог с ним, человек он не бесталанный… Чехов и тут лучше других почувствовал плещеевское состояние, вызванное смертью Салтыкова: получив известие о кончине сатирика, Антон Павлович пишет Алексею Николаевичу соболезнующее письмо, в котором дает очень точную и глубокую оценку его деятельности. «…Мне жаль Салтыкова, — писал Антон Павлович, — это была крепкая, сильная голова. Тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел только Салтыков. Две трети читателей не любили его, по верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения…» Антон Павлович прав, но фигуру Салтыкова он видит обобщенно, на фоне окружающей сатирика литературной партии, а для Плещеева Михаил Евграфович был еще и многолетний собеседник из числа наиболее умнейших и проницательнейших. Ведь теперь здесь, в Питере, и душу-то отвести не с кем, потому и приходится заглядывать в общество Суворина — у того хоть, несмотря на неприкрытое лицемерие, чувствуется высокая культура, образованность, острота ума, словом, живы еще те качества, которыми были сполна наделены сверстники Плещеева — «люди 40-х годов»… В стране ничуть не слабеет правительственный гнет, а после неудачи готовящегося народовольцами покушения на Александра III 1 марта 1887 года еще более усилился. Аресты, казни, каторжные и ссыльные наказания увеличиваются, ряды стойких и решительных борцов с реакцией редеют… А через полгода после Салтыкова в Саратове скончался Н. Г. Чернышевский почти в полной изоляции от друзей и сподвижников. Как хотел Плещеев навестить Николая Гавриловича, но так и не успел: намечаемая вместе с Короленко и Чеховым поездка по Волге не состоялась ни в 1888 году, когда Чернышевский жил в Астрахани, ни в 1889 году, когда освобожденному «государственному преступнику» разрешили поселиться в родном Саратове… И какая все-таки несправедливость: умирает один из выдающихся деятелей культуры, но многие предпочитают хранить молчание, дабы не обострять отношений с власть имущими. В письме к А. С. Гацисскому в Нижний, касаясь «церемоний», связанных со смертью Чернышевского (в Нижнем Короленко, Елпатьевский, Гацисский др. предложили создать литературный фонд имени покойного), Плещеев отмечает: «Да, надо сказать правду, что провинция смелее Петербурга. Здесь, как мне известно, ни из одной редакции не послано венка. Не знаю даже, послал ли кто вдове телеграмму. Все боятся себя компрометировать». Сам-то Алексей Николаевич незамедлительно выслал вдове Чернышевского соболезнование, выразив в нем дань глубочайшего уважения памяти Николая Гавриловича, с именем которого у поэта связаны «воспоминания… о лучшей поре жизни», принял деятельное участие в написании некролога покойному для «Северного вестника», но вот за других петербургских литераторов старик Плещеев поручиться не мог. Литераторы и в самом деле показали себя, увы, не слишком памятливыми и еще менее решительными в воздании заслуженных почестей покойному. Да какие там почести! Даже панихиду по покойному члены комитета Литературного фонда, одним из учредителей которого был Николай Гаврилович еще с конца 50-х годов, решили не служить. Наверное, поступили благоразумно в отличие от студентов медицинской академии, которые все-таки отслужили такую панихиду и… были на год исключены из академии. Только благоразумие такое напоминает элементарную трусость… Молодые литераторы — Чехов, Леонтьев, Мережковский — смотрели на деятелей типа Чернышевского несколько снисходительно и сочувственно, не очень высоко ставя героическое подвижничество «шестидесятников» — оно казалось им неоправданным. Поэтому Плещеев не был особенно откровенным по этим вопросам, зная, что полного понимания со стороны молодежи тут не будет. Мережковский так тот вообще, кажется, склонен считать деятельность Добролюбова, Чернышевского, Писарева анахронизмом, хотя сам, в сущности, только-только начинает пробовать свои силы в литературе. Он, конечно, не без таланта, что обнаруживается в сборнике его стихов и в статье о рассказах Чехова, но смущают в его писаниях начетничество, отсутствие живого чувства; ведь ему всего двадцать с небольшим, а в рассуждениях его сквозит порой такая мертвечина, что диву даешься. Обвиняет (и справедливо!) Протопопова в утилитаризме, черствости, а сам в плену мистических догматов, иссушающих душу художественности. Нет, таким новым теоретикам, как Мережковский, никогда не понять одержимости Чернышевского и его сподвижников. Вот о современных проблемах литературы, театра, живописи, музыки с ними еще можно говорить много и толково. А они, молодые, но уж вкусившие успеха и славы, продолжают видеть в Алексее Николаевиче строгого, но исключительно доброжелательного наставника, шлют ему свои рукописи, прося нелицеприятных отзывов, рекомендаций. И Плещеев, не кривя душой, добросовестно и подробно высказывает свое мнение: весьма критично отзывается о рассказе Чехова «Сапожник и нечистая сила», не одобряет и чеховскую пьесу «Леший», рассказы Короленко «Два настроения», «Птицы небесные», сурово журит Леонтьева (Щеглова) за небрежность, надуманность юмора в его пьесах… На собственную творческую работу времени, как обычно, не хватает, но Алексей Николаевич помаленьку продолжает выносить на суд читателей и зрителей новые произведения: стихи, переводы, переделывает из французских водевилей «житейские сцены» для театров, переводит и серьезные пьесы по заказу петербургских театров, например, «Медные лбы» Эмиля Ожье для Александрийского театра и «Борьбу за существование» одного из любимейших своих французских писателей А. Доде — для частного театра Абрамовой. Но тем, что сделано за последние годы, Алексей Николаевич явно не удовлетворен. В письме к А. П. Чехову от 13 января 1890 года он говорит: «Очень рад, что Вы, наконец, вырвались из петербургского омута, хотя, впрочем, он вам, по-видимому, очень по сердцу. А я так по времени охотно бы променял его на вашу московскую «скуку». При этой скуке можно по крайней мере работать. А здесь нельзя положительно, и если б вы здесь постоянно жили, то, конечно, ничего бы не писали, а только бы обедали, да дам пленяли… и еще разве изредка ездили бы «воду толочь» на Гороховую в «Литературное общество»…» Сам Алексей Николаевич хорошо познал бестолковую суету петербургского «омута» и предостерегал своих молодых друзей от чрезмерной увлеченности «водотолченьем».
* * *
Угроза неминуемой нищеты опять нависает над шестидесятипятилетним поэтом: случается это весной 90-го года, когда Алексей Николаевич вынужден был покинуть редакцию «Северного вестника». Все началось вроде бы с мелочей: Анна Михайловна Евреинова, почувствовавшая, как полагал Плещеев, «вкус» к редакторской власти, уже давненько стала высказывать Алексею Николаевичу неудовольствие в том смысле, что он при всем своем авторитете ничего якобы не делает для создания нормальной обстановки в редакции (стычки Протопопова и Волынского, уход из редакции Короленко и т. д.). Плещеев к этим нареканиям относился с рыцарской снисходительностью, считая их типичным капризом женщины, облеченной властью, женщины, хотя и слывшей поборницей прогресса, но не избавившейся от «семейных военно-аристократических замашек» — отец Анны Михайловны был инженер генерал-лейтенант. Однако он не ведал подлинной причины капризов Анны Михайловны, причины, вызванной серьезными финансовыми затруднениями по изданию «Северного вестника». Не знал Плещеев, что издательница журнала А. В. Сабашникова еще в конце 1889 года прекратила финансировать журнал, и несколько месяцев Евреинова финансировала его на собственные средства. Последнее обстоятельство, видимо, никак не устраивало Анну Михайловну, и опа приняла решение закрыть журнал. Для Алексея Николаевича, как и для многих сотрудников, плохо знавших источники финансирования журнала, решение Евреиновой показалось чуть ли не произволом. Плещеев пытался уговорить Анну Михайловну продолжать издание, но получил твердый отпор, причем в такой форме, что вынужден был прервать всякие отношения е редакцией. «Давно не писал Вам, добрейший Антон Павлович, и должен прежде всего сообщить Вам неутешительную (для меня по крайней мере) новость: «Северный вестник» решилась Анна Михайловна закрыть…» — сообщает Плещеев Чехову в письме 17 марта 1890 года. И продолжает: «…Для финала я с этой дамой расстался — и будет ли. не будет ли под ее редакцией выходить журнал[65], я в нем не сотрудник. Она так дерзка, таким нахальным тоном позволяла себе со мной говорить, что мне стоило больших усилий не обругать ее. Я сдержался, однако же, хотя и сказал ей две-три довольно-таки крупные резкости… Можете себе представить, в каком завидном я теперь положении, лишившись главного своего ресурса. Как и чем буду существовать, пока не знаю…» Вопрос «как и чем буду существовать?» был далеко не шутейный для Алексея Николаевича, ибо он никаких сбережений за более чем 40-летний литературный труд не сумел накопить, а долгов имел более чем достаточно. Нижегородское имение, заложенное в банке, никаких доходов не давало и оставалось предметом безотрадных хлопот. Как нарочно, именно к 1890 году потерял Плещеев многие дополнительные доходы вроде оплаты за консультации в театрально-литературном комитете, куда не был введен в число членов комитета на последнем заседании. Есть, правда, возможность пойти «на поклон» к Н. К. Михайловскому (он вроде бы затевает издание журнала), но трудиться под «начальством» Николая Константиновича будет тяжело — очень уж норовистый и склонный к самодовольству властелин выработался из Михайловского… Впрочем, с Михайловским все-таки придется идти на перемирие, если не намерен на старости лет умирать в нищете — других средств почти не было, а для завершения монографии о Диккенсе, над которой трудился Алексей Николаевич в последнее время, нужны, как говорится, и время, и пища. Расходы теперь, конечно, не столь велики, как пятнадцать-двадцать лет назад: дети выросли, нашли как будто собственные жизненные тропки (Николай все же продолжает тревожить), но вряд ли они в состоянии обеспечить не только отцу, но и себе безбедное проживание: по крайней мере, до сих пор Алексей Николаевич оказывал существенную материальную поддержку и непутевому офицеру Павловского полка Коке-Николаю, и старшему Александру, хотя последний вроде бы укрепился в театральных и журналистских кругах, написал не так давно неплохую пьесу, которая, правда, не получила пока полного одобрения в театральном комитете, но, видимо, все-таки будет принята к постановке на сцене. В помощи отца, пожалуй, не нуждалась теперь только дочь Елена, вышедшая замуж и ставшая… баронессой Сталь фон Гольштейн, но ведь на попечении Алексея Николаевича оставалось еще два человека: вторая его жена Елена Михайловна Данилова с дочерью Любой, которой пять лет назад указом Сената наконец-то было дозволено принять фамилию и отчество отца. На летний сезон 1890 года Алексей Николаевич вместе с Еленой Михайловной и Любой поселился на даче недалеко от ст. Преображенской по Варшавской железной дороге. Как хотелось после всех редакционных свар хотя бы немного отдохнуть! И погода установилась на редкость ясная, солнечная. Но Алексею Николаевичу не до отдыха — он поглощен работой над биографией Диккенса. За этим занятием и застало Плещеева поистине чудо-известие, «нечто вроде сказок Шехерезады», как скажет сам Алексей Николаевич.В июле 1890 года в родовом имении при с. Чернозерье Мокшанского уезда Пензенской губернии скончался Алексей Павлович Плещеев — сравнительно дальний родственник Алексея Николаевича. Покойный, бывший военный моряк, затем капитан торгового флота, обладал, как оказалось, огромным капиталом: кроме пяти тысяч десятин земли, имел денежных средств на миллион восемьсот тысяч рублей и много ценных вещей домашнего обихода. Дожил он жизнь в своем имении скупо, в полнейшем одиночестве и считал своим единственным наследником Алексея Николаевича, с которым при жизни поддерживал добрые, но отнюдь не близкородственные отношения — приезжая в Петербург, Алексей Павлович не всегда даже с Алексеем Николаевичем и встречался. И вот Алексей Николаевич, вышедший из редакции «Северного вестника» и поэтому оказавшийся в чрезвычайно стесненных денежных средствах, получает письмо от одного из своих мокшанских корреспондентов — начинающего журналиста и литератора В. П. Быстренина, — письмо, из которого узнает, что его ждут в Чернозерье для получения столь крупного наследства. Как же реагирует Алексей Николаевич на это известие? В ответном письме В. П. Быстренину он горюет о кончине своего родственника, обещает непременно приехать, но уже после похорон Алексея Павловича, так как разные обстоятельства (болезнь младшего сына, отъезд старшего за границу) «не позволяют выехать немедленно»; здесь же Алексей Николаевич подробно сообщает своему корреспонденту о ситуации, сложившейся в «Северном вестнике» после его выхода из редакции, обещает свое содействие в публикации и т. д. И — никаких комментариев к тому, что стал богатым наследником, — видимо, на первых порах Алексей Николаевич не придавал этому особого значения, полагая, что наследство скромное и не ему одному полагающееся. В конце концов после еще ряда писем от В. П. Быст-ренина и решительной телеграммы последнего: «Приезжайте немедленно. Вас ждут два миллиона» — Алексей Николаевич, подзаняв у знакомых денег на дорогу, в сопровождении младшего сына Николая выезжает в начале августа в Чернозерье, где… спешит закончить работу о Диккенсе, над которой трудился не только ради хлеба насущного еще на даче под Петербургом. Очерк о Диккенсе был, пожалуй, наиболее удачным из серии биографий выдающихся людей, которые написал Алексей Николаевич, хотя и другие, например, о Прудоне и Стендале, тоже приняты читателями весьма благосклонно. Плещеев хорошо помнил добрый отзыв Гончарова о биографии Прудона, высокую оценку, которую дал Некрасов его работе о Стендале, как помнил и товарищеское напутствие автора «Обломова», чтобы он, Плещеев, взялся за труд о каком-нибудь замечательном соотечественнике. Помнить-то помнил, а вот осуществить рекомендацию Ивана Александровича так и не смог. И, наверное, теперь уже не сможет — годы все-таки дают о себе знать, вряд ли хватит энергии, работоспособности, чтобы написать серьезную и увлекательную биографию кого-нибудь из соотечественников, да и чрезвычайно ответственное это дело — тут ведь не обойтись добросовестными компиляциями, которыми зачастую пользовался при написании популярных очерков о деятелях Западной Европы… Вот и очерк о Диккенсе тоже в основе своей компилятивный, но работа над ним все же доставляет Алексею Николаевичу истинное удовлетворение: стремясь создать «симпатичный образ романиста, дарившего читателям столько минут высокого наслаждения», Плещеев уделяет большое внимание нравственным источникам формирования личности великого писателя, честно и благородно служившего высокой цели быть «другом несчастных и бедных» — это особенно было важно и дорого русскому автору «Жизни Диккенса»… Ну а нежданные миллионы… обещали осуществление давнишней заветной мечты — побывать за границей, посетить Италию, Францию, побродить по улицам Парижа, города, которым грезил с детских лет, делали реальной давно задуманную операцию по выкупу заложенного в банк нижегородского имения и передачи в безвозмездное пользование тамошних земель крестьянам; гарантировали безбедную старость Алексею Николаевичу, обеспеченную жизнь его жене и детям, долгожданное избавление от долгов… И Алексей Николаевич, взяв с собой из Чернозерья все необходимые бумаги, удостоверявшие его право на наследство, едет в Москву, обращается за консультацией к знаменитому адвокату Федору Никифоровичу Плевако и поручает ему ведение дела на предмет юридического оформления наследования. Плезако обещал через полгода завершить дело, и обещание его внушало доверие: связи у этого адвоката — огромные, авторитет в мире юриспруденции большой, да и человек он, кажется, вполне порядочный, хотя и не упускает возможности урвать солидный куш за труды свои (а где нынче найдешь адвокатов-альтруистов?)… Алексей Николаевич понимал, что вопрос о наследстве потребует дополнительных хлопот, что и «всемогущий» Плевако, который потребовал солидный гонорар за ведение дела, не в состоянии гарантировать стопроцентное право на наследство только ему, Плещееву, ибо в подобных делах всякий раз появляется много новоиспеченных претендентов[66], однако уже осенью 1890 года он позволяет себе сделать «шаг к роскоши», о которой до этой поры мог только мечтать: поездку за границу. «Ах! Чего бы я не дал за то, чтобы иметь возможность уйти подальше от журналистики…» — писал Алексей Николаевич Чехову весной 1890 года, ничуть не подозревая, что такое желание он скоро будет в состоянии осуществить. Антон Павлович, напротив, поехал в этот период на Сахалин, не чураясь также и чисто «журналистских» интересов. Между прочим Плещеев, вернувшись из своего первого заграничного путешествия, признавался Антону Павловичу, что его впечатления бедны, вряд ли могут тягаться с тем, что пришлось увидеть Чехову в поездке на Сахалин. За границей Плещеев пробыл почти три месяца, посетив Италию и Францию. В письме к Леонтьеву (Щеглову) Алексей Николаевич признается, что только Ницца и Париж пришлись ему по душе, а Венеция, Милан, Генуя не понравились из-за ненастной погоды. В Ницце Алексей Николаевич встретился с некоторыми из соотечественников: П. Д. Боборыкиным, Вас. Ив. Немировичем-Данченко. Оба относились к Плещееву с большим уважением, поэтому в обществе двух русских беллетристов Алексей Николаевич как бы снова почувствовал себя на русской земле, несмотря на старательное «европейство» супруги Боборыкина, на каждом шагу опекающей своего нездорового (так ей казалось) Пьера. Боборыкин, узнав, что Плещеев намеревается отправиться из Ниццы в Париж, снабдил Алексея Николаевича адресами знакомых, рассказал о наиболее удобной дороге к столице Франции. Из Парижа, где большую часть времени Алексей Николаевич отдал посещению театров, музеев, парков, дорога звала на родину: кончались деньги, беспокоила судьба сына Николая, который решительно надумал уйти в отставку. Алексей Николаевич, не ведая пока, что на землю в Чернозерье объявился новый претендент, хотел передать имение своему младшему сыну. «Вот если сделаюсь помещиком, то затащу вас к себе в Пензенскую губернию. Намереваюсь тогда «посадить на землю» моего младшего сына Коку, который почувствовал большое влечение (он и прежде несколько стремился к этому) к хозяйству», — пишет Алексей Николаевич по возвращении в Питер Чехову. Юридические права на наследство еще не оформлены, однако наследника уже вовсю атакуют письмами-просьбами. «…Приходится получать пропасть просительных писем, да слышать, что я обязан дать на то-то, на это. И уже заранее предвкушаю тот момент, когда разные личности, не получившие от меня, чего они желали, или получившие недостаточно, будут говорить: «Вот все был порядочный человек, а как получил деньги, то стал свиньей!..» — сообщает Алексей Николаевич А. С. Гацисскому. И Алексей Николаевич почти не ошибся в своих предположениях, когда стал обладателем полутора миллионов: появились «личности», действительно распускавшие всевозможные клеветнические слухи о его скупости, высокомерии, хотя на просьбы разных благотворительных учреждений и частных лиц Плещеев раздал более ста тысяч уже в первый год своего владения наследством[67]. Десятки тысяч рублей вносит Плещеев на благо отечественной словесности: на издание журнала «Русское богатство», в Литературный фонд, учреждает «фонды» имени Белинского и Чернышевского для выплаты стипендий необеспеченным студентам. Конечно, значительные суммы расходовались и на собственные нужды: здоровье Алексея Николаевича сильно пошатнулось, и врачи настоятельно рекомендовали поэту лечение на заграничных курортах, и это требовало немалых средств. Кроме того, Алексей Николаевич, не добившись права на владение чернозерьевской землей, вынужден был купить для ушедшего в отставку сына Николая имение в Рославлевском уезде Смоленской губернии…[68] К весне 1891 года хлопоты по наследству завершились, и теперь Алексей Николаевич намеревался выполнить предписание врачей более добросовестно: пожить за границей подольше, подлечиться на курортах Швейцарии, Франции, Германии поосновательней. В последнее время усилились боли в груди, мучительные перепады в сердцебиении совсем тревожили, но в апреле, накануне выезда в Швейцарию Алексей Николаевич чувствовал себя вполне хорошо. Поэтому маршрут до горной Швейцарии выбрал полукружной: через Берлин, Дрезден, Париж. «Нет города, где бы так хорошо жилось и куда бы так тянуло опять вернуться», — пишет Плещеев Гацисскому, вспоминая свое почти двухмесячное пребывание в столице Франции. В Париже встретил много старых приятелей: Григоровича, Боборыкина, Мережковского и его жену З. Н. Гиппиус. Завел Алексей Николаевич добрые знакомства и с французскими литераторами, сдружился с известным театральным критиком Франсиско Сореэ, который, между прочим, после одной из бесед с Плещеевым как-то с восхищением заметил: «Этот русский писатель знает нашу литературу не хуже, чем мы ее знаем…» Вместе с Алексеем Николаевичем были жена Екатерина Михайловна, оба его сына и обе дочери, и это очень скрашивало Плещееву хотя и насыщенно увлекательную, но все же довольно трудную для его возраста поездку. О впечатлениях путешествий старший сын Александр написал очерки, которые намеревался включить в подготавливаемую к изданию книгу «В дороге и дома»[69]. Алексей Николаевич с большим интересом читал очерки сына, одобрительно отзывался о точности пейзажных зарисовок в них и добром юморе. «Баден-Баден, один из модных курортов Европы, привлекает ежегодно несколько десятков тысяч больных, и еще более здоровых. Последние сопровождают первых», — прочитал Алексей Николаевич в рукописи сына и с грустноватой усмешкой признал справедливость написанного — ведь и его, старого и больного, сопровождают пятеро здоровых родственников!.. …Впечатлений, конечно, было много, временами Алексей Николаевич испытывал такой прилив сил, что забывал о преследовавших его сердечных болях. Не утрачивалась и потребность высказаться на бумаге — теперь, правда, большею частью в письмах. Муза тоже не покидала отдыхающего поэта — в такие моменты все строгие наказы врачей казались наивными: разве можно «сдерживать» себя, когда приходит поэтическое вдохновенье?! Лето 1891 года Плещеевы намеревались провести в Швейцарии, в Люцерне. Там-то и случилось с Алексеем Николаевичем «нечто вроде удара», как скажет он сам: отнялись левая нога и рука, произошло это в августе. Положение создалось критическое, и только благодаря усилиям знаменитого немецкого доктора Кусснауса и целебному воздействию чудной окружающей природы здоровье поэта постепенно пошло на поправку. Зиму 1891/92 года Плещеев вместе с сыном Александром проживет в Ницце. Здесь Алексей Николаевич пишет стихотворение «Это пламенное солнце…», в котором поэт, отдавая дань красотам «южной стороны», думами и сердцем живет в России.
ЭПИЛОГ
«По привету ответ, по заслуге почет», — говорит русская пословица. Еще при жизни Алексея Николаевича Плещеева о нем были сказаны такие слова: «Плещеев принадлежит к поэтам особого типа, которые должны быть у каждой страны: это не гении-творцы, слава которых облетает мир, но это — люди, имя которых никогда не может умереть в родной стране, пока в ней будут сердца, способные любить свою страну, народ, истину, науку, свет и прогресс. Песни таких поэтов не забываются народом, как не забывается никогда тихая, любящая песня матери, ее любящие кроткие советы и указания. Образ таких поэтов навсегда остается светочем в душе народа, как идеал нравственной чистоты, абсолютной безупречности, беспредельной веры в человека, любви к свету… Без таких поэтов у народов не было бы сердца, не было бы души, верующей в лучшее». («Русское богатство», 1887, № 2.) К этой исключительно точкой характеристике бессмертия таких деятелей, как Плещеев, хорошим дополнением может быть и та, что высказана Д. С. Мережковским вскоре после смерти Плещеева: «Человек и поэт связаны в нем так неразрывно, так неразделимо, что, право, кажется иногда, что жизнь Плещеева — одна из его лучших, самых высоких поэм». Да, творчество А. Н. Плещеева не получило мирового резонанса, хотя стихи его еще при жизни переводились на многие европейские языки (болгарский, польский, чешский, английский, немецкий, французский, итальянский), зато на родной земле оно всегда имело благотворное влияние. Его поэзия, признанная современниками «поэзией мира, любви, братства», сыграла далеко не последнюю роль в духовном становлении поборников свободы и справедливости 40—90-х годов прошлого века, помогла расширению художественного горизонта замечательного русского поэта-самородка И. 3. Сурикова и его последователей С. Д. Дрожжина, Ф. П. Шкулева; свободолюбивый дух плещеевских стихов, и прежде всего его знаменитого «Вперед!..», оказал непосредственное воздействие на песенно-стихотворческую деятельность писателей революционно-демократической и народнической ориентации П. Лаврова, И. Морозова, И. Омулевского, П. Якубовича; находил отклик в творческих исканиях, в формировании общественной позиции литераторов других народов России: украинцев И. Франко и П. Грабовского, осетинца К. Хетагурова, азербайджанца Гасана Зардаби Меликова…ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. Н. ПЛЕЩЕЕВА
1825, 22 ноября[70] — В Костроме, у коллежского асессора в отставке Николая Сергеевича Плещеева и его супруги Елены Александровны, урожденной Горскиной, родился сын Алексей. 1827 — Семья Плещеевых переезжает жить в Нижний Новгород. 1831 — Смерть Николая Сергеевича Плещеева. 1839 — Е. А. Плещеева с сыном Алексеем переезжает на постоянное жительство в Петербург. 1840–1843 — Учеба Алексея Плещеева в Петербургской школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, поступление в Петербургский университет на восточное отделение. 1844, февраль — В журнале «Современник» опубликованы первые три стихотворения Алексея Плещеева за подписью А. П.-въ. 1845, лето — По личному прошению Алексей Плещеев уволен из числа студентов университета. Знакомство с Валерианом Майковым, начало посещений «пятниц» Петрашевского. 1846 — Плещеев знакомится и сближается с Ф. М. Достоевским. Активное сотрудничество Плещеева в петербургских журналах и газетах; выход из печати сборника «Стихотворения А. Плещеева». 1846–1848 — Сотрудничество в журналах «Современник», «Отечественные записки» (публикация рассказов и повестей). 1849, март, апрель — Поездка А. Н. Плещеева в Москву, посылка на имя Ф. М. Достоевского «Письма Белинского к Гоголю». 28 апреля — А. Н. Плещеев арестован в Москве и доставлен в Петербург, в III Отделение, 2 мая отправлен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, 22 декабря, приговоренный в числе других петрашевцев к смертной казни, выслушивает окончательный приговор себе. 1850, 6 января — А. Н. Плещеев доставлен в Уральск, зачислен в 1-й Оренбургский линейный батальон. 1852, 25 марта — Переведен в 3-й Оренбургский линейный батальон в г. Оренбург. 1853, 23 февраля — Переведен в Оренбургский линейный батальон № 4. Июнь — июль — В составе 4-го линейного Оренбургского батальона А. Н. Плещеев участвует в походе русских войск, в осаде и штурме кокандской крепости Ак-Мечеть. 27 декабря — За отличие при взятии крепости Ак-Мечеть произведен в унтер-офицеры. 1854–1856 — Служба в Оренбурге, в крепости Ак-Мечеть, снова в Оренбурге; 1856, 17 ноября — Уволен из военной службы в отставку «с переименованием в коллежские регистраторы». Декабрь — В журнале «Русский вестник» опубликованы после почти восьмилетнего перерыва новые стихи Плещеева. 1857, октябрь — А. Н. Плещеев женится на Е. А. Рудневой. 1858, май — В Петербурге выходит сборник «Стихотворения А. Н. Плещеева». 1859, сентябрь — Плещеевы переезжают жить в Москву. 1859–1861 — А. Н. Плещеев — соредактор газеты «Московский вестник». 1860 — Выход в свет в двух частях «Повестей и рассказов А. Н. Плещеева». 1861 — Выход в свет сборника «Стихотворения А. Н. Плещеева». 1863 — Выход в свет дополненного сборника «Стихотворения А. Н. Плещеева»; вызов в Петербург по поводу «процесса Чернышевского». 1864, 13 декабря — Смерть Елпкониды Александровны Плещеевой. 1865, 8 октября — А. II. Плещеев зачисляется на службу в Государственный контроль. 1872 — Семья Плещеевых переезжает в Петербург. А. И. Плещеев по предложению Н. А. Некрасова становится секретарем редакции журнала «Отечественные записки», а с декабря 1877 года (после смерти Некрасова) заведует стихотворным отделом журнала. 1875 — Увольняется со службы в контрольной палате. 1878 — Выход в свет сборника стихотворений А Н. Плещеева «Подснежник» (стихотворения для детей и юношества). 1879 — Смерть Е. А. Плещеевой, матери поэта. 1880, 6–8 июня — А. Н. Плещеев участвует в Пушкинских торжествах. 1880 — Выход в свет сборника прозы А. Н. Плещеева «Житейское». 1884, 20 апреля — Закрытие журнала «Отечественные записки», 1885 — А. Н. Плещеев становится постоянным сотрудником и редактором беллетристического отдела журнала «Северный вестник». 1886, 15 января — Чествование 40-летней литературной деятельности А. Н. Плещеева (в Петербурге и Москве). 1887 — Выход в свет сборника «Стихотворения А. Н. Плещеева (1846–1886)». 9 декабря — Знакомство с А. П. Чеховым. 1890, июль — Получение наследства от А. П. Плещеева. 1890–1893 — Неоднократные поездки за границу для лечения (Франция, Италия, Германия, Швейцария). 1893, 26 сентября, 2 часа ночи — Кончина А. Н. Плещеева в парижской гостинице. Октябрь — Перевоз гроба с телом А. Н. Плещеева из Парижа в Москву (через Петербург). Похороны А. И. Плещеева на кладбище Новодевичьего монастыря.ИЛЛЮСТРАЦИИ

Алексей Николаевич Плещеев.
Фотография 60-х годов XIX века.

Кострома. Торговые ряды.

Нижний Новгород. Верхнебазарная, или Алексеевская площадь.

Петербург. Александрийский театр.
Фотография первой половины XIX века.

Петербург. Невский проспект.

Петербургский университет.

Петр Александрович Плетнев.

Владимир Федорович Одоевский.

Виссарион Григорьевич Белинский.

Аполлон Григорьев.

Валериан Майков.
МОЛОДЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ. ДРУЗЬЯ ПЛЕЩЕЕВА,
ЧЛЕНЫ КРУЖКА ПЕТРАШЕВСКОГО:

Александр Пальм.

Сергей Дуров.

Михаил Васильевич Петрашевский

Николай Спешнев.

Обряд казни на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года.

Петропавловская крепость.

Федор Достоевский.
Первая страница повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи» с посвящением А. П. Плещееву.

Копия приговора, вынесенного Плещееву по делу «петрашевцев».

Почтовый тракт.
Середина XIX века.

Уральск. Собор в Куренной части города.
Середина XIX века.

Василий Алексеевич Перовский — генерал-губернатор Оренбурга.
Портрет работы Карла Брюллова.

Тарас Григорьевич Шевченко.
Автопортрет 1847 года.

Алексей Михайлович Жемчужников.

Сигизмунд Сераковский — ссыльный польский революционер, друг А. И. Плещеева и Н. Г. Чернышевского.

Илецкая Защита.
Фотография конца XIX века.
(Ныне — г. Соль-Илецк.)

Еликонида Александровна Плещеева (до замужества Руднева).
Фотография конца 50-х годов.

Алексей Николаевич Плещеев.
Фотография конца 50-х годов.

Алексей Николаевич Плещеев.
Фотография 70-х годов.
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК»:

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Николай Алексеевич Некрасов.

Николай Александрович Добролюбов.

Николай Гаврилович Чернышевский.
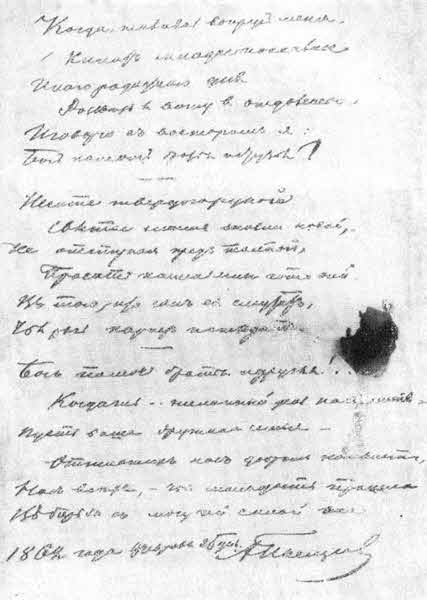
Автограф стихотворения А. Н. Плещеева «К юности». 1862 г.

Московские актеры — И. Горбунов, П. Садовский, Б. Амедов.

Михаил Николаевич Островский — брат драматурга.

Сергей Васильевич Васильев — актер Малого театра.

Александр Николаевич Островский у Малого театра.

Еликонида Александровна Плещеева.
Фотография 60-х годов.

Отрывок из стихотворения А. Н. Плещеева «Быстро тают снега…». 1867 г.

Москва. Улица Малая Дмитровка.

Иван Сергеевич Тургенев.

Обложка журнала «Отечественные записки».

Петербург. Екатерининский канал.
Середина XIX века.

Петр Ильич Чайковский.
Фотография 1889 года.

Павловск. Литография.

Автограф стихотворения А. И. Плещеева «Памяти Пушкина».

Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 года.
Гравюра на дереве по рисунку М. Чехова.

Портрет А. И. Плещеева в 80-е годы.
Художник Н. А. Ярошенко.

Семен Надсон.

Всеволод Гаршин.

Иван Суриков.

И. Л. Леонтьев (Щеглов).

Александр Плещеев — сын поэта, драматург, театральный критик.

Антон Павлович Чехов.

Усадьба «Луки» Полтавской губернии, где Плещеев гостил у А. П. Чехова в июне 1888 года.

А. Н. Плещеев.
Фотография конца 80-х годов.

А. Н. Плещеев с семьей в Ницце в 1891 году.

Памятник на могиле Алексея Николаевича Плещеева в Новодевичьем монастыре.
Фотография начала XX века.

Титульные листы к прижизненным изданиям А. И. Плещеева.
КРАТКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
I. Произведения А. Н. Плещеева
Стихотворения А. Плещеева. 1845–1846. СПб., 1846. Стихотворения А. Н. Плещеева. СПб., 1858. Повести и рассказы А. Плещеева. В двух частях. М., 1860. Стихотворения А. Н. Плещеева. Новое издание, значительно дополненное. М., 1861. Новые стихотворения Плещеева (Дополнение к изданным в 1861 году). М., 1863. Подснежник. Стихотворения для детей и юношества А. Н. Плещеева. СПб., 1878. Стихотворения А. Н. Плещеева (1846–1886). М., 1887. Повести и рассказы А. Н. Плещеева. Издание А. А. Плещеева, СПб., 1896–1897. В 2-х томах. А. Н. Плещеев. Стихотворения. Под редакцией Гр. Сорокина. Библиотека поэта. Малая серия. М. — Л., 1937. А. Н. Плещеев. Стихотворения. Под редакцией А. В. Федорова. Библиотека поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1948. А. Н. Плещеев. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание. М.—Л., 1964. А. Н. Плещеев. Житейские сцены. Издательство «Советская Россия», М., 1986.II. Литература о А. Н. Плещееве
В. Н. Майков. Критические опыты. СПб., 1891. Н. А. Добролюбов. Собр. соч. М. — Л, 1962, т. 3; 1963, т. 6. М. Л. Михайлов. Собр. соч. в 3-х томах. М., 1958, т. 3. М. Е. Салтыков-Щедрин. Поли. собр. соч. М., 1937, т. 5. В. И. Покровский (составитель). Алексей Николаевич Плещеев. Его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. М., 1911. «Дело петрашевцев». М.—Л., АН СССР, 1951, т. 3 (документы следствия по делу А. Н. Плещеева). И. А. Щуров. А. Н. Плещеев, Жизнь и творчество. Верхне-Волжское книжное издательство, Ярославль, 1978. Л. С. Пустильник. Жизнь и творчество А. И. Плещеева. М., «Наука», 1981.INFO
Кузин И. Г. К 89 Плещеев. — М.: Мол. гвардия, 1988. — 31416] с., ил. — (Жизнь залечат. людей. Сер. биогр. Вып. И (689)).
ISBN 5-235-00413-2 (2-й з-д.)
К 4702010200—209/078(02)—88 Без объявл.
ББК 83. ЗР1
Примечания
1
Плещеев Александр Алексеевич (1778–1862) — русский композитор, актер, поэт, член литературного общества «Арзамас», друг и сподвижник Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова. (обратно)2
Александр, по прозвищу Плещей, был наместником в Костроме (1375 год), потом боярином. (обратно)3
Львов Николай Александрович (1751–1803/04) — русский архитектор, художник, поэт, музыкант, член Российской Академии наук. (обратно)4
Безбородко Александр Андреевич (1749–1799) — русский государственный деятель, дипломат, с 1797 года канцлер. (обратно)5
Ныне поселок городского типа Княгинино — центр Княгининского района Горьковской области. (обратно)6
Река Урга впадает в реку Суру — правобережный приток Волги. (обратно)7
Козьма Захарьич Минин-Сухорок, как установил по купчей крепости полное его имя П. И. Мельников-Печерский, долгие годы служивший в Нижнем Новгороде чиновником особых поручений при военном губернаторе. (обратно)8
У истоков пробуждения стояли П. Я. Чаадаев, первое «Философическое письмо» (1836 год) которого, по словам Герцена, «разбило лед после 14 декабря», и его первые публичные оппоненты — славянофилы, ответившие на «крик отчаяния», содержащийся в чаадаевском письме, «криком надежды». «Надежда наша велика на будущее», — заявляли славянофилы и связывали это будущее с идеей национальной самобытности развития общества, русского народа, сохранивших «преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего» (И. B. Киреевский). (обратно)9
Правда, к тому времени, о котором идет речь (1843 год), «чисто альманашный», как о нем писали в «Отечественных записках», журнал «Современник» имел гораздо меньшее влияние на общественное мнение, чем те же «Отечественные записки», где с 1839 года деятельнейшее участие стал принимать В. Г. Белинский, но все-таки редактируемый П. А. Плетневым журнал продолжал оставаться значительным печатным органом. (обратно)10
Впрочем, отношение к Кольцову у начинающего стихотворца было далеко не восторженным, что, в общем-то, вполне объяснимо: юноше, воспитанному на дворянской и западноевропейской литературе, на первых порах было трудно попять и принять самобытную поэзию простолюдина. (обратно)11
Все три брата Бекетовых в молодости «переболели» литературным сочинительством, хотя впоследствии деятельность свою связали с наукой и техникой: старший, Алексей, стал инженером, средний, Андрей, был сначала студентом-филологом, слушал лекции вместе с Плещеевым, но затем перешел на факультет естественных наук (в Казани), стал выдающимся ученым, основателем отечественной школы ботаников-географов; младший, Николай, основатель отечественной школы физиков-химиков, открыл способ восстановления металлов из их окислов. (обратно)12
Младшие сыновья Н. А. Майкова Владимир и Леонид тоже со временем заявят о себе как даровитые литераторы: Владимир станет известным переводчиком, редактором детских журналов, а Леонид — видным историком литературы, крупным фольклористом: в 1863 году он защитит диссертацию на степень магистра русской словесности «О былинах Владимирова цикла», в 1889 году будет избран академиком, в 1893 году назначен вице-президентом Академии наук, был председателем этнографического отделения Географического общества. (обратно)13
Цитаты из «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемого Н. Кирилловым», в котором пропагандировалось учение социалистов-утопистов, составленного Петрашевским и В. Майковым. (обратно)14
Первый выпуск словаря (1845 г.) в основном составлен и отредактирован В. Н. Майковым (от А до «Марпотова трубка»; второй выпуск («Марпотова трубка» — «орден мальтийский;) был составлен М. В. Буташевичем-Петрашевским (апрель 1846 г.). (обратно)15
Барбье Анри Огюст (1805–1882) — французский поэт, автор сборников сатирических поэм «Ямбы» (1831), сонетов «Героические созвучия» (1843), поэт-романтик, выступающий с резкой критикой буржуазных нравов на первом этапе творчества; но после революции 1848 года пришел к проповеди христианского смирения и всепрощения. Поэзия его была популярна в кругах русской молодежи в 40-е годы. (обратно)16
Интуиция здесь не подвела Плещеева, и впоследствии один из биографов Алексея Николаевича, П. В. Быков, рассказал такой эпизод, связанный с историей создания стихотворения «Любовь певца», послуживший прообразом знаменитого «Вперед без страха и сомненья…»: «Плещеев никому не сказал, что он — автор стихов («Любовь певца»), он признался в этом только другу своему — С. Ф. Дурову… И последний сказал ему: «Жаль, что в этом безымянном и неважном, чисто субъективном стихотворении пропадут такие удачные строки, как:17
Ламенне Фелисите Робер (1782–1854) — один из родоначальников христианского социализма, идеолог улучшения общественного строя путем христианской любви и нравственного самоусовершенствования. (обратно)18
Стихотворение «Н. Мордвинову», написанное в начале 1846 года, было впервые опубликовано только в 1965 году в журнале «Русская литература», а до этого оно вместе с другими бумагами Н. А. Мордвинова, арестованного в 1849 году, «хранилось» в фондах III Отделения. (обратно)19
Со стихотворением «На зов друзей» произошла целая история. Опубликованное в журнале «Репертуар и Пантеон» без слов «мне слышен звук цепей», оно и дальше продолжало подвергаться цензурным гонениям: при издании сборника «Стихотворения А. Н. Плещеева» (1846) поэту пришлось строку «Распятый на кресте божественный плебей!..» заменить на «Распятый на кресте великий Назарей», и в таком варианте эта строка публиковалась во всех прижизненных и посмертных изданиях поэта до 1905.года, и лишь в книгах, выходивших после 1905 года, восстановлена в первоначальном виде по сборнику, который Плещеев еще в 1846 году подарил библиографу Г. Н. Геннади и в котором собственноручно вписал строку по журнальному варианту. Это цензурное гонение вполне понятно: под «божественным плебеем» поэт, конечно же, имел в виду не только конкретный образ Христа («великого Назарея»), но и символический образ угнетенного, бесправного, «распятого» царизмом народа. (обратно)20
О том, что помощь от В. Ф. Одоевского была получена, можно судить по другому, более позднему плещеевскому письму к Владимиру Федоровичу, написанному поэтом в послессыльный период из Москвы в 1859 году: «Зная ваш образ мыслей, я уверен, что вы более всякого другого способны войти в положение человека пишущего и лишенного возможности писать то, что ему бы хотелось… Если вы спросите меля, отчего я обращаюсь именно к вам, а не к другим, имеющим также репутацию людей значительных и добрых. Ответ мой на это готов. Только вас одних уважаю я так глубоко, что не чувствую унижения сознаться вам в своих обстоятельствах, в своем пролетарстве. Вы однажды помогли мне как равному, как собрату по профессии, несмотря на различие лет и общественного положения, существующего между нами». (обратно)21
Плещеев вряд ли представлял и осознавал всю огромность духовного, переворота А. Григорьева, скептически относящегося к учениям социалистов-утопистов даже в тот период, когда он посещал дом Петрашевского. А когда Аполлон вернулся из Петербурга в Москву и сблизился там с людьми, либо разделявшими взгляды славянофилов, либо сочувствующими им, для нею особенно неприемлемыми стали абстрактные общечеловеческие идеалы утопистов. Он ясно и четко представлял себе, что истинный поэт прежде всего тот, кто во главу угла ставит национальную самобытность творчества, для кого целостное идеальное миросозерцание питается соками родной земли, историческим опытом Отечества, — к такому пониманию он придет окончательно и навсегда к концу 40-х годов. Но и в тот период, когда он отрицательно отзовется о плещеевском сборнике, неприязнь к умозрительным системам, какой он считал фурьеризм («изо всех произвольно составленных утопий общественных нет для русской души противнее утопий Фурье», — скажет оп позднее), была велика. Впрочем, возможны и другие причины более субъективного характера, послужившие «росту» григорьевского скептицизма по отношению к плещеевскому творчеству. (обратно)22
В письме нижегородскому общественному деятелю А. С. Гаписскому 7 декабря 1889 года А. Н. Плещеев, подтверждая свое авторство этого стихотворения, дает такой комментарий: «В стихотворении, действительно, кое-что изменено: вместо «настанет страшный час» было: «пробьет желанный час» и вместо «грозные» было: «спящие» народы. Кроме того, была еще третья строфа (вы помните, я писал вам, что это было написано на книжке стихотворений лицу, к которому обращалось это послание).(обратно)(«Русская мысль», 1912, № 4, с. 125)
Последние комментарии
3 часов 21 минут назад
8 часов 25 минут назад
16 часов 13 минут назад
18 часов 44 минут назад
18 часов 52 минут назад
2 дней 6 часов назад