Три повести [Виктор Семёнович Близнец] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Виктор Близнец
ТРИ ПОВЕСТИ
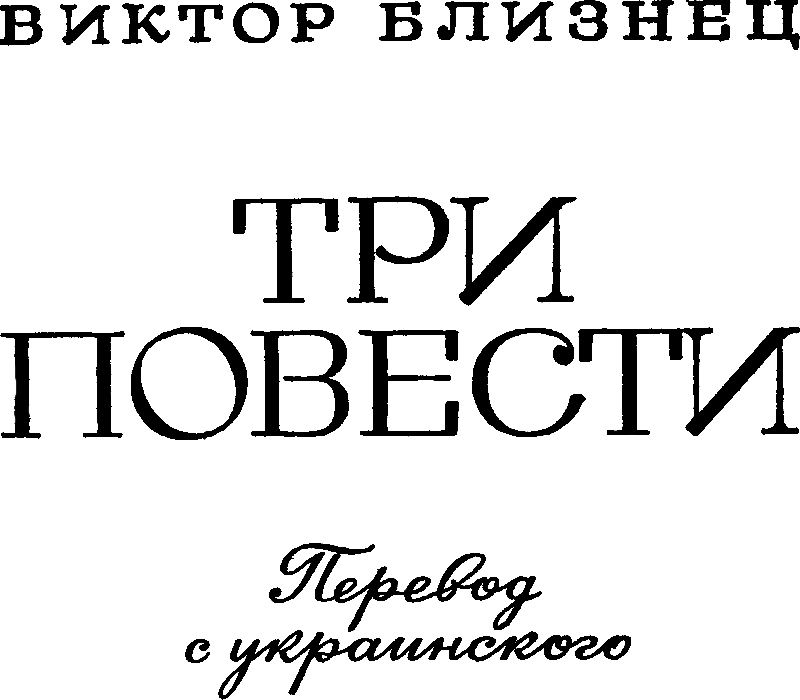
Виктор Кава МИР ТАЛАНТЛИВЫЙ И СЕРДЕЧНЫЙ
Мне до сих пор не верится, что Виктора Близнеца нет с нами. Часто снится: мы медленно идем по задумчиво-тихим, зеленым днепровским склонам и разговариваем — искренне, горячо. О литературе, о детях, о проблемах села… Проснувшись, чувствую тихую радость от той встречи. А потом радость закрывает горький туман… Мы с Виктором Близнецом были знакомы давно. Ведь учились вместе на шумном и интересном факультете журналистики Киевского университета. Но по-настоящему подружились, когда вышли наши первые книжки для детей в 1963 году — его «Ойойковое гнездо» и моя — «Прогулянный день». Прочитали книжки, порадовались неплохому дебюту и, честно сказав о недостатках книг, договорились: еще в рукописи показывать друг другу все новое и судить о написанном со всей строгостью. А уже первый маленький сборник рассказов В. Близнеца показал, что в литературу для юных пришел оригинальный, настоящий писатель — добрый, наблюдательный, тонко чувствующий детскую душу, мастер пейзажа, диалога, обладающий своеобразным юмором, мягким и необидным. Неравнодушный к злу, черствости, лжи. Эти качества значительно ярче проявились в его следующей книжке, повести «Паруса над степью». Писал он ее, без преувеличения, кровью сердца. Ведь ее герои — это сестра и брат писателя, его сверстники, которые в грозные годы войны поднялись в глубоком тылу врага на беспощадную борьбу. Не все они дожили до победы. Книга эта насквозь пронизана восторгом перед подвигом подростков, романтической возвышенностью и болью за молодые жизни, отданные за нашу свободу. После выхода «Парусов над степью» Виктор Близнец, как говорится, с головой ушел в творческую работу. Одна за другой появляются его талантливые, яркие книги: повесть «Древляне» — настоящая дума в прозе о гражданской войне и ее героях, близкая по духу и мастерству к знаменитым «Всадникам» Юрия Яновского, эта повесть сразу поставила Виктора Близнеца в первый ряд украинских прозаиков; наполненная горькой правдой войны повесть «Молчун», многоплановый роман «Подземные баррикады» — о первых революционерах России. Но не оставляет он и детскую литературу. Кажется, и до него было много написано о детях войны. Однако повесть Виктора Близнеца «Землянка», которую вы прочтете в этом сборнике, захватила и юных читателей и взрослых. Откровенностью, суровостью и одновременно приподнятостью. Очень непросто живется ребятам — ее героям — Мишке, Вовке и Яшке. Они увидели и испытали на себе ужасы фашистской оккупации, и после освобождения села на их еще совсем детские плечи лег тяжелый груз — им надо было пахать и сеять, пасти коров и коз, помогать семье. Но горе и неимоверные трудности не сломили их, только сплотили, пробудили в них крепкое чувство дружбы, взаимовыручки, жизненную стойкость. Именно это поколение дало Гагарина и Титова… Какой-то щемяще-нежной и грустно-радостной, если можно так выразиться, музыкой овеяна и вторая повесть — «Звук паутинки». Здесь соединились фантазия и реальность, мир детства показан с такой проникновенностью и отцовской любовью, точно и романтично, так образно и своеобразно, что эта повесть стала настоящим гимном детству. Много проблем воспитания детей, проблем современной школы раскрыто в повести «Женя и Синько». Здесь автору удалось ярко и выпукло обрисовать характеры детей и их родителей. И конечно же, Виктор Близнец, как всегда, тонко соединяет фантазию и реальность. О книгах Виктора Близнеца много писали критики, ни к одному его произведению не остались равнодушными читатели — дети и взрослые. Это и понятно, ведь повести и рассказы Виктора Близнеца интересны и доступны каждому; я уверен, они взволнуют душу и юного и взрослого читателя. Мне бы хотелось немного рассказать о нем самом. Писатель не любил говорить о себе, избегал вечеров, посвященных ему. Он был органично скромным человеком. Вот лишь несколько воспоминаний. Идет заседание Комиссии по детской литературе Союза писателей Украины. Обсуждается постановление партии о сельском хозяйстве. Разговор несколько вялый. Вдруг резко поднимается наш партийный секретарь Виктор Близнец: — Товарищи! Почему мы так малоактивны? Ведь строки постановления относятся лично к каждому из нас! Ведь мы вместе с партией, народом, школой воспитываем детей, а многие из них — будущие труженики сельского хозяйства. Все ли мы делаем, чтобы наши книги показали яркие образы тружеников, чтобы они позвали на поле, на ферму, на трактор? Не много ли у нас бездумных каникулярных повестей, пустых по содержанию стихотворений? А знаем ли мы по-настоящему нынешнего сельского школьника или судим о нем по воспоминаниям своего детства?.. Вроде свежим ветром повеяло на нас. Оживились, один за другим стали выступать писатели, говорить откровенно, конкретно, перспективно. Как-то во время весенних школьных каникул Виктор Близнец и я выступали на Черниговщине. Под вечер возвратились из дальнего района усталые, перемерзшие. Только подошли к гостинице, как нас окликнули: приглашали на встречу с ребятами в город Сосницу, родину Александра Довженко, уже автобус прислали. Вздохнув, залезли в его холодное нутро. Отъехали километров десять, когда в небе будто развязали огромный мешок: такой густой и мокро-тяжелый снег повалил. Ветер косо нес его, и казалось, что за окнами колышется белая простыня. Заскрипел, застонал автобус, стали пробуксовывать колеса. Водитель повернулся к нам: — Товарищи писатели, может, вернемся? Еще километров пятьдесят до Сосницы. Села здесь редко, не пришлось бы ночевать в сугробе. Я выглянул в окно — сквозь пелену снега проглядывал сплошной угрюмый лес. И тут словно пружиной подбросило Виктора Близнеца: — Друзья, да вы что! Ведь нас ждут дети! — А сойдутся ли они в такую дикую погоду? — неосмотрительно сказал я. Ох и влетело мне от моего друга… Поехали дальше. Не раз пришлось подталкивать автобус, откапывать колеса, но все же почти ночью добрались до Сосницы. Вошли в ярко освещенный школьный зал и не поверили своим глазам: нас встретили сотни улыбающихся детей. Оказывается, они терпеливо ждали нас больше двух часов. Особенно хотелось им увидеть своего любимого писателя Виктора Близнеца, как заявили они с детской непосредственностью. Виктор Близнец смотрел на ребят сияющими глазами. В тот вечер, а точнее, в ту ночь он читал отрывки из своей новой замечательной повести-сказки «Земля светлячков». В зале стояла какая-то завороженная тишина. Казалось, дети и все мы покинули этот уютный, теплый зал и вместе с бесстрашными маленькими человечками в темном, глухом бору ведем бой с разбойниками-громилами… Почти в полночь мы и учителя пошли к памятнику Александру Довженко. Постояли молча несколько минут — как раз полная луна вышла из-за белесых туч и осветила одухотворенное лицо писателя и кинорежиссера. Виктор Близнец долго, задумчиво смотрел на памятник. И мне подумалось: как от своего земляка, кировоградца Юрия Яновского он взял высокий, гражданский и революционный пафос, романтическую возвышенность, так от Александра Довженко Виктор Близнец перенял искреннюю, взволнованную любовь к советскому человеку, труженику и защитнику Родины, любовь ко всему живущему на земле, получил из его рук многоцветную палитру, чтобы описать нашу прекрасную природу… Виктор Близнец был очень талантливым человеком. И при этом очень требовательным к себе. Он так и не захотел переиздать книгу «Паруса над степью», считая, что отдал в ней излишнюю дань романтизму. Даже когда вышла книжка «Звук паутинки» — удивительный по тонкости рассказ о дружбе мальчика и взрослого, недовольно морщился: не все, мол, там так, как бы хотелось. Поэтому молчал о письме к нему Олеся Гончара — выдающегося писателя, лауреата Ленинской премии, — письме сердечном и взволнованном. Требовательным был Виктор Близнец и к коллегам по перу. Требовательным и умным, искренним советчиком. Бывало, прочтет рукопись своего товарища и разговор начинает так: — Старик, отбрасывай амбиции, будем говорить серьезно, без скидки. И как же искренне радовался, когда его советы помогали, выходила хорошая книжка! Таким настоящим другом был он многим писателям, особенно молодым. Помощь молодым литераторам он считал своей партийной обязанностью. Мне очень нравилось, что Виктор Близнец с детства прививал своим детям уважение к настоящей литературе, уважение к хорошим, достойным людям. У них дома часто бывали известные писатели — Григор Тютюнник, Всеволод Нестайко, Анатолий Давыдов, Юрий Мушкетик… Приходили на такие встречи друзья детей, и тогда завязывались интересные разговоры, которые много давали и детям и писателям. Тонкий ценитель природы, любил Виктор Близнец в выходной день бродить с детьми по Киеву, его живописным окраинам, выезжать в Ирпень, в Пущу-Водицу. Это были настоящие праздники для его детей и для него самого. Может, потому природа в книжках писателя такая многокрасочная, живая, пульсирующая, по-детски чистая и откровенная, что он видел ее не только своими глазами, но прежде всего глазами детей… Творчество, служение литературе были для него поистине святым делом. Осторожный и сдержанный при употреблении высоких слов, Виктор Семенович сказал мне однажды: — Только тогда, когда пропустишь написанное через свою душу и сердце, оно дойдет до читателей… И его повести, рассказы, сказки, пропущенные через его добрую, чистую, талантливую душу, дошли до читателей, стали им близкими друзьями. И жить им долго-долго.Виктор Кава
ЗЕМЛЯНКА

Перевод В. Беловой

1
Ненадежный друг в пустынной степи мартовский ветерок: пригладит, приласкается, обнимет тебя голубыми крыльями; только доверишься ему, распахнешь свое сердце — так и захлестнет тебя холодными брызгами. И земле не особенно верь: сверху она будто бы теплая, манит к себе, а ступишь босой ногой — воткнется иглами в пятки. Вовка сидит на сухом курае[1]. С прошлого года курая нагнало в канавы, как овец в кошару. Выбрал себе Вовка куст помягче, долго его мял, переминал — и получилась неплохая подстилка. Штаны у парнишки из немецкой плащ-палатки, крепкие штаны — сушняк не колется. На голове — старая шапка, тоже трофейная; наверное, пулями ее продырявило: клочьями вата выползает. Ничего, теплая шапка, разве что немного великовата: из-под нее Вовка, как из-под гриба, удивленно глядит на мир. И пиджачок у Вовки что надо: мать пошила из солдатского кителя. Так что можно сидеть в степи. Только никак Вовка не придумает, куда свои ноги спрятать — хоть отруби их! Уже пытался натянуть штанины до пят — все равно морозно. Уже и руками растирал сморщенные, как печеная свекла, окоченевшие ноги — не проходит озноб. Наконец придумал: стащил с головы шапку и влез туда ногами, как в гнездышко. О, совсем другое дело! — Мишка! — крикнул повеселевший Вовка. — Ты знаешь, что это за тварь такая: с бородой, а не дед, с рогами, а не бык? Миша Цыганчук (Вовка зовет его Мишкой, не иначе) лежит на бруствере окопа. Он в одной рубашонке, какой-то бесцветной, жухлой и рваной, в коротких штанишках, подвязанных тоненьким шнурком. Лежит Мишка на сырой земле лицом вверх, задрав колени, и сверкает голыми пятками. Наверное, дремлет. — Слышишь, Мишка? Вовке охота поговорить. С утра до вечера торчишь в степи, можно онеметь. Или совсем оглохнуть, вот как Мишка. Хоть его ругай, хоть в него стреляй — не слышит… А у Вовки чешется язык, солнце припекает спину, ногам в шапке тепло, — почему бы и не поболтать? — Слушай, Мишка! С рогами, а не бык, с сосками, а не корова… Ну, догадался? Вот непутевый: это же наше стадо! Понимаешь — козы! Козы и козлята. Посмотри, как они резвятся… Возможно, Мишка и ответил бы Вовке, да вот уже с месяц, как его оглушило взрывом. Что-то звенит и звенит в голове, и этот однообразный шум заглушает все привычные звуки. Люди вокруг него теперь не говорят, а только беззвучно шевелят губами. И ручейки тихо бегут по канавам; и птицы, как во сне, бесшумными тенями проносятся над его головой. Мишке кажется, что у всех людей отнялся вдруг язык. Последний раз, когда они с братом Семеном лазили по окопам и Сенька потянул за сверкающий провод, внезапно вздрогнула земля, что-то больно ударило Мишку по барабанным перепонкам — и наступила тишина. Это была угнетающая, мучительная тишина, потому что в голове бесконечно звенело, и этот звон раздражал, выматывал последние силы. От усталости никло все тело, и Мишку клонило ко сну. И сейчас он, вяло раскинув руки, лежал на бруствере окопа, мутными глазами смотрел в небо. Высокое и холодное, оно висело над степью, как огромный колокол, и казалось, мальчуган напряженно вслушивается в звон. Бом, бум, бом! — стучало и билось в его висках. — Погляди, погляди, Мишка, как они играют! — не отставал Вовка. Ноги у Вовки согрелись — затылок защипало от холода. Вот если бы две шапки — тогда бы здорово! А пока придется потерпеть, согревать по очереди то ноги, то затылок. Вовка натянул шапку на самые уши и глянул из-под нее. Возле окопа, где дремал Мишка, возились два козленка. Белые-пребелые, они словно порхали у самого края окопа, на лету бодались безрогими лбами, озорно толкали друг друга в яму. Вот бесенок, еще сорвется!.. Козленок стал сползать вместе с песком и уже повис над самым обрывом. Но вдруг он быстро и ловко оттолкнулся передними ногами и, сверкнув копытцами, перепрыгнул через яму. — Ишь ты, герой! — Вовке самому захотелось порезвиться. Да вот беда — холодно. За окопом, между кустов сухой лебеды, отдыхало после пастьбы стадо — десяток разношерстных коз. Старые и худые, они сонно жевали жвачку. Сейчас, ранней весной, козы линяли и выглядели ободранными, лишаеватыми: шерсть слезала с них, как с дохлого кота. Вовка Троян окинул взглядом свое неприглядное стадо: а где это серая деркачевская пройдоха? Снова куда-то подалась, проклятая тварь! Деркачевская Чирва одна приносила больше хлопот, чем все стадо вместе. Она и на козу почти не похожа, больше — на ведьму. Рога не вверх торчат, как у всех коз, а в стороны, будто кто-то нарочно вывернул их. Живот голый, как барабан, только на спине кое-где остались длинные, плотно сбитые клочья. А упрямая — куда тебе! Стоит отвернуться — тихонько ускользнет куда-то да бурьянами, бурьянами в Терновскую балку или к реке. И чего она стада не держится? Такой же характерец и у Яшки Деркача. Дома никогда не сидит, целыми днями в степи блуждает. Правду люди говорят: какой двор, такой и забор… Где же ее искать, ведьму? Эх и не хочется вставать с насиженного места, да надо. Зашуршал немецкий брезент, раздулись широкие штаны, морозный ветер пробежал по онемевшим бедрам и по спине. Отвернулся Вовка от ветра. На восток, до самой станции Долинская, километров на тридцать — сорок раскинулась ровная степь. Когда наступает хорошая погода, отсюда можно увидеть и станцию, если не всю, то, во всяком случае, верхнюю часть кирпичной башни. А сейчас облачно, и степь покрывает зыбкий туман, вокруг — голая равнина, серая и притихшая, и только на рыжих холмах, напротив тусклого солнца, робко и неуверенно пробивается первая зелень. От самого горизонта и до того места, где стоит Вовка Троян, черной извилистой канавой степь прорезает глубокая траншея. Можно подумать, что здесь была линия обороны. Но траншею вырыли не люди, а вражеские танки. Вырываясь из окружения, немцы отступали по раскисшей степной дороге на Бобринец. В течение целой недели день и ночь подряд они выволакивали свою технику. Трудно забыть те дни. Он сидел с матерью в землянке. Пол дрожал под ними, содрогались черные стены, и сквозь камыш в потолке струился песок на их головы. Вовка засыпал под рев танков, исступленный вой самолетов, бомбивших переправу, под грохочущий треск снарядов. А когда просыпался, все по-прежнему гудело и ревело наверху. «Фердинанды», «тигры», «пантеры», «амфибии», бронетранспортеры двигались вплотную. И не было им конца. Мокрый снег расползался под гусеницами. Под горячим железом оттаивала земля; одни машины месили густую грязь, другие откидывали ее в сторону, третьи — все глубже и глубже вгрызались в мерзлый чернозем. Колонна стальных чудовищ медленно двигалась по глубокой траншее, которую сама себе вырыла. Издали казалось, что идут не танки, а ползут по земле одни лишь башни с фашистскими крестами и расчехленными жерлами пушек. Когда над этим ревущим потоком нависали наши самолеты и на снежной равнине взбухали и лопались красноватые пузыри взрывов — злобно бухали немецкие зенитки, а колонна ни на секунду не останавливалась. Она еще яростнее билась, пытаясь вырваться из железного кольца. Как бешеная река, разорвавшая плотину, отгремел и схлынул этот мутный поток. Но остался в степи его след — черный шрам от горизонта до горизонта. Вовка подставил спину ветру. Теперь он видел правый берег Ингула. Туда-то, к реке, и тянулась взрытая гусеницами траншея. А над хмурой гладью Ингула, по обоим берегам, печально нависали жалкие останки разбитого моста. Обгоревшие фермы, как два скелета, поднимали из воды костлявые руки, словно звали кого-то на помощь. Вовка еще раз посмотрел на траншею, что вела к переправе, и вдруг сдвинул на затылок шапку. Ты посмотри! Что-то пучеглазое, как сыч, прилепилось в конце прогона, где обрывается мост, и глядит на воду. Это же деркачевская Чирва! Что ей там нужно? Чтоб ты околела! Упадет же в реку… — Мишка! Вставай, Мишка! Заверни эту ведьму. Цыганчук и пальцем не пошевелил. Все так же лежал на бруствере окопа. Лежал неподвижно, совсем как убитый. Ветер трепал его реденький седой чуб. Сейчас Мишка был похож на старого деда, у которого высохло тело и глубоко запали глаза. Лицо было серое, и серый пушок на щеках, без единой кровинки лицо. Вовка со страхом глядел на Мишку, чувствуя, как мурашки побежали по коже. Вспомнил, какие ужасы рассказывали о таких истощенных: вздремнет человек на сырой земле, а ему шею так свернет, так изуродует, что мать родная не узнает… Вовка испуганно толкнул Мишку в бок: — Вставай, говорю, а то скрючит тебя. — Чего? — вздрогнул Мишка. В его сонных, потухших глазах все еще стоял туман. На одной щеке — синеватые вмятины-полоски, следы от стебельков. Он едва приподнял голову, но не смог удержать и снова, как-то безжизненно, свалился на бруствер. — Не лежи, говорю, а то притянет земля! — сердито буркнул Вовка. — Чего? — непонимающе посмотрел Мишка и открыл рот. — Вот глухарь! Ведьму загони, я говорю. — И Вовка показал рукой в сторону моста. Цыганчук долго моргал глазами. Наконец догадавшись, что от него хотят, встал, с трудом удержавшись на ногах. Рубашка прилипла к его худой грудке, седой растрепавшийся чубчик трепыхался у него на макушке. Вздрагивая, он заковылял, зашатался между бурьянами. — Смотри, не усни там, а то кнутом огрею! Собственно говоря, Мишка мог бы и не ходить за пронырливой Чирвой. Он пас одну козу — смирную одногодку деда Аврама, которая ни на шаг не отходит от стада. «Ничего, пусть пробежится, — как бы оправдываясь перед самим собой, подумал Вовка. — К слабакам всякая хворь пристает…» Пока он тормошил Мишку, холодный ветер забрался под брезент, остудил спину, и разбитый палец на ноге заныл. Вовка поудобнее уселся на мягкие листья, но никак не мог согреться. Заныло где-то возле сердца, точно пиявка сосала душу. Так напоминал о себе голод. Теперь, как ни крутись, он не оставит тебя, пока не потемнеет в глазах, пока не закружится голова. И тогда сразу обмякнет тело, и ты, как Мишка, уже не сможешь побороть сонливость. «Хоть бы молочай найти, — неотступно преследовала Вовку мысль. — Молочай, на коленях покачай, кулаком, кулаком, чтобы было молоко…» Вовка даже почувствовал на языке терпкий горьковато-сладкий привкус растения. Запах молочая почудился и быстро исчез. Где его найдешь-то, хотя бы кустик молочая?.. Рано еще! Беспокоил больной палец, нарывал-нарывал без конца, что-то надоедливо выстукивало по вискам, не возвращался Мишка — все это злило Вовку. Сделав над собой усилие, он опять встал. Чирвы на мосту не было. И Мишка словно провалился сквозь землю. «Вот глухарь! Придется самому идти! — Вовка сжал в руке кнутовище. — Исполосую, чтоб знал!» Съежившись, он побежал к реке. Шуршали брезентовые брюки. Шапка прыгала на голове и спадала на глаза. Во все стороны разлетались брызги из-под босых ног. Наконец Вовка, тяжело вздохнув, остановился над обрывом. «Ну вот, полюбуйтесь! — Вовка показал кнутовищем туда, где на куче сухого камыша неподвижно лежал Цыганчук. — Так и знал — дрыхнет!» Мишка в самом деле тихонько похрапывал, раскинув, как плети, высохшие руки. А Чирва стояла уже под мостом и лениво чесалась об рельс сваленной фермы. «Вот я вам сейчас задам!» — хлестнул Вовка кнутом. Расставив широко ноги, он, как на коньках, съехал вниз по скользкому склону. Замахнулся, хотел ударить Мишку. Но тот лежал вверх лицом, рот его был открыт, и в скорбной щелке желтели выщербленные зубы. Вовка отступил. «Переверну его», — подумал он, схватил Мишку за ситцевый воротник. Рубашка лопнула, оголив его худую, глубоко запавшую грудь. Из-под рубашки выскользнуло что-то гибкое и чешуйчатое. Вовка удивленно фыркнул: «Гляди, какой-то шланг спрятал за пазухой и не показывает!» Уже растопырил пальцы, чтоб схватить Мишкин трофей, да так и замер. Острый кончик шланга зашевелился, посмотрел черными, как маковки, глазами. — Ой! Ой-ой! — Этот крик, как взрыв, отбросил Вовку назад. — Гадю-ю-ка!!! Все, что случилось потом, пронеслось в Вовкиной голове как страшный сон. С криком: «Змея!» он без оглядки бежал вдоль берега, ноги сами несли его к мосту. Из-за разрушенной фермы выскочила перепуганная Чирва, а потом дорогу преградил ему Яшка Деркач в широких солдатских галифе. Вовка не успел и подумать, почему здесь оказался бродяга из Колодезного, а только бросил ему в лицо, покрытое лишаями: — Змея!.. Вон там, в Мишку вцепилась!.. — Сумасшедший!.. Козу испугаешь, она и так нервная, — злобно выпалил Яшка. — Какие змеи? Они сейчас дохлые, понял? В норах спят. Но Вовка ухватил Яшку за галифе, потянул его за собой и бормотал что-то бессвязное о гадюке, которая, ей-богу, шевелится. Длинноногий Яшка, которого собаки обходили за версту, которого боялся сам бешеный бугай Гордон (немцы его пристрелили), — Яшка Деркач без страха и колебаний подошел к спящему Мишке. Одним движением отвернул мальчугану рубаху. На белой детской груди, свернувшись клубочком, действительно лежала змея. — Н-да, — покачал Яшка головой. — Наверное, из камыша выползла… Тепло учуяла. Вовке показалось, что змея зашипела, напряглась… Вот сейчас кинется — и жалом в Яшкино лицо. «Убегай!» — хотел было крикнуть Вовка, но не мог: язык одеревенел. А Яшка спокойно ухватил змею чуть пониже головы и поднял ее над собой. Длинное спиральное тело гадюки извивалось в воздухе. — Ишь гадюка, пригрелась на груди, совсем ожила… Правой рукой Яшка схватил змею за хвост, размахнулся и что есть силы хрястнул ее головой об камень. Змея свернулась, судорожно передернулась и сникла. Засунув руки в широченное галифе, Яшка гордо стоял над убитой змеей. Его рыжие, немного вороватые глаза как бы говорили: «Вот как надо, шкелеты! Поняли?..» — Чего? — зашуршал камышом Цыганчук, поднимая с земли тяжелое, закоченевшее, усталое тело. Раскрыв рот, он посмотрел на Вовку, на Яшку Деркача… — Было бы тебе не чего, а того… если бы не Яшка, — осклабился Деркач, тыча пальцем в гордо выпяченную грудь. — Понял? Мишка в ответ скривил синеватые губы, сделал вымученную улыбку и снова упал на кучу холодного камыша. Он так и не видел змеи.2
Одолев змея-стоглава, пошел Яшка в широкую степь за новыми приключениями. А степь лежала перед ним, исполосованная недавними боями, — вся в ранах и шрамах. Куда ни посмотришь — всюду бугорки: черные, рыжие, красноватые, в зависимости от того, в какой земле рыли окопы. В глубоких воронках собиралась талая вода, и казалось, степь, когда-то ровная и гладкая, стала угрюмо-бельмастой. Хмуро поблескивали на солнце ее остекленевшие глазницы-воронки. Среди сухой травы, уткнувшись стволами в землю, неуклюже стояли развороченные танки. Тут и там валялись разбитые кузова машин, раздавленные лафеты пушек, простреленные каски. За каждым холмиком и бугорком среди полыни валялись ржавые гильзы. Правда, в любом окопе можно было найти и нестреляные патроны — в обоймах, а то и в пулеметных лентах. Яшку сейчас не интересовали патроны — дома их полная корзина. Да и оружия припас он целый арсенал. Был у Яшки и автомат «ППШ» с круглым магазином-диском. Был и немецкий ручной пулемет. Была даже мадьярская винтовка, не считая всяких гранат: противотанковой с длинной деревянной ручкой, синего цвета лимонки с ободком посередине, ребристой «Ф-1» и других. Когда Яшку спрашивали, зачем ему столько оружия, он злобно отвечал: — Далеко ли фрицы ушли? Вон за Ново-Украинской — рукой подать — окопались, гады, и огрызаются. Поняли?.. И каждый понимал: если фашисты, не дай бог, снова пойдут в наступление, Яшка будет защищать свою землянку, умрет в ней, но не отступит. Теперь Яшка с единственной целью обшаривал степь — хотел раздобыть бинокль. Черный, с мягким ремешком, он здорово подошел бы к его солдатскому галифе и пилотке. Вот так: блестящий ремешок через плечо, руки в карманах, пилотка набекрень. Поняли? Гвардии рядовой Яшка Деркач — и крышка! Солдатским размеренным шагом идет Яшка степью. И мурлычет себе под нос:3
С юга потянуло теплом, ожила приингульская степь. Тихо дымилась земля, играло в низинах марево. Высунул из норы суслик мордочку, пошевелил ноздрями: весной пахнет… «Пи-и-и!» — испробовал голос. «Ти-и-и!» — отозвался его сосед. И зазвенели в степи переклики сусликов. А в прозрачной, как родниковая вода, бездне безбрежного неба омывали свои крылья жаворонки. Начиналась жизнь, начиналась… Только божьи коровки никак не могли проснуться. Глядел Вовка, как они сидят на камне. Спинки у них красные, в темных точечках. Настоящие тебе вояки — в погонах и орденах. Не случайно их называют солдатики. Только они почему-то неподвижны: с места не сдвинутся — ни живые, ни мертвые. Как будто брызнула на камень кровь и застыла. Эти жучки-солдатики напоминают Вовке родное село. Вот оно, Колодезное, на правом берегу Ингула. Совсем как солдатики, цепочкой растянулись землянки вдоль скалистого берега. Греются на солнце и никак не могут очнуться после январских морозов. Человеческий глаз ко всему привыкает. Уже не день и не два, как Вовка пасет коз и все поглядывает на сожженное село. Уже привык видеть следы пожарищ на другом берегу. Подует ветер — разнесет тучи пепла. Кое-где белеют обрушенные стены. Словно кровянистые десны, возвышаются кирпичные печи. Тянутся в небо почерневшие дымоходы. Вот и все, что осталось от Колодезного. А было же село. Вы только посмотрите, люди добрые, в каком месте гнездились славные прадеды степняков! По правую руку — высокая скала Мартын, склонившая лобастую голову над Ингулом. По левую — еще выше — скала Купец, а вокруг нее, как малые дети вокруг отца, тесно столпились скалы. Между ними с севера на юг рассыпались по широкой низине веселые хаты, как девушки в белом, те, что бросают цветы в Ингул. Из Мартыновки на Купавщину по каменистым валунам тянулась дорога. Вдоль нее будто кто-то разбросал самоцветы над Ингулом: голубые, розовые, ярко-желтые с золотистыми жилками. Эти валуны тут и там выглядывали из-за хат, из разросшихся огородов, из расцветающих садов. А из-под камней била ключевая вода. Наверное, потому и назвали степняки свое село Колодезным. Об этих валунах интересную историю рассказывал Вовке дед Аврам. Ехал, говорит, с поля старик баштанник, вез домой тыквы. Ехал не торопясь, трубку курил. А колеса скрипят, телега дребезжит, и не слышит старик, как тыквы шлепают на землю. Одни, треснув, так и остались лежать на дороге, другие на огороды покатились, а которые — до самого Ингула. — Да какая ж это тыква? — удивлялся Вовка. — А ну, ударьте топором — искры полетят. — Э-э! То не простая тыква — заколдованная. — А почему они такие огромные? — Потому что выросли. Камень и тот растет, чтоб ты знал. Когда я был еще молодым, как этот Мартын, — и дед показал на высокую отвесную скалу, — был мне всего до пупка — вот такой крохотный. Встану, бывало, возле горы и даю щелчка. А сейчас поди как вырос — не достанешь… И начнет Аврам Дыня рассказывать, как они когда-то жили. Да что дедовы разговоры!.. Вовка и сам помнит довоенную жизнь. Село пахнет яблоками, магазин — бубликами, взмыленные лошади, бегущие на водопой, — ячменем… По мосту подводы громыхают: одни — в Бобринец на базар, другие — за дровами на Долинскую. А под мостом детворы видимо-невидимо: одни — ныряют, другие — в воде плещутся, третьи — карасей ловят. Какая рыба попадалась! А сомы!.. Сейчас их нет. Снарядами и бомбами рыбу поглушили, и поплыла она, мертвая, в Черное море. И село война приглушила. Закопалось оно в землю, притаилось. Наскоро врытые землянки, как свекольные ямы, глиной да ботвой едва прикрыты. Не окнами (их нет), а зияющими дырами смотрят землянки на весеннее солнце. Там, за мостом, на Купавской улице — первая Вовкина халупа. А рядом едва заметная лачуга, где живет одна-одинешенька Ольга — такая запуганная девчонка, что совсем не выходит на улицу. И дальше — несколько пустующих усадеб. Значит, нет живых. Кого сожгло, кого убило, кого голодом уморило. Да, много безлюдных дворов, потом еще несколько землянок, а потом уже — Денис Яценко: у него большая семья… И на Мартыновке горсть людей, на пальцах можно посчитать. Через дорогу-траншею — дед Аврам, затем снова пустые огороды, за ними — Яшка Деркач с матерью да еще три-четыре халупы. А на отшибе, под скалой Мартыном, уцелела единственная хата старого Кудыма. (Кудым! И вспомнить неприятно: к этому скряге Вовка нанялся пастухом.) Мертвая тишина над землянками. Никто не пройдет, не проедет. Не замычит корова в сарае, не залает собака на цепи. Тихо. Почти как на кладбище. Сколько таких сел над Ингулом! Сколько по всей Украине! …А в разбуженной теплыми ветрами степи забурлила жизнь. Вон суслик пополз к соседу. Крикливое воронье кружит над подбитыми танками. Козы зеленую травкуобщипывают. Между окопами — желтые одуванчики, лохматые головки сон-травы, дымчатые венички полыни. Все к солнцу тянется. И Мишка Цыганчук немного отошел. Рубашка расползлась на плечах, теплые лучи спину согревают, а он сидит на перевернутой гильзе от снаряда, как на донышке ведра, и вырезает замысловатый узор на кнутовище. Вовка тихонько подходит к Мишке сзади, шапку на затылок, вытягивает шею. В его больших черных глазах с голубыми тенями от длинных ресниц — жадное любопытство ко всему. Зачарованно смотрит Вовка на Мишкину работу. Красиво! Очистив толстую вишневую палку от коры, Мишка начертил клеточки, и каждую клеточку по-разному вырезает: одну — колокольчиком, другую — морскими волнами, третью — оживляет хитрыми узорами. Не кнутовище, а дудочка получается. «И кто научил его этому?» — удивляется Вовка, хотя и знает, кто учил мастерству молчаливого Мишку. Был когда-то у него отчимом цыган. Здоровый, красивый и такой ленивый, что мухи с носа не прогонит. Пил, да гулял, да песни пел. Но Мишкина мать любила его. За веселый нрав любила. За то, что, когда трезвый бывал — правда, это редко случалось, — принимался выпиливать и вырезать. Проспится, для настроения сыграет на гармошке, гопака спляшет — и потом за дело: одну ложку или подставку, бывало, месяцами делает. Но когда закончит, вся Мартыновка диву дается. Соберутся женщины и начинают: — Гляньте-ка, бабоньки! Это совсем не черпак, а вроде как сом. Вон голова, а вон усы. Даже вертит хвостом. — А вон солонка, смотрите, прямо живая! Так и улыбается, ей-богу! Пожил-погулял цыган в селе и подался невесть куда в широкий мир, оставив Мишке обидное прозвище Цыганчук, да еще неуемную привычку — вырезать. Теперь Мишка не пропустит ни единой щепки, ни одной палочки, все прикидывает: что бы такое смастерить?.. — Ну что, получается? — спрашивает Мишка и, лукаво прищурив глаз, смотрит на кнутовище. На бледном лице его тихая радость, сдержанная гордость: вот взял сухую вишневую палку, поколдовал над ней — и ожила она удивительными узорами. — Получается, — облизывает Вовка языком засохшие губы (жарко ему и завидно: какое кнутовище будет у Мишки!). — Получается, лучшего не надо! — Хочешь, я тебе саблю сделаю? Заместо ручки — львиная голова с мохнатой гривой. Лев из зарослей охотится: присел, ноги под себя — вот-вот прыгнет… Сам видел на картинке. Мишка задумался, будто переносит на резьбу живого льва. Седой чубчик падает на лоб, солнце выполаскивает каждую морщинку, и лицо у мальчугана уже не хмурое, а по-детски доброе. Эта сосредоточенность передается и Вовке. Он молчит; в сонной тишине рождаются добрые слова, которые он из-за мальчишеской застенчивости никогда не скажет вслух. — Миша, — наконец решается Вовка, шуршит брезентом, вынимая свой трофей — механический фонарик. — Возьми! В блиндаже нашел. Ты один в землянке — может, понадобится. Цыганчук испуганно поднял глаза: — Чего? Это мне? — и рукой отстранился, как бы говоря: за что мне такая честь? — Погоди, кленовую саблю сделаю, тогда обменяемся… Оба смутились, но это быстро прошло, и Вовка облегченно вздохнул. Показал Мишке на пальцах: «Хочешь есть?» Затем предложил: — Давай щавель поищем. Такая музыка, брат, в животе, хоть песни пой… Пошли! Возле окопа нашли ребята щавель. Он распускал первые листики, слабые, бледно-зеленые. Листики таяли во рту, как льдинки. «Словно мерзлая калина», — поморщился Вовка. — Кто-то идет, — кивнул Мишка и поглядел в степь. — Похоже, солдат. Вдоль траншеи не торопясь шел к пастухам незнакомец. На ветру развевались полы шинели. Нет, не солдат… Вон заячья шапка. В руках посох. Шаркает лаптями. До самых колен — портянки, завязанные шнурком. Худенький старичок. — Доброго здоровья, люди божии, — сказал старик и снял шапку. — Здравствуйте, — ответили ребята. — Скотинку пасете? — полюбопытствовал тот. — Ага. Козы… А вы издалека? — спросил Вовка, с детским нетерпением рассматривая старика. И Мишка глядел на пришельца молча, с каким-то страхом. — Да как вам сказать… — нехотя ответил дед. — С тридевятого царства иду. — Ну что там? Немцев далеко прогнали? — не успокаивался Вовка. — Позвольте присесть. Охо-хо! — И старик, приподняв полы старой шинели, присел на влажную ботву. — Нет покоя на белом свете. — Не садитесь на землю. — Вовка подкатил гильзу. — Лучше здесь: в траве змеи водятся… Мишке под рубашку залезла. — Твоя правда, сынок. — Дед погладил седую бороду, острым взглядом оглядел ребят: — Бреду степью и вижу — страшное что-то творится вокруг. Сусликов тех, как червей. В оврагах лисицы брешут, в буераках волки воют. А если и стояла где-нибудь скирда соломы, мыши всю ее истребили. Хомяки, крысы, саранча — гаспидская нечисть ползет на землю. Волков и лисиц ребята в степи не видели. Но сейчас, окинув взглядом заросшие бурьяном холмы, Вовка испуганно зажмурился: ему показалось, что темные кусты закачались, из траншеи сверкнули зеленые огоньки хищников. Вовка пододвинулся ближе к разговорчивому деду. — И откуда эта напасть? — Сразу видно: разумный хлопчик. — Старик прижал Трояна к теплой шинели. — Я и сам свои ноги не жалею, все у ветра спрашиваю: «За что наказанье божье?» А вчера иду куда глаза глядят; уже стало темнеть, совсем затихло в степи. Солнце село за облако. Смотрю, а то облако плывет, плывет ко мне и все ниже, ниже. На глазах оно изменяется, играет всеми цветами, словно радуга в небе повисла. («Добрый дедушка и сказки хорошие рассказывает», — подумал Вовка и еще сильнее прижался к старику). Вижу, над тучей сияние, а на высоком престоле — божий посланник, крыльями размахивает. Вдруг, ну прямо передо мной, остановилась туча. И встает с голубого престола архангел Гавриил, подходит ко мне и так говорит: «Вот тебе, человек добрый, божественное письмо. Неси его по белу свету. Кто прочитает послание, поверит ему, семь раз перепишет и людям раздаст, тому бог спасенье пошлет. А кто отвергнет, яко диявол, тому уготовлена кара адова и на земле и на, небе…» Вовка замер. В его больших карих глазах отражалось все небо. На небе — ни облачка. Посмотрел Вовка в синеву, и почудилась ему голубая лазурная гладь Ингула. И ровный лужок, похожий на небольшое зеленое озеро. Захмелев от дурманящих запахов земли, убаюканный пением жаворонков, лежит Вовка под стогом, как в детской люльке. Отец, как будто взлетая на крутую волну, кладет покос за покосом. Он без рубашки, тело белое и чистое, только под мышкой да на плече — розовые шрамы. «Тату! — кричит Вовка и бежит к нему по зеленой траве. — Это поляк вам под мышку стрельнул?» «Ага, белополяк. А под ключицу, навылет, — махновец». «Расскажите, как это было». Клочком травы отец вытирает косу, и глаза его наполнились солнцем, а на лбу выступили крупные капли пота. И добрая улыбка затерялась в казацких усах: «Знает, хитрец, а вишь, переспрашивает…» «Об этом, сынок, долгий сказ. А вот если хочешь, о нечистой силе послушай… Был я таким, как ты, разве что на годок старше. Опоздали как-то мои братья на ужин. Распрягли коней, я поводком связал их — и в ночное. Ночь была, как сейчас помню, ясная, лунная, дорожка впереди серебристая. Еду высокой рожью; она густая, за пятки щекочет. И вдруг — задком мои кони, уши подняли и храпят. Что за оказия? Вспомнил, как говорили в селе о нечистой силе. Вроде бы во ржи сидит, а кто попадется — в болото заманивает. Так и есть, думаю, попал в беду. Назад возвращаться — дома засмеют: скажут, куста испугался. Дергаю лошадей за поводок, что мочи стегаю хворостиной. Рванут они вперед — и снова стоп. Гляжу, на дороге черный комочек. Кони к нему — он откатывается. Кони остановятся — и он замрет. Ах ты, чертова душа! Вскочил я на землю да за комочком, за комочком; как зацепил ногой, а оно, колючее, хряк — и перевернулось. И что бы ты думал? Еж. Самый обыкновенный еж. Вот она какая, нечистая сила, что в болото затягивает!.. Ну и посмеялись мы дома потом». Вовка задумчиво сосет палец. Он и удивлен и разочарован. Что-то, видно, отец недосказывает. «А чего вы, тату, про ежа вспомнили?» Отец загадочно улыбнулся и, сложив губы трубочкой, сказал: «Тише!» А сам пальцем показывает: отверни, дескать, лопушок. Не бойся, казак, смелее!.. У Вовки сердце застучало. Нет, ему совсем не страшно, он весь в ожидании таинственного чуда. Под лопухом притаился еж. Вот он уже в Вовкиной фуражке — серый колючий комочек, и теперь Вовка не усидит на лугу, он побежит в село к ребятам. А пока он серьезно слушает напутствие отца: «Услышишь, сынок, о всякой небылице — не верь: то выдумки темных людей…» А воспоминания переносят Вовку в шумную хату. Отец — колхозный бригадир, только что вернулся из Москвы, и в комнате полным-полно гостей. Вовка взобрался на печь, забился в угол: листает книгу с удивительным названием — «Географический атлас». До сих пор он помнит рисунок из книги: зеленый кружочек — Земля, желтый кружочек — Луна. От Земли до Луны — стрелки, над ними самолет, поезд, люди. И было написано там, сколько нужно дней или месяцев (Вовка, к сожалению, забыл), чтобы взобраться на небо. Кто-то из взрослых тоже склоняется над книгой: «Выходит, кум Андрей, скоро полетим в гости к богу?» «Полетим, обязательно, — соглашается отец и подкручивает усы. — Только там, на звездах, такие же люди, как и мы. Степь пашут, пшеницу сеют. А бога нам для острастки попы придумали…» Вовка не верил в бога. Вовка верил отцу. Поэтому он, услышав о туче и крылатом Гаврииле, спросил чистосердечно: — А вы не врете, дедушка? — Свят, свят, свят, глупая твоя голова! — отмахнулся старик. — Выплюнь дурные слова и забудь, а то господь накажет. Дедушка распахнул шинель, сухонькими пальцами вытянул из-за пазухи листик бумаги. Бородка его торчала, острые глаза бегали: то подмаргивали насторожившемуся Мишке, то так жгли горячими угольками Вовку, что он вдруг сполз с дедовой шинели и, съежившись, сел на мокрую землю. — Вот оно, божественное послание! (Бог писал, как заметил Вовка, жидкими фиолетовыми чернилами и странными закорючками.) Здесь все сказано: кайтесь, люди… В покорности, в молитвах очищайтесь от своих грехов, ибо дьявол натравливает темных, яко собак… — Так вам, дедушка, с этой бумагой к немцам надо, — посоветовал Вовка. — Что они здесь натворили!.. Хуже псов. — Бог всевидящ, всемогущ, и не нам, слепым, учить его… — Почему же он пустил фашистов на нашу землю? — Бог не смотрит, кто откуда; бог всякого карает за содеянное зло. — А поглядите на Мишку. Ну чем он виноват? Мать его с голоду умерла, оставила двух сирот — его да Сеньку. Пошли хлопцы в степь и на мину напоролись. Сеньку сразу… на куски. А он, видите, оглох… — Гм… Глухой говоришь? — Глухой. Дед вчетверо сложил потертое божественное послание, запихнул его под расстегнутую рубашку. Взял посох. Глаза его были уже не здесь, а где-то там, за Ингулом. — Вы оба глухие. А еще и язык вам бог отнимет, чтоб не хулили святого отца. Вовка не слушал деда, он упрямо твердил свое: — Возьмите, к примеру, мою бабушку и сестричку Галю. Фашисты их в хате заперли — и огонь под стреху… Дед пристукнул посохом: — Что ты, сопляк, заладил, фашисты да фашисты. Это слуги дьявола, и кипеть им в смоле огненной! — Так почему же бог не отнял у них руки, когда они село жгли! Что он, за фашистов, ваш бог? — Ты не ропщи!.. Не смей роптать на господа! О душе своей пекись, кабы сам не кипел в аду. — А мы, дед, уже видели пекло! Не пугайте. — Тьфу! — не выдержал дед, встал, запахнулся, подвязал шинель веревкой и сказал: — Черная твоя душа и на глазах бельмо. Не будет прощения тебе ни на земле, ни на небе… И дед сердито зашлепал лаптями. Он шел к Ингулу не оглядываясь. И Вовке вдруг показалось: сидит новоявленный Гавриил в их землянке, мать перебирает гнилую свеклу, как тяжелые мысли свои, а этот спаситель бередит ее душу змеями, волками и прочей нечистью. — Эй, дед! — крикнул вдогонку Вовка. — Лучше не ходите в село. У нас председатель — фронтовик, снарядом его контузило. Вы ему письмо, а он — костылем… Ему-то что: трахнет разок — и ноги протянете. (Вовка соврал о председателе — не было еще в селе ни колхоза, ни правления.) — Бог вступится! Въедливый старикан упрямо шел вперед, не сворачивая с дороги. Вовка поднял руку, нацелился пальцем в заячью шапку. — Бах! — выстрелил губами. Но Гавриил не падал, посохом измерял дорогу к селу. — Он ругался, да? — испуганно спросил Цыганчук. — Серди-и-тый… — Хлеба просил, — пробормотал нехотя Вовка (а что ты ему скажешь?). — Нашел у кого просить!..4
— Ма-а-а!.. Я за сухим кураем сбегаю… Алешка Яценко, Вовкин дружок и одногодок, трется возле покосившегося крольчатника, который напоминает избушку на курьих ножках. Коробка его сбита из гнилых досок. Вместо крыши — куски фанеры, жести, черепицы. Алешка слышит, как стучит крольчиха лапой. Наверное, своих детенышей усмиряет. — Мам, я быстренько сбегаю. — Алешка тоскливо глядит в степь, туда, за Ингул. Белые пятна на желтеющем поле — это, конечно, козы. А вон тот бугорок — не иначе как Вовка. — Тебе лишь бы из дома сбежать! — сердится мать. — С Вовкой давно не виделся? Мать развешивает на веревке рубашки, штаны, юбки. Одежда пожелтела от сырости, пахнет гнилью. В землянке, почти у самой двери, стоит вода: все плесневеет и портится. Только взойдет солнце, мать с дочерями уже тащат барахло во двор сушить. — Ну и не виделся, — дует Алешка губы и сопит носом. — И топить нечем… — Ты с Вовкой как иголка с ниткой, — говорит мать, уже готовая отпустить сына. — Вроде вас одной грудью кормили. Матери никаких забот: дружит ее Алешка с Трояном — и ладно. Вовка из хорошей семьи. И стоит ли думать: почему они дружат да как они дружат? А загадка была. Алешку Яценко дразнили в селе и Зайченко, и Куцехвостым, и Трусишкой. Наверное, потому, что был он плаксивый, как девчонка. Разрушат ребята птичье гнездо, Алешка тихо подберет желторотых птенцов — и деру! Дома возится с ними, согревает их, кормит. А если пропадет голопузый птенец, ревет на всю улицу. Однажды Яшка Деркач потащил слепых котят к Ингулу. Увидел Алешка, прицепился к нему как репей и так ныл, так просил, что Яшка не вытерпел — бросил под ноги одного котенка: «Бери да цыц, заячья душа!..» Ребята, бывало, сцепятся, таскают друг друга за волосы — Алешка в сторонке стоит и слезами обливается. А когда он плачет, нижняя губа его, толстая и будто ниткой надвое разделенная, трясется по-заячьи. «Трусь-трусь-трусь!» — смеются над ним ребята. Таким был Алешка. А Вовка?.. Наслушавшись отцовых рассказов об атаках буденовцев, о штурме Перекопа, о боях с басмачами, Вовка и сам втайне мечтал совершить что-то необыкновенное, что-то героическое. Так и рвался командовать, вести за собой ребят. Смышленый на выдумки, был он слаб здоровьем. А на улице признавалась одна власть — власть сильного. С завистью смотрел Вовка, как сельские ребята ходили за Деркачем. Потому что только Яшка прыгал в воду со скалы Купец. Потому что только он переплывал Ингул в самом широком месте — напротив скалы Мартын. Потому что Деркач не только пришлым хвастунам, но и самому черту рога скрутит. «Ну и что из того? — пытался успокоить себя Вовка. — Большой, как вышка, да глуп, как мартышка…» И все-таки это было слабым утешением. Командир без войска — ноль без палочки. И Вовка тайно ненавидел того, кто всегда и во всем обгонял его. Единственным человеком, безупречно признававшим Вовкин авторитет, был Алешка. Добрый, немного трусливый, он искал защиты и нашел ее в лице Вовки Трояна. А резкий, заносчивый Вовка искал себе верного Петьку-пулеметчика и нашел его в лице Алешки Яценки. В этом был секрет их дружбы, о которой не каждый догадывался. Да, наверное, и сами ребята не понимали, почему им весело вдвоем и грустно друг без друга. Вот и сейчас Алешка сказал, что по хворост идет, а сам, взяв с собой в дорогу веревку, представлял себе, как они встретятся с Вовкой. Перво-наперво пожмут они солидно друг другу руку: «Здравствуй, Алеша!» — «Здравствуй, Вовка!» И начнет Вовка рассказ про смелого разведчика Калашника. Или он, Алешка, начнет… «Помнишь, Вовка, — скажет он, — как мы плащ-палатку стащили у немцев?» «Помню! Ты стоял за углом и караулил…» «А ты быстрей к машине, прямо в кабину…» «А ты как свистнешь: немец!» «А ты схватил палатку — да бегом к реке!» «А ты за мной! Караул — немцы кричат!..» «Ох и бежали! Я как зацепился за камень, как шлепнулся, аж кровь из носа…» «А помнишь, как мы вбежали в нашу хату. Глянули, а в палатке китель. Моя мать китель — пополам, тебе одну половину…» «А тебе другую», — добавит Алешка. «А в моем кармане — ножик». «Нет, Вовка, это в моем». «Ты что, забыл?» «Может, и в твоем», — согласился Алешка, хотя и знает, что было как раз наоборот, но Вовка быстро обменял свою половину. «А мать сшила нам пиджак и штаны». «И тебе и мне одинаковые». Посмотрят ребята друг на друга. На Вовке зеленый пиджачок, и на Алешке такой же — из одного кителя. На Вовке штаны с заплатами, и на Алешке такие же — недаром сшиты из одного плаща. «Просто близнецы!» — смеются друзья… — Чего зубы скалишь? — пробормотал Алешкин отец, неся из погреба ящик с инструментами. — И куда собрался? — Пускай идет! — заступается мать за самого младшего. — Душу с Вовкой отведет. — Никаких «пускай»! Землянку надо подправить. Чего гнить нам, как бревнам среди болота. Алешка знает: если сказал отец — все, не отпустит. И, глянув в последний раз за реку, где паслись козы, он тяжело вздохнул и пошел помогать старшему брату Илье, который уже месил глину. Старый Денис Яценко вывел во двор все семейство: двух сыновей, трех дочерей — Федо́ру, Зинку, Ольгу и даже пятилетнюю внучку — Федо́рину дочь, Катюшу. У плотника Дениса дети словно на одну колодку сбиты: все белобрысые, приземистые, широкие в плечах. И такие же толстогубые, как и мать — тихая и добрая казачка Ульяна. — Вы, девчата, разбирайте потолок, — распоряжается отец. — Ты, старая, подавай с Ильей валки. Да смотрите, глину как следует месите. А ты, Алешка, собирай кирпич на пепелище. Какой попадется — целый или битый, ко мне подноси. И пошла работа, как в муравейнике. С деда-прадеда были Яценки мастеровыми, были работягами-молчунами. Угрюмый Денис все умел: и плотничал, и печи клал, и стропила ставил. Старая Ульяна — неизменная повитуха в селе: она благословляла на свет всех ребятишек. А еще знала она целебные травы — и от лихорадки, и от простуды, и от чесотки. И откуда только не шли к ней люди со своими болезнями!.. Дочери — каждая к своему делу: одна — пряла, вторая — вышивала, третья — чулки и варежки вязала. Яценки были дружны и всегда держались вместе, как пчелиный рой, и потому, наверное, все и пережили тяжелое время. Как только немцы, отступая, подошли к Ингулу, Яценки первыми оставили двор и в степи, за Купцом, выкопали землянку. Там все вместе и перезимовали. Ни зернышка, ни щепотки соли, ни спички не было. Кормили их ноги и мужицкая находчивость. Илья делал из провода нехитрые ловушки. Ночью, только немного стихнет стрельба, выползет он незаметно в степь, расставит западню на заячьих дорожках. Смотришь, и попадет в нее куцехвостый. Алешка таскал из проруби окуньков, разбуженных взрывами. Девушки собирали в оврагах мерзлый боярышник и калину. Отец высекал из камня огонь, мать с Катенькой колдовали над чугунком. Так и перебивались. Когда наши отбили село и стало спокойно, вернулся Яценко на старый двор. Раньше здесь они жили, как в раю: с одной стороны — яблоневый сад и пасека, с другой — скала Купец, как могучая стена, а между ними, в ложбине, — хорошо сбитая хата; плодоносный огород тянулся до самого Ингула. Теперь даже страшно посмотреть вокруг: сгорела хата дотла, танки раздавили яблони и ульи, снаряды вспахали огород. Но Яценки не рыдали, не ломали себе руки, а молча начали копать новый погреб. И этой весной, когда еще дремало приглушенное войной село, первыми принялись поднимать хозяйство Яценки. Вышла дружно вся семья: закладывали фундамент новой хаты, поправляли землянку.5
— Василек, вставай! «Василек… Уже и забыл это имя». Вовка Троян прижимается к печке, все тело его налито сладкой истомой, и мальчишка, натягивая на голову рядно, слегка улыбается. И вспоминается ему что-то далекое, полузабытое… Вот он, первоклассник, бежит в школу с сумкой на спине. Стучат карандаши в пенале, под рубашкой теплый сверток — только сейчас из печи пирожки с вишнями, еще пахнут угольком… «Василек, в школу опоздаешь», — поднимала его мать с кровати. Давно когда-то, будто сказку перед сном, рассказывала мать Вовке: «Нашла я тебя сынок, в васильках. Иду степью, как раз весна была, кругом такая красота, что не налюбуешься: а тут смотрю — лежит во ржи маленький ребенок, ну совсем как тот лепесток… Так и назвали тебя Василек. Хотели и в метрики записать, да сказали: нет такого имени — может, Володя? Ну, Володя так Володя, а для нас все равно Василек…» Потом или подрос мальчишка, или жизнь другая стала, но Василька все стали называть Вовкой. И вот сейчас как дождь с ясного неба: — Василек, вставай! Он медленно открывает один глаз, второй: добрая сказка рассеивается, низенькая землянка наполняется зеленоватыми сумерками. Солнечный луч едва проникает через стекло: метра в полтора высоты — земляная стена, вверху опоясанная желтым саманом, между двумя саманами — квадратная ниша, в глубине которой виднеется пыльное стекло; это окошко выходит на Ингул. Окошко маленькое, а мать еще поставила герань в консервной банке. И может, от этого цветка, а может, от мха, что покрывает стены, в землянке стоит густой сумрак, совсем как под кустом бузины. — Василек… Пора коз выгонять. Мать говорит тихо, в ее голосе чувствуется старая, невысказанная боль. Она сидит в углу возле низенькой закопченной плитки, ржавая жестяная труба которой выходит на улицу… Мать перемешивает кочергой тлеющие угли, руки у нее черные, потрескавшиеся, как дубовая кора. На коленях — два клубка шерстяной пряжи. Она часто сидит с этими клубками, смотрит на огонь и вспоминает… Может, перед ее глазами с темными кругами печали стоит багровое зарево над селом. Кажется, и сейчас это зарево полыхает на ее лице. В тот страшный вечер мать бросила Вовку посреди степи (хорошо, что Яценки его подобрали), а сама побежала назад по снегу к своей хате, потому что там остались Галинка с бабушкой. Она бежала и видела, как горит село, как взлетают в небо огромные языки пламени, как трепещут на сугробах зловеще красные отблески пожара. Бушевал огонь, и вечернюю тишину раздирали стоны, стрельба, немецкая ругань. Спазмы сдавили ей горло. Она бросилась к горящей хате; как безумная металась среди огня, руками выгребала раскаленные угли из-под обломков, И что-то нашла, как будто головки, черные головки с обгоревшими косами. «Это они! — Мать схватила два дымящих клубка. — О боже! Доченька моя… мама моя!» — и побежала к Ингулу, прижимая к груди то единственное и дорогое, что обжигало ее. Она спотыкалась и снова бежала, не разбирая дороги, слепая, обгоревшая, пока не свалилась в канаву. Упала в снег, из рук покатились эти клубки, и только здесь разглядела она — то была пряжа. Что-то клокотало в груди, а мать глубже зарывалась в сугроб, погружая в снег пылающее лицо и руки… — Мам, я уже, — нарушил тяжелое молчание Вовка. Быстро натянул брезентовые штаны, накинул пиджак, надел шапку. Обернулся к постели. Постелью служил жесткий топчан на кирпичных подставках, покрытый сверху рядном. Вовка засунул руку под рядно: автомат на месте, возле стены, — значит, мать не выбросила. И собрался идти. — Выпей компот. Вовка зачерпнул кружкой теплого компота. Он был пустой и жидкий, словно дымком приправленный. Ну какая сладость из гнилой свеклы? Тошнотворное питье, в котором плавает что-то скользкое, похожее на головастиков. Вовка погонял ложкой свекловичные хвостики, отодвинул горшок: — Не хочу. — Что поделаешь, сынок, если нет ничего? Мать по-прежнему смотрела в багровый глазок плиты, и яркие отблески огня причудливо отражались на ее усталом, морщинистом лице. Руки бессмысленно гладили тугие клубки пряжи. Такой же клубок распирал Вовке грудь. Чтобы не расплакаться, он быстрей выскочил на улицу. Солнце ударило в глаза, ослепило парнишку. Словно за течением, поплыл он по незримым волнам. Влажное раннее утро приняло его в свои объятия. Он зашагал не спеша, в глазах постепенно рассеивался туман, и дышать стало легче. Разбежавшись, Вовка перескочил траншею, которая разделяла Мартыновку и Купавщину, и направился к Кудыму. В лужах на дороге отражались солнечные лучи. Мокрые от росы камни играли разными цветами. Вдоль берега, осев по самые крыши в землю, хмурились жилища мартыновцев. Землянки забросаны камышом, ботвой, придавлены серыми досками. Кое-где из-под земли вился дымок. Первая от траншеи — лачуга Аврама Дыни. Дед Аврам, лысый и круглый, как тыква, сидит на бревне. Рубашка у него расстегнута, солнце пригревает волосатую грудь… Дыня — мастер в селе по галошам. Из камер, из старых бахил клеит универсальную обувь — на зиму и на лето. И все это он обменивает на еду. Сегодня старик развесил галоши на кольях плетня, чтоб просыхали, и они, как солдаты в касках, выстроились в ряд перед дедовой землянкой: дескать, выбирайте, люди, какие вам нравятся. Много не возьму — дадите одну картошку, и за это спасибо. Хватит мне, хватит и Мишке-пастушку!.. Сам Дыня галоши категорически не признает — ходит босой. «Тело, оно всегда дышать требует. А резина (чтоб ей пусто!) не пущает воздуха, и получается ревматизм». А еще знаменит Аврам тем, что умеет очень складно говорить. Увидит, к примеру, соседку, Яшкину мать, заблестит веселыми глазками и запоет соловьем: — Куда идешь, Аниська, далеко или близко, и чего ты, сердце, дребезжишь ведерком? Каждую женщину остановит, и для каждой у него своя присказка. А мужиков Дыня не любил, так как считали они старика чуть ли не придурком. Заметив мужчину на улице, Аврам набычивался и холодно: — Есть табак?.. Нет табака, вали к… — и дальше складно, но не очень вежливо. Зато детвору встречал дед Аврам, как тот циркач. Только покажется в конце улицы чья-то головка, Дыня и пританцовывает, и причмокивает, и бровями двигает: — Куда, казаче, скачешь, что деда не бачишь? Высунет язык, ладонь поставит ребром и давай пилить: — Нарежу мяса, закусим часом, запьем водою — и бог с тобою. И Вовку Трояна, который шел к Кудыму, Дыня не мог не заметить. С этим пареньком у него давняя дружба. Умел Дыня слушать, умел и свое словечко вставить: — Здравствуй, пастушок, не опускай ушок, чтоб ему пусто!.. Зажурился аль рано женился? Вовка поздоровался с дедом за руку и стукнул кнутовищем по лобастым галошам, и они, хрюпая, повернулись на кольях, как будто удивились: чего это с нами так неучтивы? — Спрашиваешь, дедушка, отчего загрустил? Скажу:ВСЕ СИЛЫ НА ПОМОЩЬ ФРОНТУ— Где ж ты слова такие нашел? — Твоя мать кусок газеты дала. А там большими буквами написано: «Кировоградская правда» и то, что на стене. — А краску где взял? — Отец кирпич растер в ступке, добавил глину, вот и рисует… У Василька от зависти аж кисло стало во рту. Он бродит по степи, с этими козами мучится, а здесь вон что делается. Женщины лопаты набивают, ребята лозунги пишут… Не сказав ни слова, Троян вырвал у Алешки щетку, сунул в гильзу и нарисовал восклицательный знак:
ВСЕ СИЛЫ НА ПОМОЩЬ ФРОНТУ!— Что же ты не придешь ко мне, ничего не расскажешь, — сопел обиженно Василек. — Приду, Вовка, и все-все расскажу! Ведь это Яшка село растревожил. — Как растревожил? — Ты не знаешь его!.. Где-то лошадь поймал — и айда по дворам. Вот люди и очнулись. А дело было так.
6
Крикнув пастухам: «Эй, шкелеты, седлайте своих коз!» — Яшка Деркач направил коня к переходу, который настелили наши саперы рядом со взорванным мостом. Тах-тах, тах-тах… — глухо заговорили доски под копытами лошади. Кобыла бугром выгибала острую спину, еле-еле взбираясь на гору. Яшка сказал: «Лево руля!» — и повернул на Купавщину. Остановившись возле землянки Троянов, он спрыгнул, залихватски поправил пилотку. — Тетка Оксана! — позвал он соседку. На улицу выглянула Трояниха, босая, в обгоревшем платке. — Посмотрите, что у меня! — Гляди! Настоящий конь! Где ты его нашел? — собственным глазам не поверила тетка Оксана. — В Терновой балке, — гордо ответил Яшка. — Вот это по-хозяйски, — похвалила Трояниха, — в колхозе сгодится. — Такая мощная, что и трактор перетянет… Стой! Куда тебя чума несет? — Яшка пришпорил клячу, и она как призрак пошла по улице. Деркач с шумом влетел во двор Ольги-беженки. Ее и сестру Марию фашисты угнали из-под Воронежа, с фронтовой полосы, и сестры, как многие беженцы — орловские, курские, воронежские, разбрелись по украинским селам и хуторам, укрываясь от полицейских облав… Худенькая, застенчивая Ольга (и не скажешь, что девушка на выданье!) изумленно всплеснула руками, увидев Яшку. Все у нее маленькое — носик, уши, подбородок, и все как будто просвечивается, все доверчиво улыбается. И бравый Яшка улыбнулся, подтянул галифе, передразнил ее окающий говорок: — Подь сюда, Олькя!.. Ой ты, Ольга, Ольга молодая, забрали казаки, увезли с собою. Поняла? Выходи вечером на свидание… — Яшечка-букашечка, — частой скороговоркой защебетала Ольга, — ты ж такой щупленький! Притисну тебя — и не пикнешь. — Ну-ну! — насупил рыжие брови Яшка. — Это мы еще поглядим. Он хотел галопом вылететь со двора («Будь здорова, черноброва, до следующей весны»), но конь не стал рисковать своей жизнью — осторожно вынес Яшку на ровную дорогу. Деркач, растревожив затем семью Яценко, в сопровождении горластой и ободранной детворы гордо проехал по всему селу. Люди выползали из темных землянок, хмурились от солнца, перекликались друг с другом. Что-то тревожное, весеннее пробуждалось в дремавшей душе степняков. Тетка Оксана уже не смогла вернуться в заплесневевшую землянку. Потуже затянув под мышками платок, поплелась она, тихая и задумчивая, к кузнице. Там среди ржавого железа нашла старый лемех и куском проволоки подвесила его к столбу. Бу-у-м, бу-м-м! — разнеслось набатом над Ингулом. Казалось, это весна застучала в колокол, созывая людей на сельский сход, чтобы сообща подумать о земле, о хлебе. Из лачуг, из мокрых ям выползали женщины, дети, замшелые старухи и старики. — Добрый день, соседи. Что случилось? — Видно, власть приехала. — Может, фашист, случайно, возвращается? — И болтаешь такое!.. Чтоб их, проклятых, в могиле перевернуло! Толпа окружила Трояниху. Голодные глаза крестьян были прикованы к женщине, которая долго стучала в лемех, рассеивая по земле журавлиный клекот. — Ну что? — спросила Трояниха у людей. — До каких пор в норах будем сидеть? Кроты и те выползают. Жить как-то надо. О детях пора подумать… — Правду говоришь. Самое время — земля подсыхает. — Вон там, на горе, и сеять можно. — Пахать-то пахать… Но колхоза вроде бы нет. — Старшего надо выделить. — Трояниху. У нее и муж бригадиром был. Пускай берется Оксана. Стоят односельчане с поникшими головами. В платках, шапках, фуражках. Солнечные блики играют на их осунувшихся лицах. А за толпой, за сожженным селом — широкая степь, танками разбитая, ливнями размытая. Кто поднимет ее? Чем? Голыми руками? Вдовьим по́том? Как? — Хорошо бы мужика за старшего, — обвела Трояниха невеселым взглядом толпу. — Може, вы, Денис? — обратилась она к старому Яценко. — Люди! Все вы давно меня знаете. Скажете пилить — буду пилить, скажете строгать —буду строгать. А бригадиром быть — не так руки торчат. Лучше ты берись, Оксана. — Соглашайся, соглашайся, Оксана! — зашумела толпа. — Ну, тогда слушайте меня, колхозники. У кого какое зерно есть: или рожь, или просо, гляди, узелок пшеницы или тыквенных семечек, или картошка — складывайте в общую кучу. А ты, Денис, сделай амбар для хранения семян — все поможем тебе. Думаю, и Кудым зерна даст. — Кхе-кхе!.. — откашлялся он в толпе. — Зерна у меня, стало быть, щепотка. — Не стесняйся, дед, потряси свои закрома. — Даст бог урожай, осенью сполна вернем. — Я что? Как люди, стало быть, так и я. За родную власть… — Вот и хорошо. А вы, женщины, готовьте инвентарь: у кого что есть — лопата, вилы, мотыга. Ручки Яценко сделает — завтра и в поле. Чего нам ждать? — Правильно! И так засиделись, чтоб ему пусто. — Сорняки лезут, как из воды. Не посеем сейчас — заглушат все живое. — И еще, граждане, попросим Ольгу: пускай после работы — не часто, когда сможет, — на почту в Сасово ходит. Она шустрая. Смотришь, и новость принесет, как там наши на фронте, а может, кому и письмо… — Письмо… письмишко… хоть бы весточку, — зашептали жаждущие доброго слова, рано осиротевшие уста. Почудилось им, пусть на мгновение, что прильнули губы к губам: трепетные девичьи и горячие молодецкие, увядшие от долгого ожидания вдовьи губы и горькие от дыма солдатские… — Попросим Ольгу? — Ой, да я и так побегу! И рано утром, и вечером, и в любую погоду. Может, и моя сестра Маруся отзовется. Можно было бы расходиться по своим землянкам, но односельчане продолжали стоять на месте. Аврам Дыня чесал всей пятерней волосатую грудь, смотрел на Оксану теплыми глазами: — Эх, Трояниха, не знала б ты лиха! Встряхнула мою душу, как грушу… У кого есть табачок? — Угощайся, Аврам. Извиняй, курево — одна потеруха. Затянешься, так и стреляет под нос. — Ничего, сойдет! — Я было совсем живьем себя схоронил. А тут женщины подняли… — Наша баба, чтоб ты знал, как верба. Сколько ее ни гни, ни топчи, она корень пустит — оживает! — Нашему роду нет переводу. Не было и не будет. Поговорили степняки и понесли весну в растревоженных сердцах по своим углам. Пришла ночь, молодой месяц острым серпом повис над Ингулом, вздыхала темная вода в камышах, вздыхала старая мать, ворочаясь на топчане. А месяц звал ее в поле, и тяжелые думы ее прорастали пшеничным колосом, и звенела она жаткой среди спелых хлебов и стучала молотилкой, рассыпая на землю чистые зерна. Что будет с тобой, земля? Не зарастешь ли бурьяном без крепкой мужской руки? Ранние туманы еще бродили по берегам, еще мерцали звезды в холодном небе, а Яшка проснулся и, чтоб не разбудить свою охрану (начнет мать ссориться — до вечера не закончит), тихонько поставил чугунок на плиту. Потом снял его с огня и вышел на улицу с тряпкой. От свежего ветра и утренней росы закололо в груди. Возле землянки дремала трофейная лошадь, уткнув свою морду в корзину. Яшка привязал ее, как теленка: веревку на шею — и к колышку. Да если бы и не привязал, все равно никуда б не ушла. И куда ей, бедняге, податься? — Сейчас тебя, бродяга, почистим! — сказал Яшка. — Шик и блеск, поняла? И принялся Яшка скрести да мыть отощавшую лошадь. Вся она как сухая жердь. Проведет Яшка рукой — стучат ее ребра и лошадь едва стоит на ногах. — Потерпи, дорогая, красота требует жертв! — И Яшка, зайдя с тряпкой уже с другой стороны, драит коня по животу, по бедрам, по суставам. И терпит, ежится бедняга, когда Яшка выбирает репейники, скребком сдирает лишаи, мочалкой вымывает чесоточную холку. — Где ты набралась этой заразы? — приговаривает Яшка и снова окатывает теплой водой из чугунка. Валит густой пар, лезет клочьями шерсть, сбегают ручейки по желобкам между ребрами лошади. Яшка разогрелся, только ноги прихватывает морозец — вода в луже, что разлилась на земле, сразу стынет. Чтоб не застудить лошадь, Яшка насухо вытер ее своим рваным пиджаком. — Ну все! Теперь как новенькая… И в самом деле, лошадь не узнать. Грязно-серая, пятнистая до мытья, она оказалась гнедой. И шерсть вроде бы поднялась, залоснилась. И репейников словно не было. — После купанья, говорил отец, кровь надо разогнать. — Яшка ухватился за гриву и ловко забрался на лошадь. — В атаку! И поехал Яшка в степь встречать весеннее солнце. А тем временем просыпалось село. Потянулся дымок над тихими землянками. Где-то проблеяла спросонья коза. Стукнули дверцы. Запахло вареными очистками. Аврам Дыня, босой, весь нараспашку, стал на пороге, потянулся, глядя на безоблачное небо: «Припекает сегодня», — и пошел развешивать галоши на колья. Женщины выдергивали из-под навесов ржавые лопаты. — Настя, у тебя ручка для лопаты есть? — Говорила бригадирша, Яценко сделает. — А вот и сам он идет. Денис Яценко вел к бывшей кузнице всю семью. Сам шел впереди, в руке — ящичек с инструментами; за ним — Илья с пилой и с топором; потом Ульяна с вилами на плече; дальше, цепочкой, дочери и два карапуза — Алешка и Катенька. У девочки — узелок с едой, у Алешки — гильза и щетка. Как по команде, все остановились около кузницы, где уже среди лома железа копалась Трояниха; Яценки сложили свои нехитрые пожитки и, выслушав наказ отца, стали разгребать место возле стены. — Что здесь будет, Денис? — спросила Оксана. — Мастерская. — А я наковальню нашла и молоток. Без ручки, правда. — Илья, помоги тетке Оксане, — обращаясь к сыну, велел старый Яценко. Широкоплечий, крепкий Илья, ни слова не сказав, выкатил потресканное бревно, поставил его на попа, пристроил наковальню и молча стал строгать ручку для молотка. Одна за другой подходили к кузнице женщины. Кто босиком, кто в кафтане, кто в пиджаке, а кто и в поношенной солдатской шинели. Ольга-беженка прибежала в пестреньком платьице, черная коса — бубликом, на щеках — ямочки, а губы синие-синие… — Замерзнешь, девчонка. — Марш домой, Ольга! — Это бригадирша. — Чего ходишь раздетая? — Что вы, тетенька! Кровь у меня молодая. — И разум зеленый. Ольга потопталась на месте, но все-таки послушалась старших — побежала домой. Женщины разделились на две группы. Кому ручки надо — к Яценко, кому лопаты напильником поточить — к Троянихе. А за стеной кузницы Алешка с Вовкой, который подогнал сюда свое рогатое войско, трудились над лозунгом. Для большей убедительности нарисовали звезду, а штык скрестили с саблей. — Здо́рово!.. «Все силы на помощь фронту!» — Если бы еще: «Смерть фашистским разбойникам!» — Негде написать, — с сожалением заметил Алешка. — Слепит твой отец амбар — нарисуем. Только, чур, давай вдвоем… Хорошо?.. — Вов, я всегда с тобой… Алешка неожиданно умолк — издали донесся глухой шум мотора. Так ровно и размеренно выстукивал (до войны еще) маленький движок, что качал воду на ферму. Откуда он взялся? Ребята посмотрели на берег — там и следа не осталось от водокачки. — Мотоцикл трещит! — выкрикнул Алешка и показал на гору щеткой. С бобринецкой стороны по большим комьям подпрыгивал, как жук-плавунец, мотоцикл. Дорога была разбита, как свежая борозда. А когда-то вдоль грейдера тянулась телефонная линия. Теперь кое-где чернели только вывороченные столбы, упавшие в разные стороны; они напоминали пьяных мужиков, что возвращались с буйной гулянки и по дороге застряли в болоте. Между этими столбами и петлял мотоцикл. Все, кто был возле кузницы, с напряженным вниманием следили, как ползет по комьям «ИЖ». Фыркнув, он выскочил на выгон и подъехал к толпе. Мотоциклист, мужчина в годах, в сером плаще, в кирзовых сапогах, заглушив мотор, снял клеенчатые рукавицы. — Так это и есть Колодезное? — Да вроде оно. — Фьють! — присвистнул неизвестный. — Никогда бы не узнал. Я здесь был в тридцать девятом — шумело село. — Отшумело, как видите… А вы что скажете? — Скажу. Может, слыхали — наша область собирает деньги на танковую колонну «Кировоградский комсомолец». — У вас есть закурить? — подошел к гостю Аврам Дыня. — Нет табака? Тогда покажите паспорт или какой-нибудь документ… И чего вы, извиняюсь, на меня уставились. Здесь уже один удалец ездил, говорил, на эскадрилью собирает. Собирал, собирал, а выяснилось — проходимец. Вот так. Мотоциклист улыбнулся — под глазами разбежались веселые морщинки. — А-а-а! Слышал о таком. Задержали авантюриста, и сидит он там, где Макар телят не пас. — Правильно. Чтоб не позорил Советскую власть. — А я, люди добрые, из «Красной Звезды». Слесарь. Вот документы. — Из Кировограда?.. Говорили, нет завода, разбомбили. — Правду говорили. Взорвали нашу «Звезду». Груды камней — не подойти, не подступить. Сейчас все восстанавливаем. — Быстрее пускайте завод. Потому что нет ни плуга, ни бороны, ни сеялки. — Знаем, товарищи. Знаем вашу беду — изо всех сил стараемся. Если бы вы видели: и ночью горят прожекторы, по три смены рабочие вкалывают, здесь и спят, здесь и едят (целыми семьями приходят), по камешку цеха поднимаем… Люди теснее окружили гостя; детвора из-под материнских рукавов сверкает любопытными глазенками; Алешка с Вовкой готовы на части разорваться — им хочется и мотоцикл потрогать, и незнакомца интересно послушать. Трояниха ладонью сжимает горячий лоб (после того пожара горит огнем ее голова) и тихо спрашивает: — Расскажите нам, что в области творится. — А творится то, что и у вас. Вот ездил по селам — везде одно разорение, но люди понемногу оживают. Собирают зерно для посева, коров к ярму приучают. — Коровы в упряжках?.. Чего только не придумаешь на тощий желудок! — Бобринцы, ваши соседи, уже в поле вышли. Землю боронуют, собираются по непаханому и засеять. У кого есть хлеб — сдают в фонд Советской Армии. Ну конечно, и все готовят подарки солдатам к Первому мая. — А какое сегодня число? Эй, право, забыли. — Девятое апреля. Три недели до праздника. Нежданный гость из Кировограда, с которого не сводили глаз крестьяне, отвернул полу забрызганного грязью плаща и достал из кармана газету. Она была маленькая, помятая, но каждому хотелось потрогать ее пальцами. — Подумали мы на заводе, подумали и решили написать в газету. Так и так, написали, горим желанием помочь родной армии. И вносим трудовую копейку на танковую колонну, чтоб уничтожала она врагов, чтоб наши сыны и отцы, наши братья и сестры, которые с оружием в руках… — Сами видели: нелегко им, беднягам. — Нам хоть небо не падает на голову… — …и земля не засыпает нас. — Что говорить. В каждой семье — человек на фронте. А сколько их полегло? Все сделали бы, только б смерть отвести от них. — Ну как, граждане? — заговорила Трояниха. — Для святого дела, чтоб война не сиротила наших детей… — Айда, женщины! У кого что есть — для своих же родных. Камень и тот отдает тепло. А мы же люди. Всколыхнулась толпа, всхлипывали солдатки, вытирая платочками неожиданные слезы. И дети зашмыгали носами, уткнувшись матерям в подолы. Казалось, ветер раскачивал ковыль-траву, и она, распустив седые пряди, роняла на землю горячую росу. — Василек, — позвала Трояниха сына, — сбегай домой. Там за отцовым портретом, под картонкой, поищи… Паренек летел домой что есть силы, только во дворе оглянулся: мимо него прошелестел брезентом Алешка, мальчишки и женщины тоже торопились по своим домам. «Я первый!» Василек сбежал по ступенькам, толкнул ногой дверь в землянку, и удушливая тьма поглотила его. Нащупал руками печку, уперся пальцами в холодную скользкую стену. А вот и рама с портретом отца. От быстрого бега сильно стучало сердце, влажная картонка выскальзывала из рук. Наконец-то! Попалась все-таки гладкая бумажка. «Это для тебя, папа. Если бы ты знал, как истосковалась по тебе мать… Как ты приснился мне, папа, прошлую ночь! Будто вдвоем плывем по Ингулу, что-то тянет и тянет меня на дно, я кричу и… просыпаюсь. Где ты сейчас, папа? Жив ли, здоров ли, или лежишь среди степи, где шумят колючие травы?» Василек потянулся к мешочку. Не один раз, когда начинало сосать в груди, он подкрадывался к печке. Озираясь, нащупывал в мешочке плоские тыквенные семечки. Они, такие сладкие, вкусные семечки, дразнили мальчишку, соблазняли: возьми! Но каждый раз его останавливало одно воспоминание. Это было за Купцом. Ветер кружил снег по степи, мороз обжигал матери лицо, а мать упрямо ползла и ползла в село по глубоким сугробам, потом до вечера рылась в пепелище. Когда стемнело, продрогшая, черная от сажи, принесла в землянку портрет отца, документы в кожаном свертке и этот мешочек. Целыми ночами просиживала мать над семечками, перебирала, сушила их, раскладывала по узелкам. Наверное, тогда она чувствовала запах весны и не умерла только потому, чтобы сохранить жизнь, которая таилась в зернышке. Парнишка пошарил на печке. Где мешочек? Нет уже! Обида сжала ему горло, но тотчас мелькнула догадка: не иначе как мать сдала семечки в колхоз. И хорошо — не будет соблазна. Облегченно вздохнув, Василек выбежал из землянки. Человек из Кировограда ждал его возле мотоцикла, придавив камушком тетрадь, которая трепетала белыми крылышками на ветру. Вовка протянул ему мятую бумажку: — Это все… — Сторублевка! — одобрительно ответил приезжий и похвалил: — Молодец. Хорошая пуля фашистам. Распишись. Василек сделал закорючку в списке. Он был первым. А через несколько минут прибежал Алешка. «Опоздал!» — жалобно скривил он губы. Вскоре пришел босой Аврам Дыня, подходили женщины. Стыдливо протягивали потертые, выгоревшие червонцы. — Пусть наши с войной скорее кончают, чтоб ей пусто. — И домой возвращаются. Дети уже забыли, какие у них отцы. И снова говорили, вспоминали своих односельчан, которые ушли еще в сорок первом и до сих пор от них ни слуху ни духу. Думали-гадали, как начать сев. Гость свернул газету, взялся за руль мотоцикла. И тогда долго молчавший Яценко потоптался на месте, прокашлялся в кулак и, наконец, решился: — Газетку бы нам оставили… Мы осторожненько, не порвем ее. Почитаем всем колхозом. — У меня только одна. Но вам не откажу, — ответил приезжий и протянул газету. — Может, перекусили бы с нами? Стыдно гостя не попотчевать. — Спасибо, добрые люди! Вот первый плуг сделаем, сам привезу вам, тогда и погуляем, — ответил гость. — И вам спасибо. Всем рабочим наше спасибо передайте. Мотоцикл запрыгал по ухабам. Мальчишки дружно подталкивали его; женщины каждый раз, когда машину подбрасывало, охали. — Еще разобьется! — беспокоились одни. — Да нет, на дорогу выкатил, — говорили другие. И долго еще, пока мотоцикл совсем не скрылся из виду, провожали колхозники человека, который своими руками делает бороны и лемеха.7
Так ровно, так монотонно может шуметь только весенняя вода, падая с высокой плотины. День и ночь не утихает вода, шипит ее пенистая грива, дрожит под напором запруды. Этот шум не дает Мишке покоя. Ему страшно хочется спать; руки становятся чужими, вялыми и безразличными, плечи сами обвисают, тяжелеет и затуманивается голова, и Мишка, как дряхлый сонный дед, клюет носом в коленки. Сначала Мишка сидит, опершись о стену, потом его начинает пошатывать, и тогда он боком съезжает на земляной пол и ложится на расстеленный пиджак. Что-то липкое, тягучее наполняет его голову, и он уходит в сновидения. И Мишке по-прежнему слышится, как шумит вода, как она рвет плотину и подступает к его землянке и вот уже течет по стенам, по его спине, лезет вместе с илом под рубашку. Он просыпается, испуганно водит глазами: «А!.. Что это? Что это такое?» В землянке черно и тихо, давно угас перегной в печке, которую Мишка сам себе соорудил; его жилище напоминало бы волчью нору, если бы не эта аккуратная печка, да не пистолеты и сабли, развешанные на стенах (сейчас их не видно), да не светлый кружочек на потолке — как будто ободок ведра. Он служит Мишке и дымоходом, и окном, куда заглядывает ночью синяя холодная звезда. Оглядевшись, ощупав себя, Мишка немного успокоился. Нет никакой воды, это ему показалось. Но шум… навязчивый шум не умолкал. Спал ли Мишка, лежал или ходил — за ним неотступно неслась мутная вода: она журчала в его душе, стучала в голову. «Надо что-то делать, — подумал Цыганчук, — а то без дела совсем можно с ума сойти». (Он уже заметил: если мастерить ловушку для сусликов, свирель или стульчик, шум в ушах стихает, а если прислушиваться к себе, то гудит еще сильнее.) На ощупь сняв со стены деревянную саблю, какую обещал вытесать и вырезать Вовке, Мишка сел возле печки так, чтобы свет из потолочной дыры падал на колени. Сел и задумался. Наверное, хорошие мысли пришли к нему, потому что мальчишка тихо улыбнулся. А потом, отложив в сторону неотесанную саблю, пополз к выходу. О, у него были хитрые дверцы. Сам их сделал: сплел соломенную рогожу и обил ее планками — и эту ширму повесил над самым входом в землянку, повесил на двух колышках, а чтоб ветром ее не качало, нижний уголок каждый раз прижимал камнем. Тепло и удобно, а главное — никаких хлопот со щеколдами. Слепой, как суслик после долгой спячки, вылез Мишка из своей норы, огляделся сонными глазами, понюхал воздух: еще влажный… пахнет солнцем и прошлогодней ботвой, пахнет горьким сухостоем, а между тем слышится: идет от корней холодный терпкий сок зелени, и уже набухают кулачки молодых почек. Весна… Потеплело… С тех пор как оглох Мишка, он острее чувствует весну — и не знал раньше, сколько запахов имеет один только стебелек пырея, втоптанный в землю. Сухой, сопревший стебель, а в нем — и вкус солода и плесени, и прошедшие дожди, и дорожная пыль, и холодок ранней росы. Каждый стебелек пахнет по-своему. Каждый листик… Правда, мир для Мишки распался. После взрыва мины что-то треснуло от земли и до неба. И теперь шумит, гудит, как на плохой свадьбе. Спишь ли, не спишь — бьет, стучит в голове, и никуда не убежишь от этой музыки. Посмотрит Мишка на солнце — звенит, как медная тарелка. Посмотрит на небо, и оно гудит, прямо как барабан. И встречные люди безмолвно шевелят губами. Наверное, говорят с ним, но Мишка слышит только свист ветра. Мальчик пытается разгадать смысл слов, напряженно открывает рот и впивается в говорящего глазами — все напрасно. Провожают люди Мишку жалобным взглядом, а ему — жарко, и еще сильнее болит голова. Он избегает взгляда печальных вдовьих глаз. Солнце палит по-весеннему. Соломенная крыша землянки, засыпанная глиной, подсохла и потрескалась; кое-где в щелях пустила белые ростки трава. «Надо подмазать, — вздохнул Мишка, — хотя бы сверху подмазать, а сорную траву выполоть и землю вскопать». Он оглядел двор, где когда-то стояли хата его и сад. Сейчас от них ничего не осталось, разве только пни, гора камней и сухой бурьян на развалинах; конечно, для своего жилища можно было бы выбрать уголок и получше, где-то над речкой, но таков уж человек — точно пуповиной привязан он к родному месту. «Ничего, — утешал себя Мишка. — Вырасту, разведу кроликов, засею мак, чтоб красиво было в огороде. А потом женюсь и возьму лучше всего глухую. Она будет молчать, а я ей буду вырезать ложки». На крыше стояла немецкая гильза, похожая на ведро. Но такая тяжелая, что запросто и не поднимешь. В ней было немного воды. Мишка зачерпнул пригоршней воду, понюхал — теплая, густая, как компот, и пахнет ржавчиной. Ничего, умыться можно. Ополоснул лицо, смочил чубчик на голове и собрался идти, но раздумал. Вынес из землянки пиджак, еще влажный, скользкий от зеленой плесени. Расстелил его на крыше — пускай просыхает. И ушел. Шел Мишка не улицей, а берегом, вдоль Ингула, чтобы случайно никто не встретил его. Одуряюще пахла разомлевшая земля, шелестели под ногами сухие листья, от реки тянуло сыростью, и Мишка улыбался с такой же тихой радостью, как и тогда, когда, надумав что-то хорошее, отложил недоструганную саблю. К Яценкам проскочил благополучно, никто не видел его, не побеспокоил расспросами. Через плетеную изгородь заглянул во двор. Сидит старый Денис на скамейке у очага, ветер развевает его белый, словно осыпанный мукой чуб, а он постукивает колотушкой по деревянному ящичку. Что это он делает? Мишка тихонько подкрался поближе и встал за спиной Яценки. Вот что! Дядя делает оловянные ложки. Вот у него узенькое корытце. Одно корытце и другое такое же. Их называют формочками — Мишка об этом знает. В обе формы дядька набивает мокрый песок. Набил, сидит и выжидает: пускай песок затвердеет. Потом в нижнюю форму положил ложку и прижал ее пальцами. Смотри — отпечаталась ложка! Получилась ямка, точно кто-то пяткой выдавил в песке и потом дорисовал хвостик. Теперь дело простое: вместе соединить оба корытца и в отверстие, сделанное в верхнем ящичке, залить расплавленное олово. Смотри-ка, дядя Денис так и делает. Консервная банка стоит на огне, и плавится в ней трофейное олово, белое, как сахар. Сейчас этого добра сколько хочешь. За рекой навалом подбитых машин: танки, пушки, солдатские котелки, противогазные коробки. Наверное, Алешка там и набрал эти блестящие железки. А дядя Денис не торопится. Залил в форму расплавленное олово и снова сидит, ждет. Руки его, тяжелые, словно лопаты, серые от мокрого песка, спокойно отдыхают на коленях. На морщинистом затылке ползет красный жучок, переваливается с морщинки на морщинку, раздвигает резкие щетинистые волосинки, но дядя не замечает божью коровку, как не замечает и гостя, что стоит за спиной, в удивлении раскрыв свой беззубый рот. А может он и заметил Мишку, да не хочет вспугнуть мальчонку. Дескать, пускай себе смотрит. Яценко постучал колотушкой по ящику — что вышло? — снял верхнее корытце, и вот на тряпке у него… Ложка, совсем новенькая. На ней еще остались следы песка, а дядя уже повернулся к мальчишке: — Здравствуй, Михаил! Старик смотрит на солнце, прищурив выгоревшие глаза, опутанные сетью морщинок, в белом чубе дрожат солнечные лучи, а на тряпке сверкает круглая ложка с длинной тяжелой ручкой. По губам Мишка догадался, что дядя сказал какое-то приветливое слово, и надо на это что-то ответить. Мальчишка растерялся и на «здравствуй» стыдливо сказал: — Хорошие ложки. Солдатские… — И правда! — подтвердил Яценко. — Их так и называют бабы — солдатские. — Он протер тряпкой ложку, для чего-то обдул ее и протянул парнишке: — Бери, Миша! Я уже всем подарил, а эта — тебе. Если нечего поесть, хоть ложка будет. — Старик грустно улыбнулся и снова сказал: — Бери, Миша! Бери! Ложка была еще теплая, только что вылитая, еще никто не обтер ее ни за голенищем, ни языком. Мишка держал ее на ладони — оловянную, такую тяжелую, с шероховатыми концами, держал так, как будто боялся, что вдруг выскользнет она из его рук и расколется надвое. — Ну, спасибо, — сказал Мишка и счастливо вздохнул. Теперь и у него солдатская ложка. Он видел такую и у Вовки и у Алешки. Очень хорошо вырезать на них рисунки и всякие слова. Олово послушное и мягкое. Острым кончиком ножа все можно сделать. — Вовка даже танк себе нацарапал. И хитро подписал: «ВН». «Что это такое?» — спросил как-то у него Мишка. «Война немцам», — сказал Вовка (ну не сказал, а на песке написал). Может, и врет он. Скорее всего, «ВН» — Вовка и Надя. Недаром, как увидит он эту девчонку, глаза у него сразу сахарными делаются. Губастый Алешка, тот без хитростей. Взял и вырезал на ложке одну только звезду. А у него… А что нарисует Мишка? Он еще подумает. Мишка представил, как он проведет волнистую борозду на ложке, повертел ее — куда же спрятать? — и сунул за пазуху. Там не потеряется. И то ли от глаз старого Яценки, полных солнцем, то ли от теплой ложки потеплело в груди у него. Вспомнив, зачем он пришел, Мишка повернулся и молча поспешил к землянке. Не спросив ни у кого разрешения, он спустился по ступенькам, отодвинул щеколду и вошел в жилище. «Странный паренек. Может, к старухе пришел?» — удивленно подумал Яценко. Еще больше удивил Мишка тетку Ульяну и Федору. Только они принялись за стирку, вывалив белье в корыто, как в землянку вошел пастушок. После того как Яценки поправили свой погребок, сделали еще два окна и перебрали печь, землянка стала как будто шире и светлее, можно было в ней ходить не пригибаясь. Но сейчас половину хаты заняла скамья с корытом, из котла клубился горячий пар, и от пара, белья, вспотевших женщин в землянке стало тесно. Федора рукой показала Мишке на стульчик в уголке, приглашая сесть. Но мальчишка точно и не заметил Федору и ее жестов — он стоял, молча смотря на печь. В его угасших глазах, всегда сонливых, медленно разгоралось какое-то удивительное любопытство. Казалось, Мишка смотрел не только глазами, но и всем своим сморщенным лицом. Он глядел на разрисованную печь, где сидели на цветах красные петухи, а женщины оставили работу и тоже молчаливо смотрели на парнишку. — Может, он есть хочет? — Кто его знает… Может, есть, а может, замерз. Пускай залазит на печку, — переговаривались женщины. Но мальчонка или не понял их, или постеснялся — не брал еду, не хотел греться, стоял и смотрел. И таким зеленым, таким худеньким, исстрадавшимся был он, как будто его только что сняли с креста. Шея точно соломинка, плечи острые — на чем только рубашка держится? — Мам, — говорит Федора, — давай рубашку его выстираем, а то она вся прокисла. А Мишка не хочет снимать. Точно замер на месте. Осмотрев печь, он сосредоточенно стал рассматривать стены, узоры в красном углу. И было в его мертвенно-бледном лице, в его взгляде что-то невысказанное, глубоко затаенное, значительное. Старой Ульяне жутковато стало от Мишкиного взгляда. — Господи, и чего он так смотрит? А Мишка рассмотрел стены и ушел. Молча появился, молча и исчез, не сказав ни «здравствуйте», ни «будьте здоровы». Он ушел, а женщины так и замерли над котлом. Испуганно уставились друг на друга. — У меня и душа онемела, — сказала Ульяна. — Ты знаешь, дочка, он за кем-то приходил. Хотя бы с Иваном на войне ничего не случилось. И мать вспомнила, как в село наведался нищий, какой-то немой, заглянул к одной солдатке, к другой и, ничего не сказав, пошаркал своей дорогой. И тут — похоронные… Притихли, загрустили женщины. Руки опустились — не до стирки. А Мишка тем временем неторопливо шел по селу. Он и представить себе не мог, как напугал добрую старую Ульяну, которая так хорошо разбиралась в травах, в человеческих болезнях, во всяких приметах. Его мысли были заняты совсем другим. За селом жгли прошлогодний бурьян, к небу тянулись голубые стволы дымов, вырастали фантастические деревья, на их ветках — Мишка это хорошо видел — появлялись красные петухи, свисали к земле легкие прозрачные кружева. В небе оживали рисунки, которыми он любовался в хате Яценко. Он тихонько улыбался, этот седой мальчишка, и уже прикидывал, как перенесет эти красочные кружева на свою резьбу. Как будто с праздника возвращался Мишка. В степи жгли прошлогодний бурьян.* * *
Наплодила война сорняков. Где в медовом цвету стояла гречиха, где глядели в небо подсолнухи, где пшеница катилась волнами к горизонту, там окопался злейший враг человека — бурьян. Темным лесом поднялись осот, лебеда, овсюг. А за ним второй эшелон, еще более опасный, — полынь, ковыль-трава, пырей. Словно проснулась дикая сила бывших целинных степей, для того чтоб изгнать человека за границы старых своих владений. Много пройдет времени, много прольется пота, пока снова зачернеют пары на колхозных полях. Яшке приходилось ежеминутно очищать борону. Саженей двадцать проедет — и уже не борона, а подушка. Деркач останавливает Трофейную. Ей только этого и надо: встанет, корытцем свесит губу и уже дремлет. А тем временем Яшка, подперев грудью тяжелую борону, снимает с зубьев прошлогоднюю ботву. Попробуй отодрать ее, если она, как вымокшая конопля, вся перепуталась. Тут уже, гвардия, придется посопеть, поломать свои пальцы! А когда налипнет и сухой курай, легче, пожалуй, ежа общипать. Но это полбеды. Гнилые корни и молодая поросль выкорчевываются вместе с землей. Бывает, что Яшка сдирает рукой налипшие комья земли и вдруг скребнет по какому-то железу. Н-да, поймались, как пескари, патроны в ржавой обойме! А это, чтоб вы знали, попалась крышка от немецкого противогаза! А это, скажите, что подпрыгивает за бороной? Хм, прицепилась какая-то тарелка, очень похожая на черепаху. И тащится за бороной, подпрыгивает на кочках. Заинтересовался Яшка, обошел борону. Склонившись, он тронул за проводок — и вдруг быстро отдернул руку, словно его молнией ударило. Мина! И как она, дьявол, прицепилась и не взорвалась до сих пор? Яшка замер. Ноги будто вросли по колени в землю. Сердце перестало биться. И в груди и во всем теле — озноб. Ну Яшка!.. Если бы взорвалась мина, полетел бы ты, брат, в одну сторону, галифе и пилотка — в другую. Это уж точно! И мать родная косточки не собрала бы… Чтоб не было паники («Скажу бабам — побросают лопаты и разбегутся кто куда»), Яшка оглядывается — нет ли кого поблизости? — потом молча принимается за дело. Запускает корявые скорченные пальцы под борону. Где же тот зубец, на который намотало провод? Все глубже и глубже просовывает руку, а голову как повернул, так и держит, глазами впился в мину, обросшую зеленым мхом. Смотрит так напряженно, точно хочет усыпить, приворожить нечистую силу. — Лежи, чума, лежи тихонечко… Вот и все! — сказал Яшка вслух, отцепил наконец проволоку от бороны, сплюнул и вытер рукавом холодный пот. Потом кладет на ладонь скользкую тарелку и осторожно, как по тонкому льду, идет к блиндажу. Там целая горка патронов, гранат, снарядов. А теперь еще и мина. Пускай лежит до вечера. Закончит Яшка работу и подожжет… Рявкнет смерть на всю степь, встанет на дыбы в последний раз и сдохнет. И снова Яшка дергает за уздцы Трофейную, истребляя бурьяны. Пыльные жесткие стебли хлещут Яшку по ногам, колючки впиваются в тело. Падает горькая полынь под борону, осыпаясь серой пыльцой. Ряд за рядом очищает борона поле от гнилых стеблей, и ширится полоса заборонованной земли. Говорила бригадирша, что здесь они посеют овес и ячмень. «Интересно, что тут вырастет?» — спрашивает Деркач у лошади. И видит он поле, где среди сорняков робко пробиваются слабые ростки. Да, поздно они начали бороновать: заглушит молодая трава посев. Если бы сначала плугом пройтись, а потом уже бороной. Да разве управишься одним конем?.. Яшка вытряхивает ботву, ногой сбивает в одну кучу. — Эй, пацаны, налетай! — зовет он детвору. Наголо остриженные мальчишки, которыми командует Алешка Яценко, набрасываются, как саранча, на кучу сорняка и тащат его к костру. На всей меже, от начала и до конца поля, горят огни. Черный дым тянется к небу. Пляшут багровые языки, пожирая сушняк и зеленые стебли; прогорклый дым ползет по степи. А малышам — праздник: вымазанные сажей, прыгают они через огонь, как дьяволята, толкаются, смеются. Когда еще в селе бывает такое?.. Идет Яшка по степи, вырастают за ним огромные столбы дымов — то красноватые, то темно-лиловые. Что-то необыкновенное, торжественное в картине пробуждающейся степи! Забурлила весна. Вон женщины с лопатами, дети нашли забаву у костров; дымы извещают по всему району: выстояло, ожило село Колодезное. Иногда посматривает Яшка на женщин, что вскапывают землю неподалеку от траншеи. Здесь, наверное, посеют свеклу и картофель: их не бросишь в твердую почву. Между фуфаек и пиджаков мелькает легкое платье Ольги. Она ворочает лопатой и деловито копается в земле. Смотри, как увлеклась работой — и головы не поднимет. У Яшки чешется язык, ему хочется как-то обратить на себя внимание. Может, крикнуть: «Садись, Ольга, на борону, глубже вспашешь!» Да только скажи ей, она быстро тебя отчитает: «Что я тебе, камень?» А женщинам дай только повод, сразу начнут: «Иди, иди, Ольга, не упускай момента, один парень на селе!» Не придумав ничего подходящего, Яшка остановил Трофейную, весело погрозил девушке веткой: смотри мне, Ольга! Она приветливо улыбнулась ему, сверкнула белыми зубами и потом из-за женских спин подняла лопату: «Ах ты рыженький!» От такого взгляда теплая волна окутала Яшку и понесла его, улыбающегося, между крылатыми подсолнухами, что поднимались с костра и тянулись в небо. Стучится весна в Яшкино сердце, течет по жилам тревожная, звенящая кровь. Все вокруг поет. И синяя даль, и пьянящие запахи земли, и весеннее небо. Встань. Прислушайся, слышишь, как далекий-далекий голос зовет тебя: «Яша-а… Я-ша-а!»? Кто? Откуда этот голос? Он здесь, он там, он в самом воздухе, наполненном ароматами, он дрожит и переливается вдалеке: «Я-ша-а!» И парню кажется, что он парит над землей и под ногами у него не сухие сорняки, а зеленое море хлебов. Рожь да рожь… Кругом. И вдруг бухнуло так, как будто треснул колокол. Яшка упал на землю. Лошадь махнула гривой и остановилась. Нет, на самом деле бухнуло. Яшка своими ушами слыхал: над самой головой просвистела пуля. «Значит… стреляли? — Яшка осторожно выглянул из сорняка. — Откуда? Кажется, из траншеи, вон из той, которая извилисто тянется к оврагу». Он прислушался. Тихо. Скрипит на ветру сухой пырей. На меже тут и там медленно стелется дым. Побросав работу, собрались женщины в кружок и насторожились. Выходит, их тоже напугал этот неожиданный выстрел? Яшка повернул лошадь к толпе. С тревогой смотрят женщины на парня. — Яша!.. Мы думали, ты на мине подорвался. — Да нет. Это из ружья. — Правду сказала Анисья: сама земля стреляет. — Ткнешь лопатой — скрежещет. То осколки, то еще какая-то чума… Говорили женщины, собирая морщины на серых, исхудавших лицах. Скажите на милость, где искать человеку защиты? Всегда хлебопашца оберегала земля — она и кормила и защищала его… А теперь ощетинилась: только прикоснись — злобно огрызается, будто мстит неразумным детям… Слушал Яшка эти разговоры — протест поднимался в его душе. «При чем тут, бабы, земля? Не иначе, как бандит какой-то стрельнул, — подумал Яшка, но ничего не сказал. — Зачем зря подливать масла в огонь?» Повздыхали бабы, поахали, немного успокоились, и то хорошо. Не знал тогда Яшка, что враг охотится за ним. И пока он с женщинами стоял среди поля, их односельчанин с пистолетом за пазухой прополз по траве — и в камыши, в свое волчье логово. Не знал об этом Яшка, даже подумал: ребята, видно балуясь, выпустили пулю. Но с этого дня всякий раз, когда Яшка отправлялся в степь, брал он с собой винтовку. Женщины шли колонной, как солдаты строем. У каждой за плечом лопата или вилы. Яшка ехал на Трофейной сбоку. Чем не командир? Пилотка на два пальца от бровей, галифе пузырем, за спиной карабин. Окинув свое войско молодецким оком, гвардии рядовой Деркач командовал: — Подтянись, пехота! Вперед, на штурм сорняков! И женщины, дружно сбивая пыль старыми галошами, широко улыбались. Вот так Яшка! Что не говори — мужчина! С таким и беда — полбеды!8
Прошел слепой дождь. Как всегда, он выпал неожиданно. В чистом небе, над серой вершиной Купца, блестело яркое солнце; от скалы падала на воду короткая густая тень. Построенная из грубого камня, древняя церквушка, что прижималась к Купцу, была покрыта столетней пылью, и только красной медью сверкал ее невысокий шпиль, увенчанный крестом и турецким полумесяцем. Было тихо и жарко. Козы лениво бродили у подножия горы, пощипывая молодую травку. Не только тучки, даже облачка не было на голубом небе, и вдруг полился светлый бесшумный дождь. А Ингул, стянутый цветастым жгутом — красавицей радугой, катил свои волны торжественно и величаво. — Дождь! Слепой дождь! — закричали, запрыгали вместе Василек и Алешка и, сложив корытцем ладони, побежали ловить дрожащие капли. Только Мишка Цыганчук, который молчаливо сидел на камне, удивленно мотал головой: что это такое — яркое солнце и разноцветные брызги? Брызнул веселый дождик и побежал через Ингул, вызванивая серебристыми бубенчиками; зашелестел камышами на том берегу и потерялся где-то в степи. И все сразу ожило, принарядилось. Поднялась сон-трава, и запахло медом. Повеселела забытая церковь. Даже суровый Купец улыбнулся, и потянуло от него запахом влажного мха. — Ух какая теплая вода! — приплясывал Вовка, бегая босиком по лужам. — Ну как парное молоко. Мишка Цыганчук, глядя на мальчишек, улыбался, слегка прищурив тихие спокойные глаза. Дождь промочил ему рубашку, и сейчас она, казалось, дымилась, просыхая на солнце. Ветерок приятно щекотал ему спину, лохматил чуб. Набегавшись, ребята подсели к Мишке. Щеки у них горели, в глазах прыгали дьяволята, грязные штанины коробились, а ноги сами просились в пляс. — Алешка, давай споем! — Василек закинул назад голову, глубоко вдохнул медовый запах. — Помнишь ту, что наши солдаты… Когда шли по мостику, грох-грох сапогами и дружно:9
И когда это мать успела? Вчера, позавчера или сегодня утром? Подавленный, отупевший Вовка ходил, как в дыму, ничего не разбирая вокруг, и только сейчас заметил: дорожка к землянке усыпана желтым песком, ступеньки выложены кирпичом, камышовая крыша замазана глиной, стала такой ровной и гладкой, хоть ложись на нее да загорай. Хата повеселела — и у Вовки немного отлегло от сердца. Но испуг не прошел, холодок в душе не растаял. И хотя ласковый ветерок как будто заигрывал с ним, легонько шевеля рубахой, день по-прежнему не радовал его. Озираясь по сторонам (лишь бы никто не встретился), Вовка пошел по тихой улочке. Наступило время обеда, а женщины еще не возвращались с поля: уже несколько дней, как грачи, клевали они землю в степи за Ингулом. Сорняки густо разрослись после дождя и со всех сторон окружили маленький островок, отвоеванный у степи, угрожая смыть зелеными волнами будущие посевы. Разве остановишь голыми руками это дикое половодье? «Гляди, вишенки!» — удивился Вовка, замедлив шаги. Вдоль дороги тянулся ряд молодых саженцев. Стволы их были побелены, ямки обложены камушками. Все вокруг сверкало весенними красками. Точно маляр-волшебник прошелся по селу со своей затейливой кистью: не только вишенки, но и дымоходы покрасил белилами, дорожки и крыши — охрой, а палисадники напротив окошек — зеленкой. «А что это за избушка?» — снова удивился Вовка, свернув к кузнице. На расчищенном дворе, как белый гриб, вырос кирпичный домик. На его боковой стене было написано:РАБОТАТЬ ПО-ВОЕННОМУ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ!«Вон что делается!.. Не иначе как Яценко построил каморку, а Алешка разрисовал ее. Друг называется… — обиженно подумал Вовка. — А еще уверял: вдвоем, Вовочка, вдвоем, братишечка. Ух, лисица!» Дверь домика была прижата палкой. Вовка открыл ее и заглянул в каморку. Оттуда пахнуло сыростью, влажной известкой. У самой стены, в дощатых закромах, насыпом лежала проросшая картошка, отдельно — горки пшеницы, ячменя и кукурузы. А на полке в углу — узелки с семечками. «Вот и мамин узелок!» Вовка признал его по обгоревшему полотну. Парнишка снова закрыл дверь и хотел уже было идти дальше, как его остановил дед Аврам. «Напоролся-таки!» — недовольно подумал Вовка. — Здорово, пастушок. Вишь, переквалифицировался. Делал галоши, теперь мешки. Артельный портной, — заговорил с ним старик. Дыня чинил дратвой крапивные мешки. Ловко орудуя большой цыганской иглой — такой, что и свинью можно заколоть, — большими стежками стягивал он дырки. Старенький, с лысиной, опушенной сединой, Дыня сгорбился над лохмотьями. Вовка нехотя возил ногой по земле. Обоим было тяжело разговаривать. — Как же это вы, снайперы? — укоризненно спросил после долгого молчания Дыня. — Не спрашивайте, дед. Сам до сих пор никак не пойму… — Глупая вещь — судьба. Глупая и неразборчивая. Лучше бы меня… Зачем хожу по земле? — Не говорите так, дедушка. И трава хочет жить. — Судьба, — вздохнул Дыня. — Глушит молодые ростки, а старые пни оставляет. Обидно. — А где Яшка? — прервал мучительный разговор Вовка. — Одичал совсем парень. В степи прятался. Совести своей боялся. Яшка — о-о! — не такой, как все думают. У него только кожа толстая, а под ней — мякоть. Знаю я Деркачей: и Гаврила и Максим — душа-люди. Уж спеть, сплясать — орлы, на все село славились… И вот тебе. Только Яшка понемногу начал за ум браться. Дневал и ночевал в степи. На Трофейной сорняки корчевал, а тут… Дыня замолчал. — Ну ладно, дедушка… Будьте здоровы, — воспользовавшись паузой, сказал Вовка. — Будь и людей не забудь, — ответил ему Дыня. — Война всех нас с толку сбила. А ты, брат, держись… Поговорил дед, словно погладил отцовской рукой, но от этого Вовка загрустил еще больше. Пошел он на край села, к Мишкиной землянке. Осмотрелся: где же она? Бурьян вырос по самую грудь. Еле нашел в густой лебеде желтый осевший холмик, на котором торчало перевернутое ведро. Кругом стояла гробовая тишина. Эта первозданная тишина наполняла тело зябким ознобом. Вовка толкнул рогожу, обитую планками, дверцы глухо раздвинулись, и паренек несмело шагнул в холодную темень. Его обдало сыростью покинутого жилища. Вовка зажег фонарик. Плесень, мох, грязные полосы на стенах. А на земляном полу — соломенная труха, сопревший ватник, и такой мокрый, хоть выжимай… «Вот здесь Мишка спал», — пронзительно мелькнуло в голове пастуха. Пучок бледного света выхватил серый предмет, покрытый, казалось, искристым инеем. Автомат. Немецкий. «Смотри, и не думал, что у Мишки было оружие… А это что такое?» На гвозде висела деревянная, хорошо выструганная сабля. Как будто обухом по голове ударило Вовку, когда вспомнил слова друга: «Хочешь, Вовчик, я тебе и саблю сделаю… Вместо ручки — львиная голова с лохматой гривой. На картинке видел»… «Эх, Мишка, Мишка! Чем же я тебя отблагодарил?!» Вовка долго стоял в оцепенении, как и тогда, во время взрыва. «Ну ладно. Пора кончать. Сейчас же. — Он быстро снял с гвоздя автомат. — Понесут меня селом мимо белых вишен, понесут на кладбище и положат рядом с Мишкой… Над могилой будет стоять мама, Алеша, люди. И тихо скажут они: был такой Вовка и нет. Ушел с другом…» До слез ему стало жаль себя, но он подавлял эту жалость, боясь смалодушничать. Стиснул зубы, закрыл глаза, стал думать: куда лучше попасть — в грудь или в висок? Прижал автомат к земле. Приклад скользнул по сырому полу. Холодное дуло прикоснулось к Вовкиному лбу. Со спокойной решимостью Вовка нажал на курок. Жизнь отсчитывала последние секунды. Раз (пауза), два (пауза), три — бббах!.. Вовка упал на спину. Тошнотворное спокойствие охватило его. «Ну хорошо, — стучало в голове. — Бабушки нет. Галинки нет. Отец не пишет. И я застрелюсь. А как мать будет жить?» И Вовка представил ее, убитую горем. Лицо в морщинках, кожа на руках совсем как дубовая кора, а в подоле — два тугих клубочка. И третий придется искать? Будет сидеть она все ночи одна-одинешенька и стареть от печали. «Разве это сын? — скажут люди. — Разве была в нем жалость к матери?» С отчаянием Вовка дернул затвор — патронов в магазине не было — и швырнул автомат на пол: «Сгорел бы ты навеки!» Выбравшись из землянки, как из тины, в которой он запутался, Вовка огородами побежал домой. Он торопился, чтобы скорее броситься в материнские объятия и вновь почувствовать себя маленьким и беззащитным, выплакаться на ее груди, как делал он это в детстве. Перескочив траншею, за которой начиналась их усадьба, Вовка вспомнил, что забыл прихватить саблю. «Ничего. Пусть повисит там на гвозде. Буду приходить к Мишке и смотреть. Как погоню коз мимо землянки, так прямо к нему. Каждое утро заходить буду. Всегда. Что бы со мной ни случилось». Эта мысль не утешила его, но все же приглушила горечь. К хате он подошел уже несколько успокоенный. Но, как говорят, одна беда идет и другую за собой ведет. Только Вовка приблизился к землянке — новая неожиданность. Весь двор заполнен женщинами. «Что они, воды зашли попить?» — подумал Вовка. Нет, не похоже. Сбились кучей, стоят около дверей, над кем-то квохчут. И растерянный шепот: «Положите ее… Осторожнее… Полотенце смочите…» Вовка бросился в толпу, отчаянно пробивался руками, плечом, спиной. Но вспотевшие, горячие тела не пускали его. Кто-то дернул мальчишку назад: — Куда? Не детское дело! — Кто там? Кто? Мама? — вскрикнул Вовка, опять пробираясь через толпу. — Убило ее? Да скажите же… — Это Ольга… Ольга-беженка… Солнечным ударом свалило. — Со мной копала. Я и говорю: не торопись, Ольга, отдохни. Но ведь упрямая — все вперед, вперед выскакивает. — Вот-вот. Копала, копала, пока не упала. — Откуда ж у нее сила? На одной воде жила. Лошадь и та ноги протянет. Вовка прислонился к стене. Его самого будто громом прибило: шумело в голове, желтые круги расплывались перед глазами. Как во сне, то появлялось, то исчезало раскрасневшееся, встревоженное лицо матери с густыми каплями пота. Она прыскала изо рта воду на Ольгу. Рядом на земле лежали носилки. Черные волосы Ольги растрепались, плечи оголились. Лицо было синим, совсем как у умирающей. Зубы крепко сжаты. — О господи, кончается! — крикнула в отчаянии мать. — Простокваши достаньте! Кто-то побежал за кислым молоком. Ольгу потащили в землянку. Голова ее покрыта черным, руки тянутся по земле, как плети. — Отошла… дышит… — кто-то говорит на ступеньках. И люди медленно расходятся. Ночью Вовку трясет лихорадка, то и дело он просыпается. Чувствует, что лежит не в своей постели — и тесно и жестко. Мать уложила его на маленькой печке. Ноги жарит, а спине холодно, даже кости ломит. Хотя и накрыт он тяжелым ватником, но почему-то морозно. Вовка переворачивается на другой бок. В землянке — желтые сумерки. Слышится легкое шуршание. На полу — керосиновая лампа. Ведро с водой. Девичье платьице и две пары обуви — валенки и туфли. На лежанке двое. Мать и Ольга. Мать смачивает полотенце и прикладывает его к горячей голове девушки. И печально говорит: — Лежи, доченька, лежи… Душу ты мне всю перевернула. Не пущу тебя больше в степь, не пущу, даже если земля там провалится. Сами как-нибудь управимся. Мы, бабы, живучие; нас горе молотило, а мы, видишь, живы и здоровы. Голодные — мир кормим. Голые — свет одеваем. Мы, бабы, ко всему привычны. А ты совсем хрупкая. Разве лопата для тебя? Будешь почтальон, и хватит. Посылки на фронт отправишь и, может, кому письмишко… А принесешь мне весточку от Андрея — весь век тебе кланяться буду… Спи, доченька, поправляйся. Под утро Вовка услышал: тихонько всхлипывая, словно только что выкупанное дитя, Ольга шептала: — Какие у вас теплые руки… Спасибо, мама, мне теперь совсем хорошо. Вовке показалось, что это шепчет Галинка, его сестра. И, улыбаясь, он заснул.
10
Дети всегда дети. Их печаль — как роса: вечером упала, утром пропала. Еще позавчера Вовка Троян решил: «Надо кончать», — а сегодня был уже на седьмом небе. И не только себя, всех односельчан развеселил паренек. «Куда же он девался? — Алешка напряженно вглядывался в серую облачную степь. — Говорил — на минуточку: одна нога там, другая здесь. Хороша минуточка! Скоро обед, надо гнать коз в село, а Вовки все нет и нет». Алешка не на шутку встревожился. Опять от отца попадет. После того случая, который произошел возле церкви, отец запер его в сарае, бросил туда пряжу и, сверкнув глазами, сердито сказал «Сиди здесь, босяк, пока мыши тебя не съедят. И всю пряжу до ниточки перемотай!» Так впотьмах просидел Алешка два дня. Разматывал пряжу. Ее долго красили, кипятили в чугуне, нитки свалялись в такой клубок — сто чертей не распутали бы его. От страха, от голода и мышиного писка Алешка дрожал, как осиновый лист в непогоду. Когда отец уходил со двора, мать тихонько подсовывала сыну печеную картошку или кружку с водой, успокаивая: «Потерпи, сынок. И на отца не обижайся. Ты же знаешь его: покричит, посердится и тут же отойдет». В самом деле, на третий день, когда «арестант» сдал всю смотанную пряжу, а затем, тихий и покорный, явился отцу на глаза, тот пробормотал: «Вот что… Можешь кроликам травы нарвать». Почувствовав свободу, Алешка сразу побежал к Вовке. Друг встретил его радостно: «Алешенька! Хорошо, что ты прибежал. Я тебя давно уже жду, все глаза проглядел… Присмотри за козами, я мигом. Туда и обратно — одна минута!» Куда он пошел, хитрюга? А Вовка, избавившись от надоевших коз, счастливый и довольный, пошел за ветром в степь. Утро было пасмурное. На востоке клубился туман, словно за бугром в огромном котле чумаки варили кашу. Оттуда тянуло дымом, гнилой ботвой, запахом распаренной земли. Наверное, собиралось на дождь. А может, ветерок рассеет седую тучу и к обеду еще выглянет солнце. Вовка шел по берегу Ингула, где в феврале проходили бои, где снарядами было вспахано, костями усеяно. Весна смазала зеленкой незажившие раны. Широкий чертополох покрыл блиндажи, между гильзами и патронами пробивался острый пырей, даже на башнях танков зеленела березка. Сквозь ржавое железо тянулась к свету молодая поросль. Ее трудно было сдержать, как и саму весну, которая покрывала степь высокими травами. Легко и приятно идти по бархатному ковру, сбивая ногами капли росы, радостно было мечтать о предстоящей встрече. Вовка знал, куда он идет, и знал, зачем он идет. Яшка сказал ему, что за Терновской балкой стоят наши солдаты цыганским табором. Да если бы Деркач и не сказал об этом, Вовка все равно бы узнал, кто поселился за бугром. Однажды, когда Вовка гнал коз на пастбище и полной грудью вдыхал целительный запах весны, ветер донес до него далекий гудок. Неужели это поезд на станции? В селе была примета: услышишь гудок с Долинской — жди гостей. «Отец приедет!» — встрепенулся парнишка и замер, напряженно прислушиваясь. Гу-гу-у-у… — докатилось снова. «Нет, не с Долинской, а с северной стороны, кажется…» Потом что-то гаркнуло, протарахтело, и земля вздрогнула от взрыва. Одинокие взрывы, рев моторов — все это снова напоминало о войне. Шум не утихал ни днем ни ночью. До смерти испугались односельчане, по селу поползли слухи: «Немцы прорвались!.. Десант!.. Уже Сасово окружили!» Женщины и дети засуетились, многие решили спасаться в степи, где еще с зимы остались ямы, в которых прятались люди после пожара. Кто-то впопыхах набивал мешки, собирал последние тряпки, а тем временем Яшка на своей лошади поскакал в разведку. Назад примчался весь потный, взмыленный и понесся рысью по улице, размахивая пилоткой: «Стойте! Куда вы! Это же наши!» Останавливал баб и каждой втолковывал: за Терновой балкой расположился военный лагерь, там проходят боевые учения. Ночью, как только засыпал Вовка, набегавшись за козами, в его неспокойный сон врывался неутихающий грохот, и тогда мечты выносили его в степь, в забытое детство, и ему чудился надвигающийся из тьмы трактор, который, грохоча, тянул за собой не плуг, а длинный шлейф из серебристых искр. Мигающие огоньки, угасая, исчезали, как звезды на рассвете. А в степи — люди с лопатами… Носилки… Ольга… Сжатые зубы… От взрыва дрожала землянка, и Вовка просыпался, но и тогда его не оставляла ясная и твердая мысль: «Солдаты. Конечно, у них есть машины. Не может быть, чтобы женщинам отказались помочь». Эта мысль и торопила его сейчас туда — к военному полигону. Вскоре ветер разогнал тучи, разбросал их по клочкам в синих просторах. Умытое, краснощекое солнце, задержавшись с утра, торопливо раздувало свой горн, рассыпая на землю свои горячие брызги. И закипела в степи работа: земля расстелила широкий ковер, чтоб просыхал он на солнце, засуетился суслик-кладовщик — чем бы запастись на зиму? Сердито зажужжала пчела — смотри, прозеваешь в такую погоду весенний медосбор! А вон и навозные жуки старательно катят свою хату-орешек. Зачем? Куда они торопятся?.. Только жаворонок казался беззаботным. Что ему земная суета? Вольная птица небесных высот, он славил сказочные берега, где солнце не заходит и месяц стоит в вечном дозоре. Говорливая речка встретила Вовку шепотом камышей. Паренек хлебнул под кустом холодной воды и взобрался на пригорок. Отсюда был виден как на ладони военный лагерь. Он и в самом деле напоминал цыганский табор. По степи разбросаны шатры-палатки, а между ними — маленькие фигуры. Под брезентом, точно быки на привязи, застыли крытые грузовики. И еще какие-то машины под брезентом, с длинными хоботами… Наверное, пушки или танки. Дымят огни. Ревут моторы. Грохочет полигон, гудит… И Вовка, разжигаемый любопытством, бросается напрямик, но путь ему преграждает частокол. Конечно, можно было бы пролезть сквозь проволочные заграждения, да как-то неудобно: серьезные намерения — и вдруг лезть по-воровски, как будто в сад за яблоками. Вовка пошел вдоль невысокого забора, с любопытством разглядывая самоходки. — Стой. Кто идет? — остановил пастуха часовой, который стоял у ворот. Солдат был худой и щупленький, гимнастерка собрана у пояса гармошкой, за плечом — карабин. Насмешливо оглядел он Вовку с ног до головы: босые, позеленевшие от травы ноги, мятые штаны, ситцевая рубашка, смуглое, худощавое личико, карие глаза. На лице у мальчугана — растерянность. — Не дрейфь, браток, — улыбнувшись, подбодрил солдат. — Здесь все свои. — Это я, дядя, Вовка… — хрипловатым басом представился козопас и тут же добавил: — Мне бы к самому старшему начальнику… — К самому старшему? К коменданту, значит? Иди по дорожке прямо; слева за бензобаками — вон там, видишь? — фанерный домик… А для чего тебе комендант? — поинтересовался часовой. — По хозяйственному делу, — объяснил Вовка. — Я пойду? — Ну иди! — сказал солдат и приложил руку к пилотке. Вовка шел осторожно, как по кочкам, подтягивая на ходу штаны, чтобы они не очень-то шуршали. Возле первой палатки, на автомобильных скатах, сидели двое. Наверное, танкисты, потому что на них были засаленные комбинезоны и черные шлемы. Пахло машинным маслом. Танкисты перетирали паклей какие-то блестящие втулки. Но сейчас их заинтересовал мальчуган. Не сговариваясь, они отложили работу и снизу вверх уставились на Вовку. — Откуда будешь, орел? Вовка вежливо поздоровался, даже фуражечку для приличия снял, путано рассказывая, кто он и откуда. — У вас здесь много всякого… — Вовка обвел глазами технику. — Вроде к бою готовитесь… А трактора случайно не будет? — Трактора? — прищурился курносый танкист, сдерживая улыбку. — Вот они, наши тракторы. «КВ» — слыхал о таких? — «КВ», — прочитал мальчуган буквы на борту приземистого танка с круглой башней, который стоял на деревянных колодках. — «Клим Ворошилов». Гроза. Стену начисто сносит. — Не-е… Нам такие не нужны. Нам чтоб землю пахали… Бабы наши выходят в поле, возятся, возятся лопатами, а земля как камень. Танкисты закурили, и голубой дымок, как печаль, окутал их суровые, задумчивые лица. — Это еще надо подумать, кому тяжелее: мужчинам на войне или женщинам в тылу. Курносый танкист с глубоким шрамом на лице, погасив каблуком окурок, быстро вскочил. — Знаешь, Николай, — обратился он к своему другу, — пойду к майору. Пусть дает машину, на которой «букварей» стажируем. Чего напрасно гонять ее по степи?.. — Валяй, тезка. Я бы с тобой пошел, если бы не дежурство. Вовка остался с одним Николаем, а второй, курносый, глухо застучал сапогами, направляясь к фанерному домику. Через минуту он уже птицей выскочил оттуда и, на ходу застегивая шлем, веселый и взволнованный, окликнул Вовку: Давай за мной! Вы когда-нибудь ездили, друзья, в боевом танке? В настоящем знаменитом «Т-34»! Вы знаете, как вздрагивает его могучее тридцатипятитонное тело, как гремит горячая сталь, как несется он по степи и земля ошалело бросается ему под гусеницы? Вы знаете, что человек в такие мгновения чувствует себя нацеленным снарядом, способным пробить, проломить любую преграду? Если вы не ездили на танках, то представьте себе, что творится в душе двенадцатилетнего парня. Танкист легко вскочил на борт, быстро открыл люк и, согнувшись, так сильно дернул Вовку за руку, что тот только мелькнул в воздухе. «Залазь!» — и втащил его в темный глубокий колодец. От запахов бензина, горелых масел, раскаленного железа у Вовки защекотало в горле. Он нащупал круглую твердую подставку, сел на нее, как на иголки. «За что тут держаться?» — пошарил рукой. Водитель-механик нырнул куда-то вперед, наверное к рычагам управления. Машина стояла неподвижно. И вдруг заревела, как раненый зверь, и, обдавая густым дымом, отбросила Вовку назад. «Прощай, жизнь!» — закатил мальчишка глаза. А его трясло и подбрасывало, а над ним, и под ним, и вокруг него что-то трещало, гремело, скрежетало. Вовка поджал живот, затаил дыхание, как будто боялся, что его растрясет. Водитель быстро повернул голову к парнишке: — Ну как? Здорово? — и весело сверкнул зубами. — Красота! Даже не страшно! — соврал парнишка и гордо выставил онемевшую грудь. Его трясло и качало, но он уцепился руками в сиденье и нашел в себе силы открыть глаза. Бегло осмотрелся вокруг. Перед ним дрожала узкая светлая полоска. «Смотри, щель! Наверное, для того, чтобы наблюдать за дорогой». Вовка припал к ней носом (оттуда потянуло свежим воздухом) и забыл о себе, о своих страхах. Он изумлялся, глядя, как все кружилось и мелькало впереди. Вот проскочили мимо крытые грузовики, рванулись на танк ворота, отскочил часовой, и они вылетели за лагерь, и поплыла назад зеленая равнина. Совсем обезумевший танк рычал, давил гусеницами бугры и бугорочки и, подминая под себя кусты, с разгона перескакивал окопы. — Здорово! — восхищался Вовка, и радость переполняла его гордое мальчишеское сердце. — Сейчас бы на фронт. И сразу в бой!11
На обеденный перекур (так не без горькой иронии называли вдовы и свои короткие перерывы) устраивались женщины в тени за танком. Старшие держались вместе, постелив на землю фуфайки и пиджаки; девушки отдельно: они перетянули в свою компанию застенчивого танкиста. Все только что закончили работу; над степью еще не улеглась пыль, руки болят от усталости, но девушкам хоть бы что: уже перемаргиваются, толкают друг друга, чтобы как-нибудь зацепить Николая. А он, насквозь пропахший мазутом, смущенно улыбается: «Нечего сказать, попал! Под самый перекрестный огонь!» Только Яшка, кажется, понимает тяжелое положение солдата, тесно окруженного девушками. Надвинув пилотку на лоб, Деркач сердито сверкнул глазами на раскрасневшихся курносых. И, презрительно сплюнув, сказал: — Хи-хи, ха-ха — вот и весь бабий разум. — И, уже обращаясь к Николаю, добавил: — Не удивляйся, это у них после бомбежки. — Ах ты рыжий! — подхватили девушки. — А ну, давай его… Девушки повалили Яшку на землю и устроили кучу малу: что они только не делали с беднягой — тыкали его носом в землю, как нашкодившего котенка, молотили по спине. Не стерпел танкист — и сам туда же, в сплетенный клубок: — Яшка, не сдавайся! — и за плечи, за руки стал расталкивать девушек. Смеху, писку, шуму — как на посиделках. Женщины, гревшиеся на солнце, с материнской снисходительностью смотрели на возню молодежи; они напомнили им былые весенние вечера с соловьиным пением, перекличкой парней над Ингулом и те заветные места, где они любили сидеть только вдвоем… «На то и молодость! Война войной, а погулять хочется. Ну какая доля нашим дочерям досталась?» И словно в ответ, полилась девичья песня:Прошел день, второй, как уехал Кудым в село Гуйцы, и ни слуху ни духу о нем. Что это за село, где оно, куда занесла беда старого человека — никто толком не знал. Трояниха уже стала беспокоиться. Думала-гадала, не послать ли кого в Бобринец. И только на третий день под вечер, когда женщины возвращались с поля, в село въехала подвода. Впереди нее шел Кудым, по-стариковски сгорблена спина, кожух обвис, почернел от пыли. Едва переставляя ноги, Кудым тянул за повод совсем отощавшую кобылу. На подводе лежал гроб. — Федьку везет, Федьку… — сжимая губы, шептали женщины. Со всех сторон обложенная сеном, длинная-предлинная, из грубых свежеобтесанных досок, проплыла как печаль страшная обитель покойника. Кудым не поднял головы, не позвал женщин на похороны. Так и прошел мимо всех, сгорбленный, немой; сам-один нес на своих плечах горе в хату. А вскоре оттуда, где жил Кудым, донеслись такие надрывные, такие нечеловеческие рыдания, что казалось, даже вечерняя тишина застыла над селом. Это оплакивала мужа овдовевшая Василина. На кладбище, за могилами Антона и Максима, вырос еще один холмик. Еще один крест вогнала война в холодное тело земли. Идя в поле или с поля, женщины не один раз видели — сидит над свежим бугорком осиротевший Кудым, гладит рукой землю, словно спрашивает: «За что, за какие грехи отобрала ты, матушка, у меня всех моих сынов?..»
12
— А я уже проснулась! — сказала Ольга и поднялась с постели. В землянке тихо. Наверное, было поздно, потому что стекло, возле которого стояла герань, рдело на солнце, залитое розовым светом; казалось, спокойное пламя охватило зеленый куст и сейчас высвечивает его до мельчайших жилок на каждом листике. Ярко пламенели мохнатые пучки соцветий. «Смотри, как герань распустилась!» — улыбнулась Ольга. Сейчас она чувствовала себя так, словно после изнуряющей жары искупалась в прохладном Ингуле. Приятно кружилась голова, дрожали ноги, хотелось есть. И вдруг возле кушетки на перевернутом ящике, служившем стулом, она увидела небольшой букетик мяты, белую головку лука и ломоть ржаного хлеба, подаренного танкистом. «Ох, Вовчик! — погрозила пальцем в темный угол. — Сам, видно, голодным ушел». Ольга не прикоснулась к еде, только взяла мяту, приложила к горящим щекам, и такая свежесть, такой щекочущий холодок разлились по всему телу. Опьяневшая, немного расслабленная, прислонилась она к печке, удивленно осмотрела знакомые предметы, ставшие ей будто чужими. Так, наверное, через много-много лет смотрит человек на свою пожелтевшую детскую фотографию. И показалось Ольге, что трояновская землянка стала ниже, а стены еще больше позеленели от сырости. Дымоход под потолком покрылся грибковой плесенью: она фосфорически искрилась, белые водянистые нити висели над самой головой. И на мгновение ей пригрезилось, что стоит она, босоногая, на дне озера, перед глазами ее качаются лилии, гнилые корни обросли мхом, темнеет спина крутого каменистого берега… Но вот она посмотрела на пол: возле печки подсыхали парусиновые туфли. «Мои туфельки. Это в них я копала за Ингулом. На одной туфле подметка отстала, и туда набилось много земли…» Зато теперь туфли как новенькие; весело посматривают они на Ольгу — белые, мелом натертые. «Мама… Починила, привела в порядок… Для меня…» Осторожно, как бы боясь вспугнуть радость, Ольга взяла ведро и выглянула из погреба. Солнце ударило ей в глаза, ослепило ее; она сощурилась и пошла навстречу весенним разливам… «Сколько дней я уже не выходила на улицу?.. Неделю, а может, и полторы…» Приятно было почувствовать, как после сырой и холодной землянки в ней оживает каждая клеточка: постепенно рассеивался терпкий, застоявшийся мрак, все тело наполнялось теплом. Ольга открыла глаза; буйное цветение жаркого мая уже не ослепляло ее. Наоборот, изголодавшийся взгляд жадно вбирал пышное великолепие красок. Словно прозрев после долгой слепоты, Ольга заново открывала для себя мир: «Какой просторный двор! А трава! Когда она успела так быстро вырасти!» С детским любопытством Ольга забрела в репейники: — Ау! Я здесь! — и засмеялась тихонько, как ребенок, играющий в жмурки. Очарованная, пошла она на огород. В зеленой оправе свежей, нетоптаной травы лежала черная полоска земли, чистая, заборонованная граблями. Гряду густо покрыл стрельчатый лук, шероховатые бледно-зеленые листики редиски. «А я и не видела, как все это всходило», — пожалела Ольга. Она прошлась утоптанной дорожкой вдоль гряд, по-хозяйски выщипала ростки осота и уже собралась было вернуться в землянку, как ее что-то остановило. Шалаш, который они построили вдвоем с Марусей, исчез. Среди лебеды виднелась гора камней — потолок осел, провалился. Зияла черная яма, пахло гнилой ботвой. «Не пойду. Если окрепну, тогда, может, и поправлю свою хатку». Здесь, у соседей, как у родных; разве ей плохо — и поговорят с ней, и рассеют сиротские мысли. Страшно возвращаться в старое жилище; казалось, там под гнилыми развалинами притаилось ее одиночество, ее печаль и болезни: только сунься туда — и снова они тобой овладеют, как лишайник упавшим деревом. Мама… «Не отпущу тебя, дочка, от себя, — шептала она ночами. — Не отпущу…» — «А куда я от вас уйду?» Чуть улыбаясь, Ольга склонилась над ведром, чтобы освежиться после сна. Но не коснулась воды, а засмотрелась в темный круг. В его глубине отразилось худое незнакомое лицо. «Гм!.. Неужели это ты, Ольга? И эта зеленая сливка — твой нос? И уши, как маковки, — тоже твои? А глаза? Большие-пребольшие, точно у испуганного зайца. А лица совсем нет, будто груша — сухая-пресухая, обтянутая тоненькой пленкой… Ай! Лучше не буду смотреть!» Ольга умылась, надела пестренькое платье («Какое широкое!.. Еще одна такая же толстуха влезет!»), надела на ноги белые туфли и, пересиливая слабость, пошла со двора. Она шла извилистой улочкой, перешагивая через сухие, окаменевшие комья земли; между густым чертополохом едва виднелась дорожка. Села не видно было — одни землянки, словно куры в жару, разбежались по бурьянам, гнездились где-то в тени. Кто-то долго возле кузницы стучал по железу. Неожиданно откуда-то выскочил всадник и понесся навстречу Ольге. Яшка Деркач! Он скакал без седла и еще издали улыбался девушке. Улыбался широко, во весь рот, пламенели рыжие нестриженые волосы, плечи его играли. — Ольга! Ах, какая ты… Как ниточка… Уже поправилась? Ольга подняла вверх голову, сверкнула зубами, и вся она, от белых туфель до легкой косынки, была будто выбеленная, как та вишня, что стоит у дороги, — белая-белая, с цветами на ветках. — Куда же ты, Оля? — На почту, Яшенька… В Сасово. — Садись, подвезу. Сюда и туда слетаем в один миг! — Что ты, Яшенька, боюсь. Голова кружится. — Я тихонько… Как на крыльях. Ольга, незаметно прикрыв ладонью рот, улыбнулась, а Яшка похлопал гнедую по спине: мол, сюда вот посажу тебя, девушка, обхвачу руками и понесемся мы не только в Сасово, а куда угодно, хоть на край света. Ольга смущенно опустила глаза, притопнула ногой, стряхивая желтую пыль с туфельки. — Чего не приходил, Яшенька, когда я лентяйкой отлеживалась? — Не говори так: лентяйкой… — нахмурился Яшка. — Не дай бог никому… Приходил я к тебе. Знаешь, как это говорится, крутило, носило — в хату не пустило. Так и со мной. Думаю, приду — скажет бригадирша: брысь, рыжий! Да еще по спине… — Что ты, Яшенька! Разве она такая? Яшка спрыгнул с лошади, взял гнедую за поводок и, босой, пошел бурьяном, уступая дорожку белым туфелькам. Лошадь деликатно отворачивала морду — мне ли, старой, до ваших секретов? — ловила губами верхушки молодой лебеды. Некоторое время Яшка молча топтал траву, что-то, видно, собирался сказать, потому что загоревшие щеки его медленно покрывались румянцем и пот выступил на золотистом пушке. — Оля… Так ты… выходи вечерком. Ладно? Думал, что она снова улыбнется, но она взглянула на парня уже без усмешки, даже немного испуганно, и тихо сказала: — Потом, потом, Яшенька… Подрубило мне крылья. — Понимаю, Ольга. Говорили женщины: поправится ли? Тетка Оксана совсем извелась: так боялась за тебя!.. — Правда, Яшенька. Ни одной ночи не спала она. Ухаживала за мной, как за малым дитем. Они вышли в поле. Кобыла нехотя плелась сзади, опустив голову, точно обнюхивала Яшкин след в траве. Но они не слышали фырканья лошади, стрекотания кузнечиков, опьяневших от солнца; их было двое — только двое на всю степь, раскинувшуюся перед ними. Обоим было хорошо идти неизвестно куда, идти рядом, изредка перебрасываясь взглядами, улыбаясь небу, солнцу и далеким горизонтам. Вдруг Ольга что-то вспомнила: — Яшенька, возвращайся! — Еще провожу немножко. До того оврага. — Куда ты собрался? — В поле. Эх, если бы ты знала, что там делается! Посмотри! — И Яшка махнул поводком так, как будто хотел забросить его далеко-далеко, за Ингул. — Видишь, какая махина? Ольга посмотрела туда, куда показывал Яшка, но ничего особенного не увидела. Тогда Яшка взял ее за руку, легкую и тоненькую, как голубиное перышко, покраснел до самых ушей и еще раз показал, где она, эта махина. — Видишь, за разбитым мостом, где ты копала… Танк! Тридцатьчетверка. Такие глыбы выворачивает, что и не перепрыгнешь. — Вижу, вижу! — обрадовалась Ольга. — Рассказывал мне Вовчик об этом. Сейчас там все… И мама… И наш пастушок. Это, наверное, его козы пасутся. С таким увлечением, с такой жадностью вглядывалась она в ингульскую степь, что казалось, сейчас возьмет и полетит туда — к людям. В это мгновение Ольга на самом деле была похожа на птицу. Легкая и необычная, стояла она на бугорке; ветер вздувал ее светлое платье; длинная коса развевалась за худенькой девичьей фигуркой. И пока Ольга смотрела вдаль, Яшка не отрывал взгляда от ее тонкой шеи, узеньких детских плеч, чистого бледного личика, и какая-то непонятная ему жалость щекотала его грудь. Они расстались. Дорожка повела Ольгу к соседнему селу, а Яшка долго еще стоял на холме и не мог поверить, что совсем недавно вот на этом месте ему улыбалась Ольга, потом взмахнула белой косынкой и… улетела. Еще какое-то мгновение косынка белеет, а потом исчезает за крутым травянистым валом. Догнать ее?.. Яшка едва сдержал себя; ему хотелось сделать что-то отчаянное: со всего разбега подскочить к Ольге, посадить на коня и умчаться в степь. Пошла Ольга на почту. Понимала ли она, какую тяжесть — и смех, и радость, и вдовьи слезы — берет на свои плечи? Знала ли она, что с сегодняшнего дня люди будут встречать ее тревожными, полными надежды глазами? Мальчишки, выкрикивая: «Почта, почта идет!» — побегут ей навстречу. Простоволосые женщины выбегут из хат, и одна, схватившись за сердце, крикнет на все село: «Люди добрые! Иванко нашелся!», а вторая, испепелившаяся, упадет на дорогу и долго будет биться о землю, и что-то начнет хрипеть в ее груди до тех пор, пока не вырвется страшным криком: «Ой, детки, сироты вы мои…» Ольга еще не знала, сколько тех «наградных», «похоронных», «без вести пропавших» принесет она матерям, и потому, счастливая и немного беззаботная, медленно шла навстречу мглистым холмам, которые все отступали, отдалялись, и она любовалась прихотливой игрой миража, сугробами снега, таявшими в высоком синем небе, и не могла никак наглядеться. До Сасова не так далеко, и все-таки, возвращаясь с почты, Ольга почувствовала усталость. Жара немного спала, голубые тени обрывов ложились на спокойную гладь Ингула. Широкий плес, образовавшийся по течению реки, был как будто усыпан серебром или битым стеклом — вода играла ослепительным блеском. Застучали Ольгины туфли по деревянному мостику, и, тяжело дыша, девушка поднялась на гору. Отсюда открывался широкий простор заингульской степи; длинная полоса весенней пашни, словно черный пояс, опоясывала холмистую равнину; на вспаханном поле кое-где остались зеленые островки, где торчали фашистские танки и пушки. Возле поля, недалеко от ухабистой дороги, расположились на отдых колхозники: кто лежал на земле, подложив фуфайку под голову, кто сидел возле мешков, кто собирал щавель на выгоне, а шустрые мальчишки бегали между коз друг за другом. Вдали показалась приплюснутая серая черепаха; танк, громыхая, полз вдоль пашни, то исчезая в низине, то переваливаясь с надсадным ревом через бугры. Но бабы, которые сейчас отдыхали, смотрели не в степь, а на мост. Сюда, к колхозникам, и направлялась Ольга. Шла она как-то нетвердо и неуверенно. Наверное, собирала последние силы; казалось, еще немного — и она упадет на дорогу. У каждого вздрогнуло сердце: новость несет! И тогда впервые разнеслись детские голоса: — Почта! Почта идет! Детвора закружила вокруг девушки, ребята прыгали, протягивали к ней руки, и, сбитая с толку, Ольга размахивала письмом над разинутыми ртами: — Не вам! Не вам, галчата! Вот и женщины, испуганные и удивленные, сразу спохватились и, расталкивая детей: «Убирайтесь, чумазые!» — тесным кольцом окружили Ольгу; едва сдерживая волнение, они ловили глазами треугольничек, а над толпой уже неслось: — Письмо!.. Неужели письмо? Для кого?.. Ольга встала на носки, поверх голов в толпе она искала кого-то: — Федо́ра!.. Где Федора Яценко? Женщины расступились, в узеньком проходе напротив Ольги застыла Федора — толстая молодуха, плечи круглые, твердое лицо с тяжелым подбородком, лоб точно мужицкая ладонь. Она недоуменно смотрела на людей. — Танцуй, Федора! — протянула ей письма почтальонша. — Гопак танцуй, а то не дам!.. Письмо с фронта! — Отдай! — вскрикнула Федора и, бросившись на Ольгу, как коршун на цыпленка, выхватила из рук письмо, вскрыла его и… будто ослепла. Из конверта что-то упало, но она не увидела: глаза наполнились слезами, руки дрожали, скомканный лист прижала к губам, залилась глухим плачем. Кто-то поднял листок, вывалившийся из конверта. — Эге, да это ж фотография! — Смотри!.. Василий! Федорин Василий! — Что вы? Когда на фронт уходил, был такой невзрачный. А это же мужчина! — Настоящий солдат. Усы отрастил! Еще и улыбается: не иначе как девкам подмаргивает… Женщины набросились на Федору: — Чего ж ты стоишь? Одурела от счастья, что ли? Танцуй, тебе говорят! А Федору точно обухом кто-то стукнул по голове: слова сказать не может. И вдруг словно выдохнула горячий клубок, ставший ей поперек горла. — Оленька, кукушечка! — она схватила Ольгу и закружилась с ней, как с ребенком, и защебетала: — Задушу, задушу тебя, ягодка! Ой спасибо, ой спасибо, ой прости меня, бабу-дуру! Вихрем подхватило всех женщин, и они тоже, как Федора, закружились, смеясь и вытирая выступившие на глаза слезы; подталкивая одна другую, говорили: — Везет же Яценко! Вишь, и Василий объявился. Ихний род словно заколдован от беды. — Ну и хорошо. Может, скоро и наши откликнутся. Кто-то протискался к Федоре, крича ей через головы: — Будь счастлива на почин, Федора! Чтоб все до рождества вернулись! От радости женщины и не заметили, как танк остановился на краю загона и как солдат растерянно оглядывал странное сборище; а за плугом стояла растерянная Трояниха и с удивлением думала: «Господи! Что это с бабами такое?» — Пусти, Федора, пусти! — вырывалась Ольга из медвежьих объятий Федоры. — Задушишь меня! Очутившись на земле, Ольга поправила платьице и сбитую на затылок косынку; на своем плече она почувствовала нервную дрожь чьей-то руки. — Это вы, мама? Трояниха, которая незаметно подошла к Ольге, взяла девушку за локоть и, словно извиняясь, спросила: — Больше писем нет, дочка? Из-под выгоревших и покрытых пылью ресниц смотрели на Ольгу глаза — большие, полные печали и надежды. Не выдержала Ольга взгляда этих спокойных, уже угасших глаз и опустила голову. — Нет, вам, мама, — и умолкла. Какое-то мгновение она внимательно разглядывала ее черные, потресканные, разбитые на комьях босые ноги и свои, в белых туфельках. И ей стало вдруг так стыдно, что она покраснела, позабыв о своем горе. Только после паузы она призналась: — А мне весточка… — От Маруси? Ольга не ответила. У нее судорожно задергались щеки. — Что-то плохое? Говори!.. — Такое, что никак не разберу своим умом. Потом, мама… вечером. — И, сдерживая слезы, Ольга быстро ушла. — Что с ней? — встрепенулись женщины. — Сестра что-то написала… Из Донбасса… — Может, Павел к другой ушел. Там, говорят, в городе такое творится… Мужчин мало, какая-нибудь фифочка взяла и отбила. — Не знаете — не болтайте. Павел не из тех… Пока женщины думали-гадали, Ольга быстро шла прямиком к селу. Письмо от Маруси она трижды прочитала на почте, а затем, возвращаясь из Сасова, вновь и вновь пробежала его, но ничего толком не могла понять. В письме ни слова о том, как Павлу и Марусе живется на шахтах, где они работают — под землей или наверху, и когда приедут погостить. Одни только вздохи, и так в каждой строке. «Ой, сестричка, ой, родненькая, — писала Маруся, — уже вторую ночь не сплю, не знаю, куда деваться, не знаю, что делать с собой…» О чем только не передумала Ольга, стараясь понять: что же в конце концов случилось с Марусей? Может, она заболела, может, поссорилась с Павлом, а может, еще какое несчастье? От таких мыслей разболелась голова; и без того слабая, Ольга почувствовала себя окончательно разбитой. Едва взобралась она на гору, устало побрела к кузнице. И чем ближе подходила к землянке деда Аврама Дыни, тем больше волновалась: что же она скажет старику? Дед-коротыш как пень сидел возле своего погреба, обложившись галошами и заплатами. Еще издали заметил Ольгу и позвал: — О, свашка-пташка! Садись, в ногах правды нет. — Дыня засуетился, быстро убрал со скамеечки инструменты: напильник, резиновые обрывки, баночки с клеем — и пригласил Ольгу сесть. — Говорят, свашка, здорово ты хворала. И меня скрутило, как старую ботву. Не мог проведать тебя, сам на четвереньках ползал за водой, чтоб ему пусто… Э-э, а чего это глаза у тебя на мокром месте? Ольга улыбнулась, пытаясь отделаться шуткой: — Разве долго девушкам прослезиться? И когда горе — плачем, и когда радость — плачем. Такая уж наша натура… — А какое это горе или радость, свашка? — Било, да не убило совсем; ожила немного — вот и радость. Ну хватит обо мне. Лучше расскажите, дедушка, как ваше здоровье?.. — Ольга его спросила, хотя сама видела, что дела у деда неважные: ноги стали толстые, как бревна, руки сильно отекли. Еще больше округлился старик, точно мешок, наполненный водой. Он неуклюже сидел на земле, тяжело дышал; рыжая льняная сорочка была потная, хоть выжимай; большая лысая голова, похожая на белый гриб, влажно блестела. Но Дыня был Дыня — неугомонный говорун-шутник, и пока теплилась в нем жизнь, он не унывал. А тем более сейчас, когда его посетила свашка — в белом платочке, белых туфельках, зубки ровненькие, брови тоненькие, глаза как две бусины. — Эх! — сладко сощурился Дыня. — Подкатит осень на золотой карете, на золотой карете встанет у порога: вот вам, пахари, свежие пироги; вам, молодухи, пышный хлеб; вам жнецы, сметана и блины. Такую свадьбу тебе сыграем, Ольга, что все село ходуном пойдет. Жених-то есть? — Дыня лукаво подмигнул. — Случайно, не Яшка Деркач? Гвардейский парень! Худенькое личико Ольги зарумянилось, в глазах вспыхнули огоньки. А Дыня подливал и подливал масла в огонь: — А может, и посчастливится на старости лет деду Авраму — прилетят осенью Павел с Марусей: сразу две свадьбы, одним махом. Вот там на выгоне накроем столы, все село созовем да еще и музыкантов пригласим. Ох и повеселится моя душа!13
За неделю танкист вспахал приличный участок — гектаров сорок. К «Т-34» прицепили еще один плуг. Правда, достали его не в соседнем колхозе, куда посылали Аврама. Из Сасова Дыня возвратился ни с чем. И тогда вспомнила Трояниха о человеке, который приезжал к ним из «Красной зари». Рано утром она была уже на шоссе, попутной машиной добралась до Кировограда. А вернулась в село на мотоцикле, с новеньким, заботливо упакованным плугом. С того дня пахали тремя лемехами. Это было удивительное зрелище: движется по степи серое приземистое чудовище, покачивает длинным хоботом; за танком тянется цепочка пахарей, покрытых пылью, опаленных южными ветрами. Время от времени пахари сменяются, и те, что сменились, обессиленно валятся на пашню, пересохшими губами припадают к ведру, в котором Алешка принес холодную ключевую воду: — Пейте, тетечка, это из нашего колодезя, вкуснее нету воды. А новая смена пахарей грудью налегает на рукоятки, пластами выворачивая слежавшуюся землю. — Как? Может, тише поедем, на первой? — спрашивает Николай у женщин, черных, как сама пашня. — Вы нас не жалейте, — говорит Трояниха танкисту. — Давайте на полную, надо побольше вспахать. Вон сколько земли пустует… Механик-водитель включает вторую скорость, и еще сильнее визжат колеса плугов, еще быстрее прыгает плужная рама, еще глубже вгрызаются сошники в затвердевший пласт чернозема. Один ряд пройдут, второй — и за плуг становятся новые пахари. Только танкист работает бессменно: в духоте, в дыму, в жаркой грохочущей коробке. Комбинезон его аж дымит, сапоги стали чугунными, от мазута слипаются волосы, пот градом льется по грязному от сажи и копоти лицу. Но солдат, вчерашний хлебопашец из Херсонщины (Яшка все расспросил о нем), и слышать не желает об отдыхе. — Давайте, давайте, на фронте жарче бывает! Здесь, в тесном закутке, танкист не чувствует себя одиноким. Целый день рядом с ним, в боевом отделении, дежурит «расчет» — сельские мальчишки. Они сидят тихо, тесно прижавшись друг к другу; терпеливо жарятся, словно орехи на жаровне, и следят за каждым движением, за каждым жестом механика-водителя, который колдует над непонятными для них рычагами. Они с нетерпением ждут той счастливой минуты, когда танкист, улыбнувшись, щелкнет пальцами по острому кадыку: дескать, неплохо было бы промочить горло. И тогда гавроши наперебой бросаются к ведру, что стоит под башней, осторожно подают ему кружку с водой и внимательно наблюдают, как пьет танкист: отбросит голову назад, один раз глотнет — и уже пустая кружка летит через плечо прямо ребятам в руки… Здорово! (И не знает солдат, что теперь гавроши станут воду пить не иначе, как по-танкистски, и дома будут они бросать через плечо и ложку и свои портки, и пусть не один раз придется икать от мамашиных подзатыльников, но уже никто из них ни за что не откажется от этой привычки, как и от ребячьих воспоминаний о герое-танкисте.) Иногда в открытый люк просовывались длинные потресканные ноги, потом широченные галифе, и вот собственной персоной спускался к водителю Яшка. Гвардии рядовой Деркач молодцевато отдавал честь сержанту бронетанковых войск, и если механик охлаждал мотор, Яшка подсаживался к нему ближе и спрашивал: — Это рули поворота? — Так точно, товарищ командир. Яшка расправлял грудь (шутки шутками, а приятно, когда тебя командиром называют) и серьезно расспрашивал дальше: — Берешь руль на себя — влево поворот? — Почти догадались, товарищ командир. — А это — зажигание? — Эге. Стартер. — Не такая уж и мудрая штука, — делал вывод Яшка. — Вроде «ХТЗ». Танкист добродушно смеялся, теребил Яшкину пилотку, а Деркач, нахмурив брови, солидно говорил: — До войны во время уборки урожая схватило живот у дяди Антона. Он тогда на «ХТЗ» пахал. Так вот, упал человек на жнивье, почти умирает. Остановил я таратайку: в село, говорю, везите его, да побыстрее, а то он здесь и загнется. Ну, повезли Антона, а я что — я на трактор. И что бы вы думали? Целую норму отгрохал! Не верите? Типун на язык, если я вру… Ребята могут подтвердить. Танкист верил — как же не верить гвардейскому парню? — и разрешал ему сидеть рядом с собой за рычагами, включать внутренний свет, но, как только запускал мотор, очень вежливо отсылал Яшку на командирское место, в башню: — Наблюдай, браток, чтоб случайно на мину не нарвались. …Провожали танкиста в субботу. Уже упала роса на задремавшую степь, когда пахари закончили последнюю борозду, вытянули на межу плуги, почистили их и, оглохшие от усталости и грохота, собрались идти в село. И тогда танкист остановил народ: — Ну что ж, товарищи, давайте прощаться… Завтра не приеду… На фронт уходим… И хотя все знали, что солдат всегда солдат, что не сегодня завтра его могут позвать, но не хотелось верить: так быстро, так неожиданно придется расставаться… Привыкли к нему, как к родному, как привыкали когда-то к веселым трактористам, с которыми целый сезон делили хлеб-соль, песни и тревоги. Детвора окружила танкиста, и девчата протиснулись поближе, и матери жалостливо всхлипывали. Бригадирша поцеловала солдата трижды, как сына, на дорогу: — Спасибо, сынок… В трудную минуту пришел к нам, век не забудем. — И, всхлипнув, она склонилась на горячую броню танка. И долго еще в стынущей тишине слышалось тяжелое громыхание удаляющегося «Т-34». Уехал танкист. И увез с собой покоренные сердца мальчишек, девичьи вздохи, невысказанную материнскую благодарность…Сколько знал Яшка отца своего — тот не изменял своей привычке: просыпался до первых петухов. Еще, как говорится, черти на кулачках бьются и темень в хате такая, что лоб себе разобьешь или ведро с помоями перевернешь, а беспокойный Гаврило вскочит, бывало, как на пожар, почешет всей пятерней грудь, влезет в истоптанные башмаки, фуфайку на плечи и бегом из хаты. — О, на конюшню поковылял старый филин! — заворчит тетка Анисья. — Ни тебе сна, ни покою. А Деркач сверкнет за окном цигаркой, рассыпая искры, откашляется спросонку и загрохает башмаками в утреннем полумраке. Если даже и не надо было идти к лошадям, не спалось Гавриле. Проснется среди глухой ночи, разбудит все село; то сарай мастерит, то громыхает тяжелыми ведрами — воду носит в бочку: мол, на рассвете перегной будем разбрасывать. Поговаривали люди, кто шутя, а кто и всерьез, что, дескать, носит конюха Деркача какая-то дьявольская сила, вот и нет ему ночью покоя. Правда это или нет, Яшка точно не знал. Но в последнее время он стал замечать, что и его, как когда-то отца, поднимает какая-то сила. Только посветлеет окошко в землянке — Яшкины глаза сами открываются. И смутная тревога, непонятное беспокойство закрадываются в душу, как будто он что-то забыл во дворе, например, залить огонь в очаге. «Чтоб тебе!..» — ругается Яшка, натягивая шинель на голову и пытаясь заснуть. Но кто-то словно стоит над ним, тихонько дергает за плечо и говорит: «Вставай, Яшка, вставай…» Яшка тревожно вскакивает, на ощупь находит дверь и ныряет в зябкую предрассветную мглу. От утреннего холода его так трясет, словно он выскочил на берег из теплой вечерней воды. Яшка ежится, открывает заспанные глаза, прислушивается. Молчит влажная, отяжелевшая тьма. Кап-кап… — падает роса с набухшего листа. И снова — ни шороха, ни звука. Все вокруг застыло и замерло: и угрюмые ряды землянок, и высокое бледное небо, и далекие синеватые льдинки-звездочки. Во всем — спокойствие и тишина. Свежесть нового дня, что вот-вот грянет на землю. За кровлей халупки, там, где сгущается мрак, стоит какая-то двугорбая копна. Это Трофейная. Она тоже дремлет, свесив корытцем свою ворсистую губу. Видимо, лошадь услышала Яшкины шаги — фыркнула, повернула голову, и в ее оловянных глазах отразилась выщербленная луна. — А-а-а! — протянул Яшка. — Так это ты, старая, тут колдуешь! Съела все сено и теперь меня дожидаешься? Яшка брал косу, дерюжку и шел к Ингулу. Возле Мартына присмотрел он ложбинку, хорошо укрытую от ветра; там росла густая, как щетка, бескостица, душистый луговой клевер. Трава была высокая, сочная, широколистная и тяжелая от росы, еще покрытая болотным туманом; как бы ни остыл за ночь воздух, здесь, под зеленой периной, всегда было влажно и душно, пахло гнилой водой. У Яшки сначала отогревались ноги, а когда он проходил первую половину покоса, тепло приятно разливалось по всему телу. Почему-то больше всего Яшке хотелось, чтобы Ольга увидела его за работой; от Ингула над широким степным оврагом плыл густой молочный туман, словно подружки-русалки расстилали свадебную фату; из белого сновидения вдруг возникала Ольга, она шла ему навстречу, украшенная цветами, шла по росистому лугу, а он, торопясь, косил для нее дорожку. Широкий взмах, рывок — и коса мягко срезает траву, и на земле уже первый зеленый валок. Быстро шла работа. — Трам-дарам-татам! — весело напевал Яшка. Это вспугивало сонных перепелок, которые с шумом и жалобным писком вылетали прямо из-под ног; вербы откликались трескотней сорок; в камышах гулко кричала выпь. Откуда ни возьмись, налетела целая эскадрилья горластых ласточек, темными стаями кружились они над рыжим Яшкой, который ни свет ни заря нарушил птичий покой. За полчаса он накашивал хорошую копенку травы, утаптывал ее, стягивал концами дерюги и, немного сгорбившись, медленно шел с вязанкой домой. Лошадь встречала своего хозяина радостным ржанием. Она нетерпеливо махала своим коротким хвостом, раздувала ноздри: вкусно пахнет! — Ну-ну, не бесись! — говорил Яшка и бросал в корзину охапку сена, остальное тонким слоем расстилал на крыше землянки: высохнет — будет ей корм на ночь. Лошадь, довольная, фыркала, с хрустом жевала траву, свежую, немного влажную от росы — из нее выдавливался зеленый сок. «Вон как! — улыбался Яшка. — За уши не оттянешь!.. Поправляйся, старая, мы с тобой — главная сила в колхозе. Поняла?..» И кобыла старалась, набивая свой живот, даже стонала. Благодаря Яшкиному уходу она округлилась, стала упитайной, ребра ее затянулись густой шерстью, на груди прощупывались твердые мускулы, и только коротенький хвост и выщипанная грива по-прежнему напоминали о ее бродячей жизни… В эту пору ночь — как заячий скок. Только что было темно, и вот уж рассвет. Небо сразу поднялось, расширилось; луна растаяла, словно кусочек жира на сковороде; звезды крупинками соли легли на дно голубого залива. Яшка отвязал Трофейную (так и осталась за ней эта кличка), набросил на шею веревку и погнал лошадь к водопою, чтоб оттуда сразу к кузнице. Он торопился: сегодня будет жаркий день. Как только вспыхнут на вершине гранитного Мартына первые лучи, соберутся женщины возле каморы. Они будут подставлять мешки, и Денис Яценко насыплет каждой ведро ячменя или пшеницы. И будут все торжественно-взволнованные, как на праздничном вечере. Выйдут сегодня сеятели в степь, достанут из мешочков набухшие зерна и широким взмахом будут разбрасывать их по всему полю: сейся рожь и пшеница, родись всякое зерно, на добро, на счастье, людям на здоровье!.. И за женщинами — Яшка Деркач. «Но-о, поехали, старенькая!» — будет дергать он коня за уздцы, и конь доверчиво фыркнет ему в ухо, запрыгает борона на кочках, присыпая яровую рыхлой землей. Таким тревожно-радостным представлял себе Яшка сегодняшний день, спускаясь извилистой тропинкой к Ингулу. Уже наливалось небо на востоке вишневым соком, а над водой еще клубился густой туман. Словно паутиной, он обвивал плакучие ивы, сбегавшие с косогора к самой реке, обрывистые берега, где валялись разбросанные камни, мелкая галька, узловатые корневища, похожие на дивные морские чудища. Место было глухое и немного дикое, спуск к реке крутой, и Яшка, сойдя с коня, потянул Трофейную за уздечку к мели. Завернув галифе чуть повыше колен, первый, не без колебания, он вошел в воду. Вода была холодная и чистая, как слеза. — Ну, старая, заправляйся до обеда, — сказал Яшка и засвистел: — Фью-фью-фью-фью… Лошадь аппетитно чмокнула, но сначала нехотя ткнулась мордой в прозрачное зеркало реки и фыркнула, тряхнула гривой, точно обожглась. — Ох какая хитрая! — улыбнулся Деркач и снова засвистел. И тогда, опустив морду по самые глаза, лошадь большими глотками стала пить студеную воду. Казалось, она не пила, а качала воду насосом, даже было видно, как бежит глоток за глотком по горлу, как наполняется, раздувается ее брюхо. — Стоп! — сказал Яшка. — Отдохни, а то захлебнешься. Это мгновение навсегда врезалось в Яшкину память: только он слегка потянул за поводок и лошадь недовольно затрясла ушами — дескать, не мешай, как вдруг что-то произошло. Что именно, он не сообразил сразу. Разорвалась на куски тишина. Громом ударило с берега. Всколыхнулась вода, разлетевшись в брызги. Высоко встряхнул головой конь, покачнулся и стал валиться на бок. Плюх! — обдало Яшку брызгами. Конь уже на спине, копытом загребает ил, бьется головой по воде. — Убили коня!.. Уби-и-и-ли! — закричал надрывно Яшка. Туман поглотил его крик, только покачнулась ива над рекой и где-то там, в зеленых зарослях, треснула ветка. Еще секунда — и сознание его прояснилось: пуля прожужжала мимо него, он стоял спиной к вербе, откуда и ударило. «Может, в меня? Может, промахнулся?» Как ошпаренный, выскочил Яшка на берег. Бросился в кусты, потом — за пни, потом — за камни. «Где этот гад? Где этот гад, который стрелял?» Бесшумно плыл туман. Бесшумно неслось течение. Дремали ивы над тихой гладью реки. Как будто ничего не случилось. И только на мели барахтался конь. Он лежал на боку, ноги его конвульсивно дергались, грива то подымалась, то погружалась в воду. «Захлебнется!» Не помня ничего, Яшка бросился спасать коня. Нащупав в иле храп, приподнял его руками, поддерживая шею коленом: — Вставай, лошадка, вставай, подымайся… Скользкая лошадиная голова бессильно повисла. Рот ощерился, из него текла желтая пена. Из едва заметной ранки под ухом струйкой стекала кровь. Закачались оранжевые круги на воде. — Вставай, вставай! — бормотал в беспамятстве Яшка. Лошадиная морда плюхнулась на дно. Из воды глянули на Яшку холодные глаза. И медленно угасли. Все, что накопилось в нем — страх, злоба, сознание своей беспомощности, — все это сейчас собралось в один кулак, застучало в окаменевшую грудь, и Яшка глухо зарыдал. Перед мальчишками он гордился тем, что никогда не плакал, а сейчас упал на мокрую гальку и дал полную волю слезам. Если бы кто увидел Яшку в эту минуту, ужаснулся бы. Рубашка и галифе в иле, волосы слиплись, клочьями заслонили глаза, на щеках размазана грязь, будто вытащили его бессознательным из самой трясины. И снова заговорило встревоженное село. Уже немного забылось недавнее событие в степи, когда что-то ударило из бурьянов и женщины в испуге упали на пашню. В конце концов, подумали: может, мина сама взорвалась? Говорят, немцы напихали в землю всякой чертовщины, которая даже через десять лет даст о себе знать. Но то, что случилось с Яшкой, не свалишь на притаившуюся мину. Здесь чувствовалась злодейская рука. Дед Аврам сказал авторитетно: — Не иначе, как банда какая-то. Разве мало этих гадов осталось после оккупации?.. Всезнающие бабы шептали: — «Черная кошка». Мальчишек душит. Мужской пол уничтожает, чтобы не было продолжения рода… Решили послать Оксану-бригадиршу в район: иди, проси, чтобы власти приехали. Пускай разберутся на месте, что тут у нас творится. В тот вечер Яшка раньше обычного вернулся в свою тесную конуру. Не стало лошади — нечего ему было делать. Словно вынули душу и растоптали. Еще никогда Яшку не угнетала так темная и мрачная землянка, толща земли над головой, как сейчас. С болью прислушался он, как стонет, ворочаясь на полу, бедная мать. Снова отнялось у нее правое плечо. То хоть посуду мыла, с горем пополам тряпье стирала, а как услышала, что приключилось с ее окаянным сыном, еще больше скрутило Анисью. Ночами не спит, над Яшкой, как тень, дежурит, плачет и проклинает: — Ой, мучитель мой, ой, бродяга бездомный! Вот привяжу к колу, чтоб дома сидел, чтоб не носило тебя где не следует, чтоб дал хоть спокойно матери своей умереть… И долго еще проклинала свою долю тетка Анисья, горьким словом вспоминала неугомонного мужа своего Гаврила и непослушного, ветреного Максима. — Ой, рученьки мои, ой, косточки мои! — стонет мать, и Яшка возится в темноте, словно в каменном мешке. Только он закрыл отяжелевшие веки, как над головой что-то прогрохотало. — Тпру! — послышалось во дворе. Потом голос глухой, как из бочки. — Кто-то зовет? — Яшка вскочил с постели. — Ты куда? — поднялась мать. — Не смей! Не пущу! Она раскинула руки, преградив ему дорогу, а Яшка пригнулся — и в дверь. Анисья как стояла, так и метнулась за сыном, готовая бежать за ним на край села, лишь бы остановить его. Как в огонь, бросилась Анисья в угрожающую темноту. — Здравствуйте! — остановил ее женский голос. — Извините, баба Анисья, что и вас разбудила. Яшку звала. — Тьфу! — оторопела Анисья. — Это ты, Оксана? — Думали, домовой? — засмеялась бригадирша. — Да и на самом деле можно подумать… Посмотрите, на чем приехала. Анисья наклонилась. Ладонь, как обычно, приложила козырьком ко лбу, замигала подслеповатыми глазами. — Свят-свят! — перекрестилась она левой рукой. — Что за привидение? Перед ней стояла какая-то коробка, похожая на фургон. Где же она ее взяла? В район пошла пешком… А тут подвода стоит, только больно высокая, а сверху мешок не мешок — видать, Оксана. Нюхом учуяла старая: скотиною пахнет. Подошла поближе, чтобы лучше разглядеть. Но Яшка, который уже несколько раз обежал странную подводу, опередил. — Что это такое? — засмеялся он. — Что это в упряжке? Посмотри, мама: вроде сатана! — Буйволы, — весело сказала Оксана. — Очень смирная тварь, не пугайтесь. Только черные-черные, как насмоленные. Говорят, с Кавказа их пригнали, они там в горах водятся. Целое стадо пригнали в район, и нам пару дали для хозяйства. А я еще и фургон выпросила у погонщика… грузин, такой разговорчивый… — Господи, да оно ж с рогами! — испугалась Анисья. — Как же ты, сохрани боже, доехала? — Как на волах. Только цоб да цобе по-нашему не понимают, в бурьян лезут. С самого обеда ехала, еле доползла. Вдоволь насмотревшись и наудивлявшись, Анисья взглянула на темную копну и спросила: — Ну как там, начальники собираются поймать эту кошку? — Кошку? — спросила женщина с подводы. — Кошек развелось очень много, а милиционер — один на весь район. — Вот так! — всплеснула руками Анисья. — Выходит, нет управы на бандитов? Пускай себе гуляют на воле! — Допрыгаются до веревки. Сами изловим. А пока что, бабонька, подставляйте подол. Хорошенько подставляйте. — Бригадирша пошарила в сене и, отыскав картонные банки, бросила Деркачихе так, что подол оттянулся. — Это вам заокеанский гостинец. Яичный порошок, в суп годится. Две банки вам, третью передайте деду Авраму. Пускай старик поправляется. — Она уже хотела трогаться, как вдруг вспомнила: — Яша! Вот зачем звала тебя… Принимай скотину. Ты в этом деле понимающий. К бороне приучишь, к плугу и ко всякой другой работе. Так, словно гром среди ясного неба, свалились на Яшку до сих пор неслыханные заботы. Яшка Деркач стал буйволятником. Что это такое, он по-настоящему понял только со временем. Он спал до утра спокойным сном, не зная, какие муки его ждут впереди. Он и не подозревал, что босоногая ребячья команда уже поджидает его, чтобы вволю над ним поиздеваться. Проснулся Яшка вместе с солнцем. Медленно вышел из землянки. И первая неожиданность — целая орава детей во дворе. Мальчишки обступили буйволов, кричат, подпрыгивают, тыкают пальцами: — Глянь-ка, глянь. — А, вот-вот! — Что здесь, цирк?! — коршуном налетел Яшка. — Убирайтесь, а то как врежу! Ватага — в кусты. Отлетели, как воробьи, и притихли. Да разве надолго! Теперь и палкой не прогонишь мальчишек, пока вдоволь не наглядятся. Да и сам Яшка как следует не рассмотрел впотьмах, что это за твари. И вот сейчас с некоторым страхом подошел к скотине. Мамочка родная! И уродилось такое неуклюжее… Спина горбом, шея висит, точно бахрома, ноги будто чурбаны, толстые и короткие, рога назад вывернуты. А шерсть черная, густая, лоснящаяся. Ну просто ради шутки кто-то смешал барана с волом, так-сяк слепил их вместе, еще и вымазал дегтем! — Быч, быч, быч, — позвал Яшка черное чудовище и бочком-бочком стал подкрадываться. Хмурые буйволы жевали жвачку, даже глазом не повели на нового хозяина. А тем временем мальчуганы, набравшись смелости, выставили из-под репейников сопливые носы и въедливо зафыркали: — Смотри, оборотни! — Мазилки! — Моржи! — Ах чтоб вас! — бросился Яшка, готовый раскидать сразу всю босоногую детвору. Куда там — разлетелись как жуки. — Яшка, барашка, буйволова свашка! — нараспев дразнила детвора; в зарослях репейника они чувствовали себя в полной безопасности. Сердито поплевывая, погнал Яшка буйволов к реке. Не к ивам погнал (чтоб им пусто, как сказал бы дед Аврам), а к мосту, где самое людное место. Мальчишки сопровождали Яшку по бурьянам и возбужденно гоготали; женщины, с ведрами и лопатами торопившиеся на работу, шарахались в стороны, а ни в чем не повинная скотина, пугавшая степняков своим необычным видом, медленно, вперевалку двигалась к реке. Вот тогда-то Яшка и узнал, что за странный характер у буйволов. Только увидели они воду, как будто взбесились: шерсть встала дыбом, задрали хвосты и вихрем понеслись к Ингулу. И со всего разгона бултыхнулись в воду, нырнули, словно растворились в воде или утонули. Яшка так и замер, раскрыв от удивления рот. Нет скотины, пропала. Хоть караул кричи. Неожиданно что-то плеснуло под мостом. Смотри, тюленья морда! Одни только ноздри выглядывают. Шумнули воздухом через две дырки — и снова под воду. Наверное, около часа купались буйволы: то исчезнут и долго их нет, то один из них выставит свой чугунок, глотнет воздуха и опять на дно. «Дразнят, мурзатые!» — злится Яшка. Так и не дождался он, когда буйволы сами вылезут на сушу. «Чтоб вы там и остались!» Разделся, палкой выгнал проклятых из воды. Нет, не лежало Яшкино сердце к «моржам». Хоть и убедился он вскоре, что скотина работящая: такую тянет арбу, дай боже волам; и верхом можно было прокатиться на них (ничего, терпят, не сбрасывают), а все же не то. Возьмите только упряжь: ярмо, занозы, дышло, цепи… Одно скрипит, второе шатается, третье ломается. А скорость? Семь раз сбегаешь туда и обратно, пока «моржи» доползут. Нет! Что ни говорите, конь — святое дело. Кровь горячая, ноги быстрые, грива вихрем; летишь в степи — душа поет. Как крест тяжкий, нес Яшка немилую буйволовскую службу. И не было ни одного дня, чтобы не вспомнил свою Трофейную. Из оранжевой воды глядел на него холодный глаз, будто укорял: «Недосмотрел, Яшка, не уберег…» И страшная злоба кипела в его душе: кто же он, этот убийца? Однажды (это было на восходе солнца) к Яшке подбежал Вовка Троян, гнавший мимо кузницы свое «бородатое» стадо. Деркач как раз прилаживал к бороне кусок гнилой веревки, чтоб как-то привязать дышло. Веревку кто-то давно вымазал в грязи: узлы засохли, закостенели, как кулаки. Яшка зубами пытался развязать их. Наелся песку, измазался по самые уши, а распутать веревку не мог. В это время и подошел Вовка Троян: — Слушай, Яшка, что сегодня было… — Говори, не глухой. — Да не грызи ты узлы! Слушай… — Ну? Прицепился, как пес к голенищу! — Это очень серьезно… Яшка сплюнул буйволу под ноги и зло посмотрел на Вовку: «Лезет, козопас, со своей болтовней!» Но ничего не сказал, так как увидел: Вовка чем-то взволнован, даже больше — напуган. Он сжал тонкие губы, съежился, как галчонок в осеннее ненастье. — Что у тебя? Говори! — уже мягче сказал Деркач. — Яшка… У них, честное слово, кто-то есть… Сейчас выгонял коз, а Кудым… Тьфу, не так! Значит, Кудым пошел отвязывать коз, а я возле сарайчика. Жду. И тут меня схватило, да так схватило, хоть танцуй. Я быстренько — за сарайчик. Стою и слышу: бу-бу-бу… Думаю: кто это бубнит? И где? За стеной? Нет, просто из-под земли по-мужски: бу-бу-бу… Сердито. И слышу другой голос, женский. А передо мной Василина (она, знаешь, какая-то дикая!) за сарай забежала. Смотрю: у стены кучка пепла, расстеленная рогожка шевелится… Я тогда… — Заглянул? — Нет, испугался… Как драпанул от того места! Думал, может, Гавриил. Так нет, сидел бродяга возле хаты. Кто-то другой прячется… Деркач вытянул жилистую шею, словно глотком воды подавился: прищуренные глаза его налились зеленоватым холодком. — Н-да-а-а, — сказал Яшка. — Это он. Это тот, что охотится. Точно!.. Ты об этом никому не сболтнул? — Никому. Матери надо сказать. — Ты что? Не смей! Слышишь? Не пугай людей, пускай себе сеют. Я сам все сделаю. Понял? И не сейчас, а ночью, когда будет спать… Хотя Вовка и поклялся на солдатской звезде, что будет молчать, но Яшка не успокоился и до тех пор провожал его глазами, пока Вовка не скрылся со своим стадом.
14
В небольшой печке жарко горел огонь, красные языки выхватывали из тьмы то белую Ольгину косынку, то уставшее лицо матери. Ночь выдалась, правда, холодная, но тихая и звездная, и Трояны готовили ужин во дворе: не было чем светить — керосин и растительное масло кончились. Мать с Ольгой, подсев ближе к огню, толкли жмых, чтобы заправить суп, Вовка подбрасывал в печку сухие ветки. Мальчишка не слушал, о чем разговаривали женщины; он неторопливо мешал тлеющие угли, наблюдая, как сворачиваются лодочкой листья, как они вспыхивают и летят во все стороны, словно мотыльки, трепещут розовыми крылышками и растворяются в темной пучине. Вовка думал о своем. Целый день его лихорадило. Ходил в степи за козами, а перед глазами одно и то же: куча пепла, что за Кудымовым сараем, эта рогожка (она, честное слово, шевелилась!) и тихий голос из-под земли: бу-бу-бу… А потом встреча с Яшкой, зеленоватый огонь его глаз, угрожающее предупреждение: «Сболтнешь кому-нибудь — буду считать предателем. Один на один рассчитаюсь. Понял?» Вечером, когда Вовка пригнал коз в село, он снова увидел Яшку. Тот сидел возле своей землянки и протирал сукном автомат. Около него лежала пилотка, а в ней полно патронов, смертоносная груша — осколочная граната. Деркач готовился, как солдат к ночной атаке, — серьезно и хладнокровно. Это еще больше напугало Вовку. Нет, нет, Яшка не шутит, Яшка такой, что бросится и в пропасть. Но почему не позвал людей, почему обошел его, Вовку? Разве это честно? Кто первый заметил этот тайник, кто?.. Еще находясь в степи, Вовка хотел подбежать к матери и все ей рассказать. Но… он поклялся. А когда мужчина, когда солдат слово дает — все! Хоть кровь из носа — молчи! Вовка испуганно повел глазами. За печкой — густая тьма. Будто черная гора окружила их двор. Весь свет закрыла она, только над головой брезентовая заплата неба и таинственный шепот звездочек. Вовка стал прислушиваться. Грозно молчит гора. Но вот-вот разорвется тьма, испуганно загрохочет обвал. И тогда будет поздно. «Может, матери сказать все-таки?» — шевельнулась в голове предательская мысль. А мать и не догадывалась, что происходит в душе у сына; она ворковала с Ольгой: — Теперь, доченька, легче будет. Что ни говори, отсеялись, хотя и поздно, но что-то на осень уродится. А пока будем полоть, окучивать и за хаты возьмемся. До каких же пор жить в земле? Сообща не торопясь и начнем. Кто воду принесет, кто глину — вместе всегда веселее. Одной построим стены, потом другой, и так всем по очереди… Яценко стропила поставит, камышом снаружи покроет — вот и улица. Хатки беленькие, все как по шнурочку, ставни голубые, кругом сады — оживет село!.. Сначала Вовка рассеянно слушал мать, но она рисовала такую картину, что он, помимо воли, как листик по течению, поплыл за ее мыслями: на минуту представил себе сказочное село, спустившееся к ним прямо с неба. Не только ставни в хатах, все село будет голубое: голубой мост через Ингул, голубая дорога, и магазин, и тетради… — Мама! — спохватился Вовка. — А школа? Забыла о школе? Огонь осветил мечтательно-сосредоточенное лицо матери. Она, кажется, даже помолодела, или хорошие мысли разгладили каждую ее морщинку. Влюбленными глазами посмотрела на сына, на свою надежду: — Правда, Василек. Наверное, со школы и начнем. А то небось вы и читать совсем разучились… Эх, дети, дети… — нахмурилась мать. — Что уж вам досталось — камень бы не выдержал. Неужели еще какой-нибудь ирод новую беду пошлет на вас? — Нет, мама, не будет этого, — сказала рассудительно Ольга. Сейчас, возле тихого очага, ей не хотелось думать о чем-то плохом. Маленькая и беззащитная, она ласково прижималась к материнской груди, как дитя, которому уютно было под теплым крылышком и сладко мечталось. — Я думаю так. Будет большой праздник, ну вроде обжинки[3], на всей земле. Уничтожим фашиста проклятого, и тогда соберутся солдаты — и наши, и американские, и французские. Соберутся и скажут: «Бросайте в море войну!» Заиграет музыка — и полетит в бездну опостылевшее оружие, все то, что против человека придумано. До порошинки, до последней гильзочки выкинут все в море, чтоб и на развод не осталось. И настанут мир и согласие между людьми. А если у бандита какого зачешутся кулаки, тому скажут: выходит, бейся головой об камень. И посмеются над ним, как над безумным. — Дай бог, чтоб так было, — тяжело вздохнула Трояниха. Кипела в чугунке вода, угасал огонь, покрываясь синим пеплом, поднималась темная гора, заслоняя небо мохнатой вершиной. — Давайте ужинать, — сказала мать. — Садись, Оля, поближе. А ты, Вовочка, подбрось хворосту, а то ничего не видать. Уселись кружочком, ели из одной миски горьковатую, дымом пропахшую похлебку. В другое время Вовка живо управился бы с этой баландой («М-м, горячая, кипит на языке! Пусть живот попарится, а то совсем ссохся!»), а сейчас не торопился, мысли его были в голубой сказке. — Мам, а где мы школу построим? Правда, на холме? Там, где поворачивает дорога на Бобринец. Оттуда степь видно, речку и обе скалы. Красиво! — Хорошие места… Наверное, инженером будешь. — Зови, мама, завтра людей. И я туда стадо пригоню, пускай козы пасутся, а я буду глину месить. — Как сказал, так и будет, — сразу согласилась мать. Уже в темноте женщины помыли посуду. Вовка ощупью нашел свою постель (хорошо, что плита, на которой он спал, стояла возле самой двери), бросил под голову фуфайку и лег. Мать с Ольгой устроились на кушетке. Они тихонько о чем-то шептались, и Вовка никак не мог уснуть: мысли его путались, копошились, как муравьи. То он месит глину: месит, месит, глядь — болото под ним, ноги застревают в трясине, он хватается за куст, а то — дерюга, нет, это Кудым, его растопыренные пальцы; он, как всегда, начинает с морали: «Сколько раз я тебе говорил, не пускай в полынь, не пускай! А ты, стало быть, нарочно туда скотину гонишь. Молоко горькое, ну просто хина… И никогда вовремя воды не дашь. Как прибегут во двор, где лужа — языком вылижут… Кха!» И Кудым полетел в канаву. Это Яшка гранату бросил, густой дым застилает глаза, перекидывается воз, сеном накрыло Вовку, и мальчишка беспокойно засыпает… Проснулся Вовка от неожиданного толчка. «Где мама с Ольгой?» Не взгляд, а внутреннее ощущение подсказывало ему, что в землянке он один. Зажег фонарик, желтый кружочек осветил стены, затанцевал над кушеткой: постель разбросана, пусто. И только потом сообразил: где-то стреляет, где-то выстукивает, словно кнутом по частоколу. «Яшка! Это он!» Вовка выскочил на улицу. Шум, гам на краю села возле Кудымовой хаты. Низко над степью повис холодный месяц. Землянки тонут в молочной мгле. Бежит Вовка, шелестит брезентом, в штанинах ветер гуляет. — Стой! — гремит в камышах. «Та-тах!» — эхом откликается Ингул. «Стреляют!» Вовка пустился еще быстрее. Запрыгал по кочкам, и ему казалось, что месяц скачет за ним и вихрастая тень несется огородами. Быстрее, быстрее! Рубашка вздулась, ноги едва касаются земли — так он несется к овражку. Вот горбатым стогом и хата Кудыма. Черным валом — живая изгородь. А людей, а людей — наводнение. Все громче голоса, все растет толпа. Женщины вертятся в круговороте, толкаясь, стараются войти в ворота. Как челн в осоку, врезается Вовка в крикливую толпу. Ноги дрожат, в голове шум — разве разберешь, о чем говорят. Гудит, несется со всех сторон: — Он к нему: вылезай, буду стрелять!.. — А тот как схватит его за ноги! — Яшка за ним. — Не говори. Яшка упал, а он за хату да в него из нагана!.. — Да в терновник, а Яшка — в погоню. — Кудым, Кудым, старый Кудым! — понеслось над головой. — Тише! Пускай отвечает!.. Белая стена. Темный квадрат — открытые двери. Сюда и устремился поток, унося с собой онемевшего Вовку. Из хаты вышел Кудым, кашлянул в кожаный рукав. За его спиной, точно тень, щупленькая фигура — дед в заячьей шапке. «Гавриил!» — сразу узнал Вовка. Стали сплошной стеной — толпа и двое на пороге. Над ними третий — пучеглазый месяц, верховный судья. Подмигнул желтым глазом: дескать, начинайте. Но напряженно молчала толпа, молчали и двое на пороге. Трояниха первой нарушила тишину: — Кудым, что здесь происходит?.. Кто поднял село? Отсюда началось, не глухие, наверное, все слышали. — Кхе-кхе, — начал Кудым. — Вот вам крест святой, добрые люди, сам дрожу от страха, не пойму, откуда оно взялось… Мы, стало быть, только задремали, а оно как сверкнет, как ударит; я к окну, слышу — кричит деркачевский: «Стой!» — за кем-то припустился… Места кругом глухие, терновники; видать, скотина какая забрела или ворюга… Ну, а тот, деркачевский, шляется ночью с ружьем и пальнул, стало быть, сгоряча. Оно ж ведь темно… — Врет, — прошелся в толпе тихий шепоток. — Как вздохнет, так и брехнет. — Кто его знает? На правду похоже. — Святая правда, люди, — бросил словцо и дед в шинели. — Я человек посторонний, ни брат ни сват ему, по-божьему встретились, и воздам должное: праведная это душа, грех большой обидеть его. — Не подмазывайте медом, — перебила его Трояниха. — Сами разберемся. Не ела душа чеснока — не будет и запаха. — А где Василина? — всколыхнулась толпа. — Пускай она скажет. — Слабая у меня невестка, — хрипло произнес Кудым. — Нездоровится, стало быть, и встать не может… «Как?! — едва не вскрикнул Вовка. — Она же днем бегала по двору! Сам видел: выскочила, перепуганная, из-за сарая… И-и-х! — причмокнул. — А дерюжка?» Уже собрался было крикнуть: «Врет!» — вспомнив о своей находке, о голосе из-под земли, как вдруг ударило в березовой роще и разнеслось эхом над огородами, над сонной степью… — Яшка стреляет! — молнией ударило в толпе. — Кого-то, значит, ловит! — Ой, Яшечка, ой, Яшечка! — задрожала Ольга. — Чего стоим? Наперехват айда! — послышались выкрики в толпе, и сразу повалили женщины к воротам, и только двое остались стоять, словно влипли в темный квадрат порога. — Пошли, бабы! Растягивайтесь! Кому ближе, захватите оружие! — И уже издали, из темных бурьянов послышалось: — К Ингулу плотнее, не упускайте бандюгу… Вовка бросился за матерью, продираясь через кусты, боясь затеряться в потемках. Хотя луна и висела над степью, но за косогором, в глубине оврага, стояла густая черная тьма. Вскоре Вовка заметил, что последние в цепи оторвались и повернули в село. Это, очевидно, те, которым крикнули: «Прихватите оружие». Вовка что есть силы за ними. Бежал в село, шелестел брезентом, ворчал: — Ну и глупый!.. Автомат под боком лежал, надо было прихватить. В ушах звенело, каждая жилочка дрожала, ноги подгибались от страха. Уже и не помнил он, как примчался домой, выхватил автомат из-под лохмотьев. Выскочил во двор, насторожился: где же это? Голоса раздавались у моста; шум каждую минуту нарастал, приближался: казалось, целое стадо брело вдоль Ингула, ломая камыши. Вдруг недалеко, против их усадьбы, что-то хлопнуло по воде. «Он! Бандит!» Вовка прикипел к гладенькому ложу. Палец сам нажал на крючок. Брызнуло огнем, затрясло мальчугана, оглушило. «Го-го-го-го!» — загрохотала ночь. А справа, из соседнего огорода, тоже сверкнуло и тоже заговорило: «го-го-го!» — Стой! Кто там? И справа: — Стой! Кто там? — Это ты, Алешка? — Это ты, Вовка? — Куда стреляешь? — А ты куда? — Иди сюда, только горой, а то на пули нарвешься. Захлопали босые ноги по дороге. Вот уже близко. Зашуршал бурьян, и словно из-под земли перед Вовкой выросла в темноте худенькая фигурка. Это был Алешка Яценко. Тоже с автоматом. Стучит вояка зубами. Хочет спросить — губы трясутся. — И-и как ду-ду-думаешь, поймают? — Поймают. — О!.. С-с-слышишь? Слева от кузни что-то протяжно взвизгивало: тю-у-у… фить-фить! — Это, наверное, дед Аврам из мадьярки палит. Ну и заварилось!.. Если бы кто-нибудь посторонний появился этой ночью в селе, удивился бы: что за сражение? И там грохочет, и тут стреляют: нешто облава на дикого зверя? Так, наверное, лихорадило село только во время войны, когда с двух сторон — с вражеской и нашей — сотни жерл долбили землю и в степи вспыхивали огромные факелы, разгоняя темноту. Вскоре ребята услышали: утихло над Ингулом. Люди разбрелись по улицам; возле кузницы толпятся женщины, возле Яценко тоже — говорят, перекликаются. И к Троянам кто-то идет. Голос бригадирши: — Укрылся бандит… А все-таки напугали: десятой дорогой обходить будет. Голос Ольги: — Вон Яшенька! Позовите его… Когда Вовка с Алешкой подбежали к толпе, из низины, из высокой травы, вышел Яшка Деркач. Луна освещала его сгорбившуюся фигуру желтым светом. Яшка был мокрый, без пилотки, на груди у него висел автомат, в руке — граната. Он тяжело и отрывисто дышал, вытирая пот рукавом. — Яша… Живой и невредимый… — Кто же это был? Хоть на человека похож? — Эге, на человека! — желчно огрызнулся Яшка. — Федька Кудым, вот кто. — Федька?! Ты что?.. Какой Федька? Из могилы поднялся? Бог с тобой, Яша… — Говорю вам — Федька. Я сам поначалу растерялся. А как трахнул меня рукояткой (вон какой фонарь под глазом), так вижу — Федька. Перед носом, гадина, выскочил из ямы. — Из какой? — Ай!.. Вовка лучше расскажет. — Ну хорошо, хорошо. Иди, Яша, отдохни, согрейся немного. — Я провожу, Яшенька. — Ольга взяла парня под руку, повела его, мокрого и озябшего, к землянке, что отсвечивала под луной серым глиняным навесом. Уже начинало светать. Когда Ольга вернулась домой и все Трояны легли в холодную постель, возбуждение не покинуло девушку, все происшедшее всплывало в памяти и казалось еще более зловещим. — Ольга, он и тебе сказал — Федька? — шепотом спросила мать. — Всю дорогу одно и то же: полицейская шкура, волчий ублюдок… убийца… — О какой яме говорил? — спросила Трояниха у сына, и Вовка горячо и путано повторил свой рассказ о странном тайнике. «Что это означает?» — все путалось в голове, разум отказывался верить. Кудым… старый Кудым… убитыйгорем, шел за гробом… а как причитала Василина… И вдруг — Федька… Живой. Чего-чего, а такого еще не было на земле! Единственное окошко, как дно оцинкованного ведра, медленно всплывало из глубокой темноты. Улеглась, рассеялась по углам застоявшаяся мгла. Утренний полумрак. Вовке казалось, будто кто-то царапает в дверь. Скребется так, как мышь, и приглушенно всхлипывает… Заскрипела кушетка, в белой рубашке мелькнула мать. В сенях — суета. Женские причитания: — Не пугайтесь, не прогоняйте нас, люди… Ой!.. — И кто-то повалился, как сноп, на землю. — Василина… это ты? С дочерью? Господи!.. Что с вами? Помоги, Ольга! Вдвоем втащили потерявшую сознание женщину. — Мама, мамочка… — семенила за ней девочка, вцепившись в подол матери. Плечи Василины — на кушетке, тело ее повисло, ноги касаются земли, выстукивают мелкую дрожь. — Сынок, дай воды! Вовка зачерпнул полную гильзу воды, протянул ее матери; она опрыскала лицо Василины, силой впихивая кружку в крепко сжатый рот: — Пей… пей, говорю! Кружка звенела, ударяясь о зубы; вода ручейками бежала за пазуху женщины. Наконец Василина пришла в сознание, открыла мертвенно-синие веки: — Где я? А-а-а, Оксана… Убежала я. Надю за руку и к вам огородами… аж дух перехватило. — Бедное дитя. Ты вся дрожишь… Одни косточки… Оля, накрой одеялом Надю. — Защитите, пожалейте несчастного ребенка, — простонала Василина. — Они задушат ее. — Василина, расскажи, что там у вас? — О-о-о, не спрашивайте. Это страшный ад, страшный. Он, Федька, у нас. Он еще с зимы прячется… — А почему ты молчала? Почему от людей убегала? — Убегала? Вы не знаете их, Оксана… Они, как змеи, обвились вокруг меня. Старый с этим божьим проходимцем шипели: «Цыц, онемей, греховодница, а то бог ребенка заберет…» А девочку закрывали в кладовой, голодом морили. Они такие, они на все способны… Тогда, помните, как приехал Кудым с гробом (Это надо ж придумать!.. В гробу цыплят привез, у кума полсотни выменял). Так вот, схватил за горло меня и говорит: «Плачь, рыдай, чтоб люди слыхали». Душил и коленом — под грудь, под грудь меня и все приговаривал: «Плачь, такая-рассякая! Слез тебе, что ли, жалко?» А Федька выглядывал из-за сарая и хохотал: «Кричи, кричи, женушка! Посмотрю, как ты в самом деле по мне убиваться будешь…» На мне живого места нет, одни синяки… — Что же это делается, что же это на свете творится! — вздрагивала Ольга, и Вовку подбрасывало на стуле. — Мама, не надо… — испуганно бормотала Наденька. — Не надо, мамочка, а то они придут. — Душегубы… Звери… Вы только подумайте! — почернела бригадирша, прикладывая ладонь к горячему лбу. — Значит, не зря Яша говорил, что Федька брата своего убил… — Все может быть, Оксана. В первые дни, как Федька приполз домой, Кудым приставал к нему: где старший? А тот изворачивался лисой, все бормотал, как заведенный: мол, фашисты накрыли… Не верю ему. Ничем не побрезгует. Бывало, как только стемнеет, вылезает Федька из ямы, ухмыляется: «Косточки пойду разомну, попугаю женщин из нагана…» А когда узнал, что Яшка всякие слухи о нем распускает, заскрежетал зубами: «Прибью рыжего!» Старик на коленях упрашивал: «Не зли, не дразни бешеных, а то поймают…» Каждую ночь дрожал Кудым — все боялся, что за сыном придут. А потом послушал этого божьего (вот связались… ворон с вороном!). «Давайте, — подсказал пройдоха, — схороним, чтоб людям глаза отвести…» Незаметно наступило утро. Наденька, согревшись под одеялом, уснула; спала она чутко, беспокойно, время от времени дергала худеньким плечом и желтой ладошкой прикрывала дрожащие губы: — Я молчу… Я ни слова… Василина с болью в сердце посмотрела на скорчившуюся девочку и, словно прощаясь, отвела от нее глаза: — Оксана, прошу… Была и у тебя дочка такая же. Присмотри за ней. А я пойду… пускай растерзают. — Ты что, Василина? Что ты говоришь? Не уходи никуда, слышишь! Всем миром встанем за тебя. И на старого Кудыма, и на его дружка управу найдем. Садись! — Трояниха обняла за плечи Василину, полой пиджака укрыла ее, как больное дитя, и сказала с материнской грустью: — Извини меня, Василина. Все за работой да за работой, головы некогда поднять. А мне давно бы следовало присмотреться, что там у вас творится. Да прийти с людьми, да за грудь старого пса, да в спину этого набожного, чтоб не мутил здесь воду. И ты бы не мучилась, не билась одна, как рыба об лед. Извини, Василина… Знаешь что: оставайся у нас. Места всем хватит. Вы с дочерью здесь, мы с Ольгой на полу. А там хату построим, угол свой будет — с людьми не пропадешь. А еще мысль одна: может, Кудыма сейчас не будем трогать? Федька побегает бурьянами, побегает, как пес, проголодается и снова приползет к отцу. А мы ребят попросим: пускай подследят. Таким прощать — грех. Грех перед детьми нашими. — Как хотите, — вдруг выпалил Вовка, — а я Кудымовых коз не стану пасти. И все!15
Приходилось ли вам слыхать этот клич: на толоку![4] Из конца в конец села бежит крикливая детвора. — Эгей, на толоку, на толоку собирайтесь! — Выходите из хаты, берите лопаты! — У кого силы, хватайте вилы! — Ведра за ребра, мешки за вершки! Шаровку, трамбовку, бочку для воды давайте сюда! Когда крестьянин услышит эти радостные возгласы, то, что бы у него ни было — срочная ли работа, хлопот полная сумка, — все бросает и торопится на помощь соседу, который ставит новую хату. Так уж повелось с незапамятных времен. И вот через столько лет после пожара и разорения — первая толока в селе. И еще какая знаменитая — строят колхозники школу! Вовка рано выгнал коз на Бобринецкую дорогу, но здесь на бугре, было уже много народу. Пришла мать с Ольгой, Василина с Надей, Яценки всей семьей, и даже дед Аврам приплелся. Яшка Деркач еще вчера вечером привез несколько подвод глины, песка, камня. Приступили к закладке фундамента. Сначала Денис Яценко начертил лопатой котлован. Делал он это как мастер — вдумчиво, неторопливо. Осмотрев местность хозяйским глазом, прикинул, как лучше поставить школу, чтобы окна выходили к солнцу. Потом отмерил шагами боковую стену дома. И забил колышки. Кажется, ну что эти колышки? А выглянули из травы белые головки, и в Вовкином воображении возникла школа с высоким крыльцом, светлым коридором, с торжественной тишиной классов. — Красивая будет! — причмокнул парень. Женщины принялись копать ров. Яценко приказал девушкам: — Подносите камни, — и начал их укладывать. Ему помогал белобровый молчаливый Илья. Исправно постукивая молотком, он подгонял камень к камню; если встречались неровности — стесывал их, а щели забивал мелкими клиньями. Отец обушком подравнивал выступы, заливал раствор. И вот уже наметился первый каменный изгиб. Старик Яценко отошел в сторону, не без удовольствия осмотрел работу, потом подозвал к себе Алешку с Вовкой: — А ну, подставляйте лбы, — и выдернул из их чубов по волоску. — Кладите волосок под камень. Та-а-ак, в раствор. Теперь заделаем кирпичом. Это чтоб ваша школа была сухая, как порох, — объяснял ребятам старик Яценко, и в уголках его глаз заиграли веселые морщинки. — Скажите, сыны, что есть в мире самое мудрое? Ребята растерялись. — Самое мудрое, чтоб вы знали, лоботрясы, — это святая земля, которая всех нас кормит, поит, одевает. Запомните это. И возьмите по щепотке жирного чернозема. Взяли? Сыпьте в эту щель. Набирайтесь ума-разума в школе, как все живое набирает силы из щедрой земли… Женщины с теплой улыбкой следили за этой церемонией. Затем приступили к замесу. Подобрали юбки, и одна за другой, плавно покачиваясь, пошли по кругу, будто начали медленный танец. Под их ногами чавкало и расползалось липкое рыжее тесто. Одни месили глину с половой, другие подсыпали то земли, то песку, третьи взбрызгивали водой эту гущу. Дед Аврам подвернул штаны и тоже пустился за женщинами: — Эх, раздайся, море, жаба лезет! И дед, окруженный женщинами, собрался было пройтись гоголем-молодцом, но замес был крутой, и Дыня еле вытаскивал облепленные глиной ноги. Женщины вытолкнули его из своего круга, чтоб не мешал работать. Дед сел на бревно, критически ощупал набухшие, мягкие, как перезревшие тыквы, ноги и горестно вздохнул: — Истоптался конь. Не то что воз, а уже сам себя не тянет. Э-хе-хе-хе! Сейчас бы хлеба да сальца, где бы и сила взялась. — Ничего, дедушка, — успокаивала Трояниха. — Вот картошка молодая появится, подправим вас… Лучше расскажите нам, как вы того деда, что в шинельке, потрясли. — Да было дело, что б ему пусто, — сказал довольный Дыня, моргая воспаленными веками. — Пришел, значит, ко мне Гавриил, а чего — не пойму: то ли душу мою исповедать, то ли грехи отпускать. И прилип пуще смолы: «Господа бога чтил? Святым образам поклонялся?» — «А как же, отвечаю, с утра до вечера кланяюсь. Если чего делаю, к примеру, огород прорываю или дрова колю, так и бью поклоны. За день, брат, так накланяешься, что поясница трещит». Тогда он снова ко мне: «Говел, душу свою очищал?» — «Всю жизнь, говорю, говел. И в двадцатом году говел, и в тридцать третьем говел, и в проклятую купацию. Так что, говорю, иди к черту на кулички со своим говением, дай мне горсть махорки и что-нибудь на зуб». А он, понимаете, божий-божий человек, но пасть открыл. А я не люблю, когда на меня кричат. Я с детства запуганный. Он на меня «гав-гав», а я его цап за полу шинели. «Яшка, зову, неси автомат, мы с этим святым по-христиански поговорим». Тут он как задрал шинельку, как пустился наутек из села, точно молодой бычок, только пыль поднялась. Ух и верткий! — закончил Дыня под общий смех. Но разговор разговором, а работа работой. Молодки кружились и кружились по кругу, правда не так быстро, как поначалу, зато без отдыха. Месиво густело так, что приходилось часто добавлять воды, хорошо и глубоко размешивать, чтоб исподу не осталась сухая глина. Кудымова невестка, худая как жердь, с бескровным, почерневшим лицом, молчаливая и кроткая, старалась не отставать от других, хотя ей было совсем не легко. После одиночества, после всего случившегося она и тянулась к людям, и боялась любопытных глаз. Она ощущала на себе сочувственные (а ей казалось — осуждающие) взгляды и от этого еще больше терялась, и по коже у нее бегали мурашки. Платок сползал, юбка перекашивалась, все шло не в лад, и Василина нервно подбирала одежду, не поднимала головы, только изредка, и то украдкой, поглядывала на дочь, что вертелась возле нее. Надя подсыпала полову. Ветерок тучей подхватывал легкие ржаные остья, бросал их в лицо, и девочка смешно отдувалась, встряхивая коротенькими косичками. «Странная какая-то», — думал Вовка, не сводя глаз с девчонки. Вот уже третий день у них, а не сказала ни одного слова. Таким был и Мишка, но тот, бедняга, глухой. А эта как будто и слышит и не слышит. Все жмется поближе к матери, прячет в подол ее юбки острое перепуганное личико. Словно боится людей, боится их разговора, шуток, смеха. И сейчас, опустив глаза, она неотлучно следует за матерью. Кажется, у нее одно желание: убежать от людей и забиться в темный угол. «Запугали девчонку», — с горечью думает Вовка. Он уже собрался подойти к ней, чтобы заговорить. Да вот только не хватает смелости. А тут еще и Алешка Яценко. Вишь, как старается: следом за ней таскает мешок с половой, услужливо гнется, прямо в лицо ей лезет и о чем-то болтает, болтает. Ух заячья губа!.. Наденька отступает, отворачивается, а он трусит за ней. — Алешка! — не выдержал Вовка. — Пойди заверни коз. В село пошли. Алешку точно кнутом стегнули. Скривился, хлюпнул носом, но послушался своего вожака. Вовка быстро схватил лопату и начал подгребать месиво с той стороны, где остановилась Надя. Сделал вид, что такой занятый, такой работяга, а сам бочком-бочком и к Наде, лихорадочно соображая: «Как бы начать разговор?» Снизу видны ему только босые ноги девчонки, как две соломинки, с исцарапанными коленями. И видно еще, как раздувается на ветру белое, выгоревшее платье. Вот оно, легкое платьице, затрепетало и поплыло куда-то, удаляясь. — Надя, — крикнул вдогонку Вовка, — ты в какой класс пойдешь? Молчит. Не услышала, что ли? Только половой обсыпала Вовку. — Я во второй пойду, — наступал пастушок. — Да беда: вспоминал, вспоминал, как пишется «же», и не вспомнил. Знаю, на жука похоже, а сколько тех лапок — не сложу вместе… Надя встряхнула льняными косичками и впервые за все эти дни посмотрела на Вовку быстрым, растерянным взглядом. «Какие глаза у нее! — смутился Вовка. — Большие-большие и голубые, как у нашей Галинки. Нет, не такие: у Галинки были веселые, круглые, живые глазенки. Посмотрит — ну точно бесенок. А у Нади… что-то старческое в лице. Может, какая болезнь ее мучит?» Вовка снова взглянул на девчонку и удивился и вдруг не узнал ее: смотри — улыбнулась. Нет, не совсем чтоб улыбнулась, но чуть-чуть приоткрыла рот, и личико ее посветлело: — А я буду учиться в четвертом классе, — сказала тихо, как будто гордясь: «Вот я какая большая!» — и одновременно стесняясь: «Это я с виду неказистая». — В четвертом? Ого! — вскинул Вовка бровями. — А не забыла: пятью пять — двадцать пять? — Меня мама учила. Сидим, бывало, в кладовке: холодно, страшно, и начинает она рассказывать или сказку об Иване-дурачке, или о батраке Тарасе, который работал на панов… — И я, Надя, в четвертый! А что?.. Память у меня хорошая, все схватываю быстро. Знаешь, сколько песен от солдат узнал? Целый мешок! Всяких-всяких. И про сабантуй, и про Катюшу, и про гимнастерку… Послушай… И Вовка запел жиденьким баском:16
Пришло от Маруси второе письмо. Сестра писала не из Донбасса, а из родного воронежского села Лепехи. Это удивило и насторожило Ольгу. С волнением распечатала она конверт, пробежала глазами первые строчки письма и побледнела. Нет Павла! Как и в прошлый раз, в Марусином письме что ни слово, то вздохи, то боль смятенной души. Но ясно одно: не стало Павла. Это было так жестоко и неожиданно, что подавленная Ольга с трудом дошла от почты домой. Добралась и в бесчувствии свалилась на кушетку, уткнувшись мокрым лицом в подушку. Взволнованная Василина тормошила ее, спрашивала о чем-то, но Ольга ничего не слышала, никого не хотела видеть. Да разве и могла она рассказать людям, что случилось с Павлом и Марусей. Вместе работали, вместе копили деньги на свадьбу, и вдруг какой-то завал — и смерть оборвала жизнь человека. Что скажет она деду Авраму? Что скажет отцу, потерявшему свою последнюю надежду? Жена, дочь, старший сын и вот — Павлуша… После долгой бессонной ночи Ольга встала обессиленная, вялая, как после болезни. Лицо осунулось, пожелтело, печальные морщинки еще резче обозначились под глазами. Бессмысленно прошлась она по землянке от окна и назад, отвернулась от матери, едва произнеся упавшим голосом: — Сегодня же… поеду в Лепехи… Пропадет без меня Маруся. Печально смотрели Трояниха, Василина, Вовка с Надей, как собирает Ольга свои немудреные пожитки. Связала в узелок платьица, белое и пестренькое, парусиновые туфельки, носовые платочки. Осмотрелась: кажется, все? — Вот еще, Оля, возьми. — Вовка протянул ей маленькое зеркальце, которое нашел на пепелище. Да, теперь уже готова в дорогу. Проводы были похожи на похороны. Покидала их Ольга. И вдруг мать бросилась к Ольге, крепко прижала ее голову к своей груди. — Оля… Олечка. Останься, дочка. Ну куда ты поедешь? Слабая ведь… Они стояли обнявшись, плечи их судорожно вздрагивали. — Не могу, мама… — Напиши Марусе. Заберем ее к себе. — Не могу… Что я скажу деду Авраму, если встречу его? — Ничего. Я сама пойду расскажу ему все. — Боюсь. Все равно уеду. Маруся меня зовет… Что-то несвязное, тихое бормотали они друг другу, а Вовку укачивало, уносило в горячий туман, где осыпались желтые цветы полыни, и от этой горькой пыльцы сдавливало ему дыхание. Мать послала сына к Яшке, чтобы тот снарядил фургон и отвез Олю на станцию. Прощались с Ольгой над притихшим Ингулом. На левом берегу — Ольга возле подводы, на правом — мать и вся ее семья, между ними — река. Старый, разбитый мост простирал над водой свои изуродованные руки. И мать тянулась душой к Ольге, к своей приемной дочери, как будто хотела вернуть и приласкать ее, как малое дитя. — Оля! — вскрикнула мать. — Не забывай нас, дочка! А с другого берега: — Напишу! Обязательно напишу! Как только приеду. — Проси ее, чтоб приезжала к нам. Каждый день будем ждать. — Спасибо, мамочка! За все спасибо. — И Ольга низко поклонилась. Но мать уже не видела этого. Слезы застлали ей глаза. Яшка прикрикнул на буйволов, и подвода загрохотала, стуча колесами по каменистой дороге. Уехала Ольга в звонкое солнечное утро. Буйволы шли не спеша, постукивая копытами. Фургон трясло на ухабах, звенело ведерко, привязанное к подводе; покой и тишина укачивали Яшку. Он прогонял от себя тоскливые мысли, глядя в омытую росою даль. Небо над головой высокое, ясное, горизонт синевато-голубой, степь дремотная, безмолвная. Ни одна травинка не шелохнется. О такой погоде говорят: тихо, хоть мак высевай. Мак. Красный полевой мак. Его и на самом деле видимо-невидимо насеяла война. Там, где некогда пшеница разливалась, теперь бескрайнее пурпурное море цветов. Куда ни кинешь взгляд — везде пылает под солнцем ингульская степь. Может, это алым цветом взошла пролитая отцами кровь? Тихо склонились маки. Послушай. Может, под горящим кумачом бьются их бунтарские сердца, насквозь прошитые пулями?.. Цветет мак, опадает и снова цветет. Его лепестками усеяна вся дорога. И катится подвода среди цветов, утопает в розовых барханах. Яшка спрыгнул на землю, в самую гущу ярких сияний и бросил Ольге в подол большой букет полевых маков. Нежные цветы, они сразу угасли, мягко роняя свои лепестки. Казалось, что кто-то осыпал босые ноги девушки осенними листьями. Со стебельков стекало желтое липкое молоко. — Плачут, — сказала Ольга. — Лучше бы не рвать их. — Прощаются, — сказал Яшка. Искоса он поглядел на девушку. Печальная и задумчивая, она смотрела на маки. Да, и Ольга прощалась. Она оставляла не село, одно из многих на Ингуле, — она оставляла УкраинуСолнце катилось за гору, когда со стороны Долинской, к Ингулу, подъехала подвода. Трояниха, которая вышла с Вовкой на огород полоть лук, глянула из-под косынки на сверкающую, словно усыпанную рыбьей чешуей воду. — Посмотри, сынок. Это не наши буйволы? — Наши. — А с кем это Яша? — С девушкой какой-то. — Кажется, зовет кого-то? — прислушавшись, спросила Трояниха. — Нет, поет. О-о-о, слышишь?.. «На позицию девушка…» — А что у нее в руках? — Чего-то красное горит. Совсем как жар-птица… Вовка встал на носки, глаза его засверкали, он радостно крикнул: — Мама! Это она! Честное слово, Оля! — Оля! — вскрикнула мать и побежала к берегу… Эх, Яшка, Яшка, ветром повенчанный, маком украшенный! Догадывался ли он, кого возвращал в село? Троянихе — дочь, Вовке — сестру, Василине — подругу, а себе — невесту.
* * *
Вовка любил небо. Когда-то у него были книги, в село привозили кино, иногда даже приезжал бродячий цирк. Какое это было удовольствие! Морские баталии… Корабль идет на корабль, давай на абордаж, трах-бабах! — стреляет пират из пистолета, а потом бултых в воду — так ему и надо! А еще ходил на задних лапах мохнатый медведь. Он кланялся детворе и выпрашивал у них лепешки… Было же ведь такое когда-то. А теперь ни книг, ни кино, никаких удовольствий. Одно осталось у Вовки — небо над головой. Ляжет он в траву, положит кулак под голову и поплывет в голубую манящую даль. Вокруг пахнет мятой, аппетитно хрустят травой козы, над самым ухом стучит кузнечик, вызванивая серебряными подковками, майский жук пробует взять басовую нотку — как хорошо и здорово мечтается! Чего только не увидишь там, в царстве гордых орлов, которые медленно кружат над ингульской степью! И прежде всего — тучи… Они разные бывают: печальные и веселые, добрые и злые. От одной — радужное сияние сразу в полнеба, от другой — черная тень, медленно ползущая по земле. Как и люди, они рождаются и умирают, разве чтоживут недолго. Вот над головой звенела, проносилась легкая паутинка, тут она и растаяла. А еще тучи — волшебницы. Из ничего строят они дворцы, лепят сказочных великанов, а как откроют двери в свое королевство — даже дух захватывает. Ну вот, началось! Растут, собираются ослепительные громады белых снегов. Из морской пены поднялась темно-лиловая скала, зазубрились стены крепости; потом что-то проломило стену, хлынули в город иноземцы. Забурлило казачество, саблями вытесняя поганцев. «Так их, бей, руби на капусту!» И уже Вовка сам на коне, влетает в дымовую завесу, но морская волна смывает город… расползаются тучи… и все исчезает. Эх, жаль! Вот бы все это зарисовать! Или стихи сложить, чтоб складно, как делает дед Аврам. Он, конечно, начал бы так:17
«Гм… что-то удивительное. Совсем как на чердаке: и страшно и заманчиво». Вовка осторожно просунул плечо в открытую дверь и замер. Он не щелкнул задвижкой, не зашуршал штаниной, а напряженно смотрел в угол; там, рассеивая желтый огонь, горела свечка — восковой огарок стоял на консервной банке. Огонек был слабенький, пугливый, темнота нависала над ним длинными колосьями пепельного цвета, и белый язычок мигал как будто из-за печки. Темными силуэтами склонились над книжкой Василина и Надя. Они сидели на полу, обнявшись, как сестры. Василина читала глухим протяжным полушепотом. Надя, словно заколдованная, смотрела на мать и видела перед собой, наверное, не худую женщину с маленьким бледным лицом, а одну из тех волшебниц, которые превращаются в белого лебедя, или в снежную королеву, или в таинственный цвет папоротника. Затаив дыхание она слушала мать и вслед за ней двигала губами. Казалось, будто они обе жили в мире сказки… В землянке пахло цветами. Видно, Ольга принесла из степи душистой зелени — васильков, мяты, чабреца. «А где же сама Ольга? — Вовка быстро оглядел землянку. — Нет ее. Бродит где-то там, у Ингула. Не одна, конечно…» Вовка посмотрел в другой угол. Мать сидела на стуле, локтем опершись на плиту, ладонью закрыв щеку. И не грусть, не печаль, а тихая радость восковым светом разлилась по ее лицу. Сейчас она, может быть, вспомнила что-то свое, сокровенное, из праздничных дней своей молодости, и отблеск того далекого трепетал в ее глазах. Давно Вовка не видел мать такой. Давно не было такой задумчивой тишины в землянке. Как будто пришел к ним нежданный праздник. И почему-то у Вовки учащенно забилось сердце. Что-то его ждет? Что-то хорошее. Сначала никто не заметил Вовку. Но вот Надя подняла голову: «Ага, ты здесь!» — и легонько тронула рукой мать. Василина как-то загадочно посмотрела на мальчишку. И мать повернулась к сыну. Все трое смотрели на Вовку, интригующе улыбались: «Догадайся!» — Не тяните, признайтесь! — бросился Вовка к матери. Голос у нее тихий, взволнованный. — Отец нашелся… — прошептала она. Или это ему показалось? — Что, что ты сказала? — Папа нашелся… — Папа? — удивленно произнес Вовка, продолжая смотреть на ее губы. — Ты сказала — папа?.. Где он сейчас? Уже дома? — Мальчишка повис на плече матери, посмотрел за спину, словно она, шутя, заслонила отца. — Папа! — и рукой пошарил в темноте. — Вовчик, Вовчик… — еле слышно сказала мать и шершавой ладонью сжала его щеки, притянула к себе и растерянно заговорила с сыном, глядя в его широко открытые глаза. — Господи, весь дрожишь! Успокойся, не ищи. Еще не приехал отец… Скоро будет. Вот письмо прислал. — И она протянула небольшой лист смятой бумаги, который, по-видимому, не в одной почтовой сумке побывал… — Значит, это папа написал? Прямо с фронта? — Садись рядом со мной. Садись вот так. Трояниха посадила Вовку на колени, обняла его, и он затылком почувствовал, как ровно и тепло дышит мать, словно хочет убаюкать его. Но что-то нетерпеливое и упрямое бунтовало в нем: «Говори, мама, быстрее!» Мальчишка заметил, что Василина с Надей, вытянув по-гусиному шеи, не сводят с них глаз. Они тоже ждут. А мать почему-то не торопилась, и это еще больше раздражало Вовку. Что с ней? Почему она медлит? Ведь раньше она так мучительно ждала отца, так переживала за него. Ночью, бывало, проснется Вовка и слышит, как ворочается в постели мать и сквозь сон зовет: «Андрей, Андрей»… А то вдруг поднимется и невидящим взглядом уставится в темный угол, как будто прислушивается: «Это ты, Андрей?» Вскрикнет и бросится ему навстречу, хватаясь руками за стенки… Потом долго сидит на кровати — бледная, растрепанная, — никак не может прийти в себя. Каждой кровинкой в теле, каждым нервом ждала она: вот-вот отец постучит. И все-таки выстрадала, дождалась письма. Чего же она сейчас такая спокойная? Так думал Вовка, потому что не видел ее в первые минуты, в то мгновение, когда мать взяла из Ольгиных рук выгоревший помятый солдатский треугольник. Взяла и… опомнилась где-то в степи. Горящие маки. Багровое небо. Горький дым полыни. За холмом — село. Ни души возле нее — одна. В руке влажный ком бумаги. Как она бежала с этим письмом, от кого пряталась, зачем — и сейчас Трояниха не могла вспомнить. Задолго до Вовкиного прихода все сгорело, отбушевало в ее душе, горьким пеплом улеглось на дне сердца. Сейчас только звенела и непрерывно стучала натянувшаяся, как струна, болезненная жилка в висках: живой, живой, живой… — Мам… Чего ты молчишь? С фронта письмо пришло? — снова напомнил Вовка. — И я думала: с фронта. Как солнце заходит, все туда, бывало, посматриваю. До него, думаю, покатилось. А он, вишь, с другой стороны отозвался. — Он что, в госпитале? — спросил Вовка и весь, как комок, сжался. Маленькая тень шевельнулась на стене. Это Надя покачала Вовке головой: «Нет, Вовка, отец твой не в госпитале… Ты лучше слушай». — И как оно получается в жизни? — вслух рассуждала мать. — Почти около дома был. Ну совсем близко — под Уманью. Да если бы знать, полетела б к нему, пешком сходила бы. Рвами, оврагами, где бегом, где ползком. Хотя бы краешком глаза увидеть его. Воды подала бы… — Мама, что ты говоришь? Разве он Умань брал? — Его, сыну, взяли. В плен. Как наши Днепр штурмовали, ранило его, унесло течением к немцам. Три месяца за колючей проволокой был. — И сейчас? — Сейчас… — Она замялась. — Освободили отца. Сейчас проверяют. Разные люди бывали. И дезертиры были, те, что из окопов убегали. «Из окопов? Из каких окопов? — Мальчугана бросило в жар, он снял осторожно руку матери со своего плеча. — Папа когда-то из вагона убегал, это верно. Но чтоб из окопов?..» Вовка посмотрел в угол, где притаились две тени… Сразу перед ним расступилась тьма, золотистыми волнами заколосилась рожь. И он вспомнил, как когда-то лежали они с отцом под копной свежей соломы. Где-то рокотал комбайн, била крыльями перепелка, сзывая своих птенцов. А отец, блаженно раскинув руки на душистой траве, глубоко вдыхал терпкий запах теплой земли, любовался красотой летнего неба. Казалось, не только он, но и старые, видавшие виды сапоги, и выгоревшая на нем рубашка, и длинные пшеничные усы его — все отдыхало после жатвы. И Вовка, совсем как маленький зайчонок, лежал на твердой, мускулистой руке отца и тоже смотрел в небо. — Никак не налюбуюсь, — признался отец. — Какая таится в нем спокойная богатырская сила. Небо и степь — для крылатых. Для гордых людей и птиц… А когда-то, сынок, я уже попрощался было со всем — и с землей, и с небом, и с твоей матерью… Тебя, мой жучок, еще не было тогда… — Как же так? Где же я тогда был? — обиделся Вовка. — Как бы тебе объяснить? — У отца смешно наежились колючие усы. — Не принес тебя еще аист. — И потом уже вполне серьезно он продолжал: — Случилось это, сынок, в двадцатом. Я только женился… Мать оставил в обозе, а сам пошел с третьей ротой на прорыв, в Богуслав. Сошлись мы на речке Рось с белополяками. Лоб в лоб столкнулись. И у нас нет штыков, и у них. Двинули врукопашную… Ребят у меня немного, а у них батальон, не меньше. Прут, валят, как саранча, пьяные в дым. Трупами нас завалили, снег кровью обагрился. Зубами грызли, если кто сопротивлялся. И в этой жаркой схватке я не почувствовал, как ранило меня в спину. Пуля — навылет. — Отец провел рукой по левому плечу. — Потом и не помню, как вынесли меня без сознания. Когда пришел в себя, хотел было на бок повернуться, но не тут-то было: тело одеревенело, лежу как бревно. И качает меня из стороны в сторону, как мякину в решете. Левая рука совсем чужая, в воздухе болтается. «Куда ж меня бросили?» — думаю. Смотрю: старенький вагон. Внизу, на полу по-видимому, сбились в кучу люди. Жмер, Падня, Залойко — это солдаты мои, из третьей роты. В тамбуре, вижу, огонек мерцает — буржуйка, часовой дремлет, белополяк. Значит, везут нас, думаю. А куда? В свой тыл? Почему же тогда нас раздели? Выходит, на расстрел?.. И тут я вспомнил, как нас в Богуславе допрашивали, и сразу ощутил ноющую боль в деснах; попробовал — зубы шатаются. Ну вот, думаю, и все, отвоевался Андрей. Вспомнил ребят своих, с которыми побратался в окопах, на фронтах революции. Вспомнил ингульскую степь, родителей. Мысленно уже попрощался с Оксаной, матерью твоей. «Извини, сказал, не моя в том вина, что из-под венца вышла ты вдовой, такова уж солдатская доля!» Попрощался я с Оксаной и со своей молодой жизнью, а сам машинально вожу здоровой рукой по стене. Да, забыл: лежал я на верхней полке — видно, ребята положили меня, потому что был я весь в крови. Заметил наконец: рядом окно, замерзшее; пальцем проведешь — шуршит, как крахмал. В ту зиму морозы лютые стояли. Сорочка совсем примерзла к стеклу, с трудом оторвал ее. Дотянулся рукой до рамы. Гвоздь. Лежу и бездумно расшатываю его. Вдруг плеснуло морозом — рама отошла и ветер ворвался в вагон. Слышу: стучат колеса, кружит метель. Поезд тихонько взбирается на гору. А меня будто огнем обожгло. «Это же мое спасение!» — думаю. Подозвал Залойко; здоровый мужик был, жеребца кулаком с ног сбивал… «Тихо! — говорю. — За мной по одному…» Вынул раму, свернулся калачиком (помирать — так с музыкой!) и прямо с верхней полки в сугроб. Одним словом, к утру доползли до своих. Всю ночь блуждали по лесу, босиком по снегу, едва живыми остались, а все-таки доползли. Нас уже списали в штабе. Разведка донесла, что меня и ребят повезли на казнь в Совиный яр, а мы — пожалуйста, явились с того света… Представь себе, Вовка, чего только не передумала в ту ночь наша бедная мать! Тогда было такое молодое, такое чистое небо, так мирно рокотал где-то комбайн и солнцем пахла ржаная солома. Вовка еще не знал страшных будней войны: он слушал рассказ отца как одну из небылиц о злом Змее Горыныче; тогда война для мальчишек казалось не больше как захватывающее кино, все скакали на конях и, размахивая саблями, кричали на всем скаку: «Ура!», «Вперед!», «Даешь на Махна!» Война-голод, война-уродство пришла к мальчишкам позднее. Наверное, только сейчас, когда Вовка держал в руках письмо от отца, он совсем по-иному понял его рассказ о побеге из плена. Увлекательная сказка превратилась в жестокую правду. И мальчишка представил себе: ночь, кружит метель, почти раздетые бойцы, окровавленные, обмороженные, пробираются чащами, ползут через заносы по глубокому снегу. Ноги как подушки, обугленные от мороза щеки; солдаты падают, поднимаются и снова идут, и одна мысль ведет их, полуживых: на волю, к своим… Степь и небо для крылатых. «Кто же из окопов убегал? Отец?» — пытается понять Вовка слова матери. Ему кажется, что Надя, нахмурив лоб, хочет его по-своему успокоить: «Все они такие, Вовка… наши отцы». — «Неправда!» И горячая тьма застилает ему глаза, и мальчишка, сдерживая крик, дергает мать за рукав: — Откуда отец убегал? Из плена? — Что с тобой, сынок? — Мать взволнованно гладит его вспотевший чуб, его нервно напряженную шею. — Радость такая… жив отец. А ты? — Ну скажи, скажи! — Из лагеря, известно. Трижды подкоп делал под колючей проволокой. Один раз убежал — поймали… Собаками. В барак к смертникам бросили. А тут подоспели наши… Лагерь окружили и всех наших освободили. «Ну вот, видишь!» — посмотрел Вовка туда, где, догорая, мигала свеча. «Я же ничего, Вовчик, — тряхнула косами Надя. — Это тебе показалось…» — А куда их сейчас? — допытывался Вовка. — На фронт или домой отправят? — Пишет, что к службе уже не годится. Только проверят их и отпустят… на поправку. Там, наверное, от людей одна тень осталась. — И отца проверять будут? Разве его так не знают? — Эх, сынок! — грустно улыбнулась мать. — Божий свет для тебя — пять пальцев. А вот подумай: ни орденов у него, ни документов… Все пропало. Поэтому и передал отец вот это письмишко через своего товарища: дескать, если кто еще живой из родных или знакомых отыщется, пускай напишут в комиссию, кем я был, и как воевал в гражданскую, и как под кулацкими пулями коммуну в степи закладывал. — А знаете, что мы отцу пошлем? Вот сейчас увидите! — Вовка высвободился из объятий матери, взобрался на кушетку, пошарил рукой под стенкой, где прятал свой автомат «ППШ». И достал небольшой сверток. — Что это? — удивилась мать. Василина и Надя тоже подошли к возбужденному Вовке. Он зубами разорвал шнурок, быстро развернул бумажную обертку — так не терпелось ему! — и что-то вишнево-красное сверкнуло в его руках. — Узнаешь? — Вовка передал матери металлический кружочек. Трояниха осторожно подошла к огню. Все четверо склонились над свечкой. Наденька, как мышь, просунула голову между взрослыми. Ее глаза, полные детского любопытства, так и тянулись к Вовкиной находке. Первое, что она увидела, была широкая и темная ладонь бригадирши. На ладони ее лежал медный кружочек. Нет, не простой кружочек, целая картина высечена на нем. Вот подковой венок из дубовых листьев. В центре, как солнце, маленький глазок, от него лучами — штык, молоток и, по-видимому, плуг. А над всем этим — красное знамя, флаг революции, с горячим призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — Орден! — сказала Надя. — Орден, — повторила Василина. — Орден, — подтвердила мать. — За взятие Перекопа. — И, уже внимательно разглядывая медный кружочек, Трояниха объяснила: — Орден Красного Знамени. Сам Фрунзе Андрею вручал. Как сейчас помню тот день… Словно, опомнившись, Трояниха удивленно оглядела хату, провела рукой по взъерошенному чубчику сына. — Василек… где ты взял? Как ты сохранил его? У Вовки вспыхнули щеки и голос охрип от волнения. Путаясь, он рассказал, как все это случилось… Когда фашисты подошли к селу, бросились мальчишки спасать свое самое дорогое. У одного пилотка-испанка была, и он спрятал ее под соломенную крышу; другому только что купили наган с пистонами (все-таки оружие!), и он решил хранить его в колодезе между бревнами; третий загнал в дымоход свой паровозик (потому что красная звезда на нем!). А Вовкино сокровище — «Родная речь» и сказки Пушкина. И еще он вспомнил о коробочке, в которой был отцовский орден. О, Вовка хорошо помнил, где лежит эта бархатная коробочка! Даже если бы закрыл глаза, и то нашел бы ее (в шкафу, на верхней полочке). Не один раз, когда дома никого не было, Вовка подставлял скамейку и тянулся к полочке; украдкой, осторожно открывал он зеленую крышечку и впитывал глазами полыхание маленького флага. В хате было тихо, размеренно тикали часы, и Вовке чудилось, как гордо развевается знамя, как врывается в комнату гулкое эхо буденовцев, идущих в атаку. И сам он, лихой барабанщик, летел впереди всех на быстром своем коне… Тогда еще, летом сорок первого, когда танки с фашистскими крестами застилали пылью и черным дымом всю степь, Вовка подумал: «Разве можно сказки Пушкина и боевую награду оставлять врагам?» Бережно уложил он в коробку противогаза орден («Помнишь, мама, как отец учил колхозников спасаться от газов?»), а книги просто перевязал веревкой и закопал под грушей. Сказки и «Родная речь» сгнили, одна труха осталась: дунешь — рассыплются. А орден вот сохранился… — Вот какой у меня сын! — повела бровью мать; она, да и не только она, но и Надя и Василина смотрели на Вовку так, словно он и в самом деле сделал что-то героическое. — Отцу напишу, пускай обрадуется… Да, может, и наградная книжечка сохранилась? — А как же! — вскрикнул Вовка. — Я ее тоже спрятал в противогазе. Вот она. Правда, пожелтела немного. — Давай, давай сюда! — Мать быстро развернула книжку, сощурилась, с надеждой вглядываясь в истертые годами буквы. — Она самая, отцова наградная!.. — Давайте прямо сейчас напишем ему! Может, Вовка резко повернулся или свечка догорела, только огонек слабо вспыхнул и погас. Черная муть захлестнула землянку. Все стояли кружком и вдруг куда-то исчезли. Словно из-за стены, раздался голос матери: — Беда с нашей слепотой. И засветить нечем. Придется отложить до завтра. — Зачем? — из тьмы отозвалась Василина. — Пойдемте все к Яценкам, там все вместе и напишем. — Пошли! Пошли! — Вовка нащупал руку матери, потянул к себе. — Там и напишем! Бросившись вперед, он распахнул скрипучие двери, словно просигналил: скорей, скорей выходите! Мимо него протиснулась мать, потом Василина, а за ней и Надя. Вовка последним выскочил на улицу. Поздний вечер пахнул в лицо грозовой свежестью. Будет, по-видимому, дождь. Над степью подымалась темная стена, и казалось, кто-то гигантским огнивом бил по ней, рассыпая на землю синие искры. В воздухе пахло горелой ветошью. Где-то совсем близко, за притаившейся землянкой, раздался тоненький девичий смех. — Это ты, Оля? — спросила Трояниха. Молчание. Шепот. И потом робко: — Я, мама… — И я! — гордым баском (Яшка Деркач!). — Куда это вы… так поздно? — удивилась Ольга. По голосу Вовка догадался, что Ольга с Деркачом сидят около старых ворот, где когда-то отец выложил из камней завалинку («Для свиданий», — шутил он); вон замелькало в темноте белое Ольгино платье, послышались шаги. Трояниха объяснила молодым, куда и зачем они идут. — Возьмите и нас с собой! — Яшка подвел к бригадирше свою говорунью. Ольга уже не смеялась, стояла перед Оксаной, виновато опустив голову. Заметно было, что оба они смущены, словно радость у них ворованная и они стыдятся своего случайного счастья, которое выпало им незаслуженно. Еще люди подумают: «Кощунство! Кому война — страдание, а им на уме свидание…» Оксана (она понимала настроение молодых) весело похлопала Ольгу по плечу: не смущайся, дочка. Не прячься со своей радостью. Пусть люди видят и души свои согревают. Гуськом двинулись они по тихой узкой улочке, которая напоминала в темноте старое русло реки: справа и слева чернели обрывы, заросшие бурьянами. Мать ступала широко и твердо. Вовка едва поспевал за матерью, а мысли его вертелись вокруг неприветливого слова — «проверяют». Яшка уже распахнул калитку, и все вошли к Яценкам. Из окон землянки падали две яркие полосы, в лучах которых причудливо виднелись зазубренные стены строящейся хаты. Желтели груды глины и песка, здесь же валялись доски, стояла стремянка, от чего недавно голый двор стал как будто и теснее и меньше. «И у нас теперь большая семья, не мешало бы и нам за хату приняться, — подумал Вовка, по-хозяйски оглядывая бревна. — Отец приедет, а стены уже готовы; все-таки радость осенью — своя крыша над головой». — Добрый вечер вам! Принимайте пополнение, — сказала тетка Оксана, щурясь от яркого света; широким жестом представила Трояниха свою бригаду: дескать, это Василина с дочерью (видите, как они стыдливо улыбаются, а улыбка — это возвращение к жизни); вот мой пастушок (ко всему хочет своим умом докопаться); а вот Яшка Деркач, а это его невеста. Яценко рад был гостям: — Заходите! Садитесь, люди добрые… Несмотря на позднее время, все родня Яценко (до прихода гостей) была занята домашней работой. Возле стола, где коптила лампа — тяжелая гильза с расплющенной шейкой, — мудрил Денис над вербовой чуркой, вырезал ножом что-то похожее на гранату. «Ага, делает пестик! — догадался Вовка. — Увесистый. И пшено удобно толочь, и чеснок растирать». Рядом с отцом сидел Илья, в губах у него — деревянные гвозди; он берет по одному и забивает в подошву рваного ботинка, зажатого между коленями. Ульяна с дочерьми перематывала на руках пряжу. Алешка на четвереньках ползал за крольчихой: — А ну, куцехвостая, марш под печку! Когда вошли гости, все оставили свою работу. Не договариваясь, встали, задвигали стульями; тот усаживал Оксану в угол, тот приглашал Василину и Надю к столу. Яценковы девушки столпились возле Яшки и Ольги, а тем временем Алешка уже стрекотал Вовке на ухо что-то очень веселое. Денис поднялся из-за стола нарочито важный, как посаженый отец. Все притихли. — Сорока принесла, Оксана, хорошую новость, — обратился он к бригадирше. — Говорят, скоро будет в нашем колхозе председатель, а в твоей семье хозяин. Так это или не так? — Ой, Денис! — смутилась Трояниха. — Вы меня будто сватаете… Будет ли председатель в колхозе, не знаю, а вот хозяин, может, скоро вернется. — Раз дела такие, — продолжал Денис, — то не мешало бы промочить горло. Чтоб легкая дорога была у Андрея. Как ты думаешь, старая? — хитровато подмигнул он жене. Засуетилась Ульяна, гремя посудой. — У меня меду немного настояно, — говорила она в волнении. — Упрятала бутылку, знала, еще придет к нам праздник… Я очень за тебя рада, Оксаночка. Уж и поплакала и помолилась, чтоб скорее ты дождалась хозяина. Немного потеснившись, они расселись вокруг стола. Их руки, их взгляды, их встревоженные сердца — все сейчас было едино. В эту минуту каждый чувствовал, что он из одной семьи — солдатской, что и Федоре, и Алешке, и Наденьке — всем им улыбалось счастье. Ульяна разлила медовую «шипучку», и пока она всех обносила, Вовка незаметно слизнул пену, грибком поднявшуюся над кружкой: сладкая, даже во рту липнет!.. Первый тост произнес Яценко за то, чтобы никогда не было войны, чтобы снова ожили наши села, чтобы росли дети в добре и счастье, а старым если и умирать, так только своей смертью, а не от руки врага. И завязалась тихая беседа. Вспомнили Вовкиного отца, довоенную жизнь, все то, что было да быльем поросло… Ульяна подсела к Троянихе, обняла ее, такую усталую, измотанную работой, и ласково уговаривала: — Ешь, сердечная, ешь!.. — Потом тихо спросила: — Слыхала я от людей, как вы с Андреем поженились. Говорят, он тебя из самого ада вырвал. — Расскажи, мама! — Расскажите, расскажите! — насели Ольга с Яшкой. — Чего там говорить? — сказала Трояниха и обвела стол смущенным взглядом. Задумалась. — В семье нас было десять ртов: три брата, остальные девушки; все маленькие, как горошинки. Среди них я самая старшая. Жили мы на хуторе Михайловском (это под Лозовой). Тяжелое было время, голодное. Станция недалеко, каждый день — бои, налеты, атаки; то красновцы, то деникинцы, то шкуровцы — одни наступают, другие бегут. Хутор до последней щепки растащили, хоть по миру иди… И вот остановились на постой красные конники. Среди командиров — Андрей, молоденький такой, отчаянный. Проедет на черном жеребце в буденовке, красный бант в петлице, ремень накрест, — все девушки по нему сохнут. Подружились мы с ним. Встречались вечерами. И вдруг: «В ружье! Тревога!» — налетели деникинцы. Рубились, рубились наши и все же отступили. А вы, может, слышали, что творили белые с теми девушками, про которых они говорили: продались комиссарам. Страшно издевались. Сгоняли крестьян, при народе раздевали несчастных, а потом на куски шашками… Мать испугалась за меня: «Зачем ты связалась с красным!» — и загнала меня на чердак. Сижу я в потемках, полный двор налетчиков, жду смертного часа. Ночью вдруг слышу стук в чердачные дверцы. Андрей! По стуку узнала: он! Подхватил меня — и в седло. «Только держись!» — понесся галопом, аж подковы зазвенели. На хуторе — паника, стреляют в темноте; слышу — погоня за нами, свистят пули, а мы летим как в пропасть. Убежали к своим! А потом — куда Андрей, туда и я; санитаркой служила, все фронты с мужем прошла рука об руку. Всякое было: и в болоте тонула, и под снегом мерзла. Но не жалею, нет! Счастлива я… Дай бог всем молодым такой любви. Замолчала Оксана. Белесый дымок от лампы вплелся в густые пряди волос, тяжело спадавших на ее плечи. Опустила мать седую голову, ушла в свои воспоминания. В землянке притихли, словно боялись погасить доверчивый огонек, который осветил самое интимное — в чем люди признаются не часто. Освободившись от мыслей, Оксана быстро поднялась: — Ой, как долго мы засиделись! — и сказала о главном, из-за чего они, собственно, пришли. — Значит, в комиссию нужно бумагу? — переспросил Денис. — Хорошо. Сейчас обмозгуем и сделаем. От имени всего колхоза. Такое заявление в селе каждый подпишет, потому что все любили Андрея за правду. Никогда не кривил душой, и щепки для себя не взял, все для людей, для колхоза. Жил человек как на ладони… Денис коротко и деловито распорядился, и семья стала выполнять наказ отца. Ульяна быстро наскребла сажи, развела в гильзе порошок — вот и готовы чернила; нашлась и бумага — Алешка вырвал из старой потрепанной книги чистый листок; Илья вытащил из ставни заржавевшее (еще довоенное!) перо, привязал его ниткой к палочке. — Садись, Илья, к огню, — приказал отец. — Ты у нас мастер на писанину, тебе в штабе только служить. Илья подсел к огню, склонился над бумагой. Яценко, нахмурившись, стал ходить по землянке — до печи и обратно. Он ходил размеренным шагом, будто вынашивал в себе самые важные мысли. В ожидании все замерли. — Пиши! — сказал немного погодя Яценко, обращаясь к сыну. — Начинай так: «Уважаемые товарищи ревизоры». Илья заскрипел самодельной ручкой; затупленное перо, брызгая чернилами, то цеплялось за неровности, то прыгало, как плуг, выворачивающий корни. А отец медленно бросал в тишину просеянные слова, и они, будто зерна, ложились ряд за рядом на бумагу. — Так или не так говорю? — переспрашивал Яценко, обращаясь сразу ко всем. — Так, сосед, так, — одобрительно кивала головой Трояниха. — Прямо из души мои мысли берете. И снова Яценко, как маятник, ходил взад-вперед, огонек качался из стороны в сторону, и все следили за тенью, двигающейся по стене. От напряжения у Ильи заболела шея. — Докладывай, что мы там посеяли, — спросил отец у сына. Илья расправил сомлевшие плечи и, как школьник, громко, по слогам, прочитал: «Уважаемые товарищи ревизоры! Пишут вам всем колхозом граждане села Колодезное, Бобринецкого района, Кировоградской области. Серьезное дело имеем к вам. Не могли бы вы поскорее отпустить нашего земляка, который был у нас до войны бригадиром? Зовут его Троян Андрей Васильевич. Говорят, воевать он уже не годен, а в колхозе нужен для общей пользы. Войдите в наше положение. Земли у нас много, гектаров по двадцать на душу, а живую и тягловую силу почти всю до капли война изничтожила. В колхозе одни бабы да дети, и тех осталось половина: село сгорело дотла, кого убили, кого в Германию угнали, до сих пор не вернулись. Такое, видите, положение, а здесь еще беда — нет хозяина, который с пониманием взялся бы за колхоз, поставил бы на ноги людей, чтоб общим трудом вытащить хозяйство из разрухи. Поймите нас, товарищи, правильно и помогите вернуть в колхоз бывшего бригадира; большая у нас надежда на него. Насчет биографии не сомневайтесь: человек он партийный, заслуженный. Про геройство его в старых газетах писали, портреты в районе висели. Этот факт можно проверить. А лучше пришлите комиссию: здесь вам каждый об Андрее расскажет. Был ли когда навеселе, словом плохим кого оскорбил — такого за ним никогда не водилось. Скажет, бывало, людям: так и так надо сделать, и сам в поле выходит и работает вместе со всеми. При нем мы были в районе первыми. В связи со всем этим просим: верните нам на хозяйство Андрея Васильевича. С ним мы быстренько управимся с уборкой хлеба, а там и фронту поможем. В чем и подписываются все, кто в живых остался».Рано утром, еще до начала работы, Вовка обошел село с Денисовым письмом. Выслушав все от начала и до конца, дед Аврам заметил, что не все написано складно. Он обязательно добавил бы, как любил Андрей песни петь с женщинами на сенокосе. А в общем, сказал дед, бумага правильная, за такого человека головой поручились бы и жена, и дочь, и оба сына. И дед поставил за себя и за всю семью пять заковыристых подписей. Баба Анисья, которая на ощупь вышивала рубашку (не на свадьбу ли, случайно?), запричитала: пускай возвращается поскорее Васильевич да возьмется за Яшку — совсем парень от рук отбился. «Так и с Максимом было…» И баба вспомнила, как Андрей на вожжах держал ее старшего летуна… В каждой хате пастушок слышал что-то новое, и сердце его наполнялось гордостью: только сейчас понял он, что отец живет не только в их землянке, но и здесь, у Анисьи, у деда Аврама, у Яценко. Он остался с людьми, как совесть. …И в тот же день Ольга понесла на почту пакет: в нем лежали орден Красного Знамени и колхозное послание, густо усеянное подписями. Ответили на письмо отца, и как будто ничего не изменилось в их жизни. Но мать, заметил Вовка, стала присматриваться к себе, к домашним вещам. Возьмет у Ольги зеркальце, сядет под окошком, задумчиво расчесывает косу, когда-то густую и черную, а теперь уже поседевшую. Расчешет мать косу, завяжет в тугой, аккуратный узел. А потом сидит допоздна у ночника и чинит Вовке штаны или себе юбку. На уставшем лице ее — тихое и доброе раздумье. А однажды рано утром разбудила мать Вовку и потащила во двор. Синее прохладное утро занималось над Ингулом, трава стояла в росе, и мать будто умытая росой: глаза ее блестели влагой и, казалось, даже румянец пробился на ее смуглых щеках. Мать остановилась, прислушалась и удивленно сказала: — Слышишь?.. Соловьи поют возле верб. Сонный Вовка недовольно проворчал: — Подумаешь, чудо! Они каждое утро поют. Как выгоняю коз, точно из пулемета строчат. — Не может быть! — не поверила мать. — Да не было их всю войну. Это тебе показалось. Не было, говорю. Ни разу не слышала. Вовка посмотрел на мать смущенно. И оттого, как она мечтательно подняла кверху голову, прислушиваясь к щебету птиц, как зажмурилась, он сам улыбнулся. Все-таки красивая у него мать! Совсем еще молодая. — Скажи! — продолжала не верить Трояниха. — Неужели я не слышала раньше? Или уши мне позакладывало? И удивленная этим открытием, она пошла к вербам, навстречу соловьиным трелям, как будто ожидая: чем еще удивит ее сегодняшнее утро?
18
Около церкви, где заросли бурьянами окопы, Вовка увидел трофей. Что-то круглое, похожее на маленький арбуз, чернело на бруствере. «Ты смотри! — остановился Вовка. — Притаилось в гнездышке и греется на солнце». Сначала подумал: фляга. Нет, не фляга, больше похоже на масленку. Разбежавшись, Вовка перемахнул через окоп («Сейчас посмотрим, что за штука!»), и тут же его, как ветром, отбросило в сторону: граната! Уткнувшись в горячий песок, он замер. «Чудак… Я же не трогал ее, — значит, не взорвется». Открыл один глаз, посмотрел: так и есть, немецкая лимонка. Лежит она рядышком, перед самым носом. Пахнет нагретым железом. Синяя краска кое-где потрескалась, облезла, и на оголенных местах выступила ржавчина. А почемуона поклевана? Да еще как поклевана! Может быть, Яшка целился по ней? Здесь, возле церкви, Яшка не один раз устраивал стрельбище… Лимонка вся в дырочках, рваных зазубринах, из нее даже сыплется мучной порошок. «Порченая», — решил Вовка. Если порченая, нечего бояться. Осторожно поднял с земли гранату. Взвесил ее на ладони: тяжелая. Далеко можно бросить. А ну-ка, попадет ли в окно церкви?.. Однако не бросил лимонку, жалко. Кто из ребят не знает, что эта граната известна своим шнуром? Если отвинтить крышечку, то из запала вылезет очень красивый шнурочек — блестящий, плетенный из шелковых ниток. На конце его — белая пуговичка. Такого добра нигде в селе не найдешь. Вовка изо всей силы потянул за пуговку. Так и стоял он: лимонка — в одной руке, шнурок от запала — в другой. Жаркое июньское солнце клонилось к горизонту, дышали теплом каменные стены церквушки, в тени под лопухами дремали насытившиеся козы. Если граната целая, ее надо немедля бросить, иначе тут же взорвется. Но Вовка не торопился. Он покрутил шнурком — куда бы его деть? — и положил за пазуху. А как быть с лимонкой? Может, ударить ее об камень? Поискал глазами удобную мишень. На всякий случай приложил гранату к уху: так целая она или порченая? И вдруг услышал глухое шипение, точно из пасти гадюки. «Горит! — отшатнулся Вовка. — Запал горит!!!» Граната — цок! — упала к ногам. «Близко!» — ударил ее носком, граната волчком завертелась на бруствере. «Еще раз!» — он поддел ногой, лимонка покатилась в окоп и… Ггух! — раздался взрыв. Вихрем взметнулась пыль, козы шарахнулись прочь, словно метлой их вымело из бурьянов. Некоторые с лопухами на рогах, как очумелые, бросились в степь. А Вовка, раскинув руки, лежал возле церкви. От страха свалился. Глаза ему засыпало песком. Ни охнуть, ни крикнуть не мог — душа окаменела. Да и неудивительно. Ведь только что смерть рядом была. Это она шипела гадюкой. Это она своим жалом проколола ему барабанные перепонки: звенит-звенит в голове. Мало-помалу Вовка пришел в себя. «Проклятая балка! — сплюнул он песок с языка. — Весной здесь Мишку убило». И память, как холодный камень, придавила малыша. Он вспомнил тот страшный день, когда Яшка предложил: «Постреляем на выигрыш…» Вздыбилась земля. Черным крылом заслонила солнце… Свежая воронка… Мишка… По грудь засыпанный потрескавшимися комьями. В угасших глазах — пепел. Словно из муравейника высунул он руку, зажав в кулачке опаленные подснежники. Как будто говорил: «Люди! Сохраните эти цветы…» «Миша, прости… Давно я не был в твоей землянке. Сегодня забегу, честное слово!» Вовка обошел заросший вьюном окоп, в который скатилась лимонка («Ого, как стену обрушило!»), потом взобрался на гору к плоскому камню, за которым тогда залегли Яшка, Алешка и Вовка. Вот бугорок, куда Алешка положил тот злополучный снаряд. Среди кустов полыни волчьим логовом зияла глубокая яма, а вокруг нее — размытая дождями, обгоревшая земля. На зазубренных от осколков краях ямы, кажется, застыла кровь. Отцвели, Миша, твои подснежники. Вовка посмотрел на запад, туда, где волнистой линией обрывалась голубая вечерняя степь. Там, на самом гребне, стояли козы, сбившиеся в кучу. Напуганные взрывом, они ждали Вовку. Солнце освещало их снизу, гребень пылал, и казалось, что в розовой пойме, на мелководье, уснул табун уток… А село? Залитое голубыми сумерками, как будто купалось оно в тихой молочной воде. «А он не видит этого», — тупым осколком ударило Вовку по сердцу. Мишка… Один в страшной пещере. На мгновение Вовке представилось, что он, сирота, еще жив, что он хочет встать, хочет дышать, а его грудь, лицо и онемевшие руки сжимает огромная гора, она давит безжалостно, а он упирается, он зовет на помощь… «Ух!» — задохнулся Вовка, чувствуя, как землей засыпало ему рот и нос. Прочь, прочь с проклятого места! Не оглядываясь, Вовка побежал от церкви; он бежал во весь дух и слышал за спиной тяжелый топот, словно кто-то догонял его. «Мы не хотели, Миша! Честное слово, нечаянно…» Затененная балка, церквушка с пустыми окнами, хмурая скала — все, что пугало Вовку, сейчас отступило и спряталось, притаившись за бугром. В степи, где медленно угасал вечерний закат, голова Вовки немного прояснилась, мысли стали спокойнее. «Вот нарву чабреца и зайду к Мишке в землянку… И все ему расскажу. И про то, как вместе мы школу строим (он, конечно, ходил бы с нами на выгон). И про то, как отцу орден послали. И как тетка Анисья колотила Яшку палкой. Он ведь, бедняга, ничего там не знает». Пока Вовка разогнал по дворам коз и сбегал домой за фонариком, почернели и сузились берега над Ингулом, из камышей потянуло болотной гнилью, горьковатый от пыли сумрак окутал село. За день Вовка здорово устал: от жары и ходьбы гудело в висках, все тело его налилось тяжестью; едва передвигая ноги, он поковылял в конец села. Шел и неторопливо перебирал мысли, представляя себе, как встретится с другом. Подойдет тихонько к землянке, постучит кнутом по ведру: «Миша, просыпайся!» — «Одну минутку!» Из халупы выползает чубатый подпасок. «Посмотри, что я сделал для тебя», — стыдливо улыбнется Миша и покажет… Что он покажет, Вовка не мог угадать, так как Цыганчук всегда вырезал что-нибудь диковинное: или коня (не больше пальца, зато совсем как живой: и грива, и хвост, и даже копыта), или маленький танк, или солдата… Конечно, встреча с Мишкой — это выдумка; никогда он больше не улыбнется Вовке, не похвалится своей резьбой. В его хате — вечная пустота. Уже, наверное, и дверной косяк затянуло паутиной. Чем ближе подходил Вовка к Мишкиной землянке, тем тяжелее ему было идти. Мучила совесть, не давала покоя: «Обещал каждый день забегать. А когда был?..» Дорога спускалась вниз, к Мартыну; вся низина потонула во мгле, только едва виднелись силуэты скалы, обрывистые кручи над плесом. Вовка свернул с дороги; стеганул кнутовищем наотмашь, сбивая колючие листья чертополоха; двинулся дальше и скоро очутился по шею в темных зарослях. С трудом добрался до Мишкиной землянки. На глинистом холмике, точно дуплистый пень, торчал дымоход — закопченное ведро без дна. Глухомань вокруг… Так и чудится: ведьма, вот она притаилась в кустах. А глазищи какие зеленые! И рука волосатая, с когтями — хап!.. Прямо за горло хватает. Вовка вздрогнул, мороз пробежал по спине. И вдруг сверкнул огонек. Из ведра вылетела искра и тут же погасла. Запахло не то прелым кизяком, не то махоркой. — Кха-кха! — из дымохода донесся кашель. А дальше случилось такое, что Вовка и на следующий день и через два дня не мог как следует рассказать. Что-то грохнуло в землянке; он кинулся прочь, да в кусты, да заячьими прыжками на дорогу. Листья черными лапами били его по груди, хлестали по лицу, а он бежал не оглядываясь. Прыгал по кочкам, мчался в село, что-то кричал. Откуда-то собрались люди: мать, Яшка Деркач, дед Аврам, целая толпа женщин. Окружили землянку. Яшка встал у входа. Щелкнул затвором автомата и решительным голосом сказал: — Эй, кто там! Выходи! А то гранатой — кишки не соберешь! В ответ — гробовая тишина. Только послышался осторожный шорох возле дверей. — Последний раз говорю, выходи! Считаю до трех! Вовке показалось, что репейники тоже приподняли свои вихрастые головы и уставились в одну точку — туда, где зияла кем-то хорошо утоптанная нора. На эту нору и направил Яшка дуло своего автомата. — Кха-кха! — снова кашлянуло под землей, в Мишкиной землянке; оттуда потянуло плесенью, и что-то толстое, неповоротливое, похожее на кабана, задом попятилось из норы. Вот оно, грязное, взлохмаченное, выпрямило свой хребет, ткнулось в автомат и… присело. Вовка не промахнулся — точно направил фонарик; пучок света запрыгал на сгорбленной фигуре. И люди — все, кто был здесь, — одновременно вскрикнули: — Федька! Густая щетина, почти не видно лица, на голове сухие стебли, глаза как у затравленного зверя. Деркач направил автомат на бывшего полицая: — Руки вверх! Бросай наган! Железо глухо стукнулось о дощатый порог. Точно рога, поднял Федька рукава фуфайки. Он был похож на крота, которого внезапно вытащили на свет: сощурясь, одурело глядел на хмурые лица женщин, окруживших его плотным кольцом. — Тетка Оксана! — бросил через плечо Яшка. — Разрешите зайти с Кудымом в землянку. На маленький допрос. — И Деркач прикладом толкнул полицая в тесные дверцы: — Назад, шкура! С глазу на глаз потолкуем. Было слышно, как кто-то разъяренно сопит внизу, возится: икнув, Федька пробкой вылетел из норы, упал на колени, пополз к женщинам. — Защитите меня от Яшки, защитите! — бормотал слезливо. — Я все расскажу… пожалейте меня… ноги буду вам целовать. — Ну? — взорвался Деркач и встал над Федькой. — Поднимайся с земли и повтори, чтобы все люди слышали. У Федьки задрожали колени, отвисшее брюхо закачалось, как студень. Не сказал, а застучал зубами: — Пощадите, не виновен я, помилуйте… Они тащили меня на расправу. А я что? Я только защищался… — Дальше, говори дальше! — толкал его Яшка дулом автомата. — И ты спящих пристрелил… ночью… Да? Под копной? — Братоубийца! — сорвалось, как плевок, из Аврамовых губ. — Иуда! Разве ты человек? Грязное пятно! Потом Федьку повели под конвоем в село; женщины, молча шедшие по обочине дороги (каждая сторонилась полицая), шаркали босыми ногами, а он, тяжелый, упитанный, загребал сапогами песок, от фуфайки несло запахом логова и прокисшего пота. Потом ему связали руки и бросили, как мешок, на фургон, на котором уже сидел Яшка, готовый трогаться. Дед Аврам сел за конвоира: — Таких гадов я в гражданскую на тот свет отправлял. Фургон с грохотом покатился в ночную степь. Утром Вовка узнал, что история с Федькой закончилась не так просто. По дороге Федька ударил каблуком Дыню, выбил последние зубы, а потом как уж выскользнул за борт и клубком скатился в канаву. Яшка бросился за ним, догнал, огрел прикладом по шее один раз, второй, пока не свалил на землю. …Оглушенного Федьку сдали под расписку в милицию.* * *
По степи гуляли вихри. То там, то тут гривками вздымалась пыль; ветер будто искал, где можно хорошо позабавиться: встретит канаву — обойдет, заскочит в посадку — только листья вскружит. Но если найдет песчаный бугорок — ух и захохочет вихрь, загарцует, и давай, давай вертеть, наматывать на свое веретено все, что попадется, — шлейфы мелкой пыли, клочья сухой травы, всякий мусор; а если и этого мало, взлетят бурьяны с корнями, какие-то щепки, вороньи гнезда. Поднялся над степью гигантский черный вихрь; барашковой шапкой он касался туч и все бешеней раскручивался, и уже казалось, небо, земля и сам воздух — все закружилось в дикой пляске. Там, где проходил смерч, гудела земля, прогибался дол. Порезвился вихрь в степи и где-то исчез за горизонтом. — Вон еще одна свеча, — показал Алешка на Долинскую дорогу. Как шальной паренек, разухабисто притопывающий: «Эх, лапти мои, лапти лыковые», — показался вдали молоденький вихорек и пошел вприсядку, сбивая пыль на дороге. Он медленно приближался к ячменному полю; там, у самого края межи, лежали свежие копны — это колхозники пробовали на выбор косить рожь. «Разбросает, безобразник!» — насупился Вовка, наблюдая за вихрастым гулякой. Но тот, слабенький, совсем запутался в бурьяне, попытался было выбраться из густых зарослей да и полетел кубарем. Пых! — только потянулся дымок за ветром. Блаженно растянувшись на траве, мальчишки с удивлением наблюдали за всем происходящим. Ждали: не случится ли еще какое-нибудь чудо? Но вокруг было тихо. С блеклого серого неба, казалось, на землю сыпалась пыль. Потрескивал сухой наэлектризованный воздух. Наступало время быстропроходящих летних гроз. Ну и что ж, пусть себе гремит огненная колесница. Настроение у ребят хорошее. Сегодня воскресенье. Алешку после обеда отпустили к Вовке, и вот сейчас вдвоем они наслаждаются свободой. — Давай, браток, пополудничаем, — предложил Алешка. — Мама дала мне чего-то тепленького. Алешка положил узелок на большой лист лопуха и развернул его. А в свертке!.. Еще теплая молодая картошка. Две луковицы. Ячменные коржики, из муки нового урожая, пахнут подсолнечным маслом. Славная штука — лето! Только бы дотянуть до первых овощей, а там не пропадешь. Нагадает кукушка тебе целую сотню лет. На зелени ребята немного окрепли. Вовка за весну совсем было отощал — ребра наружу. Лицо стало с кулачок, щеки провалились. А сейчас сквозь белый пушок робко проглядывает румянец. Большие карие глаза налились теплом, как спелые черносливины. Алешка, тот еще заметнее изменился: пополнел, округлившееся лицо его точно сметаной вымазано, губы стали еще толще — есть чем потрясти Куцехвостому! Быстро съели ребята картошку, прикончили коржики, закусили диким пасленом и, веселые, с почерневшими от ягод ртами, запели: — «Не плачь, мама, не горюй…» Потом Алешка вспомнил, как сегодня он рано утром бегал в школу. — Такой домик, такой домик, не налюбуешься, — рассказывал Вовке. — Стены высокие, все три окна глядят на солнце, крыльцо каменное, широкое, хоть танцуй на нем. Для крыши и камыш уже привезли. Знаешь, Вовка, — сказал вдруг Алешка, — я нарисую плакат. Выведу красными буквами над дверью у самого входа: «Пятерка — твой подарок фронту!» Правда ведь здорово? — Что там говорить! — И Вовка вдохнул полной грудью привольный степной воздух, пахнущий чабрецом. — Вот увидишь, как будет все хорошо! Зазвенит звонок, и ребята побегут в школу; в светлый, солнечный класс войдет учительница, молоденькая, приветливая, как наша Ольга. «Добрый день! — скажет она. — Поздравляю вас с началом учебного года, дети храбрых солдат!» И тогда все хором ответят, совсем по-военному: «Служу Советскому Союзу!» Может, и не так, может, и еще лучше. Вовка с Алешкой сядут за одну парту, а впереди Надя, чтоб видеть ее светлые волосы. А Мишка?.. И разговор пошел о Мишке, о последних событиях в селе. После того как Федьку увезли, рассказывал Вовка, он все же наведался в сиротскую землянку. Зашел туда — и остолбенел. Весь пол изрыт, солома истоптана, разит гнилыми объедками. На плите — рассыпанная махорка, старое пожелтевшее сало в тряпке (наверное, из Кудимовых запасов), обрывки немецких газет. А на углях — щепки от сабли, той, что со львиной гривой. Напаскудил свинья, да еще и Мишкину саблю поломал… — Чего он туда забрался? — спросил Алешка, свесив толстую, разделенную пополам губу. — Там чертополох как лес. Землянка заброшена… Вот и подумал, что никто его там не найдет. Уже давно за горизонтом скрылись вихри, только изредка на потемневших холмах ветер носил облака пыли. Заходящее солнце неподвижно повисло на сером граните неба. Как одуванчики, по всей низине рассыпались козы. Ребята лежали на краю старого, обвалившегося блиндажа. Алешка тяжело вздохнул и вслух сказал: если бы Мишку не убило, он выздоровел бы, и Алешка ему обязательно подарил бы маленького кролика. Так они лежали вдвоем, вспоминая своего друга, и не заметили, как из оврага к ним подошел Яшка Деркач. Подошел сзади, но не мяукнул по-кошачьи, чтоб испугать пацанов, не оскалил зубы, как это он делал всегда, а нормально, по-человечески поздоровался, сел на обломок бетонной плиты, немного боком к ребятам. Он был удивительно серьезен и чем-то озабочен, взволнован. Когда Яшка сел, Вовку и Алешку будто вверх подбросило. Выгнули мальчуганы шеи и, раскрыв рты, уставились на Яшку. Что это с ним? Куда он так нарядился? Надел новую рубашку с вышитым воротником. И не галифе на нем, а зеленые, даже глаза едят, широкие штаны матросского покроя. Но больше всего удивило ребят, что Яшка в штиблетах. Жара, лето, ходи себе босиком, а он… обулся. Слово чести! Для форса, что ли, натянул брезентовые лодочки на деревянных подошвах, с ремешками-застежками? «Наверно, Дыня склепал?» — подумал Вовка. «Ну и ну!» — переглянулись мальчишки. — Вот что, братва, — сказал Яшка и прищурил зеленоватые глаза. — Приглашаю вас, значит, на свадьбу. «Отец и мать говорили…» и все такое, как полагается. Будете моими дружками, больше некому. Поняли? Этими словами Яшка окончательно сразил пастушков. Алешка побледнел, как стена, Вовка почернел, как сажа. Оба хотели что-то сказать, но их только передергивало. — Я… Я… Я-шш-а! — затряс губой Алешка. — Это ж н-н-надо п-петь? — И… и… и… — заикал Вовка, — и за столом… что-то говорить? — Ерунда, — сплюнул Яшка, да так метко, что сбил кузнечика со стебелька. — Споем все вместе, и так, что стены треснут. Горла нет, что ли? Наверное, только сейчас Алешка и Вовка с грустью почувствовали, что они еще слишком малы по сравнению с Яшкой. Ну, разве мог бы он, Вовка, обуться в штиблеты и гулять с таким форсом по селу, приглашая людей на свою свадьбу? Куры и те от смеха подохли бы. А над Яшкой никто не будет смеяться. У него есть такая сила, такая уверенность, которая возвышает его над Вовкой и над Алешкой, хоть они с Яшкой почти одногодки. Шутки шутками, но все-таки грустно расставаться со своим человеком, пусть он даже и рыжий, и немного взбалмошный. Ведь он покидает ребят навсегда и причаливает к другому берегу — к взрослым. — Когда же свадьба, Яшка? — спросил опечаленный Вовка. — Недели через две. Вот рожь обмолотим да хоть браги какой-нибудь сделаем. Твоя мать, Вовка, разрешила… Встал, похрустел костями и, обратившись к своим дружкам, сказал: — Чего головы повесили? Давайте поиграем, а? В кучу малу, вспомню свою молодость! — с хохотом стукнул лбами ребят, сбросил с ног штиблеты в траву, а потом, пригнувшись, как кобчик, спросил: — А ну, кто меня поборет? Это был прежний Яшка — задиристый, грубовато-простой, свой парень. Вовка потянул его за матросские брюки, вдвоем с Алешкой они вцепились в зеленые штанины. Яшка полетел на землю, подмял под себя ребят, и завизжали, засмеялись мальчуганы. — Вот что, ребята! — с трудом переводя дыхание, сказал Вовка. — Сейчас, пехота, я вас покатаю. Честное солдатское! В одно мгновение вскочил Вовка на бетонный холмик блиндажа, сложил ладони лодочкой и позвал: — Фрицик, Фрицик, Фрицик! «Ме-е-е!» — заблеяло из бурьянов, и рыжий поджарый козел выскочил навстречу Вовке. Троян подразнил его фигой и бросился к ребятам, за ним с воинственным блеянием прыгал козел. Он имел грозный вид: рога как два турецких ятагана, борода — клином, хвост — крючком, кожа на вытертых коленях — словно кавалерийские нашивки. Козел грозно зафыркал, обходя ребят сзади. — Почему ты Фрицем его обзываешь? — спросил Яшка, поворачивая голову за козлом. — Понюхай. Слышь, как воняет? Как немецкая карбидная лампа… И козел заинтересовался Яшкой, особенно его зеленым клешем. Смешно вывернул губы, залопотал языком и понюхал травянистого цвета брюки. Не понравились, видно, — брызнул слюной. — Тьфу! — толкнул Яшка ногой козла. — Убери, Вовка, эту вонючку! А Вовка: «Вперед, братва!» — вскочил на козла, кнутом ударил по ребрам. Фриц шмыгнул в полынь, Вовка упал на землю. Тогда с криком «Наша взяла!» Алешка прыгнул на Фрица и тоже полетел вниз головой. Но Яшка не сплоховал — схватил козла за рога, оседлал его и пустился вскачь. Яшкины ноги по земле волочатся, поднимают пыль, ребята от хохота катаются по траве. Может быть, ребята еще долго возились бы с Фрицем, но заметили на дороге мужчину, шедшего прямо к ним. Его маленькая одинокая фигурка то появлялась, то исчезала среди полыни. — Отец мой, — сказал Алешка и первый притих. — Он с утра пошел на станцию, чтоб выменять дверные петли, крючки и другую мелочь… для школы. Яшка обулся, выщипал репейник со свадебных брюк. Вовка и Алешка поправили штаны. Прогнали козла и уселись на краю блиндажа, притихшие, словно ни в чем не виноватые. Повернув головы к страннику, они пристально наблюдали за ним. — Нет, кажется, не отец, — приободрился Алешка. — Отец с мешком, а у этого сундучок в руках. — Точно, — подтвердил Яшка. — Похоже на военного. Видите, фуражка с козырьком. — В сапогах и галифе, — добавил Троян. Неизвестный мужчина, по-видимому, тоже заметил мальчишек и, свернув с дороги, прямо по траве подошел к блиндажу. Это был высокий худощавый офицер, гимнастерка нараспашку, туго стянута ремнем. Сапоги в пыли, под мышками от пота темные пятна; худое, тщательно выбритое лицо заострилось, вытянулось — каждая морщинка на лбу и вокруг глаз резко выступает; сразу скажешь: видал виды солдат. — Здравствуйте, казаки! — поздоровался он. — Здравия желаем! — за всех ответил Яшка. Офицер (четыре звездочки на погонах — капитан!) поставил на землю черный, обитый железом сундучок, сел на него, вытянул уставшие ноги, и громко вздохнул, потом вдруг спросил: — Как живете, ребята? — Ничего, — ответил Яшка. — Живем помаленьку. — Курите небось?.. Признавайтесь и меня угостите домашним табачком, если имеется. Яшка с большим удовольствием дал целую пригоршню зеленоватого, крупносеченого самосада. Одной, почему-то левой рукой офицер скрутил на колене козью ножку и, причмокнув, затянулся. — Хороший табачок! — сказал одобрительно. Тем временем Алешка толкал Вовку под бок: «Глянь, глянь, сколько у него орденов!» Вовка двинул плечо: «Да не лезь! Сам вижу!» Мальчуган внимательно слушал, стараясь не пропустить ни одного слова, не упустить ни одного движения нежданного странника. Серыми, спокойными глазами оглядел гость чумазую компанию, посмотрел на потрескавшиеся Вовкины и Алешкины ноги, потом на деркачевские штиблеты. Едва заметно улыбнулся, глядя из-под густых светлых бровей. Казалось, вот-вот скажет он что-то лукавое, насмешливое. Но вдруг угасла лукавинка в его глазах. Высокий, незагоревший лоб рассекали темные, глубокие морщины. Помолчав немного, офицер с тревогой спросил: — Слыхал я в Долинской, что война смела Колодезное. Кто же уцелел, ребята? Давиденко живы? — Нет, дядя, — нахмурился Яшка. — Куда им, старым? Во время облавы поймали их на лугу… добили. — А Гнатюки? — Может, дочери и живы… Этапом девушек угнали… фашисты, — ответил Яшка. — А кто их знает, где они сейчас. — А Яценко? — Живы. Из огня вырвались. Вот их Алешка. — А ты, случайно, не деркачевский будешь? — спросил военный и, прищурив один глаз, стал всматриваться в шершавое остроносое лицо самого старшего из пастушков. — Гаврилы сынок, да? От неожиданности Яшка часто заморгал рыжими ресницами. — Деркачевский… А как вы узнали? — Очень заметный ваш род… — Батюшки! — с шумом хлопнул Яшка руками по острым коленкам. — Чего же молчите? Троян вы, да? Бригадир наш? — А что? — Так это Вовка! Посмотрите! Как будто земля сразу расступилась. Отец и сын, а между ними пропасть. И больше ничего. Отец смотрел на Вовку. Вовка смотрел на отца. В одно мгновение они бросились друг к другу. Столкнулись над самой пропастью. Вовка схватил отца за правый рукав… пустой! Чуть не упал. Отец вовремя подхватил его левой рукой, прижал к груди, к встревоженному сердцу. Вихрем понесло их над степью, все выше и выше, в туман, в пустоту, и для Вовки исчезло все, кроме отца, его учащенного дыхания, горьких от табака губ, его и своих горячих слез. Еще секунда — и прошло мгновенное ослепление. Твердая земля под ногами. Отец… он глотает и никак не может проглотить твердый комок. Катится по его щеке слеза… И вдруг упала Вовке на руку. Жгучая… Лицо у отца доброе, просветленное. Не отпускает Вовку, судорожно ощупывает тоненькую ребячью шею, плечи, будто не верит: сын его иль не сын? Из-под отцовского локтя Вовка увидел: блиндаж, а вот Алешка и Яшка… раскрыли рты до ушей… улыбаются. — Гоните, ребята, коз в село. Мы с отцом напрямик пойдем… Разве можно было сказать в обед, что к вечеру небо прояснится, ветер разгонит тучи, уляжется пыль по оврагам, четко обрисуются дали?.. Ярким закатом, вечерней тишиной встретила ингульская степь отца с сыном. За песчаными холмами, за блиндажами, похожими на овечьи шапки, залегли голубые тени. Стараясь идти в ногу с отцом, Вовка шагал широко. Отец торопился. Жадно всматривался в места, знакомые и дорогие еще с детства. Вон сусликовая балка; дорога ведет в гору, на перевал, а там… а там и родное село как на ладони. Еще когда отец крутил козью ножку, Вовка заметил, что один рукав его гимнастерки заправлен под солдатский ремень. Но почему-то Вовка забывал об этом и несколько раз нечаянно хватался за сплющенный манжет — так ему хотелось пройтись с отцом за руку. Он был счастлив, он беспрестанно говорил: — Гляжу, гляжу на тебя, папа, и никак не узнаю. Голос точно такой, когда ты во сне меня звал: «Во-о-вка!» — а вот лицо не такое. На фотографии у тебя усы… — Не повезло мне с усами, жучок. В одном бою обгорели — снова отрастил. Потом в плену обрили. Так без усов и попал к своим. И нет ничего удивительного, что ты не узнал меня: ты ведь до войны под стол пешком ходил. После плена куда удивительней было, когда кое-кто из старых друзей долго не признавал меня. Дескать, если без усов, значит, не Троян. — Отец грустно улыбнулся, брови его распушились пшеничными колосьями. — Ничего! Мы еще отрастим казацкие! Правда, сынок? В лучах заходящего солнца горел ковыль на холмах, горел тихим малиновым пламенем. Под ногами трещал сухой пырей. Где-то позади, в широкой балке, блеяло Вовкино стадо, будто скучало по своему хозяину. А Вовка с отцом быстрой размашистой походкой шел по степи. На груди отца тихонько позванивали сверкающие на солнце медали. Вовка даже немного вперед забежал, чтобы лучше их рассмотреть. И вдруг сверкнуло вишневым цветом знамя. — Папа… это тот орден, что мы послали? — Тот самый, сынок, тот самый… Отец остановился. Поставив на траву сундучок, он снял фуражку со звездой, посмотрел вдаль, туда, где садилось солнце, красным пламенем освещая горизонт. — Ну вот и дома, — сказал он и всей грудью вдохнул степной воздух. — Как хорошо у нас! Опьянел я от запахов земли.* * *
Вовка вооружился не кнутом, а ученической сумкой. Пускай сохнет кнут на колышке. Пускай висит под окном новой хаты. Сейчас он ни к чему. Как та крестьянская коса, которая уже отзвенела на покосах. Медленно, не торопясь идет Вовка по селу. Да и куда ему торопиться? До начала занятий еще много времени. Привык Вовка рано просыпаться. Только взойдет солнце, а он уже в степи. И тянется за ним длинная тропинка — это козы отрясли росу. Странно и необычно Вовке. Полная свобода. Хочешь — иди горой в школу. Хочешь — сверни к Ингулу, постой над широким простором реки. И никаких тебе забот. Притихшая улочка вьется между рыжими холмами. Во дворах, словно гуси, сбившиеся вместе на ночлег, кучей лежат остывшие камни. Везде засыпают землянки, ставят новые стены. Пробивает земную скорлупу, тянется к свету развороченное село. Вовка идет в степь. Плывет паутина бабьего лета. Белые сети развешивает на сухих бурьянах. А вот и школа. Под камышовой шапкой. Широко открытыми глазами глядит школа на далекие курганы. Хрустальное небо, воздух как ключевая вода. Пей — не напьешься. А кто это опередил Вовку? Уже возле самой школы. Алешка? Нет, кто-то кругленький, упитанный. Так это же Дыня! Вовка догнал старика: — Доброе утро, дедушка. — Доброе утро, Василек. Сейчас Дыня напоминал бродячего певца. Босой. Белая льняная рубашка; белые льняные штаны, подвязанные шнурком; белым грибочком — лысина. Через плечо — палка, на ней — котомка, на ногах — лапти из рогожи. — Куда, дедушка, собрался? — По белу свету пойду. Все-таки отважился. Сынов проведаю. На Донбасс подамся, а потом на курские земли. Поклонюсь могилам. — Я бы тоже с вами… — Э, нет! — беззубым ртом улыбнулся Дыня. — Тебе — с людьми. Тебе — в науку. А меня уже старая карга позвала. — В шею гоните ее! Только жизнь начинается. — И тебе счастливого пути, сынок. Может, когда песню сложишь (а у тебя душа певучая), то и меня не забудь, о деде словечко вставь. Будь здоров, пастушок! И разошлись их пути. Одного повела тропинка к тем, кто ушел из жизни. А другого — к тем, кто начинал только жить. Кто выходил на тревожные, исковерканные войной дороги. Пробуждалась умытая росой степь. Раннее солнце купалось в реке, медленно пило остывшую за ночь воду. 1966
ЗВУК ПАУТИНКИ

Перевод В. Беловой
Посвящаю эту книгу майским жукам, кузнечикам, летнему дождю, теплой неторопливой речушке с деревянными мостиками и кладками — самым удивительным чудесам на земле, которые мы открываем в детстве.Автор

СЕРЕБРЯНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК
Дзынь… Дзинь… Бумс!.. Я лежу, объятый густой темнотой, и слушаю, как он забавляется. Он давно живет в нашей хате — может, за печью, а может, под скамейкой, где, свернувшись клубком, дремлет Сопуха. Он совсем не боится Сопухи и часто спит на ее мягких лапах. А рано утром, когда никого нет и ставни закрыты, он приходит ко мне в гости. Садится на краешек моей кровати и вызванивает серебряными подковками. Дзынь… Дзинь… Бумс!.. Сейчас он в углу возле шкафа. Там черная кадка с водой, там сыро и темно, но я вижу его. Он тоненький, как стебелек, этот забавный человечек. И светится синим огнем. А быстрый, проворный — не уследишь за ним. Шасть, шасть! — так и бегает по полу, всё скоком-прискоком, бесшумно порхает по хате, и кажется: мерцает светлячок во тьме. Крылышки у него легкие, прозрачные, словно у кузнечика, и, когда он ими машет, они тихо шуршат, почти неслышно трещат-потрескивают. С утра ему весело. Наверное, хорошо выспался, позавтракал пшеничными корочками (я накрошил ему на скамейку) и теперь играет-прыгает на одной ноге. Подпрыгнет и ударит подковками: дзинь!.. Подпрыгнет и ударит: дзинь! И сам слушает, как переливается во тьме тонкий серебряный звон. Вот он вспорхнул с полочки на скамейку и поскакал. Смотри, смотри, это он дразнится: подскочит ко мне, а потом снова убегает. И языком прищелкивает, словно говорит: «Буц, буц — не боюц!» Погоди, думаю, доиграешься. Вот я сейчас тебя поймаю… Осторожно высовываю ногу из-под одеяла. И только высунул пятки — мурашки побежали по телу, побежали до самой груди. Замер, жду, пока ноги привыкнут к щекотке. Потом ложусь на живот и опускаюсь на землю. Медленно сползает одеяло, а вместе с одеялом сползаю и я. И повисаю где-то в воздухе, повисаю над черной пропастью. Меня кто-то толкает под локоть, я вскрикиваю и падаю, срываюсь в пропасть… и вдруг касаюсь чего-то холодного. Ну конечно, это же пол. Нет, я совсем не испугался, просто подумал, что свалился в глубокую яму, и потому дрожат колени. Вот я немного постою, погляжу, куда идти. Вокруг меня так и дышит темнота, а холод хватает за спину. Может, назад, в кровать? Она рядом, прыг — и я снова под одеялом… Эге, а чертенок? Он ведь смотрит из-за угла и посмеивается. Ну чего ты хохочешь? Думаешь, я боюсь? Подожди, вот ухвачу тебя за хво, тогда увидишь. (А ты знаешь, что такое хво? А хви? А хва? Не знаешь? То-то же! Это хвостик у хвастунишки… такого, как ты.) Темно вокруг, я выставляю руки вперед (словно играю в жмурки) и на цыпочках иду в угол. Что-то прошуршало мимо меня, я ладонью раздвигаю темноту и присматриваюсь: куда же девался этот хвастунишка? Бульк!.. Прыгнул мне под ноги хитрый человечек, от него скользнула серебряная тень, и я быстро ощупываю руками: где же он? Нет его! Куда-то убежал. Шарю по полу. Что-то внизу мокрое, липкое, будто тесто. А вот и полукруг луны. Он слегка покачивается, отсвечивает тусклым светом, словно кто-то на нем скачет и выбивает звонко каблуком: бумс!.. бумс!.. Тише! Он здесь. Я рукою ударил по кругу — раз! — и брызнула вода из-под ладони. Вода в цинковом тазике. И тогда я вспомнил. После дождя протекла у нас хата. Сначала на потолке обозначилось желтое таинственное пятно, будто кто-то нарисовал кривое и немного грязное солнце. Потом солнце скривилось еще больше, заплыло водой, и стали на пол капать желтые слезы вперемешку с глиной. Капли — бумс! — ударялись об пол, выдалбливали себе ямки, и вскоре наш пол стал таким поклеванным, как луна на рисунках, — вся в дырочках и луночках. Это было удивительное зрелище, я бегал по хате и заглядывал в ямки, над которыми лопались пузыри, а мать причитала: «Ох, горе! Потоп!.. Что будет!» — и принесла корыто, и подставила тазик. Напрасно мать испугалась, ничего страшного не случилось. Наоборот, в нашей хате зазвучала музыка: старое деревянное корыто играло по-своему, и цинковый тазик, купленный в сельмаге, играл по-своему. Дзум, дзынь, дзинь!.. — отзывался тазик, и его звук был такой, словно били молоточками по стеклянным сосулькам. А корыто вторило и отвечало глухо: бумс!.. Так они играли. И выходило у них складно, и звучала в хате волшебная музыка-капель. Я уже и забыл, зачем очутился здесь, возле шкафа, стою и слушаю, как собираются капли, как они падают с потолка, как пробивают темноту, как мелодично вызванивают. Надо долго ждать, пока сорвется капля, и я тороплю ее: «Падай, ну падай быстрее!» Представляю себе: вот образуется на потолке тугая бусинка, округляется, тяжелеет и… И вдруг — щелк! Я вздрогнул, не сразу сообразил, что это капля и что она стукнула меня по носу, брызнула в глаза. Я еще и не проморгал холодную росу, как что-то мелькнуло передо мной — зашуршали крылышки и вспорхнула синяя искорка на шкаф, вспорхнула на самую верхнюю полочку. Это он — серебряный человечек! Убежал от меня. Убежал — и сразу потемнело в углу. Скамейка и кадка стали волосатые. «Апчхи!» — чихнула Сопуха. Чихнула и зашевелилась. «Убегай!» — толкнуло меня. И когда я бегу назад, за мной летит холодок и гонится темнота, кто-то словно хочет схватить меня за пятки. С разгону бросаюсь в постель и с головой укрываюсь одеялом: «Ну что, схватил?» И тихо смеюсь. Я лежу и смеюсь: ловко убежал! Что-то шумит в голове, словно где-то стучат в наковальню маленькие кузнецы. Можно сколько угодно слушать, как весело они бьют по мягкому железу, можно даже увидеть их, огненно-красных… но сейчас мне не до этого. Я собираю одеяло так, словно строю у себя над головой шалаш, а сам тайком выглядываю из-под него и вижу, какое интересное представление начинается в нашей хате. Солнечное кино! Утром мать думает, что я сплю, и плотно закрывает ставни. Пускай закрывает — так еще лучше. Потому что в одной ставне, чтоб вы знали, есть крошечное отверстие. Там был сучок, он, наверное, высох, расшатался и выпал, и в доске появилось круглое окошечко — глазок. Сквозь эту щелинку в хату проникает длинный поток лучей. Это мое кино. Смотрите, что сейчас будет. Темно. Светится только узенькая полоска, она тянется наискосок, от окна к печке. А за ней, за этой полоской, густой и притаившийся мрак, словно в подвале. Но чу! Ожила, задвигалась темень. Словно кто-то встревожил ее — вспорхнули вдруг маленькие пушинки. Яркие, мохнатые, летят они из темноты и, высвечиваясь, становятся золотистыми. Тихо снуют пушинки, плывут одна за другой, то поднимаются, то вдруг опускаются, то исчезают совсем. Раньше я не знал, что в нашей хате живет столько чудесных пушинок. Вы не смейтесь, вы получше приглядитесь — они живые. Видите, их так много, но никто не толкается, никто не стоит поперек дороги, никому не мешает. Потому что это не простые, это Вишневые Пушинки. Да, да, конечно, Вишневые! Когда цветут сады, и белые тополя стоят в пуху, словно облепленные ватой, и одуванчики светят возле хаты желтыми солнышками, — вот тогда Вишневые Пушинки живут в саду, на свободе, прячутся в чашечках цветков белые-белые клубочки. Ветер колышет их, солнце согревает, пчелы кормят медом. А потом: отцветают вишни, опадает пух с тополей, мать открывает окно, и Пушинки с грустью перебираются в хату. Бывает, утром проснешься, а на подоконнике, на скамейке, на полу — везде полно белого пуха, желтой пыльцы. А поверх той пороши — мокрые и озябшие Пушинки; они едва шевелятся, расползаются кто куда. До весны прячутся Пушинки в темных углах. Их, маленьких, может и дождь смыть, и ветер унести, и комар задушить. Целыми днями они сидят притаясь. Грустят о солнце, о фиалках, о вишнях в цвету. И тогда когда наступит тишина, когда в хате затеплится луч солнца, выходят они на свет и начинают свой карнавал. Смотрите, какие они торжественные и важные. Медленно выступают из темноты, кружатся легкими пушистыми комочками. Теперь их все больше и больше на светлой поляне. И каждая Пушинка, облетая своих подруг, низко кланяется и спрашивает: «Как спалось, вишневая сестра?» Освещенные солнцем, они мигают, точно маленькие звезды. Их бесконечное множество, их густо, как маковых зерен, и все они радужно искрятся, мерцают, движутся хороводом, сплетая свои следы в причудливые узоры. Они танцуют. Слышите: дзинь… дзинь… бом… — то играют капли воды. Падая, капли натягивают струны, Пушинки прикасаются к ним, и в хате звучит хрустальная музыка. Летают Вишневые Пушинки, поблескивают, кружатся при ярком свете — это танец маленьких принцесс! И вдруг — что случилось? Словно ветром подуло, подхватило и смешало Пушинки, и они бросились врассыпную, забились в глухие углы. Ага, вот кто испугал их! Из-за темной тучи выплыло черное перо. Бесшумно, крадучись, вышло оно на свет. Я тоже подумал — перо, а оказалось — пиратское судно. Нос у него изогнут, как шея змеи, в два ряда весла, и стоит на палубе капитан-разбойник, по имени Вырви Зуб, и кричит своим бандитам: — Ловите Пушинки! Тащите их сюда! И бросился, пошел корабль на клич, пираты лязгают веслами, бьют по воде, бьют по головам, тащат за волосы несчастных. — Вы что? — крикнул я из-под одеяла. — Убирайтесь вон, а то как дам!.. Как встану сейчас!.. И я встал — на колени, и потянул одеяло на плечи, и давай кричать на пиратов. А в хате темно, и они плывут себе дальше, к окну, разгоняют Пушинок. Дзинь!.. Что-то треснуло, и я увидел, как вниз стремительно понеслась синеватая искорка, ударилась о перо, в разбойничье судно, опрокинула его во тьму. Молодец! Это мой… человечек! Серебристый! Я даже запрыгал на кровати. Но вот почудилось мне: на полу, в кромешной темноте, что-то шуршит, потрескивает, поскрипывает. Даже почудился топот и тихое позванивание. Я сразу догадался: это они рубятся. Он их повалил на пол, и теперь разбойники окружили его — моего человечка — и наседают на него с саблями. — Держись! Я сейчас! Хотел было спрыгнуть с кровати, побежать на выручку, но не рискнул: темно, еще наступлю на кого-нибудь. И тут-то я вспомнил: рядом стоит скамейка. Быстренько, на ощупь, перебрался туда, взобрался на подоконник. Открыл форточку, ударил кулаком в ставню. И хлынул густой поток света. Словно песок бросили в глаза. Я закрыл лицо рукой, с минуту постоял ослепленный. Потом посмотрел на пол. Там уже никого не было. Ни пиратов, ни моего человечка. Даже Вишневые Пушинки исчезли. В хате как-то сразу стало тихо. Старая печь притаилась, широко раскрыв свою черную пасть. И скамейка встала у стены, тяжело, четырьмя лапами оперлась она о пол, будто ей приказали: замри! И в шкафу за стеклом, как солдатики, выстроились рюмки, бокалы, бутылки. Хитрый народ! Посмотри, притихли, молчат, словно никто ничего не видел. Я не стал их расспрашивать о драке — это напрасно. Ни слова не скажут. У них свои секреты. Да я и сам знаю, что пираты, Пушинки и крылатый человечек разбежались, как только я открыл ставни. Они не любят, когда их рассматривают люди. Они маленькие, но очень гордые. Разбежались мои невидимки. Хата стала как хата. Полно воды в корыте и тазике, вода потекла на пол, и от нее потянулись до самой печки мокрые темно-рыжие лужи. На такое смотреть неинтересно. Я просунул палец в щель ставни и захлопнул ее. И снова я в волшебном царстве. Лежу и думаю: откуда он взялся, такой храбрый человечек? Наверное, родился из капель. Гусеницы, мотыльки, кузнечики, майские жуки — все они рождаются из личинок или куколок, наполненных ватой. А серебряный человечек родился, по-видимому, из падающей капли. Капля разбилась — бумс! — серебряный человечек тут же выскочил, встряхнулся и юркнул под скамейку. Там обсох, расправил крылышки и, как услышал, что капает вода с потолка, сразу ожил и стал прыгать и порхать между каплями, и ловить их, и вызванивать подковками. Такой маленький, а ничего не боится — ни темноты, ни пауков, ни Сопухи. Ишь как с разгону бросился на пиратов! Я еще раздумывал, колебался, выглядывал из-под подушки, а он блеснул саблей — и на судно: «Вперед!» Интересно, как его зовут? — Эй, человечек, как тебя зовут? — крикнул я в ту сторону, где стоит кадка и раскачивается черная тень. Молчание. Ни звука. Тихо и темно, как в ушах. — Бумс!.. — ответила вдруг капля. — Ага! — обрадовался я. — Теперь знаю: тебя зовут Бумс. Бумс, Бумсик, Бумсюк… А где твоя баба Бумсиха, где маленький Бумсенок? Где дед Бумсило и сестра Бумсинка? Пожалуйста, скажи! Молчит. И дух затаил. Мне очень хочется взять Бумса на руки, рассмотреть его, обогреть, осторожно погладить крылышки. А может, и спрятать в коробочку. Э, нет! Он умрет. Он задохнется… Я думаю: если темная ночь укрыла бы меня в свои пещеры и там привалила камнями и оставила навсегда, что делал бы я один, глубоко под землей?.. Там, где только летают мыши, где холод и мрак? Как бы я плакал, наверное, как рвался бы на свободу, блуждая, словно слепой, в потемках. Это ведь очень страшно. А мотылек? Тот самый, которого я посадил в коробку. У него крылышки были золотистые, а на лапках, на усах — желтая пыльца. Он был такой живучий, такой насмешливый, так заставлял меня бегать за ним по всему двору, пока я не поймал его. Он упирался, не хотел лезть в коробку, шуршал, умолял: пусти! Я не отпустил. Я положил его в коробку, а коробку в запечек и забыл. Вспомнил только осенью, когда сушили вишни. Бросился к мотыльку — что это? Сухая скорлупа… труха… пепел… Высох, бедняга, взаперти, задохнулся. — Зачем убивать живое? Слышишь, Бумс? Живи себе в нашей хате. Гуляй, прыгай где хочешь. Я тебя не буду трогать. Никогда… Вот тебе крошки на скамейке, вот в блюдечке молоко — ешь, поправляйся. Слышишь, Бумсюк!СОПУХА
Я уже большой и знаю, что Сопухой пугают детей. Бывало, ворочаешься в кровати, не спишь, а мать пригрозит: «Вот позову Сопуху…» Пригрозит, загасит керосиновую лампу и сама уйдет на кухню. А ты лежишь, и тебе так страшно, и ты весь сжимаешься, как улитка: ноги потихоньку втягиваются, втягиваются, и шея втягивается, и нос прячетсямежду коленями. Свернешься в комочек, лежишь — не дышишь. Все онемело, съежилось, только уши растут. Растут они, как лопухи, лезут в темноту, слушают едва уловимый шорох. Вот — началось! Это Сопуха! Там, под скамейкой, в самом темном углу, сопит она, так сопит, будто бы ветер гуляет по хате. Я укрываюсь подушкой, начинаю вслух что-то бормотать себе, только бы не испугаться чудовища. Ну где уж там! Кто-то скребется, кто-то дует и под подушку. Никак не пойму: то ли сопит Сопуха, то ли я сам носом высвистываю. Я закрываю глаза, закрываю крепко, и они, как два раскаленных уголечка, искрятся, мне больно, но все равно я вижу: встает бурая лохматая Сопуха… Чихнула, встряхнулась и прыгнула на скамейку. Нет, это не скамейка, а старая, облезлая волчица; чап-чалап, чап-чалап… — идет, переставляет лапы, движется к моей кровати. А на волчице верхом едет Сопуха. Не кричите. Не пугайтесь. Маму на помощь не зовите. Знаете, что надо сделать? Надо сказать: «За мной, Бумс!» — и сразу спрыгнуть с кровати. Это, конечно, страшно, но с вами Бумс, и вы командир, и за спиной у вас конница, сабли наготове! Кидайтесь в атаку, смелее! Крепче сожмите кулаки, сильнее сцепите зубы, вы — настоящий мужчина, плечом темноту оттолкните, бросайтесь грудью вперед с криком:КРЫЛАТЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Мы с матерью готовим обед. На огород, в зеленую тыквенную ботву, заехала наша кабица — летняя кухня. За тыквенной ботвой, которая густо переплелась и свои плети выбросила вверх, не было бы видно этой кухоньки, если бы не высокий дымоход, настоящая корабельная труба — черная с желтым ободком посередине. Сейчас на плите кипит тяжелый чугунок, а из-под его крышки сердито пыхтит и лезет каша. Я подбрасываю сухие стебли, поддаю «пар в котлах», чтобы дым из трубы вылетал с огнем и искрами. Мать сидит рядом на стульчике, чистит картошку, и очистки длинной стружкой падают ей в подол. Она думает что-то свое, не видит, как старается ее сын, а то бы прикрикнула: «Убавь огонь, хату спалишь!» Здесь у нас хорошо: на огороде буйно разрослась зелень, живой изгородью она обступила кабицу, и на плечи мне нависают тугие тыквенки, стручья фасоли и гороха. Земля возле плитки утрамбована, вокруг чисто, и в душе моей поют петухи.АДАМ
На нашей улице, в Шатрищах, ребят совсем нет. Считай, мы с матерью живем здесь одни. Ну какие это соседи? У оврага Глыпина хата (а Глыпа по целым дням спит), дальше — ветхое и забытое всеми жилье старой Сирохи. Там, говорят, после войны два мальчика подорвались на мине. От Шатрищ до села далеко, и мать меня туда не пускает. Я один гуляю в саду, один купаюсь в реке… А впрочем, почему это один? Когда я склоняюсь над рекой и подолгу смотрю в воду, со дна, с живого дрожащего сумрака выплывают ко мне две фигуры. Это мои друзья — Адам и Нина. У моего друга толстое имя — Адам. Вот Нина — имя тонкое, прозрачное. Попытайтесь произнести: Ни-и-ин-на… Правда, звенит, как звук паутинки на ветру? А теперь: Аддам… Представляешь себе огромный, словно казацкая могила, звон и его уставший вечерний голос: д-дам!..Не было в нашей окрестности лучшего места, чем брод. Тихая, маленькая река, тут и там размоины, коряги, холодная тень от вербы, а вот и каменистый брод. Его видно издалека. Зеленый берег, осока, кувшинки, и среди густой травы, точно спина слона, дыбится валун. Солнечными бликами играет речная галька. Это начинается брод. Здесь мать стирает белье. Бывало, развесит на кустах и на вербах белые покрывала или наволочки, глядишь — словно на луг парашютисты спустились. Я помогаю матери: бултыхаюсь в воде, пока мурашки не забегают по коже. Если не купаюсь, то ползаю на коленках, изучаю пороги, водопады, утесы, вновь открываю острова и пещеры. Не подумайте, что здесь какие-то могучие скалы. Нет, просто выступают с одного и второго берега две ровные гладкие каменные плахи, по которым течет речка. Одна плаха лежит под водой, другая немного торчит из воды, а между ними — глубокая расщелина. Расщелина — это мой морской пролив. Он немного узковат, и мои ноги едва пролезают туда, зато такого пролива нет ни у кого на свете. Широко разливается здесь река по каменистому руслу, плещет, перекатывает небольшие волны, сверкает живым серебром. Наигравшись на солнце, вода течет в мой пролив и где-то под камнями сердито ворчит. Целый день можно слушать, как играет вода. Сядешь на камень (а он горячий!.. жжет через штанишки), опустишь ноги в расщелину и замрешь. Там, в глубине, клокочет тугая струя, отдающая холодом, она так и выталкивает тебя из печурки. И вода на дне темная, студеная — сразу ломит в костях, ноги быстро коченеют. Выставишь пятки на солнце, а сам заглядываешь в расщелину. Сверху камень чистый, хорошо отполированный, но чем глубже, тем становится темнее — скользкий, бурый от мха. А на дне развевается густая мохнатая борода, такая бородища, как у дядьки Черномора; ползают в глубине рачки, водяные блохи, и кто-то недовольно пускает пузыри со дна. Даже жутко становится… Зато на мелководье, по серому каменистому дну, течет вода светлая-светлая и теплая, как парное молоко. Сюда приплывают мальки; они стайками ходят у берега, ищут, чем поживиться. Однажды я сидел над проливом, пускал листья из щавеля — быстрые каравеллы — и старался провести их между скалами, чтобы не случилось крушения. Вдруг упала на меня тень. Точно птица встала за спиной. Я съежился и не понимал: кто это? — Что вы делаете, сэр капитан? — послышался голос. Голос мужской. Это могло бы успокоить меня, но он раздался так внезапно, что меня будто кольнуло под бок. Я согнулся и пробормотал что-то себе под нос (пусть тот не думает, что я испугался или сгораю от любопытства к незнакомому мне человеку: у меня свои заботы — вывести флотилию из бурлящего пролива). — Сэр! Когда встречаются в море капитаны, они приветствуют друг друга… Здравствуйте! Гм, в нашем селе никто не говорит, как на острове Сокровищ. Я обернулся. На берегу стоял худой длинноногий человек, одетый не по-здешнему: на нем были светло-серые брюки, белая нейлоновая тенниска, на голове — летняя шляпа. Одежда на солнце просвечивала насквозь, и потому человек казался прозрачным. — Добрый день, — сказал я, усаживаясь поудобней (то есть обхватив колени руками). — Я знаю, кто вы такой. Вы тот дядя, который приехал к бабушке Сирохе. — Абсолютно верно! — согласился длинноногий, присел на камень, снял башмаки, выставив на солнце костлявые синевато-белые ноги. — Гм-м, как тепло! — прищурился он. — Вот здесь мы и погреем наши косточки. Он снял шляпу, положил ее рядом с собой, пригладил рукой волосы. И вдруг я заметил, что у него необычное лицо, совсем не такое, как у Глыпы, у бабушки Сирохи, у меня… Мы за лето подсмолимся, как горшок на огне. А у него… Не то что белое, а бледно-прозрачное лицо, заостренный нос, такой же подбородок и кое-где синеватые прожилки. Казалось, он никогда не грелся на солнце. — Сэр! — сказал человек. — Не называйте меня дядей, я не заслужил такого почтения. Обращайтесь просто: Адам. Так меня товарищи называли в институте. — Адам? — произнес я недоверчиво. — Вы не того… не обманете? — Нет, ни грамма! Моя фамилия Адаменко. Для простоты Адам. Был на земле первый такой человек. Это же неплохо — где-то и в чем-то быть первым… А вас как зовут?.. — Ленька. — Не годится. Ленька — что-то бедненько. Будешь Лендом. Капитан третьего ранга Ленд. Звучит? — Да ну вас… Смеетесь? — Убей меня гром, если я смеюсь. Вы же капитан этой флотилии? — И он указал на щавельные листья, которые цепочкой, как настоящие каравеллы, плыли по тихой воде и приставали к берегу. «Все-таки догадался, что это флотилия, — подумал я. — У взрослых всегда так: видит листок и говорит: листок. И не знает, что листок может быть чем угодно: на воде — челном, в воздухе — птицей, а на груди — орденом… Наверное, неглупый человек этот Адам», — подумал я. Адам подвернул по колено штанины (ноги у него в синих прожилках) и предложил: — Давай побродим… вон там, — и кивнул на чистый подводный камень. Потом задрал, как журавль, одну длиннющую ногу, осторожно опустил ее в воду, громко при этом крякнув (а чего? Вода же теплая), опустил вторую ногу, снова зажмурил глаза — хорошо! И я за ним побрел на мелководье. Течение здесь сильное, прозрачная вода журчит скороговоркой. Она быстро-быстро обтекает ноги, щекочет между пальцами, остужая разгоряченное тело. Мы постояли немного на камне; Адам нагнулся так, словно переломился пополам, и длинным носом уткнулся в воду. — Ленд, что это такое? У берега торчала трухлявая, фиолетово-черная ветка, и ее облепили такие же черные ракушки. Облепили густо-прегусто, целыми кучами. — Что это? — спросил Адам. — Ракушки, — ответил я. — Присосались к ветке и спят. Вот если взять эту ветку и бросить туда, где глубоко, все ракушки поотстанут, потому что холодно им на дне. И выползут опять на мель, на теплую воду. — А это что? — снова, как журавль, наклонился Адам, пристально рассматривая дно. — Жуки-плавунцы. Глядите, не плывут, а будто прыгают. По-видимому, моторчики у них есть. — А это что? — показал Адам на лист лопуха, низко нависший над водой. — Это лягушачья хата. Присмотритесь: лист не простой, из него лягушки кошелек для себя устроили. Вот так пополам сложили и хорошо склеили. Сейчас там икра. А как только появятся головастики, каждый проделает дырочку и — прыг! — в воду. — Смотри, чудеса! Такому нас в институте не учили. — А чему вас учили? — Как сделать искусственное солнце. Чтоб сильнее настоящего светило. — Ого! — шмыгнул я носом. — Солнце! Больше нашего? — А разве мало тебе одного? И так загорел, как папуасик. — Но все же — два солнца! Одно днем, другое ночью. Гуляй себе сколько хочешь. Говорят, сделают скоро такое солнце? — Понимаешь, Ленд, — нахмурился Адам, холодно прищурив светло-серые глаза. — Ученые делали солнце, думали, оно будет служить людям. А солнце получилось не настоящее; оно, как спичка, вспыхнет и тут же погаснет. Только спичка эта слишком большая… Землю может сжечь. Скалы, реки, небо — все сгорит. Я хотел представить себе тот страшный огонь. Что это за спичка, если может она поджечь сразу и землю, и небо, и море?.. Мысли мои прервал Адам. — Э-э! — махнул он рукой. — Не надо морщить лоб. Здесь у реки просто рай, а мы с тобой спорим неизвестно о чем. Давай-ка лучше вот что сделаем! — Адам хозяйским глазом оглядел кусты осоки, илистый берег чуть пониже брода и прибавил: — Давай построим плотину. Заодно и водяную мельничку. Мы подошли к камню. Адам велел раздеваться. И первый снял тенниску, потом брюки с ровными складками и остался в одних трусах. Мать моя родная! Какой же он белый, какой нескладный! Худой, костлявый, под синей кожей видно весь скелет — можно ребра пересчитать. Такого белого человека с такими длинными руками не было еще в нашем селе! Я тоже разделся, положил на камне одежду рядом. Мысленно себе представил: какой бы из меня клоун получился, если бы я надел его брюки? Ого, наверное, нырнул бы в штаны с головой, и ещё хватило бы, чтоб завязать их на два узла. Ростом я не вышел — это верно. Зато могу знаете чем похвалиться? Загаром! Пожалуйста, у меня, как мать говорит, спина в шоколаде, а у него? Белое, гусиное тело… Но не велика беда, поживет у нас, загорит. Итак, мы положили одежду и чуть пониже брода спустились к реке. Только к воде — и обратно: берег здесь топкий, ил, как черная квашня, ступишь ногой — и пошли булькать пузыри; чем глубже проваливаешься, тем еще больше болотных пузырей, и они щекочут тебе колени. Здесь не только плотинки — плохой запруды не сделаешь. Нашли место посуше, Адам сказал: — Начнем, пожалуй! Замешивай грязь и подавай мне. Ил попался упругий, с примесью глины. Я леплю пышки, прихлопываю их и подаю Адаму. Речка здесь узенькая, а у Адама ходули длинные, и стоит он над водой, как подъемный кран. Он хитро лепит плотину: кладет запруду с одного и с другого берега, а посредине оставляет пролив. Растет плотинка, и подымается вода, затопляет кусты осоки; уже целое озерко собралось у нашей стены. Течет вода не лениво, а мутным потоком бежит из горловины. — Давай, давай побольше глины! — торопит меня Адам. Он как раз прудит узкий пролив, река бурлит, подмывает наше шаткое сооружение. Запыхался Адам. Он, конечно, и не подозревает, как разрисовал себя илом: совсем стал рябой. На груди, на плечах, на коленях — везде темно-бурые заплаты. Как у зебры! Но это ничуть не мешает ему работать: костлявыми руками, словно ухватом, забирает у меня из-под носа куски глины, укладывает их, утрамбовывает, хорошенько приглаживает пальцами. Плотина сомкнулась, поднялась, черной мокрой стеной перекрыла течение, и глядите — река успокоилась. — О! — воскликнул Адам. — Где бы достать нам лоток? — А что такое, — спрашиваю, — лоток? — Это простая штукенция, труба или корытце, по которому течет вода. Гм, штукенция… Быстренько (мысленно, конечно) обежал я свой двор, заскочил в сени, в сарай, в погреб — не нашел ничего подходящего. А водосточная труба возле хаты? Железная труба, ржавчиной изъеденная, я ведь из нее строил дальнобойную пушку. — Водосточная труба годится? — спрашиваю Адама. — Лучшего и не надо. Тащи. Только быстро! Думаю, пока сбегаю туда и обратно — и плотину разнесет. Я так припустил домой, что меня будто ветром вынесло на гору. А бежал к речке — аж в ушах свистело. За мной прыгала и дребезжала труба, такая рыжая и огнистая, как Рекс; все ребра вымазала она мне кирпичной краской. Примчался к берегу. Нет, стоит еще наша запруда. И вода поднялась высоко: там, где был куст, торчат только зеленые верхушки. Здесь вода разлилась, а за плотиной совсем спала, видно дно, вязкий ил, и в лужах ползают водяные блохи, жуки, вьюнки. Адам похвалил меня, взял водосточную трубу и замуровал ее в плотину, а сверху наложил толстый слой глины. И вот по трубе, сначала несмелой струйкой, потом сильнее потекла вода. Мутная, она понемногу оседала, светлела, набирала силы, потоком падала вниз и под плотиной выбивала воронку, похожую на след от копыта. Быстро неслась вода, урчала в трубе, с шумом разбрасывала брызги. И казалось, заиграл под вербами весенний ручей. — Ну как? — спросил Адам. — Как вам нравится такая музыка? Он стоял, палка с перекладиной, весь в глине и улыбался. Доволен, прилизывал чубчик — реденькие волосики, такие, что совсем просвечивались. — Завтра, уважаемый Ленд, — произнес Адам, — завтра мы соорудим деревянную мельничку (сегодня уже поздно) и установим ее у лотка. Увидишь, как вода работает на человека. Об этом, помнишь, Маршак сказал:
НИНА
Ни завтра, ни в последующие дни Адам не приходил к плотине. …Это было тягостное разрушение. За ночь Лопотунья размыла запруду, раскидала комки глины по течению. От плотины остались бугорки земли, они одиноко возвышались над водой. Будто стояла крепость, а наскочила какая-то орда, разрушила ее, повалила стены в реку. Печально побрел я вдоль берега. Из-под коряги выглядывал краешек трубы, и, когда я дернул ее, оттуда выскочила зеленая лягушка. Илом затянуло и лист лопуха; он был неприглядный — разорванный на куски… Озера тоже не было, река больше не лопотала, а привычно бежала по старому руслу. И сколько бы я ни старался, не сделать мне одному ни плотины, ни поющего мельничного лотка. Грустно. Я побрел домой. Прошел день, второй и, наконец, наступило яркое солнечное утро с петушиной перекличкой по всему селу. Захотелось мне погулять у реки. У нас на лугу, возле реки, растет мягкая трава гусятница. Шелковистая, густая, как вата. Посмотришь — зеленый коврик стелется между вербами. На сено эта трава непригодна: ее не возьмешь косой, сбивается в комья. Но зато, когда выпадет роса, как красиво у нас на лугу: точно морозцем прихватывает траву — лежит на всем дымчатая, голубовато-сизая шубка. А только солнце взойдет — вспыхнет, заискрится весь луг. Забредешь в росу, и хочется тебе, как жеребенку, попрыгать, побрыкаться, промчаться по лугу, нарушая прибрежную тишину звонким развеселым «и-го-го». Я побежал к вербе и обратно, повернул к реке, а за мной потянулась по траве темная дорожка. Роса холодная, с дымком, жжет, резко покалывает в ноги. Я припустился изо всех сил, сбиваю росу, и она рассыпает монисто — вишневые, горящие на солнце искры. Останавливаюсь возле брода, смотрю: штаны мои синие, и — э-эх! — мокрые-премокрые, хоть выжимай, прилипают к телу. Ясное дело, мать не погладит по головке. Стою размышляю, как дальше жить. Думаю, а оно не думается. Что-то мне мешает, словно муха жужжит у самого уха. Что это? Я никак не могу понять, однако чувствую: на берегу что-то изменилось. О!.. Слышите?.. Не так шумит река. Я уже знаю, как река меняет свой голос. Утром вода чистая, светлая и журчит ручейком она серебристым; в полдень, в жару, вода плещет лениво, приглушенно; а к вечеру шумит тихо, успокоенно, и шум ее далеко слышен… Так было всегда. А сейчас? А в эту минуту? Слышите? Разъярилась вода. Со всхлипом, с присвистом стонет она под вербами. Что-то случилось! Между кустами, пригнувшись, спускаюсь к реке. Смотри-ка, вновь поднялось течение, залило камень, тот, что выступает из воды. Я побежал на старое место, туда, где мы строили запруду. Так и знал — новая плотинка. Она стала еще выше. И озеро еще больше. И фырчит мельничка. Откуда она взялась? Как она выросла? Когда?.. Я боюсь пошевелиться, чтоб не исчезло чудо. Стою, точно прирос к земле, только глазами хлопаю. Настоящая мельничка… Как вам описать ее? Вот так, под лотком, стоят ноги-опоры, две толстые палки. Вверху они с рожками, и на тех рожках лежит перекладина, а на ней — деревянная мельничка. Лопасти у нее как ладоньки, подставленные к лотку. Падает струя воды, бьет по крыльям-ладонькам — и жужжит, крутится мельничка, рассеивает водяную пыль, и светится над плотиной маленькое солнышко. Слушал я, и хотелось еще слушать, как плещется вода, как прищелкивают лопасти, как гудят опоры. Слушал бы еще, но надо же подойти, рассмотреть вблизи, руками потрогать: из чего оно сделано и как? Я ощупал каждую палочку, туговатые узлы из лыка вербы и лопасти, — ощупал все от сучка до задоринки; потом останавливал и пускал мельничку, ловил языком капли, срывающиеся с лопастей, и даже пальцем выдавил канавку в плотине, чтоб убедиться, надежно ли построена стена. Но подождите… Выходит, Адам еще один раз побывал на реке? И сделал мельничку? Но когда? Ночью? И кто ему, больному, разрешил вставать с постели — ведь у него, говорят, жар, очень высокая температура? Странный все-таки человек этот Адам. Я слушал рокот мельнички до самого вечера, словно бы знал, что недолго ей жить, что случится новая беда. Так оно и вышло. Полуденная жара. Духота. Лениво воркует вода. Я лежу на камне, как сонная рыба. Плечи и руки обмякли, голова тяжелая-претяжелая, глаза слипаются. Здесь, на камне, лежит и мельничка. Вытащенная из болота, разрушенная, сохнет она рядом со мною на солнце. Река снова размыла плотину. И снова ночью. Все злодейства, наверное, происходят ночью. Рекса убили в темноте. И мельничку… Словно лиходеи подкрались в сумерках, повалили ее в грязь и сапогами в землю втоптали. Сухо во рту и горько. Адам не придет. А что я один? Что я могу сделать один? Когда мать даст подзатыльников, тогда лучше одному: забьешься в угол, немного поплачешь — и все пройдет. А сейчас никто тебя не толкает в спину, а все равно горько… Разбитая мельничка — и кому ты расскажешь об этом? Кому пожалуешься? Надо, чтобы кто-то был. Чтоб лежал рядом, грелся на солнце, слушал тебя, а ты, наверное, начал бы так: «Прибежал я утром, глянул — а плотины нет…» Я хочу друга. Хочу, чтобы кто-то ко мне пришел. Облокотившись на землю, бросаю взгляд на реку, туда, далеко, откуда она выбегает, напряженно вглядываюсь и вижу: из-за холма плывет… приближается челнок. Тихо плывет под вербами, под густой тенью, рассекает островки белых водяных лилий, бесшумно выходит на плес — и не брызнет, не ударит веслом. Солнце усыпало реку блестками, и челнок плывет, как месяц по звездному небу, и кто-то гребет веслом, правит к берегу. Вот уже недалеко гребет. Сворачивает к броду, и видно голубой челнок и голубое весло, и сидит в челноке — кто бы вы думали? — девочка. Она тоже голубая, глаза большие и удивленные, в волосах белая лента. Не успел я опомниться, как челнок проскользнул над подводной скалой и круто свернул в мой пролив. Остановился у скалы, на быстром течении. Вытащила девочка мокрое весло, положила на дно лодки. И уставила на меня голубые глаза. — Ты меня звал? — спросила она. — Нет… Просто хотелось, чтобы ты приехала. — Ну хорошо. Привяжи, пожалуйста, челнок, а то вода снесет. Девочка бросила мне цепочку, и я привязал челнок к старой коряге, что острым локтем выступала из земли. — Послушай!.. — удивился я. — Пролив здесь узенький, нога моя с трудом проходит между скалами, как же ты сюда заплыла? Тень пробежала по ее лицу. Она наклонилась, сняла белую туфельку, постучала ею о борт челнока, будто выбивала песок. По-видимому, девочка не любила, чтоб ее о чем-то расспрашивали. Она посмотрела на камень, на котором я лежал, и спросила: — Что это возле тебя? — Мельничка. Ночью ее разрушили. — Это тебе Адам сделал, правда? — Адам. А откуда ты знаешь? И снова она замолчала. Склонила голову, посмотрела на мягкую, разомлевшую под солнцем воду и печальным голосом спросила: — Скажи, Адам и сейчас ходит в шляпе? — Нет, — возразил я, — не ходит в шляпе. И вообще не ходит. Лежит в хате у Сирохи. Старуха ухаживает за Адамом и плачет, сыновей своих вспоминает. А Сироха, чтоб ты знала, мать его матери, то есть бабушка. И говорит Адам, что он от врачей убежал сюда: замучили они его уколами; убежал Адам, да вот беда — простудился. Заболел и теперь подняться не может. — Я знаю, — нахмурилась девочка и грустно зачерпнула воды, попробовала, вкусная ли она. — Адам беспомощный, как ребенок. Ему и близко нельзя подходить к реке, а он целый день в воде проторчал. А ночью задыхался от кашля, был горячий как огонь… И совсем больной тайком ото всех пошел на речку, чтоб построить вот эту мельничку. Волны качали челнок, и девочка качалась на волнах, а может, просто кивала головой. — Передай ему привет, — сказала она строго. — И еще передай: я на него очень сержусь. Пусть себя бережет. — От кого передать? — Скажи, от Нины. Он меня знает. — А-а! Так это ты и есть Нина! — поднялся я, удивленный. — Ты даже как-то приснилась мне. Слышу, будто звенит паутинка на ветру и тоненько-претоненько вызванивает: «Ни-и-ина…» — Мне пора, — сказала Нина. — Отвяжи челнок. Когда я протянул цепочку, она быстро оттолкнулась веслом и так же быстро понеслась из пролива. В голубом платье, с белой лентой в волосах, стояла она в челне, вся освещенная солнцем, и казалось — плывет свеча по воде, свеча с мигающим огоньком. — Прощай! — махнула девочка издали рукой. — Прощай! — крикнул ей вслед. — Приезжай еще! Помчался челнок вниз по течению, тенью промелькнул между деревьями, исчез за крутым поворотом. И, казалось, свеча сразу погасла. …Второй раз приплыла она к вечеру. Уже сумерки залегли между берегами, где-то квакал лягушонок, вода стала спокойней, с глянцем. И тогда снова появился ее челнок. Как и в первый раз, он вышел из-за бугра, именно с той стороны, где заходит солнце, где начинается река. Еще издали можно было заметить: челнок у Нины не голубой, а белый, с темными полосками, будто весь из березовых лубков. Челнок белый, и Нина тоже в сарафанчике белом, с черной лентой в волосах. Вот только сегодня она еще печальнее, чем вчера. Причалила к берегу, поздоровалась, сложила руки на коленях и молча глядела на воду грустными глазами. — Нина, это много, когда тридцать девять и пять? — Тридцать девять много, — вздохнула она, — а если и пять, то еще больше. — Вот такая у него температура. Говорят, умрет… Склонив голову, Нина молчала. Что-то булькнуло, может, слезинка упала в воду. — Ты был у него? — хлопнула она мокрыми ресницами. — Был. Его перенесли во двор под яблоню. Лежит он белый как снег. И кажется, не дышит. Глаза открытые, такие синие-синие, а в уголках притаились белые росинки. Сначала он меня не узнал. Я подошел, тронул его за плечи. «Адам, Адам», — говорю. А он как неживой. Я еще раз тронул — он словно очнулся, рукой ко мне тянется. «А-а-а, это ты, Ленд, — с трудом прошептал он. — Ничего, ничего, капитан. Мы еще с тобой соорудим плотину, настоящую, из кирпича…» И утешает меня, рукой гладит. Пальцы унего слабые, горячие, немного с дрожью… Мне так поговорить с ним хотелось — о солнце, о путешествиях, но меня выпроводили. Хватит, дескать, его тревожить… Там, у Сирохи, какая-то женщина хлопочет, чужая, толстая и в белом халате. — Я ее знаю, — сказала Нина. — Это самый главный врач. Ее привезли из Киева. «Ого! — подумал я. — Из Киева! А кто же ее вызывал? Кто привез?» Я тайком глянул на Нину и вспомнил, как она вчера поплыла куда-то поспешно. Тенью промелькнула между вербами и исчезла… Может, она?.. Может, Нина привезла скорую помощь, чтоб спасти Адама? …Ночь. Шумит дремотно камыш, кто-то тревожно крякает у обрыва. Одиноко плывет Нина, а волки за нею… Однако какие же волки на воде? Ну тигры, ну крокодилы гонятся за ней, челн качает, заносит в яму, а она смотрит в темноту и шепчет: «Помощь!.. Скорую помощь!» Так или не так ездила Нина ночью, я ее не спросил. Не осмелился. Потому что догадался: не любит она ненужных расспросов. По-видимому, произошло с ней что-то грустное, и она теперь не хочет никому об этом рассказывать. Мы сидели молча: я на берегу, Нина в своей лодке. Солнце почти скрылось за горой, небо на закате красное, и его багровые блики падали в реку. У берега, на успокоенной воде, качался белый челн, и в нем девочка: глаза у нее были грустные. — Нина, — позвал я ее негромко, — я хочу умереть. Только ненадолго. Хочу посмотреть, что творится там, под землей. Ну, соберутся люди, поплачут, поголосят, засыплют могилу и уйдут. А дальше? А что тогда? Лежишь в гробу. Тихо. Темно. И вот… открывается дверь, железная, скрипучая, и ты встаешь и спускаешься вниз, словно в глубокий погреб, а там, среди мрака, множество людей, которые когда-то умерли… — Не надо! — вздрогнула Нина, и лицо ее потемнело. — Оттуда никто не возвращается… Я знала многих, я с ними дружила, они выросли, некоторые погибли на войне, другие умерли от болезней, — никто не вернулся. Не смей умирать, слышишь! — пристукнула она кулачком и строго посмотрела на меня. — И Адаму скажи: кто умрет, тот больше не будет жить. Я сидел ошеломленный. «Как же так? — думал я. — Куда я денусь? Вот мои руки, ноги, голова, на голове волосы и уши — разве это все умрет? К тому же я бегаю, кричу, купаюсь в реке, — неужели всего этого не будет? И ничего от меня не останется на земле? Нет! Я не согласен. Здесь Нина что-то переборщила». Я так и сказал ей: — Неправда, чтобы люди совсем умирали. Девочка задумалась. Потом медленно произнесла: — Конечно, люди умирают не совсем. Когда ложатся в землю и сами становятся землей, то из них вырастает трава или дерево. Из хороших людей вырастает что-то хорошее — яблони, сирень, маргаритки. А кто злой и завистливый, из того вырастает колючий репейник, крапива или лишайник. Я топнул ногой и выбил в земле лунку: мне это здорово понравилось! «А что вырастет на месте Глыпы?» — вдруг пришла в голову мысль.ГЛЫПА И БАКУН
Это был старый мудрый конь. Он доживал свой век. Его даже не треножили, а свободно пускали у берега. Конь пасся возле реки, часто вздыхал, засыпал на ходу. Он был, говорят, белой масти, но шерсть давно слиняла, стала грязно-серой. И теперь, когда река подернулась сплошной пеленой тумана, конь и сам слился с туманом, и только слышалось сквозь молочное облачко его старческое пофыркиванье. В жаркий день он забирался под вербы, в тень, и там дремал. Он стоял неподвижно до самого вечера, стоял, свесив толстую ворсистую губу, и что-то вспоминал. Мне всегда хотелось узнать: о чем он думает? Что он вспоминает? Что ему видится в полудреме? Может, снятся ему дороги (а он исходил их до края земли), и одна дорога пахнет горячей пылью, другая — взболтанным осенним болотом. Возможно, снятся поля (а он испахал их черным-черно), снится душистое, как чай, степное сено (вышла бы целая гора из того сена, которое он перевез на конюшню), снится батог и въевшаяся в тело упряжь, снятся возчики: озорные, сварливые, с медалями, с протезами, с пахучим табаком — словом, всякие, какие только погоняли им. Я не знаю, что снилось коню. А вот мне он снился часто. Он приходил в мой сон, сквозь ночь просовывал теплую морду. Долго задумчиво смотрел на мою кровать, доверчиво фыркал мне в ухо. Во сне я улыбался (в ушах щекотало), гладил ему мягкие, бархатистые губы, бормотал что-то несвязное, рукой тянулся к гриве. Потом, как-то незаметно, я вдруг оказывался на его спине. А дальше все шло, как в том кино, когда кричат: «Звук!.. звук дайте!..» Легко, легче пушинки, поднимал меня конь вверх, над землей, и дух захватывало, и я крепко держался за гриву. Мы летели над бродом, над кручей, так хорошо и легко было не ехать, не мчаться, а именно парить по воздуху, но тут кто-то дергал меня, и я падал… падал и падал, стучало сердце от страха, и я повисал над обрывом. Висел, как на нитке, вот-вот сорвусь в пропасть. Я вскрикивал, подхватывался, и сдавленный крик застревал у меня в горле. Но только я засыпал, конь приходил ко мне. И снова мы летели. Звали коня Бакун. Он уже не работал. Он доживал свой век. И, как все старые существа, размышлял над своей жизнью. Тяжелые думы никогда не покидали его. Обычно, когда он пасся на лугу и нехотя пощипывал траву, то видно было, что он не столько пасется, сколько размышляет над чем-то неразгаданным. И когда заходил в реку и цедил по утрам прохладную воду, тоже было понятно: думает. Даже с водой на губе не переставал серьезно размышлять. А в тени, под вербами, он так глубоко погружался в свои, только ему доступные лошадиные мысли, что забывал отгонять мух, и тогда они лезли ему в ноздри, заползали в слезливые глаза. Никто не тревожил Бакуна. Целыми днями он думал. Правда, иногда мимо нашей хаты проходили мальчишки или дяди с уздечкой в руках. Значит, разрешили им взять коня для мелкой домашней работы — привезти воды или перетащить колоду. Бакун, увидев человека, который шел к нему с уздечкой, не выказывал ни радости, ни печали. Смирно стоял, смирно подставлял голову, давал себя взнуздать. И только тогда, когда трогались с места, тяжело вздыхал, раздувая бока. Беспокоили Бакуна не часто — один или два раза за лето. А этим летом никто не трогал его. О коне будто забыли. И вдруг я увидел Глыпу. Скажете, большое дело — встретить Глыпу. Но, во-первых, я заметил его среди бела дня, когда сторож обычно спит. А во-вторых, на плече у него висела уздечка, и поводок мелодично позванивал, стуча по сапогам. А еще — Глыпа шел не один, а с каким-то дядькой, очень похожим на Глыпу. И тут я вспомнил, что к нашему соседу приехал брат и что вместе они строят курятник. Значит, идут за конем. Видно, что братья встретились совсем недавно. Оба веселые, разговорчивые, и как махнет кто рукой, так его и качает. Глыпа что-то рассказывает о зайцах: «А я — трах! А он — ай-яй! А я хвать за уши!» — и Глыпа ухватил куст, да не удержался, сорвался в канаву. Вот была потеха, когда брат поднимал Глыпу на ноги и как Глыпа валил с ног брата. Сапоги у обоих одинаковые — рыжие, заскорузлые, и теми сапожищами они шаркали по берегу, и братьев заносило то в крапиву, то в топкую канаву. Садом, боковой дорожкой, побежал я к речке. Глыпа с братом не видели меня, а я не спускал с них глаз. Побрели дядьки к броду. Вот они уже затопали по камням, и тот, который приехал к Глыпе, споткнулся, взмахнул рукой и… шлепнулся! В штанах, в сапогах сидит дядя на мели, бьет ладонями по воде и причмокивает: «Ух приятно!» Теперь уже Глыпа поднимал на ноги брата, а тот валил его в реку. Кое-как перешли они на другой берег. Наверное, потопали дальше, потому что где-то трещало в кустах, и то тут, то там вздрагивала ветка. Бакун стоял под горой и дремал. Но его разбудил этот шум. Конь поднял голову, неприветливо сверкнул глазом на голубчиков, которые мокрыми вылезли из зарослей и, покачиваясь, брели к нему. На всякий случай конь посторонился, словно говоря: «Идите, люди добрые, своей дорогой, я вам не мешаю». Но руки у братьев были цепкие — с двух сторон схватили они коня за гриву. И потянули к броду. Первым на камень прыгнул Глыпа. Он силой потащил Бакуна за повод, но тот уперся. Наверное, конь не любил, чтоб им помыкали, тем более сейчас, когда надо осторожно через воду ступить на камень, а камень скользкий и к тому же качается. Дернули коня — он даже присел, круто выгнул спину, прищурил слезливые глаза. Страдальческий вид его говорил: «Отпустите, я сам пойду». Только не на тех он напал. — Но-но, скот-тина! — рванул что есть силы Глыпа за повод. — Гавро, поддай ему жару! — Глыпа дернул с такой злостью, будто собирался снести коню голову, а Гавро чесанул по спине хворостиной. — А ну еще д-двинь его сзади! И Гавро изо всех сил поддел коня плечом. Бакун всем своим острым телом подался вперед, ударил копытом по камню и вдруг… и вдруг что-то хрястнуло. Не сразу я мог понять, что произошло. Только увидел: конь лежит распластанный, его нижняя губа отвисла и беспомощно дергается. Немного позже я понял, что Бакун оступился и, поскользнувшись, передней ногой угодил в расщелину. Расщелина была узкая и глубокая, и где-то внизу, между камнями, конь намертво застрял копытом. — Тьфу, глупый! — хлопнул себя по мокрым штанам Глыпа. — Гавро, поднимай его, пусть встает старая кляча. Недолго думая Гавро с размаху хлестнул коня по ребрам, да так, что сразу выступила серая полоса. Тяжело, с болью вздохнул Бакун, дернулся, пополз на коленях. Его не отпускала нога, которая была зажата между камнями. — Гавро, двинь сапогом его! — И Глыпа потянул коня за повод, а Гавро помогал сапогом. Бакун еще раз дернулся, сильно подвернул ногу. Кожа на нем вздулась буграми, казалось, она вот-вот лопнет и старые кости рассыплются. Бакун застонал. Наконец и Глыпа сообразил, что случилась беда. — Вот, к-кляча! — выругался он. — Глянь, куда клешню свою вставил! Едва держась на ногах, стояли братья над расщелиной и пялили глаза на подвернутую ногу лошади. — Ну что? — спросил брат. — Осечка вышла? — А мы сейчас… мы с ходу! — И Глыпа смешно, по-бабьи плюхнулся на камень. Потянулся к коню, двумя руками ухватил за ногу, как тот дед за репку, высунул язык и начал дергать: «Эх, эх! Еще раз!..» Чуть наклонив голову, мутным печальным глазом смотрел Бакун в волосатое ухо Глыпы. — Что, брат? Не идет? — спросил Гавро. — Застряло. — Здесь ему и крышка. Не вылезет. Уселись братья на берегу, обнялись и затянули: «Эх, Дуня, Дуня-я…», но Гавро вдруг оборвал: — Что б-будем делать с клячей? — Надо п-пилу, — сказал Глыпа. — Отпилим ногу — и баста. В-все равно не вырвешь. Заклинило. Я притаился за кустом и слышал их разговор. Слышал, как Глыпа сказал: «Отпилить…» Меня охватила дрожь, волосы стали дыбом, в голове поплыли всякие видения, страшные и нелепые. А что, подумал я, Глыпа все может, он ведь такой… Это о нем ребята рассказывали, как он лодку утопил в пруду. В школе сделали тупоносую лодку, похожую на корыто. Чтобы вместе плавать и купаться. Но эта школьная лодка была для Глыпы как бельмо в глазу. Дескать, зачем им понадобилось это корыто? Для баловства! Чтобы диких уток пугать! Пришел Глыпа ночью с топором — бах-ба-бах! — прорубил дыру в днище и столкнул нашу посудину в водоворот. Как видите, Глыпе не впервой рубить или пилить. Но Бакун… Он лежал, старый, всклокоченный, низко опустил голову, и на его шее мучительно подергивались жилки. Я вскочил, страх подтолкнул меня в спину, и я готов был бежать куда угодно, лишь бы позвать кого-нибудь на помощь. Но меня что-то остановило. Вот! Помогая друг другу, поднимаются братья, куда-то собираются. Говорят, надо идти к бригадиру, разрешение у него взять: может, просто прикончить беззубую клячу (это они про Бакуна), пользы ж никакой, хоть шкура будет. Бросили коня, закурили мокроштанные братья и, пошатываясь, побрели вдоль берега. Пошли в контору. Только скрылись они за кустами, я прыгнул на камень и — к коню. Бакун узнал меня, сухими губами ткнулся в мою щеку и тихонько фыркнул. Морда у него теплая, и серая свалявшаяся шерсть сейчас словно присыпана теплой дорожной пылью. Только глаза влагой светились, и тянулись от них мокрые дорожки. — Бакун, вставай! Вставай, Бакун! — ласково потрепал я коня за гриву. Бакун тряхнул головой, словно собирался встать на ноги, да только вздохнул и бессильно опустил морду. Он был тяжелый, неподвижный. Шерсть на нем линяла, на груди, на суставах выступали буграми окаменевшие мослаки. Я ползал, суетился, не знал, что делать. Потрогал застрявшую ногу и еще больше испугался: вот как зажало! Наверно, в тот момент, когда Глыпы дергали коня, Бакун кидался в разные стороны и загнал ногу еще глубже туда, где сужается расщелина, а копыто — под камень. Теперь попробуй вытащить. Я все-таки рискнул; напрягался и дергал, тащил онемевшую, вроде бы чугунную ногу — напрасно. Костлявая нога не поддавалась. И куда еще дергать — колени у Бакуна и без того разодраны до крови. Что делать? Ну что делать? А время шло, день клонился к вечеру, и в глазах мерещилось: Глыпы… шаркают с пилой… Уже, наверное, где-то поблизости… Не помню, как вынесло меня на гору, как я прибежал домой. Обогнул двор, заглянул во все углы — ни души. Дверь в хату закрыта на палочку, в сарае щебечут ласточки, зияет погреб черной дырой. «Ну, — подумал я, — кого я ищу? Вчерашний день? Мама ведь в поле…» И не переводя дыхания помчался в степь. Дорога еще теплая, ноги утопают в мягкой пыли, с хлопаньем вылетают из-под ног серые облачка. Я бегу рысцой, а мысли — еще быстрее: представляю, как я встречусь с матерью, как расскажу ей обо всем, как мы вдвоем бросимся к реке. «Ну, — опять подумал я, — куда я бегу?.. Где мать? Я ведь не знаю, где она работает…» Повернулся — и обратно, и несусь со всех ног. Грудь сдавило, дышать трудно. Прибежал домой и руками развел: а теперь куда, к кому обратиться? Сироха не поможет: старая. Адам не поможет: не встает. Глыпа… а Глыпа с пилой… и скрежещут кости. Я сорвался, понесся к селу. Что бы там ни было, а кого-нибудь да позову. Солнце низко, оно почти касается земли, на пути к селу ни души, серые от пыли репейники выстроились у дороги, и только одна фигурка вынырнула из степного овражка. Женщина в белом платке. И походка знакомая, медленная и уставшая. Ты смотри, это же мать! И не припомню, как очутился возле матери, как уткнулся в ее теплые шершавые руки и сдуру всхлипнул (то ли набегался, то ли наволновался?) и что-то несвязное бормотал про коня и про Глыпу. Мы стояли вдвоем, никого не было на вечерней дороге; мать приласкала меня, прижала к груди мою голову и пальцами, одними кончиками их (мягко, едва задевая), стала причесывать волосы, гладить шею, немытый затылок и смугленькие, как она выразилась, уши. Потом начала говорить, чтоб я успокоился, все будет хорошо, а «горе с бедою сплывет за водою». Глыпа сегодня не придет, говорила мать, в сельмаг привезли вино, и родненькие братья так зацепились за ящики, что теперь их вряд ли кто поднимет на ноги до самого утра. И еще она сказала: если Бакун попал в беду, то лучше не трогать его, не мучить, лучше оставить одного. Он сам себе поможет. …И этой ночью я летал на Бакуне, падал с горы, и снилось мне какое-то страшилище — оно подкралось к нашей хате и угол топором подрубает. Уже трещит, оседает хата, и вода течет под кровать… Мать разбудила меня, спросила, не перекупался ли я, а если нет, то чтоб спал и не ворочался. А утром выглянул в окно — словно медведи накурили, ничего не видно, туман. Будто марлей задернуло вербы, кусты осоки над рекой, и наш сад, и терновник на том берегу. Я побежал вниз, к реке, и, удивленный, остановился среди луга. Странно: облачко тумана идет, приближается, окутывает тебя с головы до ног, тонкими нитями проходит мимо тебя и через тебя — и не дотронется, не прикоснется, не зацепит волоска. Но чувствуешь: лицо, волосы, рубашка — все от влаги смягчается, и на губах привкус дождевой воды. Я постоял, зачерпнул пригоршнями реденькую пелену тумана и побежал к броду. Там ведь Бакун. Лежит, бедняга, как скованный. И ничего, конечно, не ел. Надо ему хоть травы нарвать. Обошел кусты бузины и вдруг: «Фырр!..» Фыркнуло на меня из-под куста, из тумана. Я вздрогнул, даже присел с перепугу! Сердце чуть не выпорхнуло из груди, как воробей. А из куста — морда… Лошадиная. «Бакун, так это ты?! А, чтоб тебя!» Подскочил к коню, повис у него на шее. А он стоит и словно улыбается, губы у него зеленые, соком травянистым подкрашенные. «Бакун, кто же тебя освободил? Или, может, ты сам? А ну, покажи лапу…» Да, вот я уцепился за гриву, а конь ведь хромой. Одну (это ту, раненую) ногу он держал на весу; я дотронулся до коленной чашечки, и Бакун с болью прижмурил глаза. В самом деле — сильно поранена передняя нога: кожа содрана, копыто разбито, и кровь запеклась под шерстью. Я поговорил с конем, причесал его, из ранок и язвочек повыковыривал грязь, а он удовлетворенно пофыркал, обдавая меня запахом горячей жвачки, и я отпустил его: «Иди, Бакун, пасись…» Высоко вскидывая голову, конь с трудом поскакал в лозняки. Понемногу рассеялся туман, показалось белое солнце, на него можно было сколько угодно смотреть: оно не слепило глаза. Я сидел у брода, на камне, похожем на спину слона, и смотрел вверх: солнце то появляется, то пропадает в серых лохматых тучах. Не знаю, долго ли так сидел, как вдруг услышал: кто-то спускался с горы и громко басил. Я вскочил на ноги. Это шли Глыпы! У одного через руку перекинут брезент, у другого — топор и большой острый нож. Направляясь к броду, братья весело разговаривали, дымили цигарками. Думают, что здесь их дожидается Бакун, зажатый камнями. И вдруг встретились они: Глыпы к реке и конь к реке. Остановились как вкопанные. И уставились глазами: Глыпы — на коня, а конь — на братьев. Бакун оторопело всхрапнул, а потом… а потом я не поверил себе. Старый смирный конь, который только что припадал на ногу, и вдруг… и вдруг как брыкнул, как фыркнул по-молодецки и пошел, правда прихрамывая, но с таким прискоком, что я давно его таким не видел. Где-то там, на другом конце луга, разнеслось его победное ржание. Братья переглянулись, и глаза их широко открылись. — Так что, брат, осечка? — спросил Гавро. — Расклинило, — только и вымолвил Глыпа. И двинулись братья домой. А там, где стояли они, я увидел куст с волчьими ягодами на колючих ветках.ВРАЧ БУСЬКО
В сарае полутемно. Двери низкие, даже крошечного окошка нет, и когда пройдешь в дальний угол, где стоят обгрызенные ясли, — там и вовсе темно. И что-то в яслях попискивает, шуршит в стенах, трещит в трухлявых досках. Сарай будто весь шевелится от беспокойных поселенцев. Я далеко не захожу, присаживаюсь возле дверей и жду. Снаружи падает свет. Солнце то печет мне шею, то уходит. Наверное, небо затягивается облаками. Клонит ко сну. Я терпеливо жду. Вдруг влетает в сарай ласточка. Ныряет под самой притолокой и ни за что не зацепится. Вот умеет нырять! Не один раз я видел, как ласточки играют с Бакуном. Конь пасется на лугу, а они заходят издали, подкрадываются к нему тихо, над самой землей. Низко-низко летят, и вдруг одна из них — шмыг под коня! Промелькнет у него под животом и вверх и озорно защебечет. Одна пролетит, потом две, потом целая стая — сверкает, проносится под конем, едва не касаясь земли, будто дразнят: «Чигик!.. Не поймал?» Конь жует траву, изредка махнет хвостом, спокойно поведет ухом, и нет ему дела до ласточек, до их баловства. Впрочем, иногда и Бакун сдержанно фыркнет, если какая-нибудь ветрогонка прошмыгнет у него перед самым носом. С такой же смелостью влетает ласточка и в дверь. И будто еще с улицы видит, что потолок в сарае подперт столбом, круто обогнет столб, покружит по сараю — и в гнездо. Она и не чирикнула и не шелохнула крылом, влетела тихо, как тень. Но смотрите: словно по сигналу, проснулись птенчики. И тут же: «Чик, чирик, чик!» — защебетали все вместе, их и не видно в гнезде, только серенький пух и широко открытые клювики. Эти желтые горластые рты ловят, просят, умоляют есть! А птенец, который понахальнее, забирается повыше других и уже заглатывает червяка чуть ли не с клювом матери. Вот и попробуй на таких напастись! Улетела ласточка, и птенчики спрятались. Уснули. Как будто их и нет в гнезде. Тихо в сарае. Тихо во дворе. Пасмурно. Я прислонился к косяку, уставил глаза в потолок и от нечего делать стал рассматривать гнездо. Вам приходилось видеть, как ласточка лепит гнездо? Берет на берегу тугие комочки земли, и не простой земли, а влажной, хорошо перемешанной с травянистыми корнями, с волокном. Принесет в клюве этот комочек и очень ловко прилепит его к деревянной балке. Посмотрит со стороны на свою работу и, довольная, защебечет: радуется, что у нее неплохо выходит. А и на самом деле красиво. Сначала будто подкову или серп месяца лепит из земли, потом делает круглую бугорчатую стенку, а дальше рядок за рядком завершает гнездо, похожее на маленькую корзинку. Обсохнет гнездо, станет будто белое, годами висит под потолком — и не разваливается. Часто хотелось мне поставить лестницу, полезть к гнезду и хотя бы краем глаза поглядеть… Только вы слышали? Люди говорят: тронешь пальцем ласточкино гнездо — птица покинет ваш двор. Покинет, и больше не прилетит, и всем ласточкам передаст, чтоб далеко облетали вашу хату. Ну, а если разоришь гнездо… Лучше не делайте этого! Я сам видел: у ласточки на груди красная полоска. Это как спичка. Чиркнет она грудью по соломе, по сухой стрехе, и сразу вспыхнет солома… Дотла хата сгорит… А аисты, мне говорили, когда разрушишь их гнездо, приносят в клювах раскаленные угли. Птицы не прощают злодеям. Потому ни у нас, ни у бабушки Сирохи никогда хата не горела. А у Глыпы, уже при мне, два раза случался пожар, мазанка и сейчас стоит полуобгоревшая, а от сарая одни столбы-головешки остались и щербатое обугленное корыто. Ласточки привыкли к тому, что я сижу на крыльце, и они летают прямо надо мной, а какая и пикирует, будто хочет вырвать волосок из макушки, мелькнет у меня над головой — и в сарай. Хорошо мне сидеть среди легкого шороха, голубых ласточкиных теней и мягкого света, притухающего от туч. Клонит ко сну, и сквозь дремоту слышится: зовет кто-то меня. «О-о-онько!» — доносит ветерок. Встревоженный, вскакиваю, гляжу на дорогу: стоит бабушка Сироха. Маленькая старушка, сгорбленная, лицо черное, в широкой черной юбке. Стоит молчаливая и суровая, дожидается, когда подойду к ней. — Айда со мной, — говорит она строго. — Адам тебя зовет. Я иду следом за бабушкой (а она торопливо семенит), и мне странно и немного боязно: никогда Сироха не звала меня… да еще к Адаму. Что там у них? Идем к овражку, проходим Глыпину хату; тропинка приводит на бабушкин огород, и мы попадаем в синие сумерки, а над нами царство листвы и подсолнухов. Выбрались из огорода — и уже двор Сирохи. Белая маленькая хата, растет под окном развесистая яблоня, ветви выше дымохода, яблоки нависают на соломенную крышу. Своими кронами старое дерево закрыло почти весь двор. И я вижу: белые нары под белой яблоней, и лежит на подушках Адам, блестит зубами, — они у него тоже белые, с просинью. — О-о, капитан Ленд! — взмахом руки салютует Адам. — Рад вас приветствовать!.. Присаживайтесь. Он указывает на расшатанный стульчик и предупреждает: осторожно, кресло доисторическое. Я подсаживаюсь поближе к нему, и мне приятно и как-то неловко оттого, что он так красиво разговаривает со мной. Здесь, под яблоней, свежо и безветренно, сидишь в тени, над головой целая гора дремотной листвы, только кое-где просвечиваются вверху маленькие окошечки, и сквозь них падают солнечные блики на кровать Адама. Адам не скрывает: он рад приходу соседа. Это же тоска зеленая: в жару, в такое приятное время, когда только гуляй, дыши чистым воздухом, загорай на солнце, а тут… мять подушку, продавливать перину, согревать себя горячим питьем. Голос у Адама ослаб, его тонкая и позеленевшая рука бессильно повисает, но сегодня он не такой, каким был даже вчера. Глаза у него ожили, появилось что-то веселое, насмешливое, беспокойное. Бабушка Сироха, сложив на груди руки, с минуту постояла, печально и строго посмотрела на Адама, вздохнула и пошла в хату. И тогда Адам озорно подмигнул мне: — Знаешь, почему позвал? Разведка донесла, что на днях состоялась баталия на берегу. Кое-кто пытался обезножить коня. Мол, раз живем без головы, то конь проживет без ноги. И ты, говорят, был там и все видел и даже, говорят, отличился… «Отличился…» Это уж слишком! Я посмотрел на Адама: не насмехается он надо мной? Нет, взгляд серьезный. Он чуть-чуть повернулся ко мне, передохнул и попросил: — Расскажи, Ленд, как вы оставили Глыпу в дураках. Я покачался на стульчике, поскрипел им и подумал: а чего рассказывать? Как я бегал с перепугу то в степь, то домой, будто кто-то за мной гонялся! Вот и все мое геройство. А Бакун… — это другое дело. Лошадь что надо! — Э, нет! — погрозил пальцем Адам, поправив подушку, чтоб она лежала повыше. — Я тебя так просто не отпущу. Вот если мы на реку пойдем, тогда уже будет нам не до разговоров — одна работа. Я такое придумал, увидишь!.. А сейчас, дорогой Ленд, представь себе, что мы находимся с тобой в кают-компании. Каждый из нас расскажет по одной истории — согласен?.. А так как ты младше меня, тебе придется начинать первому. — Адам взял меня за руку, видно, заметил, что я немного упираюсь, и уже как-то просто, с мягкой улыбкой закончил: — Лень, серьезно, расскажи что-нибудь… Про Бакуна или про свою речку. Ты же знаешь… Солнце уже опускалось, и желто-зеленые тени ложились на грудь и на лицо Адама. Да, он и сейчас просвечивался. Над подушкой выступал острый подбородок, торчал тонкий и острый нос, они просвечивались, словно были вылеплены из воска. Адам часто облизывал языком воспаленные губы, дышал тяжело, с хрипом. И стало у меня щекотать в горле, щекотать в глазах; я согнулся, опустил голову к земле и про себя подумал: целыми днями лежит Адам один, и никто ему, кроме бабушки Сирохи, слова доброго не скажет. — Ну хорошо, Адам. — Для начала я шмыгнул носом. — Однажды мы поехали… Только это было на самом деле. — А мы и договорились — без вранья, — бросил Адам. Я устроился поудобнее на стульчике и посмотрел на Адама. Он, сложив руки на белом покрывале, приготовился слушать. Я начал: — Как-то мы поехали, а перед тем я заболел коклюшем или еще какой-то болезнью. Тогда мать взяла бричку, на которой бригадир катался, теперь у него мотоцикл, «ИЖ» называется, хороший мотоцикл, с коляской… — Тогда мать взяла бричку, — напомнил Адам. — Ага, взяла бричку, запрягла Бакуна, а меня в пальто и кожух укутала, как деда старого, потому что мороз крепкий был, и повезла в Загатное, к врачу. А дело к вечеру было, вот. Постучали мы в дверь, вышла тетка с ведром и тряпкой в руке и дорогу нам преградила. «Здрасте! — кланяется нам. — Вы б еще посреди ночи пожаловали! Был прием и давно закончился». И хлопнула дверью. Переночевали мы у добрых людей, а наутро еще раз постучали. И снова та же тетка. «Здрасте! — говорит нам. — Опять вы? Приема нет и не будет. Сидор Петрович на совещании». Тогда мама на ухо тетке что-то сказала, а та едва на ногах удержалась… Повернули мы бричку назад и домой покатили… Прервал я свой рассказ, а сам посмотрел на Адама: слушает ли он меня? Он лежал тихо, в уголках его губ, слегка приоткрытых, застыла легкая печальная улыбка… Я еще немного помолчал. Думаю: интересно ли ему? — А дальше что? — не вытерпел Адам. — Ты ведь про коня обещал… — Да, забыл совсем! — спохватился я. — Видите, хотел про Бакуна рассказать, да сбился. Такое со мной бывает. Значит, как же оно?.. Ага! Вы гостевали в Загатном? Нет? Жаль! Река там не такая, как у нас — лягушке по колено, а широкая, с песчаным дном, раков там много, кишат, руками можно вытаскивать. И брод каменистый, едешь — бричку покачивает. А была осень, ветер холодный, аж в спину режет. И мать решила через брод ехать, так быстрее. Подкатили на бричке, глянь — замерзла река. Вчера еще бурлила вода между камнями, а сейчас — льдом покрылась. Остановилась мать и задумалась: «Что же делать? Ехать на мостик — это пять с лишним километров…» Пока она так раздумывала, вылез я тихонько из-под кожуха — да на лед. А лед как стекло, молодой, ясенцем называется. Скользнешь — и несет тебя, не остановишься. За мной и мать подошла ко льду. Встала, покачалась — лед трещит, прогибается, но не проваливается. А конь?.. Копыта у него острые. «Если Бакун провалится, — рассуждает вслух мать, — ноги порежет. А если и не провалится, то все равно не пойдет по льду — не подкованный». Бакун (вот коняга, чтоб вы знали!) словно почувствовал, о чем печалится мать. Подошел к реке, фыркнул, понюхал лед. Смотрю: что он делает? Стал на колени. Ноги подогнул, как полозья, и давай елозить по льду, нам, несмышленым, подсказывает: дескать, подталкивайте меня! Мать даже руками всплеснула: «Вот чудо! Ну-ка, Леня, берись за колеса!» Взялись мы с двух сторон, подталкиваем бричку, и конь скользит на коленях, едет по гладкому льду. Лед прогибается, похрустывает, но ничего. Только подъехали к берегу — гоп, рванулся Бакун, вскочил на ноги и уже на земле… А коклюша у меня и не было, просто я на катке простудился, — прибавил я к своему рассказу, чтоб не очень переживал Адам. — Приехали домой, мать попарила меня над горячей картошкой, и болезнь как рукой сняло. — Любопытная история, — сказал Адам. — А про Бакуна просто замечательно… Только вот я понять не могу, кто сильнее — Бакун, который на коленях лед осилил, или тетка, которая хлопала дверями: «Нет приема!» Как ты считаешь, Ленд? — спросил он у меня. — По-моему, — сморщил я лоб, засопел, закачался на стуле: мудреную задачу задал Адам, — по-моему… А яблок у вас густо, и почти созрели, уже бочки красные. Можно испробовать вон то, что упало? — Испробуй! Я подкатил ногой паданец, подкинул его носком, поймал на лету — и в рот. Откусил. Уммм!.. Зеленое, кислющее яблоко, слюна потекла, и Москва, как говорят, в глазах показалась. Адам и не пробовал яблоко, а, глядя на меня, тоже скривился. И, кажется, слегка улыбнулся. — Хитрый ты человек! — говорит он мне. Повернулся на бок, взбил подушку, по-видимому говорить собрался. — А теперь слушай мою историю. И поскольку мы заговорили о медицине, то расскажу тебе, Леня, о настоящем враче Буське… Ну вот, — изменил он голос и безнадежно вздохнул, — вот и мой Айболит. Из хаты вышла бабушка Сироха. Она несла блюдце, стакан воды и какие-то порошки. — Уже пора? — умоляюще посмотрел на нее Адам. — Да. Пей! — сказала Сироха. — Бабушка Лиза! Я столько выпил этой гадости… — Пей! Через каждые два часа надо принимать. Так она, докторша, велела. — Ладно, давайте. — Адам проглотил лекарство, и от порошков губы его, кажется, еще больше побелели. Ушла бабушка Лиза, а потревоженный Адам повернулся и лег. Он был бледный, похож на мертвеца. Его реденький прилизанный чуб весь вспотел. На лице выступили желтые пятна. Полежал Адам и как будто даже задремал, потом встряхнул с лица нездоровую сонливость и повернулся ко мне. — Итак, история о Буське, — продолжал он не торопясь, раздумчиво, как и начал. — Я человек счастливый. У меня две бабушки. Одна в степи живет, другая — на Полесье. А Полесье, дорогой Леня, это царство грибов и русалок. Какие там чащи, озера, какие речушки, если бы ты видел! И водятся там белые аисты. Была пара аистов и у бабушки Груни. Аиста звали Бусько, аистиху — Бусиха. Ранней весной возвращались они с чужбины и кружились над нашим селом. Бабушка Груня выходила из хаты, махала им косынкой. А птицы кружились и все ниже и ниже спускались к ней. Упросит бабушка ребят, чтобы затащили они на крышу колесо. И на то колесо садятся аисты и вьют себе гнездо. Помню, как-то была холодная весна, ночью задула вьюга. Вышла бабушка во двор — по колено мокрого снега, и лежат в снегу Бусько и Бусиха, крылья распущены, уже и головы не подымут. «Бедные вы мои!» — засуетилась бабушка Груня, внесла их в хату, натопила печь, накормила, напоила чаем с травами. Выздоровели Бусько и Бусиха, еще больше полюбили бабушку. Гнездо устраивали они высокое и роскошное. И по очереди сторожили его. Помню: уже стемнело, небо звездное, светлое, а в гнезде аист стоит, словно его кто нарочно углем нарисовал. Замер на одной ноге, клюв свой задрал, и кажется — на Буськином клюве луна повисла. Любила перед сном бабушка Груня поговорить с аистами. Встанет посреди двора и спрашивает: «Как там, Бусько, не обещаешь на завтра дождь?» «Курлы-курлы», — стучит клювом Бусько. «Оно и так видно, — говорит бабушка. — Звезды чистые, трава сухая, будет жара. А я взяла рассаду, капусту хотела посадить на огороде, да и не знаю, что теперь делать…» «Курлы-курлы», — говорит Бусько. «Ну разве что так», — вздыхает бабушка и уходит в хату. Каждую осень провожала бабушка аистов в дорогу. Выходила за ворота, махала косынкой и наказывала: «Смотрите, вместе держитесь. Если туча — поднимайтесь повыше, если молния с громом — опускайтесь вниз». А однажды осенью не вышла бабушка на проводы. Уже собрались аисты со всех окрестностей, совершили прощальный круг над лесами и озерами и стая за стаей потянулись в теплые край. А бабушкины птицы остались. Все кружились они над селом, тревожно курлыкали — нет, не выходит бабушка. Тогда опустился Бусько во двор, видит: дверь в хату приоткрыта. Зашел он в хату. Блеснул карим глазом, посмотрел на нары. Вон оно что! Лежит бабушка, серая от слабости. Слова не может произнести. «Курлы-курлы», — сказал ей Бусько и куда-то заторопился. Только ушел и вскоре вернулся. Подбежал к бабушке и протягивает ей в клюве… лягушку. Свеженькую. Из болота. «Ох ты, мой дохтор… — запричитала бабушка, растроганная заботой Буська. — Значит, хочешь подлечить меня, и зелье свое принес… Придется подняться и проводить вас, вы ж без бабки и не улетите». Охая, поднялась бабушка на ноги и проводила аистов. А вскоре и преставилась. Диву давались люди: весной высоко в небе изо дня в день кружилась пара аистов и никуда не хотела садиться. А потом все-таки уселась — на чахлой сосне за селом, на ту сосну, которая ближе всех стоит к погосту, где лежит бабушка со своими сынами. Адам закончил свой рассказ. Наверное, устал, руку подложил под голову и, кажется, снова задремал. Он лежал бледный и молчаливый. Мне как-то зябко, неуютно стало от страха: «Жив ли Адам?» Посмотришь — ровное покрывало, нигде не горбится, словно и нет человека в постели, только торчат подбородок да острый нос. А где-то там, за кроватью, на подставленном стульчике Адамовы ноги, синие и неподвижные. Медленно открыл Адам сонные глаза, отыскал меня и хотел было немножко улыбнуться. Да только слегка шевельнул губами. — Что, Ленд? — спросил он как-то виновато. — Грустная история? — Про Буська? — Да. — Нет, что вы, очень интересная! Только я не пойму: а где же аистята? Были же у Буська дети? — Были. Да разлетелись. Каждая семья ищет себе новое пристанище. — А к нам в степь они прилетают? — Редко. Аисты любят воду, леса, широкие плавни… — А вы туда поедете?.. Ну, где бабушка Груня жила? — Кто знает. Может, случится чудо — поеду. — Вот если бы мне двоих… таких маленьких. А колесо я бы нашел. — Хитрый ты человек! — сказал Адам и все-таки улыбнулся. Только мы разговорились, как снова вышла из хаты бабушка Сироха, и опять в руках у нее то же самое блюдечко, стакан воды и лекарство. — Бабушка Лиза! — словно ребенок взмолился Адам. — Я думал, убегу в степь от уколов, от порошков, от медицины… Как мне они осточертели… — Пей, — сказала бабушка, но руки у нее задрожали, полилась вода из стакана, и я увидел: у бабушки слезы застлали глаза. Она глотает сухим сморщенным ртом те непрошеные слезы и, всхлипывая, говорит: — Разве я хочу, сынок, мучить тебя? Ведь я все думаю: может, оно поможет, может, ты выздоровеешь, встанешь на ноги, поправишься, а то, как свеча, таешь у меня на глазах. И что за глупая жизнь: это и мои сыночки были бы уже такие, жили бы себе да радовались, как у всех людей, так нет, обоих прибрало… — Бабушка Лиза… — Голос у Адама дрогнул. — Не сердитесь на меня. Я дубина. Я болван. Извините. Больше не буду мучить вас. Давайте сюда лекарства. Поковыляла бабушка в хату, а я долго сидел согнувшись, точно что-то тяжелое давило мне на плечи, до боли сдавливало грудь. Если разобраться, то, наверное, и я виноват; и не наверное, а точно так. Потащил Адама в воду, да еще и радовался, глупый: ах, какая плотина, ах, какая мельничка! А человеку эти игрушки боком выходят. — Больше на реку не пойдем, — пробормотал я нахмурившись. Выпил Адам лекарства и снова присмирел, желтые пятна густо покрыли лицо. На мои слова он ответил не сразу, помолчал, выдохнул тяжелое удушье и только потом сказал: — Пойдем, Леня, на реку. Потому что ни река, ни ты, мой друг, нисколечко не виноваты. Дело куда сложнее. Как бы тебе объяснить?.. Ну, скажем, ты вышел на лодке в море, уплыл далеко, и вдруг твоя лодка стала протекать. Что ты будешь делать? Сложишь руки и смирненько будешь ждать, пока вода зальет лодку? Или будешь грести? Правда, ты будешь грести, нажимать на весла, пока силы есть, пока ты жив. Так и я, Леня. Давно, еще в институте, прохудилась моя лодка. А я все гребу. На дно иду, а все равно гребу. Чтоб до последнего вздоха жить; жить, как ты, как все нормальные люди. Понятно, капитан? Не вешай нос — пойдем с тобой на реку и построим настоящую плотинку, из кирпича. И мельничку такую поставим, что ты и в школу пойдешь, а она тебе будет лопотать. Вот только чуть-чуть поднимусь — и двинем… У порога стояла бабушка Сироха, она вышла накрыть Адама, и вот остановилась, молча, с тревожным напряжением слушала его, и на сухом бабушкином лице, казалось, застыл скорбный упрек: «О чем ты говоришь, Адам? Куда ты пойдешь такой хворый, если тебя в хату надо переводить, как малое дитя?..»ЗА ПАУТИНКОЙ
Сегодня она не такая, как всегда. Смотрите: плывет… сюда поворачивает и уже издали машет рукой. Аккуратно причесанная, она сидит на борту, и длинные волосы ее касаются мягкой воды. Весело бежит челнок. — Доброе утро! — говорит она мне. — Здравствуй, Нина!.. Осторожно, коряга там. Она обогнула подводный камень, где неглубокое течение, и подошла к обрыву, к моему ущелью. «Ух ты!» — вздрогнул я, потому что подкинуло ее челнок и понесло между камнями. Нина пригнулась, налегла на весло, резко поставила его торчмя. И челнок остановился, замер у скалы. — Ты молодчина, — сказал я, заглядывая в узкий пролив. — Думал, разобьешься о скалу… Давай цепочку, привяжу твой челн… А знаешь, Нина, — тараторил я без конца, радуясь, что она приехала, — вот здесь, как раз на этом месте, застрял было конь. — Знаю, — ответила Нина. — Вот здесь. Острый камень ему врезался в ногу, и я смазала ранку йодом, а камень веслом отколола. — Так это ты? — вытаращил я глаза и даже подумал: «Не послышалось ли это мне?» — Ты Бакуна спасла? Нина как будто и не слыхала моего возгласа. «Трам… трам…» — замурлыкала «еньку» и захлопала ладонями по коленкам. Я и забыл, что она не любит о себе рассказывать. И начал осторожно расспрашивать: — А ночью и не ви-и-идно, — сказал я нараспев. — И видно. У меня есть фонарик. — А где же тот фонарик? — А вот он, — и протянула мне большой белый гриб. — Это же гриб! — Ну и что? А ночью он светится. Я лег, оттопырил на себе рубаху — сделал темный шатер. Сунул туда гриб и посмотрел одним глазом: точно… светится гриб… синим холодным огнем. От этого света под рубахой наступили синие сумерки и получилась маленькая ночь — вроде бы небо, земля и луна. — Знаешь, Нина, — вскочил я на ноги, — возьми свой фонарик, и пойдем к глинистым карьерам. — А там что? — А там нора. Целая пещера. Глубокая-преглубокая. Даже страшно. Пойдем? Я подал ей руку. Из челна она спрыгнула на берег, сняла свои белые туфельки. Оказалось, что ростом она почти вровень со мной, как раз до чуба мне, разве что немного щуплая и незагорелая, как Адам. До этого Нина сидела только в челне. А сейчас вдруг встала на камень и опустила почему-то глаза. «Не бойся. Пойдем!» — хотелось сказать ей. Я повел ее через брод, через лозняки — на другой берег речушки. Дорожка взяла круто вверх. Земля под ногами сухая, красноватая, и нам частенько попадались разноцветные кремневые камушки. Нина запрыгала, захлопала в ладоши: ах, какие красивые! Сказано, девчонка есть девчонка. Показал я Нине самые лучшие камушки: есть острые, есть плоские, есть похожие на старинные ножи. А какого они цвета! Видишь: и салатового, и зеленого, и багряно-красного. А как высекают искры! У меня дома целая шапка кремневых камушков. Могу поменять на фонарик. А хочешь — и так дам. Навсегда. Разговаривая, мы пошагали дальше, по крутому косогору. Уже по всему видно, что скоро приблизимся к глиняным ямам — дорожки тут и там усыпаны белой глиной. А вот и крутой обрыв, почти отвесная рыжеватая стена, изрытая дождями, а под стеной — норы. Это входы в карьер. Мы остановились возле первой норы. Ну представьте себе: круглая дыра, надо лезть словно в погребок, кто-то даже выкопал ровные земляные ступеньки. Только вот темно. И холодом несет… — Полезли? — предложил я неуверенно. Вид, наверное, у меня был скучный, потому что Нина так улыбнулась, как улыбаются взрослые, с умилением глядя на ребячьи веснушки. И я, будь что будет, вдохнув побольше воздуха, съехал вниз, на верхнюю ступеньку. Нина за мной. Она подняла свой грибок, и мы, взявшись за руки, полезли туда, под землю. Нора, выдолбленная лопатами, была крутой и скользкой; осторожно я передвигал ногу, сначала одну, потом другую. Что-то липкое цеплялось за голову. Я шел согнувшись и чувствовал, как Нина дышит мне в затылок. — Не страшно? — спросил я. — Не… А далеко еще? — Далеко. Кто знает, боится ли она или только мне жутковато? Потому что прямо над нами висит целая гора земли, и ходят там тракторы, и слоняются дядьки с лопатами. И уже не видно того узенького выхода. Разве до него доберешься? Волей-неволей слышится: дрожит земля, потрескивает… вот-вот потечет за шею узенький песчаный ручеек; а потом грохот, обвал… У нас от страха захватило дыхание, теперь мы разговариваем только шепотом. — Нина, — говорю я, — повыше фонарик подними, а то темно. — Может, вернемся обратно? — Ничего, уже скоро. Спускаемся ниже, и проход становится все мрачнее и морозцем щиплет за ноги. Вдруг я поскользнулся, шлепнулся в темноту, в мокрую зияющую пропасть. Ой! Что-то упало на меня, придавило сверху. И светит мне в самое ухо. — Нина, это ты? Мы испугались, но тут же рассмеялись. Встала Нина, подняла вверх фонарик. — Смотри! — сказала она зачарованно. — Какая здесь красота!.. Мыбыли уже внутри карьера, в белой пещере. Нет, вы видели белую пещеру? Из белой, чистой глины? Видели, чтобы и пол, и стены, и потолок — все было будто подсиненное и все чтоб горело удивительно ровным морозным огнем? Смотрела Нина на это белое сияние, и лицо у нее похорошело от удивления, а на щеках обозначились глубокие вишневые ямочки. В тех ямочках, казалось, светился мед. У меня даже сладко во рту стало, я сложил язык желобком и кончиком языка лизнул щеку. — Ой! — вскрикнула Нина. — Ты чего пугаешь? Она вытерла рукой щеку, подняла еще выше фонарик и подошла к стене: в белой холодной глине, изрубленной лопатами, мерцали разноцветные камушки, блестели красные жилки. А из тех жилок выступала вода и холодными каплями падала под ноги. Казалось, капли сразу же замерзали, и в пещере звонко раздавалось эхо от каждого удара. Я продрог, приблизился к Нине, и мы шепотом, друг другу на ухо заговорили: — Нина, у тебя глаза светятся. — И у тебя. — У тебя нос холодный. — И у тебя. — У тебя губы дрожат. — И у тебя. — Давай отсюда убежим. — Давай! Как только пустились мы наутек, задрожала, заговорила вся пещера. Мы карабкались вверх, толкая друг друга, визжали не то от страха, не то от смеха, трудно сказать. И вот наконец снова на горе… Сколько здесь солнца, тепла, запахов! Как хорошо наверху! Постояли вдвоем, согрелись, надышались вдоволь. — Давай в камушки поиграем, — предложила вдруг Нина. — Давай, — согласился я, а про себя подумал: «Может, не надо… Девичья игра — камушки. И никогда у меня дальше „перевоза“ не шло, я видел только, как другие играли». — Чур-чура, я первая! — крикнула Нина и быстро насобирала хороших, обточенных камушков. — Как раз ровно пять! Она уселась на землю, одернула платьице, а потом с каким-то таинственным видом стала дуть в руку, по-своему на ладони разложила камушки. — Играю в «наседку», — объявила она. И не заметил я, как Нина подбросила камушки. Подбросила, сверкнула ладошкой и — хвать! — поймала их на «спинку» руки. Камушки стукнулись в воздухе, кучкой упали на руку и как будто замерли — ни один не скатился на землю. Она еще раз подбросила — и снова камушки на ладошке. Здорово! — И я когда-то играл в «наседку» — один или два камушка ловил. А это означает: будешь дальше играть с тем одним или двумя камушками, которые насобирала «наседка». А ничего не поймаешь — все, иди, братец, гуляй! — Теперь «перевоз», — сказала Нина. Высыпала свое добро на землю и начала «перевоз», потом «карусель». Быстро, высоко подбрасывала она камушки, то по одному, то по два, а то и по три, и пока они пролетали перед самым носом у Нины, она хватала с земли новый камушек, успевала подбросить и его, и даже умудрялась при этом ударить в ладоши, а то и обернуться на пятках и на лету поймать камушки, не уронив ни одного на землю. Я только хлопал глазами, глядя, как мелькают ее косички, бегают глаза, сверкают на солнце колени, как шевелит она ртом, словно помогает и губами ловить мелькающие перед собой чудо-камушки. — Все! — со вздохом произнесла Нина и языком слизнула капельки пота, которые повисли на кончике ее носа, потом устало опустилась на землю. А у самой щеки горят и в глазах озорные огоньки! Ну конечно, рада-радехонька! А мне что делать? Как мне, бедняге, спасаться? Если бы это на пруду было, да если бы мы затеяли «дед бабу везет», тогда бы я так запустил камушек, что он триста раз на воде подскочил бы. Правду говорю: если не триста, то раз семь или восемь. А что здесь… — Слушай, Нина, — предлагаю я, — может, пойдем на Хиврю? — Ты чего, испугался? Не хочешь играть? — Не испугался, — говорю. — А на Хиврю опоздаем. — А что там на Хивре? — Ну-у! Такого ты сроду не видела. Айда скорее! Хивря — это наша гора; крутой стороной она обращена к солнцу. Здесь, на самом солнцепеке, трава выгорает, земля дымится и от сухой полыни в глазах горько. Мы взбираемся на гору, ближе к небу, отсюда видно степь, бугристую насыпь дороги и телеграфные столбы, что стоят в степи, как оловянные солдатики. — Садись, — предложил я Нине и похлопал ладонью по горячей земле. Мы уселись так, чтоб Нина видела меня, а я видел ее. — Угадай, кто здесь живет? — Я показал ей замаскированную в траве маленькую норку. В ту норку разве что палец мог пролезть. Однако как она хорошо сделана: отверстие круглое, стены гладенькие, очень тонко выложена ватой. Даром что в земле — норка чистая и светлая. — Здесь живет паук-крестовик, — сказала Нина. — Правильно. Сейчас мы поговорим с ним. Я вытащил свои припасы — капроновую нитку и немного смолы. Смолу помял в ладони, подышал на нее, чтоб мягче была, и вылепил «язычок». Потом прилепил к нему нитку и тихо, осторожно опустил «язычок» в нору. — Подергай, — предложил я Нине. — Только не очень дергай, а так, слегка. — И я показал, как надо дразнить паука. И заодно приврал, что если его подразнить, то он начинает сердиться и высвистывать. — Ну что? — спрашиваю. С таинственным видом склонилась Нина над норкой. Одной рукой водит нитку, другой рукой, пальцем грозит мне: — Тс-с!.. Дергает… Хватает за нитку! — Как дернет посильней — тащи! Так и случилось: Нина рванулась назад, нитка за нею, и вылетел паук из норы, как рак за наживкой. Серый крестообразный паук, который вцепился клещами в смолу. Он качался на нитке, как раз перед самым носом у Нины, перебирал волосатыми лапами, молил о пощаде. Не была бы она девчонка, если бы не подскочила, не бросила паука, не запищала, не хлопнула меня по шее: — Ах ты врун!.. Испугал меня! Пока мы толкали друг друга и визжали, паук вытащил лапы из смолы и юркнул в свою норку. — Интересно, как они прядут нитку? — спросила Нина. — Кто они? — Да пауки. — По-моему… Гм!.. По-моему, ловят пушинки и из пушинок прядут. И нитки прядут, и сетки для мух, и вату делают для паучков… А тебе зачем? — Да так. Вот посмотри, какая тоненькая ниточка. — И Нина провела пальцем в воздухе. Между одним и другим стебельком травы повисла паутинка. Она светилась на солнце. Гнущиеся стебли туго натягивали ее, как струну. И паутина тихо, баюкающе позванивала. — Это, наверное, антенна, — догадался я. — Пауково радио. — Давай послушаем, о чем оно говорит. — Давай. Я приложил ухо, послушал и сказал: — «Ни-и-ин-на… Ни-ина…» — передает. Нина приложила ухо, послушала и сказала: — «Ле-он-ня… Ле-оня…» — передает. Я снова приложил ухо и сказал: — «Вру… вру… врунишка ты, Нина…» — передает. — «Нет, это ты врунишка…» — вот что передает. Теперь мы уже вдвоем приложили уши, стукнулись лбами, и паутинка — треск! — оборвалась. — Вот жалость! — сказала Нина. — Жаль! — вздохнул я. Не сговариваясь, мы поднялись с земли и пошли за паутиной. Она парила в воздухе, извивалась, как струна: она была живая и озорная и куда-то летела в степь, а мы спешили за ней. — Смотри, она убегает от ласточки. — Смотри, она поворачивает на дорогу. И мы идем за паутинкой, выбираемся на старую дорогу и дальше собираемся шагать; если нужно будет, то пойдем в белый город, где белые дома, белые киоски, белые ремни у милиционеров. И мы пошли бы в тот город, но ветер качнул паутинку, поднял в небо, выше телеграфных проводов, выше ласточек, туда, к мягким пышным облакам. Исчезла паутинка, растаяла. А на земле остались столбы с белыми чашками, а между ними — туго натянутые провода, которые, по-видимому, тоже звенят. Я приложил ухо к черному столбу: гуд-гуд-гуд… — гудел, дрожал встревоженный столб; напряженный стон его шел из-под земли, бежал по дереву и дальше несся куда-то по проводам. — Эй, — сказал я столбам, — о чем вы там гуд-гуд-гудите? — Гу-ду-ду… — ответил столб. — О чем, о чем? — Ду-ду-ду… — повторил столб. — Эх! — махнул я рукой. — С вами, столбами, разве поговоришь? «Бу-бу-бу, ду-ду-ду…» — и ничего больше… Айда, Нина, домой, а то далеко забрались. И в самом деле далеко, я только сейчас заметил. Мы стояли на самой вершине горы, вокруг неба, а там, внизу, маленькая хата, такая маленькая и белая, величиной с грибок; и не видно ни окон, ни дверей, только темные точечки. И стоит во дворе восклицательный знак и машет мне комариной лапкой. Фьюить!.. Наверное, Леньку хватились и теперь зовут его, а Леньку как ветром сдуло. — Бежим, Нина! — Бежим. — Давай наперегонки. — Давай. Несешься с горы, и тебе кажется, что ты на Бакуне, верхом, летишь через кусты, через канавы; зеленые копны верб мчатся тебе навстречу, и лицо обдувает речная прохлада. А вот уже и брод! — Нина, ты приедешь завтра? — Не знаю. — Приезжай. Видишь, я ведь здесь один. — Хорошо. Если с Адамом ничего не случится — приеду. — Ну до свидания, Нина. — До свидания. — Это с кем ты, Леня, разговариваешь? С трудом приподымаю тяжелую от солнца голову. На груди, на локтях у меня сложные узоры, видно, что долго лежал на шероховатом камне. Каждый бугорочек, каждая ямка отпечаталась на теле. От солнца, от лежания в глазах мутно, и не сразу сообразил я, кто это меня спрашивает. А-а, мама пришла. Стоит с ведром, с охапкой белья. Будет полоскать в реке. — С кем ты разговариваешь, Леня? — снова спрашивает мать. — Ни с кем. Лежу один. А с кем мне разговаривать, если на нашей улице нет мальчишек. — Бедный парень, — с грустью произнесла мать. — Целый день лежит, жарится на камне, даже не с кем поиграть. Мам, не печалься, не надо. Хотя и лежал я здесь один, хоть никуда не ходил, но уже побывал в белой пещере, поймал паука, погулял по степи — одним словом, набегался вволю, вдосталь наговорился.ВСЕ УПЛЫВАЕТ
Вы слышали, как надвигается ровный и тихий дождь? Обычно сидишь в хате, мать открывает окно, и со двора тянет свежестью, а ты сидишь и слушаешь… Где-то далеко, в неизвестном мире, зарождается шум… И это еще не шум, а шепот земли, шорох сухой травы, шелест осенних листьев. Ты напряженно вслушиваешься: может, просто после сна у тебя шумит в голове? Нет, вот по саду бредет неторопливый шум, подходит к окну и стучится в стену — ровно, густо, успокаивающе, и оттого пахнет в воздухе летним дождем, веет тихими снами. Слипаются глаза, и тебя окутывает теплый покой, полусонное таинство. Ты сидишь убаюканный, а слух, однако, острый, напряженный — и ты слышишь, как скрипит, набухая, мокрое дерево. Умолкло под окнами бормотание, отошли за хату шорохи, и прикоснулось что-то к моим плечам. Вздрогнул, посмотрел я в окно: дождь уже перестал. И солнца нет, где-то за облаками. А небо, дымчато-серое, просвечивает, оно слегка окрасилось заоблачным огнем и потому рассеивает мягкие кремовые блики. От этого света на мокрых ветках блестят капли дождя. С дремотного поля потянуло ветерком, забарабанили капли, падающие с листьев на землю. Ветерок усилился; как видно, он еще не долетел сюда, а только набирал в степи разбег. И там, вдали, что-то начиналось. Не знаю, убегал кто-то или кто-то кого-то догонял. Случился переполох, это было ясно, и переполох большой. Низко, почти у самой земли, катились, прыгали быстрые чудо-беглецы. Серые, косматые, они прыгали по канавам, останавливались, чтобы только дух перевести, и снова припускали с еще большей силой. Гнались за ними такие косматые клубки. Вместе бежали они по полю, целой отарой, бежали к селу и прятались испуганно в садах, в кустах, в канаве. Что это такое? Зайцы? Волки? Оторвался один клубок и боком, как подстреленный, подкатился к нам. Резкими, заячьими прыжками вскочил он в наш двор и спрятался в солому, замер. Я выбежал из хаты и скорее к нему. Вот кто прибежал к нам — курай. Забился в гнездо, под солому, сидит. И до сих пор трясется от дождя. Такие-то зайцы. Ветер гнал с поля мокрый курай. Мне стало грустно. Еще вчера бежали мы точно так же, как это перекати-поле. И нас хлестал ветер, гнал по огородам. Собирались, сбегались люди к бабушке Сирохе. А во дворе стояла машина, толпился народ, и мужчины бережно устанавливали гроб. Гроб был длинный и выступал из машины. Когда его наклоняли, я видел Адама: он лежал суровый и строго смотрел в небо. Заостренное лицо его светилось мертвенно-бледным огнем. Он умер потому, что нечем было дышать, говорить, смеяться. Все живое сгорело в нем до капли. И теперь шел от него запах земли, и сам он направлялся туда, откуда уже не возвращаются. Над гробом навзрыд плакала ослепшая от слез незнакомая женщина, голосила бабушка Сироха, всхлипывали и наши матери; а у меня, когда ударяли в медные тарелки, сотрясалось все в душе и к горлу подступал горький комок. Похоронили Адама за селом. Там растет старая костлявая береза. Не знаю, гнездятся ли аисты на березах. Думаю, что гнездятся. Они любят добрых людей. Тех, которые лечат птиц травами или строят для нас поющие мельнички.— Нина, — наконец откликнулся я, — у тебя челнок протекает. Видишь? — Протекает, — кивнула она. Я заметил, что у Нины воспалены глаза, теперь она молчала, как никогда. Мы сидели час, другой и не в силах были произнести слова. Нина смотрела на воду, легонько шевелил ветер черную ленту в ее волосах. Не стало Адама. И о чем нам было говорить? День стоял пасмурный: то набегали легкие пугливые тени, то мчались прочь; заметно начинали желтеть верхушки деревьев, и в холодной прозрачной воде отражались багряные краски осени. Несколько пожелтевших листьев прилипло к веслу. Я посмотрел еще раз внимательно на челн и только сейчас увидел: челн накренило на правый бок. Хорошие, некогда светлые березовые лубки теперь почернели (ими были обшиты борта челна), кое-где покоробились доски, и сквозь них сочилась вода. Много воды набежало, корму даже затопило; давно намокли Нинины ноги, белые туфли залила вода. — Слушай, Нина, он уже никуда не годится, твой челн. — Ну что же, так тому и быть. — Не понимаю: как? — Без челна. Я не мог себе представить Нину без кораблика. На чем же она приплывет сюда? Для меня она всегда будет плыть: из-за туч на землю, тихими лугами к реке, а по реке — к нашему заливу. — Нина, я сделаю тебе челн. — А ты умеешь? — Она посмотрела на меня, и какая-то горькая улыбка коснулась ее губ. — Попробую. — А из чего ты сделаешь? В самом деле, из чего? Сел я и задумался. Выдолбить челн из колоды не по силам, да и не годится он: река у нас мелкая. Это я только представляю себе, что у меня морской пролив, а на самом деле вот здесь, между камнями, где некогда застрял Бакун, даже для моей ноги тесно. Если бы найти что-нибудь легкое и плавающее, чтоб и не трудно было строгать, чтоб и на воде держалось, чтоб и челнок хороший вышел. И вдруг я вспомнил: есть! В посылке! Вчера приходила к нам бабушка Сироха. Остановилась под березой, осунувшаяся и почерневшая, и жестом позвала меня: — Иди сюда! Как всегда, она быстро шагала, шла не оглядываясь и потому выглядела еще более скорбной и сгорбленной. Когда я вошел к ней в хату, там еще пахло, ну как вам сказать, — свечками, воском, пахло смертью. Да и у бабушки на щеках появились глубокие и темные ямы, такие же ямы обозначились и под глазами; мне даже страшно стало смотреть на нее. Казалось, она собиралась уходить вслед за Адамом. — Вот, — хмуро произнесла бабушка. — Ему посылка пришла… Сегодня. — И от этого «сегодня» (а он уже три дня, как в земле, уже не получит Адам ни письма, ни посылки, ни росинки с неба) у бабушки задергались щеки, она торопливо сунула мне в руки фанерный ящик и сказала: — Бери! Наверное, для тебя старался… Не сразу понял я, кто же постарался для меня, взял посылку и побрел домой. Ящик был открытый, и когда заглянул я в него, то вытащил оттуда: зеленые и спелые шишки; пузатенькие желуди, похожие на загоревших мужчин в беретах, и береты у них со свиными хвостиками; вытащил толстый кусок сосновой коры, веточку сизо-зеленой елочки; большое серое перо, не то журавлиное, не то аистовое, и еще горсть всякой мелочи. Все это я выложил на стол и принялся с удивлением рассматривать каждый предмет в отдельности: для чего он? И зачем бы он понадобился Адаму? И кто прислал, откуда?.. Потом подумал: адрес! Посмотрел: а на крышке посылки вместо обратного адреса химическим карандашом был нарисован человечек.
Этот человечек кого-то приветствовал. Кого? Я так бы и не разгадал секрет посылки. И, может, никогда бы не узнал, кто тот человечек, который прислал в наше село журавлиное перо и веточку зеленой елки, ни за что не узнал бы, если бы не помогла Нина. Я сказал, что построю челн, вспомнил о сосновой коре — и бегом домой; взял ящик со всем добром, прихватил нож, нагреб всякой всячины, которая могла пригодиться в работе, и прибежал к реке. Решил: пока буду вырезать челн, пусть Нина посылку разберет, поиграет. Интересно ведь… Но как только я шагнул на камень, Нина посмотрела на меня и побледнела: — Пришла посылка? Пришла? Когда? И она вскочила на ноги (под ней даже закачался челн), спрыгнула на берег и, растерянная, со слезами на глазах, бросилась к ящику. — Смотри, он все-все прислал. Все, что надо, — шептала она, выкладывая в подол шишки, желуди, сухие веточки. — Кто прислал? Ты знаешь его? — спросил я, совсем сбитый с толку. Бабушка Сироха сказала: «Наверное, для тебя старался», а выходит, посылка для Нины, и девочка ждала ее с нетерпением. Затем Нина просунула руку в ящик и на самом дне, под сухим мхом, что-то нашла. — Да, есть… Записка! — Она вытащила кусочек бумаги, с волнением развернула ее и пробежала глазами. — Читай. Вслух читай, — попросил я. — Здесь всего несколько слов. И о тебе тоже. Вот. — И Нина передала мне записку. Я прочитал:
Дорогой Адам! Не могу, не буду тебя утешать. Ты мужественный человек. Рад, что в последние минуты возле тебя будут находиться верные друзья. Высылаю для них то, что ты просил. Пускай запахнет в степи сосновым Полесьем. Привет им обоим, капитану Ленду и Нине. Твой Алс.
После «твой Алс», как и на крышке посылки, тоже был нарисован человечек с поднятой шляпой в знак приветствия. — Нина, кто этот Алс? — спросил я. Нина, словно зачарованная, бережно перебирала сосновые шишки, желуди, веточки — все, что там было, и все это она рассматривала, нюхала и складывала в подол. Я снова ее спросил: — Нина, кто он, скажи, тот Алс? — Он такой, как Адам. Они вместе учились. — А где он сейчас? — Делает то, что и Адам. Второе солнце. — И не страшно? И его не сожжет то солнце, как Адама? — Они о себе не думают. Я была с ними. Они говорят: надо. Надо, чтобы над землей было еще одно солнце. Надо, чтобы оно светило сильнее, чем наше. Они говорят: надо. — А зачем это «надо»? Разве так плохо? Разве нам с тобой мало солнца, мало травы на лугах, сверчков, бабочек, пушинок от одуванчиков? Зачем придумывать еще одно солнце? Губы у Нины были крепко сжаты, словно застыло в них это решительное «надо», и я понял: больше она ничего не скажет. Минуту или две мы сидели молча. Тишину я нарушил первым: — Хорошо. Я тебе сделаю челнок, Нина. — Из сосновой коры? — Конечно. — Это чудесно. Я так хочу, так давно хочу. И как раз такой, из сосновой коры. Он самый лучший: легкий, красивый, никогда не протекает. Адам собирался сделать челнок, да вот не успел. — И Нина опустила голову. Колени у нее дрожали. Ее белые узенькие туфли совсем раскисли в воде, а из носка уже выглядывал разбухший палец. «Осень. Зябко ей», — подумал я. Я взял кусок сосновой коры (а неизвестный наш друг прислал довольно большой кусок: не иначе как отковырнул он его от старого ствола). Кора была слоистая, как печенье, настоящая шоколадная вафля с белыми сахаристыми прослойками. Она и на вид была сладкая. Я даже попытался языком лизнуть: хм, терпкая и пахнет смолой. Вижу: Нина сидит, голову подперла кулачками, сосредоточенно смотрит на мои мудрствования и чуть-чуть, сдержанно улыбается. По-видимому, она думает: ну и чудной же этот Ленька — кору на вкус пробует… Повертел я в руках сосновый «пирог», прикинул на глазок: как его обрезать, чтобы получился корпус кораблика. Сначала, решаю, обрезать лишнее, обстругать с боков так, чтоб вышли корма и борт. А дальше уже можно выдалбливать сердцевину. Взялся за нож: он легко режет, гладенько; сыплются красноватые опилки, барашками скручивается стружка. Все выходит хорошо; уже удлинился и заострился корпус; правда, он еще грубоват, не до конца выструган, но по всему видно: это тебе не что-нибудь, а нечто серьезное. Вот только беда: как чуть резко ножом проведешь, так слетает верхняя чешуя, кора отслаивается; видно, плохо она склеена. Не беда, вскоре я приловчился, и работа пошла веселее. Нина сидит задумавшись, молча смотрит, как у меня получается, и слова не выронит. Вот за это я ее больше всего уважаю. Знаете, если бы вместо Нины сидел рядом кто-нибудь другой, он наверняка бы начал: «Не так ты режешь, не так стругаешь, вот надо так, а не так…» Словом, заморочил бы голову совсем, и ты обязательно что-нибудь испортил бы. А уж тогда он потирал бы ладони: «Я же говорил! Я говорил!..» Нина — совсем другой человек. Посмотрите: оперлась на кулачки, лицо тихое и задумчивое, в глазах — терпеливое ожидание. То солнце, то облачные тени проплывают над ней. — Посмотри, — говорю я Нине, — «Санта-Мария»[5] пришла. Бросила якорь. С вербы на воду упал желтый листик. Длинный, глянцевитый, с гордо поднятым и закрученным кверху хвостиком, он напоминал каравеллу «Санта-Мария», которую видел я в книжке. Листик стоял неподвижно. Но вот подул ветерок, воду зарябило, и челнок погнало к берегу. Мчался он и водил заостренным носом так, словно выбирал, куда лучше причалить. — Леня, — сказала Нина, — а можно и в моем кораблике сделать высокую носовую часть? — Хорошо. Такую и сделаю. Вот. — И я показал почти готовый челнок. Он умещался у меня на ладони, новенький, темно-красного цвета, со смоляным запахом; крепкие, старательно обструганные борта сужались книзу, а вся носовая часть резко вздернулась кверху. — Ой!.. — тихо сказала Нина, и глаза у нее загорелись. — И в самом деле «Санта-Мария»! Оставалось уже немного: выдолбить кору из середины. Нож у меня с острым наконечником, и я сделал углубления над бортами, вдоль кормы и носа. А дальше только подковыривай сосновую кору — сама отлетает. Глубже стал челн, вместительнее его трюмы, и я мысленно прикидывал, где поставить скамейку, где сделать щели для весел. Вычищаю древесину, выдуваю труху, а Нина тихонько улыбается, искоса поглядывая на меня. — Ты чего, Нина? — Да так. Усы у тебя геройские. — Какие, какие? — Красные усы. Как у пирата. Сдунул я усы, стряхнул шоколадные опилки, усеявшие не только всю рубашку, но и мои штаны, поднял на руке суденышко. — Готово! — говорю. — Только еще весла вырежу. И вот наш кораблик стоит на воде. Он слегка покачивается. Два сосновых весла поблескивают на солнце. От красных бортов густая багряная тень ложится на волны. Нину тоже слегка покачивает. Она стоит на кораблике, совсем не похожая на ту девчонку, которая еще совсем недавно печально сидела на берегу. Смотрите: лицо у нее стало строже, брови нахмурены, она уже вроде бы чувствует, как встречный бриз бьет ей в грудь, — туго затянула лентой волосы, ухватилась одной рукой за борт, а другой прижимает беленькое платье, которое полощется на ветру. Я говорю: — Нина, подожди! А парус? У меня есть кусок парусины, подожди!.. Я устанавливаю высокую мачту с крестовиной, шпагатом и клеем закрепляю его, и ветер подымает мой парус, беспокойно лопочет, на быстрое течение разворачивает судно. — Леня, садись! — зовет Нина. — Вместе поплывем! — Как? И мне тоже садиться? — Конечно! И вдруг я подумал: это ведь не простой кораблик, это Нинин фрегат, и мы сделали его из сосновой коры, которую прислал нам незнакомец Алс, тот, что снимает шляпу, приветствуя людей. Почему бы не сесть? Кораблик уносило в пролив, и я вовремя прыгнул на палубу: нас швырнуло в брызги, в бурлящий поток, окатило водой; я налег на весло, крикнул Нине: «Берегись!» — и вывернул наш парусник так, чтоб он проскочил мимо острого камня. Еще раз подбросило, обдало меня пеной, и мы вышли на чистый плес, поплыли по течению. Промокшие, мы сидели рядом, под парусом, и смотрели на берег. А берег у нас такой: то подмытые пещеры, где сплетаются корневища, черные и узловатые, как морские осьминоги; то светлые песчаные отмели, усыпанные черепашками; то высокие глиняные шестки, сплошь изрытые норами, — там поселяются стаи стрижей, сейчас они с криком кружились над лугом. Мы плыли под вербами, будто под зеленым гротом; здесь повисли притихшие сумерки, и только кое-где сверху светились горящими угольками гроздья спелой калины. Я сидел на веслах, выбирал дорогу. И вдруг Нина дотронулась до моего плеча. Я оглянулся. За нами неотступно плыл старый челнок Нины. Он, наверное, не захотел одиноко качаться на волнах в проливе. И сейчас, наполовину затопленный водой, тихо двигался за нами. — Он кого-то везет, — сказала Нина. — Кого? Я не вижу. — Посмотри на корму. И в самом деле! На корме сидела желтая стреловидная бабочка. А мне показалось: на маленьком авианосце приютился двукрылый самолет. Может, он потерпел аварию и Нинин челн теперь буксирует его до ближайшего аэродрома? На крутом повороте старый челн воткнулся в берег и остановился. От толчка испуганно вспорхнула бабочка. В полете она еще больше была похожа на маленький самолетик, нетрудно было заметить и пилота, который махал нам из кабины шлемом, и мы простились с ним. А вскоре и наш кораблик остановился. Что за оказия? Вода бурлила коловоротами; встревоженная, крутила она сверху пену, но продолжала стоять на месте: что-то ей преграждало путь. И только глубоко, на самом дне, рвалось, клокотало течение, било фонтаном, разрушая преграду. Наш парусник вздрагивал, дрожал, словно живой, но дальше не двигался. Ничего не понимая, мы с Ниной переглянулись. Я перегнулся через борт, внимательно огляделся и вдруг заметил: там, где собирается пена, торчит из воды нечто похожее на плетеную корзину. — Ага! — вскрикнул я. — Все ясно! — Что там? — не поняла Нина. — Верша! Глыпина верша. Есть у него такое приспособление для ловли рыбы, сплетенное из прутьев; он перекрывает им всю реку. И знаешь, что люди говорят? Ночью Глыпа открывает шлюз в верхнем пруду и спускает воду с карпами, которых разводит колхоз. И тогда, мошенник, таскает себе рыбку — пудами!.. — А видно, что воду спускали, — сказала Нина. И в самом деле, если присмотреться, заметно: еще недавно разливалась вода и разливалась очень широко — вот затянуло илом островки, причесало траву, развесило мох на сучках. «Интересно, — подумал я, — что попалось в Глыпину вершу?» Взял я жердь и ткнул ею в реку, туда, где пузырилась пена. Ткнул, но шест не шел — под ним что-то трепыхалось. Пошуровал я жердью, и тут же закипела вода, рыба, как дрова, заворочалась, закишела, бьет хвостами по воде, плещется. Один карпище так хвостом ударил, что сам на берег вылетел, отдышался немного и снова в воду. — Вот это рыбины! — удивился я. — Кишмя кишат. Жердину воткнул — и не падает. — Что делать? Это ж разбой! Может, позвать кого? — Зачем? Мы сами что-нибудь придумаем… Знаешь, Нина, Глыпа затыкает вершу соломой. А я затычку вытащу, и пускай рыба плывет в нижние пруды. — Давай! Только поскорее! Я полез в реку, а здесь глубоко и ноги утопают в иле. Лег я головой на воду, нащупал рукой затопленную вершу, ухватил целый снопик соломы и выдернул его вон. Только выдернул, слышу: зашевелилась… затрепыхалась… косяками пошла между ногами рыбка. — Вот она, вот! — кричал я и хлопал по воде, подгоняя рыбу. — Табуном плывет! На свободу. А жирные карпы лениво тащили за собой волну и медленно плыли по течению. Плавно и важно виляли они хвостами, чешуя на их боках отсвечивала золотом. Не боялась рыба нас, плыла у самого берега. Долго мы провожали по берегу карпов. Но гляди! Опять какая-то преграда! Все так же кружило воду и взбивало пену. Оказывается, осмотрительный Глыпа поставил еще одну, контрольную вершу. И здесь я вытащил затычку — охапку прогнившей соломы. Теперь дорога от верхнего до нижнего пруда стало свободной. — А вершу? — спросила Нина. — Глыпа их снова может поставить. И опять будет ловить карпов. Гм, верши… Что с ними сделать? — Нина, — сказал я, — уже наступает вечер. А мы промокли и озябли; видишь, у тебя и «гусиная» кожа на локтях. Давай разведем костер. — Это чудесно! На берегу, в густых зарослях, насобирали мы хворосту, сухих веток. И пока Нина разводила костер, я вытащил Глыпины верши. Они порядком вымокли на дне, почернели, и теперь от них на сто шагов несло илом и рыбьей чешуей. Эти тяжелые сооружения я поставил так: одну вершу подпер другой, вышло нечто наподобие шалаша, а внизу оставалось место для костра. Когда вспыхнуло пламя, мы увидели грандиозную картину: задымились верши! Теплый шипучий дым, как змея, полз сквозь плетеные прутья и черным столбом поднимался вверх. — Смотри! — сказала Нина. — Будто чумы дымят. А мы с тобой эскимосы и едим медвежатину. Да, съежился я, и впрямь мы похожи на эскимосов. То ли огонь добавил темноты, то ли мы не заметили, как быстро сгустились сумерки. И вот уже нас обступила ночь, обступили черные кусты, от которых тянуло речной сыростью. А когда огонь отбрасывал темень — лишь на короткое мгновение, — багряный отблеск падал на парус, и тогда нам видно было мачту и дремлющий кораблик, который стоял у берега. Над нами горели звезды, синие, как искры бенгальских огней. Я еще подбросил хворосту в костер, пламя взметнулось вверх, под самые верши. Долго шипела и ворчала сырая лоза, но вот наконец вспыхнула, красные языки поползли в небо, и верши, как две ракеты, снопами огня осветили весь луг. Вот это зрелище! Нина подскочила (а глаза блестят) и давай: «Трам-та-там! Трам-та-там!» И пошла кружить вокруг костра, встряхивает косами, хлопает в ладоши, и я за ней — будто в бубен бью, а пламя трещит, рассыпает на землю искры. Слышите? Гремят тамтамы в джунглях! И вдруг — ночь… Упал, развалился костер, сразу повеяло холодом, обдало пустотой, обожгло осенней грустью. Между нами стояла ночь; я держал Нину за руку, но не видел ее. Мы притихли, словно осиротели без огня. Где-то в небе одиноко, со свистом пролетела ночная птица. — Осень, — сказала Нина. — Осень, — сказал я. — Птицы в теплые края собираются. — И мне пора. Я почувствовал, как она легонько пожала мне руку. …Нина уплывала осенью. Все уплывает осенью: листья по воде, тучи, паутина, птицы, школьники, комбайны. Все куда-то плывет, прощается. И Нина тоже прощалась. Как всегда, мы встретились с ней на реке. Она сидела в кораблике, я на камне. По воде проносились тени журавлиных стай. — Ты в какой класс пойдешь? — спросила Нина. — В третий. — Значит, скоро забудешь меня. — Э-э, — пожал я плечами, — оставим ненужные разговоры! — Нет, ты забудешь меня, — тихо, но твердым голосом сказала Нина. — У меня много друзей, они выросли, купили мотоциклы, транзисторы, билеты на футбол. И когда я прихожу к ним в гости, они смотрят на меня сонными глазами и не узнают. «Ты кто?» — спрашивают. «Нина», — говорю. «Не знаем такой». — «А помните, говорю, как мы слушали в степи пауково радио?» — «Фу, что за глупости!.. Пауково радио! Иди, девочка, своей дорогой и не морочь нам голову!..» Кто знает, о ком это рассказывала Нина, но я почему-то сразу представил Глыпу, представил, как он хлопает глазами, слушая свой патефон: он если выпьет, все время крутит одну и ту же пластинку:
ЖЕНЯ И СИНЬКО

Перевод Е. Мовчан

ОГУРЕЦ С ПОРОСЯЧЬИМ ХВОСТОМ
«Докладная записка учительницы рисования Изольды Марковны Кныш директору школы.Товарищ директор! Сегодня, согласно плану, я проводила урок рисования в 5-м „А“ классе. Тема урока: изображение огурца в двух плоскостях — горизонтальной и вертикальной. Моей задачей было научить детей пространственному представлению, то есть чтобы дети видели и умели изображать предметы не плоскими, а объемными. Первые пятнадцать минут я подробно объясняла цель урока. (Должна отметить: в классе было шумно, и Андрей Кущолоб, которого ребята называют Беном, несколько раз залезал под парту.) Я вызвала Кущолоба к доске. Он, как всегда, корчил рожи и кривлялся, однако благодаря своим незаурядным способностям к рисованию быстро справился с заданием. Потом я вызвала к доске Женю Цыбулько. Вы, товарищ директор, конечно, знаете эту смуглую девочку с первой парты. Она круглая отличница, на уроках внимательна и серьезна, но иногда может выкинуть номер, например, повернуться и ударить кого-нибудь. А если сделаешь ей замечание, насупится и дернет плечом: „Пусть не лезет!.. Пусть не цепляется!“ Кроме того, есть у нее одна странность — играет под мальчика: стрижется коротко, по-мальчишечьи, носит брюки или шаровары. Словом, характер у девочки нелегкий, однако такой выходки я от нее не ожидала. А дальше произошло следующее. Вышла Цыбулько к доске, и я ей сказала: „Нарисуй мне огурец в двух плоскостях“. И пока она чертила что-то на доске, я пошла по рядам между партами, чтобы проверить домашнее задание. Вдруг у меня за спиной послышался хриплый, словно бы простуженный голосок. Сначала это было чихание, а потом совершенно отчетливое хрюканье. Я повернулась и увидела… Цыбулько уже нарисовала овальный контур огурца и приступила к изображению хвостика. Однако загнула этот хвостик так, что он стал не огуречный, а поросячий. Затем, подбадриваемая смешками в классе, Цыбулько пририсовала голову и рыльце. И я, к своему удивлению, увидела на доске не продукт деревенского огорода, а настоящего поросенка. (Прилагаю копию этого рисунка.) Но самое странное было впереди: поросенок снова чихнул, покрутил хвостиком и произнес: „Хрю-хрю…“ Товарищ директор! Я не ошиблась. Класс мгновенно затих, сидел в оцепенении, и в это время как будто бы из-за доски, а может быть, из стены или даже из-под самого пола опять послышалось громкое хрюканье. Это было действительно поросячье хрюканье, клянусь — человек, как бы он ни старался, никогда в жизни так не захрюкает. Я была настолько поражена, что, может быть, с полминуты молчала, не в силах раскрыть рот. А потом меня прорвало. — Цыбулько! — крикнула я. — Что это за фокусы! Немедленно сотри рисунок и садись! Ставлю тебе двойку! Цыбулько стерла рисунок и, насупившись, направилась к своему месту. И так, знаете, дерзко передернула плечом, показывая, что она, видите ли, весьма недовольна. А когда она проходила мимо меня, я увидела такое, что до сих пор не могу опомниться. На ней была голубая пушистая кофточка. Верхняя пуговка расстегнута. Так вот: кофточка вдруг оттопырилась, под ней что-то зашевелилось, и из-за воротника быстро высунулась… маленькая волосатая лапка. (Товарищ директор! Прошу мне поверить: я утверждаю это в здравом уме и ясной памяти.) Да, высунулась рыжая волосатая лапка, легонько помахала мне, словно бы говоря: „До свидания, Изольда Марковна!“ А потом (повторяю, это было именно так) из-под кофточки высунулась смешная лукавая мордочка и показала мне язык. Язык был длинный и красный. Уверяю вас, я не могла ошибиться. У меня прекрасное художническое зрение. С Владимирской горки я легко могу различить, какого цвета купальные шапочки у девочек, стоящих на противоположном берегу Днепра. Так что зрительная ошибка абсолютно исключена. Итак, вывод один: ученица 5-го „А“ класса Евгения Цыбулько пришла на урок или с заводной куклой (вероятно, импортного производства), или с каким-то живым зверьком. Можете представить себе, что было дальше. Ученики повскакали с мест, окружили Цыбулько и хором закричали: „Женя, покажи, покажи!..“ Орут, прыгают, чуть ли не по головам друг друга ходят. Я разнервничалась, подошла к Цыбулько и говорю: „Что там у тебя за игрушка? Немедленно дай сюда!“ А она побелела как полотно, стоит и оторопело смотрит на меня, будто не понимает, чего от нее требуют. Тогда я сама (возможно, это и непедагогично) ощупала ее кофточку, однако ничего, кроме фланелевой мальчишечьей рубашки и пионерского галстука, под кофтой не обнаружила. Я откинула крышку парты — думала, что она успела спрятать туда игрушку, — но и парта была пустой, только сухая корочка хлеба валялась там да серебряные обертки из-под шоколада (очевидно, для фантиков). В портфеле также не оказалось ничего постороннего. Представьте себе мое унижение, когда я рылась в чужих вещах, а вокруг толпились ученики, кричали и смеялись, а Кущолоб подзадоривал: „Обыскать ее! Она шпионка!“ — и корчил страшные гримасы. Шум и крик не утихали до самого звонка, я так и не смогла успокоить класс. Поскольку урок фактически был сорван, прошу вас, товарищ директор, разобраться в этой истории и наказать виновных.
Преподаватель художественной вышивки и рисования Изольда Марковна Кныш».
В кабинете директора.
Рапорт младшего сержанта милиции Е. М. Рябошапки
— А-а, Цыбулько! Заходи, заходи! Скажи-ка, наконец, что это за мохнатая лапка? Откуда она взялась? Может, объяснишь? Только подожди минутку, сейчас я с телефонами… Петр Максимович — так звали директора школы — сидел за столом, а перед ним черным, голубым и красным поблескивали телефоны. И все три отчаянно звонили. Одну трубку директор прижимал плечом к левому уху, вторую — рукой к правому, а третью положил перед собою на стол. Так, перекосившись на один бок, сидел он, весь опутанный шнурами, и кричал во все трубки сразу: «Алло!.. Слушаю… Да-да!.. А как же!.. Обязательно!..» Женя поняла, что директор нескоро выпутается из своих телефонов, и, чтобы зря не терять время, принялась разглядывать стены. А в кабинете Петра Максимовича было на что посмотреть. Каждое лето директор выезжал со старшеклассниками на археологические раскопки и привозил с юга Украины что-нибудь интересное: глиняную посуду, каменные топоры и ножи, обуглившееся зерно. Окинув взглядом стеклянные настенные полочки, Женя среди стрел, гребней, дротиков увидела… человеческий череп. Страшный, с глубокими впадинами вместо глаз. Подошла поближе и прочитала: «Череп киммерийца. VII в. до н. э.». Пустая истлевшая коробка, покрытая серой пылью, властно приковывала ее взгляд. Девочке стало как-то не по себе. Подумалось, что и ее голова, полная мыслей, света и всяких выдумок, голова, на которой растет живая вихрастая шевелюра и торчат такие неповторимые уши (оттопыренные, точно крылья у бабочки, и к тому же шевелятся не хуже, чем у Бена), — что все это станет когда-нибудь голым черепом, экспонатом, тленом… Не хотелось этому верить… Однако чем дальше Цыбулько присматривалась к черепу, тем меньше пугал он ее и постепенно начал даже чем-то нравиться. И ей захотелось «поработать» над ним: повязать платочком, приделать косу (из шерсти или синтетической пряжи). А еще лучше бы стать маленькой-маленькой и спрятаться в череп, как в склеп, и там притаиться. (А то как начнет сейчас директор выпытывать про мохнатую лапку…) Затаится она в этом склепе, а Петр Максимович обернется и скажет: «О! А где ж это она? Только что была, и нету… Цыбулько!» — крикнет в приемную. А Женя из тайника замогильным голосом: «Я здесь, товарищ директор!» Губы девочки растянулись в улыбке, на щеках заиграли две симпатичные кругленькие ямочки. — Что это вы там смешного увидели, голубушка? — внезапно услышала она хрипловатый голос директора у себя за спиной. Повернулась, сразу же вся сжалась, подобралась, упрямо нагнула стриженую темноволосую голову. В этой настороженной позе застыла перед столом: упрямый мальчуган, да и только. Худой, с сердито оттопырившимися ушами, с тоненькой, напрягшейся шейкой, покрытой детским шелковистым пушком. Директор тяжело перевел дух и затих. Женя никогда в жизни не догадалась бы, о чем думает сейчас директор. А он с грустью говорил сам себе: «Ну вот. Стоит, замкнулась, спряталась, ушла в себя, а ты разбирайся, разгадывай, что за человек перед тобой, что за таинственный мир. Попытайся хоть приблизительно представить себе ее внутреннюю жизнь». — Цыбулько, подойди-ка поближе, — сказал Петр Максимович. — Можешь ты мне объяснить, что сие означает? Докладная записка Изольды Марковны Кныш — это раз. А вот и два — рапорт из милиции. Свеженький. Сегодня принесли. Вот он! Директорвытащил из ящика лист бумаги, на котором твердым каллиграфическим почерком было выведено:«Рапорт младшего сержанта милиции Рябошапки Евгена Мстиславовича».Девочка исподлобья бросила быстрый испуганный взгляд на этот лист, и перед ее глазами вырос опоясанный ремнями здоровенный, краснолицый милиционер, с которым вчера произошла у нее стычка. «Ну все! Я пропала! Вот бомба!» — забилась в висках серенькая трусливая мысль. Все косточки у Жени заныли от противного, жалкого страха. Так бывало с ней только в АН-2, на котором она летала к бабе Паше в деревню, — когда самолет вдруг круто падал вниз, проваливаясь в «воздушные ямы». Тогда в груди становилось холодно, как от мятных конфет, а сверху давило что-то каменное, вот так сейчас давил ей на плечи ранец, будто в нем лежали не книги, а кирпичи. Пока Женя выходила из крутого пике, директор начал читать — монотонно, как читают что-то нудное и совершенно неинтересное:
— «Рапорт младшего сержанта милиции Рябошапки Евгена Мстиславовича Довожу до сведения дирекции 301-й Киевской средней школы следующее: Вчера в 16 часов 23 минуты по московскому времени на углу улиц Артема и Глыбочицы мною был задержан несовершеннолетний нарушитель общественного порядка, который назвался учеником 5-го „А“ класса вашей школы. Суть дела: упомянутый гражданин бежал к трамвайной остановке, которая расположена за кинотеатром „Коммунар“. Именно в этот момент отошел трамвай № 9, и гражданин, недолго думая, перекинул сумку через плечо, подпрыгнул и уцепился за поручень последнего вагона, чтобы проехать „зайцем“. Я дал два коротких и один длинный свисток, однако упомянутый гражданин продолжал висеть на подножке. Тогда я дал три длинных свистка — и трамвай остановился. Я подбежал к нарушителю порядка, но представьте мое удивление, когда упомянутый гражданин оказался не мальчиком (хоть и были у него брюки-техасы и волосы острижены коротко), а оказался девочкой, о чем свидетельствовали симпатичное лицо и две ямочки на смуглых щеках. Тут я не выдержал и сказал: „Ай-яй-яй! Как же вам не стыдно!“ А девчонка уцепилась руками за поручни трамвая и не слезала. Я подошел и хотел оторвать ее силой. В это время (прошу дирекцию школы обратить внимание на обозначенный факт) из ее спортивной сумки высунулась чья-то мохнатая лапка, сорвала с моей головы фуражку и хулигански швырнула ее на асфальт. Я нагнулся, чтобы поднять свой форменный головной убор, в это время дверца трамвая открылась и гражданка Цыбулько (так назвали ее фамилию свидетели) быстро вскочила в последний вагон. Прошу дирекцию школы разобраться в деле по существу и наказать нарушителя. Младший сержант милиции Евген Мстиславович Рябошапка».
Ну, что вы на это скажете, голубушка? — спросил директор школы и указал глазами на рапорт; он помолчал, подул на череп кимерийца и, словно бы обращаясь к нашему далекому предку-кочевнику, продолжал: — Что же это, черт побери, за лапка, а? Все будто сговорились: лапка да лапка! Да еще и мохнатая! Директор устало посмотрел на девочку, побарабанил пальцами по столу. Это означало: ну-ну, ждем ответа! А Женя — именно потому, что от нее требовали ответа — уперлась, замкнулась, спряталась, как черепаха в панцирь, и искоса, украдкой поглядывала на директорову лысину. Хотя кого-кого, а директора как раз можно было не бояться. Ни ругать, ни читать мораль не будет. Не такой он человек. Петро Максимович, так, по крайней мере, считала Женя, вообще человек особенный. Был он какой-то нездешний и нетеперешний, а будто из тех давних, далеких времен, о которых рассказывал на уроках истории. Ходил в широких старомодных брюках, в таком же широченном пиджаке, носил темные галстуки и вообще производил впечатление сурового, угрюмого человека. Точно по звонку приходил он на урок, клал журнал на высокую учительскую кафедру и тяжело опускался на стул. Некоторое время сидел, прикрыв глаза, будто что-то вспоминая. Жене с первой парты был виден легкий шелковый пух на его голове, сквозь который просвечивала блестящая, желтая, похожая на голландский сыр лысина, вся в маленьких ямочках. Несколько мгновений директор молчал. А Женя — точно рентгеновским лучом просвечивала — видела: в голове директора кипела огромная работа. Там гремели звонки, проходили совещания, семинары, заседания, там составлялись планы и графики, утверждались предложения, разбирались ссоры и жалобы. И надо всем этим витал табачный дым, катился тяжелый приглушенный гул, как перед извержением вулкана; в этом гуле сливались человеческие голоса, телефонные и коридорные звонки, скрежет трамваев, долетавший с улицы, и неровный, прерывистый стук больного директорского сердца. Словом, Петро Максимович приносил с собою в класс всю свою канцелярию и первые мгновения сидел, не в силах вырваться из тьмы-тьмущей каждодневных забот. Он сидел, тяжело дыша, и глаза его были прикрыты набрякшими веками. Пятый «А» притихал. А Женя с беспокойством смотрела на серое, какое-то мертвенное лицо директора. Не открывая глаз, Петро Максимович спрашивал: — Все в классе? Дежурный подскакивал и коротко рапортовал: — Все. И тогда директор начинал урок. Говорил он тихим голосом, все время откашливался, потому что у него пересыхало в горле. Класс наполнял его тихий, глуховатый голос, спокойно рассказывавший о могучем властелине Египта Эхнатоне, о жене фараона, первой красавице Востока Нефертити. — Теперь, — говорил директор, — очень модны кулоны с ее изображением. Даже девочки из вашего класса, — тут директор взглядом пробежал по рядам и улыбнулся уголками губ, — носят эти кулоны, а когда я спросил одну такую модницу, — и директор скосил глаз на заднюю парту, где гордо и прямо восседала Виола Зайченко, покачивая тщательно взбитой прической, — когда я спросил, кто такая Нефертити, и показал на ее кулон, то ваша подруга потрясла меня, старика, эпохальным открытием: она сказала, что Нефертити — это польская певица… По классу прошел легкий шумок — у всех растянулись губы в улыбке, все одновременно перевели дыхание. А директор продолжал. Может, именно потому, что рассказывал он всегда тихим и каким-то грустным голосом, класс буквально замирал, слушал внимательно, а если Бен или еще кто-нибудь из мальчишек начинал елозить на парте, Петро Максимович прерывал свой рассказ и с какой-то болью смотрел на этого ученика. На худом, желтоватом лице директора проявлялась давняя усталость и печаль. Даже Бен не выдерживал этого взгляда — утихомиривался. Вызвав ученика к доске, директор сидел, склонив голову набок, и болезненно морщился — может быть, его беспокоила старая, еще со времен войны, язва желудка, а может, для него было мукой слышать, как пятиклассник безбожно путает Ахилла с Эсхилом, а первую Пуническую войну — с Троянской. Выслушав великого путаника до конца, директор спрашивал: — Ну и что же тебе, голубчик, поставить? Тройку или четверку? В таких случаях редко кто отваживался просить больше. Только Бен однажды взял да и бухнул: — Поставьте пятерку! — Хорошо, — согласился директор; он спокойно поднял глаза на Бена, с интересом оглядел этого веселого, ладного мальчика, полного сил и здоровья, который сейчас — чуть небрежно — стоял перед классом и переминался с ноги на ногу. — Хорошо, — повторил директор, — я поставлю тебе пятерку. Только при одном условии: прочти мне наизусть отрывок из Гесиода, из поэмы «Труды и дни», где говорится о пяти веках: золотом, серебряном и так далее… — Что, что? — Бен вытянул шею, выражая крайнее удивление. — О пяти веках. То, что я задавал вам по внеклассному чтению, — и Петро Максимович процитировал:
ДЕНЬ ЗОЛОТОГО СИЯНИЯ
Уроки давно окончились. В пустых классах стояла непривычная тишина. Только Женины шаги раздавались в огромном здании школы. Она спускалась вниз по лестнице и мрачно думала: «Вот бомба! — это было ее бранное словечко. — Что же мне теперь делать? Спрятаться? Забраться в подвал и просидеть там всю ночь? Пускай ищут где хотят. Или сесть в самолет и улететь к бабушке в Маньковку?.. Такого никогда еще не было — двойка по рисованию в дневнике, вызывали к директору, так и этого мало — придут домой!» Совершенно несчастная, вышла Женя на школьное крыльцо, поставила ранец к ногам. Сощурившись после помещения, посмотрела на улицу — и даже тихо ойкнула. Нет, вы только взгляните: какой сегодня день, какая погода! Она переживает, ломает себе голову, а вокруг такое творится! В Киев пришел октябрь! Сухая, янтарная пора листопада! Ни малейшего ветерка, ни дуновения. Тихо. Ласково пригревает солнышко, и все вокруг точно золотое: и воздух, и деревья, и крыши домов, и тротуары. Все устлано каштановыми и кленовыми листьями. Напротив школы стоял маленький деревянный домик, а крыши не видно — вся она засыпана ярко-желтой листвой. Листья горками лежали на балконе, на карнизах, на деревянных перилах. Из-за забора выглядывали круглые столбы, и на каждом — мохнатая золотая шапка! Так повторялось каждый год. Октябрь приходил в Киев как праздник, как осенний парад деревьев. Каштаны, березы, клены наряжались в роскошное убранство. И щедро сбрасывали позолоту на асфальт и мостовую. Город, казалось Жене, с головой потонул в желтой листве. И столько праздничных хлопот появлялось тогда у каждого! Дворники каждое утро сгребали увядшие, опавшие листья в высокие, словно подсвеченные изнутри горки; машины вывозили осеннее богатство за город, а к вечеру снова асфальт покрывал новый роскошный ковер. И в нем кувыркались, кружились, толклись обалдевшие от радости и свободы мальчишки и девчонки. В эти теплые, восковые, пронизанные солнцем дни лица киевлян светились нежным сиянием осени. По паркам, как завороженные, бродили фотографы, на лавочках дремали старушки, а в небе плели паутину реактивные самолеты. Жене захотелось куда-нибудь пойти, куда-нибудь подальше от дома, где ее ждал не очень приятный разговор. Она подумала: «Куда лучше? Может, на Лукьяновский рынок, к дяде Оресту?» Рынок был близко: пересечь трамвайную линию, пройти вдоль ограды, к нижним воротам — и вот уже торговые ряды. Женя любила бывать там, особенно в это время, осенью. Деревянные прилавки завалены яблоками, капустой, сушеными грибами, лесными ягодами; тут пахнет укропом и тыквенными семечками (это у дяди Ореста), а там выкрикивают: «Свежий мед! Свежий мед!.. Сметана!.. Яички!..» Походишь, понюхаешь, — и несешь с собой запахи осени. «На базар!» — сказала себе Женя и решительно сошла с крыльца. От школьных ворот начиналась старая узенькая улочка, по которой не ходили машины. Тут всегда было тихо, а сейчас толпилась и шумела детвора. Ученики младших классов сбивали каштаны. Один из них бросал палку, а когда с сухим треском рассыпались по асфальту блестящие коричневые плоды, малышня гурьбой налетала на них, набивая карманы и пазухи. Женя остановилась. Палку кидал мальчик постарше, хулиганистого вида, весь перепачканный землей. Вместе с каштанами он сбивал листья и молодые побеги. — Ты что это делаешь? — строго, голосом своей мамы сказала Женя. — Не можешь потрясти? Несколько пар глаз повернулись к Жене. Тем временем палка снова взлетела в воздух, и на головы посыпался град каштанов — они падали в своих зеленых одежках, и эти колючие одежки, похожие на маленьких ежиков, разлетались по тротуару, а из них выскакивали такие свежие, такие симпатичные каштаны, что невозможно было не остановиться и не взять в руки хотя бы один. Женя подняла самый большой. Он был холодный, подернутый, словно туманом, сизой пленкой. Женя вытерла его ладонью и невольно залюбовалась: «Чудо! И как он такой уродился!» А каштан и в самом деле был красавец: тугой, темно-коричневый, кожура гладенькая, а на ней рисунок, выписанный тонкими линиями. Будто выточили его из какого-то могучего заморского дерева. — Эй, гаврики! — крикнула Женя. — Давайте я вам натрясу! Подсадите только. Мальчишки подсадили ее. Она уцепилась за нижнюю ветку, а дальше полезла сама — к золотой вершине, к солнцу, туда, где все пылало от листьев, от горячего пламени. Вот уже она поравнялась с третьим этажом школы, заглянула в окно учительской — там никого не было, а рядом… А рядом, за соседним окном, согнувшись, сидел директор и что-то писал. Жене стало жаль этого больного человека — один в школе, глаза печальные-печальные, а на улице такая благодать… Ей захотелось позвать: «Петро Максимович, выходите на улицу!» Но разве она осмелится? — Давай! Тряси! — закричали снизу. — Сильней! — Ловите! — Женя ухватилась за ветку, тряхнула ее изо всех сил, каштаны и листья с шумом посыпались вниз. Она уже спустилась на землю, нацепила ранец, а мальчишки все еще толкались, выуживая из-под листьев коричневые плоды. Видно, у младшеклассников шло соревнование — кто насобирает больше каштанов. — Гуд бай! — сказала им Женя и пошла. Но не к рынку, а в скверик. Где же, как не в скверике, среди пожелтевших кленов, по-настоящему царит осень! На углу улицы Артема и Глыбочицы ей пришлось подождать, пока пройдет сплошной поток машин. Тут стоял грохот и дым, под ногами ходил ходуном асфальт, скрежетали трамваи, свистел милиционер (небезызвестный сержант Рябошапка), задерживая нетерпеливых пешеходов. И Жене вспомнились слова отца, не выносившего городской толчеи. «Город — это толкучка, — говорил он. — Здесь люди только и делают, что наступают друг другу на ноги». Женя, как коренная киевлянка, не соглашалась с отцом, но и она недолюбливала перекрестки, запруженные машинами, не любила стоять в дыму и грохоте. Оглянулась налево-направо и ловко проскочила между машинами на другую сторону улицы. Вот и сквер. Совсем другой мир. Шум остался в стороне, сюда не долетал скрежет тормозов — над деревьями стояла ясная солнечная тишина. На первой же аллейке Женя остановилась: ой, мамочка! Листьев — по колено. И какие листья! Большие, разлапистые — кленовые! Чистые-чистые, светло-желтые, прямо просвечивают насквозь. Женя поддернула ранец и пошла по аллейке «паровозом», взбивая ногами мягкую шуршащую перину. Внезапно она остановилась: с дальнего конца сквера неслись визг, крики, смех. Гляди-ка, да это же их класс играет. Женя узнала девочек, среди них надменную Виолу Зайченко, а подальше, за желтой завесой из листьев, разглядела Бена: он носился с мальчишками, высоко подбрасывая ноги, и с лету бросался вниз головой в ворох кленовых листьев. Женя направилась было к девочкам, но остановилась. Надо же осмотреться, разобраться, что тут происходит… Пятиклассницы играли в сторонке. Счастливые тем, что вырвались на волю, они пищали, кувыркались, набивали портфели листьями. «А вот — смотри какой! А вот!» — показывали друг дружке самые лучшие, самые яркие листочки. Да, это было время, когда распухают гербарии у девочек, а у мальчишек от баталий трещат и расползаются по швам брюки. Вот и сейчас над парком реял воинственный голос Бена: — Пятый полк, уря-я! В атаку! Бен и его армия понастроили настоящие крепости из кленовых листьев. Напротив — такие же укрепления: с валами, траншеями, засадами. Там залег противник, над стеной время от времени появляются носы, раскрасневшиеся щеки и горящие от возбуждения глаза. — Огонь! — прозвучало одновременно с обеих сторон, и десятки каштанов затарахтели по листьям, по мальчишечьим спинам, по головам. Прикрывшись портфелями, как боевыми щитами, противники вылезали из засады, Бена окружали, и он скомандовал: — Сто первая ар-рмия! В атаку!.. Вперед! Он поднялся над валом — в шахтерской каске, подаренной отцом, с килограммом значков на груди — и бросил своих воинов врукопашную. Противники сошлись, смешались, завязалась бешеная схватка: мальчишки сбивали друг друга с ног, вдавливали вражеские головы в листву, брыкались, сцепившись, катались по земле. И было трудно понять, кто побеждает: из разворошенных листьев высовывалась то чья-то голова, то ноги, то голова вместе с ногами. Женя решила проскочить аллейку, пока атака не закончилась. Но Бен заметил ее. Мгновенно вскочил на ноги, вытряхнул листья из взлохмаченной головы и, отдуваясь, прокричал: — Сто первая, в укрепления! На горизонте — шпион! Зашелестели листья, мальчишки как ошпаренные взлетели с земли и бросились к своим боевым позициям. Опять над крепостными валами торчали только носы да воинственно сверкали горящие глаза. Женя оказалась меж двух укреплений. — А-а, Цыбулько! — Цыба! — Цыбулина! — раздавалось из укреплений. — Беглым! Шрапнелью! Пли! — заорал, не жалея своей глотки, Бен. Снова, как у школы, посыпался на нее град каштанов, только Беновы орлы бросали их со всей силой. «Бомба! — сказала про себя Женя. — Ну сейчас я вам покажу!» Она пригнулась, закрыла голову руками и побежала. — Давай, давай, Жабулька! — кричали позади. Каштаны колотили по спине, а из укрытий уже выскакивали солдаты армии Бена. И Жене, наверно, досталось бы как следует, но тут что-то произошло — огонь внезапно прекратился. Когда Женя оторвалась от своих преследователей на несколько шагов и оглянулась, она увидела такую картину. Над обеими крепостями торчали нахохлившиеся мальчишечьи головы. Рты у вояк были широко раскрыты от удивления. А посредине, между вражескими укреплениями, происходило что-то невероятное. Там лежал толстый слой листьев, и под этим слоем что-то быстро-быстро бегало. Не бегало, а металось, катилось, как шаровая молния, оставляя за собой завихрения — листья дыбились, шелестели, вздымались буграми. — Кошка! Кошка! — кричали воины. — Ежик! — Лисица! Мальчишки наперегонки бросились за клубком: «Вот! Вот он! Держи! Каской его, каской!» Они гонялись за ним, падали, ныряли в кучи листвы, шарили руками там, где возникало шевеление, но каждый раз ловили пустоту! А оно, шустрое и невидимое, забегало еще быстрее. Нет, это была не кошка и не лисица, а что-то совсем-совсем другое. Да и разве кошка или лисица смогли бы забраться под толстый слой листьев? Женя постояла, посмотрела, как роются в листве соратники Бена, тихонько усмехнулась и проговорила про себя: «Вот дураки! Никогда им его не поймать!» Мальчишки совсем забыли про Женю, и девочка спокойно пошла себе своей дорогой. Когда она выходила из скверика, что-то зашелестело в кустах, потом кто-то едва различимый в падающей листве взметнулся в воздух и сел к ней на плечо. «Вот молодец! — сказала Женя. — Ты спас меня от чокнутого Бена. Спасибо тебе!» И она поцеловала теплую пушистую лапку. Стало совсем не страшно — ведь она же не одна, а вдвоем с мохнатеньким другом. С ним можно идти куда угодно. Села в восемнадцатый троллейбус, доехала до областной больницы, вышла на воздух и просияла: в самом деле, сюда стоило заглянуть! Здесь, над Бабьим яром, росли могучие тополя, каштаны, дубы и палой листвы было еще больше, чем на Лукьяновке. За каждой проносившейся по улице «Волгой» или «Жигулями» взлетала и мчалась следом целая метель, и долго еще кружились в воздухе золотистые листья, оседая потом на балконах, на электрических проводах. Женя пошла к спуску. Ступала не спеша, смотрела вперед, туда, где кончалась улица и в проеме между деревьями голубело небо. И странное чувство охватывало ее: казалось, будто земля вот-вот кончится, а дальше будет только небо, и она войдет прямо в голубой простор. И чем ближе подходила она к склону, тем больше усиливалось это ощущение, потому что впереди, за обрывом, не было видно лесочка, ни воды, ни островка земли, а только небо, и начиналось оно прямо у Жени под ногами. Казалось, разбегись, взмахни руками — и полетишь. Ступила еще один шаг — и даже дыхание перехватило. Какой простор! Внизу вьется дорога, по ней, точно привязанные к проводам, медленно движутся такие малюсенькие на расстоянии желтобокие троллейбусы. А там, далеко, в голубой дымке виднеются кварталы Подола и Куреневки, а за ними — в ясной синеватой дали — плесы Днепра, холм с Вышгородом на вершине, плотина Киевской ГЭС и даже — в колеблющемся мареве — серебристое колыхание Киевского моря. Жене казалось, что она видит еще дальше, видит Полесье, озера, глухие сосновые чащи, где бродят дикие кабаны, лоси и олени, где начинается царство чистой, первозданной природы. И легкая светлая грусть окутала Женю — тоска по путешествиям, по широкому миру, открывавшемуся сверху. Но… надо было идти домой и садиться за уроки, и так уже прогуляла целый час.ВИЗИТ ИЗОЛЬДЫ МАРКОВНЫ
Женина мама возилась на кухне. Сегодня она раньше пришла с работы — а работала Галина Степановна машинисткой на республиканском радио — и принялась за стирку. Развела порошок, включила стиральную машину — и в это время раздался звонок. Галина Степановна вытерла мокрые распаренные руки и побежала открывать дверь. В прихожую вошла молодая, модно одетая женщина — в перламутровых сапожках, в ярко-желтой блузке, в красной кожаной юбке, туго перетянутой в талии широким лакированным поясом. Она была яркая, сильно накрашенная: волосы пепельно-серые с фиолетовым отливом, загнутые ресницы густо-синего цвета, а на губах — в тон сапожкам — бледная перламутровая помада. Галина Степановна несколько растерялась: перед ней такая красавица, а она в переднике, в простой домашней кофточке, с закатанными рукавами. — Здравствуйте, — сказала гостья и приятно улыбнулась. — Будем знакомы: я Изольда Марковна, учительница вашей дочки. Галина Степановна, которую и на работе и во дворе все называли Галей или Галочкой — может быть, за ее простоту, а может, потому, что была она худенькая, тоненькая, как школьница, — так и отрекомендовалась: — Галина, — и покраснела еще больше. Изольда Марковна, как истинный колорист, сразу отметила про себя, что у матери такие же глаза, как у Жени, — светло-карие, внимательные. На солнце они становятся золотистыми и очень красивыми. — Заходите, пожалуйста, — засуетилась мать, приглашая учительницу в комнату. — Нет-нет, — Изольда Марковна приложила палец к перламутровым губам и заговорщически кивнула Галине. — Женя там, в комнате?.. Пойдемте на кухню. Мне нужно с вами немножко посекретничать. «Там такой беспорядок», — хотела было сказать Цыбулько, но не успела и рта раскрыть, как Изольда Марковна уже прошла на кухню. Ее нисколько не смутило, что там все разбросано. Учительница расчистила себе место у стола и села, заложив ногу на ногу. Быстрым взглядом окинула стены и заметила: — А знаете, чего вам тут не хватает? Радиолы. Или хотя бы приемника. Я, когда прихожу с работы (а приходишь всегда усталая и дерганая), сразу включаю музыку — что-нибудь такое легкое, эстрадное — и тогда начинаю мыть, варить, убирать. Под музыку веселее, — и она опять приятно улыбнулась. Женина мать стояла перед ней растерянная, со страхом и интересом смотрела на молодую красивую учительницу, любуясь нежным свежим цветом ее лица, ее холеными тонкими пальчиками. — Скажите, Женя что-нибудь натворила в школе? — осторожно спросила Галина Степановна. — Нет, нет не волнуйтесь! — взмахнула синими ресницами Изольда Марковна. Она глянула на стол, увидела печеную картошку и по-детски причмокнула перламутровыми губами: — О, печеная! В мундире. Давно я не пробовала такой. Можно одну?.. — Ради бога! — обрадовалась мать. — Угощайтесь! Вот хлеб, берите соль. Несмотря на свой экзотический (как говорил Бен — марсианский) вид, Изольда Марковна оказалась на удивление простой и разговорчивой. Она ловко очистила картофелину, не запачкав своих красных наманикюренных ноготков, посыпала ее солью и надкусила. И тут же посоветовала Галине Степановне не мучиться дома с бельем, а сдавать в прачечную. Это и дешево и быстро, а главное — никакой мороки; зато появится свободное время, и можно будет пойти с мужем в кафе или в кино. — А у вас есть муж? — неосторожно поинтересовалась Галина Степановна. — А как же? О, мой Геночка! Он недавно защитил кандидатскую. И Галина Степановна, сама того не ведая, навела учительницу на ее любимую тему: Изольда Марковна была безумно влюблена в своего мужа, гордилась им и могла рассказывать о нем до бесконечности. Геннадий Кныш, или «мой Геночка», как обычно называла его Изольда Марковна, работал научным сотрудником в Институте физкультуры. Изучал, какие биохимические процессы происходят в организме спортсмена, когда он бежит на дальние дистанции. Как истинный деятель науки, Кныш проводил эксперименты на себе: обвешавшись датчиками, батарейками и всевозможными измерительными аппаратами, похожий в таком обмундировании на космонавта в полете, он отправлялся в Пущу-Водицу. Там на лоне природы, где никто ему не мешал, он бегал. Бегал до тех пор, пока не случилось с ним одно приключение — с одной стороны, страшное, а с другой — счастливое. Что-то у него не клеилось, не получались последние расчеты. Погруженный с головой в свои изыскания, он забежал довольно-таки далеко в лесную чащу и наткнулся на спящего кабана. Вепрь в дикой злобе пробудился и увидел человека, обвешанного вдоль и поперек какими-то побрякушками. А главное — этот человек бежал. Кныш не знал (да он и не заметил кабана), что зверь обладает инстинктом хищника: гнаться за бегущим. Занятый экспериментом, Кныш внезапно услышал за спиной громкое хрюканье. Оглянулся — острые клыки нацелены прямо на него. Геночка, рассказывала Изольда, помчался что было сил, сразу же побив все мировые рекорды. Но и вепрь не отставал. Спасения не было — и Кныш на огромной скорости бросился к ближайшей сосне. Точно взрывной волной подбросило его вверх, на самую вершину. — Но не в этом суть, — сказала Изольда и гордо вскинула головку. — Уже сидя на дереве, Гена посмотрел на счетчики — а они были прямо-таки горячие — и закричал на всю Пущу: «Ура! Эврика!» Все расчеты, над которыми Геннадий Кныш бился полгода, оказались верными… — И как прошла защита диссертации? — заинтересованно спросила Галина Степановна. — Блистательно! В ресторане ему поднесли запеченного поросенка — в знак того, что благодаря дикому кабану были сделаны гениальные расчеты. Женщины весело рассмеялись. (А в стиральной машине, констатировала про себя хозяйка, стынет вода и мыльная пена оседает на дно.) Тем временем Изольда Марковна начала дипломатично выспрашивать, какая у Цыбулько семья, как живется Жене дома, чем она занимается в свободное время. — Какая у нас семья? — переспросила мать. — Живем мы втроем: Женя, муж и я. Муж сейчас на работе, он мастер на все руки: и маляр, и художник, и реставратор. Зарабатывает неплохо. У нас две комнаты: в первой мы с Васей, то есть с мужем, а в той, где потише, поспокойнее, дочка. Стараемся, чтоб было тихо. Правда, — каким-то извиняющимся тоном добавила Галина Степановна, — я машинистка, часто беру домой рукописи и стучу на машинке, но обычно на кухне, чтоб не мешать… — Ясно, ясно! — бодро перебила учительница и сказала, что она, собственно, так и думала: у них прекрасные домашние условия, дружная семья. (Тут Галина Степановна нахмурилась, но сразу же согнала с лица тревожную тень.) Это видно по девочке: Женя учится на одни «пятерки». И не потому пришла Изольда Марковна, а совсем по другой причине. — Видите ли… И учительница рассказала о том, что произошло на уроке: об огурце с поросячьим хвостиком, о странном хрюканье у доски и о волосатой лапке. — Да что вы? — искренне удивилась Галина Степановна. — То-то я вижу: пришла Женя какая-то виноватая, молча поела и поскорей за уроки. Мать вспомнила также, что в последнее время дочка вообще какая-то настороженная. Скрипнешь дверью — вскакивает, глаза встревоженные и будто что-то таит. Изольда Марковна задумалась. Потом проговорила медленно, тоном человека, делающего важные выводы: — Чудесно. Значит, она и дома такая же замкнутая, как в школе. А не знаете ли вы, с кем она дружит, с кем делится секретами? Галина Степановна вздохнула и принялась сосредоточенно поправлять волосы. Чувствовалось, что ей не хочется говорить на эту тему, но она пересилила себя: — Видите ли, тут и наша вина. У дочки есть одна особенность… ну, как вам объяснить — детскость какая-то. Еще совсем маленькой вбила себе в голову: хочу быть мальчиком. Сколько ей лет-то тогда было? Три, от силы, три с половиной. Ну, а мы пошли у нее на поводу: мальчик так мальчик, пусть себе забавляется. Потом смотрим, забава-то в серьезное переходит: надо в садик идти, а она платье ни в какую надевать не хочет. Так, знаете, до самой школы ходила она у нас в брюках да в мальчишечьих рубашках. Посмотрю, бывало, на девочек — с бантами, с косичками, красивые все, как бабочки. И так мне обидно делается, думаю: уж не обокрали ли мы сами своего ребенка? Говорю ей: смотри, Женя, какие у девочек бантики красивые, давай и тебе заплетем. Какое там! Не подступись! Ремень ей подавай, пистолеты, погоны. — Значит, она больше с мальчишеской компанией водится? — В том-то и беда — теперь у нее вообще товарищей нет среди сверстников. Девочек Женя по-прежнему обходит стороной, а мальчишки, когда поменьше были, принимали ее, а сейчас не принимают — девчонка ведь все-таки. Вот и тянется она либо к малышне (есть у нее закадычный друг Мотя, лет пяти) или к старшим, к взрослым. Профессору Гай-Бычковскому, нашему соседу, надоедает… — А вы в последнее время, — развивала дальше свою мысль Изольда Марковна, — никаких игрушек ей не покупали? Ну, таких которые пищат, или хрюкают? — Господи, какие там игрушки? Некогда ей теперь в игрушки играть. Уроки, бассейн да книжки по вечерам или к профессору побежит — и все… — Хм, странно, — нахмурила тонкие шнурочки бровей Изольда Марковна. — Что же это было у нее в классе? Может, какого-нибудь щенка притащила?.. Так нет же, по-поросячьи хрюкало… — А знаете, — заулыбалась такой догадке Галина Степановна, — вполне возможно! Щенок! Она давно грозилась: если не купим щенка, сама заведет — поймает или выпросит у кого-нибудь. Учительница опять задумалась, потом спросила: — А можно посмотреть, что Женя сейчас делает? — Отчего же нельзя? Пойдемте! — Нет, нет, Галочка, вы меня неправильно поняли. Давайте потихоньку. На цыпочках. Чтоб не испугать ее. — Изольда Марковна поднялась на носки и прошлась, показывая, как надо это сделать. Крадучись, направились они к комнате. «Как-то нехорошо подглядывать», — подумала мать, однако перечить учительнице не посмела. Они подкрались к двери, притаились. В Жениной комнате было тихо, так, словно там никого не было. Только сонно тикал будильник. И вдруг послышался разговор — короткий и тихий. Разговаривали двое. Да, именно двое. Один голос был Женин, это несомненно. Она что-то спросила. И ей ответил тонкий, шепелявый, хрипловатый голос. Казалось, говорил старичок или кто-то простуженный. На лице матери изобразилось удивление: кто бы это мог быть? Ведь никто к ним не заходил. Интересно! Она легонько приоткрыла дверь. Две головы, ее и Изольдина, одновременно просунулись в комнату. Глаза нетерпеливо зашарили по полу, по стенкам. Ага, вот она Женя. Сидит на полу и строит из книжек какое-то грандиозное сооружение — что-то вроде небоскреба или скорее Пизанскую башню. Башня покачивается, клонится набок, а Женя — сейчас она чрезвычайно сосредоточена, сидит, прикусив язык, и словно бы вовсе не дышит — пытается положить на сооружение сверху тяжелый том словаря. — Слушай, — обращается она к кому-то. — Подопри стенку. Вот тут, а то завалится. Да поскорей же! И чудо! Кто-то маленький, похожий на человечка (только с хвостом) выглянул из-за горы книг и протянул две лапки, чтоб подпереть… — Ну! — не сдержалась Изольда Марковна. — Видите, лапка! Волосатая! Женя вздрогнула, резко обернулась, книги рухнули на пол, а ее помощник куда-то юркнул, будто его и не было. На какое-то мгновение воцарилась напряженная тишина. Женщины замерли в своей комически-неудобной позе — так и стояли, наполовину просунувшись в комнату, и было им неловко за подглядывание (точнее, оттого, что их поймали на этом). А Женя неподвижно сидела на полу, повернувшись лицом к двери, бледная и растерянная. Изольда Марковна первой пришла в себя. Выпрямилась, тряхнула фиолетовой прической и распахнула дверь. Сказала нарочито бодрым голосом: — Ну вот, Женечка, я и пришла к вам. Еще раз — здравствуй! Что ты так побледнела? Испугалась меня? Или не рада, что я пришла к вам в гости? Галина Степановна не умела так искусно притворяться, она все еще стояла точно оглушенная, и ей было вдвойне неудобно — и перед дочкой, и перед учительницей. — Женя, с кем ты разговаривала? — как можно ласковее спросила мать. — Как? Когда? — По голосу чувствовалось, что Женя хотя и испугалась, но уже овладела собой, напряглась и готова к защите. — Когда? — она сделала невинное лицо. — Только что. — Ни с кем я не разговаривала. — Женя, мы слышали. Собственными ушами. Ты ведь у меня правдивая девочка — скажи. Женя обвела взглядом пол, где валялись книги, и, будто догадываясь, очем идет речь, ответила: — А-а! Так это я сама с собой. По лицу матери пробежала тень. Позор! Дочка говорит неправду. Да еще при учительнице. Галина Степановна не стала больше задавать вопросы, а кивнула Изольде Марковне, призывая ее в кухню. Там она извинилась перед учительницей, сказала, что сама поговорит с дочкой — до сих пор та ничего от нее не скрывала. «Выясню и приду в школу», — пообещала мать. Женщины попрощались, Изольда Марковна еще раз очаровательно улыбнулась и снова напомнила: — А радиолу купите. И непременно поставьте на кухне. …На улице стемнело. За окнами зажглись фонари, еще напряженнее стал гул машин — чувствовалось, что рабочий день подходит к концу. Галина Степановна торопилась: вот-вот должен был прийти муж, а на плите — полный бак белья. Она стирала и выжимала простыни и наволочки, обдумывала, что приготовить на ужин, однако все эти мелкие повседневные заботы заслоняла одна главная мысль: что случилось с Женей? Что у нее за тайны? Почему она таится и говорит неправду? Может, уже наступил тот сложный, переходный возраст, когда ломается не только голос, но и характер, меняются привычки и ребенок становится взрослым? Раньше дочка была для нее как ясное стеклышко — все на виду, все открыто. А теперь — какое-то упрямство, скованность, секреты… Галина Степановна наспех прибрала на кухне и пошла к Жене. Та сидела за столом, перед ней горела лампочка, она заглядывала в раскрытый учебник и что-то писала. Худое смуглое лицо было сосредоточенно. — Задачки решаешь? — спросила мать. — Задачки. — Получаются? — Получаются. У Жени все всегда получалось. И задачи, и английский, и ботаника. Она никогда не обращалась за помощью к родителям. Мать немножко постояла у дверей, вздохнула и начала издалека: — Женя… Почему вы баловались в классе? Женя страдальчески посмотрела на мать: ну что, дескать, вы от меня хотите? И как вам объяснить? — Знаешь, мама, вот когда она, Изольда Марковна, на переменке заходит к нам в класс и просто разговаривает с нами, такая она веселая и хорошая, и девчонки к ней липнут — расспрашивают, разглядывают вышивки. А как начнет объяснять урок — ну так нудно, так неинтересно. — Как это нудно? — Да просто. Спать хочется… А вот директор, у него все наоборот: сам такой неинтересный, вроде даже сердитый, а заговорит про Троянскую войну — и в классе станет тихо-тихо, даже Бен и тот молчит. Мать так и не поняла, почему был сорван урок рисования. И спросила прямее: — Ну, а эта зверушка, которая была у тебя? На улице небось нашла? — Мама, — Женя с мольбой посмотрела на мать, — ну что вы все на меня?.. В это время на кухне что-то зашипело — видно, убежала приготавливаемая еда, и мать, охнув, опрометью бросилась туда, отпустив на волю Женину душу. Однако сегодняшний день еще не окончился, и ему не был уготован благополучный конец.ВАСИЛЬ КОНДРАТОВИЧ
Киев затих. Наступила вторая половина ночи. Мать и Женя давно спали, когда на лестнице послышались тяжелые медленные шаги. Это возвращался домой тридцатипятилетний глава семьи — Василь Кондратович Цыбулько. Худой и мрачный, с повисшими на одной дужке очками, он шел, изрядно покачиваясь, одной рукой держась за перила, в то время как вторая прижимала к груди сундучок с малярным инструментом. Василь Кондратович был «поднебесных дел мастером». Целыми днями лазил он по лесам где-нибудь под куполами собора, под крышами домов и башен — словом, там, где свистят холодные ветры и тучи ходят над самой головой. Там, в небесах, на верхотуре, был он первым маляром Киева. И сам Василь Кондратович говорил о себе без ложной скромности: «В этом деле я первый — найдите-ка еще такого!» Он очень гордился тем, что красил стены университета, белил и подсинивал колокольни Софийского собора, украшал фасад Дворца пионеров. И был он не просто маляром, но и скульптором, реставратором, художником. Одним словом, там, на лесах, были у Цыбулько золотые руки. Когда же он спускался на грешную землю, эти золотые руки тянулись иногда к рюмочке. Так случилось и в этот раз. До глубокой ночи бродил, пошатываясь, маляр Цыбулько по площадям и бульварам Киева. И вот в конце концов он оказался в своем доме на Стадионной улице, нащупал двери собственной квартиры и непослушною рукою наконец отомкнул замок. Войдя в коридорчик, он решительно заявил: — Океан отравлен, тысячи китов выбросились на песок Флориды. Но, очевидно, почувствовав запах выстиранного белья, он догадался, что находится дома. И сразу будто переродился: умолк, вроде бы даже протрезвел и на цыпочках неслышно, как по воздуху, проскользнул в комнату. С мыслью, что завтра ему как следует попадет, он и уснул. Снились ему взрывы, землетрясения, обвалы. Океанские волны подбрасывали Цыбулько вверх и, не дав опомниться, с силой швыряли вниз, ему не хватало воздуха, и что-то настырно щекотало в носу. Цыбулько чихнул и проснулся. И в темноте отчетливо услышал шепелявый голос: — И что он храпит на весь дом!.. А ну повернись и цыц! — чья-то волосатенькая лапка промелькнула перед глазами, а в нос запихнули то ли спичку, то ли палочку. — Ап-чхи! — чихнул Цыбулько и не на шутку перепугался: «Что это за черт здесь лазит?» В темноте кто-то ползал по его груди, и вдруг снова послышался шепелявый голосок: — Сейщас ты у меня пох-храпишь!.. — Под носом защекотало от прикосновения волосков, и на Цыбулько повеяло запахом сырости и плесени — явно не человечьим, а каким-то звериным духом. Цыбулько похолодел: что за наваждение? Хотел шевельнуть рукой — не движется, онемела рука, стала точно мерзлая рыбина. И пальцы слиплись, будто у мертвеца. Он лежал в оцепенении, боясь дохнуть; потом потихоньку пошевелил пальцами, протянул руку в темноту и дернул за шнурок. Вспыхнул торшер. И — о боже! Прямо у него на груди, перед самым носом, сидел какой-то зверек! Зажмурился, заслонился от света ручонками. Был он рыжий, маленький, с тоненькими волосатыми лапками. Понимая, что явно перебрал сегодня и что, очевидно, все это ему чудится, Цыбулько тем не менее дернул ногой и закричал: — Сгинь! Изыди! Кыш, наважденье! — напрягся, локтями и коленями приподнял одеяло, сбросил его с себя. Зверек шлепнулся на пол, перекувырнулся, но тут же вскочил на ножки и зацокал по паркету. За ним волочился длинный, тугой, с кисточкой на конце хвост. — Галя, черти! Черти в квартире! — закричал он отчаянно и принялся расталкивать жену. — Так я и знала! Уже черти мерещатся! Говорила я тебе, до чего водка проклятая доводит! — Да нет же, Галя, ты посмотри! Вот же он, под тумбочку залез, под телевизор. Притаился. А глаза!.. Зеленые, страх! — Цыбулько испуганно вращал глазами, и голос у него был хриплый и срывался от возбуждения. — Вася! — мать не на шутку встревожилась. — У тебя не белая горячка случаем? Ляг и усни, успокойся… Крик разбудил Женю. Ничего не понимая, она заморгала глазами, стараясь согнать с себя сон. Вокруг было тихо и темно, только сквозь оконное стекло сочился свет уличного фонаря, словно окруженного желтым пухом. Ночь, тишина. А за стеной рядом — какой-то шум, грохот и выкрики: — Вот он! Лови его, лови! Что-то звякнуло (чашка, что ли, упала?), и звон рассыпался, отдаваясь эхом в ночной тишине. Наконец до Жени дошло, что шум этот не у соседей, не у Жупленко, которые постоянно ссорятся, а у них, в первой комнате. Девочка вылезла из-под одеяла и сползла с кровати, сразу же поймала ногами стоптанные тапочки. Встала, задумалась: идти ей туда или не надо? Что там происходит? А в первой комнате горел свет — внизу под дверью светилась узенькая белая полоска. Пол сотрясался от топота, хлопанья, шарканья — как у них в классе, когда они все вместе играют в жмурки. Вот загремел стул, и отец грозно закричал: — Стой! Ни с места! Попался! И видимо, спрыгнул с дивана, но поскользнулся на паркете; послышался стон и сердитая брань. Женя стояла за дверью в ночной рубашке, и под ребрами у нее закололо — то ли от холода, то ли от нервного напряжения. Легонько, одним пальчиком она потянула на себя дверь и, когда полоска света наискось перерезала потолок, одним глазом заглянула в щелочку. Отец и мать стояли на коленях и как будто вместе били поклоны — заглядывали под тумбочку. — Ты смотри! — мать так и застыла в низком поклоне. — Уже и мне мерещится. Точно — вроде кто-то сидит! Может, крыса? Вася, а ну-ка дай совок, я попробую его вытащить. И вдруг сонная, зажмурившаяся от яркого света девочка выросла перед родителями — в белой ночной рубашке, с припухшими веками, с круглыми оттопыренными ушками, розовыми от сонного тепла. — Мам… Не надо совком. Я расскажу…БЕН. 101-Я АРМИЯ ЮНЫХ РАЗБОЙНИКОВ
А началось все с Бена. Когда Женя выходила на балкон, ее глазам открывался весь их двор. Прямо напротив стояла кочегарка — неуклюжее кирпичное сооружение с высокой трубой, черной от дыма. За кочегаркой торчал башенный кран, а возле него медленно вырастали из земли стены девятиэтажного дома, поглядывая на солнце пустыми глазницами окон. Кое-где еще сохранились следы от старых особнячков — заросли дикого винограда, кружочки и прямоугольнички запущенных уже цветников, несколько фруктовых деревьев, полуразвалившиеся заборчики с дырками от выломанных досок, через которые так удобно пробираться в соседние дворы, а то и на заводской стадион. В дальнем углу, заслоняя двор от северных ветров, стоял новый семиэтажный дом, облицованный белой плиткой. В том доме, тоже на втором этаже, проживал Андрей Кущолоб, то есть Бен. Жене был хорошо виден его балкон, над которым мерно раскачивалась импортная, ярко-желтая циновка. На фоне ее и являлся народу главнокомандующий 101-й армией Бен-Кущолоб. Воинство приветствовало появление своего вождя дружными воплями, а когда Бен львиными прыжками спускался наконец во двор, от топота десятков ног гудели подвалы и подъезды, крики «Ура!», «Вперед!» и «Руки вверх!», сопровождаемые гулким эхом, раскатывались по двору. Одним словом, начинались отчаянные баталии, о которых мы расскажем несколько позже. С Беном Женя познакомилась давно, чуть не с пеленок. А домой к нему впервые попала, когда они уже вместе ходили в школу. Однажды мама зачем-то послала ее к Кущолобам. Кажется, одолжить машинку для консервирования. Превозмогая охватившую ее робость, девочка направилась к соседнему дому. Уже двери парадного свидетельствовали о том, что здесь живет воитель-милитарист: стекла были выбиты, заменявшая их фанера вся изрезана, штукатурка на стенах отлетела, обнажив рыжую кирпичную кладку. И повсюду грозные надписи: «Стой!», «Сдавайся без боя!». Но самое страшное было впереди. Двери Беновой квартиры походили на вход в пещеру разбойников. Черный дерматин то ли кто-то порубал саблей, то ли прострочил из пулемета — из дыр вылезала белая стекловата. Сверху нарисован череп и кости, под ними грозная надпись «Fantomas», а еще ниже пистолет, стреляющий прямо вам в глаза, и гостеприимное приглашение: Wellkommen! (Милости просим!) Женя внимательно осмотрела дверь и все-таки отважилась позвонить. Но не тут-то было. Звонка как такового не было, на его месте болтался провод с разбитым колпачком на конце. Девочка осторожно дернула за провод и вскрикнула: ударило током! Вот бомба! Как же к ним войти? А за дверью — топот, гром, выкрики. «Наверно, телевизор смотрят», — подумала девочка. Она тихонько постучала в дверь — никакого отклика. Стукнула ногой — и дверь сама отворилась. Никаких замков, как оказалось, у Кущолобов не существовало. Девочка вошла в переднюю, и ее глазам предстала странная картина: Бен сидел на спине у стоящего на четвереньках деда, пришпоривал его пятками и поощрял звонкими выкриками: «Так, дед, хорошо! Брыкайся, брыкайся! А теперь сбрасывай!» Выяснилось, что Бен занимается «приручением мустангов». Как раз недавно в «Клубе кинопутешествий» показывали праздник ковбоев в Канаде, и нашему юному герою запали в душу сцены боя быков (особенно когда охотники прятались в бочку от разъяренных животных), соревнований на фаэтонах, приручения диких коней. Самые эффектные сцены сейчас повторялись в домашних условиях. И в тот момент, когда дедушка-мустанг начал по-настоящему брыкаться, скрипнули двери и в комнату вошла Женя. Домашнее кино прервалось. Бен вскочил на ноги — он был в джинсах, сплошь обклеенных и обшитых всевозможными эмблемами, — ткнул Жене в грудь автомат и крикнул: — Стой! Ты на границе! Вытряхивай свой контрабандистский товар! А дедушка, кряхтя и постанывая, распрямился и молча вытирал мокрую от пота лысину.Женина мама говорила о Бене: «Ничего удивительного, что хулиганит. Растет неприкаянный, как трава в поле». В самом деле, Бен рос почти без родителей. Его мать, стройная синеглазая красавица, с блестящими и длинными, как у русалки, волосами, работала костюмером в театре и одному богу известно почему — то ли для изучения новых моделей, то ли просто из любви к дальним странствиям — все больше жила по заграницам. Ее муж, инженер-конструктор крупного завода, видно, не хотел отставать от жены и тоже надолго уезжал в разные — близкие и дальние — страны. Дома родители встречались редко, только по большим праздникам, набрасывались на сына с нежностями и ласками и снова разлетались на Восток и на Запад, оставив Бену прощальные поцелуи да кучу всякой всячины: немыслимые джинсы с ярлыками-тиграми, пистолеты и автоматы, работавшие на батарейках, ковбойские пояса, настоящие бинокли и горы жевательной резинки. Этими дарами они еще больше распаляли боевой, воинственный дух Бена, и он днем и ночью наступал, стрелял, брал в плен. К воинственному воспитанию Бена приложил руку и дед Андрон — худощавый, высокий старик с мучнисто-белым, точно напудренным, лицом. Несмотря на свой преклонный возраст и болезни, он трудился не покладая рук: был для Бена и нянькой, и поваром, и воспитателем. Старик варил обеды, ходил на рынок и в магазины, убирал в комнатах, стирал, купал Бена, делал с ним уроки, пытаясь вбить науки в непокорную голову внука. И была у этого старого, замученного бытом человека одна слабость — воспоминания. Андрон Касьянович прошел три войны, имел четыре ранения, одну контузию и медаль «За спасение на водах». И воспоминания его, естественно, были насыщены боевыми эпизодами, батальными сценами, атаками, побегами, преследованиями. Воспитывая Бена с самых пеленок, он не пел ему колыбельных песен, не рассказывал про лисичку-сестричку и кота-воркота, а нанизывал историю за историей, одна страшней другой, из своей богатой биографии. В двенадцать лет Бен присвоил себе звание генерала и организовал во дворе армию, которой дал войсковой номер — 101-я бронедесантная. К тому времени Бен уже вымахал деду по грудь. Это был патлатый, долговязый паренек с пухлым личиком и румянцем во всю щеку. А глаза! Голубые, девчачьи, безмятежно-веселые, как у матери! Дед старательно выкармливал внука, и тот рос как на дрожжах, через неделю вылезал из новой одежды — рукава рубашек едва закрывали локти, а только что купленные джинсы подскакивали выше щиколоток. В этой кургузой одежонке Бен, как шальной, гонял по двору.
Теперь настало время познакомить вас со 101-й армией. Прозвенел последний звонок в школе, и мальчишки со Стадионной улицы галопом мчатся домой, подбадривая друг дружку портфелями. С визгом и хохотом врываются они в подъезды, взлетают по лестнице через две-три ступеньки, швыряют портфели у порога, заглатывают непрожеванные котлеты и запыхавшиеся, с горящими глазами выбегают во двор. Тут, возле песочницы, собирается все воинство. Каждый со своим оружием: поблескивают железные, пластмассовые, деревянные сабли и автоматы; кое у кого самодельные томагавки и мачете, менее изобретательные обвешались наганами и гранатами, раздается нетерпеливое щелканье курков. Форма у всех одинаковая: потрепанные, затертые до дыр джинсы, рубахи с погонами, прикрученными проволокой, туго перепоясаны солдатскими ремнями, на груди — значки и медали, тайно вытянутые из отцовских ящиков. На головах — пилотки, шлемы, милицейские фуражки… Все это придает весьма грозный и внушительный вид 101-й бронедесантной армии. Впереди, чуть согнувшись, небрежно закинув за спину грязный, бывший когда-то красным шарф и надвинув на глаза старую, поржавевшую каску, застыл в знаменитой вратарской стойке Вадька Кадуха — правая рука Бена. Армия готова к сражениям, она волнуется, с нетерпением поглядывает на балкон, где мерно покачивается ярко-желтая импортная циновка с ослепительно красным солнцем. И вот в его лучах появляется круглая румяная физиономия Бена. Мальчик судорожно что-то дожевывает, а дед уже маячит над ним со стаканом компота в руке. С набитым ртом Бен приветствует свое войско: — Салюто, командо тореро! Ара-ра! — и потрясает в воздухе генеральской рукой. Армия дружно вздымает вверх сабли, пистолеты, автоматы, прыгает от восторга и отвечает своему командиру неистовым криком: — Бен! Бен! Ара-ра, Бен! Громогласные приветствия прославленному вождю и полководцу волнами катятся по двору; звенят стекла в окнах, вороны с карканьем взлетают с деревьев, а перепуганные мамы предусмотрительно откатывают детские колясочки куда-нибудь подальше — за дом или на улицу. Нетерпеливое возбуждение нарастает, и вот из парадного, подобно вихрю, выскакивает Бен. На нем черный летчицкий шлем, позолоченные (поистине маршальские!) погоны, пояс с серебряными заклепками, джинсы на застежках-молниях, а в руках черный сверкающий автомат. Как вождь папуасов, Бен с диким гиканьем делает несколько львиных прыжков, затем припадает на одно колено и дает оглушительную очередь по своей собственной армии (очевидно, для устрашения — должны же подчиненные чувствовать силу и власть своего повелителя!). Потом Бен подскакивает, нацеливает свои отчаянные светло-голубые глаза в Вадьку Кадуху и спрашивает: — Все готово? — Да, сэр, — козыряет тот и лихо сплевывает жвачку. Худой, нервный, весь какой-то ломаный, Кадуха, сирота из соседнего двора, поправляет вратарские щитки. На его лице застыла презрительная гримаса, красноречиво говорящая: «И чего ты выламываешься, Бен? Пигмей ты. Кому-кому, а уж тебе-то известно, как ты получил пост командующего: купил у меня за сигареты и кой-какую копеечку. И продал я его тебе на время, вот захочу — сделаю тебе аперкот и заберу обратно. Скушал?» Однако, задобренный жвачкой, Кадуха не разжигает сейчас внутренних распрей, во всем подчиняется командиру и только презрительно сплевывает сквозь зубы. Наступает самый драматический момент — разделение армии на «наших» и «не наших». Все, естественно, хотят быть «нашими», и начинается свалка и перебранка. Но у Бена собственный принцип деления — он отбирает в свою группу самых ловких подлиз, а остальных — нелюбимчиков — пинком отправляет к «не нашим». Вадька равнодушно, с высокомерной улыбкой наблюдает из-под надвинутой на глаза каски, какую шпану подсовывают ему в отряд. «Ничо! — написано на его сморщенной, давно не мытой, похожей на печеную картофелину физиономии. — Мы и с мелюзгой вам всыплем». Наконец армия поделена. В каждой из враждующих групп есть танкисты, диверсанты, лазутчики, санитары. Армия рвется в бой! И тут Бен из своего автомата, того, что работает на батарейках, дает длинную очередь беглого огня, делает прыжок и издает вопль, подобный тигриному рыку. Это означает, что битва началась. Отчаянная трескотня, визг и вопли сотрясают дом от первого до пятого этажа, наполняют соседние дворы, долетают до стадиона, до Лукьяновского рынка. — Ироды! Совсем с ума посходили! Чтоб вам пусто было! — доносится из окон, а из подвала выбегает худющий как жердь, зеркально-лысый кочегар Хурдило — он глух как пень, однако даже он услышал эту бешеную пальбу и, вооружившись кочергой, бежит к песочнице. Увидев всклокоченного деда, и «наши» и «не наши» все разом вскакивают на ноги и драпают в подвал. Впереди мчится Вадька Кадуха с бесстрашным и хищным лицом; Бен со своими орлами отступает в темные, глухие катакомбы, в подземелье, в страшные закоулки, куда боятся забираться даже коты. Огромный подвал (с погребками и сарайчиками) тянется под домом вдоль всей его площади: узкими темными галереями можно выйти на другой конец квартала, если не заблудишься в боковых проулках и переходах. Топот, крики, стрельба теперь вырываются из-под дома; гулко гудит подвал, слышно, как шлепают подошвы по цементному полу, как кто-то испуганно визжит, настигнутый в темноте. Там на ощупь, вслепую бьются, умирают, преследуют друг друга воины 101-й. Постороннему может показаться, что в этой войне царит хаос, в котором невозможно разобрать, кто наступает, кто обороняется, кто жив, а кто геройски погиб. Зачастую так оно и бывает: только что убитый внезапно воскресает, прыгает на плечи убийце и валит его на землю. А то вдруг только что разбитая наголову армия быстро приходит в себя, и раздаются победные клики: «Ура! Наша взяла!» Но Бен не был бы Беном, если бы в запутанные вопросы сражений не внес полную ясность. Он и его стратеги разработали железные правила, которые четко определили, кого считать убитым, кого контуженным, а кого — легко раненным. Тут все зависит от быстроты твоей реакции и силы твоего голоса: если ты первым заорал: «Тра-та-та!» — и сумел крикнуть так, чтобы заглушить противника: «Падай, ты убит!» — значит, никаких дискуссий быть не могло — враг падал на землю как подкошенный. Если смертоносные очереди прозвучали одновременно, вы обязаны упасть оба. Важно было также и то, кто кого первым собьет с ног, рубанет саблей. Основной вопрос: кто победил — «наши» или «не наши» — решается общим всеармейским ревом: чья сторона перекричит, та и торжествует победу. И уже после боя для внесения полной ясности и во избежание лишнего кровопролития по старинной благородной традиции на сечу выходили двое — вожди враждующих сторон. Начинался так называемый конный бой. Кадуха сажал себе на плечи самого цепкого и ловкого карапуза, который лучше всех в войске царапается; Бен усаживал на себя такого же, только полегче. И вот с всадниками на плечах они вступали в поединок. Карапузы с отчаянным писком и верещанием царапались, норовя половчее ухватить врага и стянуть его с коня на землю. Под свист, крики и улюлюканье продолжался этот бой до тех пор, пока Бен или Кадуха не собьют с ног друг дружку. И когда побежденный падал в траву, расквасив нос себе и всаднику, раздавался такой победный вой, что глухой Хурдило снова выскакивал из подвала.
ХОРТИК С АНХИНОЮ
Женя Цыбулько редко выходила на улицу. Как-то не получалось у нее с гулянием: то уроки, то в бассейн, то в магазин за молоком надо сбегать. Вечером мама прямо силой выталкивала ее из дому, приговаривая: «Что ты все за книгами да за книгами? И так уже зеленая, ничего не ешь, и глаза вон мутные, невеселые — куда это годится? Иди, побегай с ребятами». Женя, может, и побежала бы во двор, но к кому? Иногда она слышала, как под окнами девочки играют в классы или прыгают через скакалочку. Но идти к девчонкам ей как-то не к лицу — ведь всем известно, что ее игрушки — сабли да пистолеты и есть у нее даже синяя солдатская рубаха с настоящими летчицкими погонами. (Все это было в давние, октябрятские времена, когда Жене нравилось нацеплять на себя всякие побрякушки, но это прошло еще в третьем классе.) И все же когда Женя выходила на улицу, то после некоторого колебания она направлялась к мальчишкам. — А-а-а, Цыба! Жабулька! — встречала ее презрительными кликами армия Бена. — Гоу хоум! Поворот на 180 градусов! Женя на минуту останавливалась поодаль, внутренне вся сжималась, напрягалась и говорила себе: «Не боюсь я их! Не боюсь! Вот я им покажу!» Насупившись, она упрямо направлялась к вооруженной кучке, будто не замечая их подначек. В ее настороженных глазах было написано решительное: «Только троньте, так получите!» А силенки у нее были — в этом убедился не один отважный воитель. Взгляды скрещивались: Женин, твердый, неустрашимый, и их, насмешливо-презрительный. Казалось, вся компания вот-вот налетит на Женю, забросает ее песком, комьями земли, но тут с Беном происходило что-то совершенно непонятное: он краснел, мялся, в нерешительности моргал глазами, и как только Женя приближалась к толпе, вдруг срывался с места и с криком: «За мной!» отводил свою гвардию на дальние позиции, чтобы только не затевать драку. Даже ближайшие соратники, самые доверенные лица Бена не понимали, что с ним происходит. Сколько раз — и все это видели — он бесстрашно нападал на толстощекого крепыша Шурика, атамана из соседнего двора, и под свист и улюлюканье тыкал его носом в землю. А перед какой-то Жабулькой пасует. Да еще и краснеет до ушей. По правде говоря, Бен и сам не понимал, что его смущает в этой девчонке. На людях он дразнил Женю, издевался над ней, мог довольно-таки грубо толкнуть, но в глубине души думал: «Нет, все же она молоток! Не трусит, не отступает!» И с необъяснимым волнением украдкой наблюдал, как бегает по двору эта упрямая ушастая девчонка, и ее упрямство, ее тяготение к мальчишеской компании особенно нравились ему. — За мной! — командовал Бен и с грозным видом проносился мимо Жени, не преминув при этом как бы ненароком зацепить ее локтем. Мальчишки убегали за «генералом», а Женя после пережитого напряжения успокаивалась и говорила себе: они сдались. Хоть и не приняли ее по-человечески, зато и прогнать не посмели. А потом как-то само собой выходило, что Женя включена в игру, и вот она уже санитарка, и наступает, атакует, кричит вместе со всеми, колошматит врага по спине. Да, она бегала и воевала вместе с мальчишками, но только все как-то сбоку-припеку, на самом краешке игры. Эта отстраненность мучила Женю, и всякий раз она думала: «Ну почему я не мальчишка? Почему им все можно — лазать по деревьям, стрелять, драться, носить погоны? А я?..» Тогда Женя не подозревала, что через год-два она будет смеяться над этими своими детскими печалями и радоваться тому, что родилась девочкой. Ведь это же прекрасно — быть женщиной. Как ее мама. Сколько в ней доброты! Когда мама наденет свое любимое кремовое платье, а на ноги — белые туфли на высоких каблуках, слегка подкрасит губы и выйдет на улицу — какая она тогда красивая! И как приятно Жене, когда ей говорят во дворе: ты счастливая, у тебя такая добрая и приветливая мама. Однако к этим открытиям Женя пришла несколько позднее, а пока что она с саблей наперевес носилась вместе с разбушевавшимся воинством, а у подвала стоял ее Мотя, худенький, с завязанными ушками, и печально, сиротливо смотрел, как гоняется армия Бена и как самый лучший, самый серьезный на свете человек Женя Цыбулько, которая кормит его вафлями и дарит красивые стеклышки, будто превратилась в маленького шалуна-мальчишку, бегает с ними вместе и даже не замечает его, Мотю. Малыш надул губки, сморщился и с грустью думал, что если она, Женя, сейчас не подбежит к нему, не поздоровается, то он, Мотя, хочет он того или не хочет — а заплачет. И Мотя наверняка заплакал бы, если бы не произошло нечто совершенно неожиданное: Бен перепрыгнул через куст и сбил с ног Женю. Она растянулась на асфальте, из разбитого колена струйкой потекла кровь. Женя скривилась от боли, сжала зубы, втягивая через них воздух. А Бен в упоении боя стоял перед ней, виновато улыбаясь, и моргал растерянно-веселыми глазами. Может быть, он и хотел помочь девочке, протянуть ей руку, но не решался, стеснялся ребят. Стоял с застывшей улыбкой на губах и молча смотрел, как сочится из ранки кровь. И тут к Бену подскочил Мотя, маленький, ощетинившийся, нахохлившийся, как воробышек. Он весь дрожал от возмущения и срывающимся голосом крикнул: — Ты! Ты! Бен! У тебя… аппендицит в голове! — Ша! — цыкнул Бен и легонько отодвинул малыша, однако подал Жене руку, помог ей подняться. — Я не хо… не хотел, — пробурчал сквозь зубы. — Прости. Это «прости» он выдавил из себя через силу и произнес его тихо, над самым Жениным ухом, чтоб никто больше не услышал, и весь залился краской. Хорошо, что у него были длинные волосы — он провел по ним пятерней и опустил на глаза. — Ничего! — Женя поднялась и поморщилась. Вытерла кровь, попыталась идти. — Уже не болит. Заживет! И, прихрамывая, побежала за Беном, ничуть на него не сердитая, наоборот — вроде бы даже довольная оттого, что он толкнул ее, как любого мальчишку, как толкают в «бою» своих соратников. Из кустов засвистел Вадька Кадуха — и армия Бена бросилась врассыпную. Одни кинулись по подъездам и затопали, загрохотали по лестницам на верхние этажи, другие через дыры в заборе перелезли в соседние дворы, а Женя с группой десантников юркнула в самый надежный тайник — в знаменитые подвалы. Уже за первым поворотом, там, где начинались ряды одинаковых дверок (у каждой семьи были здесь свои сарайчики), стало совсем темно и сыро. Когда-то тут висели электрические лампочки, но Бен с Кадухой перебили их. Подвал таким образом превратился в подземные склепы и тоннели, где царил полный мрак, пахло плесенью, а в трубах, пролегавших вдоль стен, по-волчьи шипела и рычала вода. В этих узких переходах легко было расквасить себе нос, однако Женя с десантниками быстро бежала вперед, неведомо как ориентируясь в полнейшей тьме. Мальчишки толкались, повизгивали от страха и возбуждения; разбойничий свист шедшего по следу Вадьки Кадухи подстегивал их. Постепенно десантники рассеялись, рассыпались, расползлись по щелям и тоннелям, и Женя не заметила, как отбилась от всех. Ощупала стены: где она? В этом подвале она облазила все уголки и закутки, а вот тут, кажется, никогда еще не бывала. Остановилась, чтобы угомонить громко стучавшее сердце. Руки дрожали. Неужели испугалась? Чего? Воображение рисовало страшные картины. А тут и в самом деле нетрудно было представить себе, что ты в подземном царстве или в катакомбах (вроде тех, что в Одессе), или в каменных тоннелях, где живут допотопные троглодиты и пещерные львы. Женя ощутила холодок между лопатками. И жутко, и какое-то неодолимое любопытство охватывает тебя: а что там, дальше, в темной глубине? Внутренне вся сжалась, прислонилась к стене. Прислушалась: где Кадуха? Короткие, точно пулеметная очередь, удары доносились слева. Наверно, Кадуха бежал и тарахтел палкой о дверцы сарайчиков. Потом загрохотало где-то наверху, над головой, и унеслось за дом. Очевидно, армия Бена выбралась из подвала и опять сражалась на улице. Женя тоже собралась было вылезать отсюда, как вдруг совсем рядом с ней что-то заскреблось. «Мышь!» — подумала Женя и вздрогнула. Прислушалась, стараясь уловить едва различимые звуки. Вот! Опять! Кто-то по-стариковски закряхтел, глухо откашлялся: «У! ух! ухи!..» Женя сорвалась с места и побежала. Но чем дальше отбегала она от того страшного места, тем медленнее становились ее шаги. Тот голос… он был такой слабый и квелый, что бояться его, а тем более бежать… Словом, она остановилась, сделала несколько шагов назад, еще раз напрягла слух: может, ей послышалось? Нет! Тут рядом, у самой стены, что-то шевелилось. И стонало. Мурашки медленно поползли у Жени по спине, но она твердо сказала себе: «Не бойся!» — и подняла глаза. В стене, в черном углублении, светились два огонька. Это явно были чьи-то глаза, большие, зеленоватые. «Может, больная кошка?» — подумала Женя. — Кис-кис-кис! — позвала вполголоса. — Кисонька, иди сюда. Глаза у того, маленького, сузились и погасли. Потом из углубления снова послышалось: «Ух! ухи-кхи!» Он как будто жаловался на что-то или просил погладить его. Женя подошла поближе. Странно: светились не только глаза, но и все углубление. Стенки его были залиты прозрачно-зеленоватым, как морские волны, светом. И в этой пещерке сидел… какой-то зверек. Сидел съежившись и дрожал то ли от холода, то ли от простуды. — Морская свинка! — прошептала Женя. Таких она видела на Куреневке, на птичьем рынке. Точно! Сама маленькая, а шерстка жесткая, как проволока, похожая на засохшие водоросли. Превозмогая страх, Женя просунула руку в пещерку и осторожно вытянула оттуда это непонятное существо. Он весь сжался, закряхтел. Видно, был нездоров. Теряясь в догадках, Женя поспешила к выходу. Выбралась на широкую прямую галерею, куда уже проникал серый рассеянный свет. — Кто ж ты такой? — проговорила она, подняла повыше своего пленника — и остолбенела. Заморгала глазами, не веря сама себе. Уж не сон ли это? Перед ней был настоящий крошечный человечек. Вот ручки, вот пальчики, покрытые волосками, вот ладошки — сухие и сморщенные, как у старичка. Вылитый человечек! Только волосатенький и размером с Женину ладонь. А это что такое! Хвост! Длинный, твердый, с кисточкой на конце. — Ой! — обрадовалась Женя. — Да это ж обезьянка! Обезьяненок! Наверно, удрал из зоопарка! А непонятный зверек-человечек, услышав эти слова: «обезьянка, обезьяненок», вдруг заерзал, завозился. Его острая симпатичная мордочка скривилась в обиженную гримаску, он закряхтел, закрутил головой, тыкая пальцем в свою реденькую бородку. Жене и в голову не могло прийти, что это созданье умеет говорить, только вот беда у него — горло заложило. — Нет, в самом деле обезьянка, — задумчиво повторила Женя. — Ав! — дернулся человечек и шлепнул Женю ладошкой по губам. — Хама ты обехянка! — Что? — Женя даже поперхнулась от неожиданности. Ее не так удивило, что зверушка разговаривает человеческим языком — ведь в сказках или, например, в мультфильмах все звери разговаривают, — как то, что это существо ни с того ни с сего шлепнуло ее по губам. — Хама ты обехянка. — снова дернулся человечек. — Хо ты не видих, я хортик, хо… хорло… — Какой хортик? Какое хорло? — Хорло болит. Анхина, — прошепелявил человечек. Закряхтел, закашлялся и с трудом проговорил: — Видих, прохтудихся. Хортик я. Ну хо хлаха вытарахила? Было отчего вытаращить глаза. Маленькая неведомая зверушка, которую Женя нашла в подвале, вдруг заговорила, утверждает, что она чертик, да еще и ругается. — А ну пошли на свет, — решительно заявила Женя. — Там разберемся, что ты за чертик.ГАЛИНА СТЕПАНОВНА. ДОРОГА ДОМОЙ
Столик Жениной мамы стоял у стены. В машинописном бюро — а оно занимало большую квадратную комнату — стены были обиты войлоком и обтянуты ситцем. Это для того, чтобы хоть немного приглушить звуки. И все равно, когда восемь машинисток одновременно начинали строчить на своих «Оптимах», в комнате стоял оглушительный сухой треск. Без конца открывалась дверь, в машбюро вбегали запыхавшиеся журналисты и прямо с порога просили: — Галя, мне срочно! Очень прошу! Галина Степановна сидела на срочной работе. А поскольку на радио все всегда было срочно, все вечно куда-нибудь спешили — на запись, на летучку, еще куда-то, то у нее обычно скапливалось больше всего рукописей. Правда, ни для кого не было секретом, почему журналисты толпились именно у крайней машинки: просто эту маленькую худенькую женщину на радио все любили. Любили за безотказность, за трудолюбие, за мягкий, добрый характер. В редакциях знали: Цыбулько возьмет самую грязную рукопись и перепечатает к нужному сроку. Женя всегда удивлялась: ее мама могла с кем-то разговаривать, смотреть в окно или сидеть, устало закрыв глаза, и при этом быстро-быстро печатала. Она так хорошо знала клавиатуру, что работала вслепую. Казалось, мамины мысли витают где-то далеко-далеко, а пальцы сами работают, передвигают каретку, находят нужную букву и никогда не сделают пропуск, не выбьют неверный знак. К тому же Галина Степановна, в свое время окончившая школу на четверки и пятерки, отлично знала грамматику, любила читать (особенно о войне, о детях, о героизме), и она не только, сама печатала грамотно, но частенько исправляла ошибки журналистов, которые от спешки или невнимательности иногда их допускали. — Галочка, умоляю, сделайте срочно! Горю! — вбегает запыхавшийся репортер из «Последних известий» и бросает на ее стол листочки бумаги, исчерканные, усеянные вдоль и поперек торопливыми закорючками. Галина Степановна никому не может отказать; часто она печатает в обеденный перерыв, а то и остается после работы. И привязывает ее к машинке та симпатия, та любовь, с которой произносится ее имя: Галочка. «Беги к Галочке, она быстро сделает», «Компьютер? Не знаю. Спроси у Галочки, она скажет, как пишется», «наша Галочка», «у нашей Галочки»… А что нужно человеку, в особенности женщине, в награду за ее тяжелый каждодневный труд! У Галины Степановны деревенеет спина за машинкой, но она находит в себе силы поднять голову, приветливо улыбнуться каждому и сказать: «Возьмите, пожалуйста. Работа готова…» И только когда последней в машбюро она встает из-за стола и, прихрамывая (затекли ноги), направляется к двери, только тогда чувствует: устала. Дойдя до дверей, поправляет прическу, подкрашивает губы и выходит на улицу. Слегка шумит в голове. Все-таки целый день не отрывалась от машинки. Но работать иначе Галина Степановна не умеет — такой уж у нее характер. В этот вечерний час по Крещатику двумя потоками движутся пешеходы; люди спешат с работы, все сосредоточены и озабочены. Шлепают подошвы, шуршат плащи, гудит приглушенный говор. Улица заполнена машинами, кое-где в домах уже вспыхивают огни. Галина Степановна вливается в общий поток, что движется к площади Калинина. И какой бы усталой она ни была, непременно спустится в подземный переход, где всегда одни и те же женщины продают цветы, чтоб купить букетик гвоздик или нарциссов. Вот и сейчас окинула взглядом разноцветные ряды и выбрала пять свежих роскошных хризантем. Довольная покупкой, отошла в сторонку и поднесла цветы к щекам. Белые влажные хризантемы пахли горьковатой осенней свежестью, поздним холодком. Если бы не эта усталость, Галина Степановна непременно улыбнулась бы и сказала себе: «Какие красивые! И как хорошо пахнут!» А сейчас не было сил даже радоваться. Но Галина Степановна была еще молода, она прошла полквартала, несколько раз глубоко вдохнула (по-йоговски, как учила ее Женя), и глаза ее ожили, повеселели, а на щеках понемногу стал пробиваться румянец. С цветами в руках она направилась к троллейбусной остановке. На площади Калинина, как всегда в этот час, было много народу, и самые нахальные, как обычно, лезли в троллейбус, расталкивая всех локтями. Галина Степановна терпеливо выстаивала в очереди. Но вот она уже в первой пятерке. Подкатил восемнадцатый, и очередь почти внесла щупленькую Галину Степановну в троллейбус. До смерти боявшаяся давки, она пробралась в уголок, на заднее сиденье. Народу набилось полно, но те, кому не удалось прорваться внутрь, упорно штурмовали машину, висли на подножке. Наконец троллейбус тронулся, пассажиров качнуло назад, и какая-то могучая тетенька с размаху села на колени к Галине Степановне. «Ладно. Как-нибудь доеду», — подумала она. Ее потихоньку укачивало, стало душно, в голове поплыл теплый дремотный туман. А мысли все вертелись вокруг работы. Пальцы бегали по клавишам, заедала буква «с» («Надо бы вызвать мастера»), туда-сюда летала каретка, и стучало, стучало в висках… Галина Степановна тряхнула головой, силясь отогнать тяжкую дремоту. Заставила себя переключиться на другое. Женя… Она уже должна прийти из бассейна. Хоть бы догадалась надеть после купания шерстяную шапочку, а то форсит, глупенькая, простудится еще. И дома ли муж, не потянуло бы его и сегодня к рюмке, накормил ли дочку? И домашние заботы полностью завладели ею. Она думала о Жене, о том, что девочка долго сидит над уроками, плохо ест, а в последнее время с ней вообще творится что-то неладное. Завела себе какую-то зверушку (начиталась книг, вот и фантазирует!). А то все носится с этим Беном — рассказывает о нем каждый вечер: вчера схватил двойку, позавчера оторвал ручку от классных дверей, на переменках дразнится, подставляет ей подножки. Сердится, горячится, а все равно видно, что проделки Бена ей нравятся. Может, с этого и начинается детская дружба? Галина Степановна вспомнила свое детство, улыбнулась: когда-то и у них так начиналось! Идут они, бывало, с девочками по дороге, а навстречу Василь Цыбулько (тогда-то он был просто Вася, замурзанный и отчаянный) и обязательно или пылью ее обсыплет или репейников понацепляет. Мальчишеские ухаживания! …Шипели автоматические двери, впуская и выпуская пассажиров, в троллейбусе становилось все теснее; какая-то дама нервно выкрикивала: «Где билеты? Передайте сюда билеты!» А Галина Степановна ничего не слышала. Она вся ушла в свои мысли и воспоминания. Взгляд ее был прикован к одной точке, и она будто убеждала кого-то: «Все я на работе да на работе, а надо бы с дочкой побольше. Растет она, взрослеет, не упустить бы ее. Прибежит из школы, глаза горят — своя жизнь, свои тайны, свои волнения. А как туда проникнуть, как помочь, как защитить, охранить ее сердце?..» Галина Степановна подумала о Бене, о его красавице маме, которая сейчас где-то гастролирует, спросила себя: «Ну как так можно? Родила и бросила мальчишку на деда — пусть растет как трава. Вот и шалопайничает парень, долго ли до беды?» Троллейбус качнуло, толстая тетка совсем навалилась на Галину Степановну, вдавив хризантемы ей в лицо. «Ой, поосторожней, пожалуйста», — Галина Степановна попыталась заслониться рукой. Отвернулась в угол, с жалостью посмотрела на цветы: пропали. Помятые, сплюснутые, будто кто-то наступил на них. Внезапно, казалось бы, без всякой связи, Галина Степановна подумала: «Послезавтра воскресенье. Надо бы поехать в Пущу-Водицу. Всем вместе. Сейчас в лесу хорошо. Деревья желтые. Грибы. И Женя хоть немножко развеется, на воздухе побудет. Да и поговорить нам с ней есть о чем».СИНЬКО, СЫН СВОЕГО ДЕДА
Кто знает, в самом ли деле Женя поймала кого-то в подвале или все это она сочинила (а девочки — большие мастерицы на такие выдумки: посадит перед собой надувного медведя и воображает, что она учительница). Как бы там ни было, но с этой минуты сказка, тайна заполнила всю ее жизнь. В комнате был полумрак. По-вечернему глухо и напряженно гудела улица. По шоссе проплывали как бы не машины, а лишь только красные сигнальные огни, и в Жениной комнате скользили по стенам легкие красноватые отсветы. Девочка подошла к окну, задвинула шторы. В углу, на столике за книжным шкафом, стоял ночник. Зажгла его. Мягкие синеватые сумерки наполнили комнату. Шкаф, столик, тумбочка — все предметы словно опустились на морское дно, заслонив собой тени рыбок и крабов. При таком свете, приглушенном и таинственном, только и беседовать с чудесными существами. Женя взбила подушки на своей кровати, посадила на них человечка, подоткнула его одеялом и сказала: — А теперь давай по-серьезному: кто ты такой и откуда взялся? Только не выдумывай. Я не маленькая, так чтона сказочки меня не возьмешь. Человечек вздохнул, печально посмотрел на Женю и прошепелявил: — Анхина. Нарыв в хорле. Прошу тебя, ради боха, найди в подвале хрибочек… чхай надо… хварить… хорло полоскать, а то умхру. Он с трудом прохрипел эти слова и уронил голову набок. Тут без всякого врача было ясно, что он болен. Женя пощупала его грудь, спинку, живот — все тело у него горело, шерстка слиплась от пота, а руки (или лапки) бессильно и вяло лежали на подушке. Женя встревожилась, накрыла его поверх одеяла еще и кофтой. А он снова забухал, закашлялся, тельце его затряслось, на глазах выступили слезы. Женя вспомнила про грибочки, быстро вскочила на ноги: — Лежи. Не раскрывайся. Я сбегаю в подвал. Осень. Еще только шесть часов вечера, а на улице уже темно, холодно, вороны стаями летят устраиваться на ночлег. Косматые тревожные тучи накрыли небо. Женя огляделась — во дворе тихо, никого нет; она быстренько шмыгнула вниз по лестнице. И днем и вечером здесь одинаково темно. Но сейчас почему-то спускаться было страшнее — может быть, потому, что позади, у выхода, не светилось солнечное пятно. Но девочка решительно направилась к тоннелю, вслух подбадривая себя: «Подумаешь, что страшного, сколько я тут ходила!» — ноги почему-то ступали неуверенно, точно ватные… Бах! — это ящики. Не пугайся! Просто зацепила ногой. Тут-то как раз и валяются остатки картошки и яблок. Пахнет сыростью, плесенью, гнилушками. Женя пошарила рукой по стене и наскребла плесени, грибков. (Подумала: а ведь это действительно лекарство — пенициллин-то из чего делают? Из грибков плесени!) Впервые в жизни она радовалась тому, что отец и мать не пришли с работы раньше. Повязала передник, почесала за ухом, чтоб сосредоточиться, и начала хозяйничать на кухне: вскипятила воду, заварила чай из грибков, минуту подумала и всыпала туда ложку соли — мама всегда так делает, когда надо полоскать горло. Правда, сколько и что именно кладет мама в полоскание — Женя не знала, но ведь маслом кашу не испортишь, это тоже мамин рецепт! Остудила отвар на окне, попробовала на язык и скривилась: м-м-м, отрава! Горькое, соленое, в нос так и шибает. Цвет густо-зеленый, на дне — черный осадок. Может, меду добавить? Влила немножко меду, но еще раз попробовать не рискнула. Как официантка в ресторане — с полотенцем через плечо, держа блюдечко на вытянутой руке, внесла в комнату чай. Человечек, запрокинув голову, дремал в подушках и хрипло, тяжело дышал — из горла вырывался свист и какое-то странное бульканье. — Пей! — ласково, как и положено обращаться к больному, сказала Женя и подала ему блюдечко с чаем. Он потянулся к отвару, зажмурил глаза, понюхал и тихонько замурлыкал: «Мур-р-р..» Видно, зелье ему понравилось. Он смешно, по-кошачьи стал лакать из блюдечка. Пил быстро-быстро, только мелькал его длинный красный язычок. Вылизал блюдечко, устало закрыл глаза и снова задремал, склонившись на подушку. Девочка улыбнулась: «Чертик! Спит! Маленький смешной человечек, не больше котенка». — Выздоравливай, — сказала Женя, поправила подушки и вдруг спохватилась: «Ой, надо же в молочный магазин сбегать, а то закроют скоро!» Деньги, бидончик в руки — и будто ветром вынесло ее на улицу. Вернулась с бутылкой кефира, с бидончиком разливного молока, с пачкой масла. Поставила все в холодильник, а сама на цыпочках пошла в свою комнату. Сумерки сгущались. За окном в высоких коробках домов на Полтавской вспыхнули желто-сине-оранжевые огни; улица гудела. Через пол с первого этажа доносились звуки джазовой музыки (это пенсионер Жупленко уже начал свою вечернюю гимнастику под магнитофон). По комнате ползли белесые слоистые полосы — это темнота тихонько кралась, чтоб спрятаться ночью в укромном углу. Женя прислушалась: человечек тихо и спокойно посапывал, больше не чихал и не кашлял. «Неужели и вправду грибки помогли? Интересно. Спит как новорожденный». Но стоило Жене чуть скрипнуть стулом, человечек проснулся, вытаращил острые зеленоватые глаза и уже гораздо яснее, с легкой хрипотцой проговорил: — Прорхвало. — Что прорвало? — Нарыхв. Теперь лехше дыхать. Женя удивилась: такой маленький, а говорит шепеляво, как беззубый старичок. Очевидно, он всегда шепелявит, а не только сейчас, когда болен. И опять подумала: откуда же он взялся? Может, туристы из-за границы завезли? Но ведь он же говорит по-нашему… И Женя начала выспрашивать издалека: — А ты не боялся в подвале? Там стра-ашно, темно. — Нет, — ответил человечек. — Я люблю, когда темно. Ночью веселее. — А зачем ты туда забрался? Там, под землей, холодно. Видишь — простудился. «Хортик» сморщил остренькую волосатую мордочку — видно, ему было неприятно вспоминать, как и отчего он заболел. — Когда-нибудь расскажу. Не сейчас. Ладно? — Ладно. А все-таки: откуда ты сбежал? Из цирка? Он прыснул в ладошку и захихикал. Потом закряхтел, как старичок, и вылез из-под одеяла, прислонился к Жене, потерся об нее, как это делает каждое живое существо, когда хочет, чтоб его погладили, приласкали. Женя взяла его на руки. Он устроился поудобнее, поджал ноги, откашлялся. — Ну что? Сказать, кто я такой? — И опять захихикал, озорно потирая ручки. — Ну так и быть, скажу, только по секрету. Смотри же, никому-никому. Слышишь? — Не скажу, не скажу! Честное пионерское! Он поманил ее пальцем и заморгал глазами — дескать, нагнись поближе, подставь ухо. И когда Женя пригнулась, таинственно прошепелявил: — Я домашхний хор-тик. Понимаешь? — Кто-кто? — Домашний хортик. — Да ну? — Женя похлопала его по загривку. — Нашел дурочку. Чертей не бывает, это и малышам известно. Когда-то давно-давно, может, что-нибудь такое и водилось — карлики, ведьмы, гномы всякие. А теперь нету. — Оно-то, конечно, так. Нету. Но почему бы тебе не поверить, что и сейчас бывают? Вот пощупай, какие у меня рожки. Женя потрогала у него над ушками: смотри ты, и вправду рожки, спрятаны под кудряшками. Твердые, темно-коричневые, как два желудя… «Вот бомба! Ничего не разберешь, и что это за зверь?» — А где ж ты родился? И когда? — Я еще маленький, — по-детски скривил губы «хортик». — Мне всего два лета, одна зима и еще две зимы. — А-а… ничего не понятно. А почему у тебя голос как у старичка и зубы такие черненькие? — Потому что я родился у деда. — У кого, у кого? — У деда. Моего деда звали Синько́, и меня зовут Синько. Э-э-э! — он обиженно глянул на скептически улыбавшуюся Женю и махнул лапкой. — Вы, люди, ничего не понимаете. У нас сын может родиться у бабушки или у дяди и быть похожим на них как две капли воды: и голосом, и глазами, и бородой, и жубами. — Ой, не заливай, пожалуйста! И какой же ты Синько, если глаза у тебя зеленые-зеленые, как огонек такси, а сам ты… — Женя повертела Синька — оглядела его мордочку, спинку, хвостик. — А сам ты рыжий, волосатый, только вон бороденка зеленая. И грибами от тебя пахнет. А еще у тебя носопырка смешная, — и девочка надавила пальцем на его широкий, приплюснутый нос, торчавший из кустиков шерсти. — Не бхалуйся, — Синько недовольно засопел и отвернулся. — Ну-ну, не сердись. Скажи-ка лучше, где твой отец, родные? — Отхец, — опять по-стариковски закряхтел Синько. — Вот ведь какая непонятливая: ей — стрижено, а она тебе — брито. Я у деда родился, слышхала! А у деда был прадед — Желеная Борода, водяной хорт. Жолотой был чхеловек! — Голос у Синька потеплел. — А какой шхутник, какой весельчхак! Это он щхекотал пятки девчхатам, когда они купались в речхке, а они хохотали! Слыхала, как девчхата в воде хохочут? — Слыхала. На Десне. — Ну вот. Красивый был старик. Сам желеный, борода до колен, еще и на локоть намотана; плывет он по воде, а борода длинным шлейфом развевается. Ох и любил же он над дачхниками потешхаться. Закинет это дачхник удочху, а мой дед нырнет и записочху повесит: «Клева не будет. Обеденный перерыв». — Ну и где же сейчас твой дед? — Нету деда. Помер. — А сколько же лет ему было? — Сколько лет? — переспросил Синько. — Дед рано умер. Прожил триста два лета, две зимы и еще одну весну. А вот наш прадед, Черно-желеная Борода, тот еще с бурлаками на Азов ходил, а погиб совсем недавно… — Ох и брешешь же ты! — Не веришь — уйду от тебя, — обиженно засопел Синько, заерзал, выпростал ножки, собираясь идти. — Ну куда ты! Посиди. У тебя ж горло болит. Давай, я тебя укутаю, вот так, а ты мне еще что-нибудь расскажи. Ладно? — Расскажу, — пробурчал Синько и уже приветливее глянул на Женю, снова прижался к ней и осторожно погладил лапкой ее мягкие коротенькие волосы. — А ты умеешь, — спросила вдруг Женя, — шевелить ушами? Вот так. Смотри! Она, как гусыня, вытянула тонкую белую шею, напряглась и задвигала ушами, причем ходили у нее не только уши, но и брови, и кожа на висках, и даже волосы на темени шевелились. Синько разинул рот от удивления и с нескрываемой завистью наблюдал Женин фокус, который был мастерски выполнен. — Ну и хто, подумаешь, — он с важным видом повел своим курносым носом и солидно покашлял. — А мой дядька зато умел пыль из носа пускать, вот! Синько открыл было рот — видно, хотел соврать что-нибудь еще, но… В коридоре зазвенел звонок. Женя молниеносно подскочила к столу. (А Синько так быстро шмыгнул за кровать, что девочка даже не успела заметить, куда он исчез.) Женя окинула взглядом комнату — все в порядке, и бросилась открывать дверь. Но опоздала. Отец уже прошел на кухню. Он миновал коридор тихо, почти беззвучно. Принес с собой запах осеннего вечера, дух бензина и масляных красок (запахом краски был пропитан его сундучок, где лежали малярные кисти). Со своим неизменным сундучком в одной руке, с полной сеткой — в другой, он остановился посреди кухни, ласково и виновато улыбнулся дочери. Женя подлетела к отцу, взяла тяжелую сетку, чмокнула его в щеку. Василь Кондратович устало улыбнулся сквозь стеклышки очков, снял берет и перевел дух: — Ух! Давка в троллейбусах, будь она неладна. А Женя украдкой любовалась отцом. По ее мнению, он был похож на учителя или на ученого: очки, тонкое, умное лицо, небольшие залысины и красивая светлая шевелюра, волнистая, всегда аккуратно расчесанная. И главное — был он худой, сухопарый, и никто никогда не давал ему тридцати пяти лет, от силы тридцать, никак не больше; отец мог целый день бродить с рюкзаком по лесу и никогда не жаловался на усталость. — Ну что, дочка, уроки сделала? — Немножко осталось. Грамматика. — Давай-ка кончай поскорее. И знаешь чем займемся? Во-первых, приготовим ужин. А во-вторых, та-а-ак приберем комнаты, чтобы мама только ахнула и сказала: молодцы! Теперь Женя поняла, почему отец пришел раньше обычного: наверно, специально отпросился с работы, хочет загладить вчерашнее. «Вот и хорошо, — обрадовалась она. — Все перемоем, приберем, лишь бы они не ссорились». Ей ужасно хотелось помочь отцу. И когда тот, нарядившись в мамин передник, замурлыкал «Червоную руту» под аккомпанемент грохочущих в раковине ложек и тарелок и льющейся из крана воды, Женя быстренько побежала в комнату, переписала упражнение, подчеркнула уменьшительно-ласкательные суффиксы в прилагательных (-оньк, -еньк), сложила книги и тетради в портфель и примчалась в кухню. А отец хозяйничал там, как волшебник. Кипятил воду, мыл посуду, чистил картошку, тоненько (как умел только он) нарезал свеклу для винегрета. Рукава закатал до локтей, капельки пара поблескивали на его очках, и он время от времени протирал стеклышки в тонкой золотой оправе, но совсем снять очки не мог, потому что был сильно близорук и без них почти ничего не видел. — Подавай мне посуду! — сказала Женя и, как матадор, взмахнула перед отцом краем полотенца; тарелки полетели к ней в руки, она одним махом вытирала их и, присвистнув, отправляла на среднюю полку буфета. Ей всегда было приятно ходить куда-нибудь с отцом, разговаривать с ним, просто стоять рядом — с таким вот, как сейчас, мягким, добрым, близоруким, который всегда со всеми здоровается, почтительно кланяясь, и ко всем, даже к детям, обращается только на «вы». И Жене были странны и непонятны перерождения отца, становившегося внезапно совсем другим — нервным и возбужденным, которой ни с того ни с сего начинал спорить с людьми, размахивал руками, цыкал на мать, а уже на следующий день просил прощения, говорил приглушенным голосом и отводил глаза в сторону. Но сейчас Жене было весело с отцом. — А что будет у нас на ужин? — спрашивает она. — Суп! — отвечает Василь Кондратович. — Суп с пельменями и с картошкой. Устраивает? — Вкуснотища! — облизывается Женя. — Лавровый листочек не забудь бросить, мама любит. Оглядела кухню, — кажется, тут все в порядке. Можно немножко передохнуть. Спросила отца: — Что новенького на работе? Отец смахнул пот с кончика носа и сказал, что его бригаду перебросили на Исторический музей, работа сложная — тонкая фигурная лепка. — Вот поставим стропила, закрепим их, — пообещал отец, — обязательно возьму тебя на «верхотуру», посмотришь, какой вид открывается оттуда: и весь Подол, и гора Щекавица, и старые улочки ремесленников — будто с давних княжьих времен. А теперь — аврал в комнатах. Все сегодня должно блестеть и сверкать. Женя вытащила пылесос. Он ехал на колесиках, как ракета на военном параде. Внимание — пуск! Воткнула шнур в розетку. Пылесос заворчал, но не как обычно, а глухо, раздраженно и запрыгал на одном месте. Женя удивленно прикусила губу. — Ты чего это? — сказала. — А ну не дури! — и толкнула его ногой. Пылесос натужно завыл, точно вот-вот захлебнется. Потом пыхнул и выстрелил круглым клубочком. Клубок раскрутился, и в облаке пыли перед Женей, чихая, предстал… Синько. — Синько? Это ты?.. — Ап-чхи! — сказал Синько. Он был весь серый, а глаза и рот обведены черными кругами. — Ты зачем туда залез? — Спать, — сказал Синько. — А ты устраиваешь бурю и разводишь пылищу. — Апчхи! — снова чихнул он и засопел. — Вот погоди, ляжешь спхать, я тебе тоже так сделаю… соломкой в нос… как твоему папочке. Будешь жнать! — Я же не нарочно! — засмеялась Женя. — Откуда мне знать, что черти спят в пылесосах. — Ну, хватит, я пошел в подвал, — закряхтел Синько и почесал за ухом. — Там не тарахтят по ночам и никто за тобой не гоняется: «Вот он, лови его!» — он точно передразнил голос Цыбулько. Потом махнул Жене ручкой и заковылял к балкону — очевидно, для того, чтобы спуститься вниз по трубе, как это иногда делают мальчишки из их двора.У Цыбулек уже давно отужинали, запили чаем приготовленный отцом супчик, прослушали по телевизору последние известия и улеглись спать. Почти во всем доме на Стадионной погасли огни, только напротив, у Кущолобов, светилось на кухне. Там нес свою вахту Андрон Касьянович. Он выкупал внука, постелил ему чистую постель и рассказал на сон грядущий историю о том, как однажды в гражданскую он, Андрон Касьянович, выкрал из ставки Деникина английский танк. Внук сладко спал, и Андрон Касьянович на цыпочках пошел в ванную стирать превращенное за день в грязную тряпку обмундирование. Он взялся за джинсы, зная, что сейчас с них потечет деготь. Как всегда, прежде чем замочить их в мыльной воде, ощупал карманы. Задний потайной кармашек заметно оттопырился. Старик полез туда и вытащил две пачки сигарет. «Матушка-богородица! — похолодел Андрон. — Мой внук курит! Что ж я родителям-то скажу?» Он поднес пачку к свету, чтоб рассмотреть, что же курит его любимый внук. Нацепил очки, болтавшиеся на шнурочке, и ужас пронзил его насквозь, как молния — дуплистое дерево. То были не простые, то были кубинские сигареты, привезенные зятем из Гаваны. Выходит, Бен не только курил, но к тому же еще и воровал, незаметно таскал из отцовского шкафа дорогие сигареты. Убитый этим открытием, Андрон Касьянович вернулся к джинсам и начал нервно обыскивать их. Из бокового кармашка вытащил смятый клочок бумаги. Развернул — и в глазах у него потемнело. Три рубля! Вот они где! А он-то перевернул вверх дном всю квартиру в поисках этой злосчастной трешки, отложенной им из пенсии на яблоки и груши — для него же, для внука! «Господи, что ж я зятю с дочкой скажу? — в отчаянии думал Андрон. — Ну ладно — двойки, ладно — в школе ругают, но воровство!..» Старик сидел за столом на кухне, недвижимо уставившись в черное окно. Там была ночь, мрак, безысходность, а на столе перед ним лежали украденные внуком вещи, холодно и сурово свидетельствовавшие: «Беда! Надо что-то делать, что-то придумать… Это только начало, а там — потянет, понесет, как с крутой горы…» Старик сидел разбитый, в полной растерянности. И лишь одна тревожная и вместе досадливая мысль билась в мозгу: «И где только этих родителей носит!» Этот крик души, как тревожный сигнал «SOS», послал он через воды Атлантики, и внезапно из-за океана выплыло, как солнце, лицо его красавицы дочки, из-под нахмуренных бровей холодно сверкнули прекрасные глаза. «А вы-то куда смотрели? Как вы его воспитывали?» — услышал Андрон из далекой заграницы безжалостный голос дочки, и слезы сами, как смола по сосновой коре, покатились по его худым, морщинистым щекам. Плакал Андрон Касьянович и думал все об одном — что побудило внука к воровству, и никак не мог понять этого. Откуда было знать старику, что Вадька Кадуха вымогает у Бена все большую плату за генеральский чин. И каждый раз грозится развалить армию, а про мелкие грешки Бена сообщить кому следует. А грешки у Бена понемногу накапливались. За бесконечными домашними хлопотами дед Андрон не заметил (да и как ему было заметить?), что у любимого внука начинается новая, тайная жизнь.
ТРИ ГИПОТЕЗЫ ПРОФЕССОРА ГАЙ-БЫЧКОВСКОГО
Женя открыла глаза — кто-то легонько дернул ее за ухо. Мягкое облачко сна рассеялось, и Женя увидела: на спинке кровати, оскалив черненькие зубки, сидит Синько. Он качает ногами и, совсем как котенок, крутит кончиком хвоста. — Ой! — вскочила с кровати Женя. — Неужели в школу опоздала? Сонливость словно рукой сняло, она бросилась к будильнику, затрясла его. — Ой, как испугал! Еще же только семь часов. — А все равно поздно. И ничего-то ты не знаешь! — Он довольно захихикал, потирая красные ладошки. — Ну и дал я им вчера, так дал. Будут знать! — Кому дал? Ты что, подрался? Женя схватила Синька на руки и начала бесцеремонно разглядывать. — Где это ты так вымазался? В лужу упал, что ли? Было очевидно, что Синько болтался бог знает где и то ли шлепнулся в лужу, то ли попал в бочку с водой, ту, что стоит за кочегаркой. Шерстка на нем подсохла и слиплась, на спине стояли дыбом грязные колючие волосинки. — Синько, где ты шлялся, говори! Синько не спешил отвечать, его маленькое тельце сотрясалось от смеха, и он даже похрюкивал от удовольствия. — Ну и дал я им! Больше туда не полезут! — Кто не полезет? Куда? — Много будешь знать — скоро состаришься. А будешь хорошей — расскажу. — Я и так хорошая! Посмотри! — Женя погладила себя по голове, по мягким темно-русым волосам, подстриженным как у мальчишки. И для убедительности подняла на Синька невинно-покорные глаза. — Видишь, я вся внимание! Рассказывай! — Ну ладно! Слушай! Тхам, под землей, они тайно собирались, ели мармелад, пускали вонючий дым и ховорили всякие нехорошие слова. — Кто они, где? — Да твой Бенчик, кто ж еще! И Кадуха замурзанный! — Ну, ну, рассказывай. Это где же, в подвале? — Аха! В моем шарайчике! Я терпел-терпел, а они дымят, потом говорят: Жабулька… — Про меня?! — Про тебя, а то про кого же? И я не выдержал!.. Помнишь, там трубы проходят. Вода холодная как лед. И краник на трубе есть. Ага, думаю, сейчас я вас, голубчики, под дождичком искупаю. Устрою вам гром с молнией. И только они чиркнули спичкой, чтоб снова закурить, я из угла тихим таким голосочком: «Ау! — говорю. — А я в школе скажу». Они побелели и глаза друг на друга таращат. «Да это нам послышалось», — шепчет Кадуха. «Ах, так!» — рассердился я. Открутил кран — и тут как зашипит! Как брызнет! Фонтаном! На весь погреб! А мальчишки: «Ой-ой-ой! Потоп! Прорвало!» И драпать из подвала, только пятки засверкали!.. Женя засмеялась, бросила в Синька маленькую подушечку и весело закричала: — Ну и врунишка! Все-то ты выдумал про ребят! Правда выдумал?! Знаешь, что я с тобой сделаю? Покажу тебя профессору Гай-Бычковскому. Пусть он скажет, кто ты такой и откуда взялся — может, из Брехландии? А профессор — он человек ученый, биолог, и живет у нас на третьем этаже. Ясно? Синько насупился и начал незаметно отползать к краю кровати. — Не хочу к профессору, — заскулил он, как капризный ребенок. — Ничего я не выдумал! Все правда!.. Я в подвал пойду! Спать хочу. — Нет, нет! — пригрозила ему пальцем Женя. — Немедленно к профессору. У нас еще целый свободный час. Собирайся. Она соскочила с постели, натянула на себя брюки и неизменную голубую кофточку. Покрутилась перед зеркалом, пригладила вихор на голове. — Вперед! — У меня хорло болит. И нога натерта, вот! — Синько сморщился и по-стариковски заковылял, старательно демонстрируя, как тяжело ему ходить. Однако Женя заметила, что он косит глазом на окно и потихоньку к нему крадется — явно хочет удрать. — Ах ты хитрец! — девочка сгребла его и спрятала за пазуху. — Не бойся, профессор уколов не делает. Только посмотрит, и все. На кухне уже варилось и жарилось, пахло подсолнечным маслом; гудела, как пропеллер, отцовская электробритва. Женя сказала маме, что на минутку заскочит к Гай-Бычковскому и сразу же назад, прямо к завтраку. И побежала на третий этаж. Она часто бывала тут, но сердце у нее всякий раз замирало, когда она останавливалась перед медной табличкой, на которой было выгравировано: «Профессор И. П. Гай-Бычковский, доктор биологических наук». Глубоко (по-йоговски!) вдохнула и нажала на кнопку звонка. За дверью раздалось мелодичное позвякивание, будто запела канарейка. — Кто там? — послышался по-молодому бодрый голос профессора. Женя прошла в прихожую, зная заранее, что первые слова, которые она услышит, будут: «Извините, я спешу…» — Извините, я спешу, — сказал профессор, — зарядка. А затем — в бассейн. Профессор еще раз повторил «извините» и начал приседать. Его большая, до блеска выбритая голова летала вниз-вверх на фоне огромного аквариума, занимавшего в комнате целую стену! Профессор делал глубокие вдохи и выдохи, раздувая широкие ноздри, легко подбрасывая вверх свое пружинистое тело, и тогда казалось, что рыбы проплывают не в воде за стеклом, а в воздухе, прямо над его лысиной. — Извините, Евгения, я сейчас, — профессор сказал «оп» и сделал стойку на голове. Замер в этой позе, и его маленькие, острые, как у дельфина, глаза смотрели на Женю с выражением полного блаженства. — Одну минуточку! — Профессор убежал в ванну, включил душ и, довольно покрякивая, стал обливаться холодной водой, похлопывая себя по груди, по шее, массируя каждый мускул. Когда он, Гай-Бычковский, вышел к Жене (ростом он был не выше ее, но коренастый, могучий и большеголовый), в глазах его светилась веселость здорового бодрого человека. — Обливайтесь по утрам, Евгения, — сказал профессор. — Настоятельно вам рекомендую — обливайтесь ежедневно. Из воды человек вышел, из воды в основном состоит его организм, и не следует забывать, что вода — это наша сила и здоровье. Профессор бегал по комнате (притом — босиком), что-то искал и находил, на ходу одевался и говорил в своем обычном быстром темпе: — А как ваши успехи в плаванье? Не бросили бассейн? — Нет, не бросила, — ответила Женя. — Хожу. — Прекрасно! — сказал профессор. — Какой у вас разряд? — Второй юношеский. — Чуть-чуть отстали от меня. У меня тоже юношеский, только первый. Он заметил, что девочка время от времени сердито дергает рукой, будто утихомиривая кого-то, спрятанного под кофтой. — Вы что-то принесли! — профессор остановил на Жене вопросительный взгляд. — Ага, принесла… Только это секрет… Хочу вам показать… Женя вытащила Синька из-за пазухи; он упирался, пытался вырваться из рук, царапался острыми коготками. — Как вы думаете, что это за существо? Гай-Бычковский взглянул на Синька без особого любопытства и скорее из вежливости сказал: — Интересно, очень интересно. По-видимому, муляж. Вата, ворс, папье-маше и все такое прочее. Для биологического уголка сделано, да? Женя не успела и рта раскрыть, как профессор нагнулся и острыми карими глазками прицелился в Синька (а тот сидел неподвижно, как чучело). — Ого! — профессор рассмеялся. — Чертенок! Неплохая работа. Прямо-таки ювелирная. Все как полагается: и рожки выточены, и глаза вставлены, и хвост приделан, — и профессор подергал за хвост, чтоб удостовериться, крепко ли он пришит. — Эй, ты чехо дерхаешь! — засопел Синько и постучал пальцем себе по лбу. — Не все дома?.. Профессор удивленно поднял брови (дескать, что бы это значило?) и еще раз потянул за хвост. — Да это же не игрушка! — Женя прикрыла Синька рукой. — Он ходит и разговаривает, как все нормальные люди. У Гай-Бычковского загорелись глаза. — Стало быть, механическая модель? И говорящий аппарат вмонтирован. Так, так, интересно. Хотя при современном уровне техники… — Да живой он! Ну живой, как вы не понимаете! — Женя всплеснула руками. — Конечно, живой. То есть имитирует некоторые признаки живого организма. И если вас интересует, откуда могла взяться модель такого существа, то должен сказать… Профессор заложил руки за спину и забегал вдоль аквариума, а черные меченосцы носились за стеклом вслед, словно это был его подводный эскорт. Не прекращая бегать, профессор в быстром темпе начал развивать перед Женей теорию происхождения Синька, то есть существа, которое — чисто условно — следует отнести к мифологическому виду гномов или чертей. — Тут могут быть выдвинуты три гипотезы, — начал Гай-Бычковский. — Во-первых, кибернетическое происхождение. Как известно, Киевский институт кибернетики под руководством моего друга, знаменитого ученого, работает над созданием мыслящих машин, то есть, — в общих контурах — моделирует работу человеческого мозга. В этой области достигнуты немалые успехи. И вполне возможно, что кибернетики, — люди они остроумные — могли создать в качестве первого образца такой, пока еще довольно примитивный экземпляр мыслящего существа, как этот ваш… как его зовут? Синько. Профессор схватил Синька и затряс его над своим ухом, проверяя, не тарахтят ли у него внутри детали. Нет, детали не тарахтели. Наоборот, в животе у чертенка что-то забулькало, и он, рассердившись, царапнул профессорскую руку и громко чихнул: — От сумахшедший, все кихшки из меня вытрясешь!.. Профессор постоял в некотором недоумении. Не голос удивил его, а то, что Синько был теплый, мягкий, и его живые зеленые бусинки-глаза гневно сверкали. — М-да, — промычал профессор и сморщил лоб. — Тут, видимо, больше подходит гипотеза биологическая. Вы, уважаемая Евгения, возможно, слышали об итальянском ученом профессоре Петруччи. Он открыл метод выращивания живых организмов в колбе. Можно допустить, что именно таким, химическим, путем был выращен этот гомункулус — маленький человечек, который напоминает… — Но профессор посмотрел на Синька и, видимо, сам засомневался, можно ли вырастить в колбе такого симпатичного чертика — рыжего, с нежным зеленым пушком на животе, с маленькими рожками и копытцами. И немедленно выдвинул третью гипотезу — космическую. Он сказал, что ученые давно высказывали мысль о существовании органической жизни, а может быть, и человеческих цивилизаций за пределами нашей планеты. Развитие радиоастрономии, изучение далеких звездных миров подтверждает это гениальное предвидение. Больше того, есть уже, так сказать, и материальные доказательства. — Вы, наверно, слышали, Евгения, о знаменитом лапласском метеорите? Так вот, есть свидетельства, что в его структуре обнаружены доселе неведомые, возможно, космического происхождения, микроорганизмы. Если сообщения зарубежной прессы подтвердятся, то это, знаете ли, буря, переворот в науке. Это будет означать, что из глубин межзвездного пространства к нам, на нашу старенькую Землю, время от времени заносятся новые, абсолютно отличные от наших формы живых организмов, и очень может быть, что и существо, которое вы держите в руках… — тут Гай-Бычковский опять поглядел на Синька и опять, очевидно, засомневался в своей теории: такой занятный маленький чертик — и вдруг занесен из холодных космических просторов? Нет, здесь явно что-то не так. Профессор глянул на часы и даже подпрыгнул: — Извините, опаздываю! Закончим в следующий раз. — Ой, и мне пора бежать! — спохватилась Женя. — И позавтракать уже некогда!Прозвенел второй звонок, и Женя опрометью кинулась на свой этаж, перепрыгивая через несколько ступенек. Вихрем промчалась по коридору — вдоль стен покатились волны, закачались плакаты на шнурках-подвесках. Запыхавшаяся, подбежала к дверям 5-го «А», и тут ей преградили дорогу Бен и Костя Панченко, школьный дружок «генерала». — Момент! — сказал Бен, преграждая дорогу. — Покажи-ка руки. Мы сегодня на боевом посту. Санкомиссия! Бен и в школу явился в джинсах, в яркой футболке, с тремя рядами значков на груди. Был он, видно, в веселом расположении духа и хотел поддразнить Цыбулько. — Руки, руки показывай! — Он важно выпятил грудь. — Проверка. У Жени от бега колотилось сердце, хотелось поскорей сесть за парту и нужно было перед уроком еще заглянуть в «Ботанику». А тут — дурацкие штучки Бена… Через его плечо она заглянула в класс. Виола Зайченко! Вот она крутится, не отрывает взгляд от дверей, глаза так и горят от любопытства: что будет дальше? Женя стояла растерянная: как же ей прорваться? А Бен позвякивал значками, озорно улыбался и плечом загораживал дорогу. А по классу уже ползли издевательские улыбочки. — Ну! — Женя сердито обернулась и протянула руки, хотя знала, что чистота ее рук интересует Бена примерно так же, как уборщицу тетю Пашу китайская грамота. — Смотри! Чистые! Только что мыла! — Ха-ха! — Бен начинал игру. Он кивнул своему сообщнику — Косте Панченко, кругленькому, сбитому пареньку. — Чистые, говорит! Гля, Костомаха, какие у нее руки. Полная антисанитария. Тысяча микробов на каждом пальце. Позор! В газете тебя пропесочим! Бен и раньше был груб с ней (особенно при ребятах), но сейчас… «Тысяча микробов!» Да еще громко так, чтобы все слышали. «Дурак!» — Женя вся напряглась и высокомерно отвернулась, чтоб он не заметил, как от обиды задрожали у нее губы. Горько и противно заныло под ложечкой — не могла она все-таки понять этого крученого Бенчика. Когда случается им оказаться вдвоем — набычится, поднимет воротник, идет и молчит. И не взглянет на нее, боится, прячет глаза, только сопит и сердито отфутболивает камушки. «Бен, ты чего молчишь?» — «Что я тебе, радио?» Тихий и скромный, как первоклассник. Увидит мальчишечью компанию — и сразу: «О, салют!» И поскорей отскочит от нее, будто и не шел рядом. Переметнется к ребятам — и сразу же грудь колесом и первым начинает: «Жабулина!» Как сейчас: «Тысяча микробов!» Может, он — трус? А хочет показать, что мужчина, герой и что на выстрел не подпустит он к себе каких-то там «жабулек»? А если и подпустит, то для того чтоб посмеяться? Женя подступила к нему поближе. — Бен, — сказала, понизив голос. — Пропусти. Не выламывайся. Сейчас учительница придет. А мне еще ботанику… — Нет, номер не пройдет! — еще веселее упирался Бен; сегодня он задерживал всех девочек, а уж Цыбулько… Как можно ее пропустить? Еще подумают, что он… что она… что у них… Словом, покраснев до ушей, Бен вскинул на Женю свои чуть смущенные, но полные добродушного нахальства глаза. — Нет, Цыбулько, с такими руками как у тебя, могу пропустить только за выкуп. Сколько возьмем с нее? — кивнул Косте Панченко. Костя важно надул белые пухлые щеки, зыркнул на Женю из-под нечесаного чуба и деловито проговорил: — Если монетой, то двадцать копейкиных. Не меньше. А если другим товаром, то по яблоку. — Какие яблоки? — отмахнулся Бен, стараясь поскорей закончить эту игру, потому что сам уже испытывал неловкость. Однако игра есть игра, и он продолжал: — Какие яблоки? Только чистой монетой! Двадцать грошей — и вход свободен. — Бен позвякал карманом, давая понять, что добрые люди давно уже откупились и теперь сидят за партами, как порядочные зубрилы. — Двадцать коп — и проходи! Женя оттолкнула его руку, загораживавшую дверь. Но сил не хватило, и она смерила Бена презрительным взглядом. Шутки шутками, но что это за торг, что за вымогательство? «Двадцать копейкиных»! У Кадухи научились? — Бен, — снова рванулась Женя, вконец разозленная. — Отойди. А то я расскажу… я такое знаю… я слышала, как вы в подвале… — Что? Что ты знаешь? — все еще улыбался Бен, но глаза у него стали холодными, настороженными. — Знаю! Как вы с Кадухой курили. В подвале, где темно. — Так это ты? Ты была там, в подвале? — Бен все еще не мог поверить, он был поражен и растерян, но страх уже дрожал в его глазах! — Ага! — Он пригнулся к самому ее уху. — Ты! Подслушивала. И водой нас облила. Шпионка! Да я тебе… Да я сейчас!.. — Он развернулся, готовый ударить, но в это время сзади послышалось спасительное: — Кущолоб! Опять твои фокусы!.. Это был голос Изольды Марковны, стук ее каблучков раздавался уже совсем близко, у самый дверей. Все трое — Женя, Костя, Бен — бросились в класс и разбежались по своим местам. Бен долго крутился на своей парте и что-то ворчал, потом поднял голову и украдкой, из-под нависших на глаза волос глянул на Женю. Она сидела впереди, согнувшись над партой (видно, подавляла в себе горькую обиду). На ее белой тоненькой шейке лежали две завитушки мягких шелковистых волос. Бен тяжело вздохнул и сказал сам себе: «И как оно так у меня получается?.. Вечно все как-то по-дурацки…»
ВОСКРЕСЕНЬЕ. КАДУХА И ТРОЕ ЦЫБУЛЕК
Отец надувал мяч. Набирал побольше воздуха, зажмуривал глаза и изо всех сил дул. Дул так, что лицо синело и на щеках вырастали две тугие груши. Потом он крутил мяч в руках, прислушивался, не шипит ли, не выходит ли воздух. Он стоял без очков, щурился, и Женя смотрела на него с веселой, нежной улыбкой: такой, похожий на мальчишку, немножко колючий, он особенно нравился ей. Казалось, Василь Кондратович сейчас свистнет в окно ребятам и побежит гонять с ними в мяч! Но Цыбулько нацепил очки и стал совсем другим — солидным, как директор школы. — Послушай, старушка, — обратился он к матери, укладывавшей в сумку хлеб, ложки, пластмассовые чашки. — Ты слыхала, как вчера вечером кто-то топал и кричал в подвале? — Да слышала! Как заорет — мурашки по телу побежали. Выглянула в окно — только слышно, как ругается наш дворник, а потом кто-то протопал за кочегарку. — Вот-вот! Видно, бандиты! Женя отвернулась, чтобы не прыснуть. Она-то знала, что там были за «бандиты» и кто сотворил всю эту бурю. — Сегодня дворник рассказывал мне, — сказал Цыбулько. — Прибежал он, говорит, в подвал, думал, трубы прорвало. А там кто-то сделал себе гнездо, прячется в сарайчике, ночует. Мать оставила сумку, села, с тревожным любопытством подняла глаза. — Кто же это? Может, какой бродяга? — Может быть. Потому что дворник говорит: прибежал в подвал, а сарайчик водою залит, тот, крайний, где дверей нету. Лужа чуть не по колено, и всплывают из сарайчика — что бы ты думал? — пустые консервные банки, какие-то бутылочки, а потом — дворник наш чуть рассудок не потерял, волосы, говорит, так и зашевелились на голове — плывет свеча в блюдечке, и фитилек горит… «Ага, это Бен свечку принес! Он все по классу с ней бегал, еще доску воском натер, специально перед контрольной, чтоб мел не пристал». Конечно, Женя не выдала Бена, это только так, в голове у нее промелькнуло. Потому что Бен для Жени не просто Бен, это игра, баталии, подвалы, тайны. Словом, то, о чем не рассказывают взрослым. Женя умела молчать, это даже Бен знал, хоть и бросался оскорбительным словом «шпионка». Правда, Женя стала замечать что-то новое и нехорошее в их прежде веселых, таких интересных тайнах. А все Вадька Кадуха, он расколол компанию; одних прогонял, других уводил куда-нибудь подальше от людских глаз, в темные подворотни. А там — вороватый шепот, монеты, передаваемые из рук в руки, вонючий табачный дым. «Ничего, — хмурилась Женя. — Я как-нибудь Кадухе скажу. Я такое сделаю…» А что она скажет, что сделает Кадухе, если тот раза в два сильней ее? Вот была бы она мальчишкой, все было бы так просто — взяла бы за грудки, тряхнула как следует и прямо в глаза: «Не смей! — процедила бы сквозь зубы. — Ни Бена, ни ребят не смей… таскать по подворотням!» Галина Степановна принялась гадать: кто бы это мог устроить ночлежку в подвале? Ишь, консервов туда наносил, бутылок, даже свечку припас. Какой-нибудь беспутный пьяница, не иначе. Надо сказать дворнику, чтоб на ночь запирал подвал. Мать упаковала сумку и спросила Женю: — Ну как, дочка, ты готова? Конечно, готова! Долго ли ей собраться! Еще с субботнего вечера у них только и разговоров, что о походе в Пущу-Водицу. Галина Степановна жарит мясо, тушит капусту, варит компот из яблок. Цыбулько, тоже весь в заботах, поводит очками: «Где мой перочинный нож? И куда он запропастился?» Нож почему-то оказывается в холодильнике, отец кладет его в сумку, туда же отправляет пакет сырой картошки (будут печь у озера), соль, спички — все необходимые мелочи. Долго запихивает мяч, сердится, что тот никак не помещается среди банок. А Женя на всякий случай заталкивает в рюкзак книгу — может, удастся немножко почитать. Только какое там чтение! Перед глазами уже стоит лес — желто-горячий, багряный, зеленый, оранжевый, неповторимый осенний лес. И тишина, и свежий воздух, и грибы, что прячутся в палой листве. Барбарис и шиповник, красными бусами повисшие на голых кустах. Спокойно, без шума, без лишних разговоров пойдут они по лесу: впереди отец в спортивной куртке, в кедах, через плечо палка, а на ней тяжелая хозяйственная сумка. У матери тоже палка, она разгребает сухие листья, ищет грузди и маслята. А Женя — где-нибудь позади. Прыгает, крутит головой, точно глупый теленок, вырвавшийся на волю: вот дятел, стучит по дереву, вот прошмыгнула белка, а вот вспорхнула с земли поздняя бабочка «павлиний глаз» с черными пятнами на крылышках. И радостно Жене оттого, что родители у нее молодые, не любят сидеть дома и побывали они все вместе и на Десне, и в Крыму, и в Полтаве, и в Чернигове, и даже на границу ездили, к Брестской крепости, — словом, где они только не путешествовали, и всегда в таких походах их маленькая семья становилась еще дружнее, и было им радостно бродить так всем вместе, своей троицей. Почти каждый праздник или выходной они проводили на природе — в лесу, у речки, в заповедных местах. И из каждого похода мать приносила домой какую-нибудь памятку: букетик барвинка, шишку необычной формы, яркие осенние листья. Цветы или веточку она ставила в воду и радовалась: «Женя, посмотри, как красиво!» А когда ездили в Чернигов, выкопала кустик полесской мяты и посадила у себя на балконе. Мята разрослась, и летними вечерами ее запах наполнял квартиру… Все готовы. Кеды зашнурованы, куртки на плечах. — Бригада, в поход! — говорит отец, поправляет очки, и они выходят из дома. Все трое постукивают палками по асфальту, и Женю охватывает предчувствие радости: «В лес! На целый день! Что может быть прекраснее!» Семейной шеренгой вышли со двора. Отец и мать свернули на улицу Артема, а Женя на минуту задержалась взглядом на противоположной стороне улицы. Вот он, подмоченный герой из подвала!В воротах старого деревянного домика, давно приговоренного к сносу, в скучающей позе стоял Вадька Кадуха, которого Женя теперь окрестила «подмоченным героем». Красный шарф, завязанный по новейшей моде и небрежно перекинутый через плечо, еще больше оттенял бледность и худобу его лица, узкого и острого, как бритва, с темным пушком под носом. Вечно неумытый и голодный, Кадуха худел и зеленел день ото дня, и когда, ссутулившийся, с презрительной миной, застывал перед своим домом в знаменитой вратарской стойке, был он похож на нахохлившегося, сердитого воробья. Сейчас Кадуха не просто стоял без дела — он плевал на асфальт сквозь зубы, стараясь при этом своими плевками нарисовать правильный крест. Крест понемногу вычерчивался, но тут внимание его отвлекли Цыбульки. Вадька проводил их прищуренным глазом и сказал себе: «Тоже мне — кадры! В лес потащились, в дебри! И что там делать среди пней?» Сегодня Кадуха был зол на весь мир. Его ни за что ни про что отлупил отец. И стоял Вадька у ворот подавленный и несчастный и размышлял, куда бы податься и как убить выходной день. Тут как раз на горизонте, то есть в ближнем переулке, показался Бен. Кадуха оживился: вот и компания! «Генерал» нес туго набитую сетку из молочного магазина — такого с ним еще никогда не бывало. Сам Бен явно стыдился такой унизительной роли — шел, отворотив нос, словно не замечая Кадуху. — Привет! — крикнул ему Вадька. — Кончай трудовой подвиг и выходи. В кино махнем. — Не выйдет! — кисло сказал Бен. — Дед с копыт свалился. Сердце. Валидол сосет. Бен не стал говорить, что причиной тому — трояк и кубинские сигареты, обнаруженные дедом в джинсах. — Плюнь, — шмыгнул носом Кадуха. — И прихвати чего-нибудь на зуб — сайрочку или сыру. Бен промычал что-то невразумительное, а когда вошел во двор и был скрыт от Вадькиного пронзительного взгляда двумя капитальными стенками, показал Кадухе кукиш: «Вот тебе сайрочка!» Бен и побаивался Вадьку, и заискивал перед ним — что ни говори, Кадуха был не только сильнее, но и отчаяннее: разозлившись, мог броситься с кулаками даже на взрослого. «Шкет! — Кадуха презрительно сплюнул вслед Бену.— А еще в генералы лезет! Погоди, я тебе сопли утру, денщиком у меня будешь!..» (Кадуха давно сделал бы это, но… деньги, консервы, сигареты! Полная зависимость от Кущолоба! Приходилось терпеть.) По уныло согнутой спине Бена, скрывшегося за поворотом, Вадька понял — на улицу он не выйдет. «Слабак! С таким лучше не связываться!» И решил податься в кино самостоятельно. В «Коммунаре» показывали фильм «Любовь и измена» (дети до 16 лет не допускаются). Кадуха признавал только такие фильмы. В «Коммунаре» была у него своя персональная ложа. Обойдя дом, он проходил во внутренний двор, забирался по пожарной лестнице на крышу, а там через окошечко — на чердак. Посреди чердака было квадратное отверстие, закрытое сеткой — вентиляционный люк из большого зала. Кадуха ложился животом на сетку и сверху вниз, под острым углом,смотрел на экран. Правда, смотреть было не очень удобно — уставали глаза, зато были и определенные преимущества: Вадька полеживал на боку, покуривал кубинские сигареты и слушал, как в темноте шуршат и попискивают летучие мыши. А когда на экране мелькали скучные кадры (без стрельбы и погони). Вадька для развлечения поплевывал в зал, целясь кому-нибудь в лысину. «Товарищ дежурный! — раздавалось в зале. — Что это у вас сверху капает!» Вот это кино! Однако в «Коммунар» идти что-то расхотелось — скучно одному. И решил Кадуха отправиться на Лукьяновку к своему дружку Шурику. С ним можно сходить к Бабьему Яру; там на дороге поставили новые светильники на высоких — метров семь — столбах с дугами, и не простые светильники, а с большими матовыми плафонами. По этим плафонам очень хорошо бить камушками на выигрыш — кто больше расколотит? Вадька представил себе, как он целится в стеклянную тарелку, и у него зачесались руки: здорово, под самую дугу! Сегодня он ни за что не промажет. Раз день начался с неудач, то в чем-то обязательно должно повезти — это точная примета! Как пить дать обшлепает он Шурика и сдерет с него трояк, который тот выиграл у него на лампочках в Ботаническом саду. Кадуха решительно перекинул через плечо обтрепанный конец своего шарфа и поплелся на Лукьяновку. Если бы он мог увидеть себя со стороны, то в этой жалкой, понуро согбенной фигурке наверняка узнал бы Кадуху-старшего и, может, хотя бы на секунду задумался: не повторит ли он пустую и никчемную жизнь своего отца?
С ОТЦОМ НА «ВЕРХОТУРЕ». ДИСКУССИЯ В КЛАССЕ. БЕН. ПРИЧИНА ПОРАЖЕНИЯ СПАРТАКА
Женя торопилась: «Ой, уже второй час, не опоздать бы». Быстро жевала бутерброд и одновременно печатала записку. Она стучала одним пальцем по маминой машинке — старому неуклюжему «Ундервуду». Клавиши «Ундервуда» были стерты до желтизны, и девочка, утыкаясь носом в самую клавиатуру, с трудом разбирала, где какая буква. Отыскав, ударяла пальцем, и тогда рычажок сухо щелкал по валику, но почему-то выскакивала вдруг совсем не та буква, и Женя сердилась, забивала напечатанное и снова искала нужную букву. В результате на бумаге появилось такое:Дорогая мамиочка №/! Я поехала к папе на рабоТУ. Х?О. Ключи лежат под коврикоюм, там, где и всегда. Соскучиалась по тебе. Скоро вернусь. ЦелУЮ целую!Все время, пока Женя печатала, Синько тихо сидел на подоконнике и с веселым нетерпением следил за ее щелканьем. То ли машинка ему понравилась, то ли было интересно наблюдать, как сосредоточенная Женя носом вынюхивала буквы, но он вытягивал шею, заглядывал в напечатанное и хитро скалил свои черные зубы. Женя поставила последнюю точку, быстро поднялась и бегом бросилась одеваться. За спиной услышала треск старого «Ундервуда». «Ну и ну! — подумала. — До чего допечаталась, уже в голове трещит». Увы, она даже не оглянулась. А оглянуться стоило — перед ней предстала бы весьма странная картина: Синько прыгнул на машинку и давай — быстро-быстро! — отплясывать гопак. Подпрыгнул в последний раз, топнул копытцем, глянул, что там напечаталось на бумаге, и шмыгнул обратно на окно. Сел, притих, словно не натворил ничего, и, довольный, прижмурил глаза. Куртка, тренировочные штаны, сапожки — все было натянуто в одно мгновение. Женя пригладила свои вихры, взглянула в зеркало и хотела уже бежать. «Да! Записка для мамы!» Вытащила из машинки записку и собралась было приколоть к двери… И вдруг точно за рукав ее дернуло. Что-то не то. Постой, постой! Совсем другая записка! Она быстро прочла:Твоя Женя Цыбулько.
Доровая мамиочка №! Ключи поехахали к папе на работу. Они соскучиались по тебе, /шшшшишшш/ Я лежу там, где всегда, под ковриком. Скоро перевернусь. Целую целую!— Ах ты негодник! Твоя работа! — Она скомкала записку и бросилась к окну. — Сейчас я покажу тебе Жибульку! Синько пригнулся, закряхтел, а потом — прыг! — только мелькнул у нее над головой, и вот он уже на люстре, сидит, покачиваясь и поглядывая вниз круглыми, как у кота, глазами, веселыми и одновременно испуганными. — Ну, ну, не дерись! — забормотал он, подбирая хвост, чтоб Женя не стянула его с люстры. — Не дерись! Да ты соображаешь, сколько мороки было бы из-за тебя, паршивца, у нашей мамы? Она бы к отцу за ключами поехала! А это — «лежу под ковриком»? Выдумал невесть что. А ну, слезай! — Не слежу. Ты драться будешь… — Слезай, говорю! А то палкой сейчас проучу! Женя схватила палку, которой они выбивали во дворе ковры, и сердито нахмурилась, словно и в самом деле намеревалась поколотить Синька. Но при этом открыла окно и указала туда пальцем: — Убирайся! И чтоб больше не являлся! Очень мне нужны такие фокусники! Синько потоптался на люстре, покряхтел: «Ишь какая шердитая! Плохая! Вот пойду и умру в подвале, и больше никогда-никогда меня не увидишь…» Он всхлипнул, обиженно надулся и смахнул слезу. Потом подпрыгнул, пролетел по комнате и исчез за окном, рассеялся, как облачко рыжего дыма из выхлопной трубы. Исчез. Только оставил на ее руке горячую каплю — свою горькую слезу. Женя стояла пораженная. Ведь она же шутя пригрозила ему, хотела немножко припугнуть, а он надулся и — на тебе! — «умру в подвале…». Выбежала из дому («Ой, опоздаю-таки к папе!»), а в мыслях все возвращалась к Синьку: «Глупенький! Еще и в самом деле возьмет да не придет больше…» Они поднимаются все выше и выше по шаткому деревянному настилу. Под ногами поскрипывают заляпанные глиной доски, тихо в лесах гудит ветер, земля куда-то опрокидывается: внизу зияет яма, а вокруг гребнем встают крыши домов. Цыбулько-старший идет впереди, все время оглядывается — как там Женя? — и подбадривающе улыбается: — Выше голову, дочка! Под ноги не смотри, лучше в небо. Видишь — осень, тучи низко плывут. И правда, тучи проносятся низко-низко, точно это вовсе и не тучи, а серый туманный поток, летят, цепляясь за крыши, за телеантенны, за брандмауэры — кирпичные противопожарные башни. — А я и не боюсь! — задирает подбородок Женя и тоже улыбается, а между тем ее самолет трясет и бросает в воздушные ямы. Но как бы там ни было — а интересно; страшновато и интересно, и хочется подняться еще выше, еще хоть немножечко выше. Человека всегда тянет вверх, недаром мальчишки лезут на деревья, альпинисты — на Эльбрусы и Эвересты, а космонавты летят в космос. Ни за что не сказала бы сейчас Женя: пошли назад, мне страшно. Во-первых, она сама напросилась, а во-вторых — отец идет спокойно и уверенно, и хотя настил крутой, а переходы узкие, даже не держится за поручни, а Женя невольно хватается за леса и жмется к стене. Высокая, свежепобеленная стена Исторического музея возвышалась над Женей, точно отвесная скала. Но это раньше, когда она была внизу. А сейчас перед нею — вершина, широкий треугольный фронтон, над которым трудится отец. — Ну вот и пришли, — переводит дух Василь Кондратович и здоровается с мастерами, что сидят на досках и спокойно покуривают: — Добрый день, товарищи! — Добрый день!.. О, да у нас пополнение! — оживившись, перемигиваются мужчины. Пожилые и совсем молодые, все они были одинаково одеты — в широких парусиновых спецовках, забрызганных краской и глиной. И все с симпатией и интересом разглядывали ушастенькую дочку своего бригадира. Женя совсем растерялась под их взглядами. Бочком-бочком подалась, спряталась за отцову спину и вдруг почувствовала: от подъема ли или от высоты, а может, от волнения лицо ее залило жаром и в голове зашумело. Ухватилась за отцовский ремень и тихонько подождала, пока прояснится. Потом стала разглядывать папину бригаду. Кое-кого узнала сразу: вон тот коренастый усатый дяденька с круглым добродушным лицом — наверняка Олекса Петрович, мастер на все руки: художник, резчик, а еще пасечник (дома на балконе у него ульи); а тот молодой, черненький, с быстрыми глазами — это, конечно, Петрунчик (так его в бригаде называют), весельчак и шутник; а крайний дяденька, длинный как шест, с белой-белой шевелюрой — обстоятельный Гордиевич. Отец каждый вечер обо всех о них дома рассказывает: кому какой дал наряд, кто лучше умеет делать грунтовку, а кто лепку и что нового в их семьях. Эти люди давно поселились в думах и разговорах Цыбулек и уже вроде как живут с ними вместе, в одной квартире; один служит примером, особенно в устах матери («Гордиевич, — говорит она, — вот человек, золотые руки: какие полочки для кухни сделал!»), а другой антипримером («И что ты за Петрунчиком тянешься? Он человек неженатый, ему все можно»). Одним словом, все это свои люди, старые добрые знакомые, и встретили они Женю по-родному, просто и искренне: — Бери, дочка, яблоки. Бери, бери, не бойся, это из моего сада. Антоновка! На базаре таких не купишь. — А у меня орешки есть. А ну подставляй руки. Лесные орехи. Это мы с сынишкой собирали. — Ну, что новенького в школе? Какие отметки сегодня принесла? Пятерку? Вот молодчина! Я своему Ярику каждый вечер долблю: «Учись, говорю, как Женя Цыбулько. Учись, башибузук ты эдакий!» А он за клюшку и во двор — только его и видели. Женя ест яблоко, щелкает орешки, и хорошо ей с отцом в обществе простых и гостеприимных людей. Над головой проносятся тучи, день выдался влажный, туманный. Отсюда видны Жене киевские холмы, тесно застроенные кварталы Подола. Видны возвышающиеся вдали за белесыми плесами Днепра песчаные бугры и островки сосновых лесов. Прилетают тучи, а тебя охватывает чувство, будто это ты летишь над горами, над Подолом, над широкой рекой, и тебя даже начинает покачивать вместе с огромной коробкой каменного здания. Девочка прижимается к папиной спине. Ей приятно, что вот пришел отец сюда (на «верхотуру», как он говорит), — и не старше он и не выше других, наоборот — один из младших, шея тонкая и нос остренький, как у студента, словом, парнишка среди солидных мужчин, а все собрались вокруг него, присели на корточки, сгрудились тесной кучкой, беседуют, внимательно слушают отца, о чем-то сосредоточенно советуются. Сразу видно, что отец тут — авторитет, бригадир. «Все-таки молодчина он у меня!» — с теплотой подумала Женя. — Пора, — говорит отец, взглянув на часы. — По местам. Все расходятся, разбирают свой инструмент — ящички, скребки, маленькие железные ножи-лопаточки. Некоторые прихватывают канистры с водой, легкие пластмассовые ведра, бумажные мешки с цементом, алебастром, песком, цветными глинами. Скрипят доски, расходятся мастера, и вот уже весь боковой фасад облепили маленькие человеческие фигурки. Кажется, будто стрижи или ласточки прилепились к стене. Отец зовет Женю и ведет по лестнице наверх, под самую крышу. И лишь через некоторое время, освоившись с высотой, девочка заметила, что они уже в люльке. Сколоченная из прочных длинных досок люлька подвешена на канатах, и при помощи блоков ее можно подтягивать и опускать вверх-вниз. Это очень удобно для работы. — Сегодня будешь у меня за подручного, — говорит отец (он в рыжей парусиновой спецовке, в таком же берете, какой-то не домашний, а как бы немножко чужой, отстраненный, и так строго смотрит на нее через очки). — Задание тебе, — продолжает он, — растворять цемент. Вот тебе форма, вот лопатка и вода. Будешь добавлять в раствор вот этот порошок — синтетический клей для прочности. Только учти: растворять надо маленькими порциями. Цемент — сейчас ты и сама это увидишь — быстро густеет… Ясно? Женя утвердительно кивнула головой: ну конечно же — ясно! Это же проще простого, все равно что месить тесто. Развела в форме цемент, долила воды, размешала сероватое тесто, ткнула в него пальцем, чтоб убедиться, достаточно ли загустел… — Уже растворила, — обратилась к отцу. — Может, погуще? — Как раз хорош, — ответил он. — Сейчас начнем лепить. Цыбулько побрызгал водой зачищенную заплату на стене, подождал, пока впитается влага, снова побрызгал — лепка делается на мокром кирпиче, на так называемой сырой основе. Потом развернул рулончик тонкой копировальной бумаги, расстелил на полу, прижал края камешками. — Видишь, дочка, какой сложный орнамент. Внизу — виноградная лоза с листами и гроздьями; это символ жизни. А сверху — фигурки рабочих и матросов с пулеметами, буденовцы на конях точно по воздуху летят. Это наша революция, самое для нас дорогое в истории. А в глубине, видишь, воины с копьями, пахари — это наша древняя история. И погляди повнимательнее… Ни один элемент, ни одна фигурка не повторяется. Оттого и работа эта ручная, а не формовочная. Формовочная — это когда лепка делается по форме, изготовленной на заводе, а тут ее только берут и прикрепляют к стене. Усекла? — И отец «позвонил», то есть надавил пальцем на кончик Жениного курносого носа, точно так, как это делала она своему Синьку. Женя улыбнулась, продемонстрировав отцу свои широкие — лопаточками — передние зубы. — Усекла, — проговорила радостно. — Тогда подавай цемент. Он зачерпнул лопаточкой раствор, глянул на рисунок, взял комочки Жениного «теста» и прилепил к стене, прямо на мокрую латку, потом еще, еще; выросла белая шершавая горка; отец разгладил ее гибкими послушными пальцами, округлил, и Женя вдруг увидела лошадиную гриву. А вот и шея. Отец подчистил скребком с боков, убрал лишнее, прищурился, всматриваясь в фигуру, и снова принялся за работу. Пальцы бегают, разравнивают, приглаживают, и вот уже выпукло, четко выступают из стены голова и шея коня. Долго трудился над лошадиным глазом: убирал и снова накладывал раствор, подчищал палочкой, обводил глубокими дужками и, наконец, кажется, остался доволен: глаз, а вместе с ним и вся напряженная, вытянутая вперед голова скакуна ожили. «Буденновский конь. Точно летит по стене», — Женя стояла, любуясь отцовской работой. Перевела взгляд на леса. Рядом с ними, повыше и пониже, будто повиснув в воздухе, работали мастера. Замешивали цемент, песок и накладывали на стену, тяжелые детали крепили шпурами. Работали сосредоточенно, изредка переговаривались между собой, и Женя подумала: и вправду похожи на ласточек, что, непонятным образом уцепившись за карниз, вьют себе гнезда. — Папа, а как вы соедините этот… орнамент? Чтобы получилась одна картина? — А-а, это очень просто! Посмотри внимательнее. Видишь, вся стена расчерчена на квадраты. Когда каждый закончит свою лепку — картины сольются в одну полосу внизу и полукругом по всему фронтону. Как по-твоему, украсит это музей? Представляешь, идут сюда экскурсия за экскурсией, а люди смотрят и говорят: «Замечательно сделано. А где-то тут и Евгения Цыбулько руку приложила», — отец лукаво улыбнулся сквозь очки. — Пап! Дай и я попробую… лепить! — Ну что ж, можно! Начнем с виноградинок. Вот посмотри на схему, на рисунок. В этом квадратике — заметила? — первая виноградинка. И не круглая, а продолговатая. Начинай. Смелее! Так, набирай цементу — и раз! — отец крутнул пальцами по стене, и на этом самом месте появилась самая настоящая виноградинка. — Теперь я! Женя зачерпнула раствор, высунула язык и нацелила взгляд на стену. Ткнула пальцем — раз! — и мокрый цемент полетел вниз, в расщелину между первым и вторым настилом, а потом шлеп — и расплескался где-то внизу по доске. — Ничего. Еще раз попробуй. Не боги горшки обжигают. Теперь Женя набирает побольше раствору, макает кончики пальцев в воду и аккуратно, осторожно прилепляет свое тесто к кирпичу, а на ее куртке откуда-то появляется белая полоса. — Ох и задаст нам мама за то, что так перемазались! — Цыбулько сокрушенно покачал головой. Достал чистую тряпочку, намочил в ведре и принялся вытирать Женину темно-синюю нейлоновую курточку. — Э-э, дочка, да ты замерзла. Дует у нас здесь. Пожалуй, пора тебе домой. — А ты же обещал мне старый Киев показать!.. — Может, в другой раз? — Нет, нет, сейчас! — Ну, сейчас так сейчас. Да и отдохнуть нам уже пора. Становись рядом. Вот так, поближе. Я тебя своей парусиной прикрою. Отец прижал к себе худенькую, ушастую свою дочку, прикрыл полой куртки. И так хорошо стало Жене у папы под мышкой, так тепло и уютно, что, казалось, закрой она сейчас глаза — сразу бы уснула и счастливая улыбка дремала бы на ее губах. И у Василя Кондратовича посветлело на душе: прислонилось к нему, ища тепла, такое маленькое, такое беззащитное, такое родное существо, нежное, ласковое, послушное. Отец повернул дочку лицом к Подолу и показал рукой вниз: — Смотри. Вот он — старый ремесленный Киев. Видишь, как сохранился! Точно из восьмого или девятого столетия переселился прямо в наши дни. И правда, казалось, в центре города разместилось село. Да к тому же старое, деревянное, словно бы из давних-давних времен. А вокруг — горы, овраги… Даже не верилось, что это не макет, не нарисованные фанерные декорации к кинофильму, а настоящая реальная панорама. В глубоком овраге притаилось древнее поселение — так называемая Гончаривка. Сейчас, когда деревья стояли голые и не закрывали построек, просматривалось все городище — вместе с голубятнями, с маленькими, словно бы игрушечными колодцами во дворах. Вдоль крутого оврага тянулась узкая извилистая улочка — и что это была за улочка! Ветхие почерневшие домики, похожие на древнерусские деревянные срубы. Маленькие резные крылечки. Мостки перед воротами. Ленивые дымки из труб. Скрип колодезных воротов и звяканье цепи о ведро. Узенькие, под самыми окнами, дощатые тротуары. Проезжие дороги — с глубокими колеями от колес — вымощены камнем; за несколько столетий грубый нетесаный камень отшлифовался до слюдяного блеска. А еще — сложные разветвленные анфилады скрипучих деревянных лестниц с перилами и скамеечками на площадках: по этим лестницам жители выбирались из оврага в город. Сию мирную, архаичную картину дополняли старозаветные козы, что паслись на склонах, и босые мальчишки, эти одинаковые сорвиголовы во все эпохи, что бегали и боролись у самого края обрыва. Если бы не радио- и телеантенны над деревянными домишками, не корпуса новых современных зданий из бетона и стекла, обступивших овраг, можно было бы подумать, что ты каким-то чудом перенесся во времена княжения Владимира Святославовича. Женя с сияющими от восторга глазами рассматривала каждый дворик внизу, каждый переулочек Гончаривки, а отец, молчавший, чтоб не мешать ей, наконец проговорил: — Ну как? Правда интересно!.. Была бы у меня кинокамера, — сказал он задумчиво, — я бы обязательно заснял этот неповторимый уголок. Он так ловко спрятался от мира, что о нем даже у нас в Киеве мало кто знает, и даже те, что живут в двух шагах от него. Женя согласилась с отцом. Сколько раз бывала она тут, на Старокиевской горе, и не подозревала, что стоит пройти всего несколько шагов, завернуть за Исторический музей — и ты лицом к лицу встретишься с древним Киевом, с седой стариной. — А тут, где мы с тобой сейчас стоим, — снова заговорил отец, показывая рукой через леса, — когда-то был верхний город, основал его князь Владимир. Как видишь, от него ничего не осталось. Сгорел. А там, в овраге, селище стоит так, словно оно законсервировано, и по тем самым улочкам, по которым сейчас бегают пионеры, ходили в свое время — кто бы ты думала? — оруженосцы и книгописцы Ярослава Мудрого. Как ты считаешь, почему так сохранилась Гончаривка? — Потому что она хорошо спрятана, — сказала Женя. — Правильно, дочка. Сама природа спрятала ее. Этот овраг, что перед нами (кстати, он называется Гончарным), со всех сторон обступают горы. Вот эта ближняя гора с рыжими склонами — Замковая; сбоку от нее — гора Дитинец, дальше Щекавица, а там за нею, видишь, вершина торчит — это Хоревица. Горы кольцом окружили овраг, а овраг глубоченный, с крутыми обрывистыми склонами, с глиняными осыпями. Вот тут, в созданном природой гнезде, в котловине, и поселились когда-то ремесленники. Ведь для ремесла что главное? Тишина и покой. Жили тут кожевники, чеканщики, шорники, кузнецы — и не простые кузнецы, а мастера «весьма чудные по злату, серебру и меди», как писалось про них в летописи. Представь себе, дочка, как бурлила тогда Гончаривка. Гремели наковальни, пылали печи, в которых выжигали посуду, пахло кожей и дубовой корой, погромыхивали на возах бочки. Во все страны мира — в Грецию, в Византию, в Литву — расходились мечи, глиняные кувшины, золотые украшения киевских мастеров. Как-нибудь, Женя, — проговорил Цыбулько, — мы с тобой побродим по оврагу. Обязательно. Там до сих пор сохранились старинные названия улиц, ремесленные: Кожевенная, Гончарная… Верно, как селились ремесленники целыми цехами, так и называли свои улицы и переулки. Интересно? — Отец помолчал и добавил: — Да, была бы у меня камера, обязательно снял бы фильм, ведь здесь каждый холмик в кадр просится… А Женя подумала: как славно, что она пришла к отцу. Сама вылепила виноградинку — это раз. А во-вторых — такое услышала и увидела… Женя не призналась ни отцу, ни себе самой, но стало ей стыдно и обидно за себя: столько раз бывала тут, возле музея, и ничегошеньки не знала про Гончаривку. Наверно, надо не просто смотреть, но и видеть. Видеть так, как отец. Вот тут, перед музеем, выступают из земли остатки старой стены. Для Жени это обыкновенная стена, кирпич да замазка, и больше ничего. А для отца — история. Он осмотрел старую кладку, поцокал языком и потом полдня рассказывал ей о древнем городище, о первых строителях, о Византии, о секретах старых мастеров, о пожарах, разрушениях и восстановлении. Надо же — столько увидеть в обыкновенном кирпиче! Когда Женя вырастет, то либо она будет изучать, что было на земле в старину (Петро Максимович, директор школы, всегда ставит ей пятерки и приговаривает: «Тебе, Цыбулько, прямая дорога в историки!»), либо пойдет вместе с отцом строить Киев. А еще лучше, если все сразу — и строить Киев, и копаться в земле, и изучать, что было когда-то на том месте, где ты сейчас роешь котлован под новое здание. — Папа, я буду как ты, — покраснев, сказала Женя, — работать и знать… все про Киев… и вообще… про все-все на свете. — Конечно, Женя, так оно и будет. — Василь Кондратович стоял, взволнованный не меньше дочери, даже голос у него стал приглушенным от волнения и прилива нежности. — Так и будет, Женя. Я верю в тебя — ты у меня человек разумный. Он ласково потрепал ее мягкие шелковистые волосы и уже совсем другим, деловым тоном сказал: — А теперь — домой. За уроки.Твоя Ценя Жибулько.
Долго, торжественно звенел звонок, провозглашая большую перемену. 5-й «А» наполовину опустел. Ученики поразбегались кто куда: одни в столовую, другие — на черный ход за колонну, где можно спокойно поиграть в почтовые марки. Костя Панченко уже свистел с улицы, призывая Бена. А Бен сидел за партой скучный и печальный. Вяло, без всякого аппетита дожевывал дедов бутерброд и думал о том, что в джунглях Амазонки бродят тигры и леопарды, а мама где-то далеко, а он, забытый и брошенный Бен, всю жизнь один да один, двор опостылел ему, да еще гоняется за ним этот глухой Хурдило с кочергой и называет босяком и хулиганом. «Убегу!» — было написано на унылой физиономии Бена. Женя вздохнула — она прочла в глазах своего друга-соперника это решительное «Убегу!». Хорошее дело, подумала Женя. Что же будет без Бена во дворе? Все затихнет, заглохнет, трава вырастет по пояс, и только пенсионеры будут тоскливо дремать на своих лавочках. Женя тихонечко, крадучись подалась вслед за Беном, дикими тропами устремилась в джунгли, но вдруг замерла. «Вот те на! Понесло же меня неведомо куда! А английский повторить забыла…» Раскрыла учебник и досадливо поморщилась: ну вот! Теперь с другой стороны напасть. Хихиканье, громкий шепот на задних партах… Женя обернулась… однако не рассердилась, а тоже заулыбалась. Какой уж тут английский, если Виола Зайченко начинает свой спектакль! Виола собрала девочек, рассадила вокруг себя. Сама взобралась на парту и, держа в зубах несколько шпилек, распушила свою косу и начесала на темени высокую смоляную гривку. Выполнив эту операцию, сказала: — Я выйду замуж только за человека умственного труда — художника или киномеханика. — А я за офицера! — вылезла пухленькая, румяная, как пампушка, Светлана Кущ и вся залилась краской. — Ты ужасно темная, — Зайченко свысока глянула на Светлану и снова повернулась к девочкам, чтобы все ее видели. — Мода на офицеров давно прошла. Теперь, чтоб ты знала, мода на шелковых мужей, на прирученных… Нет, я, пожалуй, выйду замуж за простого человека — чтоб дома сидел да обеды варил. И буду жить, как наша соседка Фая. Придет наша Фая из института (она там в какой-то лаборатории работает), сумочку бросит в угол, упадет в кресло и говорит: «Ах, как я устала, ужас!» — Виола томно откинулась назад, закрыла глаза и помахала перед собой воображаемым веером — ладонью. Потом гневно поднялась и театрально оттопырила палец. «— Кузик (так она своего мужа называет), Кузик, что это наш Боря плачет? Ага, ребенок мокрый. Что ж ты стоишь, не знаешь, что нужно делать, — поменяй пеленки. А-а, он еще и того… Так искупай его. И спой, спой ребенку песенку, не бойся, голос не сорвешь. Спит? Ну хорошо. Теперь давай в магазин, только по-быстрому, а то, я смотрю, у тебя еще и ужин не готов. Куда ж это годится — жена-то ведь голодная пришла!» Виола так точно передавала и голос, и манеры, и позы своей соседки, что класс стонал от восторга. И только Бен, который все это время хмуро молчал, вдруг ударил себя кулаком в грудь и глухо проговорил: — Я бы такой Фае! — Герой! — Виола Зайченко уничтожила Бена взглядом (а глаза у нее были черные, большие и острые, как у цыганки). — Он бы ей… слыхали? Ты лучше расскажи, как ты деду житья не даешь, и как дед за тобой с компотом бегает, и как задачки за тебя решает! Эксплуататор несчастный! — тоном обвинителя добавила Виола. Бен в ответ скорчил презрительную мину и передразнил Виолу. Но на его кривлянье никто не прореагировал. Все взгляды были прикованы к углу, где сидела белоликая красавица Зайченко, все ждали продолжения спектакля. Виола чувствовала одобрение класса, с независимым видом заложила ногу на ногу, картинным жестом поставила перед собой того самого затурканного Кузика и принялась добивать его: — Не плачь, Кузя, не надо. Вытри нос, — Виола провела платочком в воздухе, вытирая нос Кузе. — Успокойся, миленький. Такая уж теперь у вас, у мужчин, доля. Ну какой из тебя мужчина, скажи на милость? Может, ты ходишь на мамонта? Или пашешь плугом на паркете и рубишь дрова на кухне, возле газовой плиты? Да ты посмотри на себя, во что ты превратился: распух, размяк, прямо тюфяк какой-то. И ходить-то небось разучился бы, если бы в магазины тебя не посылала… Так что не плачь, родненький, не гневи бога… Спасибо еще скажи, что я тебя в своем доме терплю. — Ну и артистка! — послышалось. Класс как по команде повернулся. На пороге стоял Петро Максимович, директор. Никто не заметил, как он вошел в класс, какое там — в 5-м «А» даже звонка никто не услышал, так захватила всех Виола. А директор довольно долго стоял на пороге, склонив лысую голову, и из-под кустистых бровей наблюдал, как изображает самовлюбленную дамочку Виола Зайченко — эта высокая, не по годам взрослая девочка. — Ну и артистка! — повторил директор, и в его голосе прозвучали шутливые нотки. — Надо сказать Изольде Марковне, чтоб записала тебя в драмкружок — поистине божий дар пропадает. В первую минуту, когда в классе прозвучал голос историка, ребята растерялись и словно приросли к полу. Но уже в следующий момент как по мановению волшебной палочки все сидели на своих местах. Директор прошел к кафедре и, как обычно, несколько секунд посидел, зажмурив глаза. — Все в классе? — спросил усталым голосом. — Все! — подскочил Бен и замер, как по команде «смирно». — Прекрасно. Не будем нарушать нашей традиции. Первое слово — дежурному, Андрей, иди к доске. Говорят, ты у нас стратег, полководец, генеральские погоны носишь… Так вот: ты, разумеется, проштудировал роман Джованьоли «Спартак», который я задавал вам по внеклассному чтению? Прекрасно. Я не сомневался, что книга тебе понравится. Теперь давай, голубчик, вместе подумаем: с военной, с экономической, с политической точки зрения — почему Спартак потерпел поражение?.. Не торопись, подумай, сосредоточься… Бен, угрюмо и хмуро сидевший до этого на своем месте — переживал Виолину победу, — услышав о вожде гладиаторов, о битвах восставших рабов, оживился, кровь прилила к его лицу, глаза заблестели. Он щелкнул каблуками и по-военному отчеканил: — Причина поражения Спартака для меня абсолютно ясна: Спартак проиграл последний бой потому, что у него не было пулеметов. По классу волной прокатился смех. Бен начинал второй — после Виолиного — спектакль, только еще более веселый, потому что вел он его не в шутку, а совершенно серьезно. — Пусть они не смеются, Петро Максимович. Я сейчас докажу. Где мел? — Бен схватил брусок мела и вычертил на доске широкий овал. — Это остров Сицилия, куда Спартак хотел переправить свое войско. А вот перешеек, — на доске появился кружок поменьше. — Тут, на перешейке, и зажал Спартака кровожадный Красс. Он отрезал повстанцев широким рвом, да еще и валы там насыпал. А если бы у Спартака были пулеметы и если бы он поставил их на флангах, вот тут и тут… — На флангах? — переспросил директор, и его губы растянулись в иронической улыбке. — А может, лучше было бы поставить там ракетные установки? — Я не шучу, Петро Максимович. Если бы пулеметы… — И я не шучу. А ну-ка подойди ко мне поближе. Покажи-ка мне свои пальцы. Почему это они у тебя желтые? Не от порохового ли дыма? — Так точно, товарищ директор! — Ну ладно, голубчик, не дури. От курения пальцы-то пожелтели, от курения. Верно я говорю? — обратился Петро Максимович к классу. Он провел взглядом по рядам, и под этим взглядом склонялись головы ребят, и особенно низко пригнулись они у некоторых мальчиков — совсем как у гонщиков-велосипедистов. — Видишь, — проговорил директор, — как стыдно за тебя одноклассникам. Куришь, голубчик. А теперь повернись ко мне боком. Так, так. Достань-ка из этого вот кармана сигареты. — Где? Что вы? Какие сигареты? — Бен-Кущолоб словно бы даже возмутился и похлопал себя по карманам. — Можете обыскать! — Доставай-доставай. Вот-вот, вынимай. И положи их сюда, на кафедру. Бен положил сигареты и отвернулся. Теперь и в самом деле классу стало неловко за Бена, за его вранье (сказал нету — и тут же вытянул пачку). — Андрей, — медленно, глухим, усталым голосом проговорил директор, — я могу сводить тебя в кабинет биологии и показать один простейший опыт. Возьмем вот эту твою сигарету, окунем ее в воду и выдавим каплю никотина. Малюсенькую капельку. И брызнем на живую клетку — на амебу или инфузорию. И ты увидишь — под микроскопом! — живая, подвижная, веселая клетка мгновенно чернеет и погибает. Так и у тебя: с каждым глотком никотина умирает не одна, а сотни, тысячи живых клеток — в легких, в сердце и самое страшное — в коре головного мозга. Знаешь ли ты, что старые курильщики, как правило, полные склеротики: память у них притуплена, сердце отравлено, нервы — на ниточках? Неужели ты не знаешь об этом? Или ты сознательно хочешь оглупить себя, с юного возраста убить свой мозг и живую мысль? Бен молча сопел, наклонив голову, и время от времени откидывал назад свою роскошную русую шевелюру. — Позвольте полюбопытствовать, — Петро Максимович в разговоре с учениками часто переходил с «ты» на «вы», — какого рода деятельность избрали вы себе на будущее? Военную? — Угу… В училище собираюсь, в ракетное. — О-о! Ракетное! А знаете ли вы, какие там требования по математике, по физике, по химии? И какой ясный разум там нужен, какая реакция? Где-то в стратосфере летит ракета, летит со сверхзвуковой скоростью. И надо за энную долю секунды обнаружить ее, рассчитать траекторию и сбить. Конечно, делается это с помощью электронной машины, но у пульта-то вы. Директор, видимо, разволновался и, почувствовав это, внезапно умолк и закрыл глаза, явно прислушиваясь к своему сердцу. Его худое, утомленное лицо подернулось мертвенной бледностью. Словно бы извиняясь, Петро Максимович встряхнул головою (вот, дескать, напасть какая-то прицепилась!) и сквозь желтые круги, что плыли перед глазами, посмотрел на Бена — тот носком растирал по полу крошку мела. — Не сори, голубчик, — спокойно, без раздражения сделал замечание директор. — И послушайся моего совета. Если ты прекратишь курить сейчас, немедленно, буквально с сегодняшнего дня, твой молодой организм еще сумеет восстановить разрушенные клетки. Если нет… Я же знаю: это у тебя не привычка и не потребность (разве тебе хочется курить?), это просто мода. А во что превращается безвольный мужчина, вам только что продемонстрировала Виола Зайченко. Директор пробежал взглядом по рядам и остановился на черноглазой Виоле, которая выделялась в классе и ростом, и яркой (еще не взрослой, но уже и не детской) красотой, и модной одеждой. Он и не подозревал, что Виола внимательнейшим образом следит за ним, с профессиональным интересом изучая его своеобразную манеру разговора, его мягкие и неторопливые движения и жесты, чтобы потом, на переменке, разыграть веселую сценку — как Монарх (так прозвали историка в 5-м «А») побивает у доски Бена-Спартака.
ОГНЕННОЕ БУГАЛО, ИЛИ О ТОМ, КАК СИНЬКО ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ
— Эх, шейчаш бы жареных поганочхек! Женя делала уроки за письменным столом, а Синько сидел на подоконнике и дрыгал ногами, постукивая копытцами по батарее. Длинный и жесткий его хвостик шевелился, как у кошки, которая подстерегает мышь. Девочка оторвалась от книжки, посмотрела на чертика и улыбнулась. — Каких еще тебе поганок? Они же ядовитые. Вот посмотри, у нас в «Ботанике» даже картинка есть: «Съедобные и несъедобные грибы». — Это для вас, для людей, они ядовитые, а для меня все равно что мармелад. Да еще если на машлице поджарить. Чтоб хруштели. Ум-м-м, вкушнотища! И чертик сладко зажмурился, показывая, как бы он сейчас посмаковал поганочки. Хотел было рассказать Жене, где их можно насобирать: за стадионом, в канавке, где растет чагарник, там в зарослях полно пней да коряг, а под ними — поганочки, зелененькие, бледно-желтые, на длинных водянистых ножках. Но Женя перевела разговор на другое. — Ты бы все-таки рассказал мне, — проговорила она задумчиво, — почему тебя зовут Синьком. Что в тебе синего? Глаза у тебя зеленые, как два светофорчика, и бородка зеленая пробивается. И не Синько ты вовсе, а Зеленко. — А-а-а, это длинная история. — Синько зевнул и прикрыл лапкой щербатый рот. — Ты уроки-то сделала? (И придумали же люди такое — уроки!) Вот у нас не мучают детей уроками, а сразу, как только чертик родится, ему всю грамоту в голову вкладывают. Вот! — Ну, расскажи! Расскажи, Синько. Я уже все сделала. — Подумаешь, уроки, уроки-мороки, — Синько разворчался, как старичок. — Ладно, так и быть, расскажу тебе самый секретный секрет. Только чтоб никому ни-ни. Ясно? — Ясно! — Женя насупила свои реденькие брови. — Никому не скажу! Клянусь! — Ну тогда слушай. Чертик прыгнул на стол, уселся на стопку книжек, а кончик его хвоста побежал-побежал по столу, прыгнул в открытую чернильницу (Женя только что заправила авторучку) и поставил в дневнике жирную фиолетовую кляксу, похожую на солнце с колючками. — Синько, что ты делаешь?! — Т-с-с! — он приложил палец к губам. — Не перебивай. Дай сосредоточиться. «Ну и хитрюга!» — подумала Женя, но промолчала, приготовилась слушать. — Я, да будет тебе известно, — начал Синько, — живу на земле вечно. То есть родился я недавно, пять лет назад, но до этого жил в деде, а вместе с дедом — в прадеде… Ну что ты так смотришь? Не понимаешь? Слушай дальше — поймешь. Он поудобнее устроился на книжках, заложил лапки за спину (совсем как Гай-Бычковский) и снова заговорил — как всегда, шепеляво, однако для удобства его шепелявость и заикание мы переведем на нормальный язык. — Когда наш дед состарится, — с ученым видом изрек Синько, — а это случается на трехсотом или четырехсотом году жизни, — и почует смерть, он уходит в дикий, непролазный лес, в самую чащобу. Там он выбирает самый глухой угол. И ждет самой темной ночи. Может, слыхала, — Синько вопросительно посмотрел на Женю, — люди часто рассказывают про какой-то яркий блуждающий огонь в лесу или на болоте. Называется он бугало — ночной огонь. Так вот. Это наш дед, который собрался умирать. Бродит он, бродит по лесу, пока наконец не найдет себе место где-нибудь возле болота. Встанет там. И всю ночь стоит, воздев руки кверху. Стоит неподвижно, как каменный, и ждет. И вот из мрака, из ночной мглы ударяет молния, грохочет гром, и он вспыхивает. Горит, как огненный столб. Стоит и горит до самого утра, светится синим слепящим огнем. И все вокруг — болото, кусты, деревья — тоже светится и будто пылает. А на утренней заре, лишь только пророкочет над лесом первый почтовый самолет, огонь гаснет, и вот уж стоит на пригорке черная обгорелая колода. Твердая, точно железная. Подует сильный ветер — и она падает в осоку, в болото. И лежит себе там год, два, три года, и тридцать три весны и лета. А в той колоде, в сердцевине, вызревает белый тугой кокон, куколка. Это уже я, — гордо сказал Синько и постукал себя по волосатой груди. — Старое дерево рассыпается: сначала отслаивается кора, потом и сама древесина, и остается только шелковистый кокон. Вот так родился я, Синько, сын своего деда Синюхи Рыжего. — Хорошая сказка, — вздохнула Женя, слушавшая чертика затаив дыхание. — Только я, кажется, уже слышала что-то похожее. То ли по радио, то ли по телевизору, не припомню. — Ну вот! Опять ты за свое: сказка! Раз не веришь мне, соберу вот свои вещички — и пхощай! Синько надул губы, заерзал, делая вид, что куда-то собирается. — Ладно, не сердись! Иди сюда! — Женя стащила его со стола, усадила к себе на колени и стала гладить ему спинку, шею, чесать за ухом. А Синьку только того и надо, чтоб его приласкали, особенно ему нравилось, когда чесали между рожками — тогда он зажмуривал глаза и довольно урчал. — Уж больно ты вредный, Синько! — ласково выговаривала ему Женя. — Чуть что — задрал нос и сразу бежать. Так нехорошо! Она покачала Синька, чтоб успокоить, и ровным голосом (как взрослые, которые прощают малышам мелкие шалости) продолжала: — Только вот не пойму я ваших имен. Ты Синько, а деда звали Синюха, да еще и Рыжий. Как это у вас заведено? — Очень просто. Пока я маленький, я Синько. А как вырасту, стану большой-большой и рыжий, как настоящий чхорт, тогда буду Синюха и еще Рыжебровый. Ясно? Не очень-то стало ясно, но и расспрашивать больше не хотелось, а то еще, чего доброго, снова надуется… А Синько вел свой рассказ дальше: — Так вот. Родился я у деда, а помню своего прадеда, и прабабку, и даже прапрапрадеда, и прапрапрабабку. И бывает со мной порою такое, что я не знаю, где кончаются мои предки и где начинаюсь я сам. Синько потянулся к Жене и зашепелявил ей прямо в ухо: — Сейчас я тебе что-то скажу, только смотри, это самый секретный секрет!.. Я чувствую, что во мне уже сидит маленький чхортик, сидит внутри, как маленькое семечко! И это еще не все — внук тоже сидит, и внук моего внука; они хулиганят, щекочут меня, дразнят дедом и все норовят подставить мне ножку, чтоб я упал да их, чертенят, позабавил… — Ну и врунишка же ты! — не удержалась Женя и, смеясь, хлопнула себя по коленке. — Такого намолол, что концы с концами не сходятся! Но сразу же спохватилась, покачала Синька и миролюбиво проговорила: — Нет, нет! Я верю тебе. Синько завертелся, задрал мордочку и вытаращил зеленые-зеленые, как сигнал «идите», глаза. — Хочешь, еще один секрет расскажу? — зашепелявил таинственно. — Когда столб гаснет, он гаснет не совсем, а где-нибудь в уголочке сберегает одну маленькую искорку. Ее тоже называют бугало. Эту искорку дед передает отцу, отец — сыну, а сын внуку. Обычно мы прячем свое бугало в лесу, под старыми пнями, в потаенном месте. Потому что в этой искре (только смотри же никому!)… Это страшная тайна… — Ну я же сказала — никому! — Потому что в этой искре — наша сила, наша душа и вся наша хитрость. И каждый порядочный Синько как зеницу ока охраняет свое бугало и каждый раз перепрятывает его, чтоб никто не обнаружил. Ты, наверно, слыхала про блуждающие огни. Еще говорят, будто эти огни заманивают людей в болото. Ну, это, конечно, враки! Скажи сама: разве было хоть раз, чтоб в Пуще-Водице кто-нибудь заблудился? Не было! Никого мои братья не заманивают, теперь сами они, бедолаги, только и делают, что от грибников да туристов удирают и все бугало свое перепрятывают… Когда-нибудь я покажу тебе мою искорку, мое дорогое бугальце. — Когда? А где оно? — Ишь, тебе все сразу так и скажи! Покажу, когда надо будет! Было оно у меня в Пуще-Водице. Там наше семейное место. Только теперь в лесу бугало не спрячешь, куда там! От людей спасу нет. Теперь в городе надежнее. Вот я и перенес свой огонек сюда, в Киев, и припрятал его тут неподалеку. Будешь хорошей — обязательно покажу! Синько подставил рожки, чтоб Женя погладила его, но в это время в прихожей скрипнула дверь. Кто-то затопал по коридорчику. Синько подпрыгнул, и в одну секунду его точно ветром смело под кровать.ТУМАН, «ГОНКОНГ» И ТУИ, ЧТО ГОНЯЛИСЬ ДРУГ ЗА ДРУЖКОЙ
— Дорогие дети! — проговорила сквозь марлевую повязку Изольда Марковна Кныш. — Вам, наверно, известно, что в Киеве началась эпидемия гриппа… В этот момент Изольда Марковна была очень похожа на операционную сестру — она стояла перед классом, строгая, подтянутая, в белой марлевой повязке, закрывавшей ее лицо до самых глаз. Пятый «А» слушал учительницу с нарастающим веселым возбуждением. Самые догадливые (среди них, конечно же, Бен) потихоньку собирали портфели и нетерпеливо поглядывали на дверь. А за окнами плыл густой, как дым, осенний туман, неся с собой изморось, дожди и вирусы гриппа. Из этого тумана время от времени вырывался рокот грузовых машин и дребезжание трамвая, который у самой школы поворачивал за угол и направлялся к Подолу. Казалось, сырой туман проникает в помещение даже через двойные рамы. В классе было сыро, темно и неуютно. Но голос Изольды Марковны, наперекор проклятой непогоде и марлевой повязке, звучал, как обычно, чистым, прозрачным сопрано. — Дорогие дети! — продолжала она. — Это сложная и опасная форма гриппа. Вирус, как сообщает нам пресса, очень стойкий; ученые назвали его «Гонконг» — по месту первой вспышки заболевания. Волна эпидемии охватила почти всю Азию, перекинулась на Ближний Восток, и вот грипп уже добирается до нас. В Киеве — вы, наверное, слышали об этом порадио — приняты решительные меры. Закрыты кинотеатры («У-у-у!» — возглас разочарования в классе), не работает ряд учреждений («О-о-о!» — шумок восторга). Но тем не менее уже есть больные — и больные с тяжелыми осложнениями. Поэтому поступило распоряжение — всем выходить на улицу в марлевых повязках. Это раз. И во-вторых — решено временно прекратить занятия в шко… Она еще не успела договорить до конца это долгожданное слово, как ноги грохнули об пол, загремели крышки на мальчишечьих партах. Бен — самый первый — сорвался с места и в один прыжок достиг двери. — Вива ля грипп! — прокричал он, перекрывая шум и топот, и торжествующе поднял кулаки. — Братва, по домам! За ним ринулись остальные, столпились возле дверей. — Стойте! Куда это вы? А ну-ка все назад! — кричала им вслед Изольда Марковна. — Да что это вы, с цепи сорвались? Позор! А еще пионеры!.. Да, мы вас отпускаем! Но прежде, пожалуйста, сядьте и запишите домашние задания на всю неделю. Слышите? По всем предметам! Пятиклассники, только что столь бурно проявлявшие свой восторг, сразу сникли, недовольно загудели и уныло разбрелись по местам. Изольда Марковна начала диктовать им задания по математике, ботанике, географии, по украинскому и русскому языку. Диктовала певучим, медоточивым голосом, как будто сообщала что-то необыкновенно приятное. На склоненные головы ребят посыпались страницы, параграфы, номера задач и упражнений. — Вот это эпидемия! — пробурчал Бен, лепя цифру за цифрой в свой дневник. — Грипп еще можно перенести, а от этих параграфов уж точно ноги протянешь. — Ну, конечно! — Изольда Марковна сверкнула глазами из-под загнутых ресниц. — Кто-кто, а уж ты-то, Кущолоб, от перенапряжения явно не умрешь… Так что не ворчи, а записывай. Через десять минут ученики вываливались из дверей школы, как булочки из автомата. Вываливались друг за дружкой, ныряли в густой влажный туман и, окутанные серой изморосью, сразу же исчезали, словно растворяясь во мгле. Женя пошла напрямик мимо Лукьяновского рынка; размокшая земля разъезжалась под ногами, и девочке приходилось сгибаться, чтоб не поскользнуться, не зацепиться за проволоку, не споткнуться о трамвайные рельсы. И откуда только взялся этот туман? Он стлался над самой землей, переползал через заборы, тугими струями цедился в щели между досками, подлезал под ограды. Было слышно, как натужно ревут моторы на трассе (им тоже не хватало кислорода), как кто-то кашляет в полумраке, где смешались дым с грязным дождем. И Жене казалось, что она видит, как плывут в тумане вирусы гриппа: они извиваются и переворачиваются в воздухе, как маленькие гадюки. А самые противные «гонконги» вьются прямо у нее над головой, пикируют вниз, чтоб попасть ей в рот или в нос… Женя заслонила лицо рукой и что было сил припустила к дому. Мокрая, запыхавшаяся, ступила в прихожую и сразу услышала: кто-то стучит на машинке. Сердце радостно сжалось: «Мама! Раньше прибежала с работы! А вдруг… у нее грипп… вдруг заболела?..» На цыпочках вошла в комнату. Сидит… ее любимая мамочка. Потихоньку подкралась сзади и обняла маму за шею, прижалась к ней. Соскучилась по матери, так редко они виделись: только рано утром да поздно вечером. Галина Степановна повернула к Жене счастливое, улыбающееся лицо, взяла дочкины руки в свои: — Ой, какие холодные!.. Сыро на улице? — Сыро. И противно до ужаса. Женя сказала, что их отпустили на неделю домой и что теперь-то уж она начитается вдоволь: отец принес из библиотеки сразу две книжки про войну — «Брестская крепость» и «Битва за Киев». Женя разделась и села на диван. Однако книгу не раскрыла, а с тихой, затаенной любовью смотрела на мать. Галина Степановна сидела перед окном за круглым низеньким столиком. Девочке были видны ее темные пышные волосы, спадавшие на плечи. А еще было видно, как бегают по машинке ее руки — быстрые, аккуратные, привычные ко всякой работе. Склонив голову набок, мама заглянула в темное нутро своего «Ундервуда», заправила новую ленту, заложила лист чистой бумаги с копиркой, пощелкала для пробы — все в порядке. И, чуть откинувшись назад, начала строчить на машинке с такой скоростью, что дочка не успевала следить за ее пальцами, которые бегали по клавишам, отгоняли назад каретку и опять выбивали непрерывную трескучую очередь. Галина Степановна работала, а Женя села за книгу. Раскрыла «Битву за Киев», и сердце ее тревожно забилось: переправа… Черная осенняя мгла, взрывы бомб и зарево над речкой, и едва-едва вырисовывается на той стороне высокий крутой берег («Там враг!»), а волны тяжелые и холодные, и прожекторы слепят глаза; Днепр кишит маленькими плотами и понтонами, на которых переправляются наши солдаты. По горло в воде, под пулями, по бурному, стремительному течению… И Женя вдруг вспомнила: танк! В лесу! Там, где они фотографировались! Прошлой весной, в мае, всем классом ездили они в Ново-Петривцы на экскурсию. Свернули с дороги в лес — и там на поляне, среди сосен, увидели танк. Настоящий боевой танк, только старый, покрытый ржавчиной. Он стоял на холмике на простеньком кирпичном постаменте, и между его гусеницами росла трава. Танк! Что тут началось: шум, крики, возня… Все лезли на башню, смеялись, фотографировались. И не знала, не представляла тогда Женя, каких нечеловеческих усилий стоило нашим солдатам втащить эти танки на кручу. Их подтягивали на баржах и паромах, а фашисты осатанело шпарили из пулеметов, и наши бойцы, мокрые и промерзшие, буквально на руках волокли этих 35-тонных великанов на кручу, на берег Днепра; а сколько бойцов, скошенных пулями, унесли, погребли в своих темных глубинах бурные волны… А ребята беспечно веселились, смеялись, кричали: «И нас! И нас сфотографируйте!» Бен довольно потирал руки, приговаривая: «Законно! Я еще покатаюсь на такой машинке!» Нет, пожалуй, не стоило так смеяться там, возле танка на стареньком постаменте, заросшем травой. Надо было просто постоять и помолчать. Женя оторвалась от книги, задумчиво посмотрела в окно. А улицу все больше и больше заволакивал туман, в комнате совсем стемнело, и хотя была середина дня, мать попросила включить свет. Потом посоветовала дочке: — Не утомляй глаза. Лучше оденься потеплее да пойди погуляй. Совсем на улице не бываешь. Девочка обула резиновые сапожки, накинула пальто, нахлобучила мальчишескую шапку-ушанку и вышла во двор. И сразу почувствовала, что погода переменилась: ветер стих, и туман уже не плыл, а стоял неподвижно, густой и белый, как молоко. Не видно было даже соседнего дома, а кочегарка и пышные, ветвистые деревья в саду и перед окнами казались какими-то страшными косматыми чудищами. И среди этих чудищ-привидений, возле кочегарки — какой-то маленький столбик. Женя подошла к нему поближе и ахнула: Зайчик! Худенький ушастый мальчуган, закутанный в большой платок. Он совсем продрог, посинел, но упорно стоял на месте и с тоской смотрел на Женино окно. — Зайчик, ты меня ждешь? — Жду, — покорно и жалобно проговорил Мотя. А личико уже сияло радостью. Женя поправила на нем платок, сказала: — Пошли гулять на стадион? — Пошли! — согласился Мотя и дал ей руку. Видно, малыш соскучился по Жене — он крепко уцепился за нее и залепетал-залепетал, выкладывая разом все свои новости: о том, что вчера кот приволок на кухню мышь, а днем вдруг как стрельнет, и сразу все лампочки перегорели, и теперь у них дома темно… Он был такой разговорчивый и такой по-стариковски рассудительный, что Женя шла с ним рядом и потихоньку улыбалась про себя. Так, мирно беседуя, дошли они до Стадионной улицы, обсаженной высоченными тополями, которые летом застилают землю белым, как снег, пухом, а Зайчик в это время как раз сообщил Жене, что папа обещал купить ему настоящую клюшку и коньки и что зимой он будет ходить на стадион учиться играть в хоккей. — А свисток у меня есть! — похвастался Мотя и, порывшись в карманах пальто, вытащил черный роговой свисток на шнурке и для убедительности надул щеки и свистнул. — Ты у меня молодец, зайчик! — похвалила Женя. — Ну, нагибайся! Через дырку в заборе они пробрались на стадион. Это было небольшое поле, обсаженное кустами сирени и акации, обнесенное деревянной оградой. Зимой здесь заливали каток, и тогда морозными вечерами над стадионом неслось мальчишечье «ах!!», «бей!», «шайбу!», гремели клюшки, глухо стучали шайбы о бортик. А сейчас на месте хоккейной площадки стояли лужи и туман развесил холодные черные капли на железных вратарских сетках. Блестели лужи и на футбольном поле, но под ними зеленела подстриженная травка, и неведомо откуда взявшаяся коза равнодушно ее пощипывала. Женя с Мотей пересекли стадион и выбрались на пустырь. Прошлой весной здесь разбили парк. Молодежь с механического завода поработала здесь на славу: засыпали канавы, корчевали пни, а главное — посадили две плантации туи. Женя очень любила эти красивые темно-зеленые деревца, пахнувшие смолой: они были похожи на молодые кипарисы и напоминали девочке Крым, Алушту и ласковое, разомлевшее от жары море, в котором резвятся дельфины. Туи росли на пригорке за стадионом, и по вечерам, когда заходило солнце, над их острыми вершинами, точно так же, как в Алуште над кипарисами, сияли золотистые солнечные короны. Сейчас, окутанные мокрым туманом, туи стояли на возвышении, похожие на согнутых стариков в тулупах. От тумана, от сырости и ветров, разгулявшихся на открытом месте, Женя промерзла, а Зайчик и вовсе закоченел. Он уже не тарахтел, как раньше, без передышки, а только тихонько сопел носом. — Давай поворачивать к дому, — сказала Женя. — Давай! — быстро согласился Мотя. И они повернули назад, как вдруг услышали мальчишеские голоса и среди них — воинственные клики Бена, а затем резкий пронзительный свист Вадьки Кадухи. Голоса и свист неслись со стороны рва, над которым росла первая аллейка туй. Женя с Мотей разом обернулись на шум и… Что за чудеса?! Туи не стояли на месте. Они то ли плыли, то ли бежали в тумане. Вот одно деревце стремительно понеслось по кругу, остановилось, спряталось за другими, и чей-то голосок, точно дразня, позвал: «Ау! Я тут!» Женя ничего не понимала. Создавалось такое впечатление, что кто-то из мальчишек гонялся за туями, а те дразнились, отскакивали, то разбегались, то сбегались. — Что они делают? — спросил Зайчик, удивленно выглядывая из-под материного платка. — Кто они? — Да мальчишки! Из нашего двора. И тут Женю пронзила страшная догадка: «Неужели мальчишки… неужели можно такое сделать — вырвать с корнями? Эти прекрасные, стройные деревья, на которых по вечерам сверкают золотые короны?» — Идем туда! — решительно сказала Женя. — Бегом! Схватила Мотю за руку и потянула вверх по крутому склону, а ноги скользили, ехали вниз вместе с глиной и мокрыми листьями. Наконец вскарабкалась на пригорок, хватанула побольше воздуху и, точно как отец в момент сильнейшего возмущения, хлопнула себя по коленке: — Ты только погляди! Шпана, хулиганы! Что они делают! А надо рвом гонялись взад-вперед туи. За одним деревцем с ободранной корой мелькнула спина Бена. Он поправил черный пилотский шлем и побежал дальше, прикрываясь туей, выкрикивая в азарте: «А ну, поймай меня, поймай! Вот он я!» Еще какие-то головы и спины выглядывали из густой зелени; промелькнул красный шарф Кадухи. Вадька прыгнул вбок — и все туи мигом сорвались с места, точно их подхватили невидимки и понесли куда-то в туман. — Что вы натворили, хулиганы! — задыхаясь от бега и возмущения, закричала Женя. — Да я сейчас!.. Я милицию позову! Туи, только что метавшиеся из стороны в сторону, вдруг замерли. И низенький парнишка, что гонялся за ними, так и застыл на месте, раскинув руки. У него на глазах была не повязка, как думала Женя, а черные светозащитные очки, плотно прилегавшие к лицу; сейчас, в тумане, сквозь эти стеклышки он, наверно, едва различал во тьме какие-то черные тени, похожие на призраков. И тут Жене все стало ясно: армия Бена играла в шпионов, а молоденькие деревца понадобились им для маскировки… — Что вы наделали! — закричала Женя, и голос ее зазвенел от слез гнева и возмущения. Чего-чего, а такого Женя от Бена не ожидала! Туи неподвижно стояли над рвом, словно бы испуганно поглядывая на этих двоих, прервавших игру; между деревьями пробежал приглушенный шумок. Еще мгновение — и туи наверняка двинулись бы на Женю и Мотю колючим строем. Но тут неожиданно прозвучал свисток, прозвучал так решительно и требовательно, как мог звучать только у младшего сержанта милиции Евгена Рябошапки. А это, оказывается, Зайчик вспомнил про отцовский подарок — судейский свисток и с перепугу изо всей силы дунул в него. — Братва, мильтоны! — закричал Кадуха, и перепуганная армия, прятавшаяся за туями, дружно сыпанула в кусты, в глубокий ров, только затрещало и зашуршало под ногами. — Ах вы бандиты! — кричала им вслед Женя. — Вот я родителям расскажу! Но тут ее внимание привлекло другое: деревца, только что стоявшие надо рвом, вдруг разом попадали. Женя и Зайчик бросились к ним. И оторопели: плантация туи была полностью уничтожена. — Смотри! А вот… И эти! Ну как же так можно? — ходила и охала Женя. У нее будто что-то перевернулось внутри — все деревья были выломаны: видно, у Кадухиных дружков не было ножей, и они выкручивали деревца руками. Некоторые туи были покрепче и сломать их не удалось, они были только покалечены и ободраны. А самые молодые деревца, которые легко было вырвать и которыми прикрывались в игре, лежали теперь как мертвые. Мотино посиневшее от холода личико сморщилось, губы задрожали — вот-вот заплачет. — Самые настоящие варвары! Ну как же так? Как же так можно? — с болью в голосе приговаривала Женя, нагибаясь над каждым деревцом. — Это все Кадуха! Его работа! Ой, а где же моя туйка? — девочка оглянулась, посмотрела по сторонам. Вспомнила, как весной они с отцом тоже пришли на субботник и посадили тую — наверно, самую-самую маленькую, такую стройную и аккуратненькую. Посадили у самого края плантации. С волнением посмотрела на то место: нет деревца! Из земли торчал расщепленный ствол с белыми выкрученными жилами. — Бен! — глухо проговорила Женя, и что-то внезапно сдавило ей горло. — Как ты мог? Нет, я этого так не оставлю! — Я же говорил! Я же говорил! — жалобно всхлипывал Мотя. — Я говорил, что у Бена аппендицит в голове! А тем временем мальчишки очухались. Вадька Кадуха, как наиболее опытный в деле «беги — догоняй», заметил, что никакой милиции нету, что на пригорке стоят два несчастных «шкета» из их двора и что, выходит, целая армия куста испугалась. И вот затрещали, закачались ветки, зачавкала под ногами мокрая глина, герои начали окружать Женю и Зайчика. Мотя вцепился в руку девочки и испуганно затаился. Осмелевшие мальчишки закричали все вместе: — Эй, Жабулина! Ты чего сюда притащилась? Подглядывать? Доносишь? — Шпионка! Да еще и микроб с нею! — Братва, обходи с флангов! Не выпускать! — Огонь! Шрапнелью! Женя с Мотей пригнулись, в них полетели палки, сучки, комья глины. И вот уже перед Женей выросла грозная фигура Вадьки Кадухи. Девочка стояла пригнувшись и одной рукой заслоняла Зайчика. — Ну? — грозно глянул на нее Кадуха и хлопнул Женю по шапке, пока еще без злости. — Становись на колени, слышишь! И клянись, что не скажешь!. Ты ничего не видела! Становись! Кадуха ударил посильнее. Женя покачнулась, ненароком задела Зайчика, и тот начал испуганно всхлипывать. В это время кто-то ударил ногой Женю, притом очень больно, слезы уже застилали ей глаза, она хотела было развернуться, двинуть того, что ударил, как вдруг… — Вадька! — неожиданно зашипел Бен и заслонил Женю плечом. — Не трогай ее! Я сам врежу, когда надо будет… — Вишь! — Кадуха даже оторопел от такого выпада. — Ты что же, за нее? Хочешь, чтоб и тебе врезал по сопатке? — А ну врежь! — И врежу! Чтоб не выпендривался перед всякими! — И что тут происходит? — раздался вдруг откуда-то громкий мужской голос. — А ну-ка отойдите! Герои! Накинулись на девчонку! И ребенка пугаете! Марш отсюда! А ну испаритесь! Сквозь жгучие слезы, сквозь туман Женя увидела: на пригорке стоит мужчина в сапогах, в длиннополом плаще, с веревкой в руках, а на веревке коза, та самая, что флегматично прогуливалась по футбольному полю, пощипывая травку. Кадуха и его дружки пригнули головы и хмуро, исподлобья поглядывали то на мужчину, то друг на друга. А у Жени горячая обида подступила к самому горлу, она вдруг горько заплакала и, глотая слезы, с трудом проговорила: — Дяденька, вы посмотрите, как они туи поломали. И мою, ту, что мы с папой сажали… — Фью! — присвистнул мужчина. — Так это они тут все перерыли?! — Они, дяденька! Они! Вот только что, сейчас! — Стой! — цыкнул он на козу. — Стой! Сейчас я с ними по-шефски поговорю! Мужчина стал спускаться с пригорка, его мокрый плащ загремел, точно был он сшит из железа, сапоги громко зачавкали по грязи. — Драпа-а-ай! хрипло закричал Вадька, и его верные солдаты снова друг за дружкой попрыгали в ров и кинулись в чащу, ломая деревья и теряя последние пуговицы на пиджаках и куртках. Мотя всхлипывал, размазывал кулачком слезы и все спрашивал Женю, сильно ли ее ударили, больно ли ей. Женя не стала отвечать на Мотины вопросы, а только потянула мальчика за руку: — Бежим-ка поскорей отсюда! Домой! А то еще обойдут нас и перехватят на стадионе, у ворот. Они побежали, взявшись за руки, а мужчина стоял надо рвом и кричал: — Я вас все равно найду! Хулиганы! Живые деревья так искорежили!ЯБЕДА ИЛИ ТРУСЫ
Уже четверть часа продолжалось собрание в 5-м «А». Однако так ничего и не удалось выяснить. Класс отмалчивался. Директор поднимал всех подряд — от первой до последней парты. — Панченко! — негромко назвал он еще одну фамилию и, чуть склонив голову набок, внимательно посмотрел туда, где сидел дружок Бена. Панченко подскочил, тряхнул головой, откидывая назад сбившуюся на лоб прядь светлых волос. — Ты был там? — спросил директор. — Нет! — бодро ответил тот. — Я там не был. — Садись. И дальше — спокойно, с неизменной выдержкой: — Светлана Кущ! Поднялась пухленькая девочка, светловолосая, в аккуратно отутюженном фартучке, и, покраснев до самых ушей, скороговоркой заговорила: — Петро Максимович. Я и дома-то не была во время эпидемии. Мама отвезла меня к бабушке в деревню, в Иваново. У меня в кармане пальто и билеты автобусные; если хотите, покажу… — Нет, нет, не надо билетов. Садись, Светлана… А ты, Зинчук? — Я лежал с гриппом, — послышался ленивый басок. — Три дня провалялся. Можете у матери спросить. — Ладно. А ты, Виола? — Ну что вы, Петро Максимович? — Виола Зайченко стала в позу и обиженно повела глазами. — Разве я могла в такую погоду… да и вообще… вы же знаете моих родителей… — Знаю, знаю. — Директор прошелся по классу. — Итак, никто там не был? — Он горько улыбнулся: — Выходит, младший сержант милиции Рябошапка в своем рапорте возвел напраслину на ваш класс? А ведь вот что он пишет: «На месте преступления был найден черный лакированный козырек от фуражки (по-видимому, оторванный во время применения грубой физической силы.) На козырьке острым предметом нацарапано: „5 А класс. Берегись. Фантомас“». Светловолосый Костя Панченко, сидевший за Женей, беспокойно заерзал на парте. — Как ты думаешь, Андрей, — директор остановился около Бена и пристально посмотрел на этого вихрастого розовощекого паренька. — Как ты думаешь, чья это могла быть фуражка? И кто из 5-го «А» мог присвоить себе имя Фантомаса, этого тупого киногангстера? Бен покраснел, но только на мгновение, сразу оправился от смущения, посмотрел на директора безмятежными сине-голубыми глазами (сама невинность!) и выпалил: — Не могу знать! — А как ты полагаешь, кто был в тот день на стадионе? — Тоже не могу знать! Я не сторож там. — Садись, Кущолоб, — утомленно проговорил директор. — Круговая порука. Вернее, круговая трусость. Один совершил зло и боится признаться. Другой знает, кто это зло совершил, но боится сказать, чтоб не нажить себе врага. Так ведь, дорогие пятиклассники? Все угрюмо молчали. Женя низко склонилась над партой, ее всю трясло от стыда, щеки горели. «Бен! — билась в висках кровь. — До чего же ты докатился! Прямо в глаза врешь! Знаешь, что я видела, видела все, и врешь, еще и героя из себя корчишь!.. Нет, хватит! Вставай!» — приказала себе. — Петр Максимович! — поднялась Женя, и ее лицо, только что пылавшее, вдруг совсем побелело, а голос зазвенел так, что казалось, вот-вот оборвется. — Петро Максимович, я знаю, кто поломал туи. Я сама видела. Женя умолкла и повернулась лицом к классу. Она понимала: еще одно слово — и ей навсегда отрезан путь во двор. Бен уже никогда не заслонит ее плечом («Вадька, не тронь ее!»), нет, теперь он навеки станет ее врагом. Тридцать пять учеников — одни враждебно, другие встревоженно — все, как один, уставились на нее. Правильно, не молчи — говори правду! Громко, во весь голос! Щеки снова запылали. — Петро Максимович! Я думала, он сам признается. Я не хотела, а он!.. а он!.. — девочка даже захлебнулась от волнения. — Успокойся, успокойся. Так кто же там был? — спросил директор, хотя «по почерку» он давно догадался, чья это работа. — Бен! — крикнула Женя и посмотрела Бену прямо в глаза, а он сидел и улыбался, будто не расслышал или не понял, о ком идет речь. (Раньше он все бросал на нее виноватые и просящие взгляды: «Ты свой парень, я знаю! Не продашь, не выдашь».) Однако неестественная эта улыбка быстро гасла, вот по его лицу пробежала тень тревоги, и Бен нервно заерзал на парте: «Предательница!» — Бен это сделал! — повторила Женя. — И его команда! Пусть сам расскажет. — Так-так-так… — проговорил директор, и его слова в напряженной тишине класса прозвучали точно удары маятника. А за спиной у Жени прошелестело тихое и ползучее: — Ябеда. И еще раз: — Ябеда ты… Кто-то ткнул шептавшего в бок, на задней парте завозились мальчишки. Послышалось: «А ты встань и скажи вслух, что толку шептать?» И тогда — не очень-то охотно — поднял руку Костя Панченко. Директор кивнул ему головой — дескать, говори. Панченко насупился и забормотал: — Понимаете, вот… Она шпионка. Она сначала играет с нами, а потом идет домой или в школу и это… — А что, — перебил директор, — разве Женя была вместе с вами на стадионе? — Нет, не была! То есть нет — была!.. Не была, а потом это… пришла, а мы все на нее, чтоб не это… — замолол Костя, окончательно запутываясь. Бен понял, что этот болтун может выдать их всех, ведь, в общем-то, он уже подтвердил слова Цыбулько, и кинулся спасать положение: — Петро Максимович, сейчас я все расскажу! — Он смотрел на директора ясными, честными глазами и говорил без малейшего смущения. — Вот как было, честное слово. Пришли мы на стадион, смотрим: а деревья лежат срубленные. Ну, не срубленные, а вернее, того… выломанные. Это, видно, кто-то до нас, честное слово, их порубил, вернее, поломал. Мы их и не трогали, честное слово, мы только это… взяли те, которые на земле валялись, и я сказал ребятам: давайте, говорю, поиграем, в это… Бен начал бодро, но скоро так же, как Костя Панченко, сбился на «это» и «того». Верно, ощутил холодную, недобрую тишину в классе. Петро Максимович сидел, заслонив лицо ладонью. То ли прислушивался к неровному биению своего усталого сердца, то ли было ему стыдно и горько за Бена: где, у кого научился этот мальчик кривить душой? — Кущолоб! — немножко резче, чем обычно, проговорил директор. — У меня уже был с тобой разговор относительно курения. Тогда я просил тебя — давай без фальши, без вранья. И снова повторяю: неужели ты думаешь, что я, что Цыбулько, что все мы в классе настолько наивны, что не можем понять, как ты врешь. Да у тебя же на физиономии написано: неправда… Вот что, приятель! — Директор заметно сердился и волновался. — Не страшны ребячьи шалости, ваши мальчишечьи проделки. Не страшны! И даже сам по себе безобразный поступок, который вы совершили, не так страшен. Страшно, голубчик, знаешь что — вранье! Страшна ложь! Та маленькая невинная ложь, которая ведет к большой и, точно ржавчина, все глубже и глубже разъедает душу. Туи можно снова насадить, выбитое окно — вставить. А как быть с совестью? Ее не вставишь! Фальшь насквозь разъедает душу человека и часто — бесповоротно. И тогда уже ничто не спасет пропащего. Подумай над этим. Подумайте и вы, мальчики. Пока не поздно…Директор спустился на первый этаж, в учительскую. Оказалось, что не пришел учитель труда, у него собрание на заводе. Значит, в 5-м «А» через урок будет «окно» — свободный час. Петро Максимович постоял перед расписанием, сосредоточенно всматриваясь в него (из головы никак не выходила эта история с туями), и сказал себе: «Пойду. Еще немного потрясу их. Не отделаются они от меня так легко!» 5-й «А» удивленно притих, когда через урок к ним снова вошел Петро Максимович. Он заметно поостыл, смягчился, и вид сейчас был у него уже не такой грозный, как час назад. — Хоть вы и устали и хоть сегодня я уже изрядно надоел вам, — сказал директор, и возле его глаз собрались добродушные морщинки, — но я все-таки нагрянул к вам снова. Не могу успокоиться. Мне необходимо выяснить кое-что — для себя и для вас. — Петро Максимович взглянул на Бена и сказал строго: — Андрей, подойди сюда! Да поскорее, не мнись! Но Бен долго и шумно вставал, долго засовывал руки в карманы и наконец, ссутулившись, небрежно раскачиваясь, двинулся к доске. Стал перед классом и опустил голову. Только исподлобья глянул на Женю с немой угрозой: ну, берегись! — Вот что хотел бы я, старый человек, понять. Ни разу в жизни не доводилось мне ломать деревья. Не то чтобы я ангел, а просто само так получалось, что ни одно дерево не становилось мне поперек дороги. И хотел бы я понять: как ты ломал туи? Как? Вырывал с корнями? Или брал за ствол и гнул? Покажи! Я видел, как ты выдирал ручку из дверей. Это у тебя ловко получалось. Ты упирался ногами в стену и дергал. А тут? Нужно, наверно, как следует разозлить себя, распалить, чтоб ни с того ни с сего ухватить красивое зеленое деревце и выкрутить его. Покажи нам, как ты управлялся. Бен сморщился, будто хватанул ложку лимонного сока. — Говори! Имей же ты хоть каплю мужества отвечать за свои поступки. — Ну… — буркнул Бен. — Просто. Брали дерево и так… выкручивали. — За ствол? — За ствол. — И Панченко был? — Был. — Это его козырек? — Его. — А еще кто с вами? — Родька Зинчук. — Ага. Тот самый Зинчук, который тут при всех заявлял: три дня лежал с гриппом, можете у матери спросить? Тот Зинчук? Бен только тяжело вздохнул и ниже опустил голову. — Хорошая компания! — покачал головой Петро Максимович. — И какая солидарность! Все трое, юлили, думали — проведут своих товарищей и меня, своего учителя. Кого вы хотите обмануть, мальчики?.. Я только вошел в класс, только глянул на ваши лица — сразу увидел, у кого рыльце в пушку. Садись, Андрей. Сейчас я с гораздо большим удовольствием поговорю с Колей Максюшко, — директор ласково улыбнулся: — Встань, Коля. Можешь отвечать с места. Смущенный Максюшко встал, не понимая, зачем его вызывают. Он всегда краснел и терялся перед классом, потому что учился в 301-й школе недавно, с весны этого года, да и вообще был очень стеснительный: кто бы и о чем ни спросил его, он всегда долго мялся и отвечал каким-то нечленораздельным бормотанием. Видимо, мальчик страдал от своей внешности, а был он самый длинный в классе, рыжий, и нос картошкой, за что все девчонки над ним издевались. Поэтому он всячески старался не быть на виду. Когда же его вызывали, вот как сейчас, он как-то боком становился у доски и точно каменел — слова из него нужно было вытаскивать клещами. — Расскажи-ка нам, Максюшко, — обратился к нему директор, — как вы с отцом разводили сад в Березняках. Мальчик помялся, переступил с ноги на ногу, пожал плечами: дескать, что же тут рассказывать? — Вы знаете, Максюшко у нас не из разговорчивых. Я буду говорить за него. — Директор откашлялся и разгладил ладонью добрую улыбку. — Так вот. Отец у Максюшко известный врач-нейрохирург; этой весной его перевели на работу в областную больницу на Лукьяновке и дали тут квартиру. А раньше они жили в Березняках, это — вы знаете — за мостом Патона, на том берегу Днепра. И жили они над самой водою. А там толщина прибрежного песка — пять метров. Правильно я говорю, Максюшко? Мальчик хмыкнул, кивнул головой: дескать, правильно. — Песок там чистый, будто просеянный. И ничего на таком песке не растет — даже лозняк. И вот представьте себе: вырос на берегу многоквартирный дом, облицованный белой плиткой. Красивый дом, прекрасные квартиры, одна беда — голо вокруг, сплошные песчаные дюны. Зелени — ни кустика. А посмотрели бы вы сейчас, какой там рай: на песке — фруктовый сад, аллея сирени, розарий, море цветов. Правильно я говорю, Максюшко? — Правильно, — кивнул тот. — Вот я и хотел, чтоб ты рассказал, как вы сажали деревья. Мальчик нахмурил рыжие брови и покраснел. — Ну хорошо, — проговорил директор. — Я расскажу. Вечером отец приходил с работы, звал соседа (тоже врача), брал с собой Колю и они втроем выходили во двор и копали ямы. А ямы там, в сыпучих песках, нужно копать не простые, а целые котлованы, метра по три глубиною, чтобы потом наполнить их землей. Верно я говорю? И носили они торф, ил, чернозем с луга, из лощины. Корзинами, ведрами, мешками носили, кто как мог. Ты, Николай, сколько ведер ила наносил? — Куда? В каждую яму? — Да-да, в каждую. — Ну, — Микола устремил взгляд в потолок, зашевелил губами. — Да ведер, может, двести, а может, двести пятьдесят. — Ого! — воскликнул кто-то из девочек. — Не преуменьшай, не преуменьшай, Микола! Отец говорил, по триста с гаком. И мозоли были у тебя на руках, голубчик, как у кузнеца. Это потом уже ты стал поменьше таскать, когда появились у вас помощники — скоро весь дом втянулся в озеленение, выходили на улицу и стар и мал. А сначала только вы втроем и копались. Отец говорил: самая лучшая агитация: выходи и делай. Начинали-то вы одни. Так ведь? И первые яблони посадили, и первые кусты сирени. И поливали, и выхаживали сначала сами. По скольку ведер воды ты приносил? — Под каждое дерево? — Да-да, под каждое. — Носили. Ведер по десять. Только деревьев-то много, да и поливать надо часто — два, а то и три раза в неделю. — Вы ведь из Днепра воду носили, правда? Чтоб не расходовать питьевую… Сейчас я вам объясню почему, — обратился директор к классу. — Это новый район. В первый год там и людям-то воды не хватало. Вот и приходилось Миколе с ребятами из их дома таскать воду для полива из речки. Так было, Микола? — Угу, — подтвердил тот. — И как же ваш сад, разросся на песке? — Растет! Все вокруг зелено, — оживился Максюшко. — Ты ездишь туда в гости к ребятам? — Езжу. — А тот ряд яблонь — белый налив — уже начал плодоносить? — Этим летом хорошо уродило. Вот такие яблоки были! — Лицо у Максюшко засияло, словно он держал в руках и показывал всему классу крупное, налитое соком, ароматное яблоко. — Ну, а тут, на Лукьяновке, вы тоже будете что-нибудь сажать перед новым домом? — Да уж посадили. На улице. Рябину, грецкий орех и опять — сирень. Отец любит сирень. — Одни сажали или всем домом? — Так же, как в Березняках. Сначала одни, а потом все вместе. Люди ждут, чтобы кто-нибудь начал. А отец у нас такой, что на месте не усидит — первый выходит… — А скажи, Коля… Скажи, ты когда-нибудь ломал дерево? Максюшко удивленно хмыкнул: что это, мол, ему какие-то глупые вопросы задают? Кто сажает — тот разве ломает?! — И последнее, товарищи. Я ответил в районное отделение милиции, что мы, то есть 5-й «А» класс, на месте уничтоженных деревьев посадим весной новую плантацию туй и объявим ее пионерским парком. Правильно я ответил, товарищи? Несколько голосов нетвердо прогудели: — Правильно. — Не слышу энтузиазма. Еще раз: посадим вместе — правильно? Теперь весь класс хором прокричал: — Правильно! — Бригадиром по садоводству назначаю Колю Максюшко. Он настоящий специалист. Его заместителем — Кущолоба. Слышишь, Андрей? — директор кивнул Бену. — Ты когда-нибудь сажал деревья? — Н-н-н… — беззвучно протянул тот. — Ну вот и попробуешь. И еще. Передай родителям, что посадочный материал будет покупаться за ваш счет. Это немного-немало — тридцать рублей. Все! Можете быть свободны. Грохнули ноги о паркет, учеников точно катапультой подбросило с парт. И сразу — шум, гам, беготня. А за спиной Бена ехидный голосок (Виолин): — М-да-а, Бенчик. Гульнул ты, золотко! Шикарно! На тридцать рубчиков! Приедет папуля — ох и заплачут на тебе твои джинсы!
РАЗГОВОР ЗА ЧАЕМ. ГДЕ ЛЕГЧЕ — В ГОРОДЕ ИЛИ В ДЕРЕВНЕ?
Больше всего любила Женя те вечера, когда дома собиралась их дружная троица — отец, мать и она, уже взрослая дочка, ростом ничуть не меньше матери. Садились на кухне, чтоб не бегать за посудой, ставили перед собой чайник и не спеша, с разговорами чаевничали. Сквозь панельные перегородки с пятого этажа долетали бурные пассажи фортепьянной музыки, внизу бранился со своей женой глухой Жупленко, и чтоб соседи не слышали их ссоры, запускал на всю мощность магнитофон; за окном погромыхивали вечерние машины, а у них, у Цыбульков, было тихо и уютно. Все трое тянулись друг к другу — за день соскучились, — мирно попивали чай с лимоном, и Галина Степановна начинала беседу: — Сидела я сегодня за машинкой и думала: хоть бы на недельку вырваться к матери в Манькивку. Там бы я душой отдохнула. Здоровья бы на месяц набралась. Отец задумчиво вздыхал: — М-да, Манькивка… Какой там воздух! Чистый озон! Походишь, подышишь — а грудь так и наполняется, ширится. — А летом! Выскочишь в огород — все тебе свеженькое, с грядки: и капуста, и помидорчики, и огурчики. А молоко тепленькое, из-под коровы. Мама раненько подоит и несет нам в постель по кружке: пей, Галочка, пей, Женя… Ты видал Любку, соседского Ивана дочку? Так ведь она Женина ровесница, ей-богу! Наша-то тоненькая, светится вся, а Любку на молоке да сметане как разнесло — шестьдесят килограммов! Мама пила чай маленькими глоточками, студила, смешно складывая губы — граммофонной трубочкой. От чая ее разморило, она порозовела, растаяла, разгладились легкие морщинки возле глаз, и лицо стало спокойно-мудрое, красивое простой женскою красотою. — Н-да, — вторил матери отец. — Люди в Манькивке здоровые, крепкие, да и зарабатывают не хуже нашего. Возьми хоть моих хлопцев, тех, что в колхозе остались: у каждого добротная хата, гараж, если не машина, то уж мотоцикл обязательно, а на них на самих погляди: здоровы́ — трактором не объедешь! Долго еще восхваляют они свою Манькивку, где родились, где вместе бегали в школу и заканчивали десятилетку и где на выпускном вечере, у колхозного клуба, признались наконец в любви и где решили тайно бежать в Киев, в этот несказанно огромный, шумный и суетливый город, полный огней и праздничного движения, и там пробивать себе дорогу: она — на курсы машинисток, а он — в техникум прикладного искусства… — Ну что, старушка? — уже другим, вкрадчивым тоном говорит Василь Кондратович (когда отец в добром расположении духа, он называет жену старушкой, и она не сердится на это: ведь на самом-то деле она еще совсем молодая). — Может, поразмыслим как следует, все взвесим да и это… подадимся туда, в деревню? Женя не понимает, о каком серьезном «подадимся» сейчас идет речь. Она подскакивает, от радости ярко вспыхивают ее уши-бабочки, губы так и пляшут: — Поехали! Поехали! К бабе Паше! В гости! Она готова сорваться и лететь хоть сейчас, а перед глазами уже Манькивка, вся в садах и подсолнухах, и баба Паша у ворот, согнувшаяся, как маленький снопик, пристально вглядывающаяся в дорогу в ожидании их — гостей из столицы. А еще видит Женя пруд, где полным-полно головастиков, речку, заросшую осокой, колхозную бахчу и босоногую команду, гоняющую мячик на выгоне. Там — полная свобода! Вот она подпрыгивает на подводе, мчится на мотоцикле (дядя Петро всегда сажает ее на заднее сиденье), едет в степь на летнюю ферму, где такие смешные и симпатичные телята. А как они с ребятами нашли на берегу крота. А как пиявка присосалась к ноге! А как они с Любкой, с этой толстухой, залезли на скалу, и там из расщелины вился дымок, они перепугались («Разбойники!»), а оказалось, что это мальчишки спрятались в пещере и развели там костер. А как на огороде растут арбузы, как появляется завязь — она сама видела! Женя всегда возвращается от бабушки загорелая, как цыганенок, зубы от молока и фруктов — белые-белые, волосы выгоревшие, нос облупленный, а в глазах так и прыгают живые, веселые огоньки. — Ах, ты, моя крестьяночка! — всплескивает руками мама, а из самолета спускается к ней какая-то загорелая, вихрастая и немножко чужая девочка. — Ну как? Хорошо было у бабушки? Не скучала по дому? Ну, конечно — хорошо. Можно и не спрашивать! А вот скучала ли она по дому? Трудно сказать… Если отцу в Киеве снится Манькивка, то Жене, наоборот, и в Манькивке снился дом на Стадионной, снился двор, кочегарка, дорога в школу, троллейбусы, набитые людьми. Короче говоря, во сне она видела только городскую жизнь и только городские приключения. Набегается она за день по деревне, а вечером свалится без задних ног, как говорит бабушка, да так и прикипит к подушке, и вот тут-то незаметно подкрадывается к ней бассейн и укачивает на своих мягких волнах. А то будто из темного экрана выплывут песочница, детские коляски, подвалы, загремит, забряцает оружием их знаменитая армия, и вот уж цепкие руки хватают ее, вяжут и ведут в плен. (Проходит по хате сонная бабушка, приложит к ее лбу ладонь и взволнованно зашепчет: «Спи, дочка, спи спокойно. Чего это ты кидаешься?») В общем, недели через две, насладившись свободой, Женя вдруг ощущала какое-то внутреннее беспокойство, начинала тосковать — и ей уже хотелось в Киев, к маме. Отсюда, из деревни, еще роднее, еще красивее казались ей и Стадионная улица, и дом, и двор с ушастым Зайчиком, и темные подвалы. Поехать к бабушке в гости — это хорошо. Но остаться там навсегда… Уж очень тихо и сонно у бабушки — и как-то давит, гнетет тебя этот покой. А вот возвращаешься в Киев — и сразу ударяет тебе в лицо тугой, свежий вихрь: все мчится, все летит навстречу — машины шквалом, как на спортивных гонках: торопись, беги, не задерживай других! И тебя захватывает этот азарт, ты вливаешься в общий поток, идешь, бежишь, спешишь, секунды тебя подгоняют, расписания (ой, не опоздать бы!) подталкивают в спину, дремать некогда, останавливаться нельзя, только вперед, чтобы не отстать от других! Город — не для сонных людей! И Женя чувствует: Киев закрутил в ее душе такую пружину, что из любого тихого места она всегда будет рваться сюда, в гущу, в городскую толчею, где бурлит и бьет ключом безудержная жизнь. …После того как отец сказал: «Ну что, старушка? Может, поразмыслим как следует да и подадимся назад в деревню?» — на кухне вдруг воцарилось молчание. Все трое будто к чему-то прислушивались — то ли к музыке, то ли к шагам за стеною. Мать подняла чашку да так и застыла, опустив глаза. Василь Кондратович сидел, упершись плечом в стенку, нахмурившийся, углубленный в свои мысли. Женя удивленно посмотрела на отца и на мать: что это они примолкли? Заурчала вода в кране, и опять все стихло. И отец, чтобы нарушить молчание, слегка откашлялся и тихо сказал: — Я серьезно, Галочка. Давай подумаем. Деньги у нас есть. Продадим свои манатки, купим дом в деревне и плюнем на эти трамваи вместе со всеми гриппами… Мама будто не слышала. Только уголки ее губ шевелились. А отец продолжал: — Что мы, работу в Манькивке не найдем? Ты пойдешь в контору или в сельсовет, машинистки всюду нарасхват. И у меня такая профессия… — Да господи! — слабо отозвалась мать. — Были бы руки, а работа везде найдется. — Вот-вот! — обрадовался отец. — И не будешь толкаться в очередях, не будешь с базара сумки таскать. Свой огород, все свеженькое, что захотел — то и сорвал. — Так ведь само-то оно не растет, — будто даже обиделась мать. — С огородом-то возни сколько: и копать, и сажать, и полоть — до самых ушей в землю залезать. Не с нашими это радикулитами. — А вода? Ты же знаешь, какая в Манькивке вода. Ключевая! Выпьешь — и все хвори как рукой снимет. Не то что наша, из крана — хлорированная. — Ага. А колодец где? На Федончином углу. Потаскаешь ведрами — не раз Киев вспомнишь. Тут кран повернул — и набирай сколько хочешь. И теплая тебе, и холодная. — Ну, а молоко? Где ты еще найдешь такое молоко, из-под коровы? Сама же говорила… — Василь! Не смеши! Ты что, корову завести собираешься? А может, еще и пару кабанчиков? Женя слушала родителей и внутренне посмеивалась. Она понимала, отчего разворчались ее «старички». Вспомнят деревню, свои молодые годы. Повздыхают — и обратно в Киев. — Ну вот. — Отец растерянно заморгал. — Галя, я что-то не пойму. Ты же сама говорила: Манькивка, хоть бы на недельку в деревню. А теперь… Сельской работы испугалась? — Я испугалась? Уж ты-то мог бы убедиться: никакой работы я не боюсь! — Мать явно обиделась, на ее щеках проступила бледность. — Только срываться назад тоже не хочу. Сколько копили, чтоб мебель купить, холодильник, телевизор. Сколько квартиру ждали — теперь своя, отдельная. Люди приходят, говорят: хорошо у вас, не квартира, а прямо музей. И все это оставить? И все начинать сначала, на голом месте? А потом — деревня… Я за Женю боюсь. Тут все рядом — школа, бассейн, поликлиника. Помнишь, как она ангиной болела? Только температура — сразу врача вызовем, и душа спокойна. А там? — Люди ведь живут как-то! — уже слабо, но все еще упирался отец. — И не болеют, здоровые все. Но мать будто и не слышала его, вела свое: — А в школу детям ходить — полтора километра! Представляешь? По дождю, по снегу, по весенней распутице! Этот последний мамин козырь, видимо, окончательно добил Цыбулько. Хотя сам он не то что за полтора километра, а за целых пять бегал в соседнее село в семилетку, и была та дорога для манькивской детворы настоящим праздником — сколько шума, смеха, веселья! Но теперь его почему-то смутили эти полтора километра. Он даже покраснел и беспомощно развел руками: — Да, ты, пожалуй, права, Галочка! Как вспомнишь, сколько там хлопот: дров достань, хату протопи, сена заготовь. А тут выскочил в магазин — и все под рукой. Женя украдкой улыбалась, заранее зная, что скажет отец и что ответит на это мать. Наконец не выдержала — громко рассмеялась: — О! Вы уже на попятную!То хвалили-нахваливали свою Манькивку, а теперь ругаете. — Не ругаем! — строго глянула на нее мать. — И вообще, нечего встревать в разговоры старших. Она резко оборвала девочку, но, видно, сразу поняла, что погорячилась и что ежели послушать их спор со стороны, то действительно можно рассмеяться. Всем троим стало неудобно. Мать начала убирать посуду. А отец протер очки, нацепил их на нос и с философским видом обобщил, подвел итоги разговора: — М-да. Женя, безусловно, права. Действительно, мы живем как-то раздвоенно: всеми своими заботами в городе, а воспоминаниями, детством — в деревне. Более того. Мы, Галочка, как парашютист, повисший на дереве. И от деревни оторвались, и к городу как следует не пристали. На город ворчим, а в деревню возвращаться боимся. А вот Женя — она не знает раздвоенности. Видишь, вся она тут, и душой и помыслами в Киеве. И чувствует себя в городском потоке как рыба в воде. Правду я говорю, Евгения? Дочка подняла на отца свои глубокие темно-карие глаза и, благодарная за то, что он ее понимает, кивнула головой: да, правильно! Ей тут хорошо! Она просто счастлива, что родилась в Киеве: и Лукьяновка, и засыпанные желтой листвой парки, и Днепр, и Исторический музей, где они с отцом вылепили виноградинку, — сколько еще всего надо ей увидеть, узнать, открыть! На это, наверно, не хватит целой жизни. Да и не только увидеть. Надо и самой сделать что-то, вот как отец, чтоб было оно на радость — и для себя, и для людей. Женю отправили спать (ого, уже десятый час!), но она ворочалась в кровати, никак не могла уснуть — все еще была под впечатлением от вечерней беседы. И скоро новые, взрослые мысли зародились в ее голове. «Конечно, — размышляла в полудреме девочка, — в Манькивке много чего хорошего. Степь, чистая, прозрачная речка, луг на берегу — бегай где хочешь. Вот если бы киевский асфальт да переселить в Манькивку, чтобы после дождя машины в грязи не тонули, а манькивскую речку вместе с осокой перенести к нам, на Лукьяновку… вот бы все это объединить… И чтоб не деревня была и не город, а город-деревня: хочешь — езжай на троллейбусе, а хочешь — беги себе босиком через луг в школу…» С мыслью о том, что она скоро вырастет и придумает такой, совсем-совсем новый, гибридный город, Женя заснула.ПРАЗДНИК ЛУННОЙ НОЧИ
По всему чувствовалось: скоро Новый год. И хотя до праздника оставалось еще целых две недели, на балконах уже зеленели елки и весь город пропах конфетами и «киевскими» тортами. Всюду царило какое-то совершенно особенное предпраздничное настроение — деловое с примесью лихорадочности, азартно-покупательное. Люди суетились, спешили, бегали по магазинам и базарам, запасались продуктами, напитками, елочными игрушками, а любители очередей с утра до вечера простаивали за дефицитными товарами. Тащили домой полные сумки, из которых торчали пакеты и свертки, и, встречая друг друга на улицах, озабоченно поздравляли с наступающим праздником. Готовился к Новому году и профессор Гай-Бычковский. Он обрадовался морозу и первому снегу, покрывшему землю ровным пушистым покрывалом, и пока снег не убрали и не вывезли за город, спешил использовать его на сто процентов: каждый вечер перед окнами всего дома, разувшись и раздевшись до трусов, довольно покряхтывая, он натирал снегом грудь, спину, лицо. Его могучее тело горело, красное лицо сияло радостью. Попрыгав и сделав несколько упражнений, профессор растирался жестким махровым полотенцем и начинал разминку: бег на месте. Он резко подбрасывал вверх колени и так отчаянно молотил ногами, что снег взмывал над ним столбом белой пыли. Потом Гай-Бычковский переходил к направленному бегу — легким галопом мчался до стадиона и обратно. Во дворе он на секунду останавливался, кидал себе на спину несколько охапок снега или натирал разгоревшееся лицо — и бежал дальше. А в окнах дома виднелись расплюснутые на стекле носы и губы — это с любопытством и удивлением смотрели на чудного профессора детишки и их мамы. Итак, дом жил предновогодними хлопотами. А у Цыбулек двойной праздник — как раз тридцатого декабря (и повезло же человеку!) у мамы день рождения. Дома все вели себя так, будто совсем упустили из виду это событие — суета, беготня, как-то вылетело оно из головы. Галина Степановна очень спокойно достукивала на машинке срочную работу для радио, однако она уже успела напечь свои любимые ореховые пирожные! Женя с отцом тоже ходили нарочито равнодушные, они еще раньше пошептались друг с дружкой на кухне и договорились: каждый приготовит маме свой собственный сюрприз. В том, что отец придумает что-нибудь интересное и совершенно неожиданное, Женя не сомневалась. Он всегда придумывал что-нибудь необычное: один раз сделал макет из пластилина (лодка, а в ней фигурки матери, отца и Жени — и все такие похожие и очень смешные), в другой раз вырезал из дерева забавных зверушек, а однажды выпустил домашнюю газету. То-то было веселья! А что же придумать ей? Купить на базаре цветов? Но это ведь не сюрприз. Связать варежки, как Виола Зайченко? Но не умеет Женя этого и вряд ли научится, не по ней такие занятия. Что же придумать? Погруженная в эти размышления, Женя лежала в постели, забившись под теплое одеяло. За окном стояла тихая морозная ночь. Искрился белый сугробик снега на крыше соседнего дома. В незашторенное окно бросал свой желтый свет уличный фонарь. И, похожая на этот фонарь, неподвижно висела в воздухе холодно-бледная луна. Легкими контурами вырисовывались на ней горные хребты и моря… Настала пора светлых лунных ночей. И Жене, может быть впервые в ее маленькой жизни, отчего-то не спалось (такая красота!), хотелось думать о чем-то хорошем и тревожном, и в голове сами возникали и соединялись друг с другом красивые слова, похожие на те, которые ей так нравились, — из лермонтовского «Мцыри». Женя шептала их, и радостное удивление охватывало ее, когда она вдруг обнаруживала, что получаются рифмованные строки:…И вот гости сели за стол. Спустился с третьего этажа профессор Гай-Бычковский, озарил комнату ярким румянцем. В сопровождении своего кандидата наук явилась Изольда Марковна (после первого визита она поддерживала дружеские отношения с Жениной матерью). Пристроилась около профессора, а с другой стороны усадила своего мужа — угрюмого плечистого атлета, подстриженного под бокс. За ними возвышалась толстая розовощекая Стелла — машинистка с маминой работы, и еще несколько девчат из машбюро (среди них примостилась и Женя). Были тут и папины друзья со своими женами. А во главе стола — мама. Такая красивая — счастливая и взволнованная! В белой вышитой блузке, с кулоном на груди, чуть подкрашенная и припудренная. А прическа! Как на витрине парикмахерской — высокая, красиво уложенная. Казалось, никогда еще не была мама такой праздничной и молодой. Отец сидел рядом с нею — и тоже выглядел как именинник. Солидно покашливал, все время приглаживал рукой свои мягкие шелковистые волосы и от смущения то и дело поправлял очки. Профессор произнес торжественную речь о женщине, о ее роли в семейной и общественной жизни, о том, что Марс остается мертвой планетой только потому, что никто не догадался послать туда кое-кого из украинского радио (профессор весело глянул на машинисток). Словом, за именинницу! Затем попросила слова Изольда Марковна. Она поднялась из-за стола, вся увешанная янтарными украшениями, похожая на марсианку, существование которых только что опроверг профессор. Изольда Марковна потребовала внимания: — Дорогая именинница! — она вскинула на хозяйку загнутые голубые ресницы. — Я хочу подарить вам радиолу, чтобы вы поставили ее на кухне. К ней я прилагаю набор пластинок: пусть же под музыку варится вкусный борщ и вообще — пусть живется весело в этом доме! Под радостные восклицания Изольда Марковна и ее муж вручили Галине Степановне новенькую радиолу «Мелодия». Настало время сюрпризов. Профессор, точно фокусник, извлек откуда-то из-под полы прозрачную колбу: в ней плавали маленькие пестрые рыбки-кардиналы. («Вот молодец, — обрадовалась Женя. — Теперь уж некуда деваться — придется заводить аквариум!») Отец развернул огромный, на полстены фотомонтаж, и гости сначала ахнули, а потом рассмеялись, увидев семью Цыбулько — в медвежьих шкурах, — картинно расположившуюся на диком необитаемом острове. Прекрасно! Ну, теперь Женя! (Сердце оборвалось и провалилось куда-то). Молча встала из-за стола и, чувствуя на себе испытующие взгляды гостей, направилась в свою комнату. И сразу вернулась. Личико ее побледнело и похорошело — от волнения, от растерянности. В руках у Жени был глиняный горшочек с землей, а из земли поднимался маленький зеленый кустик. Два узеньких листочка, и на тоненькой и согнутой ножке — бледно-голубой цветок. — Смотри-ка! — удивленно произнес кто-то за столом. — Ой! — поднялась мама. — Да это же подснежник! Да, это был настоящий лесной подснежник, из тех, что ранней-ранней весной появляются на самых первых проталинах. — Где же ты взяла его? Зимою? Галина Степановна, больше всего на свете любившая цветы, поставила подснежник к себе, нюхала, снова и снова удивлялась, радовалась и не могла нарадоваться. А Женя, спрятавшись за спинами машинисток, посматривала на мать и любовалась ею: «Ой, мама! Она у меня совсем как ребенок!» Снова сели за стол. — Друзья мои! — произнес профессор с глубокомысленным видом. — Где зародилась жизнь на Земле? В воде, в мировом океане! А посему советую вам — пейте только минеральную воду, и вас никогда не покинет чувство юмора, хорошее настроение, а главное — здравый смысл. Да-да! — и Гай-Бычковский одним духом выпил стакан боржоми. Женщины весело поддержали профессора, а кое-кто из мужчин стал серьезно возражать, и завязалась шумная застольная беседа, когда все разом говорят и почти никто не слушает. А на серванте, в самом темном уголке комнаты, сидел невидимый для взрослых Синько. Он хитро скалил зубки, прислушивался к разговорам, но ни на минуту не сводил глаз с Цыбулько. Будто приковывал его своими выпуклыми зелеными «сигналиками». И странное дело! Василь Кондратович был тих и смирен, как никогда: не встревал в споры, не произносил речей о мировых катастрофах — сидел возле жены по-праздничному торжественный, поддерживал непринужденную беседу и, как истинно радушный хозяин, угощал гостей, подкладывая каждому своего фирменного салата. «Ну, каков твой папочка, а? — самодовольно подмигивал Жене Синько, верно, очень ему хотелось услышать ее похвалу. — Видишь, на что я способен — одним только взглядом дисциплинирую людей!» «Ах ты мой милый, мой дорогой Синько!» — улыбнулась ему Женя. В комнате по-весеннему пахло подснежниками, негромко звучала музыка, мама сидела счастливая среди своих близких друзей — и Жене было хорошо и в то же время как будто жаль чего-то, и вдруг захотелось встать и пойти куда-нибудь, уйти далеко-далеко, за город, и сказать первому встречному, вовсе даже незнакомому человеку: «Здравствуйте! Как вас зовут? Давайте потанцуем. Вот здесь, прямо в лесу!» Это был тот редкий счастливый миг, когда сердце переполняют светлая радость и неясные щемящие желания.
БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ ГРОЗЫ? ДВА ОТВЕТА НА ОДНУ АНКЕТУ
Дверь отворилась, и в класс просунулся огромный ярко-желтый портфель, в котором, пожалуй, можно было бы транспортировать боевые ракеты. Вслед за портфелем в классе появился молодой энергичный товарищ с улыбкой на лице. Он прошелся перед учениками быстрым, деловым шагом, пристроил свой «дирижабль» (так Женя сразу же мысленно окрестила его портфель) на кафедре. Живым, острым взглядом окинул класс и сказал: — Дорогие пятиклассники, разрешите представиться! Ученики, не привыкшие к таким церемониям, загудели нестройным хором, а Бен встал и козырнул, как бы разрешая обладателю портфеля назвать себя. — Старший научный сотрудник института психологии Олег Артурович Грицюта, — скромно, но с достоинством отрекомендовался тот и сопроводил это сообщение легким наклоном головы в одну и в другую сторону. Девочки смущенно потупились, приятно пораженные улыбкой и галантностью представителя науки. Мальчишки же встретили бодрого товарища с некоторой настороженностью: что это он притащил в портфеле? Уж не контрольную ли работу случаем — на закуску, под конец учебного года? Однако Грицюта немедленно развеял тревожные догадки. — Товарищи! — Он похлопал в ладони, как это делают в детском садике, добиваясь полной тишины. — Сейчас мы с вами проведем ан-ке-ту, — и успокоительно поднял руку, когда заскрипели парты и зашумели взволнованные ученики. — Не удивляйтесь, сейчас я поясню, что это за зверь и с чем его едят. И Грицюта заверил, что ничего страшного и необыкновенного не произойдет. Просто он раздаст бланки с напечатанными вопросами, а ученики — каждый на свой лад и по своему разумению — должны ответить на предложенную анкету. Ученый-психолог расстегнул свой «дирижабль» и вытащил из его нутра пачку анкет. Пошел по рядам, раздавая направо и налево сложенные вдвое листы. Кое-кто из ребят заволновался, к Грицюте потянулись руки: «А мне, а мне!» Однако хватило всем. Затем Грицюта заметил, что это не контрольная работа, не диктант. Абсолютно никаких оценок — ни за содержание, ни за грамотность. Более того: ответы будут сохранены в глубочайшей тайне, можно даже не указывать свою фамилию. Так что полная свобода: кто что хочет, то и отвечает. Единственная просьба писать искренне, откровенно, ничего не выдумывать и не скрывать. — Все понятно? — спросил Грицюта. По классу волной прокатилось: — Понятно! И вот чистые странички анкет — перед каждым пятиклассником. Две-три минуты тишины, потом веселое перешептывание, и кто-то уже сосредоточенно скрипел авторучкой. Женя развернула анкету и прежде всего заглянула в конец. «Ого! Целых сорок восемь вопросов! Если серьезно отвечать — в два дня не уложишься». Принялась читать сначала, и первые же вопросы удивили ее и сбили с толку, перед глазами замелькало: Серьезный ли вы человек? Ваше настроение — веселое, мрачное, переменчивое? Легко ли вы плачете? Быстро ли забываете обиду? Вопросы выскакивали, как машины из-за поворота, и Женя сначала растерялась. Подумалось: это похуже, чем контрольная, — грамматику-то можно выучить, правила подзубрить. А тут что ни пункт — то неожиданность. И в учебник не подглядишь, а самой как-то не приходилось задумываться над такими вещами: серьезный ли она человек, легко ли плачет и быстро ли забывает обиды? Пожалуй, проще всего о слезах. Еще в детстве, назвавшись мальчиком, она героически сносила любые тумаки и только молча глотала слезы, не скулила даже тогда, когда, растянувшись на лестнице или на асфальте, раздирала до крови локти и коленки. А однажды в магазине ей прищемили дверью пальцы — сразу же запекся кровавый синяк; мать в испуге бросилась к ней, а Женя стояла белая как мел, с глазами, полными слез, но все-таки не запищала. Было страшно больно, но еще страшнее было представить, что кто-нибудь из мальчишек увидит ее ревущей. От одной мысли, что над ней будут смеяться, Женя немедленно приходила в себя, слезы высыхали, и даже боль утихала, сжимаясь в маленький жгучий комочек. Итак, с этим пунктом более или менее ясно. Но дальше: серьезный ли вы человек? А что вообще означает — быть серьезной? Сложить руки и сидеть на уроке с каменной физиономией? (Ты же отличница!) Стоять в сторонке, когда весь класс съезжает на перилах и тебе так хочется покататься со всеми? Или быть серьезной — это что-то другое: например, не скалить зубы, когда другому больно, как это делают Кадуха с компанией, когда кто-нибудь разобьется в кровь? А что ответить на такие головоломки: Боитесь ли вы грозы, собак, темноты? Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли, упало оно или нет? Насчет почтового ящика — это здорово! Женя вспомнила: точно, с ней такое было! Посылала она бабе Паше новогоднее поздравление и не только постучала рукой по ящику, но и приложила к нему ухо, послушала, опустился ли конверт, и ей вдруг показалось, что внутри что-то шуршит, она еще подумала: наверно, это письма перешептываются, рассказывают друг другу заключенные в них тайны. Девочка пробежала глазами анкету; вопросы попадались очень интересные, и она то улыбалась, то сосредоточенно терла лоб, вспоминая разные истории из своей жизни — школу, Манькивку, походы в Пущу, — а весеннее солнце поднималось все выше и выше, заглядывало в класс, и от его тепла и тишины кое-кто сонно дремал над партой, а кое-кто с тоской посматривал в окно, и в глазах плыл мечтательный туман: эх, сейчас бы на улицу, да надуть мячик, да с ходу — под перекладину прямо в ворота! Минуты бежали, и молодой энергичный товарищ из института был вынужден еще раз похлопать в ладони: — Дорогие пятиклассники! Не теряйте, не тратьте время! Осталось двадцать минут. Женя рукой отогнала от себя микробы сна, что роились и прыгали прямо перед глазами, взяла авторучку и быстро, частым, меленьким почерком, чтобы побольше уместилось, начала заполнять анкету. Она увлеклась и не замечала, что к ней через плечо все время заглядывает Бен. Подглядев, что там расписывает Цыбулько, он делал быстрые пометки в своей анкете. Отвечала Женя — и следом за нею Бен. Его увлекла эта игра: в своих ответах передергивать (а если надо — то и контратаковать) своего давнего тайного друга-соперника. Зазвенел звонок. Женя оборвала ответ на полуслове, поставила точку и отнесла недописанные листы Олегу Артуровичу. Следом за ней поднялся Бен и положил свою анкету на Цыбулькину. Так они, анкеты-антиподы, и отправились рядышком в институт психологии. Там поздно вечером, когда наиболее продуктивно работает научная мысль, разложил их перед собой товарищ Грицюта и с глубоким интересом начал сопоставлять: Серьезный ли вы человек.? Бен: Такой, что просто ужас. Женя: И серьезный, и несерьезный. Когда читаю книгу, плаваю в бассейне, на соревнованиях, хожу с папой по лесу, тогда серьезная. А на уроках рисования меня точно кто спичкой в носу щекочет: так и хочется почихать. Легко ли вы плачете? Бен: Пусть плачут мои враги! Женя: Если сильно ударюсь — все косточки у меня плачут, а я стою — в глазах темно — и молчу. Пометка психолога. Слова Кущолоба выписать в крылатые выражения. Не боитесь ли вы оставаться дома одни? Бен: Пусть боятся мои враги! Женя: Нет, не боюсь. Волнует ли вас вид крови? Бен: (нарисован пистолет) Женя: По-моему, вопрос глупый. Пометка психолога: эта девочка слишком понятлива. Трудно ли вам долгое время оставаться на одном месте? Бен: Полный вперед! Я не какая-нибудь там Жабулина, чтоб целые дни убивать над задачками. Женя: Не люблю чересчур крученых, таких, как Б-н. А еще больше не люблю сонных тетерь. Убегали ли вы из дому? Почему? Бен: Три неудачных попытки. На четвертый раз убегу навсегда. Почему — военная тайна. Женя: Иногда хочется убежать куда-нибудь. Тайно. И далеко-далеко. Пометка психолога: удивительное единодушие! Любите ли вы животных? Бен: Люблю их, гадов, а они от меня драпают. Женя: Это мой секрет. Пометка. Непонятно: что — секрет? То, что любит, или то, что не любит животных? Опустив письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы… Бен: Да! Было однажды! Сорвал ящик около почты, принес домой, хотел взломать и проверить… Отец намылил шею. Женя: Люблю послушать, как конверт стукнется о дно, как о чем-то зашелестят письма. Что вам снится чаще всего? Бен: Докторская колбаса. И Фантомас, которому я одним ударом сворачиваю набок челюсть. Женя: Бассейн или пруд и страшные пиявки, которые цепляются к ногам. Часто ли вы мечтаете? О чем? Бен: О боевом танке. (Дальше что-то написано и зачеркнуто). Женя: У меня есть мечта, а может, сон… Чтобы наш двор переселить в Манькивку, или, вернее, не так — чтобы манькивскую речку переселить в наш двор и чтобы бабочки (тут стоит точка — видимо, прозвенел звонок). Научный работник Грицюта сколол обе анкеты скрепкой и написал на них общую резолюцию: «Изучить. Особенно интересный тип для исследования — Кущолоб. Видимо, натура неуравновешенная, дерзновенная, но прикрывается внешней грубостью и мальчишеской расхристанностью. Проверить свои впечатления».Пока психолог Грицюта просматривал анкеты 5-го «А» (а было уже довольно поздно — одиннадцать часов вечера), на Стадионной улице случилось невероятное происшествие. Из уст в уста передавалось тревожное слово: кража… На улице было темно. Перед кочегаркой одиноко светилась тусклая электрическая лампочка (позднее милиция установила — 30 ватт). Кочегар Хурдило сидел в дежурке перед открытым окном и, уткнувшись в раскрытую газету, сосредоточенно похрапывал. Внезапно у него над головой что-то грохнуло, точно взорвалась осколочная граната, и на асфальт посыпалось разбитое стекло. Хурдило ощутил неясный толчок воздуха и вздрогнул. Выглянул в окно: кромешная тьма. И под самой стенкой будто промелькнули две сгорбленные тени. Хурдило вставил в ухо слуховой аппарат, но ничего не услышал, разве что какой-то глухой, отдаленный топот, словно из-под земли. — Опять эта шпана! — прошамкал Хурдило и вытряхнул за окно осколки стекла, упавшие на газету. — Только повесишь лампочку — сразу и разобьют. Судить таких надо! Недовольный тем, что его разбудили, сторож посопел, поморгал сонными глазами, поудобнее устроился на подоконнике и снова задремал. А тем временем две тени крадучись пробрались в подвал. — Свети! — сказал один сдавленным голосом, и в этом голосе слышалось такое нетерпение, такая торопливость, точно за ними кто-то гонится, вот-вот настигнет их и схватит обоих за воротник. Другой — небрежно сутулившийся — держался спокойнее. «Ша!» — сказал он презрительно и, сплюнув в темноту, прислушался. В подвале стояла тяжелая тишина, пахло плесенью и гнилой картошкой; даже мыши не шебуршили, вода молчала в трубах. «Порядок!» — шепнул сутулый и засветил фонарик. Узкий снопик света запрыгал по деревянным дверцам сарайчиков. — Вот он, профессорский бронесклад! Действуй! Первый, круглолицый, с длинными патлами, все подгонявший — скорее, скорее! — забренчал ключами. У него оказалась целая связка ключей, маленьких и больших, плоских и круглых, но руки дрожали, и он никак не мог подобрать ключ; наконец подобрал, но перегнул его в замке и теперь дергал, нервно сопя. — Вот дурак! — выругал его сердитый напарник и толкнул в грудь: — Дай я! Но дверь в это время открылась (будто бы сама по себе), и в тот же миг наверху послышалось быстрое цоканье каблуков по асфальту. Две тени приросли к стене, прислушиваясь: что это — кто-то поздно возвращается с работы или кому-нибудь приспичило лезть в подвал (среди ночи!) за компотом или вареньем? — Нет, не сюда! — замирая от страха, прошептал патлатый. Оба бросились к сарайчику, заставленному ящиками, книгами, обувью, рыболовными снастями. — Не дрейфь! — сказал сутулый. — Хватай! Вот то, что нам нужно! — и он потянул из сарайчика тяжелую, свернутую в рулон парусину, потом выкинул рюкзак, какие-то катушки и деревянные палочки. Схватив все это в охапку, два дружка забыли даже закрыть за собой дверь сарайчика из подвала; на секунду остановились передохнуть под плакучей ивой (она накрыла их круглым шатром), а потом, передвигаясь короткими перебежками, поволокли на себе груз в темную подворотню соседнего дома. На следующее утро Андрон Касьянович, дед-денщик, как называл его Бен, неприкаянно бродил по двору, останавливал всех подряд и спрашивал, не видели ли они его внука. Старик спрашивал, а голос его дрожал от тревоги, и было видно, что он еле держится на ногах: серое лицо его осунулось, глаза глубоко запали, а длинное тело, в котором от постоянных волнений и бессонных ночей не осталось, кажется, ни капли крови, было уже не в силах передвигаться по земле. — Ну куда он запропастился? Где он бродит, это окаянное дитя? — спрашивал измученный старик и с тихим отчаянием в глазах рассказывал всем, что мальчик не ужинал, не ночевал дома, не завтракал — будто сквозь землю провалился. Пожаловавшись встретившемуся ему Хурдиле на свою беду, старик пошел со своими расспросами к матерям с колясками, те толпой обступили старика и совсем запугали его: звоните в милицию, советовали они в один голос, звоните немедленно, все может случиться, разве вы не слышали, что на улицах крадут детей? Старик не любил женской болтовни и к тому же весьма сомневался, чтобы кто-нибудь позарился на такое сокровище, как его Бен, однако страшное слово «крадут» было сказано, и червь сомнения начал точить ему сердце. Украли — утонул — под трамвай — в больнице… в голове старика и так все пылало от жарких мыслей, теперь глаза застлало дымом, и ноги уже не шли, подгибались от слабости. Превозмогая страх и усталость, Андрон поплелся к соседям Вадьки Кадухи. И там ему сказали: нету ни Бена, ни Вадьки. Кадуха вечером был дома, а где ночевал — кто ж его знает, он ведь безнадзорный, болтается по разным задворкам. Тогда Андрон, не в силах больше таскать ноги, позвонил в милицию. Так и заявил: пропал внук, прошу объявить розыск. А Бен, любимый его внук, его наказание, находился тем временем достаточно далеко и от Стадионной, и от милиции, и от дедовых тревог.
ЛЕТНИЕ МАНЕВРЫ. ПЛАН ЗАХВАТА Т-34.
И тут, за пределами Киева, не было спокойно Днепру: сновали моторки, по гребням волн пролетали глиссеры, один за другим тянулись к устью Десны пассажирские катера, облепленные, точно муравейники, голым загорелым людом. А когда проносились «Ракеты», похожие на реактивные самолеты, за ними вздымалась такая крутая волна, что бежала она с глухим, сердитым рокотом до самого берега и с шипением катилась потом по песку. Бен поджимал свои длинные ноги и грудью, локтями, растопыренными пальцами закрывал от воды вылепленный из мокрого песка танк. Волна откатывалась назад, и он — уже с некоторым раздражением — начинал втолковывать своим собеседникам: — Да не макет, не макет это! Настоящий Т-34! На ходу, с мотором! Мы когда на экскурсии были, я там к одному солдатику подкатился, к курсанту, и спросил, и он мне прямо выложил: танк боевой, готовый к действию. Наливай, говорит, бензин и жми! Для убедительности Бен вытащил из-под помятой футболки книгу, а из этой книги достал групповую фотографию: на броне знаменитого танка Т-34 — мальчишки и девчонки из 5-го «А» класса, а выше всех, возле самой башни, стоит не кто-нибудь, а Бен-Кущолоб собственной персоной, стоит с видом победителя и с улыбкой до ушей. — Ну что, выкусили? Настоящий это танк или, может, из фанеры? — Бен кинул уничтожающий взгляд на кислые физиономии своих собеседников. — Мухоморы вы! С вами только мух ловить, а не в серьезную операцию встревать!.. Демонстрируя свое полное презрение к трусости и колебаниям, Бен отвернулся и сказал в сторону: «А! Что с ними разговаривать!..» — и с безразличным видом разлегся на песке. Но долго улежать так не мог, перевернулся на живот и снова начал втолковывать: — Ну смотрите! Вот тут траншеи, — Бен провел пальцем по влажному песку прямую линию. — А это деревня, — на песке появился кружочек. — А за деревней, как раз над траншеями, и стоит наш танк… — Наш! Прямо в кармане лежит! — ехидно хихикнул Костя Панченко и похлопал себя по мокрым плавкам. — Ты, Костомаха, заткнись! Еще раз вякнешь — и того, — Бен весьма выразительно кивнул на тот берег Днепра, что означало: мы никого не держим, можешь отчаливать хоть сейчас. Добившись наконец внимания, Бен склонился над песчаной картой и развертывал свой план дальше: самое гениальное то, что неподалеку от парка начинается настоящий лес, глухая чаща, и там, будто специально для них, проложена ровная грейдерная дорога. Итак, заводим танк, молниеносный марш-бросок на Пущу-Водицу, несколько кругов по лесу (с громом и скрежетом), а если вдруг погоня — бросаем машину, драпаем напрямик к трамвайной линии, а там спокойненько по домам… — Ну как? По-моему, план шикарный? — сказал Бен и вопросительно посмотрел на молчавшую компанию. Слушали его двое — Зинчук и Панченко, а Вадька Кадуха сидел в сторонке, спиной к Бену, подчеркивая этим, что на всю эту болтовню ему ровным счетом начхать. Кадуха по пояс зарылся в песок, сидел, напряженно опершись на локти, обожженная солнцем кожа клочьями висела на его худющих сутулых плечах, время от времени он беспокойно поглядывал на безлюдный берег, туда, где из-за кустов выглядывала остроконечная вершина ярко-оранжевой палатки, возле которой сушились на веревке Вадькины брюки. И хотя лукьяновские орлы выбрали себе самое глухое и безлюдное место под Киевом, и хотя день был не выходной, а будний, когда слоняется не так уж много народу, Вадька отчего-то все время тревожился и не сводил глаз с прибрежной полосы. Бена явно задевало, что Вадька его не слушает; «генерал» подполз на пузе поближе к Кадухе и заговорил громче, так, чтобы тот слышал: — Приедем рано, первым автобусом, в семь ноль-ноль, пока поблизости никого нету. А там одна бабка-сторожиха, она в будке спит. Мы к танку, заводим мотор… Тут Вадька не выдержал, повернул острое, обгоревшее на солнце лицо и бросил на Бена взгляд, каким смотрит трезво мыслящий человек на этого болтуна-фантазера. — Мотор! Заведем! — передразнил он Бена и так скривил свою серо-бурую, неумытую физиономию, что она стала похожа на печеную картофелину. — Кому это надо! Чтоб нас переловили, как сусликов? Будем сидеть тут, пока есть жратва. А там поглядим — может, перебазируемся дальше, в дебри. Курорт так курорт, на все лето! И никаких завихрений, ясно? Кадуха плюнул в воду по крутой траектории и этим как бы поставил точку: «Все! Власть молокососов закончилась! Теперь я беру командование в свои руки». Все четверо угрюмо молчали, уткнувшись носами в песок. В лагере явно намечался раскол, и кому-то — либо Бену, либо Кадухе — следовало поубавить гонору, иначе… — Вот чудаки! — уже спокойнее, с горькой досадой в голосе пробурчал Бен. — Я вам про что толкую? Там одна старушка, сторожиха. Пока она доковыляет до деревни, пока дозовется кого-нибудь, мы запросто отмахаем на танке круга два (тут же, у траншеи!) и — ходу. Это ж какой блеск — на боевой машине! Родька Зинчук, неповоротливый и ленивый, безразличный ко всему (целый день лежал бы себе на песке да уминал колбасу), видать, пошевелил наконец какой-то извилиной (а каково шевелить, если голова распухла на солнце!) и, сонно потягиваясь, сказал, что оно, конечно, неплохо прокатиться на танке. Вадька тоже заметно заколебался: перед его холодным прищуренным взором все ярче вырисовывался грозный Т-34, круглая, цельнометаллическая башня с пушкой, кожаное командирское кресло, предназначавшееся, конечно же, для него, для Вадьки Кадухи. — Между прочим, — напомнил Кадуха, и в голосе его звучала уверенность человека, имеющего право требовать чего угодно. — Кто поведет танк? Это ж не таратайка какая-нибудь. В нем разбираться надо. — Все продумано! — горячо воскликнул Бен. — Вот, гляди, братва! Из-под футболки он вытащил еще одну книгу, толще предыдущей, оснащенную множеством рисунков. Это был «Иллюстрированный военно-технический словарь». — Вот! Схема и описание танка! Тут все в деталях, как на шпаргалке! Вихрастые головы заинтересованно склонились над книгой, а пальцы забегали по отделениям Т-34 — вот боевое, где должен сидеть командир экипажа (Кадуха!), вот отделение управления, где хозяйничает механик-водитель (Бен сразу же и категорически заявил: это я!). Вспыхнула короткая дискуссия, кому быть наводчиком, а кому заряжающим, но ленивому Зинчуку оказалось совершенно безразлично, кем быть, лишь бы покататься, и он был назначен заряжающим, чья задача состояла в том, чтобы сидеть на самой верхотуре башни (красота! лишь бы не бегать!) перед приспособлениями для наблюдения. Ребята, подобно заговорщикам, склонили над схемой танка свои взлохмаченные головы и деловито переговаривались. Вдруг Вадька тихо, но твердо, с нажимом проговорил: — Братва, в воду. Кто-то движется. Книгу прикрыли футболкой и все вместе с наигранным весельем бросились к речке. Только размякший, разомлевший на солнышке Зинчук плелся нехотя, вразвалку, словно по принуждению. Однако, нырнув в воду, разошелся, начал весело фыркать и пускать изо рта фонтанчики; о Бене нечего и говорить — он нырял, кувыркался в воде, гонялся за Панченко. Словом, лучшие сыны Лукьяновки бултыхались в Днепре, хохотали, хватали друг дружку за пятки, только Вадька покачивался на волнах, как поплавок, и не спускал глаз с дядьки, двигавшегося по направлению к ним вдоль пустынного песчаного берега. Несмотря на жару, этот здоровенный мужик был обут в резиновые сапоги, на плечах — брезентовая куртка-штормовка, на голове — кепка. Лицо до черноты выдублено солнцем. Видно, завзятый рыбак, из тех, что ночуют дома только перед получкой. За спиной у него висел рюкзак и удочки, какая-то банка болталась на шнурке, привязанном к поясу. Чем ближе подходил рыбак к оранжевой палатке, тем беспокойнее нырял и выныривал из воды Вадька Кадуха. А дядька вдруг остановился, покачал головой, восторженно прицокивая языком, и сказал в воздух: «Ты смотри! Вот это штука! Ну прямо раскрасавица!» — Тс-с! — Вадька нервно зашипел на ребят. Худое, плоское лицо Кадухи еще больше вытянулось от страха. А дядька постоял, посмотрел в задумчивости на веселую, ярко-оранжевую палатку, кокетливо выглядывавшую из-за кустов, еще раз причмокнул с завистью и пошел себе дальше, философски приговаривая: «Да-а… Достают же некоторые!» И только когда согбенная от навьюченного на нее рюкзака фигура рыбака исчезла за высоким барханом песка, Вадька облегченно вздохнул. Тем временем лукьяновские заговорщики накупались и захотели есть. Как по сигналу, обгоняя друг друга, бросились они к палатке. Даже Родька Зинчук, этот невыносимый копуша и нытик, и тот включил третью скорость. Всей гурьбой ввалились в палатку. Это была в самом деле замечательная двухместная палатка с брезентовым полом, с окошечком и прорезанной дверью, которая наглухо закрывалась на замки-молнии. А главное — новенькая, веселая, апельсиново-оранжевая, она пропускала внутрьмягкий, теплый свет. Упадешь на пол в такой палатке — и сразу хочется вытянуться, расслабиться и сказать: «Ну и здорово, братцы!» А уж потом станешь ощупывать плотную, пронизанную солнцем парусину и с дикарским восторгом разглядывать штампы и ярлыки с хитроумными иероглифами и надписями. И вот четверо мальчишек, отдуваясь, как моржи, разом плюхнулись на пол; в палатке стало немного тесновато, но Вадька расчистил себе место в центре и взял банку абрикосового варенья. Едва крышка, звякнув, отлетела в сторону, Бен молниеносно запустил руку в банку, и никто не успел глазом моргнуть, как он уже слизывал золотисто-тягучее сладкое варенье с растопыренных пальцев. За ним, судорожно глотая слюну, потянулся к банке Родька Зинчук. — Эй, вы! — прикрикнул Кадуха, но не злобно, а с уважением к волчьим аппетитам лукьяновского братства. — Убью! Давай по очереди! И он, в корне пресекая всяческую анархию, зачерпнул золотистое варенье и отправил себе в рот. Потом дал Панченку. Потом еще раз пропустил Бена. А бедный Родька Зинчук, который прямо-таки дрожал от голода (а есть ему хотелось всегда, даже среди ночи), сидел и алчными глазами пожирал банку. Бен пожалел Родьку и милостиво дал ему из своих рук, а потом еще и провел вареньем у него под носом. Золотые усы на Родькиной физиономии рассмешили заговорщиков; Кадуха тоже запустил руку в банку и всей пятерней поставил печать на Родькиных круглых щеках. Грянул такой хохот, какой раздавался на земле разве что в пещерах первобытного человека. Родька обалдело поморгал глазами и, не долго думая, мазанул вареньем Костю. Костя — Бена. А Бен уже нацелился было на Кадуху, однако тот накрыл пятерней банку и сказал: — Сдурели? А лопать что будете? И правда — доигрались! Только на самом дне банки оставался золотистый кружочек варенья — и все! Кадуха сам доел его, по-хозяйски облизал руку и, перемазанный до самых ушей, окинул победоносным взглядом сынов Лукьяновки; те разочарованно притихли, а на лицах было написано полное недоумение: неужели у нас было что-то во рту? Да не может быть! — Ладно, — смилостивился над ними Кадуха, — Бен, волоки шпроты! Только без шакальства! — Последние его слова расшифровывались таким образом: не хватать друг у дружки из-под носа, не швыряться, провизии мало, всего-то на день-два, так что объявляется строгая диета. Открыты консервы. И уже без баловства, сосредоточенно, прямо-таки по-джентльменски таскали из банки по рыбешке (а что это за рыба — тюлька несчастная!), быстренько отправляли ее в рот, жевали без хлеба, а за каждой рукою бежали жирные масляные дорожки — по оранжевой парусине, по ребячьим ногам, по животам и подбородкам. Немножко заморили червячка. Развалились на полу. И Кадуха вслух посетовал, что не прихватил магнитофон, купленный на толкучке. Такая музыка загремела бы в дебрях, что рыба сама, без всякого динамика, повыскакивала бы на берег: бери себе и жарь или суши на солнышке — делай тараньку… Полежали, помечтали, потом вылезли на солнце. Кадуха сказал: — Бен, организуй-ка охрану лагеря. Да смотрите, чтоб никто нас тут не застукал. А мы пойдем рыбу ловить. Мы — это они, Кадуха и Бен. Генералитет. Решили прогуляться над водою. А на солнце пусть жарятся низшие чины — Костя и Родька. И если флегматичному Зинчуку это было на руку (только бы не двигаться), то Костя Панченко с тайной обидой подумал: «Ничего! Я вам еще устрою! Раскомандовались!..» А Кадуха (ему было начхать, кто и что о нем думает) вытащил из-под палатки спиннинги. Любовно осмотрел рыболовные снасти, и глаза его лихорадочно заблестели: — Вот это да! Шикарные спиннинги! Что и говорить, спиннинги были замечательные: черные, лакированные удилища длинные-предлинные — так и хотелось поскорее забросить их в воду; катушки небольшие и легкие, приятного нежно-голубого цвета. А блесна! Ну точно золотая рыбка, а под ней хитро вмонтированы стальные крючки. На такую блесну кинется щука, не меньше, да и сам ты, увидев в воде такую золотую рыбку, непременно погнался бы за ней. — Пошли, Бен, забросим, — нетерпеливо сказал Кадуха. — А вы, братва, караульте. Если что — свистните… Вадька с Беном, вооружившись спиннингами, побрели, увязая по щиколотку в песке. А у палатки остались сидеть сразу же скисшие Панченко и Зинчук. Проводили они взглядами свое начальство, увидели, как Вадька размахнулся и забросил серебристую нитку далеко в воду. Бен что-то завозился, попытался забросить, но не получилось — наверно, запуталась леска… А речка гудела, растревоженная катерами, с высокого правого берега уже ложились на воду длинные вечерние тени. Странно: если днем Кадуха все время тревожно озирался и всячески проявлял беспокойство, то с приближением сумерек он становился все бодрее и веселее. Мрак, безлюдье, тайный ночлег в глухом необитаемом месте вполне устраивали его: темнота — своя тетка, не выдаст. Однако перспектива остаться на ночь тут, в этой никому не ведомой глуши, не особенно улыбалась другим сынам Лукьяновки — Зинчуку и Панченко. Днем в компании они веселились. А сейчас уныло сидели вдвоем возле палатки — и то ли разморило их на жаре, то ли тревога постучала в сердце (домой!), но Костя и Родька вдруг примолкли, перестали обсыпать друг друга песком (им даже говорить расхотелось) и только украдкой поглядывали на противоположный, высокий берег Днепра, где в голубоватой вечерней дымке можно было различить (или представить себе) силуэты далекого Киева. А там школа, суета, звонки: «Где Панченко?» — «Нету Панченко!» — «Где Зинчук?» — «Нету Зинчука!» Директор нажимает на кнопку, вбегает курносая курьерша Нюся, и вот уже летят на Лукьяновку директоровы депеши: одна родителям Кости, другая — родителям Родьки, а дома… У Роди, обгоревшего до красноты, вдруг похолодело сердце, и он, запинаясь, произнес громким шепотом: — Слушай, Кость… А как там у тебя… дома? — А-а! — отмахнулся Костя и перевел в сторону глаза, полные печали и раскаяния. Двойки отец ему прощал, а вот побег из дома, да еще в последние, решающие дни учебного года… Он уже давно грозился: ох, доиграешься ты у меня — шкуру спущу! Видать, теперь-то и настал этот момент. Спустит! Если не шкуру, то штаны уж точно. На сто процентов! Костя и Родька переглянулись, тяжело вздохнули. А длинная тень от правого берега Днепра протянулась через всю реку и подползла уже совсем близко; вот она легла на песчаную отмель, на кусты лозняка, на оранжевую палатку. Потянуло холодком, и от этого стал резче запах воды и запах бензина от моторки, быстро мчавшейся к Киеву. Берег окутали сумерки. Постепенно нарастала вечерняя тишина. Настало время, когда все возвращаются домой. К чаю, к телевизорам.В городском отделении милиции почти одновременно прозвучали три звонка. Первым позвонил какой-то старый человек, назвавший себя ветераном первой империалистической войны. Он говорил хриплым, взволнованным голосом и сразу начал с того, что будет жаловаться: где это видано — третьи сутки нету внука; он, то есть ветеран войны, уже обзвонил все районные отделения милиции — на Лукьяновке, на Подоле, на Печерске, навел справки во всех больницах, в морге, в Киевском бюро находок, и всюду ему один ответ: нету, нету, не числится. Как это нету? Как не числится? Это же не иголка, а живой ребенок, и ребенок, слава богу, росленький — по грудь ему, Андрону Касьяновичу. — Минуточку! — попытался прервать его дежурный милиционер Евген Мстиславович Рябошапка. — Не волнуйтесь, папаша, давайте все по порядку… Однако нелегко было вклиниться в старческое бормотание Андрона Касьяновича, который, ничего не слушая, жаловался и угрожал, а тут как раз зазвенел второй аппарат. Дежурный сказал не унимавшемуся абоненту. «Секундочку!» — и снял вторую трубку: — Слушаю! Там послышался твердый, энергичный голос: — Говорит доктор биологических наук, профессор Гай-Бычковский. С кем имею честь разговаривать? Милиционер удивленно хмыкнул, покраснел до ушей и по-военному отрапортовал: — Имеете честь разговаривать с младшим сержантом милиции товарищем Рябошапкой! — Прекрасно! Глубокоуважаемые работники милиции и уголовного розыска! Делаю вам официальное заявление: в нашем доме, а именно — на Стадионной, шесть совершена кража. Неизвестные личности, по-видимому, ночью, забрались в подвал и из сарайчика под номером тринадцать, который принадлежит непосредственно мне, вытащили двухместную туристскую палатку, два спиннинга, надувную резиновую лодку, не говоря уже о нескольких банках абрикосового варенья, которое я заготовил собственными руками… — Минуточку! — сказал товарищ Рябошапка, потому что в это самое время глухо, но настырно, прямо-таки подпрыгивая на столе, задребезжал третий телефон. — Слушаю! — бросился утихомировать его Рябошапка. В трубке что-то шипело, вкрадчиво лилась нежная тихая музыка, кто-то, словно с того света, вызывал эпидстанцию, и сквозь все эти шумы и помехи прорывалась отчаянная мольба далекого женского голоса: — …варищи милиция!.. раул! бью палкой — лезут!.. в танке… сторожиха… — Что такое? Какая сторожиха? Почему она в танке? — сердито прокричал Рябошапка и отер пот со лба («Вот запарка!»). А на улице в самом деле парило и в окно проникал запах разогретого асфальта. Только после второго или третьего объяснения дежурный наконец начал что-то понимать: звонят из-под Киева; какие-то хулиганы забрались в танк, что стоит там на кирпичном постаменте; залезли и что-то там делают, гремят железом, сторожиха колотит палкой по броне, кричит: «Вылезайте!» — а они, хулиганы, задраили люк и не вылезают… Рябошапка нажал на красную кнопку и крикнул в аппарат, соединенный со всеми параллельными, то есть с ветераном войны, профессором и сторожихой: — Объявляю тревогу! Немедленно выезжаем во все пункты! Ждите!
А на Лукьяновке из двора во двор, из подъезда в подъезд ходил согбенный старик, бледный как полотно, с затуманенным слезами взором. Он останавливал незнакомых людей и бормотал что-то нечленораздельное, и люди осторожно обходили его стороной: свихнулся, бедняга. Кое-кто сочувствовал: «Видать, несчастье у деда… Может, умер кто…» — и останавливался, тогда старик начинал торопливо и возбужденно расспрашивать, не видали ли они мальчика — такого вихрастенького, высокого, с голубыми глазами… Люди пожимали плечами — что тут сказать: мало ли в Киеве высоких вихрастеньких мальчиков с голубыми глазами? Не зная, чем помочь обезумевшему от горя старику, люди шли себе дальше своей дорогой, а он брел неведомо куда и в полном отчаянии повторял: «Матушка-богородица! Что делать? Как сообщить родителям?» Разбитый, безутешный в своем горе, перед всеми виноватый (перед родителями, перед школой, перед людьми), старик слонялся по дворам, зная, что без внука ему незачем возвращаться домой. И он хотел одного — умереть, умереть сейчас, здесь, прямо на дороге, под забором. А у профессора Гай-Бычковского тоже было нерадостно на душе. Взял он в университете отпуск в неурочное время, взял специально, чтобы порыбачить в самую благодатную пору — в начале лета. Настроил планов — поплыть на Десну, за Сосницу, там, говорили ему, есть тихие рыбные места. Уже и наживку достал, накупил приманки, одолжил у своего друга портативный комбайн (газовая плита вместе с холодильником). И на тебе: ни палатки, ни спиннингов, ни надувной лодки. Да еще и варенье забрали, над которым профессор трудился по выходным дням. Ну да бог уж с ним, с абрикосовым вареньем. А что делать без палатки, без спиннингов, без лодки? Мечтал, как будет блаженствовать летом, и что же? Хоть иди в университет и откладывай отпуск. Впервые за много лет Гай-Бычковский не сделал утреннюю зарядку и отказался от кросса.
После напрасного блуждания по дворам и задворкам уже под вечер добрел Андрон Касьянович до своего дома. Сел на лавочку у кочегарки. Усталое, отяжелевшее тело, в котором гудели все косточки и суставы, молило о покое Старик прислонился к стене и сидя задремал, крепко держа в руках авоську с кефиром. Его разбудил детский голос: — Везут! Везут! Милиция! — Бен! Смотрите, Бен! — Где Бен? — проснулся Андрон Касьянович. Спросонья заморгал сухими, горячими веками, и руки у старика задрожали — то ли от страха, то ли от внезапного пробуждения, и бутылки с кефиром жалобно звякнули. Широко раскрыв глаза, он на мгновение остолбенел. Бен! Вот он, во дворе, живой и невредимый. Его Бен, в майке и шортах, стоит и улыбается детворе, а на его щеках, на лбу, на руках блестят мазутные пятна. — Матушка-богородица! Бен, сыночек! — бросился к внуку Андрон Касьянович. — Слава богу, живой, нашелся! Старик кулаком смахнул слезу, нацепил на руку сетку и, что-то радостно бормоча, хотел подойти поближе, чтобы обнять и расцеловать любимое дитя. — Гражданин! — раздался неожиданно строгий окрик. — Не подходите! Они задержаны! Старик, совершенно сбитый с толку, замер на месте и только теперь заметил: во дворе милиция! Целых три милиционера, какая-то машина (вездеход ГАЗ-69), а возле нее стоят и понуро косятся на толпу Бен, Вадька Кадуха и еще два паренька — арестанты в одних трусах. «Что случилось? Почему конвой?» — ничего не понимал старик: он сдвинул брови и направил вопросительно-изучающий взгляд на кислые физиономии лукьяновских дружков. Угрюмо потупившись, они смущенно переступали с ноги на ногу. Тогда старик с тем же вопросом в глазах посмотрел на милиционеров. Двое — в полном служебном обмундировании, в форменных фуражках, надвинутых на самые глаза, — стояли навытяжку по обе стороны голой замурзанной команды. А третий милиционер, толстый рябой старшина, выволакивал из машины какое-то добро. Кряхтя и отдуваясь, он кое-как извлек и выбросил на асфальт ярко-оранжевый брезент («Парашют! Парашют!» — в восторге закричали дети). Затем на асфальте оказались два новеньких великолепных спиннинга и нехитрое мальчишечье снаряжение: кеды, футболки, коробка с червяками. Все это старшина сложил в кучку. Потом вытащил из машины тяжелый тюк свернутой и зашнурованной серо-зеленой упругой резины («Лодка! Надувная! И покататься-то не успели!» — Бен с грустью посмотрел через плечо милиционера на резиновый тюк: вот жалость — попасться со всем барахлом и даже не расшнуровать). — Андрюша, мальчик мой! Что ты натворил? Где ты был? — простонал дед, уже предчувствуя новую беду, и опять рванулся вперед, простирая руки к Бену. — Не подходить! Сказано — задержанные! — остановил его охранник. Старшина, выгребавший из машины добро, распрямился; был он рыжий, веснушчатый и, сразу видно, человек добрый и обстоятельный. — Вы кто будете? — спокойно спросил он деда. — Знакомый? Или родственник кому из них? — Дед я! — хрипло проговорил Андрон Касьянович. — Я ему и за отца и за мать. Вот этому. — Плохой вы отец и мать, — флегматично заметил старшина. — Хулигана воспитали. — Да вы что? Что вы говорите? Мой внук — хулиган? — Хулиган и вор. Вот, полюбуйтесь, — и старшина указал рукой на барахло, разложенное на асфальте. — Это он вместе со своими дружками украл. В вашем же дворе. У профессора. — Как? — глаза у старика округлились, лицо покрылось мертвенной бледностью. («Матушка-богородица! Где же валидол?») — Как? Мой внук украл?! Андрон Касьянович пошатнулся и уже в полуобморочном состоянии сунул кому-то в руку сетку с кефиром. Хорошо, что за спиной у него стояла какая-то девочка (а это была Женя Цыбулько), она быстро пододвинула скамеечку, и старик, точно куль с мукой, дрожа всем телом, опустился на доску. Он слышал, как девочка кричала ему в самое ухо: «Дедушка, вам воды? Может, вам воды принести?» Старик замотал головой. Сердце у него колотилось часто и громко, перед глазами плыл туман, но сквозь него старик увидел: народу полно. Весь двор сбежался посмотреть, еще бы — воров привезли! А над головой шепот: кража, милиция, хулиганы, ну и дети пошли, только смотри… «Какой стыд! Какой позор на мою седую голову!» — немо простонал старик, и сердце его зашлось, замерло, пронзенное холодными иголками. Когда Андрон Касьянович пришел в себя, ни Бена, ни милиции уже не было. Над ним стояла стайка испуганных женщин. Они тихо и тревожно переговаривались: «Не дергайте!.. Расстегните!.. Ему плохо». Чьи-то мягкие ласковые пальцы пробежали по шее и расстегнули ворот его военной рубахи (это была слабость Андрона Касьяновича — он всегда носил гимнастерки). — Сердце, — виновато пробормотал Андрон. — Сердце подводит. Извините. И попытался встать, но те же ласковые руки остановили: не спешите, не надо, посидите немножко… С этой минуты и до самой ночи жизнь Андрона Касьяновича и вовсе превратилась в ад: он куда-то ходил, звонил, о чем-то просил, что-то кому-то объяснял. И все — будто в тумане, в чаду, в полусознании. Первым страшным потрясением для старика было известие, что его любимого Бена, Вадьку Кадуху и еще двух их сообщников милиция увела с собой. Второе — когда опять приехали два милиционера, теперь уже прямо на квартиру Кущолобов. Без лишних разговоров, спокойно и деловито они вытащили из-под дивана акваланг, которого старик никогда не видел, и охотничий пояс с патронташем. Оказалось, что это тоже вещи профессора Гай-Бычковского, украденные из подвала. С таблеткой валидола под языком старик поплелся на почту и дал две телеграммы: «Случилось несчастье, приезжайте». После этого старик обвязал голову мокрым полотенцем и свалился в постель, совершенно разбитый.
Первым приехал отец Бена — плотный, крепко сбитый мужчина лет тридцати пяти, коренастый, с крупной лобастой головой, покрытой шапкою черных кудрявых волос. Он немедленно вывел из гаража машину и куда-то поехал. Был поздний вечер, вернее даже — начало ночи. Андрон Касьянович лежал в постели у распахнутой настежь балконной двери (чтоб поступал свежий воздух), смотрел на полную луну в небе и думал о смерти. Думал спокойно, как-то по-хозяйски, так, как люди думают о переезде на новую квартиру. «Значит, так, — говорил сам себе Андрон. — Денег я отложил, на похороны и поминки хватит. Костюм есть (белая рубаха и темно-синие шерстяные брюки). Свечи купил, попрошу, чтоб поставили. Можно умирать…» Как ни прикидывал старик, жить дальше не было никакого смысла. Вся его жизнь была вложена в Бена: для него и за него учил он грамматику, решал дроби и даже старался осилить английский язык. А главное — душу в него вкладывал, все свои силы отдавал, все, что сам знал, внуку рассказывал: о геройских событиях, об отважных людях. И вот благодарность — преступник, вор. Нет, не профессора, его, Андрона, ограбили, ограбили подло, до нитки. Как теперь жить? С какими глазами выйдет он во двор, встретится с людьми? В ту самую минуту, когда старик твердо и окончательно сказал себе: «Надо умирать», в коридоре с грохотом распахнулась дверь и раздались быстрые шаги. Тяжело и грозно сопя, в комнату вошел зять. Впереди себя он толкал Бена. У старика сердце зашлось быстрым и коротким, тревожным стуком. — Бен! — промолвил Андрон Касьянович, воскресая. — Вернулся! Ну вот и слава богу! Всех отпустили? — Нет! — холодно бросил отец (чувствовалось, что он чрезвычайно раздражен). — Не всех. Этого оставили, Кадуху. Зачинщика. Им займется следствие. Наверно, в колонию отправят. — А Бена? — зашевелился в подушках старик. — Лежите! — коротко приказал отец. — При чем тут Бен? Он же теленок, молокосос несчастный! Он же дурачок (отец дал Бену затрещину, тот так и присел, волосы закрыли его лицо, и он обиженно засопел носом). Он же, дурачок, за Кадухой потянулся, за старшим, на поводу пошел. Ишь, в танке им захотелось покататься! Да я т-т-тебя т-т-так пок-к-катаю! — отец снова замахнулся. Бен пригнулся еще ниже, опустил голову и замер, напряженно ожидая еще одного удара, «волейбольного», сверху вниз. — Я же говорил: не надо, — заканючил Бен, вытирая сопли, — а Кадуха это, а он тогда это, подбил… — Рассказывай! — крикнул отец. — Милиции можешь зубы заговаривать, но не мне. Подбили его! А кто тебя подбил в подвал лезть, воровством среди ночи заниматься? Кто, спрашиваю? — Я же говорил, а он… а он говорит… — Ой, замолчи! — скрипнул зубами Кущолоб, еще больше свирепея оттого, что этот откормленный здоровый балбес, его сын, пригнулся и съежился, как паршивый щенок. — А ну вставай! Нечего гнуться! Банд-д-дит! И Кущолоб наотмашь ударил сына. Бен страшно побледнел, щеки залило мертвенной синевой от боли и неожиданности, стукнулся головой об стенку и заревел на всю квартиру. — Что ты делаешь? Зачем ребенка бьешь? — застонал Андрон Касьянович и, с полотенцем на голове, попытался было подняться. — А вы лежите себе! Вы уж лучше лежите да помалкивайте! — Кущолоб повернул к деду перекошенное от гнева лицо и бросил на него испепеляющий взгляд: — Это ваша работа! Ваше воспитание! Вы довели семью до такого позора! Плотный коренастый мужчина весь побагровел и обрушил на старика целый шквал убийственно-злых, жестоких слов, в слепом своем гневе не замечая того, что несчастный старик вжался в подушку, окончательно прибитый, чуть живой, что глаза у него остекленели, а на лице застыло выражение скорбного недоумения: за что мне такая благодарность? За какие грехи?..
СРЕДИ ВЕЧЕРНИХ ОГНЕЙ
Девочка окончила пятый класс. Разве это не событие? И не просто окончила, а перешла в шестой (слышите: в шестой!) с похвальной грамотой. И конечно же, дома не обошлось без «Киевского» торта, без вечернего чая, за которым говорилось о каникулах, о Манькивке, о том, что, возможно, они все вместе поедут в Крым или на Кавказ. «На Кавказ! На Кавказ! — запрыгала девочка. — Туда, где жил Лермонтов». А в конце ужина Галина Степановна сказала: — Ну иди, Женя, погуляй немножко. Нет, надо было слышать, как это сказано: «Иди погуляй!» Спокойно, сдержанно, как о чем-то совершенно обыденном. «Погуляй!» — так говорят только взрослому, вполне самостоятельному человеку, которому дана полная свобода действий. Прекрасно. В такой вечер только гулять. Женя повертелась перед зеркалом и пожалела, что недавно снова коротко подстриглась. Нет, спортивная прическа ей не идет. Это и девочки в классе говорят. Надо отпускать косу. А то с короткими волосами как-то подчеркнуто торчат уши. Уши, конечно, кругленькие, аккуратные, но все-таки лучше бы их прикрыть. А потом — уж очень длинная получается шея, и тоненькая-претоненькая, и лицо тоже худое, узкое, а глаза большие, широко раскрытые, и оттого вид у нее ну не то что бы вытаращенный, а как бы чуть удивленный. Вот если бы косы… И Женя представила себя с белым бантом в длинной косе, в светлой блузке и черной юбочке с поясом, в белых туфельках. Красиво! Можно было бы взять на руку кофточку, ведь по вечерам довольно-таки свежо. И крикнуть ему: «Эй, не сердись. Пошли погуляем немножко…» На минуту представила себе: теплый вечер, каштаны, и идут они вдвоем… с «генералом». Прыснула, прикрыла губы ладошкой. Нет, невозможно смешно — парочка! Выдумки это все! А пока… Женя глянула в зеркало на ушастую девочку в школьном коричневом платье и сказала себе: «Ничего! Сегодня и так сойдет». Взяла кофту, помахала родителям: «Салют!» А родители стояли в дверях, с волнением и радостным удивлением глядя на дочку: «Совсем большая девочка! Господи, и когда же это он так вырос, наш ребенок?» А ребенок, подмигнув Цыбулькам, забарабанил каблучками по лестнице. Был конец мая, прекрасная пора, когда на улице тепло и зелено и когда весь вечерний город, от седых припудренных старушек до юных фей и студентов, высыпает на улицы. Молодежь движется толпами, веселыми компаниями, взявшись за руки, им тесно на тротуаре. Со всех сторон раздаются взрывы смеха и бренчание гитар. Идти одной в этой шумной толпе, сиротливо идти в стороне от людей, от разговоров, смеха, шуток… Нет, знаете, становится как-то не по себе, в сердце проникает печаль, и тебе уже кажется, будто ты совсем один в этом веселом, сверкающем мире, и хочется, чтобы кто-то был рядом — свой, близкий, с которым можно говорить и говорить или просто идти и молчать… Женя остановилась во дворе; детская площадка, вербы залиты мягкими прозрачно-зелеными сумерками. Глянула на соседний дом, на балкон, где когда-то висела ярко-желтая циновка. Темно. «Где он сейчас? — подумала с тревогой. — Прячется? Боится ребятам на глаза показаться? Чудак! Сам наворотил-наворотил, а теперь вот и меня стороной обходит…» А ей горько и досадно: по-дурацки как-то получается! Казалось, вот-вот они помирятся, вот-вот он скажет: «Все-таки ты молоток, Женя, давай дружить!» Она и боится и ждет этих слов. А тут — все наперекосяк: то туи, то кража в подвале, и вот они уже надулись, как сычи, и смотрят зверем друг на друга… По-дурацки получается! Еще раз посмотрела на темный балкон. «Позвать? Ведь он там, наверное, один. Голодный. В пустой квартире. Дед в больнице, а родителей, наверно, опять нету…» Ступила шаг — и остановилась. Защемило-защемило в груди, холодок пробежал по спине. Почему-то вдруг показалось: из всех зашторенных окон подсматривают за ней и перешептываются: смотрите, какие теперь школьницы — пошла звать мальчика… Сердито крутнулась на каблуках и перед окнами всего дома твердо прошагала на улицу… И только повернула к воротам, как услышала за спиной мелкие, торопливые шажки: — Тетя, можно я с вами? Вот тебе и на! Надо было быстрей удирать со двора. Засек ее ушастенький Мотя. Теперь не отвяжешься. Прибавила шагу, сделала вид, что не замечает Мотю. Мальчик догнал ее уже за воротами — встревоженный, невыразимо смешной, в своем длинном пиджачке, в большой серой кепке. Часто и жалобно заморгал глазами, протянул руку: — Тетя Женя, и я… А у «тети» так и вспыхнули щеки, ей неудобно, она оглядывается на проходящих мимо людей, и вдруг… взгляд ее упал на ту сторону улицы. Что это? Ей показалось, померещилось или на самом деле? Там мимо старого дома вроде бы промелькнул кто-то в джинсах, вихрастый, коротко взглянул на нее — и в кусты, спрятался… Нет, за кустами никого нету, темно. Наверно, почудилось. Женя наклонилась к Моте, поправила на нем кепочку и тоном старшей, с соответствующей заботливостью и ласковостью сказала: — Нельзя, Мотя. Уже поздно. Завтра погуляем с тобой. И убежала от Моти, однако что-то затрепетало, сжалось внутри оттого, что она заметила — наполнились слезами глаза малыша. Бедненький весь сморщился да так и застыл на месте — не ожидал он, что Женя отстранит его. Однако скоро Мотя отступил на задний план, и единственное, что занимало мысли, веселя ее и одновременно тревожа, была та тень, промелькнувшая, как в кино… Быстрый, настороженный взгляд и знакомая фигура, скрывшаяся в кустах… «Неужели он?» — думала Женя, и загадочная улыбка играла на ее губах. Еще минута — и это видение тоже исчезло, развеялось, она вышла на улицу Артема, нырнула в людскую толпу, в шум и гомон, в поток слепящего света. На улице Артема по вечерам тоже кипела работа. Полквартала было освещено яркими прожекторами. За высоким деревянным забором, где еще недавно возвышался кинотеатр «Коммунар», гудели и дребезжали бульдозеры, выворачивая груды песка, позвякивал башенный кран, перекликались рабочие. Девочка остановилась, удивленно навострила уши. Батюшки, что творится! Разрушили их «Коммунар». Маленький, облупленный, уютный, где столько всего пересмотрено — от первых детских «мультиков» до этих недозволенных «Братьев Карамазовых» и «Анн Карениных». Разрушили… Вчера отец рассказывал ей, что «Коммунар» — один из старейших кинотеатров в Киеве, что сохранился он еще с дореволюционных времен и когда-то назывался «Люкс». На него даже упала немецкая бомба, но не взорвалась, а только пробила потолок. А теперь, говорил отец, здесь построят новый кинотеатр с четырьмя залами — самый большой на Украине. А Женя, когда они с отцом об этом разговаривали, вспомнила Вадьку Кадуху: будет ли у него персональная ложа в новом кинотеатре? И рассказала отцу, что Вадька по пожарной лестнице залезал на чердак и оттуда смотрел все фильмы. Рассказала и смущенно примолкла: с Вадькой такое несчастье — в трудовую колонию забрали, — а она смеется. Но Василь Кондратович сказал, что для Кадухи, может, это даже и лучше. Человеком станет. Там его заставят учиться, ремеслу какому-нибудь обучат. А тут бог знает до чего бы он докатился — как выяснилось в милиции, он не только в подвал к профессору залез, но и по соседским квартирам шуровал. Практиковался понемногу… Урчал бульдозер, выворачивая камни из фундамента бывшего «Коммунара», а Женя стояла и вспоминала Кадуху, их глупые детские стычки во дворе. И вдруг в толпе снова промелькнула знакомая тень — легкая крадущаяся фигура. Джинсы, всклокоченные волосы. И глаза — глянули, остановились на Жене и спрятались. Девочка от волнения закусила губу: «Это он!» Она могла поклясться, что тот, кто всегда дразнил ее, тот, кто потерпел танковую катастрофу, сейчас тайно сопровождает ее — перебегает от дерева к дереву, прячется за стволами каштанов, за спинами людей. Верно, скучно ему одному дома. А может, ищет примирения? Хочет подойти и… боится? «Чудак!» — сказала Женя. Поднялась на носки: где он, куда исчез?.. И смешно ей стало, и в то же время приятно, что у нее, суровой-суровой Цыбулько, появился телохранитель. Тайный! Вот он опять прошмыгнул! Это была игра поинтереснее жмурок. Женя пригнулась, весело хихикнула и ринулась в толпу. А тот, длинноногий, уже перелетел через дорогу, и его тень притаилась за деревом, за стеной из прохожих. Женя подбежала к перекрестку и сжала кулачки от возмущения: ну надо же так! Красный свет! Топнула ногой, как бы подгоняя машины: «Пролетайте! Поскорей!» А перед нею — мелькание огней, яркие отсветы на капотах «Волг» и «Жигулей». Но вот волна автомобилей прокатилась — можно вперед! Женя перебежала дорогу, оглянулась — знакомой фигуры нигде не видно. На залитом светом тротуаре — толпа веселящейся молодежи. «Он там! — подумала Женя и посмотрела на скверик, откуда лилась музыка. — Сейчас мы его поймаем!» Девочка пригнулась и с заговорщическим видом двинулась вперед. Точно охотник, идущий по невидимому следу, мягко и неслышно подкралась она к скверику. Поднялась по гранитным ступеням на широкую аллею, на ту самую, где однажды осенью ребята построили высоченную крепость из кленовых листьев и градом каштанов атаковали ее, Женю. — Как тут красиво! — восторженно прошептала, совсем позабыв, что собиралась кого-то ловить. Остановилась, будто впервые увидела эти светильники. Высокие, похожие на большие кувшины, они излучали густой, ярко-багряный свет, пронизывавший и причудливо окрашивавший кроны деревьев. От этого свечения клены походили на фантастическое литье: тяжелые красные листья горели, как жар, их как будто бы только что вынули из пылающего горна. И стволы, казалось, были отлиты из расплавленного металла. И здесь, и дальше в глубине скверика стояли такие же деревья, залитые жарким огнем. От этого темно-красного света, падавшего на клумбы, на лица прохожих, было и радостно, и как-то немножко тревожно: будто ты входишь прямо в огонь, в зарево. — Как красиво! — проговорила Женя. — Я еще никогда не была здесь вечером. По широкой аллее, прямо сквозь зарево, направилась к летнему павильончику, туда, где звучала музыка и толпилась молодежь. О, мороженое продают! А где мороженое — там непременно ищи «генерала». Очень он любит сливочное! Встала в очередь, шаря взглядом: нет ли его тут? Купила порцию земляничного в вафельном стаканчике. Подошла к столику, у которого одиноко стоял немолодой дяденька, похожий на директора школы. Он равнодушно вычерпывал ложечкой уже растаявшее мороженое и неподвижным взглядом смотрел поверх Жениной головы. «Наверно, ученый, — подумала Женя. — Стоит и задачки решает». Принялась за мороженое. И тут из-за дяденькиной спины вдруг кто-то украдкой зыркнул на нее. Бен! Женя вытянула шею, чтоб рассмотреть: он или не он? Но только качнуло волной стулья, где-то звякнула бутылка и промелькнула чья-то спина да кто-то пробурчал вслед: «Носит тут всяких! Всю воду разлил!» Женя уткнулась в стаканчик. Замерла, неприятно пораженная таким дикарским побегом. Игра игрой, однако… надоело уже. Какие-то дурацкие мальчишечьи коленца. Видно, и сам не знает, чего ему хочется: дружить! Но чтоб никто не видел, не смеялся? Чтоб не уронить в глазах компании своей генеральской чести? А разве не смешнее — дразниться, а когда поблизости никого нет, виновато топтаться, моргать глазами или, как сейчас, крадучись, тайком бегать следом, бояться подойти и открыто сказать: «Прости! Все это — Жабулька, шпионка — ерунда. Ты молоток, честно! Ты прямой человек! И правильно, что все рассказала в школе — про туи и про вранье. Я не сержусь, закон!» И подать руку — мужественно, по-генеральски. А не драпать под столиками… Женя углубилась в свои мысли, и теперь уже дяденька-сосед искоса поглядывал на нее и удивлялся: что за трудные задачки решает эта серьезная ушастая девчонка? А Женя, насупившись, медленно похрустывала сладкой вафлей. Взгляд ее блуждал где-то далеко-далеко, и она даже не заметила, как перед самым ее носом промелькнула волосатая лапка, зачерпнула мороженого и потащила под кофту. Женя очнулась от своих мыслей и, сдерживая смех, легонько шлепнула по лапке. «Ты чего? А ну не хулигань мне тут!» — строго зашептала и локтем прижала Синька. Ну как же, послушает ее Синько — он чавкал под кофточкой, довольно сопел, облизывался: «Дай еще! А то сам возьму!» Верно, понравилось ему мороженое — ладошка требовательно протянулась из-за кофточки. «Ах ты жадина! И в кого только уродился такой!» — улыбнулась Женя. Приветливо кивнула дяденьке и вышла из-за стойки. Шла и думала о том, что Бен, очевидно, подался домой: после кражи отец надрал ему уши и строжайшим образом наказал: «Чтоб сидел здесь взаперти! И не смей выходить, перед людьми нас позорить!» И вот Бен целые дни сидел под арестом, а по вечерам все-таки незаметно выбирался на улицу — хоть на минутку! И скорей назад. Только Женя все это себе представила, как вдруг на аллее, где горели красные огни, увидела Бена. Он стоял в отдалении, спокойно заложив руки в карманы. Облитый сиянием огней, какой-то тревожный в этом освещении, он выжидательно смотрел на Женю. И когда убедился, что она заметила его, сделал какое-то странное движение, точно поклонился ей, потом решительно отвернулся и строевым шагом направился к Стадионной. — Ну? — высунул голову Синько и сердито засопел. — И долго ты будешь смотреть ему вслед? Или, может, мы поедем наконец в город? Давно обещала Женя взять его с собой погулять вечером, когда в городе начинается карнавал огней — лентами, гирляндами вспыхивают они на крышах и на фасадах домов, подсвечивают небо и словно танцуют на волнах Днепра. — Поехали, — сказала Женя. Ей и жаль было, что Бен ушел домой, и вместе с тем стало легче: все-таки игра есть игра, постоянное напряжение — так и жди какой-нибудь нелепой мальчишеской выходки. А теперь можно расслабиться. Можно и попрыгать и побегать, была бы только охота — хоть прямо здесь, под кленами. — Куда бы нам поехать? — остановилась в нерешительности Женя. — На Крещатик или на Владимирскую горку? — На Владимирскую горку! — буркнул Синько. Из скверика они вышли на просторную городскую магистраль. Тут плыла праздничная толпа, катился гомон, шуршали десятки ног. Казалось, что сегодня какой-то всенародный праздник, манифестация, а это был самый обыкновенный весенний вечер, иллюминированный последними бело-розовыми свечками каштанов. Тротуар словно раскачивался от топота сотен ног, а что творилось на мостовой! Живым сверкающим потоком неслись машины по зеленому туннелю, сплетенному из могучих ветвей каштанов. Сверху над дорогой — два ряда матово-белых светильников, бежавших вдаль световым пунктиром, превращаясь затем в тонкую ниточку света. Мягко, приглушенно светили сигнальные огни, и Жене казалось, что это вьются, переплетаясь друг с другом, длинные ленты серпантина — желтые, зеленые, красные. Дома, тротуары, прохожих заливал какой-то фантастический, призрачный свет люминесцентных ламп и неоновых реклам, напоминавший морское свечение или лунное мерцание. И надо всем — роскошные свечки каштанов. — Правда красиво? — сказала Женя, восторженно вбирая взглядом сияние огней. — Подумаешь! — забубнил Синько. — В лесу лучше! У нас там такие карнавалы были, и огней не меньше, особенно над болотом в темную ночь… — Над болотом! Молчал бы уж лучше! Ты сегодня какой-то злой и ворчливый, как старик. Прямо гулять с тобой не хочется! Оба обиженно насупились. Молча двинулись дальше. То есть Женя плыла вместе с толпой, с веселым, празднично одетым людом, а Синько сидел, надувшись, высунув из-под кофты свою недовольную мордочку. — Ну не надо, — сказал он через некоторое время. — Не сердись. Я так просто. Чтоб ты не ходила за этим длинноногим. (Тут Женя не выдержала и хмыкнула.) А если говорить по правде, я тоже люблю твой город. Погляди-ка, погляди сюда, — он ткнул пальцем в слабо освещенный глухой переулок. Там было тихо и безлюдно. И в этой тишине и безлюдье кружил на велосипеде парнишка. Нет, он не просто кружил. Он демонстрировал высочайший класс пилотажа: летал с закрытыми глазами, широко расставив руки, совсем не держась за руль. Вот он сделал один круг, второй, третий, и Женя сначала не поняла: почему он с таким упорством все кружит и кружит на одном месте? И только потом заметила: на одном из балконов, чуть освещенном, стоят девочки, они посматривают вниз, перешептываются. Ага! Это перед ними он демонстрирует «полет вслепую», выписывая с закрытыми глазами на маленьком клочке асфальта четкие «нули» и «восьмерки». — Вот молодец! — заерзал Синько и заметил, что только один его дядька Синтюх Однозубый умел выделывать такие круги. — Дай, я прыгну к нему, покатаюсь на багажнике, — попросил он Женю. — Не надо! Пошли отсюда. — Все вы такие! — опять насупился Синько. — Любите покомандовать! «Глупенький ты! — улыбнулась Женя и вспомнила, как Бен крался за нею. — Не надо мешать. У них своя игра». Пошли дальше по переулку. Становилось все безлюднее, тише. Кое-где в маленьких двориках еще прыгали девочки, доигрывая в классы, кое-где стояли, подпирая стены, парни с гитарами, кое-где под лампочками, раскачивавшимися на проводах, сидели пенсионеры, со всех сторон окруженные мраком, и забивали «козла». Женя свернула в следующий переулок. И вот на фоне вечернего неба возник четкий силуэт верхней станции фуникулера. А за ним — что-то бездонное, подсвеченное снизу… Оттуда веяло прохладой. Они вышли на Владимирскую горку. И когда подошли к железной ограде, Синько ахнул. Вот где действительно была красота! Гора, а под горою — Подол, целый огромный город внизу на равнине. Он лежал весь в огнях, в мириадах огней, то рассыпавшихся бисером, то расстилавшихся дорожками, то свисавших живыми гирляндами. Город, полный огней, словно бы плыл в весеннюю ночь, за Днепр, в окутанные мглой просторы, откуда веяло речной прохладой, лесом, лугами. И тут… Тут Синько дернулся, выскользнул из Жениных рук и кубарем полетел по склону. Женя — за ним. Тут-то она обрадовалась, что надела не выходное платье, а старенькую кофточку; вдвоем они покатились по крутому откосу, визжа и барахтаясь, и были они одинаковыми чертенятами, и одинаково блестели у обоих глаза — от восторга, от детской радости. А гора тихонько двигалась под тяжестью многотонного, гранитного, залитого огнями человеческого чуда — Города. Нахохотавшись вволю, они заспешили к дому.Никогда еще Женя не видела его таким перепуганным. Он задрожал, напряженно вытянул шею и, чуть не плача, залепетал: «Мое бугальце, мое бугальце!..» Это произошло совершенно неожиданно. Они дошли до своей Стадионной и замерли: напротив их дома, в глухом дворике творилось что-то необычное. Горели мощные лампы, толпились люди, звучали громкие мужские голоса — можно было подумать, что идет киносъемка. Но нет, Женя сразу это поняла: ломали старый Кадухин дом, уже давно неприкаянно торчавший на фоне новых красивых зданий. Бульдозер отползал назад, разгонялся и ударял в почерневшие стены дома. С треском, вздымая столбы серой пыли, рушилась трухлявая деревянная хибара, а заодно и забор и ворота, возле которых Вадька Кадуха любил стоять в знаменитой вратарской стойке. («Как совпало! — удивилась Женя. — Снесли старый „Коммунар“ и почти одновременно — это последнее Вадькино пристанище».) Девочка завороженно смотрела на это веселое разрушение: бульдозер сгребал трухлявые доски и обломки кирпича, со скрежетом выворачивал почерневшие, глубоко вкопанные столбы. «Смотри, смотри, падает!» — хотела было сказать Женя, увидев, как крыша боком поехала вниз. Но не успела, потому что именно в этот момент Синько задрожал, задергался у нее в руках и сдавленным голосом пролепетал: «Мое бугало! Мое бугало! Оно там!» Синько дернулся с неожиданной силой, вырвался из рук и, как подстреленный, заковылял через дорогу во двор, где ломали дом. И Женя вспомнила: «Он же говорил, что прячет свой огонек где-то здесь, поблизости, а в том огоньке — вся его сила, и если кто-нибудь затопчет бугало, Синько умрет…» Женя тоже кинулась было к Кадухиному двору, однако войти в него не решалась: вся территория была огорожена колышками с натянутой на них веревкой (знак: «Осторожно! Прохода нет! Идут работы!»), а там, за загородкой, ловко хозяйничали здоровенные дядьки в брезентовых робах. А Синько… А Синька нигде не было видно: может, он забрался в развалины и роется там, ищет свой огонек, а может, уже нашел и побежал домой. И Женя, все время оглядываясь, быстро направилась к своему подъезду.
БЕН: ИЗМЕНА И ОДИНОЧЕСТВО. КТО ЗНАЕТ, ОТКУДА ПРИДЕТ ПОМОЩЬ?
Два момента в своей жизни Бен хотел бы забыть навсегда, выбросить из головы и никогда не вспоминать. Первый — это как они залезли в Т-34 и сторожиха забарабанила палкой по броне, а Бен — к своему удивлению и ужасу — обнаружил, что тот разнесчастный курсантик его обманул. Никакого мотора в танке не было! Не успел Бен прийти в себя от первого потрясения, как Кадуха резким боксерским ударом отправил его в нокдаун, головой в боевое отделение танка. «Идиот! — прошипел Вадька. — Свяжись с такими!» Да, выкинуть из головы, забыть и никогда не вспоминать. Второе, что не давало покоя, — сцена в милиции. Когда их, чумазых, в ржавчине и мазуте, доставили в милицию, выстроили там в ряд (как были — в трусах и в майках) лицом к столу, за которым восседал сержант Рябошапка, и когда сержант Рябошапка угрюмо крякнул ипроизнес из-под козырька: «Ну-с, голубчики, рассказывайте» (а рядом — два милиционера с наганами в кобуре), — случилось что-то невероятное. Сковало страхом. Замаячило: вот прямо так, голых, в подвал… Панченко и Зинчук отвернулись, завсхлипывали, натирая кулаками глаза, размазывая по физиономиям мазут и черную водичку. Бен крепился, но горькие мальчишечьи всхлипывания подействовали на него так угнетающе, а от цементного пола тянул такой жуткий холодок, что и он сморщился, скривился, а в глазах показались слезы. И тут они все трое разом забормотали, что они не хотели, не думали, что больше не будут и т. д. А Кадуха отодвинулся и, со злостью глядя на раскисших дружков, прошипел: «Предатели!» Словом, как-то само собой получилось, что они, все трое, ничего такого не хотели, а потянул их Кадуха. Вот бы забыть и никогда не вспоминать! И еще был один неприятный момент. Это когда домой приехала «скорая помощь» и на носилках забрала деда Андрона. Его выносили втроем, длинного и мертвенно-желтого, с синими, вытянутыми поверх простыни руками. На площадке было никак не развернуться, из всех квартир повыскакивали соседи, и какая-то женщина пробурчала: «Хулиган. Я говорила: доведет он своего деда до смертного приступа». Отец так и вздрогнул от этих слов. Проводил носилки вниз, а вернувшись, хорошенько тряхнул Бена: «Слыхал, что о тебе говорят? Хулиган и вор, вот ты кто!» А потом сообщил, что должен немедленно выехать по неотложному делу, а он, Бен, чтоб сидел дома и не смел высовывать нос на улицу, пока они с матерью не вернутся. И вот уже восьмой день сидел Бен под домашним арестом. Он лежал на тахте — в тенниске с погонами, в летчицком шлеме и, заложив ногу на ногу, думал о том, что самое страшное на свете — это предательство. Бен остался генералом без армии. Когда, нарушая отцовский запрет, он крадучись спускался во двор, его верные соратники, как мыши, разбегались врассыпную — в подъезды, в кусты, за дом. А если кто вдруг зазевается или попытается приблизиться к Бену, немедленно с какого-нибудь балкона раздавалось мелодичное, певучее: «Ко-о-ля! Иго-о-ре-чек! Домой!» И Коля или Игорек как-то боком, насупившись, проходит мимо Бена и прячет глаза. Одним словом, после танковой катастрофы и гибели летнего лагеря Бена сторонились как зачумленного. Одна радость была у него — когда совсем стемнеет, незаметно выползти на улицу и из-за кустов, тайно смотреть на окно… Ну этой… Цыбульки (она хоть не воротит нос, как дружки-изменники). Или согнувшись, прячась и маскируясь, идти следом за ней, за ее упрямым чубчиком, и озираться, чтоб никто не увидел (и она тоже!), ведь такая у него теперь жизнь, подпольная. «И чтоб нос не высовывал на улицу!» — таков был отцовский наказ. Бен лежал на тахте, одолеваемый мрачными мыслями. Нащупал рукой «Спидолу», включил. Грянула музыка. Однако и бравурная мелодия не могла заглушить голодного марша в животе. Целую неделю, с того дня, как увезли деда, Бен сидел на голодном пайке. Снова и снова перед ним вставало фатальное: что есть? В первый день он обнаружил в корзине немного картошки и свеклы и уничтожил их сырыми. Петрушка и фасоль, купленные дедом для борща, — тоже несваренные и непосоленные — отправились вслед за ними. Но это-то было истинное пиршество. Настоящие муки ждали Бена впереди. На третий день он добрался до горчицы и лимонной кислоты. Что же можно из них приготовить? Бутерброд? Но для бутерброда, как минимум, нужен хлеб. И тут мальчик вспомнил: есть полкулька муки! Раньше, бывало, врывался на кухню между битвами и походами, хватал кусок колбасы и запыхавшийся бежал обратно на улицу. И конечно же, не до того ему было (да и мальчишечье ли это дело?), чтоб присматриваться, как там кухарничает дед Андрон и что он приготовляет из муки. Знал только основную идею: из муки что-то пекут. Например, блины. М-да, пекут. А как? Бен почесал затылок и решил: печь так печь, штурмом! Без лишних фокусов! Высыпал муку на сковородку, налил туда воды, размешал и поставил на огонь. И тут на глазах у Бена в сковороде стали твориться невиданные чудеса. Как на опытах по химии. Сначала бурная реакция: белая густая жидкость закипела, весело затанцевали пузыри, взрывались и постреливали вверх вулканчики, потом кипящая магма утихла, но тут на всю кухню подозрительно запахло чем-то едко-горелым. Наверно, готово, подумал Бен. Ткнул пальцем — сверху сырое, а снизу дым идет, пахнет горелым. Выключил газ. И когда попытался соскрести «блин» ножом, впервые в жизни ощутил свое полное ничтожество. Мука спрессовалась, на тарелку шлепнулось что-то уродливое: сверху сырое и тягучее, снизу — твердое и обугленное. Кто бы мог подумать, что печь хлеб — такая сложная штука! Бен согнул своего кулинарного урода, погуще намазал его горчицей, побрызгал лимонной кислотой и едва взял на язык, как слезы градом потекли из глаз. После муки все съестные припасы в квартире кончились. Еще два дня Бен продержался на телепередачах и на сырой воде. И лезли ему в голову разные мрачные мысли: а не лучше ли было пойти вместе с Вадькой в колонию? Во-первых, там хоть был бы гарантированный паек, а во-вторых — это проклятое «предатели» висело бы сейчас не на нем, а на ком-нибудь другом. На пятый день под утро приснился ему страшный и бессмысленный сон: пустыня, Бена засыпало горячим песком, он умирает, а перед ним — ну прямо перед самым носом, только руку протяни! — проезжает свежий румяный пирожок на колесах, а за рулем сидит она — все та же Цыбулько. Бен крикнул. «Жень!» — и проснулся, и понял: срочно надо искать чего-нибудь поесть. Насилу поднялся и, покачиваясь от голодного шума в голове, побрел на кухню. Еще раз прочесал буфет. В верхнем ящике, где дед держал свежий хлеб, булочки, батоны, сайки, — теперь вольготно лежала пустая газета — подстилка. Вынул ее, вытряхнул, потом вытащил ящик и потряс его над столом. Выпало ровно семь крошек, сухих и твердых, как застывший цемент. Немедленно отправил их в рот. Но они только поцарапали горло — есть хотелось еще больше. Бен опустился на колени и, постанывая, облазил и обшарил всю кухню — заглядывал под стол, под холодильник, под умывальник, под батарею. Поиски оказались не напрасными: из-за плиты выкатил три молочные бутылки. Три бутылки — это же капитал! Сорок пять копеек! Так! Но чтобы иметь эти сорок пять копеек в натуре, надо тащиться в молочный магазин. Более того — нужно вымыть заплесневелую стеклотару. Понюхал одну бутылку, вторую: в ноздри ударил такой резкий прокисший дух, что Бен даже зачихал. «Нет, это глупо, — подумал он. — Тратить последние силы на мытье? Может, и так удастся подсунуть?» Сложил грязные бутылки в сетку и, превозмогая слабость, поплелся в магазин, даже не представляя себе, какие проклятия обрушит на его голову продавщица, прежде чем примет эти несчастные три бутылки. Из магазина Бен выскочил как ошпаренный, даже не взглянув, что за продукт всучили ему за стеклотару. Уже дома, когда вылил молоко в стакан, увидел: стоит столбик прозрачной синенькой водицы, а сверху плавает какая-то белая микроскопическая флора. «Ну, аферистка! — выругался Бен. — Видно, позавчерашнее подсунула!» Однако голод не тетка, тут уж не до переборов. Вот только проблема: с чем пить эту кислятину? Еще раз обшарил буфет и в самом дальнем углу наткнулся на две макаронины. Посмотрел сквозь них на солнышко — прозрачные. Пожевал, подержал во рту — непонятное что-то: не соленое, не сладкое и даже тестом не пахнет. Точно пластмасса. Он представил себе, как сидит сейчас за столом Женя Цыбулько, щеки розовые, с ямочками, сидит, обласканная родителями, и уплетает… котлеты или борщ с пампушками. Горькая сиротская обида сдавила горло: «Ну где же родители? Что они застряли? Есть у них сын или нету?» Он жевал напоминавшие стекло макароны, запивал мутно-кислой водой и не подозревал, что через пять минут будет, подобно раненому тигру, метаться по комнате и стонать, держась за живот, а потом до самого вечера не сможет даже выглянуть на балкон. А поздно вечером, сидя на тахте в сумерках, Бен будет вспоминать, какие бутерброды раздавал он во дворе своим прилипалам. Нет, вы только представьте себе: дед тоненько нарезал хлеб, потом — опять тонюсенько — намазывал его маслом, а сверху клал кружочки колбасы, а потом еще кусочек хлеба и еще колбасы или голландского сыру. С ума сойти можно! И эти деликатесы Бен раздавал. Кому? Панченко и Родьке Зинчуку! На своих харчах, можно сказать, выкормил изменников. Да, конечно, изменников! Теперь, после распада его армии, они быстренько перекинулись к заклятому врагу, к атаману из соседнего двора — гитаристу Шурику, к тому самому Шурику, с которым Бен вел постоянные войны. Съесть центнер бутербродов, подхалимничать, заглядывать тебе в глаза, а потом предать — нет, на такое способны только духовные пигмеи. «Предатели!» — презрительно сказал Бен, совсем забыв о том, что этот ярлык Кадуха повесил и на него. Таким нехитрым способом Бен снял с себя позорное клеймо и перенес его на своих дружков. Предали… Бен умирал в гордом одиночестве и ясно видел картину, которой он потрясет не только свой двор, но и весь Киев. Среди бела дня, когда перед домом соберется побольше народу, Бен, шатаясь от голода и страданий, выйдет из парадного, встанет у стены, зажмурит глаза и нацелит дуло автомата прямо себе в грудь. Люди замрут, похолодеют. Не успеют даже ойкнуть… А Бен спокойно (но так, чтобы слышали все) скажет: — Пусть предатели знают, как умирают герои! И выпустит очередь себе в грудь. Крики, шум, толпы народу, похоронная процессия движется к Байкову кладбищу, Цыбулько идет и размазывает по щекам слезы, а все, кто когда-нибудь обижал, осуждал или оговаривал Бена, пусть теперь кусают локти и сгорают со стыда. Три раза в день Бен «расстреливал» себя таким образом. А когда на улице совсем стемнело, одиноко выходил во двор, забивался в глухой угол, где стояли маленькие скамеечки (для детей) и темнела разрытая ребятишками песочница. Там, невидимый миру, Бен сидел на пеньке, прислушиваясь к гулу огромного города, и думал о необъятности мира, населенного лисами, тиграми, ягуарами, индейцами; в этом удивительном мире сквозь тундры, пустыни и саванны пробиваются полудикие племена, и им так не хватает настоящего вождя, полководца, а он сидит тут, на детской площадке, всеми забытый и покинутый, почти что при смерти. В такой критический момент и налетела на него Женя Цыбулько. Бен одиноко сидел в темноте, отощавший, ссутулившийся, и над его печально склоненной головою гудели комары. — Бен, — сказала Женя, — пошли к нам. Мама зовет. — Зачем? — Не знаю. Послала меня найти тебя. Женя знала, зачем мама зовет Бена, но промолчала, и вообще она старалась говорить как можно более спокойным и равнодушным тоном. Дескать, меня послали, вот я и зову тебя. Бен тяжело вздохнул, тем самым как бы говоря: «Ходят тут всякие! Не дадут человеку и умереть спокойно». Однако встал и, оглянувшись по сторонам (нет ли поблизости кого-нибудь, а то не очень-то приятно идти под девчонкиным конвоем), поплелся за Женей. А вскоре на кухне у Цыбулько можно было наблюдать такую сцену: Бен уминал вторую подряд тарелку горячего супа, лицо у него распарилось, волосы нависли на глаза и прилипли к взмокшим вискам. А за спиной мальчика стояла Галина Степановна. Она с жалостью и некоторым ужасом смотрела на Бена, на его растрепанные влажные волосы, на исхудавшее, вытянувшееся лицо, на темные потеки на щеках, на грязную тенниску, на всю его неприкаянную фигуру. Мать все подливала ему супу погуще, подкладывала хлеб и взглядывала на мужа: «Да что же это за родители? Бросить ребенка на произвол судьбы — да у меня бы сердце разорвалось!» Василь Кондратович стоял, опершись плечом о дверной косяк, хмурился, нервно поправлял очки: он понимал возмущение жены. Но что же тут поделаешь?.. У Жени были свои соображения на этот счет: ну сколько можно с этими погонами, саблями, пистолетами? Игрушки! Пора переходить на что-нибудь серьезное — ведь шестой класс уже! Вот если бы был у нее старший брат, чтобы вместе… летом поехать в Пущу… Женя быстро-быстро заморгала глазами, волнуясь от этой тайной своей мысли, посмотрела на Бена: а что, если бы с ним, с Беном, поехать на озеро в Пущу-Водицу? Бен и не подозревал, какие мысли сплетались над его нечесаной головой. Он не видел ничего, кроме тарелки с горячим, дымящимся супом да краюхи пахучего хлеба. И уже через силу доедал суп. Все медленнее и медленнее двигалась ложка, глаза заволокло туманом, сизою мглой, голова склонилась, все тело размякло, расслабилось. И вот, звякнув ложкой об стол, Бен уронил голову на локоть, и в кухне послышалось мирное тоненькое сопение. — Гляди-ко, — тихо проговорила Галина Степановна, — заснул. Намучился бедный. Вдвоем с отцом они осторожно взяли Бена под руки (а был он довольно-таки тяжелый, словно вовсе и не похудел) и отнесли в комнату, уложили на диван. Мать подсунула ему под голову мягкую подушку. Бен зачмокал губами, повернулся к стенке. И, подмяв под себя генеральские эполеты, сладко заснул. А Женя еще немножко постояла над спящим генералом и подумала: как интересно получается: ссорятся, ссорятся люди в классе, во дворе, а случится беда — и они вместе…АВИАБИЛЕТ НА МАНЬКИВКУ
Как-то внезапно — без телеграммы, без всякого предупреждения — приехали Кущолобы и забрали Бена. Нет, не с собой забрали, а взяли его от Цыбулек и отправили в пионерский лагерь. Жалко. А они уже собрались ехать вдвоем на озера. Мама, как настоящий телепат, сразу угадала Женины мысли (и даже не мысли, а первые неясные полужелания). «Почему бы вам, — сказала Галина Степановна за завтраком, поглядывая то на Бена, то на Женю, — почему бы вам не поехать в Пущу-Водицу? Каникулы! Тепло! Возьмете там лодку, покатаетесь. Женю одну мне отпускать страшно». Бен, который сидел насупившись, угрюмо упершись взглядом в землю, при слове «страшно» расправил плечи и твердо взглянул на Галину Степановну: «Со мной — хоть в джунгли. Закон! Никто пальцем не тронет!» (Бен сидел умытый, причесанный, в выстиранной тенниске и, видно, был смущен такой непривычной ему парадностью). Все так просто, так легко получалось: «Поедем!» И тут-то нагрянули Кущолобы. Будто не могли задержаться еще пару дней! Забрали Бена. Жаль. Посоветовались, подумали Цыбулько и на семейном совете приняли решение: отпуск у них неизвестно когда, пусть себе Женя летит пока в деревню к бабушке и побудет там месяц-полтора. Значит — деревня. Завтра в десять пятнадцать. Билет на самолет лежал на тумбочке перед зеркалом, и Женя чуть не каждую минуту подходила, разворачивала билет и с волнением проверяла: точно ли, что на завтра и что именно на десять пятнадцать? А выдворенный из Киева Бен сидел в пионерском лагере, на окраине города, сидел, спрятавшись в кустах сирени, и через дырку в заборе грустно смотрел на безлюдную дорогу в лесу, на неподвижные сосны, на пустое застывшее небо. И видел совсем другую картину, полную движения и жизни: озеро, моторная лодка на крыльях, скорость — триста метров в секунду, никакая акула не догонит; по озеру летят они вдвоем — Бен и немного испуганная Цыбулько. Бен говорит ей: «Ну что? Законно? Крепче держись!» — и делает крутой вираж в воде. В общем, через неделю Бен сбежал из лагеря и тайно прибыл в Киев (где добирался пешком, где в кабине бульдозера — денег-то в кармане не было ни копейки). Прибыл — и такая печальная неожиданность: опоздал! Женя уехала в деревню! Как не повезет человеку, так уж во всем! Под конвоем деда отправили Бена обратно в лагерь… Если бы Женя знала, что так будет, разве поехала бы она в Манькивку? Ни о чем таком не подозревая, Женя собиралась в дорогу. На полу стоял упакованный уже светло-серый дерматиновый чемоданчик. Но каждую минуту его приходилось расстегивать и застегивать. Потому что из кухни то и дело появлялась мама, какая-то озабоченная и растерянная, и несла очередной подарок. — Вот еще, чуть не забыла, косынки. Бабе Паше. Она любит белые косынки, и на солнце в них работать хорошо. Возвращалась на кухню и вот уже снова появлялась с полными руками: — Это лавровый лист, а это перец, а вот пачка какао. В деревне все пригодится. А тем временем Бен выламывал доску в заборе — на будущее, чтобы в подходящий момент, когда лагерь уснет, рвануть назад в Киев. Потом несла какой-то большой сверток: — А это Вовке, племяннику, подарок. Твои брюки. Ты их и не носила совсем, маленькие купили… — Ой, надо бы Клаве чего-нибудь, двоюродной-то сестре. Вот, сережки от меня передай, ей бы только чтоб на нее смотрели, все что угодно на себя нацепить готова. Чемоданчик распух, в него уже больше ничего не лезло. И мама стала паковать сетку, а Женя ворчала, что ей будет тяжело тащиться с этими узлами по деревне. Бен поранил руку о ржавый гвоздь в заборе и, чертыхаясь, слизывал кровь с царапины. Наконец, кажется, все собрано. Галина Степановна бежит на работу — она и так отпросилась на часик, чтобы собрать дочку в деревню, — а Женя остается дома. Одна. Одна во всей квартире. А может, и во всем доме. Летом город перекочевывает на Днепр. И армия Бена разлетелась кто куда — в лагеря, в деревни к родным. Тихо в комнате. Женя садится за свой письменный столик. Окно на улицу открыто, солнце греет ей спину, воробьи постукивают клювами по железному карнизу. Завтра в десять пятнадцать — прямо в космос. То есть в Манькивку. Прощай, письменный столик. И ты, сварливая кровать, и ты, серьезный пузатый шкаф, — прощайте. На месяц, а может, и больше. А теперь молчите и не тревожьте хозяйку. Женя устала. Знаете, что такое сборы в дорогу: то возьми, это передай, то скажи обязательно — у родителей почти в каждом доме в Манькивке родня. (А еще — как-то неспокойно на сердце. Так бывает, когда кто-то из близких поранил себе руку, и вам — даже на большом расстоянии — передается жгучая боль.) Словом, сегодня Женя как следует наработалась. В голове — туман. Хочется посидеть просто так, с закрытыми глазами, и ощутить, как греет солнышко. Тепло, сонно, тишина убаюкивает. И не замечаешь, как нога сама тянется к полу, к нагретому паркету. Еще весной профессор Гай-Бычковский говорил ей: «Ходите, Евгения босиком! Хоть дома ходите. Ежедневно! Категорически вам советую». Теперь Женя так и делает — даже во двор, когда мама не видит, норовит выскочить без обувки. Сейчас она сидит, блаженно разморенная, и до ее слуха долетает легкий шелест листвы за окном, далекое дребезжание трамвая. А босая нога на полу тоже к чему-то прислушивается. О! Слышите? Что-то будто щекочет пятку. Нет, не щекочет, а тихонько покалывает. Как будто в лесу, на холодной земле. Сквозь бетонные перекрытия, через первый этаж, через подвал и двухметровый фундамент, докатывались какие-то подземные толчки, словно бы тайные сигналы. Казалось, что-то маленькое, но упорное прорывалось, раздвигало кирпич, бетон, паркет и вот уже касалось босой ноги, щекотало ее, кололо. Неужели… пробивается подснежник? Как в Пуще-Водице — сквозь лед? Девочка замерла, вся обратилась в слух. Нет, в самом деле! Запах! Вы улавливаете запах — раннего предвесенья, талых снегов, нежный холодный запах подснежников?! И что удивительно, этот запах лился из окна, с раскаленной улицы. И Женя, как однажды с ней уже было во сне, вдруг остро и четко почувствовала, что во всем мире — в трамваях, в метро, в подземных переходах — царит этот неповторимый запах, аромат хвои, дождя, подснежников, свежей зелени. Раскрыла глаза и бросилась к тумбочке. «От земли сила твоя! — вспомнилась ей таинственная надпись в профессорской квартире. — Чувствуешь, как из глубин прорастает подснежник?» Девочка явно что-то задумала. Открыла дверцу тумбочки. На пол вывалились ее старые детские кубики. Уже сто лет не играла Женя этими кубиками. И сейчас постеснялась бы, но — тут она осторожно оглянулась — поблизости никого нет и вообще — кто сказал, что она будет играть? — Товарищи! — громко произнесла Женя (это в ней заговорил оратор-папочка) — Видите кварталы. Их много-много, они так и громоздятся друг на друга. — Она указала пальцем на кубики. — А за ними Пуща, лес подступает к самому городу. Что я предлагаю? — Женя, как Гулливер, возвышалась над своим городом и громко, увлеченно говорила: — Я предлагаю вот что… Она раздвинула тесные кварталы, а на улицы и площади пустила лес, стоящий тут же, неподалеку, в ожидании ее сигнала. Сосны и березы, а за ними и неуклюжие дубы друг за дружкой двинулись в город, заполняя дворы и дворики. Только что здесь сплошной мозаикой рябили крыши домов, а теперь — лесной массив с полянами и просеками, на которых виднеются утопающие в зелени дома. Что еще тут за пустырь в самом центре? А, это овраг и свалка кирпича за стадионом! Непорядок! Пустим-ка туда воду, сделаем пруд, а в таком пруду, на дне которого лежит строительный шлак, говорят, хорошо разводить рыбу. Представляете: профессор Гай-Бычковский прямо с балкона тягает карасей! А Бен со своей командой устраивает на плотах морские баталии! Тем временем Бен замаскировал ветками свежий лаз в заборе и поплелся к посыпанной гравием площадочке, где его отряд строился на линейку. Женя переставляла кубики, и перед нею вырастал прямой, как стрела, бульвар Каштанов, на котором под каждым деревом продавали мороженое. — А я знаю, что ты делаешь, — вдруг услышала она за своей спиной насмешливый голос и вздрогнула от неожиданности. Но тут же успокоилась. Синько! Откуда он взялся? Будто только что из постели вылез — протирает кулачками заспанные глаза. Мало-помалу в его глазах пробуждалось хитрое лукавство и любопытство. — Я знаю, — хвастливо повторил Синько заспанным голосом. — Ты строишь гибридный город. — Точно, — сказала Женя. — А то, вижу, без меня тут дело не пойдет. — И без меня, — уверенно добавил Синько. Он окинул взглядом расставленные кубики, одобрительно хмыкнул: «Ага, хорошо!» — и вдруг спросил: — Послушай, а мне-то ты хоть клочочек болота оставила? — Болота? В городе? — Женины золотистые, светло-карие глаза потеплели; она улыбнулась и легонько пошлепала Синька. — Нет, миленький, прости. Болото в наш город я не пущу. А знаешь, что я лучше сделаю? Поеду завтра и привезу сюда Манькивку. Видишь, вот за стадионом свободное место. Сюда-то мы и переселим Манькивку. И пруд, и скалу, и речку — все перенесем. Только, конечно, дорогу заасфальтируем и школу этажей на двадцать соорудим. И будем мы с тобой бегать в школу мимо пруда. И если уж тебе так захочется, найдешь там себе немножечко болота, чтоб вымазать свою мордочку. Синько еще раз провел своими светофорчиками по кубикам и, кажется, остался доволен проектом города. Особенно понравилось ему, что зелень буйно росла на балконах, поднималась по стенам домов, свисала гирляндами с телеграфных проводов. «Хорошо!» — сказал Синько. Потом взглянул на один из центральных бульваров и нахмурился: — Нет, тут не так. — Он, кряхтя, присел на корточки и поправил кубики. — Не надо милицейских будок. Люди у нас будут ходить на работу лесными стежками, машины помчатся по сосновым просекам, а регулировщиков мы посадим знаешь куда? В дупла дубов! О! И пусть оттуда регулируют движение автобусов, диких козуль, школьников, белок и лесных трамваев. Точно? Синько посмотрел на Женю взглядом, не признававшим никаких возражений. — Принято единогласно! — Женя, смеясь, подняла вверх обе руки. Задумалась — и вмиг ее веселое настроение омрачилось тревогой. — Послушай, — серьезно обратилась она к Синьку. — А где твое бугало? Ты тогда так испугался… — Еще бы не испугаться! Было отчего. Вбежал я во двор, а от Кадухиного дома — только пыль столбом. И сверху на нем бульдозер топчется. А я-то свой огонек в стене спрятал. Днем с огнем не найти. А бульдозер нашел и зацепил ковшом мое бугальце. И только зацепил, как у меня косточка — хрусть! — и выскочила из пятки, и теперь я вечно буду хромать, вот! Синько задрал ногу и показал Жене маленькое красное копытце, отполированное до блеска. (Женя удивленно поморщила нос — где там и какая косточка выпала, ничего не было видно.) А Синько прошелся перед ней, демонстрируя, как он прихрамывает на правую ногу. Хромал и постанывал, но только трудно было сказать, на самом ли деле выпала у него косточка или это он, хитрец, дурачит девочку. Во всяком случае, Женя пожалела его, погладила теплую мохнатую спинку. Синько зажмурился и забормотал, как старичок. Сказал, что теперь-то уж он знает, куда прятать свое бугальце. В старых домах — ни в коем случае! Старое — ненадежно. Синько стал умнее: что на Лукьяновке будет стоять вечно, лет сто, а то и двести? То, что новое и капитальное. Вот он и нашел поблизости небоскреб (целых 24 этажа), совсем новенький, только что построенный, и так запрятал там свое бугальце, что теперь никто, никогда, ни за какие деньги… А потом они дружно взялись за кубики, потому что много еще проблем в их городе нужно было разрешить: как приставить к тучам ковши, чтоб по этим ковшам сбегала дождевая вода, скапливалась в подземных озерцах-резервуарах, а потом била повсюду фонтанчиками — во дворах, на улицах, на клумбах; какую нужно построить оранжерею, чтобы в ней росли и грибы (для Синька!) и подснежники (для Жени), а в школе чтоб прямо от окон начинался бассейн и на переменах проводились бы соревнования ватерполистов и пловцов… Увлеченные работой, они целый час строили свой гибридный город, в который должны были переселиться Пуща-Водица, Манькивка, Днепр, высотные дома, деревья с милиционерами-регулировщиками в дуплах и пруд, на котором будут вестись морские баталии. Вместе ползали по паркету, коротко и деловито переговаривались и каждый по-своему переставлял кубики. Солнце ласково пригревало им спины через стекло, воробьи постукивали клювами по жестяному карнизу за окном. А на тумбочке под зеркалом лежал развернутый авиабилет, как свидетельство того, что начинается школьное лето и что жизнь, по выражению одного великого географа, прекрасна еще и потому, что можно путешествовать. 1974
Последние комментарии
54 минут 13 секунд назад
2 часов 43 минут назад
8 часов 29 минут назад
8 часов 34 минут назад
8 часов 38 минут назад
8 часов 39 минут назад