Игра разума. Как Клод Шеннон изобрел информационный век [Джимми Сони] (fb2) читать онлайн
Книга 678126 устарела и заменена на исправленную
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Джимми Сони, Роб Гудмэн Игра разума: как Клод Шеннон изобрел информационный век
Jimmy Soni and Rob Goodman A MIND AT PLAYCopyright 2017 by Jimmy Soni and Rob Goodman
© Платонова Т.Л., перевод на русский язык, 2017 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Вступление
Гении – счастливейшие из смертных, поскольку то, что они должны делать, полностью совпадает с тем, что им больше всего хочется делать. И даже если их гений не признан при жизни, их главная земная награда всегда с ними – уверенность в том, что они хорошо выполнили свою работу и что эта работа пройдет проверку временем. Кто-то полагает, что гениев меньше всего будет в Царстве Небесном – если они и вправду когда-нибудь увидят его, – но свою награду они уже обрели.Худой седовласый мужчина уже много часов провел на различных заседаниях международного симпозиума по теории информации в Брайтоне (Англия), когда начали распространяться слухи о том, кто он. Поначалу жаждущие получить его автограф собирались маленькими группками, а потом длинные очереди растянулись по коридорам. Вечером на торжественном банкете председатель симпозиума взял микрофон и объявил, что среди собравшихся находится «один из величайших научных умов нашего времени» и он готов сказать несколько слов. Как только мужчина вышел на сцену, его первые слова заглушил гром аплодисментов. Наконец, когда шум стих, гость произнес: «Это так забавно!» Не зная, что еще сказать, он вынул из кармана три мячика и начал жонглировать ими. Когда все закончилось, кто-то попросил председателя оценить случившееся. «Это было, – сказал он, – как если бы Ньютон появился на конференции по физике». Шел 1985 год. Прошло уже почти четыре десятилетия с тех пор, как Клод Элвуд Шеннон огласил свою «магна карта» информационного века – изобрел понятие информации. Но в то же время мир, который стал возможен благодаря его идее, еще только зарождался. Сейчас мы полностью погружены в эту реальность и не задумываемся, что за каждое электронное письмо, которое мы отправили, за каждый DVD и звуковой файл, который мы включили, и за каждую веб-страницу, которую загрузили, мы должны благодарить в том числе и Клода Шеннона. Но он никогда особо и не ждал благодарности. Он был человеком равнодушным к научной славе и независимым от разного рода мнений по любым вопросам, даже касавшимся его самого – особенно его самого, – человеком, любившим побыть наедине, в полной тишине, обдумывая свои самые блестящие идеи в спартанских условиях холостяцкой квартиры и пустых офисах. Один из коллег Шеннона назвал его теорию информации «бомбой». Новая наука, придуманная практически с нуля, поражала своим размахом – и своим неожиданным появлением; на протяжении многих лет Шеннон хранил молчание, едва ли обмолвившись о своей новой идее. Конечно, информация существовала и до Шеннона, подобно тому, как тела обладали инерцией до Ньютона. Но мало кто воспринимал информацию как измеримую величину, область точных наук. До Шеннона информация имела форму телеграммы, фотографии, параграфа, песни. После него информацию разбили на биты. Уже не имело значения, кто отправил информацию, с какой целью, с помощью какого средства, и даже ее формат: телефонный разговор, кусок сообщения «морзянкой», страница из детективного романа – все было подведено под единый общий код. Подобно тому, как геометры полагали, что круг на песке и диск солнца должны быть подвержены одним и тем же законам, а физики формулировали одни и те же законы для колебания маятника и орбит планет, Клод Шеннон сделал возможным наш мир, добравшись до сути информации. Загадка его жизни состоит в том, что человек, столь мастерски абстрагировавшийся от материального мира, смог при этом так талантливо манипулировать им. Шеннон был прирожденным изобретателем-самоучкой: телеграфная линия, смонтированная из колючей проволоки, импровизированное подъемное устройство в сарае и личная дрезина во дворе могут рассказать нам историю его детства, прошедшего в маленьком городке в Мичигане. Это был особый тип изобретателя, ведь он привлек внимание Вэнивара Буша, который вскоре стал самым влиятельным ученым Америки и главным наставником Шеннона. Именно Буш привел его в Массачусетский технологический институт (МТИ) и поручил следить за работой дифференциального анализатора, аналогового компьютера размером с дом, «страшной штуковины с рычагами, ремнями и колесами, вращающимися на дисках», которая стала самой передовой думающей машиной своего времени. Изучение реле, направляющих работу этой махины, помогло Шеннону постичь идею, положившую начало нашему информационному веку: эти переключатели могли делать гораздо больше, чем просто контролировать поток электричества в сети. Их можно было использовать для оценки любого логического утверждения, и даже, похоже, позволять им «решать». Серия бинарных выборов – включение/выключение, правильно/ неправильно, 1/0 – могла, в принципе, служить приемлемой заменой мозга. Этот прорыв, как сказал Уолтер Айзексон, «стал базовой концепцией, лежащей в основе всех цифровых компьютеров», и первым «трюком» Шеннона в абстрагировании. На тот момент ему исполнился всего двадцать один год. Его работа, которая началась с «возможно, самой важной, а также самой известной магистерской диссертации столетия», дала ему шанс познакомиться и сотрудничать с такими мыслителями того времени, как Буш, Алан Тьюринг и Джон фон Нейман, все они, как и Шеннон, основатели нашей эры. Это также позволило ему работать в дальнейшем – пусть и неохотно – с высшим руководством оборонного ведомства Америки, а еще увлечься загадочной работой в области криптографии, участвовать в создании компьютерных систем управления огнем, а также в разработке защищенной трансатлантической телефонной линии, по которой Рузвельт и Черчилль вели переговоры в разгар Второй мировой войны. Кроме того, эта работа привела его в «Лаборатории Белла», промышленную компанию, занимавшуюся опытно-конструкторскими разработками и считавшуюся не столько филиалом телефонной компании, сколько местом «сосредоточения гениев». «Люди из “Лабораторий Белла” добивались потрясающих результатов, – говорил один из коллег Шеннона, – делая то, что другим казалось невозможным». Для Шеннона шагом к невозможному стал, как писал он сам, «анализ некоторых фундаментальных свойств общих систем передачи информации, включая телефонию, радио, телевидение, телеграфию и т. д.» – систем, которые с математической точки зрения не имели между собой ничего общего из того, что могло быть важным, пока Шеннон не доказал обратное. И это стало его вторым и самым величайшим трюком в абстрагировании. До публикации его «Математической теории связи» ученые могли отслеживать движение электронов по проводам, но возможность того, что саму идею, которую они отстаивали, можно измерить – и манипулировать ею – так же реальна, Шеннону еще предстояло доказать. Он пришел к выводу, что всю информацию, вне зависимости от ее источника, отправителя, получателя или значения, можно успешно представить в виде последовательности битов: фундаментальной единицы информации. До выхода «Математической теории связи» век поиска практических решений и интенсивной работы инженерной мысли продемонстрировал, что естественные шумы – издержки окружающего нас физического мира, сопровождающие все наши послания, – это данность, от которой никуда не деться. Но Шеннон доказал, что этот шум можно убрать и что информацию, отправленную из точки А, можно получать в идеальном виде в точке Б, причем не периодически, а всегда. Он предоставил инженерам понятийные инструменты, чтобы оцифровать информацию и передать ее без изъянов (или, точнее сказать, с условно малым количеством ошибок) – результат, считавшийся безнадежно утопичным до тех пор, пока Шеннон не доказал, что это не так. Один из инженеров не мог скрыть своего восхищения: «Как ему удалось постичь эту идею, как он в принципе поверил, что это возможно, я не представляю». Это понимание лежит в основе всех наших телефонов, компьютеров, спутниковых каналов, космических станций, привязанных к земле тонкими проводами из многочисленных «О» и «1». В 1990 году космический аппарат «Вояджер-1», исследовавший Солнечную систему, повернул свою камеру в сторону Земли, сделал фотографию нашего дома-планеты, уменьшив ее размер до менее одного пикселя – то, что Карл Саган назвал «частичкой пыли, зависшей в луче солнца», – и передал через пространство длиной в 6,4 миллиарда километров. Клод Шеннон не записал кода, который бы защитил этот снимок от ошибки и искажения, но примерно четырьмя десятилетиями ранее он доказал, что подобный код должен существовать. И он появился. Это неотъемлемая часть наследия Шеннона, так же как и бесконечный поток цифровой информации, от которой зависит Интернет и наша информационная всеядность, что делает нас современными людьми. К своим тридцати годам Шеннон стал одной из ярчайших звезд американской науки, и доказательством тому было внимание к нему массмедиа и полученные им престижные награды. Но в то же время на пике своей короткой славы, когда с помощью теории информации стали объяснять все, от геологии и политики до музыки, Шеннон опубликовал состоящую из четырех параграфов статью, в которой вежливо просил весь остальной мир освободить его «повозку с оркестром». Нетерпимый ко многим вещам и при этом невероятно одаренный человек, он все равно был далек от любых проявлений амбиций, эгоизма, алчности или других неприглядных факторов достижения благополучия. Его лучшие идеи были опубликованы спустя годы, а его интерес выходил за рамки личных устремлений. Завершив свой новаторский труд в возрасте тридцати двух лет, он мог провести оставшиеся десятилетия жизни, почивая на лаврах научного гения, знаменитого изобретателя – еще один Бертран Рассел, или Альберт Эйнштейн, или Ричард Фейнман, или Стив Джобс. Вместо этого он, как раньше, мастерил и изобретал что-то. Электронную мышку по имени Тесей, которая могла находить выход из лабиринта. Механическую черепаху, гулявшую по дому. Первую программу для компьютера, играющего в шахматы, – отдаленный предшественник разработанного компанией IBM шахматного суперкомпьютера Deep Blue. Самый первый переносной компьютер. Калькулятор, работавший с римскими цифрами, под кодовым названием THROBAC («Thrifty Roman-Numeral Backward-Looking Computer»). Целый парк изготовленных на заказ одноколесных велосипедов. Посвятил годы научному исследованию процесса жонглирования. И конечно, шуточную машину «Ultimate Machine»: коробку с переключателем, при включении которой слышалось жужжание механизмов, затем из коробки появлялась механическая рука, нажимала на выключатель и снова исчезала. Если говорить о самом Клоде Шенноне, то он был так же скромен, как этот механизм. Редко встретишь мыслителя, который посвятил свою жизнь изучению проблем связи, будучи абсолютно некоммуникабельным человеком. В профиль он был почти бесплотным: костлявая палка, а не человек. Личность, практически стертая со страниц истории, написанной теми, кто сам себя рекламировал. Шеннон предпочитал проводить свою жизнь за любопытной и серьезной игрой. Он был тем редким научным гением, которому точно так же было интересно конструировать жонглирующего робота или выбрасывающую пламя трубу, как в свое время открывать цифровые сети. Он работал легко и играл серьезно, и никогда не видел разницы между тем и другим. Его гений выходил за рамки принятого, руководствуясь лишь желанием решить те загадки, которые он выбрал сам. И отзвуки его игривого ума, размышлявшего над тем, как коробка с электрическими переключателями может имитировать работу мозга, ума, который вопрошал, почему никто еще не решился сказать «XFOML RXKHRJFFJUJ», можно найти во всех его самых глубоких идеях. Возможно, будет лишним предположить, что характер эпохи носит некую печать характера ее создателей. Но было бы приятно думать, что так много всего важного для нас было задумано в духе игры.Уистен Хью Оден
Часть 1
1. Гэйлорд
110 алмазов, «и ни одного маленького», 18 рубинов, 310 изумрудов, 21 сапфир, 1 опал, 200 колец из чистого золота, 30 цепочек из чистого золота, 83 золотых крестика, 5 золотых кадильниц, 197 золотых часов и 1 громадная золотая чаша для пунша – и все это именно в том месте, на которое указал шифр. Это содержимое пиратского клада, зарытого на глубине пяти футов в земле Южной Каролины, в тени сучковатого тюльпанного дерева. Но история не заканчивается находкой. Она заканчивается шифром. Уильям Легран обнаружил его на старом пергаменте, выброшенном на берег после кораблекрушения. На протяжении нескольких месяцев он изучал шифр при свете камина, чтобы разгадать его, и теперь, заполучив клад, спокойно сложил пересчитанные алмазы в углу, подробно объясняя все молодому человеку, которого он нанял, чтобы выкопать клад. Все гораздо проще, чем выглядит: 53##+305))6*;4826) 4#.) 4#); 806*;48+81 160))85;;]8*;: #*8+83 (88)5*+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:*#(;4956*2(5*=4)81 18*; 4069285);)6+8)4##;1#9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528806*81 (#9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188;#?; Посчитай, как часто появляются эти символы, а потом сравни их с самыми распространенными буквами в английском языке. Предположим, что самый часто встречающийся символ – это самая часто встречающаяся буква: 8 означает «Е». Самое распространенное слово в английском языке – это частица «the», значит, нужно искать повторяющуюся трехбуквенную последовательность, заканчивающуюся на 8. Последовательность 48 встречается семь раз: если она шифрует частицу «the», то мы знаем, что; обозначает «Т», а 4 обозначает «Н». От этих трех букв переходим к новым буквам.;(88 может быть только «tree», а значит, (означает «R». Каждый разгаданный символ помогает разгадать новые символы, и вскоре из общего «шума» вырисовываются указания, где зарыт клад. Эдгар Алан По написал шестьдесят пять рассказов. Этот рассказ, «Золотой жук», единственный заканчивается лекцией по криптоанализу. И это любимый рассказ Клода Шеннона.В этом месте заканчиваются границы Гэйлорда, штат Мичиган. Дороги становятся непролазными от грязи и переходят в картофельные поля. Центральная улица, Мейн-стрит, остается всего в нескольких кварталах позади. Впереди тянутся поля и загоны для откорма скота, мичиганские яблочные сады, участки леса из клена, бука, берез, стоит лесоперерабатывающая фабрика, которая производит доски и брус. Колючая проволока проходит вдоль дорог и между пастбищами, и Клод гуляет вдоль оград – особенно вдоль одного участка длиной в полтора километра. К участку Клода подведено электричество. Он сделал это сам: подсоединил на обоих концах сухие электрические батарейки и вставил свободную проволоку во все промежутки, чтобы ток шел непрерывно. В качестве изоляции он использовал все, что было под рукой: кожаные ремни, горлышки от стеклянных бутылок, сердцевину кукурузного початка, кусочки автомобильной камеры. Панели с кнопками, установленные в двух местах – одна в доме Шеннона на улице Норт-Сентер, вторая в доме его друга в полукилометре, – превращали этот участок колючей проволоки в импровизированный частный телеграф. Даже несмотря на то, что проволока была изолирована, «телеграф» молчал месяцами, покрытый снегом и льдом в два пальца толщиной. Но когда ограда оттаивала и Клод чинил линию, электричество снова бежало от дома к дому, и друзья снова могли общаться со скоростью света, и, что лучше всего, с помощью шифра.
Эдгар Алан По написал шестьдесят пять рассказов. Этот рассказ, «Золотой жук», единственный заканчивается лекцией по криптоанализу. И это любимый рассказ Клода Шеннона.В 1920-е годы, когда Клод был еще мальчиком, порядка трех миллионов фермеров переговаривались по таким вот сетям в тех местах, где телефонная компания посчитала для себя невыгодным тянуть линию. Это была американская народная сеть. Более совершенные, чем у Клода, системы позволяли передавать голос по заборной проволоке до ближайшего коммутационного щитка, который обычно располагался в магазинах или у кого-то на кухне. Но самый интересный участок ограды в Гэйлорде был тот, который передавал информацию Клода Шеннона. И откуда только берутся такие мальчики?
Сообщая о свадьбе родителей Клода Шеннона, газета «Otsego County Time» дала сбивавшее с толку объявление: «Бракосочетание Шеннона и Вулф: свадьба состоялась в Лансинге в среду. Дата бракосочетания держалась в строжайшем секрете». Судя по газетной статье, Клод Шеннон-старший умудрился жениться в тайне от всех. В тот вторник, 24 августа 1909 года, к концу третьего лета Шеннона в этом городе, на двери его мебельного магазинчика появилась табличка: «Если что-то понадобится, обращайтесь к Д. Ли Морфорду». В тот вечер Шеннон-старший уехал ночным поездом в Лансинг, к родителям своей невесты, Мэйбл Вулф. «То безразличие, которое мистер Шеннон проявил в ожидании поезда, запаздывавшего почти на час, говорило о том, что он абсолютно доволен тем, что никто и не догадывается о его отъезде», – сообщалось в газете. На следующий день, в шесть часов, он женился на Мэйбл. Церемония прошла скромно. На невесте было «свадебное платье из белой парчи с кружевом по кокетке и сетчатая вуаль с диадемой, отделанной мелким жемчугом». Похоже, жених утаил информацию о свадьбе, только чтобы свести число гостей к приемлемому количеству. Несмотря на то что газета выразила удивление неожиданным отъездом Шеннона в Лансинг, оставшаяся часть статьи была сплошь искренними и добрыми пожеланиями от жителей маленького городка. «Мистер Шеннон, жених, за то время, что он проживает в нашем городе, обрел много добрых друзей по работе и просто так, – отмечалось в газете, – а мисс Вулф, невеста, за годы преподавания в местной средней школе успела полюбиться многим жителям. Мистер и миссис Шеннон, примите поздравления от нашей газеты Times и ваших многочисленных друзей». Это ничем не примечательное свадебное объявление, размещенное на первой полосе газеты, ярко свидетельствует о масштабе городка Гэйлорд, штат Мичиган. Но в то же время Шенноны были теми людьми, дата свадьбы которых должна была быть известна всем. Клод-старший и Мэйбл были яркой полоской на ткани Гэйлорда. Они были общительными и активными прихожанами местной методистской церкви. В центре Гэйлорда стояли два известных сооружения, построенных Клодом-старшим: здание почты и салон для показа образцов мебели с масонской ложей, скрытой наверху. Клод Элвуд Шеннон-старший родился в 1862 году в Оксфорде, штат Нью-Джерси. Он был коммивояжером и прибыл в Гэйлорд в самом начале нового века, положившись на удачу. Он сделал свою ставку – выкупил бизнес, связанный с мебелью и похоронными принадлежностями, полагая, что это прибыльное дело. «Это то, что должно быть в каждом доме. Самое лучшее. Новый стиль более привлекателен. Зайдите и взгляните на нашу новую линию мебели», – было написано в стандартном газетном объявлении, подписанном «К. Э. Шеннон, мебельщик». Во времена детства Клода-младшего Гэйлорд был городом с населением в 3000 человек, а Клод-старший был отцом города: членом школьного комитета, комитета по вопросам бедных, окружного комитета по организации ярмарок, владельцем похоронного бюро, членом масонской ложи и покровителем Ордена Восточной звезды – тот тип республиканца, для которого было придумано слово «непоколебимый». Самым значительным временем его карьеры стали одиннадцать лет, которые он провел, работая судьей по делам о наследстве, завещаниях и опеке округа Отсего – именно тогда его стали называть «судья Шеннон». Он решал вопросы, связанные с земельными участками, разрешал некрупные финансовые споры, выполнял функции публичного нотариуса и считался местным политиком и видной фигурой. Его общественная работа, пусть и скромная и осуществлявшаяся в свободное время, была оценена по достоинству. В 1931 году в местной газете были опубликованы две колонки с кратким биографическим очерком в честь двадцатипятилетнего юбилея «прибытия» мистера Шеннона в город, где его описывали как «одного из наших самых патриотически настроенных граждан, движимых заботой об интересах общества…»: «За долгие годы он заработал себе репутацию успешного бизнесмена, во многом благодаря его великолепным исполнительским качествам и настойчивости в достижении целей». Клод-младший впоследствии найдет не так много слов, чтобы охарактеризовать своего отца: умный, сдержанный. «Иногда он помогал мне собирать мой детский конструктор, – вспоминал он, – но на самом деле отец не прививал мне особой любви к наукам». Клоду-старшему было уже шестьдесят девять лет, когда сын окончил среднюю школу. Клод был поздним ребенком. Мэйбл Вулф стала второй женой Клода-старшего. Она вышла за него замуж в возрасте двадцати девяти лет, довольно поздно для женщины по меркам того времени. Она была на восемнадцать лет моложе своего супруга, родилась в Лансинге 14 сентября 1880 года и была представительницей первого поколения американцев. Ее отец эмигрировал из Германии, поступив на службу в армию Союза, прошел Гражданскую войну в США, будучи снайпером, и умер еще до того, как Мэйбл, его последний ребенок, появилась на свет. Ее овдовевшая мать с трудом растила шестерых детей одна в незнакомой стране. Лишь немногие женщины в аграрном штате Мичиган имели высшее образование; у Мэйбл Вулф оно было. Она приехала в Гэйлорд с «блестящими рекомендациями» своих профессоров и занялась тем, что считалось в то время обычной работой для образованной и независимой женщины: преподаванием. Со временем Мэйбл возглавила Гэйлордскую среднюю школу, проработав на этом посту семь лет. Она была, по всеобщему признанию, активным и энергичным учителем и администратором. Она тренировала первую в школе женскую баскетбольную команду и находила деньги на форму и поездки. Но, несмотря на всю ее успешную работу, в 1932 году в газете было напечатано следующее: «На собрании школьного комитета было решено не брать на работу учителем в ближайший учебный год замужних женщин в силу финансовых причин. Если муж в состоянии содержать семью, то было бы несправедливо лишать незамужних женщин возможности заработать. Миссис Мэйбл Шеннон, миссис Лайонс и миссис Мелвин Кук будут исключены из школьной системы в соответствии с этим правилом». Но на тот момент Мэйбл уже было чем заняться помимо преподавания. Она была певицей и музыкантом местного значения, стала членом библиотечного комитета и общества «Пифийские сестры» и прослужила срок в качестве президента Гэйлордского научного клуба. В то свободное время, когда она не занималась делами Красного Креста или родительского комитета, она пела своим красивым контральто на городских мероприятиях и проводила музыкальные вечера в гостиной дома Шеннонов. В 1905 году она получила главную роль королевы Елизаветы в оперетте «Две королевы», поставленной в местном оперном театре. Расположенный в центре северной части мичиганского центрального плато, Гэйлорд получил свое название в честь работника мичиганской центральной железной дороги, которая связывала множество подобных отдаленных городков со стремительно растущим пересадочным центром в Чикаго. Судьба Гэйлорда определялась его топографией и климатом, идеальным для здешних миллионов гектаров леса. Леса обеспечивали развитие лесообрабатывающей промышленности. И первые поселенцы готовы были сражаться с климатом в обмен на щедрые запасы белой канадской сосны и твердой древесины. Но климат был суров, с температурами ниже нуля и бескрайними снежными озерами. Местные историки, ведущие хронологию тех мест начиная с 1856 года, сделали вывод, возможно, чтобы потрафить самим себе, что суровый климат наложил отпечаток на характер и душевные качества местных жителей. «Тот факт, что первые поселенцы Северного Мичигана сталкивались с гораздо более серьезными трудностями, обеспечивая себя жилищем и всем необходимым, развило в них ту степень агрессивной энергии, что стала местной отличительной чертой… сформировав великолепный тип настоящего мужчины и настоящей женщины – самодостаточных, сильных, целеустремленных, предприимчивых и добродетельных». К тому времени, когда Клод-старший и Мэйбл стали родителями – их дочь Кэтрин родилась в 1910 году, а малыш Клод-младший в 1916 году, – первые поселенцы давно покинули эти места. Границы города и местные отрасли производства были определены: Гэйлорд славился своим сельским хозяйством и лесозаготовками, а также легкой промышленностью. По мере расширения сети железных дорог Гэйлорд оказался на пересечении ключевых линий. Он стал главным городом округа. На Мейн-стрит начали открываться банки и компании, а население города росло и селилось вокруг них. И все же Гэйлорд оставался скорее деревней, чем городом, отличаясь своим подходом к решению дел: десять бочек, лесовозные сани, мощные колеса для транспортировки древесины.
Биографии гениев часто начинаются с историй о слишком требовательных родителях. Можно вспомнить отца Бетховена, пытавшегося сделать из сына чудо-ребенка. Или отца Джона Стюарта Милля, заставлявшего своего сына учить греческий уже с трех лет. Или отца Норберта Винера…Гэйлорд был местом, где буквально каждое событие становилось темой для обсуждения. Вот некоторые заголовки и выдержки из окружной газеты: «Девушка из Висконсина убила волка шваброй», «Женщина, курившая сигарету на Мидвей, привлекла внимание, и далеко не всем понравилось это зрелище», «Дровосек умер от апоплексического удара», «Верн Мэтте потерял палец», «Собираем всех желающих обсудить свойства артишока». А как-то в сентябре в газете напечатали поэму длиной в целую заметку, посвященную наступлению дивной осенней поры: озёра днем, как голубые зеркала, и «блики серебра» ночью, а начищенная до блеска луна такая яркая, что может осветить печатную страницу. Клоду было три года, когда открылась местная закусочная под названием «Шугар Боул» – еще один заголовок местной газеты. Вот что сообщалось в статье: «Первая фирма на Мейн-стрит, которая установила наружную светящуюся вывеску. В те дни Мейн-стрит была такой темной, что однажды группа “Вилладж Бэнд” дала концерт после наступления темноты, играя под этой вывеской».
Биографии гениев часто начинаются с историй о слишком требовательных родителях. Можно вспомнить отца Бетховена, пытавшегося сделать из сына чудо-ребенка. Или отца Джона Стюарта Милля, заставлявшего своего сына учить греческий уже с трех лет. Или отца Норберта Винера, заявившего на весь мир, что, имея достаточно времени и придерживаясь строгой дисциплины, он может сделать гения даже из метлы. «Норберт всегда чувствовал себя так, словно он и есть эта метла», – отмечал впоследствии его современник. В сравнении с этим детство Шеннона было самым обыкновенным. Не было никаких упоминаний о том, что в детские годы Клод подвергался излишнему давлению со стороны родителей. И если он и демонстрировал какие-то признаки раннего развития, то не столь заметные, чтобы о них писать или упоминать в местной прессе. На самом деле гордостью семьи была его старшая сестра: она с отличием окончила школу, в совершенстве овладела игрой на фортепьяно и забрасывала своего брата математическими задачками, которые придумывала сама. Она также считалась «одной из самых популярных девушек Гэйлорда». «Она была образцовой ученицей, и я за ней не поспевал», – признавался Шеннон. Годы спустя он высказал предположение, что, возможно, некоторая детская ревность спровоцировала его изначальный интерес к математике: заметная увлеченность его старшей сестры цифрами вдохновила и его. В ранние школьные годы Клод тоже добивался успехов. В 1923 году в возрасте семи лет он выиграл конкурс по сочинению для третьеклассников в честь Дня благодарения. Его сочинение называлось «Бедный мальчик»: «Жил-был бедный мальчик, который думал, что у него никогда не будет ужина в День благодарения, потому что он думал, что все его друзья забыли о нем. Но даже если они и забыли о нем, один человек не забыл, потому что он решил сделать сюрприз для маленького мальчика ранним утром в День благодарения. Итак, рано утром, когда он проснулся в День благодарения, он обнаружил у двери корзину с разными вкусностями. Там было так много разной вкусной еды, и он так радовался весь день и никогда не забывал этого доброго человека». Клод играл на альтгорне и участвовал в школьных музыкальных спектаклях. Пятьдесят девять лет спустя он все еще помнил имена своих одноклассников. Вот что он написал учителю, который у него был в четвертом классе: «Спустя полвека в памяти всплывают некоторые имена: Кенни Сиссон, Джимми Нельсон, Ричард Корк, Лайл Титер (который покончил собой), Сэм Куа, Рей Стоддард, Мэри Глазго, Джон Криске, Уиллард Томас (толстячок), Хелен Роджерс (толстушка), Кэтлин Аллен (умная девочка), Хелен Маккиннон (красивая девочка), Мэри Фитцпатрик и, конечно, Родни Хатчинс». Он держал в руках копию черно-белого снимка четвертого класса 1924-25 гг., столь уменьшенную при копировании, что понадобилась лупа, чтобы рассмотреть лица детей и его собственное лицо восьмилетнего мальчика. Худой и застенчивый, даже в те годы; внимательный взгляд. Он также вспомнил, конечно же, из собственного опыта, что «мальчики в тех классах обычно влюблялись наивной подростковой любовью в своих симпатичных учительниц». Вспоминая о своих годах учебы теперь уже с позиций умудренного опытом человека, Шеннон отмечал, что его интерес к математике, помимо детского соперничества, объяснялся очень просто: она легко давалась ему. «Я думаю, что человека обычно привлекает то занятие, с которым он легко справляется», – признавался Шеннон. В старших классах Клод проучился три года; он окончил школу на год раньше всех остальных детей на снимке. Но при этом он не был лучшим учеником в классе. Когда в 1932 году в местной газете назвали трех учеников – круглых отличников из его школы, Шеннона среди них не было. Он обожал науку и не любил факты. Или, точнее, не любил те факты, которые он не мог подвести под общее правило и обобщить их. Так, например, он с трудом выносил химию. «[Она] всегда казалась мне немного скучной, – писал он своему учителю годы спустя, – слишком много изолированных фактов и слишком мало общих принципов, на мой вкус».
Его ранние таланты проявлялись и в области механики, и в точных науках. Клод мог часами конструировать руль модели самолета, или пропеллерный вал, или игрушечную лодку. Все сломанные в Гэйлорде радиоприемники, похоже, проходили через его руки. 17 апреля 1930 года тринадцатилетний Клод участвовал в слете бойскаутов и занял «первое место в конкурсе на подачу сигналов». Целью конкурса было передать сообщение по принципу азбуки Морзе ярким сигнальным флагом (красный цвет лучше всего заметен на фоне неба) на длинном шесте из орешника. И ни один скаут в округе не «говорил» так быстро и точно, как Клод. Посредственным сигнальщикам требовались паузы, чтобы подумать. Самые лучшие, и среди них Клод, действовали, как автоматы. Движение флагом вправо означало точку, влево – тире. Аналогично принципу действия телеграфа, точки и тире создавали «разрывы» в воображаемом электрическом токе и складывались в слова. Шеннон был человеком-телеграфом.
Аналогично принципу действия телеграфа, точки и тире создавали «разрывы» в воображаемом электрическом токе и складывались в слова. Шеннон был человеком-телеграфом.В их семье эти таланты передавались по наследству – ну, может быть, через поколение. Похоже, Клод пошел в своего деда, Дэвида Шеннона-младшего, который мог похвастаться личным патентом под номером 407,130 на ряд усовершенствований для стиральной машины, в том числе поршня и клапанов для сброса «грязи, осадка и мусора». Дэвид Шеннон умер в 1910 году, за шесть лет до рождения своего внука. Но для Клода-младшего, с его тягой к механике, наличие в семье сертифицированного изобретателя было предметом особой гордости. И внук унаследовал дедовскую страсть мастерить. «Еще мальчиком я сконструировал много вещей с механической начинкой, – вспоминал он. – Конструкторы и электрическое оборудование, радиоприемники и все в таком роде. Я помню, что у меня была радиоуправляемая лодка». Соседка Клода Ширли Хатчинс Джидден в интервью «Отсего Херальд Таймс» высказала мнение, что Шеннон и ее брат, Родни Хатчинс, были двумя конспираторами. «Они с моим братом всегда были чем-то заняты – все их проекты были безопасными, но очень изобретательными». В другом интервью она сообщила: «Клод был мозгом, а Родни – зачинщиком». Один их эксперимент был особенным: самодельное подъемное устройство, которое двое мальчиков собрали в сарае Хатчинсов. Ширли была «подопытным кроликом», первой, кто прокатился на подъемнике. И это, несомненно, красноречиво говорит о качестве работы мальчиков (или об удаче женщины), раз она вспомнила об этой истории даже семь десятилетий спустя. Это было одним из их многочисленных хитроумных изобретений, включая вагонетку во дворе Хатчинсов и личный проволочный телеграф. «Они постоянно что-то замышляли», – вспоминала Джидден.
Совсем не удивительно, что Клод боготворил Томаса Эдисона. И все же сходство между ним и Эдисоном было не просто случайностью: у них был общий предок – Джон Огден, пуританин каменотес, который покинул родной Ланкашир (Англия) и пересек Атлантику, чтобы строить зерновые мельницы и плотины. Вместе со своим братом Огден воздвиг первую постоянную церковь на Манхэттене, в трех километрах от того места, где три века спустя его потомок Клод Шеннон заложит основы века информации. Постройка сооружения была завершена к весне 1644 года – готическая церковь с двумя остроконечными башнями на южной оконечности острова, укрепленная стеной голландской крепости. Деревянная черепица на крыше означала, что время и дожди превратят ее в подобие дорогой синевато-серой шиферной плитки. Говорят, что Огден, который продумал все детали постройки, от фундамента до розы ветров, был сухопарым мужчиной с орлиным носом и упрямым, как кремень. Он был одним из строителей «нового мира». «Большинство из нас, – замечал Клод, – менее требовательны, чем можно предположить, в выборе своих идолов: из несметной армии героев мы выбираем тех, кто уже напоминает нам нас самих». Возможно, именно так и случилось с Клодом и его дальним родственником Эдисоном – пусть даже Шеннон обнаружил эту связь спустя годы после отъезда из Мичигана. Счастливчики те, кто знает, что их идол принадлежит их собственной семье, а Клод был именно таким счастливчиком.
2. Энн-Арбор
«Отлично» по математике, естествознанию и латыни, «хорошо» по остальным предметам: шестнадцатилетний выпускник средней школы отправил свой аттестат в Мичиганский университет, заполнив также трехстраничную форму заявления, в которой по ходу исправлял орфографические ошибки. Зарабатывали ли вы деньги в процессе обучения в средней школе? Да. Каким образом? Разнося газеты и доставляя телеграммы. В тот год, когда он подал документы в Мичиганский университет, сестра Клода окончила его. Юношу приняли. Город Энн-Арбор казался ему в те годы центром притяжения всего рода людского.Энн-Арбор расположен в трехстах километрах к юго-востоку от Гэйлорда. Город с крутыми холмами и долинами, расположенными на глинистых берегах мелководной и неспешно текущей реки Гурон. Река определила судьбу Энн-Арбора, превратив его в фабричный город: берега реки буквально испещрены лесопилками и мукомольнями, которые формируют экономику края. Поток эмигрантов хлынул сюда в основном из Германии, но также из Греции, Италии, России и Польши. Этнические связи становились глубже, а церкви усиливали свое влияние за счет новых прихожан. К началу двадцатого века половина населения Энн-Арбора была либо иностранцами, либо рожденными в семьях иммигрантов.
И все равно время для Шеннона было удачным. Окажись он там на десять или двадцать лет раньше, он не извлек бы той выгоды, которую получил благодаря трансформации и реорганизации университетской инженерной программы.Эти люди подпитывали город неуемным оптимизмом. На пороге нового столетия, которое принесет испытания Великой депрессии и двух мировых войн, в газете «Энн-Арбор Аргус Демократ» в 1901 году вышла статья, в которой смело заявлялось о том, что «наступающий век, без всяких сомнений, должен стать самым богатым и самым лучшим в истории человечества». После случившегося в октябре 1929 года краха фондовой биржи газета «Энн-Арбор Дэйли Ньюс» публиковала данные о краткосрочном росте биржевого курса, вместо того чтобы сообщать об оглушительных падениях. Даже в декабре 1929 года – после того, как разом испарилось состояние размером в более чем 30 миллиардов долларов, банки требовали возврата займов, а промышленное производство остановилось – мэр Энн-Арбора, Эдвард Стэблер, оставался неизменно жизнерадостным, уверяя местных жителей, что экономика восстановится и город переживет бурю. На президентских выборах 1932 года Энн-Арбор проигнорировал весь штат Мичиган. Франклин Рузвельт победил с подавляющим большинством голосов в Мичигане и еще в сорока одном американском штате. Но Энн-Арбор оставался непоколебимо верным Герберту Гуверу. Передовицы «Дэйли Ньюс» обещали скорое восстановление экономики и убеждали избирателей не возлагать вину за экономические проблемы на президента Гувера. Его коллеги – республиканцы не покидали местные конторы в Энн-Арборе – одном из немногих мест, где последователи президента принесли больше пользы, чем вреда. Мичиганский университет также впитал спокойную уверенность города. «Я ни капли не унываю, – заявил президент университета А. Г. Рутвен в 1931 году. – Должен признать, что сокращение наших финансовых ресурсов позволило мне внести некоторые организационные изменения, которые, на мой взгляд, принесут в будущем пользу». Но к тому времени, когда Клод Шеннон прибыл в университет осенью 1932 года, этот неуклонный позитивный настрой иссяк. Финансовый крах заставил Мичиганский университет – крупнейшего работодателя Энн-Арбора и его экономический двигатель – сократить число студентов, остановить строительство новых корпусов и урезать зарплаты на 10 процентов.
И все равно время для Шеннона было удачным. Окажись он там на десять или двадцать лет раньше, он не извлек бы той выгоды, которую получил благодаря трансформации и реорганизации университетской инженерной программы, происходившему в самом начале двадцатого столетия. Под руководством декана Мортимера Кули, необычайно предприимчивого университетского администратора, в колледже инженерного дела «численность учащихся… выросла с 30 человек до 2000 и выше. Если раньше на факультете три преподавателя читали несколько курсов, то теперь здесь работало свыше 160 профессоров и преподавателей, ведущих сотни курсов. А временное помещение площадью 1720 квадратных футов заменили отлично оборудованные корпуса общей площадью более 500 000 квадратных футов». Количество студентов, обучавшихся инженерному делу, превышало даже число студентов на медицинском и юридическом факультетах. Когда их численность уже грозила превысить численность студентов самой крупной университетской школы, колледжа литературы, декан Кули заметно обрадовался и со своей характерной усмешкой воскликнул (обращаясь к профессору Харви Голдингу): «Ей-богу, Голдинг, мы их обойдем!» Современный, повидавший мир и политически подкованный, Кули впервые попал в Мичиганский университет, будучи действующим офицером морского флота. Он был назначен профессором, ведущим курс морской инженерии и крупного судостроительства. Спустя четыре года командование флота разрешило ему выйти в отставку, а руководство университета предложило подходящую профессорскую должность. В 1895 году тогдашнему декану школы инженерного дела, Чарльзу Грину, поставили задачу подготовить план нового корпуса с учетом роста численности студентов школы. Просьба Грина выделить 50 000 долларов на постройку маленького U-образного здания была выполнена. Он умер, так и не успев довести до конца строительство, а на его место заступил декан Кули. Когда его попросили оценить планы и финансовые потребности, заявленные его предшественником, Кули заявил: «Джентльмены, если бы вы только могли увидеть другие колледжи инженерного дела, с которыми мы вынуждены конкурировать, вы бы, ни на секунду не задумываясь, выделили нам четверть миллиона долларов». Было что-то в сдержанной уверенности Кули, что повлияло на настрой совета директоров, и его просьба была тут же выполнена. Открывшаяся в университете в 1913 году публичная выставка продемонстрировала все выгоды такого проекта, превратив учебное заведение в некое подобие всемирной выставки-ярмарки. В те дни десять тысяч человек пришли, чтобы своими глазами увидеть новые здания и познакомиться с последними чудесами технологии. Инженеры-электромеханики отправляли сообщения с помощью примитивной беспроводной системы. Инженеры-механики «удивляли своих гостей, распиливая дерево кусочком бумаги, вращавшимся со скоростью 20 000 оборотов в минуту, замораживая цветы в сжиженном воздухе и демонстрируя бутылку, установленную на двух узких проволоках, из которой постоянным потоком текла вода – тайна, понятная лишь немногим». Завершали демонстрацию две полноценные торпеды, две большие пушки и «электрическая железная дорога с системой блокировки». «Для среднестатистического студента, как и для обычного посетителя выставки, инженерный уголок кампуса приготовил тайны не менее увлекательные, чем самые запутанные секреты уголка медицинской школы», – отметил один журналист. Проект Кули по расширению инженерного колледжа изменил и всю университетскую образовательную программу в целом. За восемь лет до рождения Шеннона в колледже появились курсы по теории беспроводного телеграфа и телефонии, с учетом растущей коммерческой потребности в инженерах, владеющих знаниями беспроводной передачи данных. Возрастающий интерес к инженерии как предмету начал привлекать внимание деканов других факультетов университета, и тогда границы научных дисциплин стали размытыми. К тому времени, когда Шеннон начал учиться, выбрав одновременно две специальности – математику и инженерное дело, – две эти учебные программы в основном слились в одну. Это привлекало Шеннона, который признавался позднее, что выбор им двух направлений не был продиктован желанием сделать успешную карьеру. Это была просто юношеская неуверенность. «На самом деле я не понимал, что мне нравится больше», – вспоминал он. Получить два диплома вместо одного не былодля него особо обременительно: «Это было довольно просто, потому что большая часть учебной программы совпадала. Думаю, что для получения ученой степени в той и другой области нужно было пройти два дополнительных курса и какую-то летнюю школу», – говорил Шеннон. Обучение в университете развило в нем вкус к инженерии связи, которая, как оказалось, была ему «особенно по нраву» за то, что сочетала в себе теорию и практику – это была «самая математическая… из всех инженерных наук». И хотя получение двух специальностей сразу было довольно распространенным явлением, свойственная Шеннону нерешительность, которую он так и не перерос, станет ключевой в его последующей работе. Тот, кто собирался строить здания, наверно, был бы рад получить одну специальность в области инженерного дела. Тот, кого больше привлекала теория, мог довольствоваться изучением одной лишь математики. Шеннон, имевший склонность к математике и к механике, не мог принять решения, но в результате получил образование в двух областях знаний. И это в итоге определит его дальнейший успех.
Он стал членом радиоклуба, математического клуба и даже присоединился к местной команде по спортивной гимнастике. В то время он был лидером в двух направлениях. Первое – это его работа секретарем математического клуба. «Характерной особенностью всех собраний клуба, – отмечалось в одном журнале, – был список математических задач, прикрепленный к доске, который обсуждался в неформальной беседе по окончании основной программы. Демонстрация математических инструментов, которыми оперировала кафедра, представляла собой отдельную интересную программу». Второй момент – это та новость, которую газета его родного города посчитала достаточно важной, чтобы разместить у себя: «Клоду Шеннону присвоен чин сержанта в тренировочном лагере для резервистов Мичиганского университета». В инженерных корпусах, где Клод проводил основное время, его однокурсники испытывали силу ударопрочного ветрового стекла, работали над тем, как приглушить звук двигателей молочных сепараторов, спускали на воду в условиях учебной аудитории модели боевых кораблей. Но реальная жизнь кампуса происходила вне стен учебных классов.
Обучение в университете развило в нем вкус к инженерии связи, которая, как оказалось, была ему «особенно по нраву» за то, что сочетала в себе теорию и практику – это была «самая математическая… из всех инженерных наук».Весной 1934 года, на втором году учебы Клода, один на удивление необщительный редактор местной студенческой газеты заполучил чей-то альманах комедийных историй и превратил его в необычное описание студенческой жизни, о которой рассказывает пациент, сбежавший из психиатрической лечебницы, убежденный в том, что он антрополог:
Завтрак в столовой: Истории о вечеринках прошедших выходных приобретают фундаментальную похожесть… «Мы ходили _____________(в данс-холл, ночной клуб, на квартиру или в братство) и выпили _________ виски с содовой, _______ пива и ________ рюмок ________. После вечеринки __________ почувствовал себя плохо, и ___________ пришлось тащить его всю дорогу от ___________ до __________».
Кто-то проливает стакан апельсинового сока студентке на колени, и все смеются минут пять, пока не забудут, о чем смеялись, и потом снова замолкают. «Сейчас очень тихо… Посмеявшись, все словно обессилели». Завтрак в одиннадцать часов заставляет всех разойтись, и они проводят остаток утра в шумном веселье. О заметных личностях кампуса обычно рассказывалось в виде серии легких шутливых историй, но весной 1934 года в повествовании появился ядовитый оттенок. Например, «звезда трека», которая каждую ночь «откручивает свои ноги (они как-то хитро приделаны к его телу) и ставит их в шкаф из стекла и золота, чтобы все любовались». Студент-политик, «шествующий по Стейт-стрит в окружении семи своих холуев, хорошо защищенный от любых нападок или хулы». Редактор газеты, «с тоской бьющий по клавишам печатной машинки в своем тесном кабинетике, пытаясь замаскировать тот факт, что ему нечего маскировать».
Какой бы ни была истинная причина, Клод проводил все последующие учебные каникулы в доме у своего дяди. С матерью они почти не общались до конца его жизни.Клод же, в отличие от всех этих звезд, был незаметным студентом. Но с редактором его связывало нечто общее: скрытое в глубине души подозрение, что они окружены ожившими машинами, со съемными частями и прочим, с их приземленными и забавными движениями. Надо быть циником или инженером, чтобы найти В ЭТОМ «повод для смеха». Позднее подруга Клода вспоминала его смех: «Он смеялся короткими взрывами, как будто кашлял. Складывалось ощущение, словно он не знал, как веселиться». Это было его собственное забавное движение диафрагмой и горлом. Весной на втором году обучения Шеннона в университете его отец умер от инсульта в возрасте семидесяти одного года. На протяжении пятнадцати месяцев Клод-старший сражался с болезнями и не покидал дома, но возраст нагнал его. В те дни в знак траура Гэйлорд закрыл все свои заведения. Церемония прощания прошла в доме Шеннонов в два часа дня во вторник. Несущие гроб товарищи Клода-старшего по работе были уважаемыми в городе людьми. В среду Клод уже вернулся в университет. Вскоре после смерти отца отношения Клода и его матери как-то разладились. Его сестра выросла и покинула дом, отец лежал в земле, а Клод с Мэйбл впервые оказались наедине друг с другом. Закончилось все плачевно. Как бы абсурдно это ни звучало, но разлад спровоцировала тарелка с печеньем: Мэйбл припрятала хорошее печенье для гостей, а сыну оставила подгоревшее. Какой бы ни была истинная причина, Клод проводил все последующие учебные каникулы в доме у своего дяди. С матерью они почти не общались до конца его жизни.
За годы учебы он достаточно себя зарекомендовал, чтобы на старших курсах быть принятым в члены студенческого братства «Фи-Каппа-Фи» и «Сигма-Кси». Весной 1934 года в возрасте семнадцати лет Клод Шеннон отличился первой публикацией, размещенной на с. 191 «Американского математического ежемесячника». Он нашел решение математической задачи, которая попала в раздел «Задачи и решения». Редакторы данного раздела приветствовали задачи, которые считали новыми «и инструменты для решения которых не превышали уровень сложности для студента-второкурсника математического колледжа». Задача, которую Шеннон решил, появилась в журнале накануне осенью: Е58 [1933, 491] Предложено Р. М. Саттоном, Хаверфорд колледж. В следующем примере с многозначными числами каждая цифра заменена кодовой буквой. При этом дано, что Y не равен нулю, и нужно решить задачу и доказать, что это единственное решение.

Проведя трудоемкую работу, Шеннон получил именно тот результат, который и был представлен в конце журнала. В его шестишаговом решении этой задачи не было ничего из ряда вон выходящего, если не считать того факта, что решение существовало в принципе. Можно сказать, что его детское увлечение разгадыванием шифров начало приносить ему дивиденды во взрослом возрасте.
Можно сказать, что его детское увлечение разгадыванием шифров начало приносить ему дивиденды во взрослом возрасте.Вдохновленный, вероятно, своим первым успехом, Шеннон снова прислал решение очередной задачи, и в очередной раз его опубликовали в ежемесячнике в январе 1935 года, в виде ответа на следующую задачу: Е100 [1934, 390]. Предложено Г. Р. Ливингстоном, Государственный педагогический колледж, Сан-Диего, Калифорния. Дано два концентрических круга, проведите параллельные хорды во внешнем круге, чтобы они касались внутреннего круга, пользуясь только циркулем и определив концы хорд и точки их соприкосновения с внутренним кругом». Какими бы скромными ни казались эти ранние достижения, они дают нам некоторое представление о процессе образования Клода Шеннона и по ним мы можем сделать вывод, что, будучи студентом, он понимал всю важность появления на профессиональном публичном форуме – это заставит обратить на него внимание математиков его возраста, а также коллег постарше. Тот факт, что он читал такой журнал, уже свидетельствует о его более чем нерядовом интересе к академическим наукам, а решения предложенных задач выдают незаурядный талант. Но помимо всего прочего первые его публикации также выявили растущие амбиции Клода: во время учебы он находил время изучать эти проблемы, искать решения и готовить для публикации. Это говорит о том, что он уже тогда видел для себя какое-то иное занятие, чем семейный мебельный бизнес. Иное занятие начнется, причем на полном серьезе, с отпечатанной на машинке открытки, прикрепленной к доске объявлений на инженерном факультете. В ней было приглашение отправиться на восток и помочь с созданием механического мозга. Шеннон заметил это объявление весной 1936 года, в те дни, когда раздумывал над тем, что будет после того, как он завершит свое обучение в университете. Новая работа – студент магистратуры и ассистент по работе над дифференциальным анализатором в Массачусетском технологическом институте – идеально подходила молодому человеку, который находил одинаковое удовольствие в формулах и конструировании, в обдумывании и созидании. «Я много трудился, чтобы получить эту работу, и мне это удалось. То был один из самых счастливых моментов в моей жизни», – вспоминал Шеннон позднее. Возможно, удача и сыграла свою роль, но решение принять вчерашнего студента также продемонстрировало проницательность человека, который определит всю последующую жизнь Шеннона и направление американской науки в целом – этим человеком был Вэнивар Буш.
3. Мозг размером с комнату
Если бы вам понадобилось определить истоки происхождения современных компьютерных систем, то следовало бы начать свои поиски именно отсюда: 1912 год, Уолнат-хилл, к северо-западу от Бостона, где нарядно одетый газонокосильщик с трудом поднимается вверх по склону лужайки, двигаясь за своей машинкой. Он остановился на минуту, чтобы попозировать для зернистого снимка, положив руки на руль, повернувшись и обратив взор на свои труды. Трава на снимке белого цвета, а его костюм-двойка и машинка – черного. Вы, конечно, мгновенно догадаетесь, что цель этой работы явно не забота о красоте газона: высокая трава не тронута, а на том месте в косилке, где должны быть ножи, находится пустая коробка, подвешенная между двух велосипедных колес. Это было первое неудачное изобретение студента старшего курса, и, хотя аппарат перемещался так, как нужно, он успел надоесть всем, кроме его двадцатидвухлетнего создателя. Внутри коробки висел маятник и диск, приводимый в движение черным велосипедным колесом. На диске располагались два ролика: один измерял вертикальное расстояние и двигал ручкой, другой измерял горизонтальное расстояние и подсовывал вниз накрученную на валик бумагу. Это была геодезическая машина, прибор, созданный для того, чтобы оставить без работы землемерные команды. Пользуясь старыми методами – в основном телескопами и тригонометрией, – три человека могли пройти четыре с половиной километра в день, и в конце дня у них были таблицы с данными, с помощью которых они готовили чертеж поперечного разреза пройденного ими участка земли. Студент-старшекурсник утверждал, что он, работая в одиночку, сможет увеличить производительность землемеров почти в три раза – и сделал это, перейдя сразу же к чертежу. Внутри этого самодельного «измерителя рельефа» был барабан, так точно воспроизводящий грунт в краске, что «если бы эта машина прошлась по крышке люка, то начертила бы каждую маленькую выпуклость на ее поверхности». За свое изобретение его создатель получил патент и одновременно степень бакалавра и магистра – и на этом все. Он безуспешно пытался продать хоть один экземпляр машины или даже лицензию на патент, но его официальные письма оставались без ответа, а личные встречи длились не дольше нескольких минут. И даже если, предположим, в момент его какой-то невероятной прозорливости он бы сказал: «Послушайте, через двадцать лет начинка этой газонокосилки станет частью самой мощной думающей машины, когда-либо созданной человеком», это бы прозвучало как тарабарщина. И, тем не менее, это было правдой. Человек в черном костюме – это Вэнивар Буш. На этом снимке он еще молод. Задиристый и постоянно куда-то спешащий, этот внук и правнук капитанов китобойных судов был так обременен своим сложно произносимым именем, что просил называть его «Ван» или даже «Джон». И хоть он, возможно, даже не мог вообразить себе подобного, этот двадцатидвухлетний изобретатель стал самым влиятельным ученым Америки. Он возглавил работу над созданием «мозга» размером с комнату. Он консультировал президентов. Ему пришлось координировать действия ученых страны во время Второй мировой войны, причем делал он это с той же бесцеремонностью, с которой когда-то задумал оставить без работы две трети сотрудников землеустроительных служб. Журнал Collier’s называл его «человеком, который способен выиграть или проиграть войну», a Time – «генералом физики». И не последним в списке его достижений можно назвать следующее: он был первым, кто оценил потенциал Клода Шеннона.«Предположим, – сказал Вэнивар Буш (теперь он уже был на двадцать лет старше, доктор технических наук и вице-президент МТИ), – яблоко падает с дерева». И хорошо, что он начал с примера из школьной программы по физике. Если говорить с точки зрения математических знаний, Буш был человеком средних способностей, «четвертого или пятого разряда», по его собственному признанию. Но у него от природы были золотые руки. Он был – как и Клод Шеннон, его самый великий студент – изобретателем-самоучкой с самых ранних лет. Большую часть своей взрослой жизни он посвятил созданию въедливых, неутомимых математических мозгов из дерева и металла, мозгов, которые в определенном смысле значительно превзошли его собственные. Вот на этом фоне, в конечном счете, и состоялся первый прорыв Шеннона. «На первый взгляд, – продолжал Вэнивар Буш, – ускорение этого яблока постоянно». Можно начертить его падение на доске за несколько секунд. «Но предположим, что мы хотим учесть сопротивление воздуха при его падении. Это лишь добавляет нашему уравнению еще одну величину, при этом его решение перестает быть стандартным. И все же мы можем легко сделать это с помощью машины. Для этого нам нужно просто соединить элементы, электрические или механические устройства, которые представляют величины данного уравнения, и понаблюдать за тем, как машина решает его». Почему для решения задачи с яблоком, падающим в физическом вакууме, нужна лишь бумага и карандаш, а в случае с яблоком, пролетевшим по воздуху в реальном мире, требуются решения, выполненные специальными устройствами? Оба падения, как отметил Буш, могут быть отражены в дифференциальных уравнениях – уравнениях на уровне математического анализа, которые означают постоянное изменение. Поэтому для начала представьте яблоко, падающее на голову, скажем, Исаака Ньютона. (И это не совпадение, что человек, сформулировавший закон всемирного тяготения, также изобрел математический анализ: без формул, учитывающих изменение во времени, не имеет смысла закон тяготения.) В вакууме яблоко падает на 9,8 метра в секунду быстрее с каждой секундой, пока не оглушит Ньютона.
Как далеко действует сила магнита? Насколько сильно массивное космическое тело искривляет пространство и время? Чтобы ответить на любой из этих вопросов, требуется решение дифференциального уравнения.А теперь сбросьте яблоко на голову Ньютона на открытом воздухе. Сила тяготения, конечно, не изменится. Но чем быстрее падает яблоко, тем сильнее сопротивление воздуха. Теперь ускорение яблока формируется одновременно разгоняющей его гравитацией и замедляющим его сопротивлением воздуха, что, в свою очередь, зависит от скорости яблока в каждый момент, которая изменяется с каждой долей секунды. Именно это и есть та задача, которая требует неординарного мышления. Как быстро может расти популяция животных? Сколько времени займет распад кучи радиоактивного урана? Как далеко действует сила магнита? Насколько сильно массивное космическое тело искривляет пространство и время? Чтобы ответить на любой из этих вопросов, требуется решить дифференциальное уравнение. Или вот еще вопрос, представляющий особый интерес для Буша и его коллег электроинженеров: какой должна быть максимально допустимая нагрузка на национальную электросеть? Учитывая те средства и усилия, которые были вложены для осуществления электрификации Америки, это был вопрос на много миллионов долларов. В 1920-е годы, рассуждал один из студентов Буша, передача электроэнергии из одного штата в другой была «чем-то вроде буксировки одной машины другой с помощью длинного резинового троса, натянутого до предела». В этих условиях любой инцидент, например короткое замыкание или неожиданная нагрузка на сеть, «порвала бы буксирующий трос». К 1926 году инженеры обнаружили формулы, которые могли предсказать этот момент надрыва. Подвох заключался в том, что решение этих уравнений предполагало долгую и кропотливую работу, не исключавшую ошибок. Выполнение вычислений вручную, составление вручную итоговых графиков, определение участка, отмеченного на графике, с помощью математического прибора, планиметра, а потом ввод значений в последующие формулы – все это означало, что свет будет мигать, а потом отключится задолго до того, как работа будет выполнена. Оказалось, что большинство дифференциальных уравнений полезного типа – яблоко, падающее в реальном мире, а не падающее яблоко, изображенное на доске, – представляли собой одинаково неразрешимую проблему. Эти задачи нельзя было решить с помощью формул или простого ввода данных, а лишь методом проб и ошибок или надеясь на интуицию или удачу. Чтобы решить их надежным способом – воспользоваться силой математического анализа для осуществления конкретных задач промышленности, таких как проблемы в передаче электроэнергии или в телефонных сетях, или вопросов современной физики, связанных с космическими лучами и элементарными частицами, – требовался интеллект иного порядка.
К тому времени, когда Буш и его студенты приступили к работе, ученые охотились за таким мозгом уже на протяжении двух поколений. Задолго до того, как понадобилось стабилизировать электрические сети, существовала гораздо более давняя проблема: предсказание морских приливов. Морякам знание времени прилива подсказывало, когда заходить в бухту, где рыбачить и даже когда готовить наступление. Если рыбаки на маленьких рыбачьих лодках могли полагаться на свои догадки и память, то железным, изрыгавшим пар кораблям девятнадцатого века требовалось что-то более точное. А какой точности можно добиться при простом наблюдении за отметками уровня прилива в ожидании нужного уровня? Простая модель безвоздушного мира Ньютона – Луна и Солнце каждый день в строго определенное время создают приливо-отливное течение – превращается в хаос, когда сталкивается с реалиями живого мира: особенностями береговой линии и морского дна. Для всевидящего ока Господа Бога существует закон приливов-отливов; с нашей земной точки зрения это лишь некоторые незначительные локальные соотношения. Но спустя полвека после Ньютона математики обнаружили, что наиболее хаотичные колебания – от биржевого курса до графика приливов – можно разбить на отрезки и представить в виде суммы гораздо более простых функций, волнообразных моделей, которые фактически повторяются. В анархии скрывался порядок. Или, скорее, анархия представала в виде десятков различных видов порядков, происходящих одновременно и перекрикивающих друг друга. Но как обнаружить систематичность в приливах? В 1876 году физик шотландско-ирландского происхождения с бородой волшебника, Уильям Томсон – позднее получивший дворянский титул барона Кельвина, по названию реки, которая протекала рядом с его лабораторией, – предложил сделать это с помощью машины. На выпускном экзамене в Кембридже профессор, задававший ему вопросы, наклонился к своему коллеге и прошептал: «Мы с вами годимся лишь на то, чтобы затачивать ему карандаши». Еще со времен учебы в школе Томсон взял себе в качестве личного девиза строки Александра Поупа: «Наука указует путь тебе, о, человек счастливый, измерь всю Землю, воздух взвесь, установи приливы». И хоть поэт, конечно же, имел в виду человечество в целом, но едва ли можно было винить Томсона за то, что он воспринял это, как личное обращение. Аппарат Томсона для решения задачи с приливами работал несколько иначе, чем газонокосилка Буша. Геодезическая машина считывала рельеф местности со всеми холмами и ямками и даже канализационными люками, а потом выдавала график. А в машине для предсказания приливов и отливов, изобретенной Томсоном и его братом, которую они окрестили волновым анализатором, график использовался в качестве ввода данных. Оператор стоял перед длинной открытой деревянной коробкой на восьми ножках, из которой торчала стальная указка и рукоятка. Правой рукой он держал указку и чертил график уровня воды, вводил месячные данные по максимальному уровню прилива и отлива, а левой равномерно прокручивал ручку, которая приводила в движение шестерни, спрятанные в коробке. Внутри машины одиннадцать маленьких рукояток вращались со своей скоростью, каждая из которых обособленно выполняла одну из многих простых функций, детально воспроизводя хаотичность приливо-отливных течений. В конце работы на измерительных приборах появлялись одиннадцать маленьких цифр – средний уровень воды, действие Луны, действие Солнца и так далее, – что в итоге складывалось в уравнение, способное «установить приливы». Все это в принципе можно было вымучить вручную в блокноте, но, как сказал Томсон, это был «расчет, столь методичный, что для его произведения нужно было создать машину». И это произошло. С формулой волны прибоя таблица приливов была теперь уже не просто отчетом о произошедшем, но прогнозом на будущее. Нарисуйте таблицу в виде графика, отправьте график в волновой анализатор и, наконец, воспользуйтесь полученными данными анализатора, чтобы испытать следующее изобретение Томсона – механический калькулятор размером со шкаф, состоящий из пятнадцати барабанов, который чертил ручкой и чернилами свой собственный график уровней приливов на будущий год. В 1876 году предсказатель приливов мог за четыре часа с высокой точностью начертить график на будущий год. К 1881 году это время составляло всего двадцать пять минут.
В 1876 году предсказатель приливов мог за четыре часа с точностью начертить график на будущий год. К 1 881 году это время составляло всего двадцать пять минут.Данное изобретение было вежливо принято и так же вежливо отодвинуто в сторону. Даже в 1881 году лишь для немногих практических задач допускали возможность решения с помощью механизма. Многим казалось разумнее продолжать платить конторским служащим, чем массово производить прибор с такой ограниченной областью применения. Возможно также, что коллег Томсона оскорбила мысль, что любой отрезок их работы может быть автоматизирован стой же легкостью, что и труд рабочего на фабрике. Но самое важное, что, несмотря на то, что Томсон задумывал по-настоящему многофункциональную думающую машину, ключевой ее компонент отсутствовал – до тех пор, пока мировая война не дала новый толчок к поиску. А теперь представьте, что в гавань с приливом заходит не корабль, а дредноут. Он покачивается на изменчивых волнах, готовый выпустить из своих орудий фугасный снаряд по движущейся цели, что расположена более чем в шестнадцати километрах за горизонтом. Представьте себе морское сражение между двумя вооруженными боевыми судами, которые до самого конца будут оставаться невидимыми друг для друга. На этом расстоянии длина волн, плотность воздуха на каждом уровне траектории снаряда, искривление земной поверхности и даже вращение земли во время полета снаряда определят в совокупности, ударит ли снаряд по воде или железу. Каждый из этих факторов формировал переменную величину опять же в дифференциальном уравнении. Морской бой такого радиуса действия был не просто перестрелкой, а математическим забегом (в котором наградой за второе место часто становилась могила на дне морском). В ходе самого крупного морского сражения Первой мировой войны, Ютландского сражения 1916 года, почти все корабли британского флота вступили в бой, имея орудия, которыми управляли люди. В итоге они поразили лишьтри процента целей, а потеряли свыше 6000 человек. Конечно же, с такими ставками в игре надежная думающая машина становилась ценным приобретением. Ганнибал Форд, инженер-механик из северной части штата Нью-Йорк, стал тем человеком, который обеспечил недостающую часть механизма Томсона. Он начинал с изучения внутреннего механизма наручных и настенных часов, а потом занялся печатными машинками. И если Томсон, будучи студентом, выбрал в качестве своего девиза героические строчки Александра Поупа, то страница Форда в ежегоднике Корнельского университета была отмечена более практичным лозунгом: «Я бы создал машину, которая бы производила любую старую вещь любым старым способом». Машина, которую он сконструировал к 1917 году, автоматизировала ключевую стадию в решении дифференциальных уравнений: она находила интегралы, или площадь участка под кривой линией (в том числе кривой траекториилетящего снаряда). Задолго до появления электроники все это можно было сделать механическим способом. В случае с интегратором Форда – благодарные американские моряки окрестили его «малыш Форд» – две шаровые опоры размещались на поверхности плоского вращающегося диска. Они могли свободно перемещаться по поверхности диска: чем дальше они уходили от центра диска, тем быстрее закручивались. Расстояние от центра соответствовало форме кривой в уравнении, а скорость закручивания означала ответ. Шаровые опоры проворачивали цилиндр, который приводил в движение весь остальной механизм машины и передавал ответ стрелкам посредством шестеренок и контрольно-измерительных приборов. Имея вводные данные, включая скорость и курс атакующего корабля и вражеского судна, «малыш Форд» определял дальность полета до цели, направление огня и время нахождения снаряда в воздухе. Эти параметры, в свою очередь, диктовали угол наклона орудий. Ганнибал Форд не был первым, кто задумался о подобной машине, но именно его изобретение одним из первых смогло надежно находить интегралы. Если не считать того, что тряска на корабле во время шторма или от разрывов летящих снарядов могла привести к тому, что шаровая опора соскальзывала с орбиты, и тогда вся команда возвращалась в те дни, когда на выручку приходила подзорная труба и интуиция. «Это было, – сказал Вэнивар Буш, – чудо точности и завершенности». Вскоре Буш будет работать одновременно с шестью такими машинами. Но он станет использовать их не для нахождения угла наклона орудий, а для определения форм атомов и структур небесных тел. Волновой анализатор Томсона, интегратор Форда и измеритель рельефа Буша – задуманные по отдельности друг от друга и для решения одной специфической задачи, эти машины объединяло одно ключевое свойство. Все они были работающими моделями физического мира – склона холма или падающего снаряда, – упрощенными до самой сути. Все они являлись в некотором смысле примитивными миниатюрами тех процессов, которые описывали. Другими словами, они были явными аналогами. Но только Вэнивар Буш сумел довести эту технологию до высочайшего уровня, создав аналоговый компьютер, универсальную машину, максимально соединившую в себе инструмент и мозг. И именно Клод Шеннон по гениальному стечению обстоятельств помог сделать его неактуальным. Впоследствии Буш признал своих предшественников в создании компьютера в лице Томсона и Форда. Но когда в середине 1920-х годов он впервые приступил к работе по поиску способа ужать электросеть Америки до размеров его лаборатории, он и не догадывался о прародителях своего аналогового компьютера. С чего же он начал? В определенном смысле он начинал с преподавания. Будучи уже изобретателем, Буш руководил молодыми инженерами в то время, когда факультет инженерного дела начал приобретать известность в масштабах страны. Попав в Кембридж, штат Массачусетс, он преподавал в аудитории, полной талантливых первокурсников в отутюженных брюках и с гладко зачесанными волосами, которые сидели ошеломленные, пока Буш уничтожал их чувство собственного достоинства. Он мог встать за кафедрой, поднять обыкновенный трубный ключ и предложить простую задачу: «Опишите этот предмет». Первокурсники, один за другим, по очереди получали свою порцию критики, и одно за другим каждое описание разбиралось на части: Буш демонстрировал, насколько каждое описание обтекаемо, так что его можно отнести к любому виду гаечных ключей, но не к этому ключу на столе. А заканчивал он прочтением точной и правильной заявки на выдачу патента: «Поворачивая муфту вправо или влево, прямая губка может сдвигаться либо ближе, либо дальше от фиксирующей губки, в зависимости от необходимости. Внутренняя грань прямой губки выполнена под прямым углом к ее стержню и также снабжена рядом зубцов, которые захватывают фиксирующую губку… Прямая губка может выдвигаться вперед, так что она располагается под наклоном к фиксирующей губке, чтобы ключ мог легко охватить трубу». И так далее. Смысл был в соблюдении точности. Целью Буша было заставить студентов пройти испытание, научившись описывать реальный мир (трубный ключ) столь точными терминами (заявка на патент), чтобы их можно было безошибочно понять. Дано: трубный ключ. Найди слова только для этого ключа, и ни для какого другого. Дано: слова. Распознай ключ. Это, учил Буш своих студентов, было началом инженерной науки.
Буш уничтожал их чувство собственного достоинства. Он мог встать за кафедрой, поднять обыкновенный трубный ключ и предложить простую задачу: «Опишите этот предмет».По той же самой причине – испытание в символизации мира – каждого инженера учили чертить. Оставьте чистые цифры для математиков: инженеры учатся математике, работая руками. «Человек учится использовать вычисления так же, как он учится пользоваться стамеской или напильником», – сказал в начале столетия один реформатор, который помог придать инженерному образованию практическую направленность. Математическая лаборатория того времени была «хорошо укомплектована глиной, картоном, проволокой, деревянными, металлическими и другими моделями и материалами», а также бумажной лентой, которая, наверное, была стара как Буш. В Бушевском МТИ математические и инженерные классы становились мастерскими по работе с металлом и деревом, а студенты, которые умели пользоваться планиметром и логарифмической линейкой, также должны были научиться паять и пилить. Здесь, возможно, скрыт источник постоянного беспокойства инженеров, «всегда испытывающих неуверенность там, где они приноравливаются», как выразился великий критик Пол Фасселл, «к начальнику или рабочему, процессу управления или производства, миру умственной работы или миру ручного труда». Но всегда существовало убеждение, что ручной труд – это и есть умственная работа, если только переводы сохранили точность высказывания. При условии соблюдения точности уравнение можно понять и решить в виде картинок и движения. Так же, как гаечный ключ можно описать правильными словами. Работая с механическими устройствами в процессе создания своих первых аналоговых компьютеров, Буш обнаружил, насколько глубоко постигаются принципы вычисления, если работаешь руками. «Он учился вычислению с помощью языка механики, – объяснял Буш, – странный подход, но ему он был понятен. То есть он понимал его не в каком-то формальном смысле; он понимал саму суть; чувствовал это каким-то внутренним чутьем». Эти жужжащие интеграторы и проворачивающиеся шестеренки машин Буша воплощали собой сам процесс вычисления. Подобно хорошим инженерам, они принимали чертежи в виде вводных данных и выдавали их в виде данных на выходе. Они могли появиться в любом месте, но нет ничего удивительного в том, что собрали эти машины на факультете инженерного дела. К 1924 году Буш и его студенты построили интегрирующую машину, которая по своим характеристикам превосходила машину Форда. К 1928 году в процессе поиска надежной вычислительной системы им удалось смоделировать 320 километров линий электропередач в помещении лаборатории площадью пятнадцать квадратных футов. В тот же год началась работа по созданию универсального аналогового компьютера: дифференциального анализатора.
«Это была устрашающая штуковина с валиками, шестеренками, ремнями и колесиками, вращающимися на дисках…»По завершении – на это ушло три года и 25 000 долларов – получился мозг размером с комнату, металлическая вычислительная машина, которая могла жужжать своими шестеренками, решая задачу дни и ночи напролет, пока не застопорится. На решение одной задачи – определить степень влияния космических лучей на магнитное поле земли – ушло тридцать недель. Но когда все было завершено, дифференциальный анализатор с помощью своей грубой силы решил уравнения столь сложные, что человеку браться за них было бессмысленно. Теперь лаборатория Буша имела в своем распоряжении вычислительный прибор, способный переходить от решения проблем промышленного масштаба к некоторым фундаментальным вопросам физики. «Это была устрашающая штуковина с валиками, шестеренками, ремнями и колесиками, вращающимися на дисках, – вспоминал физик из МТИ, который воспользовался помощью дифференциального анализатора, чтобы изучить поведение рассеянных электронов, – но она работала». Устройство представляло собой огромную деревянную рамку, закрытую решеткой, с вращающимися цилиндрами, напоминающую гигантскую 100-тонную игру в настольный футбол. На том конце аппарата, где вводились данные, были установлены шесть столов для чертежников. Там машина считывала уравнения, которые ей нужно было оценить. Совсем как в анализаторе Томсона, который считывал графики приливов. Операторы поворачивали рукоятки, а те, в свою очередь, направляли указатели над нарисованным вручную графиком уравнения, которое нужно было проанализировать. «Например, – было написано в одном из отчетов того времени, – при расчете рассеяния электронов на атоме необходимо снабдить машину данными по соотношению между потенциалом поля атома и расстоянием от центра атома». И тогда детали уравнения передавались внутренним валикам машины. Каждый валик соответствовал определенной переменной величине (току в линии электропередач или размеру атомного ядра). Чем больше была величина, тем быстрее крутился валик. А они, в свою очередь, приводили в движение интеграторы, сделанные по типу интеграторов Форда: плоский диск вращался на месте, а перпендикулярно диску располагалось интегрирующее колесо. Чем дальше от центра диска ставили колесо операторы, тем быстрее оно вращалось. Колесо было соединено еще с пятью интеграторами идентичной конструкции. На выходе быстро вращающиеся интегрирующие колеса направляли карандаш, который двигался вверх-вниз, в то время как под ним равномерно разматывалась бумажная лента. Целью был график, и нужный появлялся спустя несколько дней или даже месяцев вращений. Математика была безгранично сложной областью знаний. Но газонокосилка Вэнивара Буша могла бы узнать в этой вычислительной комнате своего далекого потомка. «Дифференциальный анализатор, – писал один научный историк, – все равно истолковывал математику посредством механических оборотов и все равно зависел от мастерски выполненных интеграторов в виде колеса и диска, продолжая выдавать ответы кривыми линиями». Уравнения и траектории подъема. Следовало признать, что компьютеры Буша очень сильно напоминали своего раннего предшественника, «измеритель рельефа». Это был компьютер, изобретенный задолго до прихода эпохи цифровой революции: машина, которая в буквальном смысле показывала уравнения в процессе решения задач. Когда машина демонстрировала уравнения, моделирующие атом, это был в полном смысле слова гигантский атом, а когда выдавала уравнения генерирования звезды – это была миниатюрная звезда. «Это аналоговая машина, – говорил Буш. – Когда перед человеком встает проблема, скажем, как еще не построенный мост будет качаться на порывистом ветру, он должен объединить механические или электрические элементы, которые будут вести себя в точности так, как мост, а именно будут укладываться в те же дифференциальные уравнения». Для физика или инженера две системы, которые удовлетворяют условиям одних и тех же уравнений, имеют определенную схожесть – или, по крайней мере, аналогию. И это, в конечном смысле, все, что означает наше слово «аналог». Часы с цифровой индикацией не имеют ничего общего с движением солнца по небосклону; аналоговые же часы – это напоминание о солнечных часах, когда тень отустановленного в центре круга шеста перемещалась по кругу. Компьютер трещал и гудел, быстро строча графики и разматывая бумагу. А когда он работал ночью, студенты Буша посменно дежурили рядом, контролируя натренированным ухом, не соскочило ли колесо со своей орбиты. По ночам, когда все шло гладко, они пытались не уснуть, сидя в гудящей комнате. Так прошло пять лет.
4. МТИ
Клод Шеннон уже не понаслышке знал, что такое холод. Ветер, дувший с Атлантики, был солонее, чем в Мичигане, но не намного холоднее. Снег в Новой Англии был почти так же глубок. Впервые покинув Средний Запад в двадцать лет и очутившись один в новом месте, Шеннон, конечно же, успел изучить окружающую обстановку. А для тех, кто не выносил холода, МТИ мог предложить коридоры и переходы, длинные пространства, покрашенные в традиционный институтский серый цвет. Инженеры могли провести всю зиму, не выходя из помещения. Они могли фактически жить в этих серых переходах. И было много таких дней, когда Шеннон не видел солнца – за исключением особого «ритуального праздника» МТИ, двух зимних дней в году, когда солнце освещало все коридоры, окрашивая на закате их серые стены золотом. «В институте ходила легенда, что в такие дни зоркий глаз заметит на стенах коридора на уровне плеча карандашные линии, нарисованные параллельно полу, – пишет историк МТИ Фред Хэпгуд. – Считается, что эти следы оставили члены студенческого братства, которые настолько привыкли к этим коридорам, что могли идти по ним вслепую… приставить карандаш к стенке, закатить глаза, забывшись после решения какой-то трудной задачи, и следовать своим курсом на автопилоте». В теплое время года Шеннон мог пройти по улице мимо фасадов с колоннами с выгравированными на них именами великих: Архимеда, Коперника, Ньютона, Дарвина. МТИ был островком неоклассицизма в промышленном пригороде Бостона, а его центральный купол, напоминавший Пантеон, выглядел нелепо рядом с фабриками и заводами, выстроившимися вдоль реки Чарльз. Купол, расположенный над галереями, сам представлял собой компромисс архитекторов. Один хотел, чтобы новый кампус хоть чем-то походил на другой колледж, стоявший выше вдоль реки. Другой настаивал на том, чтобы тот был построен в соответствии с принципами «эффективности и недопущения лишних движений студента и преподавателя, подобно тому, чего мы добились в наших лучших образцах промышленного строительства». Именно такое место занимал МТИ в мире: придаток промышленности с устремлениями к чистой науке – одновременно завод и обсерватория. Сами корпуса были данью количественному мышлению, известные больше по своим номерам, чем по названиям. Надо сказать, что та самая открытка с информацией об анализаторе Буша привела Шеннона к зданию номер 13, и именно Буш одобрил кандидатуру Клода и допустил его к программе подготовки для получения магистерской степени. Оба были инженерами на скорую руку. Зарабатывая деньги, чтобы содержать семью, Буш умудрился одновременно получить степени бакалавра и магистра. Шеннон окончил старшие классы средней школы за три года, получил две степени бакалавра по двум специальностям за четыре года, а теперь собирался работать над магистерской диссертацией, сделав только небольшой перерыв на лето. Тот факт, что Буш назначил его ответственным за самую сложную и детализированную часть работы, говорило о его уважении к новому ученику. К 1935 году, за год до прибытия Шеннона в Кембридж, дифференциальный анализатор достиг своих пределов. Будучи механическим устройством, он требовал полной разборки и обратной сборки для решения каждой отдельной задачи. То, что построил Буш и его команда, было не единым механизмом в полном смысле этого слова, но огромной группой машин, объединенных вместе, и их следовало конструировать заново под каждую новую задачу, а затем уничтожать после каждого полученного решения. Это была вынужденная адаптация ради эффективности. И так как назначением анализатора было добиться эффективности расчетов, которые, по крайней мере, в теории могли быть выполнены человеком вручную, то эти повторяющиеся из раза в раз затруднения ставили под сомнение необходимость его использования.Все это было таким знакомым для Шеннона, еще со времен Гэйлорда и его самодельной телеграфной линии.Вместо этого Буш мечтал об анализаторе, который мог бы восстанавливать себя сам: аппарат с автоматической системой контроля, позволяющей ему переходить от одного уравнения к другому без всяких пауз или даже решать множественные взаимосвязанные уравнения одновременно. Переключатели должны были прийти на смену отверткам. К тому времени, когда честолюбивые замыслы Буша значительно превысили бюджет МТИ периода Депрессии, он все равно смог получить 265 000 долларов от частных благотворителей фонда Рокфеллера, чтобы заняться разработкой компьютера следующего поколения. И Буш привел Клода Шеннона в МТИ, чтобы тот помог управлять проектом. Поэтому в последующие три года окружением Шеннона стали серые коридоры и стены гудящей комнаты, и внутри этой комнаты – стенки маленькой коробки, прикрепленной к анализатору, со 100 переключателями, открывающими и закрывающими путь току, – мир внутри мира. В коробке находились мозги мозга, переключатели и реле, которые управляли машиной и перестраивали ее, пока она вращалась. И «каждое реле», как пишет ДжеймсГлейк, «электрический переключатель управляется током (идея цикличности)». Разомкнуть. Замкнуть. И так на протяжении недель и месяцев.
Что произошло, когда Клод Шеннон щелкнул выключателем? Представьте себе переключатель или реле в виде разводного моста для электрического тока: опустив его, переключатель позволит току поступать к месту назначения; подняв, переключатель остановит его поток. Пунктом назначения может быть другое реле, которое тогда будет размыкаться или замыкаться на основе полученных вводных данных. Или же это может быть что-то такое же простое, как маленький электрический фонарик. Все это было таким знакомым для Шеннона, еще со времен Гэйлорда и его самодельной телеграфной линии. В Энн-Арбор эти знания были систематизированы: там Шеннон прилежно чертил электрические схемы вместе с остальными инженерами-электриками. Последовательное соединение: ток должен пройти через оба реле, прежде чем он включит свет; параллельное соединение: ток может свободно проходить либо через один, либо через оба реле. Это были блоки, которые включали в себя логическую схему с сотней переключателей, прикрепленную к дифференциальному анализатору, или электрическую начинку линий сборки, или систему с миллионом реле, которая направляла работу всей национальной телефонной сети. Там были цепи, сконструированные для передачи тока, когда два реле были замкнуты, но не ноль, одно, или три; были цепи, нарисованные в виде ветвистых деревьев или симметричных дельт или плотных ячеек – вся электрическая геометрия, которую Шеннон чувствовал сердцем. И по старой инженерной традиции все это было сделано вручную, нарисовано шаг за шагом на доске или просто соединено вместе в «животе» машины. Единственным доказательством правильности собранной цепи являлись ощутимые результаты: проходил ли звонок, крутилось ли колесо, поставленное ребром на диске, и зажигался ли свет. Электрические цепи до Шеннона были как дифференциальные уравнения до появления аналогового компьютера: ошибки при каждой попытке до тех пор, пока ошибки не прекращались. Построение электрических схем в те времена было ремеслом со всей той путаницей, ошибками и интуитивным подходом, которые подразумевает «ремесло».
Электрические цепи до Шеннона были как дифференциальные уравнения до появления аналогового компьютера: ошибки при каждой попытке до тех пор, пока ошибки не прекращались.Но здесь Шеннон был один на один в комнате с машиной, построенной для того, чтобы автоматизировать мысль, решать задачи промышленного характера и при этом эффективно функционировать. А еще чтобы отделить ремесло от математики. И в процессе своей работы он пришел к выводу, что знал другой способ, как автоматизировать процесс мышления – тот, который в конечном счете станет гораздо более действенным, чем аналоговая машина.
Что связывает логику и машину? Вот как ответил на этот вопрос один специалист по логике на стыке девятнадцатого и двадцатого столетий: «Точно так же, как материальная машина является инструментом для экономии физических сил, так же и символическое исчисление является инструментом для экономии интеллектуальных усилий». Логика, подобно машине, была инструментом для демократизации силы: построенная с достаточной точностью и умело, она могла многократно увеличить силу как одаренных людей, так и людей со средними способностями. В 1930-е годы в мире насчитывалась лишь горстка людей, которые одинаково хорошо владели «символическим исчислением», или строго научной математической логикой, и умением собирать электрические цепи. Звучит это и вправду удивительно: до того, как две эти области знаний соединились в голове Шеннона, мало кто представлял, что они могут иметь нечто общее. Одно дело было сравнить логику с машиной – и совсем иное показать, что машины способны действовать логично. В Мичигане Шеннон узнал (на занятиях по философии, заметьте), что любое логическое утверждение можно представить в символах и уравнениях и что эти уравнения можно решить с помощью ряда простых, похожих на математические, правил. Вы можете доказать, что утверждение истинно или ложно, даже не понимая, что оно означает. На самом деле вы будете меньше отвлекаться, если предпочтете не понимать значения: дедукция может быть автоматизирована. Ключевой фигурой процесса перевода прихотливых слов в точные математические величины стал гений девятнадцатого века по имени Джордж Буль, английский математик-самоучка, чей отец-сапожник смог дать ему образование лишь до шестнадцати лет. Незадолго до того, как Томсон задумал свой первый анализатор, Буль доказал, что он сверходаренный человек, написав книгу, название которой хоть и звучало довольно самонадеянно, но было вполне оправданным: «Законы мышления». Эти законы, показал Буль, основываются всего на нескольких фундаментальных операциях: например, И, ИЛИ, НЕТ и ЕСЛИ. Скажем, нам нужно определить всех голубоглазых левшей, живущих в Лондоне. Обозначим свойство «голубые глаза» величиной х, а свойство «левша» – у. Пусть функцию умножение обозначает И, сложение – ИЛИ, а простой апостроф (заменяющий знак минус) – НЕТ. Помните, что цель всего этого – доказать верность или неверность утверждения. Поэтому пусть 1 означает «верно», а 0 – «неверно». Все это начальные знания для превращения логики в математику. Таким образом, группа всех лондонцев, которые одновременно голубоглазы и левши, становится просто ху. А группа всех лондонцев, которые либо голубоглазы, либо левши, это х + у. Теперь представьте, что мы хотим оценить истинность утверждения «этот конкретный житель Лондона голубоглаз и левша». Его верность зависит от верности х и у. И здесь Буль выдвигает принципы для оценки утверждения 1 или 0, учитывая то, что мы знаем о х и у:
0 · 0 = 0 0 · 1 = 0 1 · 0 = 0 1 · 1 = 1
Эти уравнения легко перевести обратно на обычный язык. Если житель Лондона не является ни голубоглазым, ни левшой, то утверждение, которое мы пытаемся оценить, конечно, неверно. Если лондонец только голубоглаз или только левша, утверждение снова неверно. Если лондонец и голубоглаз, и левша, вот тогда утверждение становится верным. Другими словами, знак операции «И» дает «верно», только если все положения, которыми он оперирует, верны. Но булева алгебра – это больше, чем просто переделка на новый лад обычной математики. Представьте теперь, что мы хотим оценить утверждение «этот конкретный житель Лондона голубоглаз или левша». В этом случае мы получаем следующее:
0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1 1 + 1 = 1
Если лондонец ни голубоглаз, ни левша, утверждение неверное. Но если он голубоглаз или левша, или и то и другое вместе, оно верное. Вот поэтому в булевой алгебре 1 + 1 равняется 1. Знак операции ИЛИ дает верный ответ, если какое-то из положений, которыми он оперирует, верно, или все положения верны. (Буль также различал еще один вид «или», названный «исключительным или», который дает верный ответ, только если одно или другое положение верно, но не оба.) Из этих простых элементов (столь же простых, как переключатели, размышлял Шеннон) мы можем составлять другие уравнения и добиваться все более сложных результатов. К примеру, мы можем доказать, что х + ху = х, или что верность утверждения «либо х, либо одновременно х и у» зависит исключительно от верности х. Или же мы можем доказать, что (х + у)’ = х’у’: другими словами, «х или у» неверно, когда «оба не х и не у», и наоборот. Все это, утверждал Буль, законы логики. Переменные х и у, как и любые другие переменные, могут означать произвольные утверждения при условии, что они либо истинны, либо ложны. И с помощью простого, почти не требующего напряжения ума применения нескольких правил, мы можем делать заключения из всего, что подлежит дедукции. Механическая логика означала, что больше не нужно ломать голову над фразой: «Все люди смертны, Сократ – это человек…» – и так далее, только символы, операции и правила. Гений сформулировал правила, которые мог применить даже ребенок. Или что-то, мыслящее проще, чем ребенок. Все это было весьма интересно, но на протяжении почти столетия из всего этого мало что вышло практического. Нескольким поколениям студентов, в том числе Клоду Шеннону эта тема преподносилась как забавный философский феномен. В то время, вспоминал он, его в основном забавлял звук слова: «Бу-у-у-улева». Но какие-то крупицы этих знаний остались у него, когда он пытался разобраться в коробке со ста переключателями. Он чувствовал некую простоту правил Буля, присутствующую даже в самых чертовски сложных уравнениях, которые он решал для Буша. Замкнуть, разомкнуть. Да, нет. 1, 0. Что-то из этих знаний осталось с ним, когда он в 1937 году покинул МТИ, уехав на лето в Нью-Йорк. Другой уникальной группой людей, подошедших к сопоставлению логики с электрическими цепями достаточно близко, были умы из «Лабораторий Белла», взявшие к себе Шеннона на летнюю стажировку. Будучи временно нанятым сотрудником, Шеннон, вероятно, занимался самыми рядовыми делами, связанными с промежуточной помощью, и его присутствие в «Лабораториях» летом 1937 года не было отмечено в истории заведения, но именно здесь он смог поделиться своим глубоким пониманием математической логики и продвинутым знанием электрических схем, а еще настойчивым ощущением, что эти две сферы взаимосвязаны. Более того, он передал свои знания прямо в сердце телефонной компании, владевшей самой сложной и протяженной электросетью в стране. И его работа была частью математических попыток заставить эту сеть работать эффективнее и дешевле. Самое важное – примерно в это время он впервые взялся записывать свои мысли и начал связывать вместе то сходство, которое, по его мнению, было в анализаторе Томсона, сетях «Лабораторий Белла» и логике Буля. Спустя полвека Шеннон попытался вспомнить тот момент прозрения и объяснить, как ему удалось первым понять, что означали эти переключатели. Вот что он рассказывал журналисту: «Дело не в том, что что-то “размыкается” или “замыкается”, или в словах “да” или “нет”, о которых вы говорите. Смысл заключается в том, что две вещи в одной последовательности в логике описываются словом “и”, поэтому вы говорите: это “и” это. В то время как две вещи в параллели описываются словом “или”… Есть контакты, которые замыкаются, когда вы оперируете реле, а есть другие контакты, которые размыкаются, и поэтому слово “нет” относится к этому аспекту реле… Люди, которые занимались релейными цепями, конечно, понимали, как делать эти вещи. Но у них не было математического аппарата булевой алгебры».
Скачок от логики к символам, а затем к схемам: «Мне кажется, что это было самое увлекательное занятие в моей жизни», – вспоминал Шеннон с теплотой эти времена.Любое понятие из булевой алгебры имело свой физический эквивалент в электрической цепи. Перевод переключателя в положение «включено» мог означать «верно», а перевод в положение «выключено» – «неверно». И все в целом можно было представить в последовательности символов 0 и 1. Но еще более важно, как указывал Шеннон, что логические знаки операции системы Буля – И, ИЛИ, НЕТ – могли быть в точности воспроизведены в виде цепей. И тогда последовательное соединение становится И, потому что ток должен проходить последовательно через два реле, и он не дойдет до своей цели, если оба реле не обеспечат ему этот проход. Параллельное соединение становится ИЛИ, потому что ток может проходить по любому из этих реле или по обоим сразу. Ток проходит по двум замкнутым реле при параллельном соединении и зажигает свет: 1 + 1 = 1. Скачок от логики к символам, а затем к схемам: «Мне кажется, что это было самое увлекательное занятие в моей жизни», – вспоминал Шеннон с теплотой эти времена. Странное и немного педантичное представление об увлекательности. Но это был молодой человек, всего двадцати одного года, пришедший в трепет от мысли о том, что, заглянув в коробку с переключателями и реле, он увидел там то, что никто до него не видел. Все, что нам осталось, это детали. В последующие годы все будет происходить так, словно он забыл, что публикация научных трудов – это то, чего всегда ждут от блестящих ученых. Он станет бесцельно копить свои феноменальные исследования годами, а в итоге окажется в доме с чердаком, заваленным бумагами, полузаконченными статьями и «хорошими вопросами» на миллиметровой бумаге. Но сейчас, полный честолюбивых замыслов и целей, он едва успевал выдавать новые идеи.
Завершив осенью 1937 года свою магистерскую диссертацию «Символический анализ релейных и переключательных схем», Шеннон представил ее на суд аудитории в Вашингтоне и опубликовал на следующий год, заложив основы для блестящей карьеры. Теперь уже в новой для себя манере Шеннон писал сухим научным языком: «Любая схема представлена рядом уравнений, условия уравнений соответствуют разнообразным реле и переключателям схемы. Вычисление разрабатывается для того, чтобы этими уравнениями управляли простые математические процессы, большая часть которых напоминает обычные алгебраические алгоритмы. Это вычисление должно быть совершенно аналогично вычислению положений, применяемых при изучении символической логики… Схема, таким образом, может быть мгновенно срисована с уравнений». И это был ключевой момент: после Шеннона собирание схем перестало быть упражнением в интуиции и перешло в область знаний правил уравнений и сокращений. Рассмотрим проблему, с которой могли столкнуться коллеги Шеннона, когда пытались подвергнуть свою гигантскую аналоговую машину электрическому регулированию. Допустим, определенная функция в схеме позволила бы току проходить – будет выдавать «1» в терминологии Шеннона – в зависимости от положения трех различных переключателей, х, у и z. Ток будет проходить, если только z будет включен, или если только у и z будут включены, или если х и z будут включены, или если х и у будут включены, или если все три будут включены. Методом проб и ошибок коллеги Шеннона могли бы рано или поздно смонтировать одиннадцать отдельных соединений, которые бы сделали работу. Но Шеннон начал с того, что взялся за карандаш и свой вездесущий блокнот. Он выписал уравнение, используя обозначения Буля: x’y’z + x’yz + xy’z +xyz’ + xyz Затем он ужал их. Два члена этого уравнения представлены yz, а два – y’z, так что он просто вынес их за скобки, как в любой задаче по алгебре: yz(x + х’) + y’z (х + х’) + xyz’ Но булева логика говорит нам, что х + х’ всегда верно, и в этом есть смысл: х либо верно, либо нет. Тогда Шеннон, возможно, осознал, что х + х’ не скажет ему ничего интересного о выходе цепи, а значит, все это можно вычеркнуть: yz + y’z + xyz’ Теперь два члена означали z, и Шеннон могужать их снова: z(y +у’) + xyz’ И потой же самой причине, что и раньше, он мог вычеркнуть члены в следующем уравнении: z + xyz’ В логике Буля было еще одно правило, позволявшее фильтровать еще дальше. Буль показал, что х + х’у = х + у, или если говорить простым языком, то спрашивать о лондонце, который был либо голубоглазым, либо левшой, но не голубоглазым, было все равно, что спрашивать о лондонце, который был либо голубоглазым, либо левшой. Применяя это правило к приведенной выше функции, Шеннон мог вычеркнуть z’, как дублирующий элемент, оставив следующее: z + xy Вспомните тот лишний мусор, с которого Шеннон начинал. Его расчеты смогли доказать, что эти два ряда инструкций абсолютно одинаковы: Включать, если только включен z, или если включены у и z, или если включены x и z, или если включены х и у, или если включены все три. Включать, если включен z, или если включены х и у. Другими словами, он обнаружил способ выполнить работу с одиннадцатью соединениями с помощью всего двух, параллельного и последовательного. И он сделал это, даже не дотронувшись до переключателя. Вооруженный этим пониманием, далее в своей диссертации он лишь демонстрировал возможности нового подхода. Калькулятор двоичных чисел; замок с комбинацией из пяти кнопок и электронной сигнализацией – как только уравнения были выведены, они сразу же заработали. Построение электрической схемы впервые стало наукой, а превращение ремесла в науку станет фирменной чертой работы Шеннона. А вот еще одно достоинство этой системы: как только переключатели превращаются в символы, они уже не имеют значения. Система способна работать в любой среде, от громыхающих переключателей до микроскопических рядов молекул. Единственное, что требовалось, это «логические» ворота, способные выразить «да» и «нет», и этими воротами могло быть что угодно. Правила того, как облегчить работу механического компьютера размером с комнату, те же самые, которые будут впоследствии учтены при создании схем электровакуумных ламп, транзисторов, микросхем – на каждом этапе присутствует бинарная логика из 0 и 1. Все было элементарно, отмечал Шеннон. Но это открытие можно было назвать простым лишь после того, как оно было сделано. И все же – «возможно, самая важная, а также самая известная магистерская диссертация века?» «Одна из величайших магистерских работ за всю историю?» «Самая важная магистерская работа за все время?» «Монументальная?» Был ли ряд приемов, экономящих время инженерам, действительно достойных такой похвалы? Если работа выполнялась в любом случае, было ли так важно, что Шеннон проделывал за два этапа то, что его коллеги выполняли за одиннадцать?
Все было элементарно, отмечал Шеннон. Но это открытие можно было назвать простым лишь после того, как оно было сделано.Да, это было важно. Но главный, фундаментальный результат научной работы Шеннона в основном подразумевался, но не назывался. Ее значение стало понятно лишь со временем. Скрытый смысл станет яснее, если мы поймем, что Шеннон, следом за Булем, использовал знак равенства, как условный: «если». 1+1=1: если ток проходит через два переключателя параллельно, свет загорается (или реле приобретает сигнальное значение «да»). 0+0=0: если ток не проходит ни через один из переключателей в параллельном соединении, свет не загорается (или реле приобретает сигнальное значение «нет»). В зависимости от ввода, одни и те же переключатели могут давать два разных ответа. Давайте совершим антропоморфический прыжок: электросхема может сама принимать решения. Схема способна действовать логично. Многие схемы могли выполнять невероятно сложные логические операции: они могли решать логические задачи и выводить заключения на основании исходных данных, причем так же надежно, как человек, но быстрее. Благодаря тому, что Буль показал, как разложить логику на последовательность бинарных верных-неверных решений, любая система, способная представлять двоичность, получила доступ ко всей логической вселенной, которую он описал. «Законы мышления» распространялись и на неживой мир.
Пройдет еще шесть лет, прежде чем Тьюринг и Шеннон встретятся в кафе, где собирались ученые в годы войны.В тот же год английский математик Алан Тьюринг сделал чрезвычайно важное заявление относительно интеллекта машины. Он доказал, что любая решаемая математическая задача может быть, в принципе, решена машиной. Он видел перспективы в создании компьютеров, которые бы могли перепрограммировать себя сами в процессе работы, универсальных машин невиданной до той поры гибкости. А Шеннон показал, что любое допустимое логическое утверждение может быть, в принципе, оценено машиной. Машина Тьюринга была все еще объектом теории: он доказал свою версию с помощью управляющего устройства «головки записи-чтения», оперирующей на сравнительно длинной магнитной ленте – абстрактный компьютер с единственной движущейся частью. Шеннон же, напротив, доказал логические возможности схем, которые можно найти в любом телефонном коммутаторе: он показал на практических примерах, какие возможности открываются в будущем перед инженерами и программистами, если вплести логику во внутреннее устройство машины. Этот скачок, отмечает Уолтер Айзексон, «стал базовой концепцией всех цифровых компьютеров». Пройдет еще шесть лет, прежде чем Тьюринг и Шеннон встретятся в кафе, где собирались ученые в годы войны. Каждый из их проектов был так подробно классифицирован, что они понимали друг друга с полуслова. Они уже практически были готовы конструировать то, что задумали. Тем не менее «в один знаменательный год компьютерной эпохи» эти два человека заложили основы. В частности, они показали возможности цифрового вычисления, крохотных дискретных решений, выстроенных одно за другим. Спустя менее десяти лет после публикации работы Шеннона огромная аналоговая машина, дифференциальный анализатор, устарела и была успешно заменена цифровыми компьютерами, которые могли выполнять ее работу в буквальном смысле в тысячу раз быстрее, отвечая на вопросы в режиме реального времени. Ее направляли тысячи логических ворот, каждое из которых действовало по принципу «все или ничего». Теперь средой были не переключатели, а электровакуумные лампы. Но дизайн был прямым потомком изобретенного Шенноном.
И все же ничего подобного в 1937 году Вэнивар Буш и предположить не мог, планируя все более сложные и эффективные версии своего дифференциального анализатора. И Клод Шеннон тоже. В целом вся эта замечательная машина уже, возможно, казалась признаком регресса: подразумевалось, что мастерски разработанные диски и шестеренки будут вытеснены переключателями не менее сложными по своей сути, чем телеграфный ключ. Что в этой 100-тонной махине было меньше аналитического потенциала, чем в маленькой коробке, прикрепленной к ее стенке. Что на смену этим столь наглядным машинам, которые могли научить механическому вычислению вручную с нуля, должны были прийти какие-то смутно вырисовывающиеся в перспективе блоки. Со времен Томсона и до Буша аналоговый компьютер был, в некотором смысле, одной из длинных инженерных дорог вслепую. В этой связи следует привести историю Хэпгуда, историка МТИ: «Несколько лет назад один инженер рассказал мне свою фантазию, которая, по его мнению, проливала свет на аспекты инженерного дела или, по крайней мере, на то, что лежало в основе его работы. Летающая тарелка прилетает на Землю, и ее команда начинает облетать все крупные города, плотины и каналы, автострады и линии электропередач. Они следуют за машинами, движущимися по дорогам, и измеряют излучения телебашен. Они телепортируют компьютер в свою тарелку, разбирают его на части и изучают. «Вау, – наконец восклицает один из них. – Разве природа не удивительна во всех своих проявлениях?» Безразличные к любой красоте, что не служит целям выживания, крайне расточительные и неумолимые – природа и техно не так уж далеки друг от друга.
5. Определенно нестандартный тип юноши
Мы уже говорили о том, что большинство великих писателей имеют библиографию, а не биографию. Тот факт, что всю свою жизнь они посвящают работе, не оставляет в итоге почти ничего, кроме самих слов. Даже если бы мы обладали сомнительной привилегией наблюдать за тем, как они ежедневно часами корпят за письменным столом, мы бы получили больше информации просто со страниц их книг. Что-то подобное можно сказать и о Клоде Шенноне в этот период времени, когда он работал с такой скоростью и погруженностью в процесс, как никогда в своей жизни. Что мы можем узнать о том, каким он был, судя по тому, что он сделал? Возьмем для примера отдельные названия научных работ, которые выбрали современники Шеннона, его коллеги на факультете инженерного дела МТИ: «Скин-эффект отношения активного сопротивления к омическому в круговой петле провода», «Исследование двух методов измерения ускорения ротационных машин», «Три механизма разрушения пирексного стекла», «План реконструкции промышленной электростанции», «Предложение по электрификации участков железной дороги в Бостоне и штате Мэн отделения Хейверхилл». Все они были прочно и практично привязаны к миру вещей. В лучших традициях инженерного дела эти специалисты находили новое применение старым материалам или строили физические системы более высоких стандартов или эффективности и силы. Если говорить в этой связи о Шенноне, то и здесь он отличался от своих талантливых собратьев-инженеров. Он оставался изобретателем-самоучкой до конца своих дней и занимался ручным трудом даже тогда, когда в этом не было уже никакой нужды. Но в отличие от других, Клод мог взглянуть на вещи иначе, увидев то, что не способны были заметить другие. Шеннон любил чувствовать предметы под своими руками, до того момента, пока не начинал абстрагироваться от них. Переключатели были не просто переключателями, а образным представлением для математики. В мире найдешь легионы жонглеров и ездоков на одноколесных велосипедах, но лишь немногие из них столь же сильно, как Шеннон, стремились подогнать эти занятия к уравнениям. Но самое важное – это то, что он смог взглянуть абстрактно на проблему связи, определив ту структуру и форму, которые были общими для любого сообщения. Во всех этих начинаниях его отличал не столько объем сделанной работы, сколько эффективность и мастерское конструирование моделей: уменьшение крупных проблем до их основной сути. Искореняя всякое ремесленничество и двусмысленность, ища способы, при которых человеческие артефакты просто представляли бы собой математические символы, Шеннон в свои двадцать лет проделал основную работу, позволяющую оценить всю его дальнейшую деятельность. Есть увлеченные ученые, которые разрываются на части от тех возможностей, что предоставляет им мир, они жадны до фактов. А есть те, кто отходит на шаг назад, и их обособленность – непременное условие их работы. Шеннон относился ко вторым: человек, погруженный в свои мысли. В двадцать лет – его самые продуктивные годы – он довел свое умение абстрагироваться до глубокого ухода в себя и почти деструктивной робости. Однако человек отвлеченный так же мог быть склонен к игре и развлечению – на самом деле он был особенно к этому расположен. Любить те вещи, которые окружают нас, и в то же время с легкостью променять их на «настоящую реальность», состоящую из цифр, теорем и логической мощи – человеку с соответствующим характером мир мог показаться бесконечной шуткой.Переключатели были не просто переключателями, а образным представлением для математики.«Раскройте ваш секрет, как оставаться таким беззаботным?» – обратился к Шеннону журналист уже в более поздние годы его жизни. И Шеннон ответил: «Я делаю то, что получается у меня естественно. А целесообразность не является для меня главной целью… Я постоянно спрашиваю себя: “Как бы ты сделал это? Можно ли заставить машину сделать это? Способен ли ты доказать эту теорему?” Для человека, способного абстрагироваться столь сильно, мир существует не для того, чтобы использовать его, а только для игры, манипуляции с помощью рук и ума. Шеннон был атеистом и, похоже, воспринимал это вполне естественно, не переживая никаких кризисов веры. Размышляя над истоками человеческого интеллекта в разговоре с тем же журналистом, он сказал довольно буднично: «Так получилось, что я не религиозный человек, и не думаю, что, если бы я им был, мне бы это помогло!» И все же в его интуитивном понимании, что мир, который мы видим, представляет собой что-то другое, есть некий намек на то, что его дальние предки-пуритане могли признать в нем родственную душу. Что-то в Шенноне, возможно, его замкнутость и отрешенность от мира, похоже, заставило других людей демонстрировать свое желание защитить его, даже в целом не сентиментальных технарей из МТИ. Худой как палка, провинциал, явно одаренный человек. Угловатое лицо, адамово яблоко, слишком крупное для его шеи: он выглядел как юноша, который постоянно рискует быть ограбленным или сбитым автобусом. Когда его внесли в списки учеников на занятия по летному делу накануне публикации его магистерской диссертации, профессор курса МТИ немедленно вычеркнул его как странного юношу – даже для Кембриджа – и провел опрос мнений среди своих коллег. Проведя свои изыскания, летчик-инструктор написал в письме президенту МТИ: «Я убежден в том, что Шеннон не только необычный, но на самом деле почти гениальный из всех самых необычных и многообещающих студентов». С разрешения президента он запретил Шеннону летать: его жизнь была слишком дорога, чтобы рисковать ею.
Угловатое лицо, адамово яблоко, слишком крупное для его шеи: он выглядел как юноша, который постоянно рискует быть ограбленным или сбитым автобусом.Два дня спустя президент МТИ, физик Карл Тейлор Комптон, написал взвешенное ответное послание: «Я в некоторой степени сомневаюсь в целесообразности того, чтобы заставлять молодого человека отказываться от полетов или самоуправно лишать его предоставленной ему возможности на том основании, что он интеллектуально превосходит других. Не уверен, что в дальнейшем это скажется благотворно на развитии его характера и личности». Итак, получив разрешение администрации, Шеннон сохранил право летать. Ему, как и любому другому студенту, было позволено рисковать своими мозгами. И он рисковал, как и все, осваивая летательные аппараты с простыми двигателями в летной школе. Винты жужжали, как огромные осы, но его полеты всегда заканчивались благополучно. На фото 1939 года он стоит рядом с «Пайпер Каб», легким двухместным самолетом, популярным в те годы в летных школах. Он не по случаю хорошо одет – белый воротничок накрахмален, а галстук туго затянут – и серьезно смотрит в камеру, положив руку на двигатель самолета. Те, кто отвечал за обучение Шеннона, заботились о нем не меньше, чем те, кто отвечал за его безопасность. Буш, описывая его своему коллеге, называл парня «определенно нестандартным типом юноши». «Он очень робкий и застенчивый человек, чрезвычайно скромный, который с готовностью уступит дорогу любому, кто понаглее». Всем было понятно, что диссертация Шеннона предрекала конец эпохи аналогового компьютера, которому его научный руководитель посвятил полтора десятилетия. Однако Буш был достаточно мудрым и опытным преподавателем и инженером, чтобы признать выдающиеся способности студента. Автор научных публикаций Уильям Паундстоун отмечает: «Буш считал Шеннона универсальным гением, чьи таланты могли развиваться в любом направлении». Более того, Буш решил сам выбрать для него направление. К концу 1930-х годов Буш был одной из самых влиятельных фигур американской науки. И Шеннону повезло стать его подопечным. В тот год, когда была опубликована магистерская диссертация Шеннона, Буш убедил его в том, что математика, а не электрическая инженерия была наиболее престижной областью знаний, и поспособствовал тому, чтобы его приняли в программу МТИ по защите докторской диссертации по математике. В то же время связи Буша в инженерном мире помогли Шеннону получить за свою магистерскую работу премию имени Альфреда Нобеля. (К сожалению, она не имела никакого отношения к гораздо более знаменитой премии Альфреда Нобеля.) Эта награда, вручаемая американскими инженерными обществами за лучшую статью, написанную ученым в возрасте до тридцати лет, предполагала ранний выбор направления в конкретной области знаний, а также получение сертификата и денежного вознаграждения в размере 500 долларов. Это также означало скромное признание вне выбранной сферы деятельности, включая краткую заметку – «МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ ИМЕНИ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ» – на восьмой странице «Нью-Йорк Таймс». А в Мичигане в газете Otsego County Herald Times Шеннона провозгласили местным мальчиком, добившимся успеха (естественно, на первой полосе).
Всем было понятно, что диссертация Шеннона предрекала конец эпохи аналогового компьютера, которому его научный руководитель посвятил полтора десятилетия.Когда новость о награде достигла Шеннона, он знал, кого благодарить. «У меня есть смутное подозрение, что вы не только слышали об этом, но и имеете некоторое отношение к тому, что я получил эту награду, – писал Шеннон Бушу. – Если это так, то я вам безмерно благодарен».
И наконец Буш взялся подыскать для Шеннона подходящую тему для диссертации в области генетики. Генетики? Это была не менее подходящая сфера приложения талантов Шеннона, чем переключатели. Схемы можно выучить, и гены тоже можно выучить. Но похоже, требовалось врожденное аналитическое умение, чтобы найти между ними логическую связь. Шеннон уже успешно применял свою «мудреную алгебру» на реле. «Еще одна особая алгебра, – объяснял Буш своему коллеге, – могла бы, вероятно, помочь исследовать некоторые законы наследования Менделя». Если говорить по существу, то Буш был глубоко убежден в том, что специализация в какой-то одной области знаний губительна для гения. «В наши дни, когда возникла тенденция выбирать очень узкую специализацию, нам полезно было бы вспомнить о том, что возможности работать одновременно широко и глубоко не ушли в прошлое ни с Леонардо да Винчи, ни даже с Бенджамином Франклином, – говорил Буш в своей речи в МТИ. – Представители нашей профессии – преподаватели – как правило, приветствуют стремление молодых, пытливых и способных умов интересоваться одним маленьким уголком науки и не проявлять интереса ко всему остальному миру… Печально, когда блестящий творческий ум предпочитает жить в современной монашеской келье». Эта речь предшествовала появлению Шеннона в Кембридже, но произнесенные Бушем слова с легкостью могли относиться и к его ученику. И тогда Шеннон покинул монашескую келью дифференциального анализатора (с почти монашескими ночными сменами дежурящих в тишине молодых людей) и еще более крохотную комнату с вычислительной машиной, работающей с электрическими схемами, и отправился на 320 километров к югу, на Лонг-Айленд, в Колд-Спринг-Харбор, чтобы вернуться оттуда с готовой диссертацией. Если Шеннон и сопротивлялся этому отъезду, то нам об этом ничего не известно.
6. Колд-Спринг-Харбор
Летом 1939 года Шеннон прибыл в одну из крупнейших генетических лабораторий Америки и один изтех научных центров, что вызывали наибольшее смущение – Государственный архив евгеники. В 1910 году, когда это учреждение впервые открыло свои двери, в определенных кругах считалось признаком явного прогресса продвигаться в сторону селекционного отбора «наиболее подходящих семей» и стерилизации «дефективных классов». Основатель этого института утверждал, что «три-четыре процента нашего населения – это боязливый тормоз для всей цивилизации», а его директор даже высылал по почте членам законодательного собрания штатов оценки количества «дефективных» в их округах. К 1939 году это движение зачахло, а преступления фашистской Германии – режима, который воспринимал евгенистов так же серьезно, как самих себя, – окончательно закрепили за ним дурную славу. (На леденящем кровь нацистском плакате 1936 года размещен флаг Соединенных Штатов, а также флаги представителей других наций, которые приняли законы евгеники. Надпись гласит: «Мы не одиноки».) Где-то в списке достижений Вэнивара Буша должна быть упомянута и его роль в уничтожении американской евгеники. Будучи президентом Института Карнеги в Вашингтоне, который финансировал Государственный архив евгеники, он заставил продвигавшего методы стерилизации директора подать в отставку и распорядился об окончательном закрытии офиса 31 декабря 1939 года. И все же ядовитое дерево принесло свои плоды. Шеннон был там в те последние месяцы, набравшись знаний, которыми можно было воспользоваться. Лишь немногим ученым удалось собрать лучшие данные по вопросам наследственности и наследованию, чем те, что были накоплены евгенистами. В некотором смысле евгеника для современной генетики – как алхимия для химии: позорящий родственник, которого прячут на чердаке. Возможно, лучшая подборка научных данных принадлежала Государственному архиву евгеники, который на протяжении четверти века накопил свыше миллиона каталожных карточек с информацией о человеческих привычках и семейных древах.Лишь немногим ученым удалось собрать лучшие данные по вопросам наследственности и наследованию, чем те, что были накоплены евгенистами.Многие из этих карточек были результатом работы нескольких поколений ученых, занимавшихся прикладными исследованиями. Еще больше информации было предоставлено самими субъектами, которые бесплатно предлагали свою помощь в обмен на консультацию по поводу приспособленности к жизни своих отпрысков. В просторном, защищенном от огня хранилище эти карточки стояли в папках, ряды за рядами: физиологические особенности («биохимические недочеты, неспособность различать цвета, диабет»), личностные привычки («недальновидность, бунтарство, благонадежность, раздражительность, агрессивность, популярность, радикальность, консерватизм, склонность к бродяжничеству»), социальное поведение («склонность к преступным деяниям, проституции, наследственная тяга к наукам, алкоголизм, патриотизм, вероломство») и т. д. Каждая черта имела свой кодовый номер, как книга в библиотеке. В поисках информации о способности играть в шахматы Шеннон подступал к папке под номером 4598: 4 – интеллектуальные наклонности, 5 – общая умственная способность, 9 – способность играть в разные игры, 8 – способность играть в шахматы. В этой генетической лаборатории Вавилона почти в хаотичном порядке хранились хорошие, достоверные данные: мусор (ненадежные свидетельства неопытных помощников, исчерпывающие характеристики людей со странностями) и всякая чертова мешанина. К подобному мусору можно отнести наблюдения основателя института в области так называемой талассофилии, или генетической страсти к морю, которая якобы наследуется, заставляя людей заниматься мореплаванием: «Иногда отец, который не проявляет особой любви к морю, может нести детерминирующий признак, способствующий угасанию этой тяги у его потомков. Теоретически возможно, что у некоторых матерей гетерозиготный или гибридный организм, и если они выйдут замуж за мужчину, который обожает море, то половина их детей будет демонстрировать тягу к морю, а половина – нет». И даже если Вэнивар Буш оценил эту мысль, благодаря тому, что у самого было в роду несколько поколений любивших море капитанов, бо́льшую часть этого мусора можно было бы свести к простому предположению, что подобная сложная черта – если она вообще имела какое-то отношение к генетике – могла контролироваться одним-единственным геном. Это был тот мрак, в котором происходило изучение генетики в отсутствие серьезных математических расчетов. Пройдет еще более десяти лет, прежде чем биологи откроют двойную спираль ДНК. В отсутствие доказательств, писал Шеннон, можно лишь рассуждать, «как если бы гены действительно существовали». Если выражаться точнее, то без применения статистики и без возможности оперировать гигантским количеством различных черт в масштабе целых наций генетики не смогли бы объяснить ничего более интересного, чем высота стеблей горошка или форма гребня петуха. Евгенисты завязли бы в бесплодных и опасных размышлениях о гене, ответственном за тягу к морю или за вероломство. Когда Шеннон был еще ребенком, такие ученые, как Д.Б.С. Холдейн, Рональд Фишер и Сьюэл Райт, уже начали наводить крупные орудия статистики на биологию, создавая синтетическую теорию эволюции – синтез Дарвиновской теории эволюции и генетики Менделя, о которой Дарвин не подозревал. И их работа придала неожиданной ценности сырым фактам, собранным в хранилище института человеческой селекции. И именно по этой причине Клода Шеннона вытащили из комнаты, где стоял дифференциальный анализатор, и поручили ему продолжить работу в области популяционной генетики. Потребность в натуралистах и сачках для бабочек исчерпала себя: биология, как и построение компьютеров, требовала математиков.
Задолго до того, как Барбару Стоддард Беркс попросили пересмотреть подходы к изучению генетики, научный руководитель Шеннона в Колд-Спринг-Харбор сочиняла тексты к детским книжкам в картинках: «Тысячи звезд сверкали в небесах, и отец показал мне созвездие Южный Крест, которое состоит из четырех очень ярких звезд, похожих по форме на бумажного змея. Взрослые люди называют эту фигуру крестом, и некоторые очень гордятся тем фактом, что смогли увидеть его, потому что для этого им приходится отправляться в дальние путешествия». Немногие ученые бывали в тех краях, куда ездила Беркс. Еще ребенком она путешествовала с родителями – они оба были преподавателями – и побывала в отдаленных районах филиппинских гор. Когда она вернулась в Америку, то приняла участие в создании книги в картинках под названием «Филиппинское путешествие Барбары», на писан ной ее матерью от лица маленькой Барбары. Она добилась самых высоких званий в американской науке, причем в те времена, когда женщинам все еще не доверяли заниматься точными науками. Будучи старше Шеннона на четырнадцать лет, Барбара также наиболее продуктивно проявила себя до тридцати лет. Но в отличие от Шеннона, эта женщина научилась справляться с коллегами, которые порицали ее за излишнюю агрессивность в отстаивании своих выводов, делая это с той же уверенностью, что и они. Беркс путешествовала, занимаясь своими исследованиями, и вносила статистическую строгость в сферу изучения генетики. Бо́льшая часть ее работы была посвящена извечной проблеме соотношения природы и воспитания, в частности в том, что касается интеллекта. Наибольшие споры вызывали те ее исследования, где она пыталась разделить влияние генетики и окружения на IQ. Так, к примеру, тема «природа без воспитания» означала изучение поведения близнецов, воспитываемых раздельно, а «воспитание без природы» было сравнительным исследованием интеллекта приемных детей и их приемных родителей. В возрасте двадцати четырех лет на основании проведенного ею изучения приемных детей она сделала спорный вывод о том, что уровень интеллекта примерно на 75–80 процентов является наследственным. И хотя Беркс не была отягощена грузом знаний из области евгеники, но она, как и Буш, приехала в Колд-Спринг-Харбор ради хранившегося здесь миллиона каталожных карточек. И в последние годы существования этого учреждения ей удалось обнародовать свой надежный метод отфильтровывать ненужный мусор, собранный в папках, чтобы добраться до пригодной информации.
Но эта вера в собственную оригинальность подвела его: в какой-то момент он представил в качестве нового открытия теорему, которая была уже известна биологам на протяжении двухдесятилетий.Другими словами, Беркс была экспертом в данной области и при этом обладала выдающимся интеллектом. Именно поэтому ее слова прозвучали весомо, когда, прочитав часть предварительной работы Шеннона по генетике, она написала в МТИ, что «Шеннон, конечно же, одаренный человек, возможно, в самой высшей степени». Обращаясь к Бушу, она с ироничным сочувствием попеняла на то, что этому молодому человеку, похоже, почти нечему учиться у них: «Быть руководителем такого юноши, как Шеннон, довольно трудно, не правда ли?» И все же Шеннону пришлось изучать генетику с самых азов. Аллели, хромосомы, гетерозиготность – когда он впервые столкнулся с этим, то признался Бушу, что даже не понимает таких слов. Начав со скудного старта, ему удалось (в целом) овладеть новой наукой и подготовить для публикации научную работу менее чем за год.
«Алгебра теоретической генетики» действительно имела все признаки работы талантливого новичка, заброшенного на чужую территорию – хорошо это или плохо. В своей библиографии Шеннон потрудился сослаться лишь на семь других научных работ, объяснив это тем, что его метод генетической математики был в буквальном смысле беспрецедентным: «Ни одна работа не выполнялась прежде в подобном соответствии со специфическими алгебраическими линиями, как в этой диссертации». Но эта вера в собственную оригинальность подвела его: в какой-то момент он представил в качестве нового открытия теорему, которая была уже известна биологам на протяжении двух десятилетий. Один курс по генетике или несколько дополнительных недель, проведенных в библиотеке, могли помочь ему избежать этого повторного открытия, сделанного человеком, который начал изучать генетику с нуля. Потом он признался Бушу: «Хотя я довольно внимательно просматривал учебники по генетике, я не решился ознакомиться с периодической литературой». Однако при этом Шеннон предложил совершенно новый взгляд на старые проблемы. И там, где его мысль действительно была оригинальной, это происходило почти неосознанно. Подобно генетику Джозефу Конраду, он мог достичь творческих высот в освоенном им языке, потому что в юношеские годы не успел заучить известные клише. Генетическая алгебра Шеннона была, по сути, попыткой повторно воссоздать для клеток то, что он смог создать для электрических схем. До Шеннона электрические схемы можно было изобразить на доске, но не в виде уравнений. Конечно, гораздо неудобнее манипулировать диаграммой, чем уравнением. Но никому еще не удавалось даже начать применять математические правила к чертежу. Все в работе Шеннона было построено на понимании того, что электрические схемы были чисто символическими. А что если гены тоже чисто символичны? Подобно тому, как булева алгебра помогла автоматизировать ментальные усилия вычислительных машин, алгебра генетики могла помочь генетикам предсказывать ход эволюции. Трюк, как и прежде, заключался в том, чтобы абстрагироваться оттого, что было перед глазами. Забудьте о сотне переключателей в коробке, забудьте о том, что 4598 означает игру в шахматы. «Значительная часть силы и простоты любой математической теории, – писал Шеннон, – зависит от использования компактного и наглядного символического изображения, которое, тем не менее, всесторонне описывает изучаемые концепции». На самом деле, эта мысль была уже прочно вбита в головы математиков, которые знали, к примеру, что Ньютон и Лейбниц открыли дифференциальное исчисление почти одновременно, но система символов Лейбница победила как более наглядная. Но какой должна быть наглядная система символизации целой популяции людей, выраженная в генах? Как понял Шеннон, изучив эту область, «гены заключены в палочковидных телах, именуемых хромосомами; большое количество генов лежат бок о бок по всей длине хромосомы». (Сами хромосомы состоят из молекул ДНК, которые кодируют гены четырехбуквенными сочетаниями, хотя об этом никто еще не знал.) У большинства видов, состоящих из более чем одной клетки, особи имеют определенное количество парных хромосом (у человека их двадцать три пары). У тех видов, которые размножаются половым путем, одна хромосома передается от матери, а одна – от отца. Чтобы было понятнее, Шеннон предложил рассматривать организм всего с двумя парами хромосом и шестнадцатью генами. Свой генетический код он представил следующим образом:
A1B1C3D5 E4F1G6H1
A3B1C4D3 E4F2G2H2
Левая верхняя комбинация A1В1С3D5 – это хромосома от одного родителя, а левая нижняя комбинация А3В1С4D3 – хромосома от второго родителя. Вместе они образуют одну хромосомную пару. Колонка из A1 и А3 (буквы выделены жирным шрифтом) составляет позицию генов. Если брать их по отдельности, то A1 – это аллель, или ген от одного родителя с одной наследуемой чертой. Ограниченное количество аллелей возможно в любой позиции генов, а взаимодействие аллелей от матери и отца определяет те качества, которые наследует их потомство. Шеннон перевел в символы возможные аллели с помощью чисел в нижнем индексе. А1 и А3 – это различные проявления одной черты (к примеру, цвета волос – единица обозначает каштановый, а двойка блондин), а качество, которое превалирует, зависит от того, какой ген доминирует. Теперь еще больше упростим эту схему. Допустим, мы хотим изучить целую популяцию индивидуумов, выбрав всего две черты, А и В.
А что если целую популяцию и все ее релевантные гены можно представить в виде всего одного алгебраического выражения?И снова каждый ряд символов получен от одного родителя, а каждая колонка обозначает позицию гена. Скажем, существуют две возможные аллели для А (к примеру, каштановые и светлые волосы) и три для В (высокий, среднего роста и низкорослый). В этом случае получится двадцать один генетически отличный от других индивидуум (поверьте нам), варьирующийся от
A1B1 A1B1 до A1B3 A2B2
Итак, как мы можем смоделировать генетические изменения населения со временем, или предсказать результаты его произвольного смешения с другой группой? Как будет выглядеть новая популяция через пять поколений? А через тысячу поколений? Если бы мы были наделены неограниченным количеством времени и бумаги, то могли бы произвести расчеты отдельно для каждого из двадцати одного индивидуума, соединившихся в произвольном порядке с представителями другой группы. В результате мы получили бы одно поколение, а дальше мы могли бы вновь и вновь повторять этот процесс до бесконечности. А что если целую популяцию и все ее релевантные гены можно представить в виде всего одного алгебраического выражения? Оно должно быть, как отметил Шеннон, одновременно компактным и наглядным: достаточно компактным, чтобы использовать его в качестве единственной величины в уравнении, и наглядным, чтобы его можно было «разобрать» на все его составляющие, когда нам нужно остановить циклы рекомбинации и изучить результаты.
Размышляя подобным образом, Шеннон изобрел символ, чтобы суммировать всю популяцию: λhijk. Данное выражение действительно, как он указывал, является «целой группой цифр». λ – это популяция в целом, h, j, i и k – это гены. По мере того как мы узнаем ряд генов, возможных для данной популяции, мы можем заменить эти буквы рядом цифр. Колонка hj – это одна позиция гена, и так как первая рассматриваемая черта имеет две аллели, значение h или j может варьироваться от 1 до 2. Колонка ik – это другая позиция гена, и так как вторая рассматриваемая черта имеет три аллели, значение i или k может варьироваться от 1 до 3. λ1322 теперь означает не одного индивидуума, а долю целой популяции, имеющей генетический код: A1B3 A2B2. λhijk – это особенно простой способ перевести в символы частоту гена, потому что, как и хорошая оптическая иллюзия, она открывает два разных набора информации, в зависимости от того, как мы ее читаем. Если читать вертикально, то колонки с величинами – hj и ik – означают позиции генов, что подводит нас к качествам любого индивидуума в данной популяции. Если прочитать горизонтально, ряды величин —hi и jk— означают наборы хромосом, каждая из которых наследуется от одного из родителей. Другими словами, это была попытка Шеннона повторить центральный концептуальный скачок, который он применил в своей диссертации, посвященной электрическим схемам. И, как и прежде, рациональный выбор символов – суммирование в параллельном соединении или решетка величин для хромосом – позволил Шеннону упростить и смоделировать будущее на бумаге. Оставшаяся часть его диссертации представляла собой набор генетических теорем, которые стали сферой приложения его алгебраических инструментов. С их помощью он мог оценить вероятность того, что определенный ген проявится у индивидуума после n-поколений. Он мог использовать суммирование для обозначения комбинации нескольких популяций, а умножение – для рандомизированного размножения, и он показал, как вычислять продукт двух популяций, λhijk · λhijk. Там были фракции популяций, воображаемые «негативные популяции» и скорости изменения частоты генов со временем. Он также мог рассматривать «летальные факторы», или естественный отбор и недостаточно адаптируемые черты, рассматриваемые во времени – алгебра эволюции. Он использовал алгебраические уравнения, в которых х была целой группой организмов: располагая данными о генах известной группы в настоящем, он мог заглянуть в прошлое и установить гены неизвестных предков, которые стали основоположниками семейного древа. Но самое важное, он вывел уравнение – двенадцатилинейную махину из соединенных друг с другом скобок и экспонент, – которое давало частоту трех разных аллелей в любой популяции через любое количество поколений. И хотя ряд сделанных в диссертации заключений не был открытием, этот последний итог – экстраполяция в будущее любых трех черт – был абсолютно новым достижением. Менее чем через год после того, как Шеннон освоил новую терминологию, он смог выдать результаты, на пять-десять лет предвосхищавшие ход науки. Но в отличие от сделанных им открытий в области переключателей тока, работа Шеннона о генетике получилась успешной только потому, что уровень абстрагирования был гораздо выше. Есть некая ирония в том, что учреждение, предназначавшееся для практических целей – продвигать идеи селекционного отбора людей, – завершило свое существование такой непрактичной работой. Во всех случаях, за исключением самых простейших организмов, алгебра Шеннона требовала слишком много данных, чтобы сделать реальные прогнозы. «Моя теория дает прогнозы на будущее при наличии всех генетических фактов, – объяснял он позднее. – Но люди не знают всей информации, особенно в том, что касается человеческого организма. Им гораздо больше интересна плодовая мушка!» Спустя два года после смерти Шеннона генетики завершили выстраивание последовательности генома человека. Но даже тогда требовалось еще очень много данных по генетической вариации между человеческими индивидуумами, чтобы алгебра Шеннона заработала. Если что-то и должно было получиться из диссертации Шеннона, то явно не такой мгновенный и ощутимый итог, как цифровой компьютер, а скорее, новые методы и символы, помогающие решать проблемы популяционной генетики в самых общих понятиях. Но даже это пришлось бы претворять в жизнь без помощи Шеннона. Он оставил свою работу в области генетики сразу после того, как она была отпечатана и прошита.
В определенном смысле предметом диссертации был сам Клод Шеннон. Данный проект был инициативой Буша, и гипотеза была его. Гипотеза: субъект, двадцатитрехлетний гений, работающий в научной области, в которой он не получил образования и «даже не знал, что означают конкретные термины», способен сделать оригинальные открытия меньше чем за год. Заключение: подтверждено в целом. В кулуарах Буш потихоньку тщательно изучал мнения своих коллег, признавая, как и прежде, что в работе Шеннона просматривались черты дилетантизма: «Сначала все идет нормально, потом резко прерывается, и обнаруживаешь очевидные грубые ошибки». Тогда уже он был готов огласить Шеннону свой вердикт как можно более деликатно. «Мне нужна ваша поддержка, прежде чем я поговорю с ним относительно конкретной вещи, – писал он гарвардскому специалисту по статистике, – потому что то, что я скажу, может его сильно воодушевить или разочаровать». Такое беспокойство говорит о чувствительном самолюбии, которое Буш видел у своего студента, «человека, с которым следует обращаться крайне деликатно», а также о том простом факте, что в академической жизни Шеннон вплоть до того момента – от Гэйлорда до Кембриджа – не знал поражений. В любом случае Бушу не пришлось сообщать плохие новости: в появившихся рецензиях звучали фразы типа «очень достойно» и «весьма впечатлен». Беркс была особенно участлива, выражая свое одобрение. Существует легенда о том, что математик семнадцатого века Паскаль в возрасте двенадцати лет самостоятельно открыл теоремы евклидовой геометрии, рисуя на полу своей детской. И работа Шеннона, по заявлению Беркс, была чем-то подобным. «Я совершенно точно знаю, что это должно быть слегка отшлифовано, а затем опубликовано», – писал Буш Шеннону не без удовлетворения. Но, несмотря на все это, Шеннон проигнорировал слова своего наставника: его работа по генетике была сдана в архив и забыта. Нет никаких признаков того, что Шеннон услышал нотки снисходительности в его сравнении с двенадцатилетним вундеркиндом, рисующим на полу. Но в то же время он, похоже, не проявлял желания становиться очередным Паскалем, заново открывая уже известные факты. Подобные открытия могли бы сказать много замечательного об их авторах – не получившем образования ребенке или инженере, работающем в новой для себя сфере, – но они бы не сказали ничего нового о мире. Новейшим элементом диссертации Шеннона стал его алгебраический метод, и было бы совершенно удивительно, если бы Шеннон, молодой человек без связей и знакомств, мог убедить генетиков отложить в сторону свои привычные инструменты и начать использовать его. Шеннон понимал это так же хорошо, как любой другой: «Я здорово провел те пару лет, что изображал из себя генетика», – шутил он позднее.
Сама специфичность метода Шеннона и условия изолированности, в которых он был изобретен, делали его неуместным.Помимо восхваления его работы, Беркс и Буш также давали свои объективные оценки возможности того, что данный труд окажет влияние на всю науку в целом. Беркс написала в МТИ, что «лишь немногим ученым удается творчески применить новый и нетрадиционный метод, выработанный кем-то другим, по крайней мере, среди представителей своего поколения». Вместе с похвалой Буш спешил предостеречь своего студента: «Я очень сильно сомневаюсь в том, что твоя публикация выльется в дальнейшую работу, и другие будут применять твой метод, так как в этой области слишком мало индивидов, которые стали бы этим заниматься». Сама специфичность метода Шеннона и условия изолированности, в которых он был изобретен, делали его неуместным. Или же, в лучшем случае, приговаривали его изобретателя к печальной участи генетика-аутсайдера, навязывающего свои условные обозначения скептикам. Для студента, уже снискавшего себе славу одного из самых талантливых молодых инженеров страны, подобное будущее могло показаться малопривлекательным и ненужным. Шеннону, как отметил позднее один из его коллег, «не нужно было портить свою уже сложившуюся репутацию чем-то столь невпечатляющим». С того момента и до конца своих дней Шеннон был непреклонен в том, что касалось любых его публикаций: вложив столько сил в научную работу, прилагать новые усилия к общению было не обязательно. Он решал этот вопрос в пользу собственного комфорта, особенно это касалось случаев, не требующих особого внимания. Вот как Шеннон объяснял это позднее: «После того как я находил ответы на искомые вопросы, для меня всегда было мукой подробно описывать их или публиковать (а только так можно получить широкое признание)». Какой-нибудь более напыщенный ученый мог бы добавить что-то о чистой платонической радости открытия. Но только не Шеннон: «Слишком праздное это дело, мне кажется». Спустя более полувека после того, как диссертация была представлена Бушу и Беркс, издатели работ Шеннона попросили эксперта в области современной популяционной генетики прочитать потерянную диссертацию и оценить ее непредвзятым взглядом. Они хотели получить ответ на вопрос: в случае, если бы эта диссертация была опубликована и прочитана, имела бы она какое-то значение для всей науки в целом? Рецензент сравнил диссертацию с работами двух других молодых математически подкованных генетиков, трудившихся в безвестности в конце 1930-х годов. И хоть он в итоге поставил Шеннона на третье место, ученый выразил сожаление, что «работы всех троих не получили широкого признания в 1940 году»: «На мой взгляд, это бы существенно изменило историю данного предмета». Шеннону же предстояло творить свою историю в другой области. Самое простое объяснение его нежелания публиковать свою работу заключается в том, что внимание его, как это бывало часто, переключалось с одного предмета на другой. В разгар его предполагаемого полного погружения в генетику он решился написать письмо своему руководителю: «Дорогой д-р Буш… Я работаю над тремя различными идеями одновременно, I/, как ни странно, это кажется мне гораздо более продуктивным методом, чем если бы я занимался какой-то одной проблемой… Я то и дело возвращаюсь к тому, что анализирую некоторые фундаментальные свойства общих систем передачи информации, включая телефонию, радио, телевидение, телеграфию и т. д.».
7. «Лаборатории»
Прикладная математика… нуждается в варварах: людях, готовых сражаться, завоевывать, строить, понимать, не думая заранее о том, каким орудием воспользоваться.На это требовалось время. Даже самой значительной написанной и опубликованной магистерской работы в области генетики было недостаточно для того, чтобы получить докторскую степень. Так же как любой другой студент МТИ, Клод Шеннон должен был сдать обязательные языковые экзамены. Поэтому он вернулся в Кембридж и в промежутках между преподаванием на математическом факультете и набрасыванием первых заметок по телеграфии, телефонии, радио и телевидению – обо всем, что математик мог сказать о четырех средствах связи, обладающих общими важными «фундаментальными» свойствами – он переписывал стопки дидактических карточек. Французский был легче, немецкий с первого раза он не сдал. В этом строгом, подчиненном миру цифр распорядке дня он находил время для прямо противоположного хобби. У Шеннона развилась страсть к джазу, особенно к импровизациям, которые он называл «непредсказуемыми, иррациональными». В Гэйлорде он играл на трубе в оркестре духовых инструментов, в Кембридже – на джазовом кларнете в своей комнате. Прослушивание личной коллекции пластинок было единственным моментом, отвлекавшим его от «интеллектуального» проекта, заставляя все чаще засиживаться допоздна, а потом по утрам поздно вставать с постели. Он поселился вместе с двумя соседями по квартире в апартаментах по адресу: Гарден-стрит, 19, недалеко от Гарвард-сквер. Мы можем лишь догадываться, с каким трудом он отрывался от стола, услышав низкий гул голосов каждый раз, когда затевалась вечеринка. Не привыкший к непринужденным разговорам юноша, стоявший в дверях или у стен. Однажды он стоял в дверях на одной из таких вечеринок, когда зернышко от попкорна угодило ему в лицо. Норме Левор, бросившей попкорн, чтобы привлечь внимание высокого тихого молодого человека в дверях, было всего девятнадцать, но она была уже самым искушенным в житейских делах человеком из тех, которых знал Шеннон. Она появилась на свет в фешенебельной квартире одного из небоскребов в западной части Центрального парка в Нью-Йорке. Ее мать была наследницей приличного состояния от галантерейного бизнеса, а отец импортировал высококачественные швейцарские ткани. Одно время она находилась под опекой своего кузена, «красного» голливудского сценариста и драматурга, влившегося в ряды левых с Верхнего Вест-Сайда, а также сестры, учившейся на факультете права Колумбийского университета (где радикальные студенты были троцкистами, как рассказывала Норма, а основная масса студентов – просто обычными коммунистами). Девушка провела лето в Париже, работая там репортером, пока родители не забрали ее домой в преддверии войны («Именно поэтому я и здесь», – говорила она им, но они и слушать ее не стали). После этого она заинтересовалась политологией, выбрав Рэдклифф, а потом оказалась на этой ужасно скучной вечеринке, где тощий молодой человек стоял на пороге своей спальни, слушая джаз на своем собственном граммофоне. Почему ты не выходишь сюда, где все? – спросила она его. И он ответил: – Мне нравится здесь, у меня тут очень хорошая музыка. – А Бикс Байдербек у тебя есть? – Это мой любимый музыкант. И все сложилось. Норма вспоминала потом, что ее привлекла внешность Клода, напоминавшего немного вытянутого в высоту Иисуса, руки Эль Греко – у нее был хороший вкус. У Клода был круглосуточный доступ к комнате с дифференциальным анализатором, и это место, довольно тесное, стало свидетелем их отношений. Наверное, этого времени было слишком мало, для того, чтобы Норма осознала минусы своего недополученного образования или чтобы она обнаружила в личности Шеннона нечто другое, помимо его необычного гения. И слишком мало для Клода, у которого весь опыт ухаживаний до женитьбы заключался в первой порывистой влюбленности, случившейся в двадцать лет. Будучи свободной и не закомплексованной, Норма стала продолжением той его жизни, что он оставил, покидая Гэйлорд. «Мы разговаривали на нашем собственном, понятном только нам интеллектуально-глупом языке, – писала она. – Он обожал слова и повторял “булева” снова и снова ради самого звучания этого слова». Он писал ей стихи, некоторые были довольно игривыми, и все были написаны строчными буквами в стиле лирика-урбаниста Эдуарда Эстли Каммингса. Она сказала ему, что она атеистка в третьем поколении. Он ответил: «А кем ты еще можешь быть?»Бернар Буземи
«Мы разговаривали на нашем собственном, понятном только нам интеллектуально-глупом языке. Он обожал слова и повторял “булева” снова и снова ради самого звучания этого слова».Они были неразлучны с самого начала, причем до такой степени, что Норма столкнулась с «большой проблемой», пробираясь тайком по утрам в свою комнату в общежитии в Рэдклиффе. В начале их отношений Клод был «таким любящим и таким нежным, забавным и милым, с ним было так весело и радостно, так здорово находиться все время, ночью и днем, долгие-долгие месяцы». Попкорн попал ему в лицо в октябре 1939 года. 10 января 1940 года в Бостонском здании суда их расписал мировой судья. Медовый месяц в Нью-Гемпшире был испорчен лишь владельцем отеля, антисемитом, отказавшим им в номере (Норма была еврейкой, Клод, по всей видимости, смахивал на еврея). Шеннон, похоже, был приятно ошеломлен той скоростью, с которой все произошло. Он писал Бушу: «Я женился не на женщине-ученом, как вы, возможно, ожидали, а на журналистке. Она помогала мне с французским, и это очевидно вылилось в нечто большее». Весной он надел шапочку и мантию, празднуя одновременно получение магистерской и докторской степеней, а также членство в Национальном исследовательском институте, которого он добился благодаря помощи Буша. Следующий учебный год он должен был провести в знаменитом Институте перспективных исследований (IAS) в Принстоне. На вопрос о том, как ему повезло попасть в списки студентов этого престижного заведения, он выразился с еще большей для себя долей сарказма: «Ну, я написал туда, и вот что из этого вышло. Все так делают. Расскажите им, какой вы талантливый и умный». Норма прервала учебу на последнем курсе в Рэдклиффе, чтобы последовать за ним – вполне естественный поступок для жены в те дни, но со временем он будет вызывать у нее все больше раздражения. В области политики и журналистики интеллектуальные амбиции Нормы не уступали амбициям ее мужа, но о них пришлось на время забыть. До приезда в Принстон пара успела сделать короткую остановку на лето в доме, где прошло детство Нормы, на Манхэттене. Летом 1940 года Клода во второй раз пригласили в «Лаборатории Белла». Но теперь уже он вернулся не в качестве студента-выпускника, а ученым с докторской степенью, имевшим покровителя в лице Вэнивара Буша. Он направлялся в самую, возможно, передовую технологическую компанию в мире – место, где были собраны самые блестящие умы Америки в области связи.
Захоти, Шеннон, он мог бы продолжить идти по накатанной, занимаясь академической деятельностью, коллекционируя награды и звания и получив в итоге штатную должность и пожизненные профессорские блага. Но Шеннон своей работой доказал, что он тот тип математика, который способен действовать независимо от академии и чья работа могла принести ему нечто большее, чем просто академическую должность. Самый главный наставник Шеннона Буш тоже понимал это и намеревался дать соответствующее направление его жизни. Конечно же, помогло и то, что Вэнивар Буш был в то время корифеем прикладной математики. Возможно, он и не лепил Клода по своему образу, но понимал, что таланты молодого ученого, если правильно их направить, послужат ему во благо и вне стен университета, точно так же, как таланты Буша позволили ему достичь признания в национальном масштабе. Именно Буш взял к себе Шеннона работать с дифференциальным анализатором, и подтолкнул его к тому, чтобы приложить свои знания в области математической логики к теоретической генетике. И именно он в 1938 году внедрил Шеннона в работу по созданию быстрого переключателя микрофиша, «чувствительной считывающей системы, позволяющей быстро отыскивать информацию на пленке с микроизображением». Такая деятельность являлась лишь слабым эхом любой научной работы Шеннона, но это была еще одна возможность заставить своего студента поразмять «математические мускулы» в незнакомой области. Буш тоже обладал чутьем изобретателя-самоучки, и он взялся обработать Шеннона так, как это может сделать опытный наставник: свежая проблема здесь, новая тема для исследования там. А в итоге Шеннон превратится в эксперта прикладной математики высшего ранга. После того как его приняли в Институт перспективных исследований, но еще до отъезда в офис «Лабораторий Белла», Шеннон написал Бушу, прося его совета относительно дальнейшей карьеры. Буш выразил свое участие: «Единственное, что я держу в памяти, это мое ощущение, что вы в первую очередь эксперт в области прикладной математики, а, следовательно, направления ваших исследований должны касаться самых широких сфер, не ограничиваясь лишь областью чистой математики».
Но Буш был не единственным, кто понимал, что истинный потенциал Шеннона скрыт где-то в иной области, отличной от чистой математики. Торнтон Фрай, руководитель математической группы «Лабораторий», тоже заметил это. Фрай был «очень дотошным и строгим человеком». Это был мягкий способ сказать, что тот был человеком в футляре: работая в Национальном центре исследований атмосферы, он «довольно неодобрительно относился к неформальному западному стилю одежды его сотрудников», хотя «это никогда не влияло на его уважительную оценку их работы». В манерах Фрая чувствовалось его происхождение: он был сыном плотника из Огайо. К 1920 году ему удалось отойти от семейного дела и получить три докторских степени в области математики, физики и астрономии. Сочетание удачи и полученных знаний помогло Фраю попасть на работу в «Вестерн Электрик», производственное подразделение компании «AT&T» и одну из ведущих в стране инженерных организаций. Во время собеседования с руководителем исследований компании «Вестерн Электрик» Фрай был неожиданно пойман врасплох. Тот хотел знать, насколько Фрай был знаком с работой наиболее влиятельных в то время инженеров в области связи. Вот как Фрай впоследствии вспоминал свое фиаско во время интервью: «Читал ли я когда-нибудь работы Хевисайда? Я никогда не слышал о Хевисайде… Он спросил меня, а слышал ли я о Кэмпбелле? Я никогда не слышал о Кэмпбелле. По-моему, он спросил меня, слышал ли я о Молине. Не слышал. Всего, о чем бы он ни спрашивал меня, я не знал». И все же что-то в этом слишком правильном молодом человеке внушало доверие. Представители «Вестерн Электрик» решили довериться судьбе и дали Фраю работу. И он блистал. А после того как исследовательские подразделения «Вестерн» и «AT&T» расширились, образовав «Лаборатории Белла», Фрай был назначен руководителем математической исследовательской группы. «Лаборатории Белла» «были там, где будущее, которое мы теперь называем нашим настоящим, постигалось и моделировалось», – писал Джон Гертнер в своей книге «Фабрика идеи», посвященной истории «Лабораторий». Другие оценки были выдержаны в том же ключе: «гордость страны», «идеальное интеллектуальное общество». К тому времени, когда Шеннон влился в ряды сотрудников «Лабораторий», причудливое сочетание технологий, таланта, культуры и уровня развития превратило скромный филиал телефонной компании в локомотив открытий. Это было учреждение, которое штамповало изобретения и идеи с неслыханной скоростью и в невообразимом разнообразии. По словам Гертнера, «чтобы постичь то, что происходило в “Лабораториях Белла”… надо понимать какие возможности может получить огромное объединение людей». Их основателем был изобретатель другой эпохи: Александр Грэм Белл. Американский патент под номером 174,465 – за «метод и аппарат для передачи звуков речи или других звуков телеграфически… путем создания электрических волновых колебаний, похожих по форме на вибрации воздуха, сопровождающие звуки речи или другие звуки» – обеспечил Беллу звание «изобретателя телефона», всемирное признание и значительное состояние. Он основал «Американскую телефонную и телеграфную компанию» («AT&T»), цели которой были отнюдь не скромными: превратить изобретение Белла в национальную телефонную сеть с обширными линиями, многочисленными телефонами и передатчиками. Результат: в течение десяти лет телефон перекочевал из демонстрационных залов лаборатории в дома 150 000 американских жителей. К 1915 году сеть стала чудом инженерной мысли, она опоясывала весь континент, обеспечивая возможность трансконтинентальной связи в то время, когда физическое перемещение с побережья на побережье занимало почти неделю. В 1925 году «Лаборатории» вышли из состава телефонной компании, став отдельной единицей, находящейся под юрисдикцией одновременно «AT&T» и «Вестерн Электрик». Уолтер Гиффорд, президент «AT&T», отмечал, что «Лаборатории», номинально считаясь отделением телефонной компании, могли «продолжать осуществлять научные исследования в масштабе, вероятно, не сопоставимом с возможностями никакой другой организации в стране и даже мире». Целью «Лабораторий Белла» были не просто более чистые и быстрые телефонные звонки. Перед «Лабораториями» стояла задача замыслить и смоделировать будущее, в котором любая форма связи была бы проектом с участием машины. Так называемые фундаментальные исследования стали кровеносной системой «Лабораторий». Если «правило 20 %» «Google» – практика, согласно которой сотрудникам разрешено посвящать пятую часть своего рабочего времени сторонним проектам, – выглядит как вольность Западного побережья, тогда функционирование исследовательских программ «Лабораторий Белла», поддерживаемое федерально одобренной монополией и огромными размерами прибылей, кажется в сравнении с ним прожорливым чудищем. Сотрудникам «Лабораторий» предоставлялась неограниченная свобода. Представьте, исследователя просили подумать над тем, как «фундаментальные вопросы физики или химии могли в будущем повлиять на систему связи». «Могли, в будущем» – исследователи «Лабораторий», вдохновленные этой идеей, обдумывали ее десятилетиями, представляя, насколько радикально технологии способны поменять ход привычной жизни, и удивляясь тому, как «Лаборатории» смогли «объединить всех нас и собрать все наши новые машины в одном месте». Один из сотрудников «Лабораторий» уже более поздней эпохи выразился на этот счет следующим образом: «Когда я впервые попал туда, познакомился с их философией: смотри, то, над чем ты сейчас работаешь, может не иметь большого значения в ближайшие десять-двадцать лет, ну и прекрасно, мы все равно будем там».
За несколько десятков лет исследователи «Лабораторий» изобрели факсовый аппарат, кнопочный набор в телефонии и элемент солнечной батареи.Такая беспрецедентная свобода была мечтой любого ученого, и возможность работать так, как им нравится, притягивала друг к другу ошеломительное количество умов. Бернард «Барни» Оливер, ученый из «Лабораторий», который впоследствии возглавит исследования для «Хьюлетт Паккард», вспоминал типичные размышления своих коллег: «Знаешь, приятель, здесь в моем распоряжении все знания в мире в области электрической инженерии. Мне достаточно лишь снять трубку телефона или встретиться с определенным человеком, и я получу ответ на свой вопрос». Такое сосредоточение талантов в одном месте приносило невиданные дивиденды. За несколько десятков лет исследователи «Лабораторий» изобрели факсовый аппарат, кнопочный набор в телефонии и элемент солнечной батареи. Они сделали возможным осуществление телефонной связи на дальние расстояния и синхронизировали звук и изображение в кинофильмах. Во время войны они усовершенствовали радар, локатор, противотанковый гранатомет и создали защищенную телефонную линию, позволившую Франклину Рузвельту разговаривать с Уинстоном Черчиллем. А в 1947 году исследователи «Лабораторий» Джон Бардин, Уильям Шокли и Уолтер Браттейн сконструировали транзистор – основу современной электроники. Эти трое получили Нобелевскую премию – одну из шести, которыми были награждены ученые «Лабораторий» в двадцатом веке. Одно дело, когда промышленная лаборатория берет на работу ученых с докторской степенью и предлагает им заняться различными остро назревшими инженерными проблемами. Но Нобелевская премия? Какие-то заоблачные проекты? Десять-двадцать лет форы? Даже учитывая ностальгию по тем временам, замечание Торнтона Фрая кажется вполне уместным, когда он, вспоминая свою работу там, называет «Лаборатории» «компанией из сказки». Представьте себе Клинтона Дэвиссона, нобелевского лауреата и исследователя «Лабораторий Белла». Дейви, как его называли, был «похож на привидение… медленно передвигавшийся… почти как спектральная матрица». Субтильный, спокойный житель Среднего Запада, Дейви в основном держался сам по себе и мог самостоятельно ставить себе задачи. Как выразился Гертнер, «ему было разрешено придерживаться позиции ученого, отвергавшего любое руководство, и работать в одиночку или иногда в команде с одним или двумя другими исследователями-экспериментаторами, занимаясь только теми проектами, которые вызывали его интерес». Примечательно, что «его, похоже, особо не волновал вопрос, каким образом его исследование поможет телефонной компании». «Лаборатории Белла» не были ни университетом, ни благотворительной организацией. И все же Дейви было позволено проводить бесконечные эксперименты за счет компании, многие из которых имели лишь самое отдаленное отношение к главному направлению деятельности фирмы. Довольно красноречив тот факт, что Нобелевская премия Дейви, полученная им за доказательство того, что электроны движутся волнообразно (данные тщательно собирались в ходе эксперимента по дифракции электронов на кристаллах), принесла «Лабораториям» славу, но никакого дополнительного дохода. Человек подобного склада ума, строивший свою академическую карьеру по собственному разумению, считался здесь полезным сотрудником, даже если эта польза была неясной. Строго рассчитанные финансовые вложения в фундаментальные исследования означали, что в распоряжении «Лабораторий» в любое время имелось несколько штатных сотрудников вроде Дейви. Конечно, вполне допустимо, что предоставленная ученым свобода выбирать направление исследований была для руководства определенным бременем и источником беспокойства. Умельцы-технари, процветавшие в «Лабораториях», были теми, кто, сталкиваясь с почти бесконечным числом задач, выбирал «правильные»: те, которые сулили прорыв в технологиях или в науке, те, что открывали новые перспективы, а не заканчивались тупиком. Подобный выбор задач всегда был вопросом интуиции и одновременно эрудиции – неделимое зерно искусства в науке. Клод Шеннон был одним из тех, кто чувствовал себя там вольготно. Среди всех институтов, что остались на карте жизни Шеннона, трудно представить место, которое бы лучше подходило ему, чем «Лаборатории Белла» 1940-х годов, учитывая свойственные ему многочисленные увлечения и особый стиль работы. «Я обладал свободой делать все, что хочу, практически с первых дней моей работы, – вспоминал он. – Они никогда не диктовали мне, над чем работать».
Торнтон Фрай не просто взял Шеннона на работу в «Лаборатории», он также приписал его к математической группе, которую создал сам, чтобы быть уверенным в том, что этот талант не пропадет. У Фрая были четкие представления о роли математиков в индустрии. Кто-то назвал бы его романтиком, а кто-то – еретиком. В пространном, вдумчивом размышлении, опубликованном в «Техническом журнале» «Лабораторий», Фрай начинает с того, что указывает на очевидное: несмотря на осведомленность и просвещенность преподавателей математических факультетов университетов, в то время почти отсутствовала практическая направленность подготовки тех математиков, которые стремились «конструировать вещи, а не просто обдумывать их». «Несмотря на то что Соединенные Штаты удерживают явные лидерские позиции в области чистой математики, – писал Фрай, – нет школы, которая обеспечивала бы соответствующее математическое обучение для студента, желающего применить эти знания в области промышленных технологий, а не просто культивировать знания ради знаний». «В наше время считается само собой разумеющимся, что математик высокого уровня может найти высокооплачиваемую работу. Но так было не всегда, и, в частности, не в мире элитных математиков начала двадцатого столетия. То, что ценилось в этих кругах, не имело почти никакого приложения вне университетских стен. Славу приносили решения абстрактных проблем, а потому вся карьера человека могла строиться вокруг поиска решений таких задач, как гипотеза Римана, гипотезы Пуанкаре и Коллатца и знаменитая теорема Ферма. Это были самые величайшие математические загадки в мире. И тот факт, что десятилетиями их никто не мог решить, делал их еще более манящими. Они воспринимались убийственно серьезно, и вопрос о том, имели ли эти решения какую-либо практическую цель или применение, был второстепенным, если вообще возникал.
Славу приносили решения абстрактных проблем, а потому вся карьера человека могла строиться вокруг поиска решений таких задач, как гипотеза Римана, гипотезы Пуанкаре и Коллатца и знаменитая теорема Ферма.Фрай, будучи сам математиком с докторской степенью, понимал это предельно ясно. «Типичный математик, – отмечал Фрай, – не тот тип человека, который станет осуществлять промышленный проект. Он мечтатель, не особо интересующийся вещами или долларами. Он перфекционист, не желающий идти на компромисс, имеющий дело с идеальными материями, не имеющими практической ценности. Он слишком увлечен расстилающимся перед ним широким горизонтом и не может фокусировать взгляд на самом важном». Все это делало большинство выпускников хорошо подготовленными исключительно в том, что касается решения задач, которые имели ограниченную область применения вне математического сообщества. И промышленная лаборатория, таким образом, представляла для математика почти такую же ценность, как рыба для велосипеда. Если только… Догадка Фрая заключалась в том, что не все математики хотели писать научные работы и гоняться за должностью. Он также предположил, что правильное окружение могло бы пойти им на пользу и дать возможность поработать над практическими задачами, заинтересовав «насущными проблемами» и «конкретными разработками». Он был среди тех немногих людей, которые могли поспособствовать реализации этой идеи, превратив феномен «промышленный математик» в новую породу «изобретателя-практика». И он претворил в жизнь свою философию в самом сердце математической группы. Он действовал просто: инженеры «Лабораторий Белла» были «удручающе несведущи в математике». Но математика, при правильном ее применении, могла помочь им решить сложные задачи в области телефонии. В то же время математическая группа служила своеобразным ситом для любого одаренного сотрудника фирмы, который был слишком необычным, чтобы поладить с другими. «Математики – странный народец. Вы и я. Это факт, – заявил Фрай своему коллеге на собеседовании. – Поэтому в отношении любого достаточно странного субъекта, с которым вы не знаете, что делать, вы говорите: “Этот парень математик. Давай передадим его Фраю”. Математическая группа под руководством Фрая начинала как внутренняя консультационная служба: к его математикам обращались за помощью инженеры, физики, химики и другие, но они также были свободны подбирать своих собственных внутренних «клиентов». Они были всегда рядом, чтобы помочь советом или помощью. А вопросы управления и сложные вопросы практической реализации промышленных проектов можно было оставить для других. Как отмечал Генри Поллак, «наш принцип гласил, что мы сделаем что-то один раз, но не дважды». Это давало группе широкие полномочия, гибкие даже с учетом известной всем свободной атмосферы, царившей в «Лабораториях». Один исследовательтой поры сказал: «Наша работа заключалась в том, чтобы совать свой нос в дела каждого». По словам Фрая, «не было ничего, над чем мы не имели полномочий работать, если нам это было нужно». Сам Шеннон вспоминал: «Я работал вматематической исследовательской группе, деятельность которой развивалась в свободном режиме; не столько ориентировались на проекты, сколько пытались как можно быстрее осуществить свои индивидуальные исследования… И мне нравился такой подход, когда я мог работать над своими собственными проектами». В обмен на такую независимость математическая группа активно знакомилась с тем, как работает телефонная компания. Самые первые члены группы залезали на телефонные столбы и оперировали коммутаторами. Они осваивали математику переключений и решали трудные сетевые задачи. Подобно остальным сотрудникам «Лабораторий», они обращались друг к другу исключительно по фамилии. Со временем их практический опыт в сочетании с профессиональными знаниями позволил им углубиться в математику инженерии связи. Математическая группа в конечном счете стала восприниматься как нечто выдающееся внутри индустрии, а замысел Фрая задал новый стандарт для использования математических умов в сфере крупного частного бизнеса.
Однажды летом Шеннон уже приобщился к деятельности «Лабораторий Белла». И хотя о том времени почти не сохранилось письменных свидетельств, нам известно, что из этого вышло. Работа Шеннона в этот период отражена в двух технических отчетах, причем оба они дают представление о том, как математические навыки можно использовать для развития телефонных сетей. Первым научным трудом Шеннона стала работа под названием «Теорема цветового кодирования». В такой сложной системе, как телефонная сеть «Лабораторий Белла», вопросы выбора цвета проводов были серьезным делом. Шеннону была поставлена задача решить следующий ребус: «Существует ряд переключателей, реле и других устройств А, В… К, которые должны быть соединены друг с другом. Соединительные провода сначала образуют кабель, причем концевые выводы, которые соотносятся с А, выходят в одной точке, а те, что с в, – в другой, и т. д. И чтобы различать разные провода, необходимо, чтобы все провода, выходящие из кабеля в одной точке, были разного цвета. Может быть любое количество концевых выводов, соединяющих две точки. У нас может идти, к примеру, четыре провода от А к В, два от В к С, три от С к D и один от А к D. Четыре провода от А к В должны быть все разных цветов, и все они должны отличаться от проводов, идущих от В к С и от А к D. Но при этом три провода от С к D могут быть такими же, как те три от А к В. Также один провод, идущий от А к D, может быть таким же, как один, что идет от В к С. Если предположить, что не более чем m концевых выводов начинаются в любой одной точке, возникает вопрос о предельном количестве разных цветов, которое является существенным для выбора цвета в любой сети». Если данная задача и напоминает школьную задачку типа «два поезда вышли в одно время из одного пункта…», то это потому, что подобные проблемы связаны с поиском математических упрощений. Вот для чего здесь был Шеннон: поиск обходного пути, того, что позволило бы инженерам из «Лабораторий», не имеющих ученых степеней, получить быстрый и легкий способ рассчитать минимально необходимое предельное количество цветов, которое требуется для сетей. И ответ Шеннона – следует умножить количество сетевых линий на 1,5, и тогда самое большое целое число и будет количеством цветов, которые вам необходимы – был тщательным, обдуманным и хорошо доказанным. И пусть он не являлся некой математической легендой, но все равно был в высшей степени полезен. И в отличие, скажем, от алгебры генетики или размышлений над символической логикой и электрическими схемами, подобное решение можно было реализовать немедленно.
Это была работа изобретателя в гораздо более крупных масштабах, в самом сердце телефонной системы.И это было важно. Данная работа демонстрирует нам то, как формальное образование Клода Шеннона-взрослого соединилось с неформальным обучением Клода Шеннона-мальчика, того, чье счастливое детство было посвящено игре со сломанными радиоприемниками и самодельными подъемными устройствами, и то, что расчетливая и практичная часть его натуры оставалась неизменной. Несложно представить, что решение данной конкретной проблемы – какой бы технической и узконаправленной она ни казалась – доставляло Шеннону огромную радость. В конце концов, она представляла собой трудноразрешимую загадку. А еще напоминала о юношеских годах, когда он воображал себя инженером-телеграфистом, строя проволочную телеграфную сеть. Вторая работа Шеннона – «Использование реле Лакатоса – Хикмана» – была попыткой сделать проще и экономичнее применение реле, которые «Лаборатории» использовали для соединения телефонных звонков. Эта работа ставила под сомнение оптимальность сетевой системы реле «Лабораторий Белла» в тогдашнем состоянии и подсказывала вопрос, есть ли лучший способ заставить ее работать. Другими словами, это была работа изобретателя в гораздо более крупных масштабах, в самом сердце телефонной системы. И тогда Шеннон занялся двумя новыми альтернативными вариантами электрических схем, опираясь на свою магистерскую работу – «задуманными благодаря сочетанию здравого смысла и методов булевой алгебры», – и хотя он с готовностью признавал, что каждый из его вариантов имел свои недостатки, он также отстаивал их, как превосходящие те, что предлагались. Впервые оказавшись в «Лабораториях», Шеннон испытывал некоторые сомнения: будет ли промышленная лаборатория сдерживать его способность обдумывать крупные проекты и формулировать новые идеи? По прошествии лета с этими сомнениями было покончено. «Лаборатории» предоставили ему такой широкий простор для творчества, о котором можно только мечтать в профессии. «Для меня было приятной неожиданностью, – писал Шеннон Вэнивару Бушу, – обнаружить, что “Лаборатории” фактически используют [мою] релейную алгебру в проектных работах и учитывают пару новых моделей электрических схем при разработке сетей». Читая эти строки, Буш, вероятней всего, удовлетворенно улыбнулся.
8. Принстон
По окончании летней практики в «Лабораториях Белла» к моменту прибытия Шеннона в Институт перспективных исследований в Принстоне той же осенью его имя было уже известно в кругах математиков и инженеров. Вэнивар Буш, конечно же, в очередной раз приложил к этому руку. Но и другие люди тоже отметили для себя молодого математика. Норберт Винер, математик, пользовавшийся огромным авторитетом среди коллег, написал в 1940 году, что считает Шеннона «человеком необычайного таланта и интеллекта…»: «Он уже проделал работу, отличающуюся невероятной оригинальностью, и, вне всякого сомнения, был перспективным специалистом». 27 сентября 1940 года Освальд Веблен из Института перспективных исследований расхваливал Шеннона в своем письме Торнтону Фраю. Веблен увидел в Шенноне редкий талант и показал его диссертацию Оррину Фринку, лидеру в области топологии. В МТИ Клода также считали неординарной личностью. 21 октября Г. Б. Филлипс, руководитель математического отделения МТИ, телеграфировал своему коллеге по факультету: «Мистер Шеннон – один из самых способных выпускников из всех, что я знаю, и он способен осуществить первоклассное исследование в любой области, которой заинтересуется». Получателем этого сообщения был Марстон Морс, человек, в честь которого было названо целое направление в математике и который вместе с Винером и фон Нейманом входил в число семи лауреатов премии Бохера, одной из высочайших наград в области математики. Морс. Филлипс. Фринк. Фрай. Веблен. Буш. К этому времени у Шеннона был уже внушительный список сторонников и покровителей, влиятельных фигур в области математики. И он, даже не проявляя типичных для амбициозных и талантливых молодых людей стремлений, обрел их поддержку. Он произвел впечатление на людей, которые были проницательными судьями, умевшими оценить интеллектуальный потенциал человека. И они почувствовали в нем своего. Перемещения туда-сюда вдоль побережья, из одного элитного учреждения в другое, от одних наставников к другим – есть некий оттенок бесприютности в таких научных историях, и в частности в истории Шеннона. В данном случае путешествия молодого честолюбивого ученого напоминают не что иное, как спирально-восходящий путь функционера более ранней эпохи, метко описанный Бенедиктом Андерсоном.Морс. Филлипс. Фринк. Фрай. Веблен. Буш. К этому времени у Шеннона был уже внушительный список сторонников и покровителей, влиятельных фигур в области математики.«Он видит впереди себя вершину, о не центр. Он взбирается по кручам серией петляющих движений, которые, как он надеется, будут становиться короче и экономнее, по мере того как он будет приближаться к вершине… В этом путешествии не гарантируется никаких привалов, каждая пауза что-то да предвещает. Чего функционер желает в самую последнюю очередь, так это возвращения домой, ибо у него нет дома, который бы обладал для него неотъемлемой ценностью. И вот еще что: на своем спирально-восходящем пути он встречает других целеустремленных паломников – своих коллег-функционеров из мест и семей, о которых он вряд ли вообще когда что-либо слышал и которые он, разумеется, надеется никогда не увидеть». Кто же эти новые компаньоны Шеннона по Принстону? Из каких мест? Например, Джон фон Нейман, юное дарование еврейско-венгерского происхождения, который в возрасте шести лет мог острить на древнегреческом или без карандаша и бумаги разделить 93 726 784 на 64 733 647 (или любое другое восьмизначное число). Будучи студентом, он однажды в буквальном смысле довел своего преподавателя до слез восторга, а в колледже на лекции «Нерешенные проблемы в математике» царапал ответы в своем блокноте. Фон Нейману мы обязаны появлением теории игр (традиционное изучение стратегических решений), интеллектуальной начинки современных компьютеров и значительной доли квантовой механики. Шеннон называл его «самым большим интеллектуалом, которого… когда-либо встречал». И это было распространенным мнением. То, что начиналось с фанатичного обожания («Я был выпускником, он – одним из величайших математиков мира», – вспоминал Шеннон), в более поздние годы разовьется в нечто, больше похожее на равное партнерство двух первопроходцев в области искусственного интеллекта. Или Герман Вейль, бежавший в Америку от нацистов, математик и философ физики. Как математик, Вейль работал над тем, чтобы объединить достижения в квантовой механике с доктринами классической физики. Как философ он воспринимал теорию относительности Эйнштейна не только как поворотную точку в науке, но как новое осмысление связи человеческого самосознания и внешнего мира. Спустя всего два года после того, как Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, Вейль представил свою исчерпывающую трактовку философских принципов релятивизма. «Было ощущение, словно рухнула стена, отделяющая нас от Истины, – ликовал он. – Это еще больше приблизило нас к пониманию некоего замысла, лежащего в основе всего происходящего». Это был отборный, элитный состав, по меркам Шеннона. И он, возможно, с некоторым трепетом сидел в кабинете Вейля, представляя своему новому руководителю программу исследования на следующий год.
Что если математическая модель послания, отправленного по телефонным или телеграфным сетям, имела нечто общее с моделями движения элементарных частиц?Вейль в целом довольно снисходительно отнесся к работе Шеннона в области генетики (как и сам Шеннон на тот момент), но Клод мог с легкостью обсуждать вопросы современной физики и покорил Вейля тем, что проводил аналогию между таинственной природой кванта, которую пытались разгадать физики, и проблемами применения математических моделей в сфере связи, которые он только пробовал решить. Что если математическая модель послания, отправленного по телефонным или телеграфным сетям, имела нечто общее с моделями движения элементарных частиц? Что если содержимое любого послания и траекторию любой частицы можно описать не как механические движения или хаотичную бессмыслицу, а как хаотично выглядящие процессы, которые подчиняются законам вероятности – то, что физики называют «стохастическими» процессами? Вспомните о «колебаниях курса акций или о бредущем наугад по тротуару пьяном человеке», вспомните также о соло на кларнете, все эти события точно не назовешь подчиненными какой-то системе: возможно, «интеллект» и электроны похожи в этом смысле, так как они совершают случайные перемещения внутри вероятностных границ. Это заинтересовало Вейля. Подобное предположение стало ранним намеком на то, что математика передачи сообщения могла сказать больше, чем самая эффективная модель телефонной сети, предложить нечто более фундаментальное в том, что касается таинственного «плана», о котором догадывались великие физики. Да, это было всего лишь предположение, возможно, полезная аналогия и ничего более. Но с одобрения Вейля Шеннон смог посвятить все свое время изучению вопросов, связанных с «интеллектом», которые он впервые поднял в своем письме Бушу.
И, конечно же, в этом списке был Эйнштейн. Этот великий ученый видел, как нацисты сжигают его книги, и нашел свое имя в списке приговоренных к смерти. Он, как и Вейль, бежал из Германии и в 1933 году обрел убежище в Принстоне. Существует несколько историй, в которых участвуют одновременно Эйнштейн и Шеннон, и, хотя не все они, вероятно, правдивы, мы приведем их все для полноты картины. Норма вспоминала: «Я налила чай [Эйнштейну], и он сказал мне, что я замужем за блестящим, гениальным человеком». Она продолжила свою мысль в другом интервью, где добавила, что Эйнштейн глянул на нее поверх чашки и отметил: «У вашего мужа блестящий ум, такой, каких я больше никогда не встречал». Этот рассказ часто повторялся, но вероятней всего, ничего подобного в действительности не происходило. Дело в том, что к 1940 году Шеннон осуществил интересную и значимую работу, но ничего такого, что привлекло бы внимание Эйнштейна. В конце концов, физика не являлась сферой деятельности Клода. К тому же у нас нет свидетельств того, что Шеннон пытался добиться аудиенции самых известных и влиятельных ученых того времени. Ничто в поведении Шеннона не указывало на его желание представить Эйнштейну свои новые взгляды на тот или иной предмет. Поэтому данная сцена просто не вяжется с тем, что мы знаем о Шенноне. (А Джон Нэш, привлекавший к себе больше внимания, напротив, настойчиво добивался встречи с Эйнштейном, будучи еще студентом, и, по словам его биографа Сильвии Насар, целый час знакомил его со своими мыслями относительно «гравитации, трения и излучения». По завершении этой беседы Эйнштейн сказал: «Вам не мешало бы подучить физику, молодой человек».)
А Джон Нэш, привлекавший к себе больше внимания, напротив, настойчиво добивался встречи с Эйнштейном, будучи еще студентом, и, по словам его биографа Сильвии Насар, целый час знакомил его со своими мыслями относительно «гравитации, трения и излучения».С другой стороны, история, рассказанная другом Клода профессором Артуром Льюбелем, выглядит более убедительно и говорит о том, что интересы Эйнштейна носили более практичный характер: История гласит, что где-то посреди лекции, которую Шеннон читал своим студентам-математикам в Принстоне, дверь, расположенная в конце аудитории, открылась, и в помещение вошел Альберт Эйнштейн. Он послушал несколько минут, шепнул что-то на ухо одному из студентов, сидевших на задних рядах, и покинул аудиторию. По окончании лекции Шеннон поспешил в конец аудитории, чтобы найти человека, с которым разговаривал Эйнштейн, чтобы узнать, что великий человек сказал о его работе. Ответ: Эйнштейн всего лишь спросил, как пройти в мужскую комнату. Льюбель вспоминал, что Шеннон дважды рассказывал эту историю – с той лишь разницей, что в другой версии Эйнштейн спрашивал, где можно выпить чаю с печеньем – эта концовка, по мнению Льюбеля, была более правдоподобной. Если не считать этой истории, то единственное, что вспоминал Шеннон, так это то, что он часто встречал Эйнштейна по утрам по дороге на работу: «Обычно он шел в каких-то домашних шлепанцах и старой потрепанной одежде, почти как бродяга, а я проезжал на машине мимо и махал ему рукой, а он махал мне в ответ. Он даже не знал, кто я такой, но все равно махал мне. Вероятно, считал меня каким-то ненормальным». Помимо всего прочего, рассказ Нормы о похвале Эйнштейна, изменившей жизнь Шеннона, с трудом сочетается с версией Клода о благодушном неведении гения. Но какими бы ни были эти противоречащие друг другу истории об Эйнштейне, они дают нам некоторое представление о двух совершенно разных людях, каких Норма и Клод начали обнаруживать друг в друге, к обоюдному огорчению: она общительная – он немногословный, она открытая – он замкнутый. Менее чем через год после женитьбы оказалось, что, помимо любви к джазу, у них мало что общего.
По правде сказать, Институт перспективных исследований оказался вредным для Шеннона. Для кого-то это научное заведение стало местом праздного ничегонеделания, островком, где отсутствие обычных переживаний из-за работы – студенты, дедлайны, публикации научных работ – скорее отнимало силы, чем вселяло энергию. Физик Ричард Фейнман, работавший над докторской диссертацией в Принстоне, по соседству с Институтом перспективных исследований, где работал Шеннон, знал не понаслышке о некой инертности, которая охватывала человека в определенный момент: «Чувство вины или депрессии зреет в тебе постепенно, и ты начинаешь переживать из-за того, что тебе не приходят никакие идеи… У тебя нет контакта с ребятами, занимающимися экспериментальными работами. Тебе не нужно думать над тем, как ответить на вопросы студентов. Ничего!»
Норма все больше убеждалась в том, что Клод впал в депрессию. Какой бы ни была причина, их брак закончился так же быстро, как начался.У Шеннона этот период продлился всего несколько месяцев, а не всю жизнь. Он никогда не бездействовал так, как основная масса постоянных сотрудников. Но тишина этого места и свобода от всяческих обязательств укрепили свойственную ему тенденцию к изоляции от мира. Большую часть времени он проводил закрывшись в своей комнате и беря в руки попеременно то блокнот, то кларнет, и так без конца. При этом он почти не менял своего положения, переходя от математики к музыке, лишь придвигал стул к столу, ставил джазовую пластинку и подносил поближе кларнет, аккомпанируя исполнителю. Тедди Грейс, с ее чувственным южным контральто, была его любимой певицей.
9. Управление огнем
Война вмешалась в жизнь целого поколения, но в этой бесконечной череде нарушенных планов грант на исследования в сфере укрепления оборонного комплекса страны с участием самых передовых инженеров и математиков страны был подарком судьбы. Шеннон, похоже, понимал это. Вот почему он, вероятно, пытался в начале декабря того года вернуть деньги, полученные им в Институте перспективных исследований. Но отправленный им чек на сумму 166,67 доллара вернулся обратно. «Требования к военной подготовке или другим экстренным оборонным мероприятиям» были исключительным случаем, подчеркивала администрация, и Шеннон мог оставить эти деньги себе, учитывая то, что он продолжит свои исследования в преддверии войны. Торнтон Фрай обратился за помощью к своему коллеге по Национальному исследовательскому комитету, Уоррену Уиверу, чтобы тот помог найти проект для Шеннона. Уивер родился в 1894 году в аграрном Висконсине, учился в местном университете, в 1917 году служил в ВВС. После учебы в университете имени Трупа (позднее переименованном в Калифорнийский технологический институт, или Калтех) он вернулся в Висконсин, чтобы преподавать в университете, а затем возглавить математический факультет, членом которого также являлся Торнтон Фрай. Уивер, как и Шеннон, был родом из глубинки и любил мастерить что-то своими руками. Когда он не был занят научной деятельностью или ее финансированием, он сидел дома, «рубил дрова, передвигал камни, работал в саду, копошился в своей мастерской». Будучи робким и замкнутым мальчиком, Уивер обнаружил в себе тягу к инженерному делу, когда разобрал на части свой рождественский подарок, игрушечный автомобиль на электрической батарейке. «Я не знал, как называть этот род деятельности, и не знал, можно ли зарабатывать на жизнь подобным способом. Но мне было совершенно четко ясно, что разбирать предметы на части и изучать их внутреннее устройство и то, как они работают, было невероятно увлекательно и интересно. Вполне возможно, что в такой маленькой аграрной деревушке, где я жил… не было ни одного человека, который бы имел представление о том, что означает слово" наука”. Мне соответственно объяснили, что это называется “инженерным делом”. С того времени и до момента моего поступления в институт я знал, что хочу быть инженером». Подобная мысль вполне могла родиться и у его грантополучателя, Клода Шеннона. Но на этом их сходства заканчивались. Если Шеннон был открыто признающим себя атеистом, то Уивер был человеком набожным и воспринимал науку как очевидное доказательство присутствия божественного начала. «Я полагаю, что Господь проявляет Себя многократно, во многих образах и в разное время, – писал Уивер. – В действительности Он постоянно проявляет Себя нам сегодня: каждое новое открытие в науке – это очередное “проявление” того порядка, который Бог установил в Своей Вселенной». Если Шеннон терпеть не мог административную работу и бюрократов самого разного толка, Уивер чувствовал себя во всем этом как рыба в воде. В то время как Шеннон считал преподавание досадной необходимостью университетской работы, Уивер наслаждался им. И там, где Шеннон мог усиленно работать над решением математической проблемы или исследованием, опираясь на фантастическую интуицию и инстинкт, Уивер был вынужден признать, что не владеет подобным даром. В своей поразительно объективной оценке своих сильных и слабых сторон Уивер отмечал: «У меня хорошая способность накапливать информацию, организаторский талант, умение работать с людьми, желание объяснять что-то и рвение, которое помогало мне продвигать свои идеи. Но мне не хватает этой непонятной и удивительной творческой искры, отличающей хорошего исследователя. Поэтому я понял, что есть некий потолок моих способностей в качестве профессора математики». Но при всем при этом Уивер был неортодоксальным мыслителем, чьи интересы не ограничивались какой-то одной сферой. Он публиковал научные труды и работал в области инженерного дела, математики, машинного обучения, перевода, биологии, естествознания и теории вероятности. Но в отличие от большинства своих коллег, он верил в существование мира вне границ науки и математики. Ему была чужда слишком распространенная тогда изолированность тех научных областей, в которых он работал, и мыслителей, работавших в них. «Не нужно переоценивать науку, не стоит думать, что наука – это все, – убеждал он своих студентов на лекции в 1966 году. – Я бы не хотел, чтобы вы так сильно зацикливались на науке, что в этой аудитории не осталось бы ни одного человека, который в ближайшие семь дней не почитал бы поэзию. Я надеюсь, что кто-то из вас в ближайшие семь дней послушает музыку, хорошую музыку, современную музыку, хоть немного музыки». И он поступал согласно своим правилам: был, по словам Фрая, гурманом, способным определить сорт вина, виноградник и даже год производства марочного вина. А его самой любимой книгой всю жизнь оставалась «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. К середине 1960-х годов в его коллекции насчитывалось 160 экземпляров книги на сорока двух языках, и это сподвигло его на то, чтобы написать свою книгу «Алиса на многих языках», где он изучал влияние перевода на восприятие и смысл сказки. Уивер во многом отличался от Шеннона: популист, резонер, посредник между наукой и внешним миром. Но в тот конкретный момент эти различия почти не имели значения: он был тем человеком, который увидел потенциал Шеннона и смог приложить его умения к проектам военного назначения. Он наградил Шеннона премией в 3000 долларов и десятимесячным контрактом за проект под названием «Математические исследования проблем управления огнем». Шеннон проделал большую часть этой работы, будучи еще в Принстоне. Но при этом он сотрудничал с двумя инженерами из «Лабораторий Белла», Ральфом Блэкменом и Хендриком Боудом, которые вошли в ту впечатляющую группу людей, что оказали влияние на Шеннона. Управление огнем, по сути, представляло собой науку о том, как поразить движущиеся цели. Целями были любые объекты, которые враг мог запустить по воздуху, чтобы нанести вред – самолеты, ракеты, снаряды. Представьте себе орудие, производящее единственный выстрел по цели. А теперь представьте, что это орудие размером с двухэтажный дом и что оно помещено на военный корабль, плывущий посреди океана, и пытается сбить вражеский истребитель, летящий на скорости 560 километров в час. Это лишь примерное описание той сложной задачи, что стояла в процессе осуществления управления огнем. И она, помимо прочих, была поставлена перед математической группой «Лабораторий Белла», которая должна была спроектировать машины, способные успешно решать данную проблему. Точное определение вертикальных координат, горизонтальных координат, скорости полета снаряда, вероятное расположение цели, время с момента запуска снаряда до его попадания в цель – вся эта информация должна была быть обработана машиной безошибочно, под огнем, в какие-то доли секунд. В первые дни войны стало понятно, как сильно система обороны союзнических войск нуждалась в обновлении. Немецкие люфтваффе – военно-воздушные силы, распущенные согласно Версальскому мирному договору, – были восстановлены с приходом Гитлера и Германа Геринга, и весьма впечатляюще. Именно они были ответственны за разрушение Герники в ходе Гражданской войны в Испании и «Лондонский блиц». Продолжая вести военные действия, Германия разрабатывала и размещала одни из первых в мире крылатых и баллистических ракет. И все же, что такого особенного могли предложить инженеры-телефонисты в данном случае? Как оказалось, многое. «Поначалу могло показаться забавным, что именно группа “Лабораторий Белла” выступила с новыми идеями и приемами, которые можно было применить для решения проблем ПВО», – признавался Уоррен Уивер. И все же, продолжал Уивер, это было вполне естественно по двум причинам. «Во-первых, данная группа долгое время занималась изучением и применением на практике различных приемов работы с электрическими приборами и устройствами. Во-вторых, можно обнаружить удивительное сходство между проблемами прогнозирования в процессе управления огнем и определенными фундаментальными проблемами инженерии связи». На самом начальном уровне скорость и качество информации были крайне важны как для телефонных систем, так и для систем управления огнем. Телефонный звонок, идущий к предполагаемому реципиенту, должен был преодолеть помехи и шум. Снаряд зенитного орудия, поражающий свою цель, представлял собой такую же концептуальную задачу: как добраться из точки А в точку Б с минимальными помехами? В случае снаряда – как учесть воздействие ветра или другого фактора в процессе полета снаряда, помимо десятка других переменных величин? В силу того, что обе задачи требовали быстрого расчета вероятностей – вероятной структуры послания или вероятного положения цели в данный конкретный момент, – обе они нуждались в высокоточных статистических заключениях. И в том и в другом случае стояла задача построить машины, способные точно преобразовывать математические данные в действие.В отличие, скажем, от исследований в области генетики, в процессе сбивания самолетов зенитными установками не было ничего абстрактного.Конечно же, инженеры из «Лабораторий Белла», работавшие над этим проектом, не испытывали никаких иллюзий: даже если в технологических процессах и присутствовали определенные сходства, цена вопроса в том и в другом случае была несопоставима. Если говорить о ведении боя с помощью зенитного орудия, то разница в долю секунды могла означать жизнь или смерть. Для Шеннона, в частности, работа в сфере управления огнем представляла собой решение самых конкретных задач, с которыми он когда-либо сталкивался. В отличие, скажем, от исследований в области генетики, в процессе сбивания самолетов зенитными установками не было ничего абстрактного. Решение проблем в сфере связи и управления огнем было схоже как в концептуальном плане, так и в чисто техническом. «Лаборатории Белла» уже начали работу в сфере управления огнем, когда один из местных инженеров обнаружил, что существующий элемент технологии связи – потенциометр – можно использовать как часть зенитного орудия. Потенциометр использовался в качестве своеобразного движка, реагировавшего на изменения напряжения, скажем, в телефонном или радиоресивере. Молодой инженер из «Лабораторий» Дэвид Паркинсон экспериментировал, соединяя потенциометр с ручкой на ленте самописца, что позволяло начертить выходные данные электромеханических систем. Мысль о том, что подобная вещь может помочь сбивать воздушные суда, пришла к нему, как ни странно, во сне: «Мне снилось, что я нахожусь в орудийном окопе или за земляной насыпью рядом с артиллеристами… Там было зенитное орудие, которое показалось – мне никогда прежде не доводилось видеть зенитное орудие вблизи, и я имел лишь общее представление об артиллерии, – калибром примерно 3 дюйма. Оно стреляло время от времени, и самое поразительное заключалось в том, что каждый залп орудия сбивал самолет! После трех или четырех выстрелов один из стрелков улыбнулся мне и кивком головы подозвал меня подойти поближе к орудию. Когда я приблизился, он указал на торчащий конец левой качающейся части пушки. К ней был прикреплен потенциометр моего уровнемера-самописца! Я не мог ошибиться – это был именно он». Размышляя над этим сном на следующее утро, он понял: «Если мой потенциометр мог управлять ручкой на самописце, то нечто подобное, при соответствующем инженерном решении, могло управлять зенитным орудием». Паркинсон озвучил свою идею старшим коллегам по «Лабораториям», те передали ее вверх по цепочке, и в итоге войска связи получили готовое решение. Прибор управления зенитным огнем Т-10, построенный спустя несколько лет, стал кульминацией сна Паркинсона. Этот проект явился итогом кропотливой работы «Лабораторий» в области связи. Создавая свой прибор, они заимствовали не только язык радио и телефонии, который был им прекрасно знаком, но и составные части этих изобретений. Позднее переименованный в М-9, этот прибор будет активным участником боевых действий: всего было произведено и доставлено на поля сражений свыше 1500 М-9. Благодаря прибору М-9, направляющему орудие, количество снарядов, которые требовались в среднем, чтобы поразить одно вражеское воздушное судно, сократилось с нескольких тысяч до сотни.
Сглаживание представляло собой процесс редактирования информации без увеличения времени расчета.К созданию этих приборов приложили руку многие люди, в том числе Шеннон. «Думаю, что Англия была бы полностью уничтожена, если бы они не получили этих приборов», – говорил он по окончании войны. И если пилотируемые самолеты могли уйти от зенитного огня, «жужжащие бомбы и самолеты-снаряды V-1 шли по идеально прямым линиям и со сравнительно умеренной скоростью, так что их полет можно было очень хорошо спрогнозировать с помощью этих приборов наведения орудия». «Они сбивали примерно 95 % целей, еще до того, как были доставлены в Англию. И я уверен, что, если бы у них не было этих приборов, Англия проиграла бы войну», – утверждал Шеннон. Непосредственная работа Шеннона заключалась в решении проблемы «сглаживания». Ранние аналоги приборов управления огнем могли выдавать ошибочные данные, что приводило к неравномерным движениям орудия. Сглаживание представляло собой процесс редактирования информации без увеличения времени расчета. Результат работы Шеннона, представленный в пяти технических документах, был двойным: усовершенствованная модель Т-10 и отчет по статистике сглаживания. Первый результат так никогда и не увидел свет, а второй имел ключевое значение в процессе боевых действий. Что мог почерпнуть для себя Шеннон из всего этого? Историк Дэвид Минделл сформулировал это следующим образом: «Робота, проведенная “Лабораториями Белла” в области управления огнем, породила новое видение технологий, в результате чего можно было управлять разными видами механизмов (радарами, усилителями, электрическими двигателями, компьютерами) в аналитически схожих условиях. Эта работа проложила дорогу теории информации, системной инженерии и теории автоматического регулирования. Она обеспечила не только создание нового оружия, но и возникновение представления о сигналах и системах. С помощью идей и посредством людей это представление впиталось в инженерную культуру и стало технической и концептуальной основой информационной эпохи». Другими словами, хоть данная исследовательская работа и принесла мгновенные дивиденды, реальным источником ценности была аналогия. Прорыв в науке, осуществленный посредством аналогии, имеет богатую историю. Говорят, что работа Галилео над созданием маятника началась в церкви в Пизе. Там он застыл, наблюдая за покачивавшимся на ветру светильником и отсчитывая его движения своим пульсом. У Ньютона, конечно же, было яблоко. Эйнштейн представлял себя бегущим наперегонки с лучом света. Если говорить о Шенноне, то возникает вопрос: не была ли работа по отслеживанию уклончивой, но предсказуемой траектории полета самолета интенсивным курсом обучения вероятностному мышлению? Если положение воздушного судна лучше всего определяется подобным способом – исходя из того, где, вероятней всего, должна была быть цель, а не где она была, – тогда какие еще цели можно наметить подобным способом? В отчете Шеннона по этой теме, подготовленном им совместно с двумя другими исследователями, подчеркивается факт, что данная проблема – это «особый случай передачи, управления и расходования интеллекта…»: «Вводные данные… представляют собой цепочки последовательностей во времени, подобные сводкам погоды, биржевым курсам, статистическим отчетам и прочему». Эта мысль предвосхитила ключевое понятие более поздней работы Шеннона: источники «интеллекта» – будучи столь разными, как, например, траектория полета снаряда, выводимые данные биржевого телеграфного аппарата, электрические импульсы телеграфной линии и «команды» клеточного ядра, – оказывается, имели нечто общее.
Но все эти идеи еще предстояло обдумать в будущем. В тот момент главное заключалось в том, что работа Шеннона, осуществленная им для Национального исследовательского комитета по вопросам обороны, впечатлила высшие инстанции. «Он проделал для нас потрясающую работу», – отмечал впоследствии Уивер. Фрай, который впервые наблюдал Шеннона в работе летом 1940 года, теперь имел более чем достаточное подтверждение его способностей. И уже совсем скоро ему предложили работать в «Лабораториях» в качестве математика-исследователя на постоянной основе. Шеннон, вероятно, воспринял это предложение с облегчением – не только в профессиональном плане, но и в личном. Рассказы того времени дают нам представление о человеке, находящемся на грани – и это понятно. Ожидание начала войны и переживания по поводу его рухнувшего брака подкосили Шеннона. «Какое-то время казалось, что он на грани нервного срыва, – вспоминал Уивер. – Именно Торнтон Фрай в первую очередь заслуживает похвалы за то, что вытащил его из этого состояния и предложил ему работу в “Лабораториях”. Все остальное – уже история».
10. Шестидневная рабочая неделя
Это война не было войной ученых, в ней участвовали все. Ученые, забыв о своем привычном профессиональном соперничестве, как того требовал здравый смысл, щедро делились своими знаниями и опытом и в то же время многому учились.Головное отделение «Лабораторий Белла», располагавшееся в Вест-Виллидж на Манхэттене,представляло собой научную сборную солянку: химические лаборатории, обширные производственные помещения и «лабиринт из отдельных испытательных лабораторий для телефонов, кабелей, переключателей, проводов, катушек индуктивности и почти бесчисленного набора других важных предметов». Теперь в работе были новые оборонные проекты, и сотни новых лиц проходили здесь потоком, в том числе люди в военной форме. Даже несмотря на то, что несколько сотен сотрудников «Лабораторий Белла» отправились на действительную военную службу накануне нападения на Перл-Харбор, штат компании был раздут до предела: всего за несколько лет число сотрудников выросло с 4600 до 9000 человек. Было запущено свыше 1000 исследовательских проектов, каждый представлял собой маленькую деталь огромной военной машины. Темп работы ускорялся соответственно. «Шестидневная рабочая неделя стала нормой», – пишет Гертнер.Вэнивар Буш
Было запущено свыше 1000 исследовательских проектов – каждый представлял собой маленькую деталь огромной военной машины.«Лаборатории Белла» были не единственными, кто ощущал дыхание войны. Противостояние по ту сторону океана ставило новые задачи для научной элиты страны и многих научных учреждений. Как объяснял Фред Каплан, вспоминая существование науки в годы войны, «это была война, в которой таланты ученых использовались в беспрецедентном, непомерном масштабе». Стоял ряд вопросов, требовавших скорейшего решения. А ученые обладали тем уникальным набором знаний и умений, что требовался для осуществления подобных задач. Каплан перечислил лишь несколько: «Сколько тонн взрывчатого вещества должна содержать бомба, чтобы нанести определенный объем повреждений определенным видам целей? В каком боевом порядке должны летать бомбардировщики? Должно ли воздушное судно быть максимально оснащено боевыми орудиями или же его следует лишить всякой защиты, чтобы сделать легче и маневреннее? Сколько зенитных орудий следует расставить вокруг стратегической цели? Если говорить коротко, как именно следует применять эти новые орудия, чтобы добиться максимального эффекта?» Целое поколение физиков и математиков выросло на подобных задачах. Один из самых вдумчивых анализов математических свершений военной эпохи представил Д. Баркли Россер, профессор Висконсинского университета, опросивший примерно 200 математиков, которые, как и он, трудились на оборону страны. Россер отмечал, что математики играли роль катализаторов, ускоряющих исследовательский процесс и разработку новых технологий, которые в противном случае были бы получены опытным путем и не скоро. «Отношение большинства ученых, вынужденных решать поставленные перед ними задачи, было таковым, что, даже если данная задача не была чисто математической, но при этом требовалось какое-то решение в максимально сжатые сроки, они брались за нее… В отсутствии компетентного специалиста, способного дать ответ на вопрос посредством математики, человек, перед которым стояла эта задача, вынужден был бы прибегнуть к методу проб и ошибок. А это могло бы обойтись очень дорого, да к тому же отнять массу времени. Все мечтали о том, чтобы война побыстрее закончилась. И хотя математики воротили нос от большинства задачкоторые им ставили, они не подавали виду и с энтузиазмом работали над их решением». И поэтому сотни блестящих математических умов мира откладывали свои исследования в сторону, наступали на горло собственной гордости и собирались в научных форпостах в Лос-Аламосе, Блетчли-парке, Тукседо-парке и в «Лабораториях Белла» – там, где военные контракты познакомили вчерашнего выпускника Клода Шеннона с новейшими военными технологиями и достижениями научной мысли. Если говорить о таких людях, как Вэнивар Буш, Джеймс Конант, Джон фон Нейман, Д. Роберт Оппенгеймер и других, то война лишь сняла завесу с их деятельности. Их приглашали на военные консилиумы, с ними советовались президенты; для решения задач, которые перед ними ставились, им доверяли миллионы долларов вместе с людьми и материальными ресурсами. Многие из этих людей уже успели зарекомендовать себя в мире науки и инженерного дела, но в военное время их работа получила также широкое общественное признание. Шеннон тоже мог войти в эту элитную группу, но предпочел отказаться. «Его мало волновало то, что происходило в Европе», – вспоминала его тогдашняя подруга. В отличие от большинства своих современников, Шеннон не проявлял никаких амбиций и желания прикоснуться к миру большой политики. Он не прилагал никаких особых усилий для того, чтобы получить задания, связанные с вопросами обороны страны, а также не пытался делать ставку на свой исследовательский проект в области управления огнем. И это происходило вовсе не из-за отсутствия у него доступа к высшему руководству. Имея Вэнивара Буша в качестве доверенного лица и наставника, а также внушительный послужной список, Шеннон мог легко заполучить самую высокую правительственную должность. Но он не стал этого делать. Напротив, его реакция на военный проект была прямо противоположной: вся атмосфера, окружавшая данное исследование, оставляла горький привкус. Секретность, срочность, работа на износ, обязательная работа в команде – все это, похоже, сказывалось болезненно на его личности. Действительно, по одному из немногих дошедших до нас воспоминаний о том времени, представленном подругой Клода, можно понять, что он, по большей части, был не заинтересован и разочарован работой над оборонными проектами, а своими собственными исследованиями мог заняться только поздно ночью. «Он говорил, что ненавидел эту работу, а потом испытывал сильное чувство вины, когда вставал измученный по утрам и опаздывал на работу… Я брала его за руку и иногда шла с ним до работы – это немного поднимало ему настроение». Это объясняет, почему Шеннон десятки лет спустя неохотно делился воспоминаниями о том периоде даже со своими близкими и друзьями. В более позднем интервью он скажет довольно просто, с ноткой разочарования, что «военные и первые послевоенные годы были трудными и очень загруженными, и [мое исследование] не являлось приоритетной работой». Именно так обстояли дела даже в «Лабораториях Белла», в самом передовом учреждении.
Я брала его за руку и иногда шла с ним до работы – это немного поднимало ему настроение.Но было еще кое-что. Россер подчеркивает то, что математические задачи, выдвинутые на передний план военными нуждами, с трудом можно было назвать математическими, по крайней мере, они не представляли особого интереса для ученых. Военный истеблишмент в определенном смысле щедро вкладывался в научно-технические кадры. По словам Россера, один из его коллег «клялся до конца своих дней… что во время войны он вообще не занимался математикой»: «Да, действительно, решаемые проблемы были в основном весьма прозаичными. Мне ни разу не пришлось прибегать к теореме Геделя или применять эргодическую теорию и оперировать какими-то другими математическими категориями. Однажды скучная монотонность была нарушена, когда мне потребовалось выполнить некие действия с ортогональными многочленами, и я с радостью откопал том Сеге и освежил некоторые знания. Но в основном я работал над тем, с какой скоростью полетят наши ракеты и куда. В хороший день задачи могли подниматься до уровня первого курса математического факультета». Назовите это крайним проявлением профессионального снобизма, но можно догадаться, что Шеннон разделял подобные настроения, пусть даже и не хотел записывать свои воспоминания для потомства. Шеннон, который еще вчера пребывал в аристократической атмосфере Принстона и МТИ, размышляя над увлекательными задачами, наверняка воспринял свой новый род занятий как шаг назад – высчитывать, где, когда и как взорвутся крупные воздушные суда. И все же одной из самых больших удач в его счастливой жизни было то, что Шеннон смог получить постоянную работу в «Лабораториях Белла» незадолго до формального вступления Америки в войну. И хоть он не мог тогда этого знать, его работа над оборонным проектом стала чем-то большим, чем просто расчетом возможностей избежать боя. Его ключевые проекты – секретные системы и криптография – позволили ему понять, чего можно достичь с помощью передовых компьютерных технологий. Даже если он пришел к этим выводам, вынужденно выполняя неинтересную для него работу, он все равно к ним пришел. Лишь впоследствии Шеннон намекнет на то, что именно благодаря военным технологиям он начал понимать широкие возможности будущего технологического прогресса – того, который он, как мог, приближал.
11. Неизъяснимая система
Криптография была «белым шумом» войны: она стала вездесущей, но при этом лишь те, кто обращал на нее пристальное внимание, могли разобраться в ней. Это был один из наименее понятных компонентов военной машины. По сравнению, скажем, с ядерной бомбой, видимым и ощутимым воплощением мощи физики, продукты криптографических аналитиков были мудреными и таинственными и лежали под грифом «секретно» в течение одного и более поколений. Поставленная в первые дни войны задача отправлять и посылать зашифрованные сообщения – и расшифровывать вражеские послания – собрала группу блестящих умов в области математики, естествознания и информационных технологий. Призванная помочь разгадывать коды технология была одним из величайших триумфов войны. Доморощенные компьютерные кодовые названия – ENIGMA, ENIAC, MANIAC, TUNNY, ВОМВЕ, COLOSSUS, SIGSALY и прочее – доказывали насущную необходимость в наращивании криптоаналитической мощи, ускорившей в итоге революцию в области информационных технологий, которой руководили разведывательные структуры. Но мы не станем здесь повторять рассказы о том, как работали шифровальщики в годы войны. Криптография обычно представляется работой талантливых избранных, записывающих что-то в одиночестве. Вот что пишет Колин Берк в своей книге «Волшебство, но не только», посвященной криптологической деятельности Агентства национальной безопасности: «Подобная героизация работы в области криптоанализа далека от истины и не несет никакой пользы. Криптоаналитические и технологические победы давались непросто… Типичный криптоанализ был и остается трудной, напряженной работой по обнаружению моделей и вычленению нужного из огромной массы исходных данных». Структуры, занимавшиеся криптографией, были засекречены, и так как многие документы до сих пор остаются под грифом “секретно”, – книга самого Берка, написанная им в 1994 году, была рассекречена лишь в 2013 году, – фактическое содержание их работы было не до конца понятно широкой публике (и до сих пор остается тайной).Призванная помочь разгадывать коды, технология была одним из величайших триумфов войны.Но этот монотонный фоновый шум войны всегда присутствовал: разгаданные и созданные шифры, тысячи расшифрованных разговоров, груды информации и текста, отсортированные вручную и с помощью машины. Война для радиотехнической разведки заключалась как в шифровке, так и в дешифровке сообщений, как это продемонстрировано в одной знаменитой и трагичной истории. Утром 7 декабря 1941 года Джордж Маршалл, начальник Генштаба, должен был отправить важное сообщение Объединенному командованию Вооруженных сил США в зоне Тихого океана: Япония решила отказаться от политических методов урегулирования разногласий с Соединенными Штатами; страны были на грани войны. Но как передать эту информацию? Единственная система, доступная высшему военному и политическому руководству страны, уже давно считалась ненадежной. Вместо этого сообщение было отправлено с помощью сравнительно медленного радиотелеграфа. К сожалению, оно пришло уже после того, как было совершено нападение на Перл-Харбор. Почти полное уничтожение Тихоокеанского флота стало, помимо всего прочего, призывом к действию для американских шифровальщиков. Страны гитлеровской коалиции тоже направили свои лучшие умы и технологии на то, чтобы попытаться перехватить и расшифровать вражеские разговоры. Вальтер Шелленберг, начальник управления внешней разведки Третьего рейха, подробно описывал одну успешную операцию в конце войны: «В начале 1944 года мы попали в точку, перехватив телефонный разговор Рузвельта и Черчилля, который услышали и расшифровали на крупном немецком посту подслушивания в Голландии. Несмотря на то что разговор был закодирован, мы расшифровали его с помощью высокосложного прибора. Он длился почти пять минут, и из него мы узнали о наращивании военных действий в Англии, что, таким образом, подтвердило многочисленные донесения о грядущем наступлении. Если бы эти два государственных деятеля знали о том, что враг подслушивает их разговор, вряд ли Рузвельт сказал бы Черчиллю на прощание: “Мы постараемся сделать все, что от нас зависит, а сейчас я пойду порыбачу”.
Криптология представляет собой проблему одновременно программного и технического обеспечения. «Программным» обеспечением может быть, в принципе, все что угодно. Как известно, около 500 индейцев племени навахо были задействованы во время Второй мировой войны: их родной язык был достаточно сложным и непонятным, и они передавали зашифрованные послания, не рискуя быть разоблаченными гитлеровской коалицией. В этом суть криптологии: ряд подмен, замена одной буквы или слова другой буквой или словом (или языком). Технологии способны помочь нарастить сложность кода, делая подмены трудными для разгадывания. А потому достижения в области криптографических технических устройств делали коды времен Второй мировой войны все более сложными. Так, к примеру, они позволяли шифровальщикам легко шифровать каждую букву сообщения из разного алфавита шифра, что делало все сообщение в целом гораздо лучше защищенным от взлома. Вот где «Лаборатории Белла» вступили в бой: страна нуждалась в вычислительной машине такой мощи, которая бы обеспечила бо́льшую эффективность шифрования посланий и скорейшую дешифровку вражеских сообщений. Одним из примеров был «Проект X» – самая крупная система скремблирования речи той эпохи. Она была запущена зимой 1940 года и стала еще более актуальной после вступления Америки в войну. Проект был также известен как система SIGSALY: она представляла собой громоздкое электрическое оборудование весом около 55 тонн, занимавшее площадь в 2500 квадратных футов и требовавшее 30 000 ватт электроэнергии. Согласно одной оценке, в 1943 году на систему был выделен бюджет в 5 000 000 долларов, и ее обслуживала команда из 30 рабочих. Внутренний алгоритм работы системы был столь секретным, что патенты на нее не обнародовались вплоть до 1976 года. Зашифрованное сообщение, которое шло по ее проводам, звучало «примерно как блестящее исполнение “Полета шмеля” Римского-Корсакова на скрипке». Для критиков, которые считали эти звуки странными или непонятными, у Уильяма Беннетта, одного из инженеров SIGSALY, был короткий ответ: «Искажение звука сделано в целях безопасности». В каком-то смысле SIGSALY выглядела карикатурой на компьютер середины века: она занимала все помещение, требовала круглосуточного кондиционирования и выдавала маленькие порции выходной информации, требуя большой объем загружаемой информации. (Ходила такая шутка: «Сотрудники, контролировавшие работу машины, периодически жаловались на ужасный коэффициент конверсии – 30 киловатт электроэнергии на 1 милливатт некачественной речи».) Но с другой стороны, все это не имело никакого значения. Эндрю Ходжес, автор биографии Алана Тьюринга, объяснял причину этого: «Машина работала, и это было главным. Впервые в истории засекреченная речь пересекла Атлантику».
В самом сердце системы SIGSALY была заложена технология, именуемая Вокодер. Ее создатель, признанный впоследствии инженерным гением, мог и не стать инженером. Гомер Дадли собирался посвятить свою жизнь преподаванию. Он даже какое-то время работал учителем, занимаясь с учениками пятых-восьмых классов, а потом со старшеклассниками. И хотя учебный материал не представлял никакой сложности для человека с таким интеллектом, как у него, ему не удавалось следить за дисциплиной в классе. Дадли обнаружил, как большинство учителей до и после него, что самое сложное – это поддерживать порядок среди учеников-подростков, и оказался к этому не готов. Поэтому он оставил преподавание и занялся изучением электрической инженерии, сделавшись сотрудником технического отдела компании «Вестерн Электрик», предшественника «Лабораторий Белла». Для него это был более благодарный карьерный выбор: за четыре десятка лет его работа в области телефонии и синтеза речи принесла ему тридцать семь патентов. Сам того не подозревая, он совершил научный прорыв, который имел глобальные последствия. Дадли выдвинул гипотезу, что звуки человеческого голоса могут быть сымитированы машиной: если человеческий голос был на самом базовом уровне последовательностью вибраций воздуха, тогда почему бы эти вибрации не воспроизвести механически. Чтобы опробовать свою идею на практике, он сконструировал пару машин. Одна должна была кодировать речь в электронном виде (Вокодер, или «голосовой шифровальщик» (Voice Encoder)), а вторая осуществляла обратный процесс и выдавала генерированную машиной речь (Водер, или «демонстратор обработки голоса» (Voice Operation Demonstrator)). Вэнивар Буш находился в числе зрителей, наблюдавших демонстрацию последней в рамках Всемирной выставки 1939 года, где она стала хитом. Вот как он вспоминал об этом: «На недавней Всемирной выставке была продемонстрирована машина под названием Водер. Девушка нажала на клавиши, и та выдала различимую речь. В течение всего процесса не были задействованы человеческие голосовые связки. Переключатели просто сочетали генерируемые электричеством вибрации и передавали их в репродуктор. В ”.Лабораториях Белла” существует машина с обратным процессом, которая называется Вокодер. Репродуктор заменен микрофоном, собирающим звук. Если в него что-то сказать, то начнут двигаться соответствующие клавиши». Лишь позднее изобретение Дадли поступило в распоряжение военных. Способный вычленять информацию из человеческого голоса, Вокодер стал идеальной основой для создания системы SIGSALY. Одна из ключевых сложностей системы кодирования заключается в следующем: каждая новая буква или слово в сообщении – это потенциальная возможность для взлома шифра врагом. Другими словами, чем менее оно коммуникативно, тем лучше. Так как Вокодер пытался шифровать и воспроизводить гласные и согласные с минимальной затратой энергии, он выжимал излишки человеческой речи. Результатом этого была экономность передаваемой информации. Другими словами, шифровалось только то, что было необходимо, и ничего больше, сокращая, таким образом, тот объем информации, который может быть подвержен дешифровке со стороны врага.
Система SIGSALY была настолько секретной, что, даже являясь членом проектной команды, Шеннон не знал, для чего он производил все эти числовые расчеты.Задача передать максимум информации с минимальным риском ее раскрытия была жизненно важной, одной из самых насущных и сложных задач военного времени. «Лаборатории Белла» стали одним из национальных лидеров в этой области и даже получили за это награды, включая премию «Лучшая технология обработки сигнала» в 1946 году. Система SIGSALY оставалась засекреченной, поэтому ее внутреннее устройство не было продемонстрировано аудитории, присутствовавшей на вручении премии. Но представитель «Лабораторий» все-таки позволил себе выразить благодарность с помощью закодированного телефонного звонка: «Phrt fdygui jfsowria meeqm wuiosn jxolwps fuekswusjnvkci! Thank you!»
Шеннон был частью команды, состоящей почти из тридцати человек, которые работали на определенных участках проекта SIGSALY. Перед ним стояла задача проверять алгоритмы, которые надежно и безопасно воспроизводили бы сообщение на приеме. Система SIGSALY была настолько секретной, что, даже являясь членом проектной команды, Шеннон не знал, для чего он производил все эти числовые расчеты. Но эта работа позволила ему заглянуть в мир зашифрованной речи, передачи информации и криптографии – уникальный синтез научных направлений, который на тот момент, возможно, нельзя было встретить нигде, кроме «Лабораторий Белла». Как отмечал Шеннон, «не много лабораторий владели шифровальными приборами для скремблирования речи». Впоследствии Шеннон признает, что криптография была «очень приземленной наукой о том, как шифровальщик должен работать и что должен делать». Но большая часть работы Шеннона предназначалась не для шифровальщиков. Когда Шеннон занимался вопросами шифрования вне рамок проекта SIGSALY, он писал больше для аудитории «математиков или мыслителей в области криптографии», чем для рядовых шифровальщиков. Как он сам признавался, его научная публикация в области криптографии «не получила той оценки… которую я ожидал получить от шифровальщиков». Позднее один из специалистов отметит, что в работе Шеннона по теме криптографии сквозило «желание привнести свой посильный вклад в дело обороны страны, и не важно, в какой области». Если же говорить в целом, то самым важным итогом работы Шеннона в области криптографии стало то, что она заложила строгую теоретическую основу для большинства ключевых понятий данного направления. Ежедневная кропотливая работа ученого над вопросами криптографии в годы войны принесла свои плоды. Но сама работа была опубликована в виде секретного документа лишь 1 сентября 1945 года – за день до того, как был подписан Акт о капитуляции Японии. Этот научный труд, «Математическая теория криптографии», содержал важные антецеденты более поздних работ Шеннона, а также впервые доказанное центральное понятие криптологии – «ключ одноразового использования». Система ключа одноразового использования была концептуальной основой Вокодера, созданного в «Лабораториях», но задуманного впервые еще в 1882 году. Нужно, чтобы зашифрованному сообщению предшествовал ключ для расшифровки. Этот ключ должен быть секретным, абсолютно бессистемным набором символов такого же размера, как сообщение, и может быть использован лишь однократно. Приложенные Клодом Шенноном усилия и временной промежуток более чем в полвека доказали, что кодовую систему, созданную в таких суровых условиях, невозможно взломать и что полная секретность криптографической системы вполне реальна, по крайней мере, в теории. Даже имея в своем распоряжении неограниченную вычислительную мощь, враг не мог взломать код, построенный на подобной основе. Криптографический труд Шеннона вполне естественно попал в сумрак разведывательного аппарата, мир засекреченных файлов и тайн, где результат научного исследования скрывался даже от его автора. Впоследствии Шеннон выскажется об этих людях следующим образом: «Этих ребят точно не назовешь разговорчивыми. Они были самыми скрытными людьми в мире. Было очень сложно выяснить, к примеру, кто является главными криптографами в стране». Работа Шеннона оставалась закрытой для широкой публики на протяжении еще пяти лет. Истинное ее значение, как оказалось в итоге, заключалось не в создании нерушимого кода, а, скорее, в том, что об идеях и понятиях, лежащих в основе его революционной теории информации, вновь заговорили: «Это был мощный поток идей, идущий от одного к другому, туда-сюда».
12. Тьюринг
Работа Шеннона в области криптографии имела еще одну ценность: она дала ему возможность познакомиться с гигантом цифрового века Аланом Тьюрингом. В 1942 году Тьюринг приехал в Америку в рамках организованного правительством ознакомительного тура с военными проектами в области криптографии. К этому моменту его имя говорило само за себя. Еще в начальной школе он демонстрировал поразительные знания в математике, к шестнадцати годам освоил труды Эйнштейна, а в двадцать три года был избран членом научного общества Королевского колледжа Кембриджского университета. В 1936 году он задумал создать «машину Тьюринга» – судьбоносный интеллектуальный эксперимент, ставший теоретическим фундаментом для создания современного компьютера. Тьюринг также занялся криптоаналитической деятельностью, которая прославила его на весь мир. Именно криптография привела его в Соединенные Штаты с целью установить контакты с американскими коллегами, встретиться с военным руководством и оценить качество и безопасность американских машин. Помимо прочих проектов, его также интересовала система SIGSALY. На случай если бы британскому руководству понадобилось воспользоваться данной системой и принять сообщения, доктор Тьюринг должен был подтвердить, что система и вправду надежная. Секретность этой миссии, репутации Тьюринга и Шеннона и военная атмосфера придавали встрече двух мыслителей оттенок интриги и тайны. Но в их общении не было ничего авантюрного. По словам биографа Тьюринга Эндрю Ходжеса, Шеннон и Тьюринг встречались каждый день, за чаем, на публике, в довольно скромном кафе «Лабораторий Белла». Тьюринг в некотором смысле завидовал многогранной карьере Шеннона. «Здесь [Тьюринг] встретил человека, который был одновременно мыслителем, философом и инженером – та роль, которая бы могла прийтись по вкусу Тьюрингу, если бы позволяла английская система». Шеннон, в свою очередь, был восхищен свойствами мышления Тьюринга. «На мой взгляд, у Тьюринга блестящий ум, уникальный и неповторимый», – говорил позднее Шеннон.Шеннон и Тьюринг встречались каждый день, за чаем, на публике, в довольно скромном кафе «Лабораторий Белла».Никто из них не оставил воспоминаний о совместных беседах. Но нам известно, что оба избегали обсуждения одной темы. «Мы совсем не касались темы криптографии… Уверен, что мы не обменялись ни словом по этой проблеме», – объяснял Шеннон. Когда его спросили, знает ли он, над чем сейчас работает Тьюринг, Шеннон ответил, что ему известно об этом лишь в общих чертах. «Конечно же, не во всех подробностях. Я знал или догадывался о том, чем он занят… Я не имел представления об “Энигме”… Я не знал об этом, так же как не знал, что он является ключевой фигурой данного проекта». Тогда журналист поднажал на Шеннона, допытываясь, почему же он, с его страстью и опытом в области криптографии, не прозондировал почву глубже и не расспросил Тьюринга. Шеннон ответил просто и по делу: «Ну, во время войны не приходится задавать слишком много вопросов». Для кого-то явная неинформированность Шеннона и Тьюринга о работе друг друга могла показаться попыткой двух криптографов умно замести следы. Но в то же время вполне вероятно, что ни один из мужчин не хотел ставить другого в неловкое или компрометирующее положение. Работа и стой и с другой стороны была полностью засекречена. Информация, которую получали и тот и другой, была предназначена либо только для них, либо, в крайнем случае, для ограниченного круга лиц. Поэтому неудивительно, что во время перерыва на чай с пирожными эти двое мужчин разговаривали о чем угодно, но только не о работе, что занимала все их время. Еще одна возможная причина такого поведения заключалась в том, что интерес к тому, насколько американцы были готовы поделиться с англичанами своими секретами, не угасал. Даже для человека с таким статусом и репутацией, как у Тьюринга, прояснить для себя некоторые вопросы во время американского турне было тяжким испытанием. Как ни странно, но по прибытии в страну он был задержан представителями американских властей: «Я приехал в Нью-Йорк в пятницу 12 ноября. На острове Эллис меня задержали представители иммиграционной службы, которые вели себя весьма заносчиво, не обнаружив у меня нужных бумаг для того, чтобы связать меня с представителями Госдепа». Несколько месяцев спустя американский генерал Рекс Минклер дал отказ на просьбу Тьюринга войти в состав «Лабораторий Белла». И хотя поданное им заявление было в итоге одобрено, это событие ознаменовало начало затянувшегося противостояния «Лабораторий Белла» с представителями национальной системы безопасности. Тьюринг писал: «Я собирался сообщить о своем намерении Поттеру из ”.Лабораторий Белла”, без всяких формальностей, просто по телефону. Очевидно, это было неправильным шагом… Возникла какая-то проблема, потому что у нас не было письменной договоренности о том, чтобы дать мне возможность познакомиться с проектами, не связанными с приборами скремблирования речи. В то время как я приехал с пониманием того, что мне покажут все, что связано с процессом шифрования речи… Я сразу же столкнулся с трудностями, связанными с запретом для всех британцев на посещение этих секретных объектов. Тогда вмешался капитан Хастингс, оказав давление на генерала Колтона, и теперь, похоже, все в порядке». Тьюринг был не единственным, кто столкнулся с бюрократическими ошибками американской системы, и подобная путаница не ограничивалась лишь работой представителей иммиграционной службы или деятельностью, связанной с допуском к секретным материалам. Несмотря на то что союзные войска действовали совместно с момента подписания закона о ленд-лизе, представители этих стран не всегда сходились во взглядах в том, что касалось вопросов криптографии. Конкурирующие системы, методы и личности вынуждали обе стороны относиться друг к другу с подозрением. Терпения не всегда хватало, и тогда страдало самолюбие. Конфликт объяснялся частично существенным различием характера американской и британской военной машины и их «неполным союзом». Несмотря на активный рост объемов военной продукции, британцы просто не могли угнаться за американцами, которые превосходили их по скорости и масштабу промышленного производства. Тьюринг наблюдал это воочию, и его уважение к американским мозгам подкреплялось его оценкой американской военной мощи. Так, к примеру, после своего визита в министерство ВМС он написал: «Я убежден в том, что нельзя до конца доверять этим людям в том, что касается суждений в области криптографии… Но все равно я считаю, что мы можем почерпнуть для себя много полезного, познакомившись с их техникой». Подобное сдержанное недоверие было привычным в отношениях обеих сторон. Определенные достижения британцев в области шифрования держались в тайне от американцев, и у Тьюринга не было четкого понимания того, чем ему можно было делиться с принимающей стороной, а чем – нельзя. Тьюринг, известный своей довольно бесцеремонной и обескураживающей манерой поведения, не собирался ни перед кем заискивать, когда сама цель его приезда была столь туманной и неопределенной. Да к тому же он не был прирожденным дипломатом, способным действовать тонко и искусно.
Конфликт объяснялся частично существенным различием характера американской и британской военной машины и их «неполным союзом».Но в каком-то смысле неважные отношения сторон и ограничения, сковывавшие и Шеннона и Тьюринга, позволили этим двоим свободно обсуждать другие общие интересы. Дружба возникла там, где могли закрепиться лишь строго профессиональные отношения, имей они возможность открыто беседовать на криптологическую тему. Еще до войны и Тьюринг и Шеннон имели схожие увлечения, помимо своей основной научной деятельности. И во время своих бесед оба они затрагивали ряд важных передовых идей. Шеннон вспоминал, что за чашкой чая «мы обсуждали вопросы математики». В частности, обоих ученых занимали идеи создания мыслящих машин, а именно, как отмечал Шеннона, «идея построения компьютеров, которые будут “думать”, а также вопрос о том, что можно будет делать с такими компьютерами, и прочее». Далее он писал: «У нfс с Тьюрингом было ужасно много общего, и мы много говорили об этом. Он уже написал свой знаменитый труд о так называемых" машинах Тьюринга” – так их сейчас называют. А тогда их называли иначе. И мы много времени обсуждали вопросы устройства человеческого мозга. Как он устроен, как он работает, и что можно сделать с машинами, и можно ли сделать с машинами то же, что и с человеческим мозгом, и так далее. И все в таком духе. Несколько раз я обсуждал с ним мои идеи, связанные с теорией информации, и он заинтересовался ими». Они оба были увлечены перспективой появления первых компьютеров, а также возможностью создания компьютера, играющего в шахматы. А вот что пишет Шеннон в 1977 году: «Ну, если вспоминать 1942 год… компьютеры тогда, можно сказать, только начали появляться. В Пенсильванском университете у них были такие машины, как ENIAC… Теперь они казались бы медленными, очень громоздкими, объемными и прочее. Эти компьютеры занимали пару комнат такого примерно размера, а их вычислительные возможности равнялись приблизительно возможностям одного из тех маленьких калькуляторов, которые можно купить сейчас за 10 долларов. Но мы, тем не менее, видели в них потенциал – то, что в итоге произошло здесь, – если бы только можно было сделать их дешевле и увеличить продолжительность их работы, чтобы они работали дольше десяти минут, к примеру. Это было и вправду весьма увлекательно. Мы мечтали и обсуждали с Тьюрингом возможности осуществления полной имитации человеческого мозга: а можно ли в действительности получить компьютер, который будет эквивалентом человеческого мозга или даже превзойдет его? И тогда, возможно, это казалось легче, чем сейчас. Мы оба считали, что это должно стать реальностью довольно скоро, через десять или пятнадцать лет. Но мы не угадали, его не создали и через тридцать лет». По сути своей, Шеннон был закрытым человеком, с гораздо меньшим количеством приближенных к нему лиц, чем можно было бы предположить, учитывая его статус в научном сообществе. Вращаясь в кругу самых признанных в мире ученых, математиков и мыслителей, Шеннон всегда производил впечатление застенчивого человека. Присутствуя на конференциях вместе с другими светилами науки той эпохи, он, как правило, никогда не начинал беседу первым, а ждал, когда к нему обратятся. Он не был постоянным собеседником тех ключевых фигур, с которыми общался, и посещал лишь часть тех конференций, на которые его приглашали. Он был из тех, у кого понятие «нетворкинг» вызывало отторжение, если только это не касалось телефонных линий. В свете всего вышеизложенного факт того, что Шеннон с таким энтузиазмом наладил контакт с Тьюрингом, кажется таким же неординарным, как все, что обсуждали эти двое. То, что Шеннон смог за те несколько коротких месяцев, что они провели вместе в «Лабораториях Белла», заслужить доверие и дружбу Тьюринга, красноречиво говорит о высоком мнении, которое сложилось у каждого в отношении друг друга. Тьюринг был, по словам Шеннона, «весьма впечатляющей личностью». Он бывал даже в гостях у Шеннона – редкость для хозяина дома, предпочитавшего компанию в лице себя самого, как, впрочем, и гость. После возвращения Тьюринга в Англию уже после окончания войны они с Шенноном встретились еще один, последний раз. В 1950 году Шеннон отправился в Лондон на конференцию и выбрал время, чтобы навестить Тьюринга и его лабораторию. Шеннон вспоминал: «Находясь там, мы ездили в лабораторию Тьюринга в Манчестерском университете… Его занимала идея создания программы для компьютера, играющего в шахматы… и эта проблема была крайне интересна и для меня. В это время он усердно трудился над составлением такой программы. У него был там свой кабинет, и компьютер. Все это происходило на заре компьютерной эры». Эти двое обсуждали успехи Тьюринга в создании компьютерной программы. Даже десятилетия спустя Шеннон вспоминал одно из изобретений Тюринга: «Я спросил его, чем он занимается. И он ответил, что пытается найти способ получить хорошую ответную реакцию компьютера, чтобы знать, что происходит у него внутри. И он придумал эту удивительную команду. Дело в том, что в те времена они оперировали индивидуальными командами. И целью было нащупать хорошие команды. И я сказал, а что такое команда? И он ответил, что команда означает дать сигнал на рубильник. Теперь позвольте мне объяснить, что это значит. Рубильник… в Англии означает репродуктор. И дать сигнал на него означает дать сигнал на рубильник. Ну и в чем же польза от этой безумной команды? Польза этой команды заключается в том, что, если вы находитесь в цепи, вы можете воспользоваться этой командой в этой цепи, и каждый раз, когда она станет проходить по цепи, она будет подавать сигнал, и вы будете слышать частоту, равную тому времени, за которое она проходит по цепи. А потом вы можете добавить еще одну команду в более длинную цепь и так далее. И тогда вы услышите все происходящее, услышите эти звуки “бу-бу-бу-бу-бу”. И его идея заключалась в том, что в скором времени вы научитесь слушать эти звуки и будете знать, когда произошел сбой в цепи, или что-то еще, или что происходило все это время. Раньше же он ничего не мог сказать об этом». Это была во всех смыслах приятная поездка – послевоенное воссоединение двух основателей информационного века. То был последний раз, когда они общались лично. Спустя четыре года после визита Шеннона Тьюринг – вскоре после обвинения его в «грубой непристойности» (в то время гомосексуализм преследовался по закону) – умер от отравления цианистым калием. Его смерть признали самоубийством, хотя об обстоятельствах гибели ученого спорят до сих пор.
13. Манхэттен
Древняя дисциплина математика… не так поощряет скорость, как терпение, изобретательность и – возможно, самое удивительное – некий дар сотрудничать и импровизировать, который отличает лучших джазовых музыкантов.После развода с Нормой Шеннон вновь стал холостяком, живя без всяких привязанностей в маленькой комнате в Гринвич-Виллидж, с работой, занимавшей все его время. Вечера он проводил в основном один. Именно в этот период жизни Шеннон был максимально свободен в действиях. Он работал вне фиксированного графика, включал музыку на полную громкость и наслаждался исполнителями нью-йоркской джазовой сцены. Он ходил ужинать в шумные ночные заведения и заскакивал в шахматные клубы в Вашингтон-сквер-парке. Он ездил на поезде А до Гарлема, чтобы потанцевать джиттербаг и посмотреть шоу в «Аполло». Он ходил в бассейн в Виллидж и играл в теннис на кортах, что располагались вдоль края реки Гудзон. Однажды он споткнулся о теннисную сетку и так сильно ушибся при падении, что ему пришлось накладывать швы. Его домом была маленькая нью-йоркская студия на третьем этаже дома по адресу: Западная 11-я улица 51. «Там была спальня, располагавшаяся неподалеку от ванной комнаты. Она была старой. Это было что-то вроде пансиона… довольно романтично», – вспоминала Мария Моултон, соседка снизу. Наверно, вполне предсказуемо жилище Шеннона представляло собой полный бардак: все в пыли, вещи разбросаны, а части большого музыкального проигрывателя лежали разобранные на основном столе. «Зимой там было холодно. Тогда он разрубил топором свое старое пианино и топил им камин, чтобы согреться». Его холодильник почти все время был пустым. Проигрыватель и кларнет были едва ли не единственными ценными вещами в этой спартанской обстановке. Окна в комнате Клода выходили на улицу. В том же доме снимал жилье Клод Леви-Стросс, великий антрополог. Впоследствии Леви-Стросс обнаружит, что его творчество во многом впитало научные идеи его бывшего соседа, хотя, живя под одной крышей, эти двое редко контактировали.Гарет Кук
Шеннон был, вспоминала она, поглощен математическими задачами, над которыми работал по вечерам, а когда они ходили в рестораны, то прямо посреди ужина он мог начать писать на салфетках какие-то уравнения.Несмотря на то что живший в этом же здании управляющий домом Фредди считал Шеннона необщительным и немного диковатым человеком, Клод все же подружился со своей соседкой Марией и даже встречался с ней. Они познакомились, когда включенная им на полную громкость музыка все-таки заставила ее постучать в его дверь. Дружба и романтические отношения возникли благодаря конфликту. Мария заставила Шеннона приодеться и начать посещать вечеринки. «Вот это хорошая музыка!» – обычно восклицал он, когда по радио в машине звучала знакомая ему мелодия. Он читал ей отрывки из произведений Джеймса Джойса и Томаса Элиота – последний был его любимым автором. Шеннон был, вспоминала она, поглощен математическими задачами, над которыми работал по вечерам, а когда они ходили в рестораны, то прямо посреди ужина он мог начать писать на салфетках какие-то уравнения. У него было свое твердое мнение в отношении войны или политики, но в основном его интересовали те или иные джазовые музыканты. «Он обычно находил что-то общее между теми музыкантами, которые нравились ему, и теми, которые нравились мне», – вспоминала она. Его также заинтересовала теория Уильяма Шелдона о типах человеческого телосложения и соответствующих им типах личности. И он присматривался к Шелдону, сравнивая его худобу со своей собственной (Шелдон называл такое телосложение эктоморфным типом). Несколько коллег Шеннона по «Лабораториям» стали его близкими друзьями. Одним из них был Барни Оливер. Высокий, с открытой улыбкой и манерами, он обожал скотч и был прирожденным рассказчиком. За приятными манерами Оливера скрывался мощный интеллект: «Барни обладал интеллектом гения с IQ 180», – вспоминал один из его коллег. Его интересы простирались от земли до неба, причем в буквальном смысле. На некоторое время он заинтересовался вопросами поиска внеземных цивилизаций, став одним из вдохновителей этого направления. Том Перкинс, соучредитель известной инвестиционной компании Kleiner Perkins, вспоминал способность Оливера ухватить суть темы, какой бы сложной она ни была. «Если его захватывала, к примеру, идея создать приборы для общения с дельфинами, он мог заниматься этим делом месяцами напролет», – вспоминал Перкинс. Он был мозгом проекта «Циклоп», «оригинального и благородного, хотя и не реализованного» плана соединить тысячу стометровых радиотелескопов на участке земли площадью пятьдесят восемь квадратных километров с целью уловить радиосигналы, которыми могли обмениваться обитатели ближайших к нам планет. Земные проекты Оливера были не менее амбициозными. Среди них – «первый в мире программируемый настольный калькулятор», микрокалькулятор и первый компьютер «Хьюлетт-Паккард». Оливер к тому же мог похвастаться тем, что был в числе первых, с кем Шеннон делился своими идеями. Как он с гордостью вспоминал впоследствии: «Мы стали друзьями и обсуждали вместе многие из его теорий. Онсловно отрабатывал их на мне, понимаете, так что я разбирался в теории информации задолго до того, как она была опубликована». Это может показаться некоторым хвастовством со стороны Оливера, но, учитывая тот узкий круг лиц, с которыми Шеннон делился своими мыслями, был удивителен сам факт того, что Шеннон вообще обсуждал с ним свою работу. Джон Пирс был еще одним из друзей Шеннона по «Лабораториям», в чьей компании он любил проводить часы досуга. В «Лабораториях» у Пирса «был широкий круг преданных поклонников, восхищавшихся его чувством юмора и живым умом». Он был как две капли воды похож на Шеннона своей худобой и высоким ростом, а еще склонностью быстро впадать в скуку, если предмет изучения переставал вызывать его повышенный интерес. Это правило распространялось и на людей. «Пирсу было свойственно резко начать и закончить беседу или прием пищи посреди процесса», – писал Джон Гертнер. Это был побочный эффект его головокружительно быстрого мышления. В первые годы учебы Пирс так поразил профессора, преподававшего на факультете инженерного дела, что его прямо в середине курса перевели в статус преподавателя. В «Лабораториях» Пирс заработал похожую репутацию. Он славился своим талантом изобретать, будучи на равных с лучшими специалистами. Шеннон и Пирс были двумя интеллектуальными спарринг-партнерами в той мере, в какой могут быть только два интеллекта подобного уровня. Они обменивались идеями, писали совместные научные труды и читали одни и те же книги, передавая их друг другу на протяжении всего срока своей работы в «Лабораториях». Одна из историй, приведенная со слов Пирса, наглядно описывает их совместную работу: «Однажды мы болтали с Клодом Шенноном, и он описал мне в нескольких словах систему, которую разработал один из сотрудников ”.Лабораторий Белла”. Я не особо внимательно слушал его, но что-то из того, что он мне говорил, осталось у меня в памяти. Потом, уже позже, в тот же день я осознал явные преимущества его новой системы. На следующий день я отправился навестить Клода и сказал ему, что это отличная идея. Когда я объяснил ему ее сильные стороны, он согласился со мной, но отметил, что та система, которую я описывал, это вообще не та, о которой он рассказывал. Оказывается, я изобрел новую систему, просто невнимательно слушая его и следуя своим собственным мыслям». Много раз Пирс советовал Шеннону, что «он должен записать ту или иную идею». На что Шеннон, по утверждениям очевидцев, отвечал со свойственной ему беззаботностью: «Что значит “должен"?» Оливер, Пирс и Шеннон – компания гениев, каждый из которых с удовольствием проводил время в общении друг с другом. Всех их объединяла страсть к зарождавшейся тогда новой области знаний – цифровой связи, – и вместе они написали научный труд, в котором объяснялись ее достоинства, а именно точность и надежность. Вот как вспоминал об этих трех вундеркиндах «Лабораторий» один из общих знакомых: «Оказывается, что в ”.Лабораториях Белла” были тогда одновременно три сертифицированных гения – Клод Шеннон, создатель теории информации, Джон Пирс, создатель спутниковой связи и вторично-электронного умножителя, и Барни. Очевидно, что три этих человека были интеллектуально “НЕВЫНОСИМЫ”. Они были такими умными и способными и создали свои собственные научные направления в рамках инженерного сообщества. И только такая престижная лаборатория, как “Лаборатории Белла” могла справляться с этими тремя одновременно».
Возможно, частично эта дистанция между Шенноном и его коллегами объяснялась просто разницей в скорости работы.Из рассказов других людей складывается впечатление, что Шеннон был не столько «невыносим», сколько нетерпим. Его коллеги отзывались о нем как о дружелюбном, но отстраненном человеке. Марии он признавался в том, что его расстраивают обыденные, повторяющиеся изо дня в день элементы жизни в «Лабораториях». «Думаю, что это мешало ему, – вспоминала она. – Я в этом уверена. Его расстраивало то, что приходится выполнять всю эту работу, в то время как ему было интересно заняться своим собственным исследованием». Возможно, частично эта дистанция между Шенноном и его коллегами объяснялась просто разницей в скорости работы. По словам Брокуэя Макмиллана, который занимал соседний с Шенноном кабинет, «его отличала своего рода нетерпимость к довольно распространенному тогда типу математического доказательства»: «У него был иной подход к решению проблем, в отличие от большинства людей и большинства его коллег… Было ясно, что его коллеги, скажем так, не всегда успевали за его мыслью, когда он приводил свои аргументы». То, что другим казалось проявлением замкнутости, Макмиллан воспринимал как естественную досаду: «Ему не хватало терпения в общении с теми, кто был не так умен, как он». Поэтому складывалось впечатление, что он постоянно куда-то спешит, возможно, слишком спешит, чтобы проявить уважение к коллегам. «[Он был] очень странным человеком во многих отношениях… Но его нельзя было назвать недружелюбным человеком», – отмечал Дэвид Слипиан, еще один сотрудник «Лабораторий». Реакция Шеннона на тех его коллег, которые не успевали за ним, была простой – он забывал о них. «Он никогда не отстаивал свои идеи. Если люди не верили в них, он игнорировал этих людей», – говорил Макмиллан Гертнеру. Джордж Генри Льюис однажды заметил, что «гений редко способен объяснить свои собственные действия». Похоже, это относилось и к Шеннону, который никогда не мог объяснить свое поведение другим, да и не хотел. В работе он предпочитал одиночество и сводил профессиональное общение к минимуму. «Он был ужасно, ужасно скрытным», – вспоминала Моултон. Роберт Фано, сотрудничавший с Шенноном позднее, говорил, что «он был не из тех, кто станет слушать, как другие люди рассуждают над своими будущими проектами». Одним из доказательств этого, по мнению некоторых, является маленькое количество научных работ, написанных Шенноном в соавторстве с другими. Конечно, Шеннон был не первым гением, склонным уходить в себя, но даже среди ученых, работавших в «Лабораториях Белла», он слыл одиночкой. «Ни в одной другой профессиональной области он не был бы столь успешен… Если ты заходил к нему в кабинет, он мог поговорить с тобой, но во всех остальных случаях он держался особняком», – говорил Макмиллан. Слипиан отзывался о его замкнутости более выразительно: «Говоря о его блестящем уме, я бы добавил, что он стал бы самым лучшим в мире шулером, если бы предпринял шаги в этом направлении». («Он бы воспринял это, как большой комплимент», – отметила позднее его дочь.) Но было еще кое-что, что могло слегка отдалять его даже от самых близких коллег по работе: у Шеннона была дополнительная работа. По вечерам дома Шеннон работал над своим частным проектом, который начал выкристаллизовываться в его голове еще в старших классах школы. В разное время Шеннон называл разные периоды возникновения у него этой идеи. Но когда бы она ни зародилась в его уме, всерьез он занялся ею лишь в Нью-Йорке в 1941 году. Теперь этот «мозговой штурм» было одновременно необходимым для него способом отвлечься от основной работы, а также возможностью заняться глубоким теоретическим исследованием, которым он очень дорожил и которое война могла перечеркнуть. Вспоминая позднее о том времени, он отмечал вспышки озарения, случавшиеся с ним. Работа не была гладкой, идеи приходили тогда, когда они приходили. «Я помню, как проснулся однажды среди ночи от того, что у меня появилась идея, и работал всю ночь». Если бы можно было изобразить Шеннона в тот период времени, то вы бы увидели худого мужчину, сидящего по ночам и постукивающего карандашом по колену. Он был похож не на человека, который не успевает сдать работу в срок, а, скорее, на того, кто поглощен какой-то задачей, на решение которой могут уйти годы. «Он вдруг становился тихим. Очень, очень тихим. Но не переставал писать что-то на салфетках, – вспоминала Мария. – Два или три дня подряд. А потом он мог взглянуть на меня и спросить: “Почему ты затихла?” Салфетки украшают стол, строчки мыслей и разрозненные фрагменты уравнений накапливаются вокруг него. Он пишет аккуратным почерком на бумаге в линейку, но черновики разбросаны повсюду. Восемь лет такой работы – запись от руки, внесение изменений, вычеркивание, уход в дебри уравнений, – зная, что в итоге все эти усилия могут ни к чему не привести. Перерывы на музыку и сигареты, прогулка с сонным взглядом до работы по утрам. Но в основном непрекращающиеся занятия. И снова к столу, где он на пути к открытию чего-то важного, более значительного, чем его магистерская работа, сделавшая ему имя, но чего?
Часть 2
Кромешная тьма
«Повторите, пожалуйста». «Пожалуйста, отправляйте пока медленнее». «Как?» «Как вы получаете?» «Отправляйте медленнее». «Пожалуйста, отправляйте медленнее». «Как вы получаете?» «Пожалуйста, сообщите, если вы можете прочесть это». «Вы можете это прочесть?» «Да». «Как проходят сигналы?» «Вы получаете?» «Пожалуйста, пришлите что-нибудь». «Пожалуйста, пришлите V и В». «Как сигналы?»Для того чтобы проложить трубу для электрического кабеля, протянувшегося на три тысячи километров по дну океана, понадобилось две с половиной тысячи тонн меди и железа на общую сумму в несколько миллионов фунтов. Во время монтажа чуть не произошло кораблекрушение. И все это для того, чтобы состоялся тот неудачный сеанс связи, который приведен выше. В данном тексте воспроизведен весь разговор в течение дня, который был осуществлен по трансатлантическому телеграфному кабелю, соединившему на двадцать восемь дней в конце лета 1858 года Европу с Северной Америкой. Первое сообщение было отмечено салютами, посвящениями в рыцари и радостными передовицами («Мы осушили Атлантику!» – провозглашала лондонская Times), но вскоре шум начал поглощать сигналы, и телеграфная связь не работала по несколько часов подряд. Спрятанный на глубине 4,8 километра под водой, погруженный, как писал Киплинг, «во тьму, в кромешную тьму, где кишат слепые морские змеи», кабель начал разваливаться на части. Ради тех двадцати восьми дней прерывистого общения караваны британско-американских морских судов выходили в море пять раз, заново разматывая кабель, фут за футом, по мере того, как они плыли на восток через Атлантику. В четвертый раз корабли попали в сильнейший шторм. Британский корабль «Агамемнон», деревянное паровое судно с парусом, целую неделю мотало по морю. Качка была такой, что крен корабля достигал 45 градусов, чему способствовало нарушенное равновесие из-за груза, лежавшего на палубе и в трюме – тонны металлических проводов, которые, как писал находившийся в то время на борту журналист, страдавший от качки, «напоминали живых угрей». Четыре раза кабель обламывался. Лишь во время пятого вояжа его закрепили. Во всех этих поездках на одном из кораблей самым важным пассажиром был ученый, уже упоминавшийся ранее: Уильям Томсон, будущий барон Кельвин. Его аналоговый компьютер появится лишь через два десятка лет. В те дни он был в целом малоизвестной фигурой, и у него еще не было его знаменитой «нептуновской» бородки. Но он был одним из ведущих мировых экспертов в области проводной передачи информации, хоть он и не использовал этот термин. Он рисковал своей репутацией, взявшись за осуществление этого трансатлантического проекта, так как совет директоров проекта выбрал его в качестве научного консультанта. Томсон участвовал в каждой экспедиции – даже в той, что чуть было не закончилась трагично, – совершенно бесплатно. Австралийский репортер, который находился на борту судна во время пятого выхода в море, наблюдал настроение ученого, когда посреди ночи электричество в кабеле прервалось и показалось, что он снова поломан: «Сама мысль о возможной катастрофе заставляла его сердце трепетать. Руки его дрожали так сильно, что он с трудом мог поправить очки. Вены на лбу раздулись. Лицо было мертвенно белое… и в то же время его мозг работал четко и уверенно, он проверял и ждал». Но уже довольно скоро сигнал возобновился, и Кельвин радостно рассмеялся. По прошествии недели на восточном горизонте возникли холмы графства Керри, и кабель вытащили на ирландские берега, чтобы подсоединить его к европейской сети. Месяц спустя он превратился в ненужный хлам, что лежал на дне морском, уничтоженный в результате разногласий. Еще до того, как по дну Атлантического океана проложили телеграфный кабель, было ясно, что сообщения, отправленные по любым подводным линиям – к примеру, через Ла-Манш, – будут особенно часто прерываться и замедляться: передача сообщения по воде – это уникально сложный процесс. Вода, особенно соленая морская – это естественный проводник электричества, и по кабелю, погруженному в соленую воду, электрический ток будет идти с ускорением. По сравнению с сигналом, который образуется в сухом кабеле, идущий по мокрому кабелю намного сложнее разобрать. Никто не понимал эту дилемму лучше, чем Томсон. Вот почему он находился на борту «Агамемнона» и наблюдал за прокладкой кабеля. За три года до последнего плавания лабораторные эксперименты, которые Томсон ставил в Глазго, привели его к выводу о том, что процесс передачи электрического сигнала на расстояние подчинялся «закону квадратов»: время прихода сигнала было прямо пропорционально квадрату длины кабеля. Кроме того, сила сигнала заметно истощалась по мере увеличения расстояния. И в данном случае в процессе создания надежной подводной системы связи надежды возлагались на установку самого толстого и хорошо изолированного – а еще самого дорогого – кабеля и чувствительного оборудования, которое должно было улавливать слабые сигналы на другом конце.
Он назвал закон квадратов «школьной выдумкой»: формула красиво смотрелась на страницах специализированных журналов, но рассыпалась на практике.Но в 1858 году в отсутствие возможностей протестировать трансатлантический кабель эти заключения были весьма и весьма спорными. Веские финансовые соображения заставили инвесторов трансатлантического проекта проигнорировать мнение Томсона: целые состояния зависели от возможности осуществления мгновенной связи через океан (только представьте, что мог проделать биржевой спекулянт в Лондоне, быстро узнав о ценах на товары в Чикаго). Результаты работы Томсона сопровождались удручающим предупреждением о том, что по-настоящему надежный кабель может обойтись гораздо дороже и вряд ли стоит потраченных на него усилий. Невезение преследовало этот проект: главным критиком Томсона был его коллега – главный инженер трансатлантического проекта. Доктор Уайлдмен Уайтхаус был отставным военным врачом и электриком-любителем. Это, конечно, ни в коей мере не дискредитировало его профессиональные навыки – девятнадцатый век был великой эпохой любительства в разных областях. Однако университетскому престижу Томсона Уайтхаус противопоставлял чисто популистский подход: он утверждал, что изучение вопросов в области электричества и связи «перестало быть исключительной привилегией философа». Основываясь на опыте своих собственных бесчисленных экспериментов, он назвал закон квадратов «школьной выдумкой»: формула красиво смотрелась на страницах специализированных журналов, но рассыпалась на практике. Томсон в ответ прошелся по притворным викторианским правилам приличия, но на своем экземпляре работы Уайтхауса надписал, что она «ошибочна почти в каждом пункте». Если результаты экспериментов Томсона требовали более прочного кабеля и более точного определения сигнала, Уайтхаус призывал к применению грубой силы. Как резюмировал позднее его решение один из специалистов: «Чем дальше должен был идти сигнал, тем ощутимее должен быть толчок, чтобы направить его туда». Чтобы справиться с прерыванием или замедлением сигнала, прикладывайте больше силы. Достоинством этого метода была простота, и он был дешевле, чем план Томсона – бесценное преимущество для проекта, существование которого зависело от количества вложенных в него инвестиций. В итоге это привело к ничейному результату и фарсу. «Зеркальный гальванометр» Томсона, прибор, улавливавший слабые электрические сигналы, был установлен на обоих концах телеграфной линии, но Уайтхаус отсоединял его при любой возможности. Сам кабель был сделан ниже установленных стандартов прочности. На восточном конце линии, на острове Валентия, вблизи ирландского побережья, находился Уайтхаус, он устанавливал массивные, в пять футов длиной, индукционные катушки, чтобы направлять сигнал и подавать электричество в провода толчками мощностью в 2000 вольт. Пока этот кабель грузили, а потом выгружали с корабля, на палубу – с палубы, разматывали и заматывали, опускали на дно моря, крепили четыре раза, соединяли и разъединяли, он уже был достаточно потрепан к тому моменту, как по нему пошел первый сигнал. А после того как его подвергли сильнейшему электрическому «обстрелу», осуществленному Уайтхаусом, изоляционный слой перегорел и вышел из строя за считанные дни. В последнем унылом сообщении, полученном на острове Валентия, было написано: «Сорок восемь слов. Правильно. Правильно». Большинство отправленных и полученных с помощью этой знаменитой телеграфной линии сообщений были именно такими: сообщения ради сообщений, телеграфия, такая же скучная, как самая блеклая пьеса Сэмюеля Беккета.
В некоторых газетах сам факт существования трансатлантического телеграфа воспринимался как «липа» или коммерческая уловка.Действуя в нарушение инструкций руководства, Уайтхаус смонтировал участок сети, поместив его в трех километрах от берега и ища там возможные неполадки, на которые можно было списать обрыв связи. В последние дни существования проекта он был уволен за отказ исполнять приказы начальства, а в техническом отчете назван виновником срыва проекта (хотя позднее ученые оспаривали это решение на том основании, что кабель был изначально в плохом состоянии и ненадежен). В некоторых газетах сам факт существования трансатлантического телеграфа воспринимался как «липа» или коммерческая уловка. В последующие шесть лет сообщение через океан осуществлялось во многом так же, как на протяжении предыдущих четырех столетий – с помощью кораблей. Так было вплоть до 1866 года, когда наконец проложили надежный кабель. Учли ли все эти уроки Клод Шеннон и его коллеги девяносто лет спустя? Очень похоже на то: когда Артур Кларк на время оставил сочинение научно-фантастических романов, чтобы написать историю зарождения связи, начиная с рассказа о трансатлантическом кабеле, он посвятил ее начальнику Шеннона по «Лабораториям», Джону Пирсу, который «втравил» его в этот проект. Фиаско с телеграфной линией помогло вынести три важных урока, легшие в основу теории связи. И произошло это спустя долгое время после того, как детали этой истории забылись, а специфическая проблема осуществления трансатлантической телеграфной связи была более-менее решена. Первое: связь – это борьба с шумом. Шум – это либо помехи, возникающие в телефонных проводах, либо внешние помехи, прерывающие передачу радиосигнала. Телеграфный сигнал прерывается в результате нарушения изоляции провода или его порчи. Это тот хаос, что вмешивается в наши разговоры, случайно или намеренно, не давая нам возможности понять друг друга. На коротких расстояниях или в относительно простой среде – к примеру, звонок Белла Уотсону в соседнюю комнату или наземная линия телеграфной связи от Лондона до Манчестера, – с шумом можно было справиться. Но по мере того, как расстояния возрастали, а средства отправки и хранения сообщений множились, усложнялись и задачи по устранению шума. А временные решения – варьировавшиеся от тонкого подхода Томсона до грубых методов Уайтхауса – были ситуативными и проверялись на практике лишь тогда, когда инженеры сталкивались с ними в работе. На определенных расстояниях или в определенных условиях идеальная точность казалась невозможной: в сфере связи постоянно присутствовали сомнения. Наконец Клод Шеннон и еще несколько человек догадались, что для решения проблемы с шумом можно использовать унифицированное решение. Второе: существуют пределы грубой силы. Усиление подачи сигнала – способ решения проблемы телеграфной связи, предложенный Уайтхаусом, – было удобным подходом, когда дело касалось устранения шума. Крах этого метода в 1858 году дискредитировал самого Уайтхауса, но не принципы его работы: альтернативных решений тогда было мало. В лучшем случае это был затратный метод как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения расходования энергии. В худшем случае он мог разрушить само средство связи, как это было с морским кабелем. Третье: чтобы попытаться найти лучший способ осуществить эту затею, нужно было исследовать границы жесткого мира физики и невидимого мира сообщений. Предметом исследования была связь между свойствами сообщений – их восприимчивость к шуму, плотность, скорость, точность – и физической средой, через которую они проходили. Предложенный Томсоном закон квадратов был одной из первых петелек в этой цепочке мысли. Но этот закон относился только к потоку электричества, а не к природе сообщений, которые он передавал. Как наука объяснит это? С помощью научных методов получалось отследить скорость движения электронов по цепи, но идея, что передаваемое ими сообщение можно измерить и управлять им с относительной точностью, должна была родиться лишь в следующем столетии. Само понятие информации было старо, наука же о ней еще только зарождалась.
15. От интеллекта к информации
Поначалу информация была, скорее, предположениями и догадками, чем утверждениями – тем, что подразумевалось, но пока не было сформулировано. Она незримо присутствовала в обсуждениях. Ее можно было найти в исследованиях физиолога Германа фон Гельмгольца, который, подавая разряды электрического тока в мышцы лягушек, впервые определил скорость прохождения сигналов по нервным волокнам у животных – точно так же, как Томсон измерял скорость идущих по проводам сообщений. Также об информации шла речь в работах таких физиков, как Рудольф Клаузиус и Людвиг Больцман, которые первыми попытались найти способы измерить беспорядок – энтропию, – не подозревая о том, что однажды их методы можно будет применить к информации. Помимо всего прочего, информация присутствовала в сетях, которые частично были продуктом той первой попытки построить своеобразный информационный мост через Атлантику. Если мыслить практическими категориями, например, решая конкретную инженерную задачу соединить точки А и Б, то возникает вопрос, каково наименьшее количество проводов, которые нам нужно протянуть, чтобы обеспечить дневную норму сообщений. Как мы зашифруем секретный телефонный разговор? Все эти возникавшие вопросы показывали, что свойства самой информации постепенно становились понятными. В те годы, когда Клод Шеннон был еще ребенком, всемирные коммуникационные сети были уже не просто проводами, передающими электрический ток, или носителями электронов, как во времена Томсона. Это были уже объединяющие континенты машины, возможно, самые сложные из всех существовавших на тот момент. Ламповые усилители, подключенные вдоль телефонных линий, добавляли мощи звуковым сигналам, которые в противном случае ослабели бы и потерялись на своем долгом тысячекилометровом пути. На самом деле, за год до рождения Шеннона Белл и Уотсон официально «открыли» трансконтинентальную телефонную линию, повторив свой первый звонок, но на этот раз Белл был в Нью-Йорке, а Уотсон – в Сан-Франциско. К тому времени, когда Шеннон стал лучшим в школе сигнальщиком, системы с обратной связью управляли работой телефонных сетевых усилителей автоматически. Они поддерживали стабильность звукового сигнала и уменьшали шумы, в частности «завывающие» и «поющие» звуки, которые были настоящим бедствием ранней телефонной связи, оказывая влияние на чувствительные провода вне зависимости от погодных условий и времени года. С каждым годом люди все реже пользовались услугами телефонного оператора, связывавшего их с нужным абонентом, а все чаще соединение происходило с помощью машины, одного из автоматических коммутационных узлов, который сотрудники «Лабораторий Белла» торжественно называли «механическим мозгом». В процессе сборки и усовершенствования этих массивных машин ученые поколения Шеннона научились воспринимать информацию почти так же, как предыдущее поколение ученых понимало теплоемкость применительно к процессу конструирования паровых двигателей. Именно Шеннон осуществил финальный синтез, определив понятие информации и эффективно решив проблему шума, ему мы должны быть благодарны за то, что он, соединив все нужные ниточки, создал новую науку. Следует отметить, что в «Лабораториях Белла» у Шеннона были важные предшественники – два инженера, которые формировали его мышление с тех пор, как он нашел их работу в Энн-Арборе. Они первыми задумались над тем, как придать информации научную основу. В своей знаковой научной работе Шеннон выделяет их как первопроходцев в этой области.Одним из них был Гарри Найквист. Когда ему исполнилось восемнадцать лет, его семья оставила шведскую ферму и присоединилась к волне скандинавской иммиграции, поселившись на Среднем Западе Америки. В Швеции он четыре года работал на стройке, чтобы оплатить свой переезд. Спустя десять лет после прибытия в Америку он получил докторскую степень по физике в Йельском университете и должность научного сотрудника в «Лабораториях Белла». Долго проработав в «Лабораториях», Найквист стал одним из разработчиков первого прототипа факсового аппарата: еще в 1918 году он представил чертеж машины для осуществления «телефотографии». К 1924 году появилась работающая модель: машина, сканирующая фотографию, обеспечивала яркость тона каждого фрагмента, регулируя уровень тока и посылая его с определенной частотой импульсов в телефонные линии, где они ретранслировались в фотографический негатив, готовый к проявлению. Несмотря на впечатляющую демонстрацию машины, рынок не проявил к ней заметного интереса, особенно учитывая тот факт, что для передачи одного-единственного маленького фото требовалось семь минут. Однако работа Найквиста в такой менее яркой области, как телеграфия, была опубликована в том же году и имела заметный долгосрочный эффект. К 1920-м годам телеграфия стала уже устаревшей технологией. В ней не происходило никаких заметных инноваций на протяжении нескольких десятилетий. Впечатляющие технические прорывы наблюдались в области телефонной связи и даже, как продемонстрировал Найквист, в телефотографии, эти устройства использовали продолжительные сигналы, в то время как телеграф мог говорить только точками и тире. И все же компания Белла продолжала оперировать обширной телеграфной сетью, а деньги и карьеры все еще строились на решении тех же проблем, с которыми боролся Томсон: как отправить сигналы по сети с максимальной скоростью и минимальным шумом.
Найквист продемонстрировал то, каким образом диапазон частот любого канала связи обеспечивает предел того количества «данных».По воспоминаниям Найквиста, инженеры уже понимали, что электрические сигналы, передающие сообщения по сети – телеграфной, телефонной или фото, – могли сильно колебаться. Если изобразить их на бумаге, то они представали в виде волн: не спокойных, синусоидальных, а хаотичных, срезанных, лишенных какой-либо модели. И все же модель была. Даже самое беспорядочное колебание можно представить в виде большого множества спокойных, регулярных волн, захлестывающих друг друга и идущих каждая со своей частотой, пока все они не превратятся в пенящийся хаос. (Фактически это была та же самая математика, демонстрировавшая колебания приливов в виде суммы множества простых функций, что помогло создать первые аналоговые компьютеры.) В этом смысле коммуникационные сети могли передавать целый ряд, или «диапазон», частот. И похоже, что больший «диапазон частот» накладывался поверх другого. Бо́льшему «диапазону частот» необходимо было генерировать более интересные и сложные волны, которые могли бы переносить более содержательную информацию. Чтобы осуществить эффективный телефонной звонок, сетям «Лабораторий» требовались частоты, варьирующиеся примерно от 200 до 3200 герц, или диапазон частот в 3000 герц. Телеграф обходился меньшим; телевидение же потребует в будущем в 2000 раз больше. Найквист продемонстрировал то, каким образом диапазон частот любого канала связи обеспечивает предел того количества «данных», который может проходить по нему с заданной скоростью. Но этот предел означал, что различие между продолжительными (сообщение, переданное по телефонной линии) и прерывистыми (точки и тире или множество из 0 и 1) сигналами было намного менее выраженным, чем это могло показаться. Продолжительный сигнал плавно варьировался по своей интенсивности, но его также можно было представить в виде серии импульсов или прерывистых интервалов, и в пределах определенного диапазона частот никто не сможет заметить разницу. Если говорить о практических результатах, данный вывод подсказал специалистам «Лабораторий Белла», как посылать телеграфные и телефонные сигналы по одной и той же линии, не смешивая их друг с другом. Если же касаться фундаментальных выводов, то, как писал один профессор в области электрической инженерии, «[мы поняли, что] мир технических коммуникаций по большей части дискретный, или «цифровой». Если говорить о формировании понятия информации, то самый важный вклад Найквиста в этой области был сделан в его научной работе, внесенной в протокол технической конференции инженеров, которая состоялась в Филадельфии в 1924 году. Она представляла собой всего четыре коротких параграфа под малообещающим заголовком «Теоретические возможности использования кодов с разным количеством текущих значений». Те четыре параграфа были, как оказалось, первой серьезной попыткой объяснить взаимосвязь между физическими свойствами канала связи и скоростью, с которой он может передать данные или информацию. Найквист пошел дальше Томсона: электричество не было этой информацией. Тогда что же ею было? По словам Найквиста, «под скоростью передачи информации подразумевается количество символов, обозначающих различные буквы, цифры и т. д., которые можно передать в заданный отрезок времени». Это было не до конца понятно, но впервые кто-то пытался нащупать эффективный способ оперировать сообщениями на научной основе. Ниже приведена формула Найквиста для расчета скорости, с которой телеграф может послать информацию:
W = k log m,
где W – скорость передачи информации, m – количество «текущих значений», которые система может передать. Текущее значение – это дискретный сигнал, который телеграфная система способна передать. Количество текущих значений – это что-то вроде количества возможных букв в алфавите. Если система может работать только в режиме «включено» или «выключено», у нее два текущих значения. Если она способна работать в режимах «отрицательный ток», «выключено» и «положительный ток», то у нее три текущих значения. Если же система работает в режимах «сильный отрицательный», «отрицательный», «выключено», «положительный» и «сильный положительный», у нее пять значений[1]. И, наконец, k – это количество текущих значений, которые система способна передавать каждую секунду. Другими словами, Найквист показал, что скорость, с которой телеграф мог передавать информацию, зависела от двух факторов: скорости, с которой он мог посылать сигналы, и количества «букв» в своем словаре. Чем больше «букв» или текущих значений было возможно, тем меньшее их количество фактически пришлось бы посылать по сети. Представьте, в виде исключительного случая, что была бы только одна идеограмма, которая передавала бы весь смысл этого абзаца, и еще одна, которая передавала бы весь смысл предыдущего абзаца. В этом случае мы могли бы передать вам информацию, заключенную в этих двух абзацах, в сотни раз быстрее. В этом и заключался удивительный вывод, к которому пришел Найквист: чем большее количество «букв» может использовать телеграфная система, тем быстрее она сможет отправить сообщение. Мы можем сформулировать это иначе. Чем больше количество возможных текущих значений, из которых мы можем выбирать, тем больше плотность информации в каждом сигнале или в каждой секунде связи. Точно так же наша гипотетическая идеограмма могла бы передавать все 1262 символа в этом абзаце – при условии, что была выбрана из словаря, содержащего миллионы идеограмм. И каждая из них представляла бы собой отдельный абзац[2]. Короткое отступление Найквиста на тему текущих значений давало первый намек на то, что существует определенная связь между информацией и выбором. Но на этом все и закончилось. Найквисту была интереснее проблема создания более эффективных систем, чем размышления над природой этой информации. И, если говорить по существу, от него ждали некоего критерия оценки практических результатов. Поэтому, порекомендовав своим коллегам включать большее количество текущих значений при работе с телеграфными сетями, он занялся другими делами. И даже после того как Найквист сделал заманчивое предположение, что все системы связи по своей цифровой природе были похожи на телеграфную, он не стал развивать эту тему, делая обобщающие выводы относительно самого понятия связи. При этом его способ определения информации – «различные буквы, цифры и т. д.» – оставался расплывчатым, как ни грустно это признать. А что же именно скрывалось за этими буквами и цифрами?
От интеллекта к информации: такая замена названий мало что может сказать нам о математике, которая лежит в основе того и другого. Но в данном случае замена понятий – удобный ориентир. Это граница – произвольная, как и большинство границ, – между подростковым возрастом и зрелостью новой науки. Шеннон отмечал: работа Ральфа Хартли «оказала важное влияние» на всю его жизнь. И не просто на исследовательскую или научную деятельность: большую часть жизни Шеннон пользовался концептуальными методами, которые изобрел Хартли. А главным своим достижением и широким признанием «отец теории информации» был обязан тому, что в числе других существенно развил идеи Хартли в той мере, о которой не мог помышлять ни сам Хартли, ни кто-либо другой. Помимо Джорджа Буля, этого малопонятного логика, никто не оказывал большего влияния на формирование мышления Шеннона. В письме 1939 года, впервые упомянув о своих планах исследования проблем связи, которое завершится девять лет спустя, Шеннон использовал термин Найквиста «данные». К тому моменту, когда работа была завершена, он пользовался более четким термином Найквиста «информация». И хотя инженер такого уровня, как Шеннон, не нуждался в советчиках, именно Хартли подчеркнул безотносительность смыслового наполнения понятия «информация». Окончив Оксфордский университет и став одним из первых стипендиатов Родса, Хартли предпринял еще одну попытку «осушить» Атлантику. Он возглавил группу ученых «Лабораторий Белла», которые конструировали приемные устройства для осуществления первого трансатлантического речевого вызова, переданного по радиоволнам, а не по проводам. В этот раз трудности были не физического, а политического свойства. К тому времени, когда тест был готов – в 1915 году, – в Европе шла война. Инженеры «Лабораторий Белла» вынуждены были умолять французские власти разрешить им воспользоваться самой высокой радиоантенной, которая также являлась главным военным объектом. В итоге американцам выделили всего несколько минут драгоценного времени, чтобы они смогли забраться на верхушку этой антенны – Эйфелевой башни. Но им этого вполне хватило. Приемные устройства Хартли имели успех, и звуки человеческого голоса, отправленные из Виргинии, были услышаны на вершине башни.
На конференции, организованной прямо у подножия Альп, собралась весьма почтенная публика. Среди присутствовавших были Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, два создателя квантовой физики, и Энрико Ферми, который впоследствии построит первый в мире ядерный реактор.Интересы Хартли в сфере коммуникационных сетей с самого начала были более разносторонними, чем у Найквиста: он искал единственную структуру, которая заключала бы в себе передающую мощь любой среды – способ сравнить телеграфную, радио и телевизионную связь на общей основе. Работа Хартли, опубликованная им в 1927 году, не только обобщила идеи Найквиста, но и позволила подойти максимально близко к искомой цели. Работа, которую Хартли представил на научной конференции, проходившей на озере Комо в Италии, называлась просто – «Передача информации». На конференции, организованной прямо у подножия Альп, собралась весьма почтенная публика. Среди присутствовавших были Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, два создателя квантовой физики, и Энрико Ферми, который впоследствии построит первый в мире ядерный реактор под ступенчатыми сиденьями стадиона Чикагского университета. Хартли всеми силами пытался продемонстрировать, что исследования в области информации – это и их рук дело. Он начал с того, что предложил аудитории мысленный эксперимент. Представьте телеграфную систему с тремя текущими значениями: «отрицательное», «выключено» и «положительное». Вместо того чтобы предлагать обученному оператору выбирать значения с помощью телеграфного ключа, мы прикрепим наш ключ к какому-нибудь произвольно работающему устройству, скажем, к «шарику, закатывающемуся в одну из трех ячеек». Мы направляем шарик по наклонной плоскости, посылаем произвольный сигнал и повторяем его столько раз, сколько нам нужно. Мы послали сообщение. Будет ли оно нести какое-то значение? Это зависит от того, отвечал Хартли, что мы вкладываем в понятие «значение». Если провод был исправным, и сигнал не искажался, мы посылали четкий и читаемый набор символов на наше приемное устройство – фактически намного более четкий сигнал, чем отправленное человеком сообщение по поврежденному проводу. Но как бы гладко оно ни шло, сообщение так же может быть какой-нибудь абракадаброй: «Причина этого заключается в том, что только ограниченному количеству возможных последовательностей были приданы значения», и произвольный выбор последовательности, вероятней всего, будет вне этого ограниченного ряда. Мы условно договорились, что последовательность точка точка точка точка, точка, точка тире точка точка, точка тире точка точка тире тире тире содержит смысл, а последовательность точка точка точка точка, точка, точка тире тире точка, точка тире точка точка, тире тире тире содержит бессмыслицу[3]. Смысл присутствует лишь там, где мы заранее договорились об использовании определенных символов. И любая коммуникация происходит именно так, начиная с волн, посылаемых по электрическим проводам, и букв, обозначающих определенные слова, и заканчивая словами, обозначающими определенные вещи. Для Хартли все эти договоренности о значении словарей символов зависели от «психологических факторов» – от этих двух непонятных слов. Некоторые из символов были относительно фиксированные (азбука Морзе, к примеру), но значения большинства других варьировались в зависимости от языка, личности, настроения, тональности голоса, времени дня и т. д. Там не было точности. Если следуя логике Найквиста, количество информации имело отношение к выбору из некоего количества символов, тогда первым необходимым требованием было выяснить количество символов, свободных от капризов психологии. Наука об информации должна была различать сообщения, которые мы называем тарабарщиной, и те, которые несут смысл. Поэтому в одном из ключевых параграфов своей работы Хартли объяснял, как начать воспринимать информацию не в психологическом, а в физическом смысле: «Оценивая возможности физической системы передавать информацию, мы должны игнорировать вопрос интерпретации, осуществлять каждый выбор абсолютно условно и основывать наши результаты на возможности того, что приемное устройство разлимит результат выбора одного символа от результата выбора любого другого символа». Таким образом, Хартли теоретически закрепил те самоочевидные знания, которые были уже накоплены сотрудниками телефонной компании – суть их заключалась в самой передаче информации, а не в ее интерпретации. И так же как в мысленном эксперименте с телеграфной связью, управляемой катящимся шариком, единственные требования, чтобы символы легко проходили по каналу связи и чтобы человек, находящийся на том конце, мог разобрать их. На самом деле реальная мера информации заключена не в символах, которые мы отправляем, а в тех, которые мы могли бы отправить, но не отправили. Отправить сообщение – значит сделать выбор из библиотеки возможных символов, и «при каждом сделанном выборе будут исключенные символы – те, которые могли бы быть выбраны». Выбрать – значит избавиться от альтернативных вариантов. Наиболее наглядно мы можем видеть это, объяснял Хартли, в тех случаях, когда сообщения несут смысл. «Так, к примеру, в предложении “яблоки красные” (apples are red) первое слово исключает все другие виды фруктов и все другие предметы. Второе слово указывает на некое свойство или состояние яблок, а третье отменяет другие возможные цвета». Этот повторяющийся процесс отмены применим к любому сообщению. Информационная ценность символа зависит от количества отброшенных при выборе альтернатив. Символы, взятые из больших словарей, несут больше информации, чем символы из маленьких словарей. Информация измеряет свободу выбора. В данном случае мысли Хартли относительно выбора явно перекликались с пониманием Найквистом текущих значений. Но если Найквист демонстрировал это применительно к телеграфии, то Хартли доказал, что это одинаково справедливо для любой формы связи. Идеи Найквиста оказались своеобразным «подклассом» идей Хартли. Если смотреть шире, в тех дискретных сообщениях, в которых символы посылались по одному за раз, лишь три переменных величины обусловливали количество информации: количество k-символов, отправленных в секунду, размер s-группы возможных символов и длина n-сообщения. Имея этивеличины и определив количество передаваемой информации символом Н, мы получаем:
H = k log sn.
Если мы делаем случайные выборы из набора символов, то количество возможных сообщений возрастает в геометрической прогрессии, по мере того как растет длина сообщения. Так, к примеру, в английском 26-буквенном алфавите существуют 676 возможных двухбуквенных цепочек (или 262), но 17 576 трехбуквенных (или 263). Хартли, как и Найквист до него, посчитал это неудобным. Мера информации была бы более удобной в работе, если бы она увеличивалась последовательно с каждым добавленным символом, а не разбухала в геометрической прогрессии. В этом смысле о телеграмме, состоящей из 20 букв, можно сказать, что она содержит в два раза больше информации, чем телеграмма, состоящая из 10 букв, при условии, что оба сообщения были написаны с помощью одного алфавита. Это объясняет, что делает логарифм в формуле Хартли (и Найквиста): он преобразовывает экспоненциальное изменение в последовательное. Для Хартли это было вопросом «практической инженерной ценности»[4]. Именно инженерная ценность интересовала его в первую очередь, несмотря на его попытки определить само понятие информации. Какова природа связи? Что происходит, когда мы отправляем сообщение? Присутствует ли информация в сообщении, которое мы даже не понимаем? Это были сами по себе значимые вопросы. Но во всех поколениях, осуществлявших процесс связи, эти вопросы с настойчивостью и неумолимостью возникали уже потом, так как ответы на них становились вдруг исключительно ценными. Избалованные изобилием подводных кабелей, трансконтинентальных радиозвонков, снимков, отправленных по телефонной линии, и движущихся изображений, посылаемых по воздуху, мы приобрели отличные навыки того, как осуществлять процесс связи, но не успели разобраться в том, а что же такое связь как таковая. И за это незнание приходилось платить – либо аварией (перегоревшим кабелем), либо просто неудобством (мерцающая или размытая картинка на экранах первых телевизоров). Хартли на тот момент ближе, чем кто бы то ни было, добрался до сути понятия информации. Более того, его работа говорила о том, что четкое понимание информации расширяло инженерные возможности. Так, к примеру, они могли «рубить» продолжительные сигналы, такие как человеческий голос, на цифровые шаблоны, и тогда информационный контент любого сообщения – продолжительного или дискретного – можно было подвести под единый стандарт. Сколько информации, к примеру, содержится в изображении? Сейчас мы можем воспринимать изображение так же, как мы воспринимаем телеграфную связь. Точно так же, как мы разбиваем телеграфное сообщение на дискретную последовательность из точек и тире, мы можем разбить изображение на дискретное количество клеток, которые Хартли называл «элементарными участками»: то, что позднее было названо элементами отображения или пикселями. Подобно тому, как операторы-телеграфисты выбирают из конечного набора символов, каждый элементарный участок определяется выбором из конечного набора яркости тона. Чем больше этот набор яркости и чем больше количество элементарных участков, тем больше информации содержит изображение. Это объясняет, почему цветные изображения включают больше информации, чем черно-белые – в первом случае выбор осуществляется из большего по объему словаря символов. Итак, мы имеем клетки и степень яркости тона, а в виде изображения может выступать «Тайная Вечеря» или завтрак собаки – информация в обоих случаях будет беспристрастна. В идее о том, что даже изображение можно определить количественно, заключено понимание абсолютно утилитарных принципов информации. Это почти фаустовский обмен. Но когда мы принимаем эти принципы, то впервые начинаем догадываться о единстве, присутствующем в каждом сообщении. И если некоторым людям требуются значительные усилия, чтобы достичь этого понимания, то машины «заточены» под эту беспристрастность. Поэтому универсальная мера информации может позволить нам определить лимиты действия наших машин и содержимое наших сообщений с помощью одинаковых формул, то есть как приводить наши машины и сообщения к единому знаменателю. Мера информации помогает нам обнаружить связи между диапазоном частот в определенной среде, информацией, содержащейся в сообщении, и временем, которое требуется для его отправки. Как показал Хартли, при работе с тремя этими параметрами всегда приходится идти на компромисс. Чтобы сообщение пошло быстрее, мы вынуждены выбрать больший диапазон частот или упростить сообщение. Если мы сэкономим на частотном диапазоне, то расплатимся за это меньшим объемом информации или более продолжительным временем ее передачи. Это объясняет, почему в 1920-х годах отправка фотографии по телефонным сетям занимала так много времени: телефонным сетям не хватало нужной частоты для столь сложного сообщения. Если воспринимать информацию, частотный диапазон и время, как три точных взаимозависимых параметра, это позволяет нам понять, какие идеи передачи сообщений «физически осуществимы», а за какие даже не стоит браться. И последнее: ясность в отношении информации может привести к ясности в отношении шума. Шум может быть чем-то более точным, чем треск атмосферных помех или серия электрических импульсов, затерявшихся где-то в водах Атлантики. Шум тоже можно измерить. Хартли отважился лишь на часть пути к этой цели, но смог пролить свет на особый вид искажения связи, который он назвал «межсимвольной интерференцией». Если основной критерий для корректного сообщения – это его «читаемость» приемным устройством, тогда особенно тревожным признаком будет та неточность, когда символы станут размытыми, как, например, при наложении телеграфных импульсов, посылаемых слишком нетерпеливым оператором. Имея возможность измерить информацию, мы можем подсчитать не только время, требуемое для отправки любого сообщения по заданному частотному диапазону, но и количество символов, которые можно отправить за секунду так, чтобы их можно было разобрать.
То, что начиналось в девятнадцатом веке как осознание возможности осуществления более точной передачи сообщений на расстояния с помощью количественной оценки этих сообщений, в итоге превратилось в новую науку.Вот как примерно обстояли дела с исследованиями в области информации, когда к этому вопросу подключился Клод Шеннон. То, что начиналось в девятнадцатом веке как осознание возможности осуществления более точной передачи сообщений на расстояния с помощью количественной оценки этих сообщений, в итоге превратилось в новую науку. Каждый шаг в этом направлении был шагом к большей абстракции. Информация была потоком электричества, идущего по проводам, числом знаков, отправленных по телеграфу, выбором символов. На каждой стадии что-то конкретное отпадало. Пока Шеннон в течение десяти лет обдумывал все эти проблемы в холостяцкой берлоге в Вест-Виллидж или в своем кабинете в «Лабораториях Белла», наука об информации чуть было не зачахла. Сам Хартли все еще продолжал работать в «Лабораториях», но уже собирался уйти на покой, а Шеннон только поступил туда на службу. К сожалению, двое ученых расходились в принципиальных вопросах, что могло помешать их успешному сотрудничеству, если бы такая возможность представилась. Хартли, с которым Шеннон в итоге познакомился лично, показался ему слишком далеким от того человека, чьи идеи когда-то пленили его. Шеннон вспоминал о нем так: «…очень талантливый человек в определенных областях; но застрявший в каких-то идеях. Он был сторонником той теории, что Эйнштейн ошибался в своих выводах. Что нужно восстановить классическую физику Ньютона, понимаете? И все свое время он тратил на то, чтобы попытаться объяснить все те вещи, которые теория относительности объясняла через связь между пространством и временем, объяснить так, как это делали люди примерно в 1920-х годах. Но научное сообщество пришло в конечном счете к выводу, что Эйнштейн прав. Все научное сообщество, за исключением Хартли, я полагаю». Так что в период «между Хартли и Шенноном», говорил Джон Пирс из «Лабораторий Белла», наука об информации «похоже, имела продолжительный и комфортный отдых». Можно винить в этом зацикленность Хартли на идеях теории относительности или войну, во время которой тратились огромные средства на отслеживание и сбивание самолетов-снарядов и цифровую телефонию, а еще на шифрование, дешифровку и вычислительные машины, но в то время было мало ученых, у которых нашлись бы возможность или желание отвлечься от насущных проблем и задаться вопросом о связи в целом. А можно просто принять тот факт, что следующий ключевой шаг после Хартли мог быть осуществлен только гением и по прошествии какого-то времени. Теперь уже, оглядываясь назад, мы можем сказать, что если бы этот шаг был столь очевиден, то, во-первых, вряд ли бы пришлось ждать целых двадцать лет, чтобы сделать его, и во-вторых, он не вызвал бы такого потрясения. «Он произвел эффект разорвавшейся бомбы», – сказал Пирс.
16. Бомба
«Фундаментальная проблема связи заключается в воспроизведении в одной точке либо точно, либо приблизительно сообщения, выбранного в другой точке. Чаще всего сообщения обладают смыслом… Эти семантические аспекты связи нельзя отнести к инженерной проблеме». Работа «Математическая теория связи» наглядно показала, что Шеннон выделил самые острые вопросы, которыми занимались пионеры информационной теории. Но если Найквист использовал расплывчатое понятие «данные», а Хартли пытался объяснить важность отбрасывания психологических и семантических аспектов, Шеннон уже принимал как должное то, что значение можно игнорировать. Точно так же он с готовностью принял тот постулат, что информация измеряет свободу выбора: содержательными сообщения становятся тогда, когда «их выбирают из ряда возможных сообщений». Наше непосредственное восприятие было бы удовлетворено, признавал он, если бы мы условились, что объем информации на двух перфокартах удваивался бы (а не возводился бы в квадрат) по сравнению с объемом информации на одной карте или что два электронных канала связи передавали бы в два раза больше информации, чем один. Это было то, что Шеннон обязан был сделать. Дальше он демонстрировал свою целеустремленность. Каждая система связи – не только те, что существовали в 1948 году и были сделаны руками человека, но каждая возможная система, – могла быть сжата до максимально простой сути.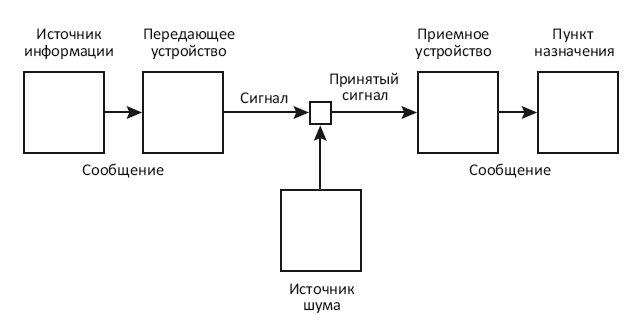
♦ Источник информации производит сообщение. ♦ Передающее устройство кодирует сообщение так, чтобы оно могло быть отправлено в виде сигнала. ♦ Канал связи – это среда, по которой проходит сигнал. ♦ Источник шума – это искажения и нарушения сигнала на пути к приемному устройству. ♦ Приемное устройство расшифровывает сообщение. ♦ Пункт назначения – это принимающая сторона.
Красота этой упрощенной модели заключается в том, что она универсальна. Это то, что происходит с любым сообщением – сообщениями, которыми обмениваются люди, сообщениями в цепи, нейронах, крови. Вы говорите в телефонную трубку (источник), и телефон кодирует звук вашего голоса в электрический сигнал (передающее устройство). Сигнал идет по проводу (канал); сигнал, идущий по соседнему проводу, взаимодействует с ним (шум); затем сигнал раскодируется обратно в звук (приемное устройство), и звук достигает уха на другом конце провода (пункт назначения). В одной из ваших клеток цепочка вашего ДНК содержит сигнал строить белок (источник); сигнал кодируется в цепочке мессенджера РНК (передающее устройство); мессенджер РНК переносит код в места синтеза белка (канал); одна из «букв» в коде РНК произвольно переключается в «точечную мутацию» (шум). Каждый трехбуквенный код передается в аминокислоту, строительный материал белка (приемное устройство); аминокислоты связываются в протеиновую цепочку, а это значит, что сигналы ДНК дошли до цели. Военное время. Командование союзных войск планирует нападение на вражеские берега (источник); офицеры штаба на основе этого плана издают письменный приказ (передающее устройство); копии приказа отправляются на передовые – по радио, курьером или почтовым голубем (канал); командование намеренно зашифровывает послание так, словно оно состоит из случайно подобранных символов (своеобразный искусственный «шум»). Одна копия поступает к союзникам на передовой, которые расшифровывают ее с помощью ключа и строят план сражения, а другая копия перехватывается врагом, чьи шифровальщики сами взламывают код (приемное устройство), и тогда приказ, изданный командованием и перехваченный врагом, превращается в стратегию и контрстратегию будущего сражения (пункт назначения). Эти шесть блоков настолько гибки, что работали даже применительно к тем сообщениям, о которых мир еще не догадывался, но для которых Шеннон уже готовил почву. Они представляют собой человеческие голоса, которые в виде электромагнитных волн отталкиваются от ретрансляторов, и бесконечный цифровой поток Интернета. Точно так же они подходят и для кодов, записанных в ДНК. И хотя молекулу ДНК открыли лишь пять лет спустя, Шеннон, бесспорно, был первым, кто осознал, что наши гены являются носителями информации. Этот прорыв в мышлении стер границу между механическими, электронными и биологическими сообщениями.
И хотя молекулу ДНК открыли лишь пять лет спустя, Шеннон, бесспорно, был первым, кто осознал, что наши гены являются носителями информации.Разбив процесс связи на такие универсальные шаги, Шеннон смог сфокусировать свое внимание на каждом шаге в отдельности и поразмышлять над тем, что мы делаем, когда выбираем сообщение в источнике, или о том, как можно эффективно бороться с шумом в канале связи. Представление о передающем устройстве как об отдельном понятийном блоке сыграло ключевую роль. Как мы увидим, работа Шеннона, связанная с шифрованием сообщений, оказалась решающей в достижении этого революционного результата. Если вспомнить о том, что интеллект Шеннона зачастую работал на пределе возможностей при наличии несовместимых аналогий (как в случае с булевой логикой и коробкой с переключателями), можно представить, как эта универсальная структура способна послужить средством поиска новых интересных аналогий.
И все же Шеннон в первую очередь осознавал, что наука об информации пока еще не могла точно определить самое существенное, а именно вероятностную природу информации. Когда Найквист и Хартли определили ее как выбор из набора символов, они исходили из допущения, что каждый такой выбор будет одинаково вероятным и независимым от всех символов, выбранных ранее. Да, действительно, подчеркивал Шеннон, какой-то выбор происходит именно так. Но не каждый. Мы можем начать с того, объяснял он позднее, что зададим вопрос, «каков будет самый простой источник или самая простая вещь, которую вы пытаетесь отправить»: «И здесь я бы бросил монету». Обычно монета имеет шансы 50 на 50 приземлиться орлом или решкой. Этот самый простой выбор – орел или решка, да или нет, 1 или 0 – самое базовое сообщение из всех существующих. Это тот тип сообщения, который согласуется с утверждениями Хартли. Он будет базовым параметром для истинной меры информации.
Варианты «бинит» и «биджит» были рассмотрены и отброшены, а победил в итоге вариант, предложенный Джоном Тьюки, профессором Принстонского университета, работавшим в «Лабораториях Белла». Бит.Новые науки требуют новых единиц измерения – словно бы в доказательство того, что те понятия, о которых много говорили и ходили вокруг да около, наконец-то определили количественно. Новая единица измерения изобретенной Шенноном науки должна была символизировать эту базовую ситуацию выбора. Так как это был выбор из 0 или 1, то это была «двоичная единица». В один из тех редких случаев, когда Шеннону понадобилась помощь в работе над проектом, как-то во время обеденного перерыва он обратился к своим коллегам по «Лабораториям» с просьбой придумать короткое и звучное название этой единице измерения. Варианты «бинит» и «биджит» были рассмотрены и отброшены, а победил в итоге вариант, предложенный Джоном Тьюки, профессором Принстонского университета, работавшим в «Лабораториях Белла». Бит. Один бит – это количество информации, полученное в результате выбора между двумя одинаково возможными вариантами. Поэтому «прибор с двумя устойчивыми положениями… может хранить один бит информации». «Битность» такого прибора – переключение в два разных положения, монета с двумя сторонами, регистр с двумя положениями – заключена не в исходе выбора, а в количестве возможных выборов и случайностях выбора. Два таких прибора включали бы в себя четыре выбора и хранили бы два бита. Так как Шеннон пользовался логарифмической мерой, количество битов удваивалось каждый раз, когда количество предложенных выборов возводилось в квадрат:
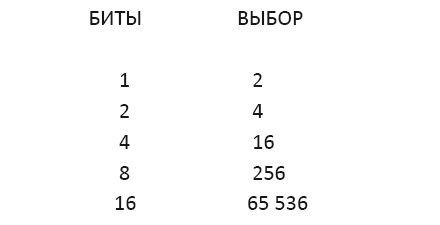
Какой-то выбор осуществляется именно так. Но не всегда выбор определяется монетой. Не все варианты выбора одинаковы. Не все сообщения одинаково вероятны. Давайте рассмотрим пример противоположной крайности: представьте себе монету с двумя орлами. Подбросьте ее столько раз, сколько хотите – дает ли она вам какую-то информацию? Шеннон настаивал на том, что не дает. Она не говорит вам ничего о том, чего вы не знаете: она не убирает неопределенность. А что в действительности измеряет информация? Она измеряет неопределенность, которую мы преодолеваем. Она измеряет наши шансы узнать то, чего мы еще не знаем. Или, если говорить более конкретно, когда одна вещь передает информацию о другой вещи – подобно тому, как показания счетчика сообщают нам физическое количество или книга рассказывает нам о жизни, – количество информации, которое она несет, отражает уменьшение неопределенности в отношении объекта. Сообщения, которые убирают наибольшее количество неопределенности – те, что выбраны из самого широкого диапазона символов с минимальным процентом случайностей, – наиболее содержательны в плане информации. Но там, где присутствует идеальная определенность, нет информации: в этих случаях просто нечего сказать. «Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды?» Сколько раз в истории судебной практики на этот вопрос звучал другой ответ, кроме «да»? В силу того, что только один ответ реально допустим, данный ответ не дает нам почти никакой новой информации – мы уже заранее знали его. И это справедливо в отношении большинства человеческих ритуалов, во всех случаях, когда наша речь заранее прописана и ожидаема («Берете ли вы в мужья этого человека?»). И когда мы отделяем значение от самой информации, мы обнаруживаем, что часть наших самых значимых высказываний – это наши самые менее информативные высказывания. Мы, конечно, можем вспомнить те немногие случаи, когда клятву не произносят или бросают невесту у алтаря. Но с точки зрения Шеннона, количество ценной информации заключено не в одном конкретном выборе, а в вероятности узнавания чего-то нового с каждым заданным выбором. Как бы вы ни старались, чтобы выпал орел, монета все равно будет время от времени падать решкой. Но в силу того, что монета сравнительно предсказуема, она также будет информационно ограниченна. И все же самые интересные случаи заключены в промежутке между двумя крайностями из абсолютной неопределенности и абсолютной предсказуемости: в широком диапазоне подброшенных монет. Почти каждое реально отправленное или полученное сообщение – это фактически брошенная определенным образом монета, и количество ценной информации варьируется в зависимости от того, как была подброшена монета. На этом графике Шеннон показал количество ценной информации при бросании монеты, когда вероятность выпадения нужной стороны (назовем эту величину р) варьируется от О до 100 процентов.
 Случай с процентным соотношением 50 на 50 дает максимум один бит, но количество непредвиденного стабильно падает, по мере того как выбор становится более предсказуемым. Это происходит до тех пор, пока мы не получим идеально предсказуемого выбора, который ни о чем нам не скажет. Особый случай с процентным соотношением 50 на 50 был уже описан Хартли. Но теперь стало ясно, что теория Шеннона, проработавшего каждый набор случайностей, поглотила теорию Хартли. В конечном счете реальная мера информации зависела от этих случайностей:
Случай с процентным соотношением 50 на 50 дает максимум один бит, но количество непредвиденного стабильно падает, по мере того как выбор становится более предсказуемым. Это происходит до тех пор, пока мы не получим идеально предсказуемого выбора, который ни о чем нам не скажет. Особый случай с процентным соотношением 50 на 50 был уже описан Хартли. Но теперь стало ясно, что теория Шеннона, проработавшего каждый набор случайностей, поглотила теорию Хартли. В конечном счете реальная мера информации зависела от этих случайностей:
H = – p log p – q log q.
В данном случае р и q представляют собой вероятности двух итогов – либо сторона монеты, либо посылаемый символ, – которые вместе составляют 100 процентов. (Когда возможно больше, чем два символа, мы можем включить больше вероятностей в наше уравнение.) Количество битов в сообщении (Н) зависит от его неопределенности: чем ближе эти случайности к равенству, тем больше неопределенности изначально и тем больше нас удивит результат. А когда равенство уменьшается, количество неопределенности, с которой нужно разобраться, уменьшается вместе с ним. Поэтому считайте величину Н мерилом «среднестатистической неожиданности» монеты. Если монета будет выпадать орлом 70 процентов времени, то ценность сообщения при ее подбрасывании составит всего 0,9 бита. Цель всего этого – не просто вычленить точное количество битов в каждом понятном сообщении: в ситуациях более сложных, чем подбрасывание монеты, возможности множатся, и определить точное количество случайностей для каждой из них становится гораздо труднее. Целью Шеннона было заставить своих коллег воспринимать информацию с точки зрения вероятности и неопределенности. Именно уход от традиционных взглядов Найквиста и Хартли помог заработать всей остальной части проекта Шеннона, хотя, что характерно, он посчитал это пустяшным делом: «Я не считаю это чем-то сложным». Сложный или нет, но это был новый подход, и он открывал новые возможности для передачи информации и преодоления шума. Теперь мы можем обернуть все случайности в свою пользу.
И все же в основной массе сообщений символы не ведут себя, как монеты. Символ, который отправляют сейчас, зависит – важным и предсказуемым образом – от символа, который был только что отправлен: один символ «тянет» за собой последующий. Возьмем изображение: Хартли показал, как оценивать информационный контент сообщения, измеряя интенсивность тона каждого «элементарного участка». Но в тех изображениях, которые читаемы, яркость тона представлена не хаотично разбросанными по поверхности пикселями: каждый пиксель имеет свою «библиотеку ресурсов». Светлый пиксель, вероятней всего, появится рядом со светлым пикселем, а темный – рядом с темным. Или же, предлагал Шеннон, возьмем простейший случай с телеграфными сообщениями. (К телеграфной связи часто обращались, как к самой базовой модели дискретной связи, удобной для упрощения и изучения. Даже несмотря на то что телеграфом пользовались все реже, он продолжал служить науке в теоретических работах.) Сократим алфавит до трех основных символов азбуки Морзе – точки, тире и пробела. Каким бы ни было сообщение, за точкой может следовать точка, тире или пробел; за тире может следовать точка, тире или пробел; но за пробелом может следовать только точка или тире. За пробелом никогда не идет пробел. Выбор символов не является абсолютно свободным. Действительно, машина, работающая с телеграфным ключом в произвольном режиме, может нарушить правила и по незнанию отправить пробел вслед за пробелом. Но почти все сообщения, которые интересны инженерам, подчиняются определенным правилам и в некоторой степени лишены свободы. И Шеннон учил инженеров тому, как можно выгодно воспользоваться этим фактом. Этим своим озарением Шеннон поделился с Германом Вейлем в Принстоне в 1939 году. Прошло почти десять лет, прежде чем он смог подвести под эту идею теоретическую базу: информация стохастична. Ее нельзя назвать ни абсолютно непредсказуемой, ни абсолютно определенной. Она разворачивается в приблизительно предсказуемых формах. Вот почему классическая модель стохастического процесса – это пьяный человек, который идет, спотыкаясь, по улице. Он идет не по прямой линии, и мы не можем с точностью предсказать его путь. Каждый его крен выглядит как случайность. Но если понаблюдать за ним достаточно долго, мы заметим, что в его движениях присутствуют определенные модели, которые при желании можно было бы зафиксировать. Постепенно мы бы довольно точно вычислили те места на тротуаре, на которых он, вероятнее всего, мог бы оказаться. И наши оценки были бы еще более достоверными, если бы мы начали с изучения общего характера походки пьяных людей. Так, к примеру, их тянет к фонарным столбам. Как это ни удивительно, но Шеннон продемонстрировал, что данная модель также описывает поведение сообщений и языков. При общении на любом языке определенные правила ограничивают нашу свободу выбирать последующую букву и последующий ананас[5]. Так как эти правила делают одни модели наиболее вероятными, а другие – практически недопустимыми, то такие языки, как английский, почти лишены полной неопределенности и максимальной информативности: сочетание «th» встречалось в этой книге уже 6431 раз, сочетание «tk» – только один. С точки зрения специалиста в области теории информации, наши языки ужасно предсказуемы – до скучного предсказуемы. Чтобы доказать это, Шеннон провел оригинальный эксперимент с исковерканным текстом. Он показал, как, оперируя стохастическими методами, можно сконструировать нечто, напоминающее английский язык, с нуля. Шеннон начал абсолютно произвольно. Он открывал книгу на случайно попавшейся странице, тыкал пальцем в одну из строк и выписывал соответствующую букву 27-символьного алфавита (26 букв плюс пробел). Он называл это «аппроксимацией нулевого порядка». Вот что у него получилось:
XFOML RXKHRJFFJUJ ZLPWCFWKCYJ FFJEYVKCQSGHYD QPAAMKBZAACIBZLHJQD.
Здесь равные вероятности для каждого знака, и ни один из знаков не «тянет» за собой другой знак. Это печатный эквивалент помех. Вот как выглядел бы наш язык, если бы он был абсолютно неопределенным, а значит, абсолютно информативным. Но в английском языке присутствует определенность. Во-первых, мы знаем, что некоторые буквы встречаются чаще других. За сто лет до Шеннона Сэмюэл Морзе (вдохновленный экспериментами с печатной машинкой) использовал свои догадки о частоте появления букв и включил их в свой телеграфный код, обозначив букву Е одной точкой, а букву Q – более громоздкой конструкцией тире-тире-точка-тире. Морзе правильно разобрался: во времена Шеннона было уже известно, что примерно 12 процентов английского текста составляет буква Е, и всего 1 процент – буква Q. Вооружившись таблицей с частотой появления букв в тексте и своей книгой о случайных числах, Шеннон занялся подсчетом вероятностей для каждой буквы. Это «аппроксимация первого порядка»:
OCRO HU RGWR NMIELWIS EU LL NBNESEBYA ТН EEI ALHENHTTPA OOBTTVA NAH BRL.
Не стоит забывать о том, что мы знаем: наша свобода вставить какую-то букву в строчку английского текста также ограничена стоящей впереди буквой. Буква К часто идет после С, но почти невозможна после Т. Буква Q требует буквы U. У Шеннона были таблицы частоты появления этих «биграмм». Но вместо того чтобы повторять этот утомительный процесс, уверенный в своей правоте, он воспользовался более незамысловатым методом. Чтобы построить текст с разумной частотой биграмм, действуют таким образом: «Человек открывает книгу наугад и выбирает наугад любую букву на открывшейся странице. Эта буква записывается. Затем книга открывается на другой странице, и человек читает ее, пока не находит эту же букву. Следующая за ней буква записывается. На очередной странице ищется эта вторая буква и записывается та, которая идет за ней следом, и т. д.». Если все идет правильно, тогда получившийся текст будет отражать ту вероятность, с которой каждая буква следует за другой в английском языке. Это «аппроксимация второго порядка»:
ON IE ANTSOUTINYS ARE T INCTORE ST BE S DEAMY ACHIN D ILONASIVE TUCOOWE AT TEASONARE FUSO TIZIN ANDY TOBE SEACE CTISBE.
Буквально из ничего стохастический метод позволил вслепую создать пять английских слов (шесть, если мы добавим апостроф и посчитаем как слово ACHIN’). «Аппроксимация третьего порядка» – тот же метод поиска триграмм – подводит нас все ближе к сносному английскому:
IN NO IST LAT WHEY CRATICT FROURE BIRS GROCID PONDENOME OF DEMONSTURES OF THE REPTAGIN IS REGOACTIONA OF CRE.
He только эти двух- и трехбуквенные сочетания часто встречаются вместе, но и целые цепочки букв в других словах. А вот «аппроксимация слов первого порядка» с использованием частоты появления целых слов:
REPRESENTING AND SPEEDILY IS AN GOOD APT OR COME CAN DIFFERENT NATURAL HERE HE THE A IN CAME THE TO OF TO EXPERT GRAY COME TO FURNISHES THE LINE MESSAGE HAD BE THESE.
Следует отметить, что на выбор нами следующего слова сильно влияет стоящее впереди. И наконец Шеннон обратился к «аппроксимации слов второго порядка»: он выбрал слово наугад, пролистал книгу вперед, пока не обнаружил еще один пример, а потом записал следующее слово:
THE HEAD AND IN FRONTAL ATTACK ON AN ENGLISH WRITER THAT THE CHARACTER OF THIS POINT IS THEREFORE ANOTHER METHOD FOR THE LETTERS THAT THE TIME OF WHO EVER TOLD THE PROBLEM FOR AN UNEXPECTED.
«Определенная последовательность из десяти слов обрушилась на английского писателя, так что характер ее нельзя назвать нерациональным», – с гордостью отметил Шеннон[6]. Постепенно отрывки становились все более приемлемыми, напоминая человеческий язык. Они не были написаны от руки, они генерировались: единственным вмешательством человека в этот процесс было применение правил. Как, задавал вопрос Шеннон, мы получаем английский язык? Мы получаем его, делая наши правила более ограничивающими и делая себя более предсказуемыми. Мы делаем это, становясь менее информативными. И эти стохастические методы – всего лишь модель того выбора, который мы, не задумываясь, делаем каждый раз, когда произносим предложение и отправляем любое сообщение. Оказывается, что некоторые самые детские вопросы о мире – «Почему яблоки не падают вверх?» – также являются самыми научно продуктивными. Если бы существовал пантеон абсурдных и откровенных вопросов, то туда бы следовало включить и такой вопрос Шеннона: «Почему никто не говорит XFOML RXKHRJFFJUJ?» В поисках ответа на этот вопрос стало ясно, что «свобода нашей речи» – это, по большей части, иллюзия: она происходит из обедненного понимания свободы. Собеседники, обладающие большей свободой, чем мы – свободой, конечно же, в том, что касается неопределенности и информации – сказали бы «XFOML RXKHRJFFJUJ». Flo в реальности огромное множество возможных сообщений заранее исключено для нас, еще до того, как мы произнесем слово или напишем строчку. Мы также лишены свободы слегка изменить одну из удачно сложившихся последовательностей, которые случайно появились в блокноте Шеннона: ТНЕ LINE MESSAGE HAD [ТО] BE THESE.
И все же кому интересна частота появления букв? Во-первых, специалистам по криптоанализу – и Шеннон был одним из лучших в этой области. Он был знаком с таблицами частоты появления букв, диграмм и триграмм, потому что они были необходимым инструментом шифровальщика. Практически в любом коде преобладают определенные символы, и они, вероятней всего, обозначают наиболее распространенные знаки. Вспомните, как в любимом рассказе Шеннона «Золотой жук» эксцентричный господин Легран обнаружил спрятанный клад, разгадав этот кажущийся недоступным пониманию код: 53##+305))6*;4826) 4#.) 4#); 806*;48+81 160))85;;]8*;: #*8+83 (88)5*+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:*#(;4956*2(5*=4)81 18*; 4069285);)6+8)4##;1#9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528806*81 (#9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188;#?; Он начал, как все опытные шифровальщики, с того, что подсчитал частоту появления знаков. Символ «8» появлялся чаще, чем другие – 33 раза. Эта маленькая деталь стала той трещиной, которая взломала всю структуру. Ниже приведено объяснение господина Леграна, которое поразило воображение маленького Шеннона: «В английской письменной речи самая частая буква – е. Буква е, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения… Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву е английского алфавита… Самое частое слово в английском – определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности, и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись, находим сочетание из трех знаков; 4 8, встречающееся не менее семи раз. Итак, мы имеем право предположить, что знак; – это буква t, а 4 – h. Вместе с тем подтверждается, что 8 действительно е. Мы сделали важный шаг вперед». Будучи творением рук полуграмотного пирата, код был достаточно легким для разгадывания. В более сложных шифрах задействуется самое разное количество уловок, чтобы затруднить подсчет частот: смена алфавита кода в середине сообщения, исключение двойных гласных и двойных согласных, не использование буквы е. Те коды, которые Шеннон тестировал для Рузвельта, и те, что Тьюринг разгадывал для Черчилля, были еще более изощренными. Но в конечном счете дешифровка сообщений была возможна и остается возможной, потому что каждое сообщение отталкивается от базовой реальности человеческой связи, в которой всегда присутствует избыточность. Общаться – это значит делать себя предсказуемым. Это были те интуитивные знания, накопленные многими поколениями криптографов, которые Шеннон официально закрепил в своей работе по теории информации: криптография работает потому, что наши сообщения весьма и весьма далеки от того, чтобы быть полностью неопределенными. Следует отметить, что работа Шеннона в области криптографии была не единственной, что подготовила его прорыв в науке об информации: он начал размышлять об информации задолго до того, как стал заниматься кодами – на самом деле еще до того, как он узнал, что проведет несколько лет, работая криптографом на американское правительство. В то же время работа Шеннона в области информационной теории и работа шифровальщиком имела один источник – его интерес к неизученной статистической природе сообщений, построенный на догадке о том, что овладение этой природой может расширить наши возможности связи. Впоследствии он объяснит: «Я писал [работу по информационной теории], которая стала в некотором смысле оправданием тем усилиям и времени, потраченными мною на [криптографию], по крайней мере в моем представлении… Но была эта тесная связь. Я имею в виду, что эти вещи очень похожи… Информация в одном случае пытается скрыть это, а в другом – это передать». С точки зрения Шеннона, свойство сообщений, которое делает дешифровку возможной – это избыточность. Историк криптографии, Дэвид Кан, объяснял это следующим образом: «Грубо говоря, избыточность означает, что в сообщении передается больше символов, чем фактически нужно, чтобы донести информацию». Информация разрешает неопределенность; избыточность – это каждая часть сообщения, которая не говорит нам ничего нового. Каждый раз, когда мы можем догадаться, что последует дальше, мы имеем дело с избыточностью. Буквы могут быть избыточными: за Q почти автоматически следует U, и эта буква сама по себе почти ничего не говорит нам. Мы легко можем отбросить ее и еще много других букв. Как сказал Шеннон: «MST PPL HV LTTL DFFCLTY N RDNG THS SNTNC». Слова могут быть избыточными: артикль «the» – почти всегда грамматическая формальность, и его без всякого ущерба для восприятия можно убрать. Пират-криптограф из рассказа По поступил бы мудро, если бы отсек каждый артикль «the» или «;48»: это была та самая щель, которой так успешно воспользовался Легран. Избыточными могут быть и целые сообщения: во всех тех случаях, когда наши ответы известны заранее и мы можем говорить и говорить и не сказать ничего нового. В представлении Шеннона избыточные символы – это все те, без которых мы можем обойтись, каждая буква, слово или строчка, которые мы можем убрать, не исказив информации. По мере того как аппроксимации текста становились все более похожими на английский язык, они делались все более и более избыточными. И если подобная избыточность вырастает из правил, которые сдерживают нашу свободу, то это диктуется практическими реалиями общения друг с другом. Любой человеческий язык крайне избыточен. С беспристрастной точки зрения специалиста в области теории информации, большую часть того, что мы говорим – руководствуясь ли традициями, грамматикой или привычками, – можно было бы и не говорить. Занимаясь теоретическими вопросами связи, Шеннон пришел к выводу, что, несмотря на богатство английского языка, любой английский текст можно урезать вдвое, не боясь нарушить его восприятие: «Половина того, что мы пишем на английском, обусловлена структурой языка, а половину мы выбираем сами». Позднее его оценка избыточности языка выросла до 80 процентов: лишь один из пяти знаков реально обладал информацией. Если так, рассуждал Шеннон, то нам повезло, что эта избыточность не выше. А если бы она была выше, то не было бы никаких кроссвордов. При нулевой избыточности, в условном мире, где «RXKHRJFFJUJ» – это слово, «любая последовательность букв является возможным текстом данного языка, а любые два ряда букв образуют кроссворд». Чем выше уровень избыточности, тем меньше возможных последовательностей, а количество потенциальных пересечений сокращается: если бы английский был более избыточным, то стало бы практически невозможно составлять головоломки. С другой стороны, если бы английский был чуть менее избыточным, рассуждал Шеннон, мы бы заполняли кроссворды в трех измерениях. Его оценки избыточности нашего языка возникали, как уклончиво писал Шеннон, из «конкретных результатов, полученных в области криптографии». Оставленный им намек – свидетельство того, что его значительный труд в области криптографии, статья «Теория связи в секретных системах», в 1948 году был все еще засекречен. Тем не менее другими источниками Шеннон мог оперировать относительно свободно. Одним из них было творчество Рэймонда Чандлера. Однажды вечером Шеннон взял толстую книгу с детективными рассказами Чандлера «Возмездие Нун-стрит» и пролистал ее, как он часто делал в то время, выбрав произвольный отрывок. Он разложил по буквам весь отрывок, а его помощница должна была угадывать, какой будет следующая буква, пока не назовет правильную. К тому моменту, когда они добрались до «А S-M-A-L–L O-B-L-O-N-G R-E-A-D-l-N-G L-A-M-P O-N Т-Н-Е D», она смогла с абсолютной точностью угадать следующие три буквы: E-S-K. Целью этого процесса была вовсе не тренировка предсказательных способностей его помощницы, тем самым Шеннон хотел доказать, что любой человек, читающий книгу на английском, станет таким же «провидцем», зная, каким правилам подчиняется то или иное предложение. К тому моменту, когда помощница дошла до буквы D, она уже поняла смысл. E-S-K – это формальность. И если бы правила нашего языка предоставляли нам свободу замолчать, как только смысл становился понятным, то буквы D было бы достаточно. Но избыточность на этом не заканчивалась. За фразой, начинающейся с «а small oblong reading lamp on the», почти наверняка последует одна или две буквы: D или первая названная буква Т. В языке с нулевой избыточностью шансы помощницы угадать, что последует дальше, были бы всего 1 к 26. А потому следующая буква была бы максимально информативна. Но в нашем языке ее шансы составляли бы, скорее, 1 к 2, а буква несла бы гораздо меньше информации. В Оксфордском словаре английского языка представлено 228 132 слова. Из всего этого двадцатитомного кладезя лексикографии два слова стали наиболее вероятными после того, как Шеннон произнес по буквам короткую фразу: это слова «desk», «table». Как только Рэймонд Чандлер добрался до «the», он загнал себя в угол. Но мы все загоняем себя в угол, когда пишем, говорим или поем.
Понимая избыточность нашего языка, мы можем сознательно оперировать ею, подобно тому, как инженеры прошлых веков учились работать с паровыми двигателями. Да, конечно, люди экспериментировали с избыточностью языка методом проб и ошибок на протяжении многих веков. Мы урезаем избыточность, когда прибегаем к стенографии, когда даем друг другу прозвища, когда придумываем особый жаргон, чтобы сжать значение фразы (вместо «левой стороны судна» короткое слово «порт»). Мы добавляем избыточности, когда говорим «буква В, как Виктор», чтобы нас услышали и поняли, вместо того чтобы кружить вокруг да около. Но именно Шеннон показал концептуальное единство, скрытое за всеми этими действиями, и не только. У истоков зарождения информационной эпохи, когда провода и микросхемы были отброшены и когда был расчленен поток из 0 и 1, мы обнаруживаем две фундаментальные теоремы связи, предложенные Шенноном. Они представляют собой два способа, с помощью которых мы можем управлять избыточностью: уменьшая и увеличивая ее. Для начала зададимся вопросом, с какой скоростью мы можем отправить сообщение? Шеннон показал, что это зависит от того, сколько избыточности мы можем выжать из него. Наиболее действенное сообщение фактически будет напоминать цепочку произвольного текста: каждый новый символ будет максимально информативен, а значит, максимально непредсказуем. Ни один символ не появится бесцельно. Конечно, в сообщениях, которые мы посылаем друг другу – либо с помощью телеграфной связи, либо посредством телевещания. – символы постоянно растрачиваются впустую. Поэтому скорость общения по выбранному каналу связи зависит от того, как мы кодируем сообщения, насколько компактно «упаковываем» их перед «отгрузкой».
Это было одно из преимуществ физического представления об информации – бит стал в один ряд с метрами и граммами.Первая теорема Шеннона доказывает, что существует точка максимальной компактности для каждого исходящего сообщения. Мы достигаем пределов связи, когда каждый символ сообщает нам что-то новое. И так как теперь у нас есть четкое мерило информации – бит, – мы также знаем, как сильно можно ужать сообщение, прежде чем оно достигнет точки идеальной сингулярности. Это было одно из преимуществ физического представления об информации – бит стал в один ряд с метрами и граммами. Это было доказательством того, что эффективность нашей связи зависит не только от свойств нашего способа общения, от толщины провода или частотного диапазона радиосигнала, но от чего-то более измеряемого, что присутствует в самом сообщении. Оставалось только проделать работу по отправке или кодированию сообщения: сконструировать надежныесистемы, которые бы отсекли ненужную избыточность наших сообщений в источнике отправки и воссоздали их в точке получения. Шеннон вместе с инженером МТИ Робертом Фано сделал первые важные шаги в этом направлении, а в одной из научных статей, которую он написал спустя время после того, как была опубликована его знаменитая работа, Шеннон объяснил, как будет работать код, сокращающий избыточность. Все зависит, утверждал он, от статистической природы сообщений: от вероятности, с которой белый пиксель оказывается рядом с другим белым пикселем на изображении, или от частоты появления букв, диграмм и триграмм, которые делают генерированные в произвольном порядке отрывки все более похожими на английский язык. Представьте, что в нашем языке всего четыре буквы: А, В, С и D. Представьте, что этот язык, как любой другой, со временем начинает обрастать шаблонами. Со временем половина букв оказывается буквой А, четверть букв оказывается буквой В, а буквы С и D составляют каждая по одной восьмой. Если бы мы захотели отправить сообщение на этом языке по радиоволнам в виде символов 0 и 1, какой код был бы самым лучшим? Возможно, мы сделаем выбор в пользу очевидного решения: каждая буква получает одинаковое количество битов. Для четырехбуквенного языка нам потребуются два бита для каждой буквы:
А = 00 В = 01 С= 10 D = 11
Но мы можем поступить лучше. На самом деле, когда скорость передачи сообщения становится таким ценным ресурсом (вспомните все то, что вы не можете сделать с модемом коммутируемой линии передачи), мы вынуждены поступить лучше. И если мы будем держать в уме статистику этого конкретного языка, то это получится. Нужно всего лишь использовать минимальное количество битов для самых распространенных букв и применять лишь самые громоздкие цепочки для самых редких букв. Другими словами, менее «неожиданная» буква кодируется наименьшим количеством битов. Представьте, что Шеннон предложил нам использовать другой код:
А = О В = 10 С = 110 D = 111[7].
Чтобы доказать, что этот код более эффективен, мы можем увеличить количество битов для каждой буквы, полагаясь на тот случай, что появится каждая буква и это даст нам среднюю величину битов для каждой буквы:
(1/2) 1 + (1/4) • 2 + (1/8) • 3 + (1/8) • 3 = 1.75.
Сообщение, отправленное с этим вторым кодом, менее избыточно: вместо того чтобы использовать 2 бита на каждую букву, мы можем выразить идентичную идею более компактно – 1,75. Оказывается, что 1,75 – особое число в этом четырехбуквенном языке – это также количество информации в битах, заключенное в любой букве. И здесь мы достигаем предела. Для данного языка невозможно создать более эффективный код. Он максимально наполнен информацией: ни один знак не потрачен впустую. Первая теорема Шеннона показывает, что более сложные источники (аудио, видео, ТВ, веб-страницы) могут быть эффективно сжаты подобным – если не более сложным – образом. Коды данного типа – впервые использованные Шенноном и Фано, а затем усовершенствованные студентом Фано, Дэвидом Хаффманом, и десятками других ученых, – являются столь значимыми, потому что существенно расширяют диапазон ценных с точки зрения информативности сообщений. Если бы мы не смогли сжать наши сообщения, то единственный аудиофайл загружался бы у нас несколько часов, поток веб-видео был бы невозможно медленным, а многочасовые просмотры телевизора потребовали бы многочисленных полок с пленками, а не маленькой коробки с дисками. Благодаря тому, что мы можем сжать наши сообщения, видеофайлы становятся компактнее в двадцать раз. Весь этот процесс связи – быстрее, дешевле и объемнее – основан на осознании Шенноном нашей предсказуемости. Вся эта предсказуемость должна быть убрана; со времен Шеннона наши сигналы проходят в «облегченном виде».
Шеннон дал всем последующим поколениям инженеров ориентир, а также возможность понять, когда они бессмысленно теряют время.Но при этом они подвержены риску. Каждый сигнал подвержен действию помех. Каждое сообщение может быть повреждено, прервано, искажено. А самые масштабные сообщения, самые сложные импульсы, посылаемые на самые дальние расстояния, легче всего исказить. Когда-то уже совсем скоро – не в 1948 году, а при жизни Шеннона и его коллег по «Лабораториям Белла» – человеческая коммуникация должна была достичь пределов своих стремлений, если бы не была решена проблема с шумом. Это было задачей второй фундаментальной теоремы Шеннона. В отличие от первой, которая временно исключала шум из уравнения, вторая учитывала реалии и показывала нам границы нашей точности и скорости в рамках шумного мира. Понимание этих границ требовало исследования не только того, что мы хотим сказать, но и способов, как мы это скажем, а именно качества канала связи, будь то телеграфная линия или оптоволоконный кабель. В статье Шеннона было впервые определено понятие «емкость канала связи» – количество битов в секунду, которые канал может точно передать. Он доказал точную взаимосвязь между пропускной способностью канала и двумя другими его свойствами: частотой диапазона (или того ряда диапазонов, которые он может предоставить) и соотношением сигнала и шума. И Найквист, и Хартли изучали взаимовлияния емкости, сложности и скорости. Но именно Шеннон смог облечь эти взаимовлияния в наиболее точную и контролируемую форму. Тем не менее поворотной идеей относительно емкости канала было не просто то, что ее можно было регулировать или избавиться от нее. Главное заключалось в том, что существовало жесткое ограничение – «предел скорости», выраженный в битах в секунду – на точную передачу сообщения в любой среде. После этой точки, которую довольно скоро назвали «пределом Шеннона», точность наших сообщений нарушается. Шеннон дал всем последующим поколениям инженеров ориентир, а также возможность понять, когда они бессмысленно теряют время. В некотором смысле он также дал им то, чего они жаждали со времен Томсона и трансатлантического кабеля: уравнение, которое заставило бы сообщение и среду подчиняться одним и тем же законам. И этого было бы вполне достаточно. Но был сделан еще один шаг, который кому-то мог показаться чудом или чем-то непостижимым. Ниже границ предела скорости канала, какой бы ни был замысел, мы можем сделать сообщения настолько точными, насколько пожелаем, идеально свободными от шума. Это было самое далеко идущее открытие Шеннона: то, что Фано называл «неизвестным, немыслимым», пока Шеннон не решил эту проблему. До Шеннона сформировалось укоренившееся убеждение в том, что шум – это естественная помеха. Способы сглаживания шума принципиально не менялись с тех пор, как Уайлдмен Уайтхаус сжег огромный морской кабель. Передача информации, подсказывал здравый смысл, напоминала передачу электроэнергии. Лучшим решением тогда был затратный и ненадежный способ действовать грубой силой, а именно «перекрикивать» помехи, подавая более громкий сигнал. Способ Шеннона достичь идеальной точности передачи был чем-то радикально новым[8]. По мнению профессора инженерного дела, Джеймса Мэсси, именно этот потенциал, помимо всего прочего, делал теорию Шеннона «коперниковской»: в том смысле, что переворачивал очевидное с ног на голову, кардинально и самым продуктивным образом меняя наше понимание мира. Точно так же, как Солнце «очевидно» вращалось вокруг Земли, лучшим решением проблемы с шумом «очевидно» было иметь дело с физическими каналами связи, с их мощью и силой сигнала. Шеннон предлагал настораживающую смену акцентов: игнорировать физический канал, мы можем преодолеть шум, управляя нашими сообщениями. Решение проблемы шума заключается не в том, насколько громко мы говорим, а в том, как мы говорим то, что мы говорим. Как неуверенные операторы трансатлантической телеграфной связи пытались справиться с нарушением сигнала? Они просто повторяли друг другу: «Повторите, пожалуйста», «посылайте медленнее», «правильно, правильно». На самом деле Шеннон показал, что замученные телеграфисты в Ирландии и Ньюфаундленде ухватили суть, они фактически решили проблему, даже не подозревая об этом. Если бы они смогли прочитать статью Шеннона, то, вероятно, сказали бы: «Пожалуйста, добавьте избыточности». В определенном смысле это было достаточно очевидно: сказать одну и ту же вещь дважды в шумной комнате – это, в некотором роде, добавление избыточности, если мы подразумеваем, что одна и та же ошибка вряд ли повторится в одном и том же месте два раза подряд. Для Шеннона все было гораздо глубже. Наша лингвистическая предсказуемость, наша врожденная неспособность максимизировать информацию – это фактически наша лучшая защита от ошибок. Несколькими страницами ранее вы прочитали о том, что структура нашего языка лишает нас полной свободы выбирать «следующую букву и следующий ананас». Как только вы дошли до слова «ананас» – на самом деле, как только вы дошли до буквы «а», – вы уже понимали, что что-то пошло не так. Вы обнаружили (и, вероятно, исправили) ошибку. Вы сделали это потому, что у вас есть внутреннее понимание структуры языка. И это внутреннее знание подсказало вам, что вероятность того, что слово «ананас» имеет смысл в этом предложении и абзаце, крайне низка. Избыточность нашего языка корректирует ошибки за нас. С другой стороны, представьте, насколько сложнее было бы найти ошибку в языке «XFOML», в котором каждая буква одинаково вероятна[9]. Для Шеннона ключ опять же заключался в коде. Он продемонстрировал, что мы должны уметь писать коды, в которых избыточность действует как щит, коды, в которых ни один бит не является неустранимым, и любой бит может без всякого вреда для сообщения быть поглощен шумом. Мы снова хотим отправить сообщение, составленное из букв от А до D, но в этот раз нам важнее не сжимать сообщение, а чтобы оно надежно прошло по шумному каналу связи. И снова мы начнем с самого простого кода:
А = 00 В = 01 С= 10 D = 11
Одна из самых худших вещей, которые может сделать шум в момент помех, включения посторонних звуков или физического повреждения канала связи – это исказить биты. Там, где отправитель произносит «1», получатель слышит «0», или наоборот. Так что если бы мы использовали этот код, то ошибка для одного-единственного бита могла бы быть фатальной. Если бы всего один из битов, представляющих букву С, поменял бы свое свойство, буква С потерялась бы в канале связи: она возникла бы в виде буквы В или D, запутав получателя. Достаточно всего лишь двух таких замен, чтобы превратить «DAD» в «САВ». Но мы можем решить эту проблему – точно так же, как человеческие языки интуитивно, автоматически решают подобную проблему, – добавив биты. Мы можем использовать вот такой код:
А = 00000 В = 00111 С = 11100 D = 11011
Теперь любая буква могла бы выдержать повреждение любого бита и все равно оставаться именно этой буквой и никакой другой. При наличии двух ошибок ситуация становится более запутанной: 00011 может быть либо буквой В с одним замененным битом, либо А с двумя замененными битами. Но чтобы превратить одну букву в другую, требуются три полноценные ошибки. Наш новый код противостоит шуму так, как не противостоял ему наш первый код, и делает это более эффективно, чем простое повторение слова. Нам не нужно было менять ни единой вещи в том, что касается средства связи: никаких перекрикиваний в переполненной комнате, никакого монтажа индукционных катушек. Нужно лишь посылать правильные сигналы. Пока мы соблюдаем скоростной предел канала связи, у нас нет ограничений в точности передачи нашего сообщения, нет ограничений в количестве шума, сквозь который мы можем пробиться. Да, преодоление большего числа ошибок или добавление большего числа символов потребует более сложных
Шеннон был прав: решение есть всегда. И это решение – цифровое.кодов. Так же как и сочетание преимуществ кодов, которые сжимают сообщение, и кодов, которые защищают от ошибок. Для этого нам потребуется максимально эффективно сократить сообщения в битах, а потом добавить избыточности, которая обеспечит его точность. Шифрование и дешифровка все равно взыщут свою цену за счет потраченных усилий и времени. Но Шеннон был прав: решение есть всегда. И это решение – цифровое. На этом Шеннон завершил свое исследование, начавшееся с магистерской работы и переключателей одиннадцатью годами ранее. 1 и 0 закрепляли целостность его логики. Знаки 1 и 0 символизировали фундаментальную природу информации, равный выбор из двух вариантов. И теперь было очевидно, что любое сообщение можно отправить безукоризненно – мы можем общаться с помощью любого вида связи, любой сложности и на любом расстоянии – при условии, что наши сообщения переводятся в 1 и 0. Логика преобразуется в цифру. Информация переводится в цифру. А потому каждое сообщение родственно всем другим сообщениям. «До того момента все считали, что связь задействовали, чтобы найти способы передачи письменного языка, устной речи, изображений, видео и всего разнообразия других видов сообщений – и что все они требовали разных способов передачи, – говорил коллега Шеннона Роберт Галлагер. – Клод сказал: “Нет, вы можете перевести все это в двоичные символы. А потом вы можете найти способы передачи этих двоичных символов”. Вы можете закодировать любое сообщение в виде потока битов, и вам совсем необязательно знать, куда оно отправится. Вы можете передать любой поток битов эффективно и надежно, не интересуясь, откуда он пришел. Как сказал специалист в области теории информации, Дэйв Форни, «биты – это универсальный интерфейс». Со временем его мысли, представленные на семидесяти семи страницах в «Техническом журнале “Лабораторий Белла”, дадут толчок рождению цифрового мира. Появятся спутники, общающиеся с землей посредством бинарного кода, диски, проигрывающие музыку, несмотря на пятна и царапины (потому что хранилище – это просто другой канал, а царапина – это просто другой шум). Со временем, потому что пока Шеннон доказывал, что такие коды должны существовать, ни он, ни кто-то другой не показал, какими они должны быть. Как только страсти по поводу дерзости его открытия утихнут – в конце концов, он одним махом открыл новую область знаний и решил основные ее проблемы, – в обсуждениях личности Клода Шеннона и его теории будет доминировать одна тема. Сколько времени потребуется, чтобы подобрать коды? А если их подобрать, будут ли они иметь практическую ценность или же они просто сделают дешевле прежнюю коммуникацию? Может ли эта странная научная работа, переполненная выдуманными языками, бессмысленными сообщениями, произвольным текстом и философией, которая якобы охватывала и объясняла любой отправленный сигнал, может ли она быть чем-то большим, чем просто изящным теоретизированием? Если выражаться словами, под которыми бы подписался любой инженер: будет ли она работать? Но из другого источника, от людей, настроенных совсем иначе, поступили новые вопросы. Лучше всего они отражены в беседе, состоявшейся между Шенноном и фон Нейманом в Принстоне в 1940 году, когда Клод только начинал собирать свою теорию воедино и еще переживал по поводу своего распавшегося брака. Шеннон поделился с этим великим человеком своей идеей «информации как средства устранения неопределенности», легшей в основу его работы, и задал простой вопрос. Как бы он назвал это? Фон Нейман ответил сразу же: скажем, информация уменьшает «энтропию». Во-первых, это хорошее, емкое слово. «И еще более важно, – продолжал он, – что никто не знает, что такое энтропия на самом деле, поэтому в споре вы всегда будете иметь преимущество». Скорее всего, этого разговора никогда не было. Но великая наука, как правило, рождает свои собственные легенды, и эта история практически совпадает по времени с появлением научной статьи Шеннона. Ее пересказывали на семинарах, лекциях и в книгах, а сам Шеннон вынужден был отмахиваться от нее на конференциях и во время интервью, отшучиваясь в свойственной ему манере. Эта история так долго была на устах – и сейчас мы снова пересказываем ее, – потому что связь между информацией и энтропией наводила на размышления[10]. Одни жаждали того, чтобы теория Шеннона работала, другие высказывали предположения о том, что в этой работе скрываются истины гораздо более глубокие, чем мог признать сам автор. Никто не знает, что же такое энтропия на самом деле. Определение звучало масштабно, но понятие энтропии включало множество вещей – почти столько же, сколько само понятие информации, – причем какие-то были научно обоснованными, а какие-то нет. Это была неспособность парового двигателя работать; рассеивание тепла и энергии; неизменная тенденция каждой части закрытой системы деградировать, превращаясь в отработанную породу; это также была, если говорить грубо, но емко, тенденция в сторону беспорядка, хаоса. Это всегда зарождающийся разброд, против которого мы боремся, чтобы выжить. Джеймс Глейк выразился более лаконично: «Организмы организуются». И продолжал: «Мы сортируем почту, строим замки из песка, складываем пазлы, отделяем зерна от плевел, переставляем шахматные фигуры, собираем марки, составляем алфавитные указатели в книгах, создаем симметрию, сочиняем сонеты и сонаты и ставим на место вещи в своих домах… Мы проповедуем структуру (не только люди, а вообще все живое). Мы нарушаем тенденцию к равновесию. Было бы абсурдно рассматривать эти процессы с термодинамической точки зрения, но не будет абсурдным сказать, что мы уменьшаем энтропию. Постепенно. Бит за битом». В погоне за этим порядком мы делаем нашим мир менее информативным, потому что сокращаем количество доступной для нас неопределенности. Предсказуемость нашей связи, в этом свете, – это символ еще большей предсказуемости. Все мы, люди, предсказуемые машины. Мы воспринимаем себя как неустанных созидателей и потребителей информации. Но, по логике Шеннона, все ровно наоборот: мы высасываем информацию из мира. Но здесь мы терпим неудачу. Тепло рассеивается; беспорядок со временем увеличивается; энтропия, как говорят нам физики, всегда движется по восходящей. В состоянии максимальной энтропии любая предсказуемость отпала бы сама собой: каждая частица была бы сюрпризом. И весь мир в целом читался бы как самое информативное сообщение из всех существующих. Возникает один нерешенный вопрос: была ли идея об информации как энтропии неуместной и бесплодной аналогией, или это был более менее подходящий язык, на котором можно было говорить о мире? Или же сама информация была настолько фундаментальным понятием, что даже физики могли оценить ее? Когда частицы перемещаются из одного состояния в другое, является ли их похожесть на переключатели, на логические схемы, на символы 0 и 1 чем-то большим, чем просто причуда нашего воображения? Или сформулируем это иначе: было ли свойство информации чем-то, что мы навязывали миру, как побочный продукт наших сообщений и машин, или это что-то, что мы узнали о мире, что-то, что постоянно присутствовало в нем всегда?
Тепло рассеивается; беспорядок со временем увеличивается; энтропия, как говорят нам физики, всегда движется по восходящей.Эта была лишь часть тех назревших вопросов, которые потянула за собой теория Шеннона. Сам Шеннон – несмотря на то, что старательно использовал здесь такой волнующий термин, или метафору, как «энтропия», – почти всегда оставлял эти вопросы без внимания. Его интересовала теория сообщений, их передача, а также коммуникация и коды. Этого было достаточно. Как он сказал однажды: «Ты знаешь, в чем заключаются мои интересы». Но в своем настойчивом желании исследовать эту тему он столкнулся со старой человеческой привычкой – нашим стремлением воссоздать заново Вселенную посредством собственных инструментов. Мы конструировали часы и обнаруживали, что мир работает, как часовой механизм; строили паровые двигатели и понимали, что мир – это машина, перерабатывающая тепло; создавали информационные сети – переключающиеся схемы, передающиеся данные и восемьсот тысяч километров подводного кабеля, соединяющего континенты, – и вновь узнавали в них отражение нашего мира.
17. В лучах славы
Он доживет до того времени, когда слово «информация» из названия науки превратится в название целой эпохи. «Магна карта» информационного века» – так назовет журнал Scientific American статью Шеннона 1948 года десятилетия спустя. «Без этой работы Клода Интернета в том виде, в каком он существует сейчас, просто не было бы», – одна из типичных лестных оценок данного научного труда. И дальше в том же духе: «Существенный толчок в развитии цивилизации». «Универсальный ключ к решению проблем в различных областях науки». «Я перечитывал ее каждый год с одинаковым интересом. И каждый раз мой IQ резко подскакивал». «Не знаю другой более значительной работы гения в истории технологической мысли». Но в 1948 году все эти восхваления были еще впереди. В то время значимость теории информации была понятна лишь узкому кругу инженеров связи и математиков и доступна только в «Техническом журнале “Лабораторий Белла”. О силе и убедительности идей Шеннона красноречиво говорит тот факт, что «Математическая теория связи» быстро привлекла внимание ученых за пределами стен «Лабораторий» и даже за пределами инженерного сообщества и менее чем за десятилетие превратилась в своего рода международный феномен, который сам Шеннон попытается иронично и безуспешно сдерживать. За считанные месяцы, последовавшие после публикации статьи Шеннона, слухи о прорыве распространились по всему инженерному сообществу. «Конечно, Шеннон работал не в вакууме в 1940-е годы, но результаты его работы были столь захватывающе оригинальны, что даже специалисты в области связи того времени не до конца понимали всю их значимость», – писал знаток информационной теории Р. Д. Макэлис. Но даже тогда было ясно, что эти результаты в корне изменят данное направление. Статья Шеннона быстро стала отправной точкой для многих других исследований, что в академических кругах равнозначно громким аплодисментам коллег. К ноябрю, спустя всего месяц после повторной публикации работы Шеннона, появились две похожие статьи, в которых исследовались преимущества импульсно-кодовой модуляции через призму более ранних идей Шеннона. Пять других значительных статей, опубликованных в скором времени, были напрямую привязаны к его работе.Как позднее метко выразился директор лаборатории Ли Дабридж, «радар выиграл войну, атомная бомба завершила ее». Это был мир военной физики.Таким образом, не ограничившись маленькой узкоспециализированной группой читателей «Технического журнала “Лабораторий Белла”, обсуждение появления теории информации охватило все математическое и инженерное сообщества. Но больше всего этим сообщением заинтересовался один конкретный читатель, который станет самым главным популяризатором творчества Шеннона: Уоррен Уивер, директор департамента естественных наук Фонда Рокфеллера, один из главных спонсоров научных и математических исследований, проводившихся в стране. Уивер уже появлялся в жизни Шеннона, когда при поддержке Торнтона Фрая и Вэнивара Буша предоставил Шеннону контракт на работу в области управления огнем в годы войны. На этот раз он сыграет еще более значительную роль в карьере Шеннона, как бизнес-ментор. Именно он стоял за проектом публикации книги «Математическая теория связи» – книги, которая сделает для теории информации гораздо больше, чем могла сделать просто статья в техническом журнале.
Вышедшая в 1949 году, спустя год после того, как теория Шеннона была оглашена, за первые четыре года книга «Математическая теория связи» была распродана в количестве 6000 экземпляров, а к 1990 году продажи составили свыше 51 000 экземпляров.Эти двое встретились осенью 1948 года и обсудили данную теорию. Уивер, возможно, в силу излишнего энтузиазма, видел мир, в котором теория информация могла помочь задействовать компьютеры, в ходе противостояния стран в годы «холодной войны», позволив мгновенно переводить советские документы на английский. Вдохновленный этими идеями, он, как мог, расхваливал работу Шеннона главе фонда Рокфеллера Честеру Барнарду. В начале 1949 года Уивер отправил Барнарду свой собственный любительский вариант «толкования» «Математической теории связи». «Уивер стал толкователем идей Шеннона практически случайно» – так гласит история. Действительно случайно: аналитическая записка Уивера могла стать еще одним забытым внутренним документом или непрочитанной статьей в журнале, если бы не вмешательство двух людей – Луи Риденура, декана выпускного факультета Иллинойского университета, и Уилбура Шрамма, возглавлявшего исследовательский институт при университете. Риденур многие годы посвятил изучению вопросов, лежащих на пересечении двух областей – физики и геополитики. В годы Второй мировой войны он работал в знаменитой радиационной лаборатории Массачусетского технологического института, перед которой изначально были поставлены масштабные задачи, в частности, довести до совершенства технологию радара, выпускавшегося в массовом производстве, чтобы отражать атаки немецких люфтваффе, бомбивших Англию. Лаборатория изначально существовала на деньги Альфреда Лумиса, миллионера-финансиста, юриста и физика-самоучки. В ней была создана большая часть радаров, применявшихся для обнаружения немецких подводных лодок, а ее ученые и инженеры составили ядро Манхэттенского проекта. Как позднее метко выразился директор лаборатории Ли Дабридж, «радар выиграл войну, атомная бомба завершила ее». Это был мир военной физики. Уивер встретился с Риденуром во время своей поездки в город Урбана-Шампейн, штат Иллинойс, куда он приехал, чтобы понять, должен ли фонд Рокфеллера финансировать университетскую программу исследований в области биологии. Он поделился с Риденуром копией своей версии работы Шеннона. Тот, в свою очередь, передал его текст Шрамму, еще одной из самых ярких звезд Иллинойского университета, чей институт исследований в области связи уже начал закладывать основы связи как формальной области знаний. По некоторым сведениям, первый ученый в области связи, Шрамм, основал знаменитую на весь мир писательскую мастерскую Университета Айовы, откуда вышли такие писатели, как Роберт Пенн Уоррен и Мэрилин Робинсон. Для Шрамма выбор такого научного направления, как коммуникация, явился, в некотором смысле, иронией судьбы. Неудачно проведенная в детстве операция по удалению миндалин привела к тому, что он стал сильно заикаться. И это так смущало его, что, будучи выбран выпускником, произносящим прощальную речь, он предпочел не говорить, а играть на флейте. Несмотря на проблемы с речью, он с отличием окончил колледж Мариетта, став членом общества «Фи-Бета-Каппа», защитил магистерскую диссертацию в Гарварде и получил докторскую степень в области американской литературы в Университете Айовы, одновременно проходя курс лечения от заикания в знаменитой клинике Айовы. В многочисленные академические обязанности Шрамма входил в том числе контроль работы издательства Иллинойского университета. Вдохновленный Риденуром, он увидел возможность представить широкой публике работу «Математическая теория связи». Его мотивы, так же как и мотивы Риденура, были чисто практическими. Институт Шрамма всячески пытался доказать серьезность зарождавшейся области «исследований связи». Риденур знал, что Иллинойский университет обсуждал покупку компьютера. Книга с именами Уоррена Уивера и Клода Шеннона, опубликованная университетским издательством, была бы идеальным дополнением к «новой серии лекций, проводимых создателями компьютеров», позволив и Риденуру, и Шрамму довести до конца свои проекты. Но какими бы ни были мотивы, книга стала реальностью. По сравнительно скромным стандартам университетского издательства, книга имела оглушительный успех. Вышедшая в 1949 году, спустя год после того, как теория Шеннона была оглашена, за первые четыре года книга «Математическая теория связи» была распродана в количестве 6000 экземпляров, а к 1990 году продажи составили свыше 51 000 экземпляров, что сделало книгу одним из самых продаваемых академических изданий, опубликованных университетом. Одна часть книги была написана Шенноном, а две другие – Уивером: в части I была отражена оригинальная работа Шеннона 1948 года; части II и III были попыткой Уивера объяснить теорию максимально доступным для широкой публики языком. Сама компоновка книги создавала ненамеренное впечатление об Уивере как о ключевом двигателе идей теории информации. Специалисты и эксперты будут в последующие десятилетия называть авторами теории информации Шеннона и Уивера. Но Уивер всегда был строг к любым неточностям. Он быстро исправлял ошибки и однажды сказал Риденуру: «Никто другой не осознает более четко, чем я, что мой вклад в это дело ничтожен по сравнению со вкладом Шеннона». На самом деле единственное, что беспокоило Уивера в связи с книгой, это то, что его роль в продвижении теории информации была сильно преувеличена. Так как написанная им часть книги была фактически предисловием к работе Шеннона, она должна была идти первой: «В книгу легко можно было включить короткое объяснение (возможно, лучше всего это сделал бы я?), где я бы извинился за то, что моя самая скромная часть книги идет первой, объяснил, почему это нужно, а также выразил огромную надежду на то, что все это будет способствовать изучению действительно серьезной и важной части книги». Пока Уивер переживал из-за того, что, возможно, приобрел имидж человека, гревшегося в лучах чужой славы, Шрамм и Риденур ликовали. Издание книги дало им все то, чего они желали. К 1952 году Иллинойский университет смог приобрести цифровой компьютер и одновременно получил крупный федеральный контракт на исследования в области «теории связи». Публикация книги «Математическая теория связи» является одним из определяющих моментов в истории теории информации, и не только по причине ее коммерческого успеха. Само ее название несло важное сообщение: всего за год оригинальная работа Шеннона в области математической теории связи стала определяющим фундаментальным трудом – «Математической теорией связи». Как отмечал специалист в области электрической инженерии и информационной теории Роберт Галлагер, переход из статуса рядовой статьи в техническом журнале до основополагающей научной книги было свидетельством превосходства данной научной работы. Это говорило о растущем признании теории Шеннона научным сообществом и о рождении новой науки.
18. Математические идеи, честные и не очень
Одно из проклятий научных открытий в том, что их удивительно часто встречают с непониманием или откровенным пренебрежением. Учитель геологии Чарлза Дарвина, знаменитый ученый Адам Седжвик, написал своему ученику после того, как была опубликована его работа «Происхождение видов», следующее: «Я прочитал Вашу книгу, скорее с болью, чем с удовольствием. Одни отрывки меня восхитили, над какими-то я смеялся так, что заболели бока, другие же совершенно опечалили меня, потому что я считаю их откровенно лживыми и пагубными». Сильвия Насар писала о получившей Нобелевскую премию работе Джона Нэша о теории игр, отмечая, что его идеи «казались изначально слишком простыми, чтобы быть действительно интересными, слишком узконаправленными, чтобы получить широкое признание, а впоследствии столь очевидными, что ее открытие было предопределено и неизбежно». Научные революции редко не встречают сопротивления. Работа Шеннона также была холодно принята в некоторых кругах. Первая и основная масса резкой критики была высказана математиком Джозефом Л. Дубом. Переехавший с семьей со Среднего Запада в Нью-Йорк в возрасте трех лет, он с самого начала выделялся как яркий ученик и поступил в Филдстонскул. Тогда это учебное заведение считалось в Нью-Йорке уникальным: ее основатель был убежден в том, что бедные люди заслуживали самого качественного образования, и репутация школы тоже была безупречной. В течение двадцатого века школа дала миру таких выпускников, как Марвин Минский, первопроходец в области искусственного интеллекта и будущий коллега Шеннона, и Роберт Оппенгеймер, отец атомной бомбы. С отличием окончив эту школу, Дуб поступил в Гарвардский университет, где он так страдал от медленного преподавания математики, что окончил второй и третий курс одновременно – и оба успешно. В отличие от большинства своих однокурсников, Дуб никогда не сомневался относительно своей будущей карьеры математика. Свои намерения он продемонстрировал в масштабной научной работе, его книга, посвященная теории вероятности, объемом в 800 страниц, вышедшая в 1953 году, была названа самой авторитетной работой по данной теме со времен девятнадцатого века. Его уверенность в своей правоте проявлялась и иным способом: Дуб был яростным критиком всего того, что считал сырыми идеями. Когда его спросили, почему его заинтересовала, в первую очередь, математика, Дуб ответил: «Я всегда хотел понимать, что я делаю и зачем я это делаю. И я часто вел себя как зануда, потому что возражал, когда то, что я слышал или читал, не воспринималось буквально. Мальчик, который заметил, что король не одет, и громко спорил об этом, всегда был для меня примером для подражания. Математика казалась созвучной моей психологии – ошибка, отражающая тот факт, что я каким-то образом не принял в расчет то, что математика создана людьми». Его резкие слова, по воспоминаниям друзей, часто сопровождались юмором. Однажды он и его коллега Роберт Кауфман вступили в жаркую дискуссию относительно того, следует ли студентов заставлять читать классическую литературу. «Роберт был всячески за, а Джо делал все, чтобы спровоцировать его. В какой-то момент Роберт с раздражением воскликнул: “Боже мой!” – а Джо спокойно ответил ему: “Пожалуйста, не преувеличивай, просто называй меня профессором”. Помимо всего прочего Дуб открыто демонстрировал верность «строгому и зачастую малопонятному» миру чистой математики. Если приложить к математическим проблемам конкретные вопросы, то будет понятно, что чистая математика существует исключительно ради самой себя. Ее ключевые вопросы не в том, «как мы шифруем телефонный разговор», а скорее в том, «действительно ли существует неопределенное множество простых чисел» или «имеет ли каждое верное математическое утверждение доказательство». Разделение двух математических школ имеет древние корни. Историк Карл Бойер обнаружил, что еще Платон считал вычисление нужным умением, как для торговца, так и для генерала, который «должен владеть искусством обращаться с цифрами, иначе он не будет знать, как расставить свои войска». Но философ должен изучать математику, потому что только занятия математикой являются реальным средством познания вечных, идеальных, абсолютных истин. Евклид, отец геометрии, использовал чуть более циничный подход. Существует легенда, что, когда один из его учеников спросил у философа, какая польза от изучения геометрии, Евклид попросил своего раба дать ему самую мелкую монету, чтобы «он извлек пользу из того, чему научился». Если говорить о более близком нам времени, то в двадцатом веке математик Годфри X. Харди напишет фундаментальную работу в области чистой математики. Его книга «Апология математика» – это «манифест самой математики». И ее название – это явная отсылка к речи Сократа, которую тот произнес в защиту против выдвинутых ему обвинений. Для Харди математическая простота и изящество были главной целью. «Красота – это первая проверка, – говорил он убежденно. – В мире нет места для непричесанных формул». И математик – это не просто тот, кто решает практические задачи: «[Он,]подобно художнику или поэту, создает образы. И если его образы более живучи, чем их, то это потому, что они созданы на основе идей». В сравнении с чистой математикой посредственная прикладная казалась Харди «скучной», «некрасивой», «тривиальной» и «элементарной». Именно представители чистой математики презрительно отнеслись к работе фон Неймана в области теории игр, назвав ее, помимо прочего, «новомодной причудой». Та же группа ученых будет выносить похожие суждения в адрес Джона Нэша, совсем как Дуб в отношении Клода Шеннона.Будучи ведущим американским специалистом в области теории вероятностей, Дуб имел все основания оценивать работу Шеннона. Его критические замечания появились на страницах журнала Mathematical Review в 1949 году. Коротко изложив содержание статьи Шеннона, он позволил себе довольно нелестную оценку, которая будет еще долго раздражать сторонников Клода: «Все объяснения довольно расплывчатые, их сложно назвать математическими, и не всегда понятно, являются ли математические идеи автора честными». Это была откровенная пощечина, повод для дуэли. Почти сорок лет спустя бравший у Шеннона интервью журналист Энтони Ливерсидж затронул тему критичного отношения Дуба к его работе. ЛИВЕРСИДЖ; Когда была опубликована «Математическая теория связи», появилась возмутительная рецензия, написанная одним математиком, который обвинял вас в математической нечестности, потому что результаты вашей работы не были доказаны, говорил он, с математической строгостью. Сочли ли вы это простой глупостью или подумали: «Ну, возможно, мне стоит принять к сведению его замечания?» ШЕННОН: Мне не понравилась его рецензия. Он невнимательно читал мою статью. Вы можете писать математическую работу строчку за строчкой, со всеми умозаключениями, а можете исходить из того предположения, что ваш читатель понимает, о чем вы говорите. Я был уверен в том, что я прав – не только интуитивно, но на основании четких выводов. Я точно знал, что я делаю, и все получилось совершенно правильно». Шеннон редко чувствовал необходимость защищать себя. Критика Дуба явно задела его. Но при всем при этом Шеннон полностью осознавал, что перескочил какую-то промежуточную часть математики в целях практичности. Немаловажно то, что где-то в середине своей работы он отмечал: «Эпизодические вольности с имеющими ограничительный характер процессами в текущем анализе во всех случаях оправдываются практическим интересом». И это было обоснованно: главными читателями статьи были инженеры-специалисты в области связи, и практические цели значили не меньше, если не больше, чем чисто математические. А критика Дубом точности математических выкладок Шеннона многими его сторонниками воспринималась примерно так, как если бы кто-то внимательно исследовал картину «Мона Лиза» и нашел бы какие-то огрехи в раме. По иронии судьбы, за заявлением Дуба о том, что данная работа не соответствует всем математическим канонам, последовала жалоба противоположного характера со стороны инженеров. Как сказал математик Соломон Голомб: «Когда была опубликована статья Шеннона, некоторые инженеры-связисты сочли ее слишком математической (целых двадцать три теоремы!) и слишком теоретической». Теперь, по прошествии времени, можно сделать вывод, что проблема, возможно, заключалась не в том, что Дуб не осознавал практической направленности математики Шеннона, а в том, что он не понимал, что в данном случае математика была лишь средством. «На самом деле, – говорил Голомб, – у Шеннона было почти безошибочное чутье относительно того, что действительно является верным, но он схематично обозначил доказательства, которые другие математики… представили бы в виде строгих выкладок». «То, что для прославленного и опытного Дуба казалось серьезными недоработками, для Шеннона было незначительными и очевидными шагами. Дуб мог и не осознавать этого по причине того, что не так уж часто ему доводилось встречать мыслителей уровня Шеннона», – утверждал один из коллег Шеннона, работавших с ним в более поздние годы.
В некотором смысле оставленное им многоточие для других было просчитанной уловкой со стороны Шеннона.Специалист в области теории информации Серджио Верду предложил похожую оценку работы Шеннона: «Оказалось, что все, что он утверждал, было по большей части верно. В статье не хватало того, что мы сейчас называем “обратными теоремами”… но на самом деле это лишь подтверждает его гениальность, потому что он действительно знал, что делал». В некотором смысле оставленное им многоточие для других было просчитанной уловкой со стороны Шеннона: осуществи он эту кропотливую работу сам, его статья была бы значительно длиннее и появилась бы гораздо позже, что исказило бы ее восприятие. К концу 1950-х годов другие инженеры и математики, как в Соединенных Штатах, так и в Советском Союзе, последовали указаниям Шеннона и перевели его изобретательные и строгие объяснения одновременно на язык чистой математики и инженерный язык. Критика, подобная той, что высказал Дуб, конечно, была обидной, но в то же время сам факт того, что математик такого уровня прочитал статью Шеннона, вызывал уважение. Дуб и Шеннон урегулировали все разногласия в 1963 году. В тот год Шеннон был награжден престижной математической премией, вручаемой Американским математическим обществом в память Джозайи Уилларда Гиббса, – Гиббсовская лекция. Он единственный, кто получил эту премию за достижения в данной области. Человеком, который представлял его в тот вечер – как президент общества, он, конечно же, приложил к этому руку, – был не кто иной, как Джозеф Л. Дуб.
19. Винер
Он был, по словам одного историка, «американским Джоном фон Нейманом» – и это преувеличение вполне уместно. Родившийся в Колумбии, штат Миссури, Норберт Винер с самого детства находился под сильной опекой отца, увлеченного только одной идеей – сделать из своего сына гения. Лео Винер обладал обширной личной библиотекой и исключительной силой воли, самостоятельно занимаясь домашним образованием Норберта, пока тому не исполнилось девять лет. «У меня была полная свобода рыться в отцовской библиотеке, представлявшей собой очень разноплановую и объемную коллекцию, – писал Винер. – В тот или иной период научные интересы моего отца охватывали значительную часть всех возможных предметов изучения». Но в своих методах обучения Лео был беспощаден и даже жесток, а его сын был лишен нормального детства. В своих мемуарах «Бывший вундеркинд: мое детство и юность» Винер так вспоминал уроки отца: «Обычно он начинал обсуждение в спокойной, непринужденной манере. Это продолжалось до тех пор, пока я не сделаю первой математическойошибки. И тогда ласковый и любящий отец резко превращался в человека, вымещающего свою злобу на других… Отец бушевал, я плакал, а мама делала все, чтобы защитить меня, но безуспешно». В какой-то момент врач запретил юному Норберту читать: его зрение не выдерживало дополнительной нагрузки. Лео решил, что то, что сын не может прочитать, он сможет запомнить. Даже рекомендации врача не могли остановить непреклонного отца Винера: Лео бесконечно читал своему сыну лекции, а от маленького Норберта ждали, что он ухватит каждое слово и каждую мысль. Надо признать, что в чисто профессиональном смысле интенсивный режим занятий приносит свои плоды. К одиннадцати годам Винер окончил среднюю школу. Три года спустя, в возрасте четырнадцати лет, он окончил Тафтс-колледж, получив степень бакалавра математических наук. Далее он продолжил учебу в Гарварде, изучая там зоологию, в Корнельском университете – философию, и, наконец, вернулся в Гарвард, где к семнадцати годам получил степень доктора философии по математической логике. Его вхождение в элитные ряды математиков – и в ту жизнь, которой, вероятно, желал ему его отец – началось. Но последствия ран, нанесенных ему в детстве, были очевидны. Он был рано повзрослевшим ребенком в окружении людей, старше его на много лет. И, как это часто бывает, его жестоко и беспощадно высмеивали старшие дети. Результатом этого стала жуткая стеснительность, которая преследовала его всю жизнь. И не облегчал жизнь тот факт, что сама внешность Винера легко вызывала насмешки: с бородой, в очках, близорукий, с кожей в красных прожилках и утиной походкой, Винер представлял собой типичный стереотип ученого с мозгами набекрень. «С какой стороны ни взгляни, было что-то специфическое в личности Норберта Винера», – размышлял Пол Сэмюэлсон. Ханс Фройденталь вспоминал: «Своей внешностью и поведением Норберт Винер представлял гротескную фигуру: приземистый, пухлый и близорукий, совмещающий эти и многие другие качества в крайней степени. Его речь была забавной смесью высокопарности и игривости. Он был плохим слушателем… Он говорил на многих языках, но во всех случаях его было сложно понять. Он был плохим лектором». Курьезные случаи, происходившие с ним, широко представлены на страницах мемуаров других математиков, и почти все они были впервые рассказаны за его спиной. В одной такой истории Винер пришел, как он считал, к себе домой, нащупал в кармане ключи и обнаружил, что они не подходят к замку. Тогда он обратился к детям, игравшим во дворе, с вопросом: «Не покажете ли мне, где живет семья Винеров?» А одна маленькая девочка ответила: «Идем за мной, папочка. Мамочка послала меня сюда, чтобы показать тебе дорогу к нашему новому дому».Его вклад в математику был обширным и многогранным: квантовая механика, броуновское движение, кибернетика, стохастические процессы, гармонический анализ – вряд ли можно было найти тот уголок математической вселенной, который бы не затронул его интеллект. К 1948 году послужной список Винера был украшен блестящими наградами и учеными степенями. Список людей, с которыми он сотрудничал и контактировал, был не менее впечатляющим: Вэнивар Буш, Г. X. Харди, Бертран Расселл, Пол Леви, Курт Гёдель… и Клод Шеннон. В Массачусетском технологическом институте Шеннон проходил курс фурье-анализа у Винера. Полвека спустя, вспоминая о времени учебы в магистратуре, Шеннон назовет Винера «моим идолом студенческих лет». Шеннон, похоже, не произвел сильного впечатления на Винера, который писал в своих мемуарах 1956 года следующее: «Мы с Шенноном почти не контактировали во время его пребывания здесь [в МТИ] в качестве студента». Однако он добавил, что «с тех пор мы с ним занимались параллельными, если не сказать разными направлениями, и наши научные связи существенно расширились и укрепились». Винер был на двадцать два года старше Шеннона. Поэтому его слова довольно красноречиво говорят о степени продвинутости мышления Шеннона и важности его работы, тем более что уже в 1945 году Винер переживал относительно того, чьи идеи в области теории информации будут поддержаны в конечном счете. В полной мере их соперничество началось в 1946 году.
Винер переживал относительно того, чьи идеи в области теории информации будут поддержаны в конечном счете.Как гласит история, рукопись, в которой были отражены основные идеи Винера применительно к теории информации, легко могла быть потеряна для науки. Винер передал свою рукопись Уолтеру Питтсу, студенту магистратуры, который сдал ее в багаж, направляясь самолетом из Нью-Йорка в Бостон. По прибытии Питтс забыл забрать багаж. Осознав свою ошибку, он попросил двух своих приятелей забрать его сумку. А те либо проигнорировали его просьбу, либо забыли это сделать. Лишь пять месяцев спустя рукопись все-таки была найдена. Ее определили, как «невостребованное имущество» и отложили отдельно в камеру хранения. Винер был, вполне понятно, вне себя от гнева. «При сложившихся обстоятельствах прошу не связывать мое имя с вашей будущей карьерой», – написал он Питтсу. Он жаловался одному из администраторов на «полнейшую безответственность мальчиков», а в разговоре с другим своим коллегой по факультету сетовал на то, что потерянный пакет означал, что он «лишен приоритета в очень важной работе». «Один из моих конкурентов, Шеннон из телефонной компании Белла, опубликует свою статью раньше меня», – кипел он от негодования. И основания для чрезмерной подозрительности у Винера были: Шеннон на тот момент уже успел представить свою пока еще не опубликованную работу на конференциях в Гарварде и Колумбии в 1947 году. В апреле 1947 года Винер и Шеннон находились примерно на одной стадии исследования, и оба имели возможность представить свои ранние наработки ученому сообществу. Винер в порыве самолюбия напишет своему коллеге: «Люди из “Лабораторий Белла” полностью принимают мой труд в том, что касается статистики и связи в инженерии».
Научный вклад Винера нашел свое отражение в его масштабной книге «Кибернетика», которая вышла в свет в том же году, что и статья Шеннона. Если работа Шеннона 1948 года была, по крайней мере, изначально, относительно незнакома широкой публике, то понятие кибернетики авторства Винера – слово, которое он позаимствовал из греческого, означало «искусство управления» и относилось «ко всей сфере теории управления и связи, применительно и к машинам, и к живым существам», – с самого начала вызвало живой интерес. Став бестселлером, книга смогла пробиться к широкому кругу читателей. Оценки были самыми восторженными – та степень признания, которой писатели ждут всю свою жизнь. В газете «Нью-Йорк Таймс» физик Джон Р. Платт назвал «Кибернетику» одной из тех книг, «которая по своей значимости могла быть сравнима с работами, скажем, Галилея или Мальтуса, Руссо или Миллса». Один из самых ревностных сторонников Винера, Грегори Бейтсон, назвал кибернетику «самым большим откушенным куском плода с Древа познания за последние 2000 лет». Подобные слова, вероятно, были особенно приятны Винеру, учитывая его попытки позиционировать кибернетику как эпохальную «теорию всего». И все же было несколько моментов, которые разделяли Винера и Шеннона больше, чем их отношение к публичности. «Винер делал многое, чтобы продвинуть свои идеи, связанные с кибернетикой, которые на самом деле довольно расплывчаты, и получил в итоге всемирное признание», – говорил Томас Кайлат, профессор Стэнфордского университета. «Все это было совершенно не в характере Шеннона. Винер обожал публичность, а Шеннон избегал ее». Успех «Кибернетики» у широкой публики породил дискуссию в узкой группе математиков, которые хотели знать, кто из этих двоих – Винер или Шеннон – мог по праву требовать признания своей теории информации. Кроме того, возник спор относительно того, мог ли Винер – в чьей книге глава, посвященная информации как статистическому параметру, была представлена в виде маленькой части тома – вообще понимать, что означает теория информации.
«Не думаю, что Винер имел много общего с теорией информации. В то время он не оказал большого влияния на мои идеи, хотя однажды я занимался у него».В то же время в статье Шеннона 1948 года автор отдавал должное Винеру за то, что тот повлиял на его понимание статистической природы связи. Но по мере того, как этой области знаний стало уделяться все больше внимания, Шеннон начал осознавать, что они с Винером расходятся в некоторых важных аспектах. Во-первых, Шеннон настаивал на том, что смысловое наполнение не имеет ничего общего с передачей информации, момент, который он считал ключевым. С другой стороны, по мнению Винера, информация включала значение. Но, возможно, самое существенное различие заключалось в том, что анализ кодирования и его способность защитить передачу информации от шума отсутствуют в работе Винера. Шеннон, будучи инженером по образованию и призванию, решал проблему с шумом соответственно. И его основная теорема о кодировании для канала с помехами – это отправная точка для основной массы кодирования, которая делает возможными современные информационные технологии. Это был ключевой элемент, отсутствующий в работе Винера, и вероятная причина, почему стремление Винера добиться признания своей теории информации раздражало многих сторонников Шеннона. Как сказал Серджио Верду, теоретик более поздней эпохи, «на самом деле нет доказательств того, что Винер хотя бы ухватывал суть этого понятия, лежащего в основе теории информации, то практическое значение, которое придала ему теорема о кодировании».
В 1950 и 1960-е годы и Шеннон и Винер стали более осторожными. Ни один не выступал с открытым обсуждением взглядов другого. И хотя они часто посещали одни и те же конференции и публиковались на страницах одних и тех же журналов, никакого заметного обмена колкостями между ними не наблюдалось. Но в 1980-е годы Шеннон все-таки пришел к выводу, что Винер не до конца осмыслил его работу. «Когда мы беседовали с Норбертом, в 1950-е годы и позднее, у меня никогда не было ощущения, что он понимает то, о чем я говорю». В другом интервью Шеннон выразился еще более резко: «Не думаю, что Винер имел много общего с теорией информации. В то время он не оказал большого влияния на мои идеи, хотя однажды я занимался у него». Учитывая свойственное Шеннону нежелание участвовать в подобного рода конфликтах, такие заявления говорят о многом. Но по большому счету он оставлял право бороться за доверие ученого сообщества к своей работе другим. В сравнении с великими математическими распрями – вспомним спор Готфрида Лейбница и Исаака Ньютона о приоритете открытия дифференциального и интегрального исчисления или спор между Анри Пуанкаре и Бертраном Расселлом о природе математического рассуждения – соперничество между Шенноном и Винером, увы, было менее ярким, чем этого, возможно, хотелось их биографам. И все же то был важный момент в биографии Шеннона. В целом Шеннон создавал впечатление беспечного ученого – достаточно уверенного в своем интеллекте и репутации, чтобы не реагировать на мнения других. Мнение Винера и его вклад в науку имели для него значение, но не потому, что Шеннон беспокоился о том, кто заслужит или не заслужит доверия в ученом мире. Споры по данной научной тематике почти не волновали его в том, что касалось возможностей застолбить свое авторство теории информации. Его интересовала лишь та часть обсуждений, которая затрагивала сам предмет теории информации. Доверие, в конечном счете, значило меньше, чем точность.
20. Поворотный год
В 1948 году Шеннону исполнилось тридцать два года. В математических кругах уже давно сложилось устойчивое мнение, что к тридцати годам молодой математик должен осуществить свою главную работу: страх перед возрастом свойствен не только профессиональным спортсменам, но и профессиональным математикам. «Для большинства людей тридцать лет – это просто граница между молодостью и зрелостью, – пишет биограф Джона Нэша Сильвия Насар, – но математики считают свою профессию уделом молодых, поэтому тридцать лет для них гораздо более удручающая цифра». По этим стандартам Шеннон запаздывал на два года, но все же он успел. Примерно десять лет работы вылились в семьдесят семь страниц научного труда по теории информации, и работа эта была результативной по всем статьям. Шеннон снискал свою долю славы и по праву заслужил звание первоклассного теоретика. Его работа стала трамплином для исследований других ученых – знак того, что он заложил важные основы данной дисциплины. Он сделал себе имя, находясь во взыскательном и закрытом мире «Лабораторий Белла». Тот 1948 год стал поворотным в профессиональной карьере Шеннона. Но не только математика оказала влияние на его жизнь в ту осень. Джон Пирс, помимо того, что был партнером Шеннона по интеллектуальным спорам, сыграл еще одну важную роль в его жизни – в том, что касается сердечных интересов. Пирс стал тем, кто не напрямую свел Шеннона с его будущей женой, Бетти Мур, молодым аналитиком из «Лабораторий Белла». Пирс был непосредственным руководителем Мур, а Шеннон случайно заговорил с ней, направляясь к Пирсу. Каким бы немногословным он ни казался, Шеннон все же сумел набраться смелости и пригласить Бетти на ужин. За этим ужином последовал второй, а потом и третий, пока в итоге они не стали ужинать вместе каждый вечер. Он очаровал ее, и их обоих, похоже, роднило чувство ироничной отчужденности – ощущение, что мир словно сговорился, чтобы веселить их. По мере того как их свидания становились длиннее и чаще, они начали проводить время то у него, в Вест-Виллидж, то у нее, на Восточной 18-й улице. Там эти двое занимались своим любимым делом: математикой и музыкой. «Я играла на фортепиано, а он – на кларнете, – вспоминала она, – мы возвращались домой после работы, находили ноты для двух инструментов и с удовольствием играли дуэтом». Бетти родилась 14 апреля 1922 года и была единственным ребенком в семье. В ее раннем детстве семья жила на Стейтен-Айленд, но впоследствии они переехали на Манхэттен. Мать и тетя Бетти Мур эмигрировали в Америку из Венгрии, поэтому в детские годы она слышала в основном венгерскую речь или английскую с заметным акцентом. Подобно большинству иммигрантов, ее семья отчаянно стремилась найти точку опоры в новой для себя стране, и они, как и все в то время, сильно пострадали в годы Великой депрессии. Отец Бетти пережил период безработицы и в конечном счете вошел в административно-технический штат газеты «Нью-Йорк Таймс». Ее мать нашла более стабильную работу в меховом бизнесе, хоть ей и пришлось бросить учебу, чтобы прокормить семью. Денег всегда не хватало. Когда разразилась Депрессия, они чуть не потеряли дом. Но программа «нового курса» для домовладельцев спасла семью от потери права выкупа. Этот момент Бетти не забудет никогда. Как вспоминала ее дочь: «Моя мама всю жизнь была благодарна Франклину Делано Рузвельту, его “новому курсу” и предпринятым им мерам защиты населения. Они смогли сохранить свой дом и выжить». Бетти посещала католические школы, но не из-за какой-то особой религиозности ее родителей. Ее мать была католичкой, отец принадлежал к англиканской протестантской церкви, но им пришлось выбирать католические школы для Бетти, потому что ближайшая к ним государственная средняя школа неожиданно закрылась. Бетти проявила себя как способная ученица, и к моменту окончания школы несколько колледжей предложили ей поступление и стипендию. Для себя она выбрала Корнуэльский университет, но стипендии не хватало на всю стоимость обучения, а родители не могли ей помочь. Поэтому, когда она получила письмо с предложением полной оплаты обучения в женском колледже в Нью-Джерси – вместе с предложением о работе, – Бетти расплакалась от счастья. Теперь она могла посещать занятия в колледже, расположенном недалеко от дома, и даже посылать часть денег родителям. Ее дочь Пегги вспоминала: «Это событие изменило ее жизнь». Бетти Мур изучала математику в колледже Нью-Джерси (теперь это Дуглас-колледж Ратгерского университета). Подобно большинству колледжей в то время, он все еще восстанавливался после Депрессии. Штат сотрудников и финансирование были урезаны, и ощущение финансовой нестабильности пронизывало жизнь кампуса. Но ко второму году обучения Мур экономические проблемы отошли на второй план. Америка вступила в войну, и кампус мобилизовал свои силы в поддержку фронта: «Студенты и члены факультетов создавали организации, оказывающие помощь, готовили перевязочный материал и работали на предприятиях, поставляющих военную продукцию». Бетти была деловитой, сообразительной и обладала насмешливым складом ума. Она была страстным книгочеем, и те, кто знал ее, выделяли ее как необычайно яркого человека. Выбор ею профилирующего предмета хорошо подходил той эпохе, и она «к счастью, получила хорошие оценки». Как она вспоминала, «в тот момент были очень востребованы специалисты с математическим образованием, особенно женщины, потому что все мужчины служили в армии». «Лаборатории Белла» были одной из тех компаний, которые искали любых талантливых выпускников в этой области. Накануне получения диплома Бетти приняла «лучшее предложение работы, которое… когда-либо получала» от «Лабораторий Белла».Свадьба была скромной. Как рассказывала Бетти, единственным гостем «от семьи Клода была его сестра Кэтрин».Она начала работать в математическом отделе, сконцентрировавшись на исследовании микроволн, а затем перешла в быстро растущую группу, занимавшуюся радарами. «Работать там было очень увлекательно, – вспоминала она. – Учитывая все происходящее вокруг нас, мы были очень счастливыми людьми». Она вернулась домой к родителям и продолжила помогать им по хозяйству. В той или иной степени Бетти будет помогать своим родителям до конца их жизни.
О Клоде того времени она скажет, что «он был очень тихим и обладал удивительным чувством юмора». Их роман начался как раз в тот период, когда Шеннон уже приобретал известность благодаря своей теории информации. Но, похоже, его слава совсем не мешала их зарождавшимся чувствам. Частично потому, что Шеннон сильно увлекся Бетти. Прошло семь лет с момента распада его брака с Нормой, и в этот раз отношения развивались так же стремительно. Бетти и Клод встретились осенью 1948 года, а в начале 1949 года Клод сделал ей предложение – в своей «не слишком торжественной манере», как вспоминала Бетти. Она дала согласие, и 22 марта они поженились. Свадьба была скромной. Как рассказывала Бетти, единственным гостем «от семьи Клода была его сестра Кэтрин». Новобрачные вскоре уехали из города и перебрались в Морристаун, штат Нью-Джерси, поближе к новому филиалу «Лабораторий Белла» в Мюррей-хилл. Почти все, кто знал эту пару, подтверждали, насколько Бетти и Клод Шеннон подходили друг другу – во всех отношениях. Он не только был счастлив рядом с ней. Бетти и Клод также стали партнерами по работе. Альберт Эйнштейн когда-то сказал ставшую знаменитой фразу о своей жене, Милеве Марич: «Я не могу без своей жены. Она решает за меня все математические задачи». Работа Клода была по большей части личным проектом, но Бетти однозначно помогла ему успешно завершить ее. Она стала одним из его ближайших советчиков при решении математических проблем. Она искала справочный материал, записывала его мысли и, что немаловажно, редактировала написанное. Таланты Шеннона были такими же разнообразными, как и у Эйнштейна: способность четко оценить масштаб задачи и направления деятельности, не сильно концентрируясь на пошаговых деталях. Как он сам определил это: «Думаю, что я прежде ухватываю идею, а не ее символическое прочтение. Я пытаюсь понять, что делать дальше. Уравнения приходят позже». Так же как и Эйнштейн, он нуждался в тестовом слушателе – роль, которую Бетти исполняла идеально. Его коллега Дэвид Слипиан вспоминал: «Нельзя сказать, что он знал математику очень глубоко. Но он мог изобрести все, что ему было нужно». Роберт Галлагер, еще один его коллега, был еще более откровенен: «У него были какие-то сверхъестественные способности. Он мог видеть корень проблемы. Он мог сказать: “Вот это должно быть верным…” И обычно он оказывался прав… Вы не сможете разработать целую отрасль знаний из ничего, если не обладаете феноменальной прозорливостью». Проблема подобного типа мышления заключается в том, что решения задач возникают прежде, чем появляются детали и промежуточные шаги. Шеннон, подобно многим прозорливым умам, ненавидел показывать готовые варианты работы. Поэтому Бетти, которая сама была профессиональным математиком, стала его секретарем. Она также была первым слушателем многих его идей – единственное заметное исключение в политике закрытости человека, который, как она сказала, «не лез из кожи вон ради сотрудничества с другими». Записывая за ним, она также предлагала свои поправки и редактуру и добавляла исторические справки. В более поздние годы, когда память будет подводить Клода и он уже не сможет вспомнить ту или иную ссылку на математический труд, она будет приходить ему на помощь. Как сказала Бетти, «часть его ранних статей и даже более поздние работы написаны моей рукой, так сказать, а не его, что поначалу смущало людей». Да, возможно, смущало, но это также было проверкой на прочность одного из самых уникальных союзов нашего времени, заключенного между двумя математиками – брака, который продлится до конца дней Шеннона и благодаря которому появится его новаторская научная работа.
21. Теория информации
Помимо статей с заголовками «Налоговая реформа», «Как добиться роста заработной платы» и «Олин, промышленная империя», декабрьский выпуск журнала Fortune 1953 года впервые предлагал широкой публике ознакомиться с «теорией информации». Спустя пять лет после публикации статьи Шеннона в «Техническом журнале “Лабораторий Белла" она стала темой объемного материала в журнале, чья аудитория состояла не только из инженеров и математиков. Фрэнсис Белло, редактор отдела технологий и автор данной статьи, станет впоследствии одним из пропагандистов идей Шеннона в популярной прессе. Статья Белло начиналась с мощного аккорда: «Великие научные теории, так же как великие симфонии и романы, находятся в ряду достойнейших и редких творений человечества. Что выделяет научную теорию и в определенном смысле ставит ее над другими творениями\, так это то, что она способна глубоко и стремительно изменить взгляд человека на мир. В этом столетии взгляды человека, как и сама его жизнь, поменялись самым коренным образом благодаря таким научным достижениям, как открытие теории относительности и квантовой теории. В течение последних пяти лет появилась новая теория, которую по некоторым признакам можно назвать не менее великой. Новая теория, пока еще практически неизвестная широкой публике, имеет два названия: теория связи или теория информации. Сможет ли она в конечном счете пройти проверку временем, встав в один ряд с величайшими достижениями науки, это вопрос, который в настоящее время решается в крупнейших научных лабораториях нашей страны и за рубежом». Несмотря на то что Шеннон хвалил черновой вариант статьи, назвав ее «первоклассной журналистской работой в научной сфере», он все же не согласился с первыми двумя абзацами. «Как бы мне этого ни хотелось, но теория связи не стоит в одном ряду с теорией относительности и квантовой механикой. Первые два параграфа должны быть переписаны с гораздо более скромной и реалистичной оценкой значимости этой теории». Шеннон также заставил Белло отдать должное Норберту Винеру за его недавнюю работу в области кибернетики, а еще не забыть упомянуть исследователей из «Лабораторий Белла».Шеннон также заставил Белло отдать должное Норберту Винеру за его недавнюю работу в области кибернетики, а еще не забыть упомянуть исследователей из «Лабораторий Белла».Белло высказал слова признательности Винеру и остальным, но не сделал ничего, чтобы преуменьшить потенциал теории информации. Он продолжал: «Возможно, не будет преувеличением сказать, что прогресс, которого человечество добилось в деле достижения мира и обеспечения мер защиты в военное время, зависит больше от успешного применения теории информации, чем от физических доказательств – бомбы и электростанции – того, как работает знаменитое уравнение Эйнштейна». Сравнения с Эйнштейном будут преследовать Шеннона постоянно. «Шеннон для связи – это то же, что Эйнштейн для физики», – фраза, ставшая расхожей вскоре после появления первых статей Белло. Когда в Гэйлорде открыли памятник Клоду Шеннону, местная газета назвала его «сыном этой земли… которого здесь всегда будут почитать, как Эйнштейна математической теории связи». Уильям Паундстоун дал, вероятно, самую запоминающуюся оценку его деятельности: «Очень многие ученые из “Лабораторий Белла” и из МТИ сравнивали мышление Шеннона с мышлением Эйнштейна. Другие же находили это сравнение несправедливым – несправедливым для Шеннона». Несмотря на протесты Шеннона, его современники не могли не заметить очевидных сходств: революционная теория, некая игривость ума, любопытное сочетание творческого подхода и способности держаться в стороне от пропитанного престижем и карьерными амбициями мира элитного академического общества. Но Шеннон вынужден был привыкать к похвале. В июне 1954 года, вскоре после того, как вышла его статья, Белло включил Шеннона в список двадцати самых значимых ученых Америки. Начиная свои интервью с вопросов: «Каким должен быть человек, чтобы стать выдающимся ученым?» и «Существует ли некая пропасть, отделяющая его от остального общества?», Белло опросил свыше 100 ученых и отправил опросники десяткам других. Наряду с Шенноном в получившийся в итоге список вошел также двадцатишестилетний молекулярный биолог, работавший в Кавендишской лаборатории в Кембридже, Англия. Восемь лет спустя, в возрасте тридцати четырех лет, Джеймс Уотсон получит Нобелевскую премию, совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом, за открытие двойной спирали молекулы ДНК. Был в списке и тридцатишестилетний физик-вундеркинд. Ричард Фейнман получил Нобелевскую премию в 1965 году за исследование в области квантовой электродинамики. Фактически четверть из двадцати ученых, которых выделил Белло, впоследствии будут отмечены этой высокой наградой. Благодаря похожим превосходным отзывам в журналах Time, Life и многочисленным крупным публикациям в других изданиях Шеннон стал одним из самых известных ученых в мире, и это в послевоенную эпоху, когда само звание «ученый» достигло пика культурного престижа. Прессу, вполне понятно, не меньше, чем новая теория информации, интересовала личность, стоявшая за ней. Шеннон, похоже, воспринимал широкое признание своей работы с некоторой долей удивленной отстраненности, как это продемонстрировано в интервью изданию Omni. OMNI: Не было ли у вас ощущения, что в будущем вас ждет слава? ШЕННОН: Не думаю. Я всегда считал себя довольно способным в том, что касалось науки. Но об ученых, если брать в целом, не пишут так, как о политиках, писателях и других людях. Я считаю, что моя работа, посвященная переключательным схемам, была вполне достойная, и я получил за нее премию. Думаю, что статья по теории информации тоже очень хорошая, и она была по достоинству оценена – в соседней комнате вся стена увешана призами и наградами. OMNI: Для вас слава – это бремя? ШЕННОН: Не слишком тяжелое. Люди вроде вас приходят и отвлекают меня, но это нельзя назвать таким уж тяжким бременем! К середине 1950-х годов работа Шеннона уже вовсю превозносилась в популярной прессе и применялась в самых разнообразных областях – даже тогда, когда отсутствовало четкое понимание, что такое теория информации в принципе. В случае с такой значительной, наводящей на размышления теоретической работой, как теория информации – а рядовому читателю могло показаться, что она дает объяснения всему, от средств массовой информации до геологии, – заимствования, разумные и не очень, были неизбежны. Например: «Птицы, очевидно, испытывают трудности в процессе связи при наличии шума, – было написано в одной из газет тех лет. – Изучение птичьего пения на основе теории информации могло бы… предложить новые виды полевого опыта и анализа». Апелляции к «теории информации», как к любому модному термину, были зачастую кратчайшим путем к получению субсидий на научно-исследовательские программы. В то же время ясность и простота теории Шеннона делали ее заманчивым инструментом во многих научных дисциплинах. Но даже если возможное злоупотребление его теорией и беспокоило ученого, можно предположить, что обычно не склонный к конфликтам Шеннон только рассмеялся бы на это, пожал плечами и занялся другими проблемами. По большей части так он и поступал за одним важным исключением. В 1955 году Луи А. де Роза, возглавлявший профессиональную исследовательскую группу института радиоинженеров, которая занималась проблемами теории информации, опубликовал редакционную статью в информационном бюллетене группы. В статье под заголовком «На чьих полях мы пасемся?» автор продемонстрировал искреннюю озабоченность применением теории информации в других отраслях знаний: «Расширение границ применения информационной теории помимо областей радио и телеграфной связи идет столь стремительно, что зачастую сфера интересов нашей профессиональной группы вызывает сомнения… Следует ли нам предпринять попытку распространить наши интересы на такие области знаний, как управление, биология, психология и лингвистическая теория, или нужно строго концентрироваться на прежнем направлении радио и телеграфной связи?» Сам Шеннон решил обратиться к страницам журнала института радиоинженеров, чтобы коротко высказаться по этому вопросу в статье «Повозка с оркестром». Свою речь он начал так: «Теория информации за последние несколько лет стала напоминать своего рода научную повозку с оркестром. Являясь изначально техническим инструментом инженера связи, она получила избыточное количество рекламы как в научной, так и в популярной прессе». Шеннон допускал, что эта популярность была, по крайней мере частично, вызвана тем, что теория информации лежала на пересечении самых популярных отраслей знаний – «вычислительные машины, кибернетика и автоматизация», – да к тому же была совершенно новым феноменом. Но дальше он продолжал: «Возможно, значимость ее была несколько преувеличена, выйдя за рамки реальных возможностей применения. Наших коллег-ученых, работающих в разных областях, привлекли фанфары и новые открывшиеся перспективы научного анализа. И они применяют эти идеи для решения своих собственных проблем… Если говорить коротко, то теория информации в настоящее время испытывает на себе влияние дурманящей популярности». Шеннон признавал, что все это сиюминутное внимание было «приятным и волнительным», и все же подчеркивал: «В то же время здесь таится элемент опасности. Несмотря на наше чувство, что теория информации – это поистине ценный инструмент в достижении фундаментального понимания природы проблем связи и ее значимость будет расти, она определенно не станет панацеей для инженера связи или для кого-то еще. Редко бывает, когда новая отрасль знаний открывает сразу множество тайн природы». Редко, когда новая отрасль знаний открывает сразу множество тайн природы. Это примечательное утверждение было сделано человеком, который находился лишь в начале своего карьерного пути, у которого были все мотивы желать максимального распространения своей теории. Но Шеннон придерживал вожжи. Он продолжал: «Наше несколько искусственное экономическое благополучие легко разрушилось бы в один день, если бы стало понятно, что применение таких волнующих слов, как информация, энтропия, избыточность, не решает всех наших проблем».
«Его немного раздражала вся эта шумиха. Люди не понимали того, что он пытался сделать».Вместо всей этой горячечной суматохи Шеннон советовал быть сдержаннее. «Работники других отраслей должны осознавать, что базовые результаты их деятельности лежат в строго определенном направлении, которое совсем необязательно соотносится с такими областями знаний, как психология, экономика и другие социальные науки. В действительности основой теории информации является главным образом определенный раздел математики, строго дедуктивная система… Я лично верю в то, что многие понятия теории информации пригодятся в этих областях, на самом деле, некоторые результаты уже сейчас внушают оптимизм. Но решение подобных прикладных задач – это не тривиальный вопрос перевода слов в новую область знаний, а медленный и длительный процесс выстраивания гипотез и осуществления экспериментальных проверок».
Помимо всего прочего он советовал своим коллегам: «Мы должны содержать наш собственный дом в идеальном порядке. Тема теории информации, несомненно, продаваема и даже слишком. Сейчас нам следует обратить свое внимание на проблему исследований и разработки этих идей в самом широком научном смысле. Исследования, а не разъяснения – вот основной принцип, и наш критический порог должен быть поднят. Ученые в своей работе должны быть максималистами, с предельной критичностью относясь к себе и своим коллегам. Несколько первоклассных научных работ предпочтительнее большого числа не до конца продуманных и незаконченных трудов. Последние не вызовут доверия к их авторам и будут потерянным временем для их читателей». Эта передовица и другие статьи, выражавшие позицию Шеннона, производили нужный эффект. Вот как оценил Роберт Галлагер подход Шеннона к решению конфликта: «Клод Шеннон был очень мягким человеком, который был убежден в том, что каждый человек волен выбирать свой путь. Если человек говорил откровенную глупость в процессе обсуждения, Шеннон умел проявить адекватную реакцию так, чтобы человек при этом не выглядел глупо». Учитывая эту свойственную ему сдержанность, статья под заголовком «Повозка с оркестром» была красноречивым заявлением. Тот факт, что он был вынужден написать подобную статью, продемонстрировал истинную глубину его обеспокоенности по поводу способов применения теории информации и тревоги за будущее его детища. Бетти признавалась, что в своей статье Шеннон не смог, вероятно, до конца выразить всех своих чувств: «Его немного раздражала вся эта шумиха. Люди не понимали того, что он пытался сделать». Роберт Фано пошел еще дальше, изложив причину своих переживаний и Шеннона: «Мне не нравился термин “теория информации”. И Клоду тоже. Понимаете, термин “теория информации” подразумевает, что это теория об информации, но это не так. Это теория о передаче информации, а не об информации. Многие просто не понимали этого». Шеннон с радостью приветствовал успешные, продуманные сферы применения теории информации. Но заявления о ее гиперважности – и попытки представить ее как ключ ко всем секретам – неизбежно носили отпечаток беспочвенных обобщений и пустого философствования, которые он презирал. Здесь таилась реальная опасность: те идеи, которые Шеннон продвигал, можно было так распылить, что они бы потеряли всю свою значимость. Возможно, это тот риск, который свойствен любой революции в науке. Но Шеннон считал своим долгом предотвратить подобное развитие событий. Своей работой он открыл ящик Пандоры. Статья под заголовком «Повозка с оркестром» была его попыткой закрыть крышку, призвать к порядку и напомнить, по крайней мере, инженерному сообществу о том, что теория, которую он представил, – и работа, сделавшая его знаменитым, – ценна только в рамках ее истинных границ.
22. «Мы срочно нуждаемся в помощи доктора Клода Шеннона»
«Уважаемый доктор Келли, – начиналось письмо, – несмотря на то, что я прекрасно осознаю тот вклад, который вы и ваша компания вносите, решая многочисленные задачи, что ставит перед вами правительство Соединенных Штатов, я должен обратиться к вам с личной просьбой касательно чрезвычайно важного и насущного вопроса, связанного с безопасностью Соединенных Штатов». Отпечатанное на фирменном бланке Центрального разведывательного управления и доставленное главе «Лабораторий Белла», данное послание было намеренно завуалированным: «В попытке найти решение самой животрепещущей проблемы, стоящей перед нами в данный момент, мы должны признать, что срочно нуждаемся в помощи д-ра Клода Шеннона, сотрудника вашей компании, который, как нам известно, является в высшей степени квалифицированным ученым в той конкретной области, о которой идет речь… Если бы он смог предложить нам свои услуги на условиях, которые бы устроили и вас, и д-ра Шеннона, я был бы вам весьма признателен. Я полностью осознаю то, что даже временное его отсутствие станет большим неудобством для вашей организации, и вы можете быть уверены в том, что только самая веская причина могла заставить меня обратиться к вам с этой просьбой». Автором письма был один из самых видных военачальников той эпохи: Уолтер Беделл Смит, директор ЦРУ, бывший начальник штаба при генерал-лейтенанте Дуайте Эйзенхауэре и бывший посол в Советском Союзе. Он был также четвертым главой ЦРУ – работа, которая в то время не предполагала той степени публичности, как в наши дни. Три дня спустя точно такое же письмо было отправлено Кингманом Дугласом капитану ВМФ США Джозефу Венджеру с приложенной к нему маленькой запиской: «Я очень сильно надеюсь на то, что это письмо достигнет своей цели». Прошлая работа Шеннона дает некоторый намек на то, чего добивалось ЦРУ, а тот факт, что в это дело были вовлечены Дуглас и Венджер, еще больше проясняет ситуацию. Семья Кингмана Дугласа принадлежала к высшему обществу, а его жизнь была чередой престижных частных школ, залов заседаний советов директоров компаний и командных пунктов. Выпускник Хиллскул и Йельского университета, в Первую мировую войну он был летчиком, а во Вторую мировую руководил разведывательными операциями. Он также служил в ЦРУ и был заместителем директора по оперативной разведке. Джозеф Венджер тоже работал в высших эшелонах разведки. «Один из первых морских офицеров, осознавших роль разведки средств связи», он был выпускником военно-морской академии США и стал в итоге контр-адмиралом. Со временем он изменил подход руководства флота к оценке и осуществлению криптологических операций, став «одним из создателей централизованной структуры криптографии». На Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны Венджер обнаружил, что пристальное изучение «внешних свойств сообщения» японских противников – на первый взгляд тривиальных деталей от позывных до характера передачи сообщений – может быть не менее эффективно, чем анализ самих сообщений. К 1949 году, имея богатый опыт двух войн, он стал руководителем Контрразведывательного управления вооруженных сил (AFSA), предшественника современного Агентства национальной безопасности. Обратившись к Шеннону, Венджер показал, что разведка нуждалась в его помощи. Офицер озвучил результаты Дугласу в открытом письме: «Я разговаривал сегодня с Шенноном по телефону, и он показал свою открытость к диалогу. Он обещал высказать свое мнение, когда подробнее изучит проблему и поймет, сможет ли он чем-то помочь в этом деле. Я предложил отправить к нему секретного агента, чтобы тот дал подробную информацию, как только он определится». Джон фон Нейман также контактировал с Шенноном в те дни, убеждая его в значимости данной просьбы. Такой разумный, взвешенный подход был вполне в духе Шеннона: с одной стороны, его совсем не смутило то, что к нему обратились за подобной консультацией, с другой стороны, он не стал сразу же хвататься за решение этой проблемы, пока не оценит ее в полной мере. Спустя неделю после того, как было отправлено письмо, подписанное директором ЦРУ Смитом, Венджер и Дуглас получили ответ от Мервина Келли из «Лабораторий Белла»: «Учитывая то, что ранее уже предпринимались попытки воспользоваться услугами д-ра Шеннона в военных целях, мы выражаем наше общее мнение, что наибольшую пользу он принес бы в своей конкретной области, занимаясь исследованием индивидуально. Тот вопрос, который затронут в вашем письме, носит срочный и насущный характер, и мы, со своей стороны, будем рады поддержать д-ра Шеннона и помочь ему, поучаствовав в предварительном изучении темы, как вы предлагаете». В этой записке вкратце изложена жизнь Шеннона в начале 1950-х годов. Сферы применения теории информации росли, как грибы после дождя. Потребности в его услугах множились, и Шеннон с трудом сдерживал полчища атакующих. Когда он прекращал сопротивление, это почти всегда происходило потому, что были задействованы силы, не подвластные его контролю. Шеннон придерживался принципа нейтральности, который был ключевым в его работе, где он руководствовался своими природными склонностями – часто ценой отказа от более престижных или щедро оплачиваемых вариантов. Но его работа в области теории информации принесла ему национальную славу. А теперь федеральное правительство нуждалось в нем лично.С окончанием войны перед военными встала острая проблема: уход с госслужбы многих лучших в стране ученых, математиков и инженеров. Как писала Сильвия Насар, «во время войны в среде математической элиты стало нередким явлением, когда ученых выдергивали из привычной им академической среды и вводили в секретный мир военных». Однако теперь было далеко не ясно, «как заставить самые лучшие и яркие умы заниматься военными проектами»: «Личности калибра Джона фон Неймана вряд ли бы согласились поступить на госслужбу». Решением, привычным для людей, занимавших высшие ранги в математическом мире, было создание технических комитетов, которые бы находились в тесном контакте с различными ветвями оборонного комплекса. Комитет, который станет наиболее привычным для Шеннона – и причиной его срочной переписки с Венджером и фон Нейманом, – назывался специальной криптологической консультационной группой (SCAG). По словам сотрудников АНБ, «фундаментальной целью создания консультационной группы было собрать особую группу выдающихся технических консультантов в научных областях, представляющих интерес для Агентства, и, таким образом, обеспечить ценный источник квалифицированной помощи в решении специфических проблем криптологической направленности». Как и большинство групп подобного типа, консультационная группа была средствомдостижения множества целей. Существовал ряд заковыристых технических проблем, для решения которых требовались реальные, практические советы. Члены комитета де факто играли роль «охотников за головами», занимаясь поиском и привлечением талантов по просьбе высших государственных чиновников. Между ними проходил честный обмен мнениями по поводу готовности страны по ряду фронтов. На первых встречах группы обсуждались вопросы ценности и важности разведки средств связи на основе изучения всего комплекса проблем службы разведки со времен Второй мировой войны, состояние и цели самого аппарата разведки, а также проект Контрразведывательного управления вооруженных сил под кодовым названием SWEATER. В полномочия комитета входили вопросы самого широкого спектра – от технических до философских. С того момента, когда к нему обратились за помощью в 1951 году, и до середины 1950-х годов, Шеннон совершал регулярные поездки в Вашингтон на эти встречи, работая на консультационную группу, а в дальнейшем – на научный консультационный комитет по вопросам национальной безопасности. Эти встречи растягивались на несколько дней, и каждый день ученые проводили совещания, начинавшиеся утром и заканчивавшиеся вечером. На них присутствовали высшие военные чины, и обсуждались самые острые проблемы работы службы разведки. «Так как значительная часть каждой повестки дня должна была быть посвящена оперативным сводкам, предоставляемым сотрудниками АНБ еще до того, как комиссия имела возможность предварительно изучить проблемы Агентства, было крайне важно, чтобы повестка дня включала наиболее животрепещущие, по мнению членов комиссии, вопросы». Было еще одно практическое соображение, почему на рассмотрение консультативной группы выносились только самые острые проблемы: здесь собирались люди, чьи графики с трудом совпадали. На самом деле большая часть доступных для нас сведений о работе консультативной группы и других подобных комитетов касается упоминаний сложности собрать вместе десяток представителей элитного научного сообщества в одном помещении в одно время.
Все это говорит о том, что Шеннон общался и работал на людей, нацеленных на вооруженный конфликт.Комитеты подобного типа были изначально ограничены в своих действиях. Пишет историк АНБ: «Из-за отсутствия доступных надежных мест хранения некоторые из консультантов не имели возможности держать у себя определенные криптологические документы и сверяться с ними в перерывах между заседаниями. И это создавало проблемы. Они не могли извлечь пользу из тех очевидных идей, которые приходят при внимательном, пусть и периодическом, их изучении». Но такие комитеты, по крайней мере, позволяли АНБ удерживать лидирующие позиции за счет тесной связи с научным сообществом. Правящая верхушка, с которой взаимодействовал Шеннон, достигла своей зрелости на фоне двух крупномасштабных провалов службы разведки. Ужас Перл-Харбора оставил неизгладимый след в их памяти, а произошедшее позднее вторжение войск Северной Кореи на территорию Южной Кореи снова застало врасплох американских политических деятелей, и к 1950 году страна в очередной раз готовилась к войне. Все это говорит о том, что Шеннон общался и работал на людей, нацеленных на вооруженный конфликт и собиравшихся втравить новое поколение американцев в кровавую бойню. Перспективы были реальными, требования к службе разведки множились. Математические умы калибра Шеннона и фон Неймана были необходимым условием обеспечения технологической и научной надежности оборонного комплекса страны.
Только благодаря недавно рассекреченным документам мы можем получить хотя бы смутное представление о работе Шеннона на правительство в тот период. Но до сих пор многие важные детали остаются засекреченными. Сам Шеннон был очень скрытен в отношении того, чем занимался. Несколько десятилетий спустя он уклончиво отвечал на вопросы в интервью Роберту Прайсу. ПРАЙС: Какое-то время вы были членом комитета, работавшего на АН Б, не так ли? ШЕННОН: Не уверен, что я был в составе комитета. Я числился его членом. Но не думаю, что я занимал… столь высокий пост. ПРАЙС: Ну, мне говорили, что был период, когда вы контактировали с Агентством национальной безопасности. ШЕННОН: Да, это более точное определение… Позднее я занимался вопросами криптографии. Я был консультантом. Вероятно, я должен… Я не знаю… ПРАЙС: Вы говорите сейчас о АНБ, возможно, вы имели в виду консультативный совет? ШЕННОН: Ну, я был приглашен… Я даже не знаю, могу ли я… хоть это и было много лет назад. Я все-таки не стану обсуждать эту тему. В какой-то степени это классический Шеннон: далекий от самовосхваления, не желающий погружаться в темы, затрагивавшие узкие интересы. Но Шеннон уходил от ответов на подобные вопросы со свойственным ему смешением сарказма и юмора. Тот факт, что он нервничал и запинался по ходу беседы, очень много говорит о степени секретности, окружавшей его работу. Шеннон имел все основания быть настороже: он обладал доступом к некоторым самым тщательно охраняемым национальным секретам и системам, а также контактировал с отцами-основателями и документами национальной системы безопасности. Он понимал всю серьезность работы и необходимость держать доверенную ему конфиденциальную информацию в тайне. Это была работа, требовавшая полной отдачи. За одним из коллег Шеннона по комитету НБА, Джоном фон Нейманом, круглосуточно присматривали военные, когда он, уже совсем больной, лежал в Центральном армейском госпитале Уолтера Рида. Несмотря на весь свой мощный интеллект, он не был защищен от хитроумных действий противника, по крайней мере, правительство боялось этого. А когда лучше всего воздействовать на человека – и похитить самые ценные государственные секреты, – как не в тот момент, когда он находится под воздействием медикаментозного дурмана?
23. Человеко-роботы
Может ли машина думать? – Может ли она чувствовать боль? – А можно ли считать человеческое тело такой машиной? Оно, несомненно, уже вполне способно стать такой машиной. Но машина, конечно же, не может думать! – Является ли это высказывание эмпирическим? Нет. Мы говорим лишь о человеке, как о мыслящем существе.Людвиг Витгенштейн
Я машина, и ты машина, и мы оба думаем, разве не так?Если у Шеннона и был свой характерный подход к работе до момента опубликования его теории информации, то растущая репутация дала ему право полной свободы действий. После 1948 года чиновники из «Лабораторий Белла» не могли его тронуть – и это вполне отвечало интересам Шеннона. Генри Поллак, директор математического отделения «Лабораторий», высказал мнение широкого круга руководителей, заявив, что Шеннон «заработал право быть непродуктивным». Шеннон приезжал в офис в Мюррей-хилл поздно – если вообще приезжал – и часто проводил остаток дня, играя в шахматы и другие настольные игры. В то время, когда он не обыгрывал своих коллег, его можно было увидеть катающимся на одноколесном велосипеде по узким коридорам «Лабораторий» и периодически жонглирующим. Иногда он ходил на ходулях «пого» по кампусу «Лабораторий», надо полагать, к большому удивлению людей, выписывавших ему чеки на заработную плату. Возможно, его коллег и раздражало все это, но Шеннон к тому моменту был легендой, прячущейся под маской рядового сотрудника. Будучи все еще связанным обязательствами по контракту, как постоянный сотрудник учреждения, он фактически обеспечил себе роль заслуженного деятеля в отставке. Это означало возможность работать за закрытой дверью, что считалось чуть ли не смертным грехом в кругах сотрудников «Лабораторий». Это также означало работу над собственным проектом и в том направлении, которое автору казалось правильным. В одной из квитанций того периода указан ряд товаров из магазина строительных материалов, которые покупал Шеннон, вероятно, для постройки своей машины. Результат этой работы вряд ли мог иметь какое-то отношение к практической деятельности телефонной компании.Клод Шеннон
Его можно было увидеть катающимся на одноколесном велосипеде по узким коридорам «Лабораторий» и периодически жонглирующим.Но все это не вызывало никакой тревоги у сотрудников и руководства «Лабораторий Белла». Никто не сомневался в таланте Шеннона, а следовательно, никто и не думал допытываться, чем он занят. В конце концов, «отец теории информации», по сути, вложил свое детище в руки каждого, после того как завершил свой индивидуальный проект. Кто бы решился задать ему вопрос о том, что еще он замышляет за закрытыми дверями? Один любопытный побочный эффект такой свободы заключался в том, что Шеннон в этот период почти не занимался своей корреспонденцией, несмотря на то что она росла вместе с его репутацией. Неотвеченные письма скапливались стопками. Их было так много, что Шеннону пришлось складывать их в ящик, который он подписал «Письма, которые уже давно ждут ответа». По словам Джона Гертнера, «Шеннон, похоже, не понимал того, что ученый, заявивший о том, что любое сообщение могло быть отправлено по любому шумному каналу связи с почти идеальной точностью, сам был теперь исключением из правила. Сообщения доходили до Клода Шеннона, но с обратной передачей возникали проблемы».
Шеннон получал корреспонденцию от именитых ученых, высших правительственных чинов – и даже от Рона Хаббарда.Ему писали не только рядовые поклонники и почитатели его таланта. Шеннон получал корреспонденцию от именитых ученых, высших правительственных чинов – и даже от Рона Хаббарда. Лишь по прошествии нескольких десятилетий мы можем сделать вывод, что это была одна из самых странных переписок в жизни Шеннона. И она достойна упоминания по одной причине: да, создатель дианетики и сайентологии искал встречи с Шенноном. Нет, сам Шеннон не был сайентологом. Хаббард, оказывается, был больше заинтересован в Шенноне, чем Шеннон в нем. Шеннон, со своей стороны, написал письмо Уоррену Маккалаху, ведущему эксперту МТИ в области кибернетики, попросив того, чтобы он встретился с его «другом» Хаббардом. Хаббард, похоже, был больше известен Шеннону как автор научно-фантастических романов, а не как новоиспеченный религиозный фантазер. «Если вы так же обожаете научную фантастику, как и я, вы признаете его одним из лучших авторов в этом жанре, – пишет Шеннон. – Хаббард к тому же является опытным гипнотизером, а в последнее время он занимался весьма интересной работой, применяя видоизмененную технику гипноза в терапевтических целях… Я уверен, что вы оцените Рона как очень интересную личность, профессиональная деятельность которой так же разнообразна, как и ваша. И не важно, обладают ли его методы какой-либо ценностью». Впоследствии Хаббард напишет Шеннону письмо, где выразит свою благодарность за помощь в его исследовательской работе и пообещает прислать ему экземпляр своей «Дианетики», как только она будет опубликована. Дальнейшей переписки между отцом теории информации и создателем сайентологии зафиксировано не было. И все же Уильям Паундстоун отмечает: «Вплоть до настоящего времени Церковь сайентологии продолжает цитировать Шеннона и термины теории информации в своей литературе и на сайтах». Переписка с Хаббардом была выдержана в положительном и сдержанном ключе, в отличие от большинства других писем, скапливавшихся на столе Шеннона. Помимо привычного потока коллег-ученых, желавших получить его отклик на свою статью или книгу, была еще бесконечная череда безумцев, которые ждали, что Шеннон одобрит их частные исследования, или те, чья паранойя в отношении телефонной компании приводила их к одному из самых известных ее представителей. Одно написанное от руки письмо начиналось так: «Уважаемый доктор Шеннон, к своему письму я прикладываю “Теорию космоса”. Я отправлял ее другим известным ученым, но пока не получил никакого ответа…» Автор письма, который назвал себя «ЧЕЛОВЕКОМ-ИДЕЕЙ», просил Шеннона помочь «завершить и проверить 15-летний труд по измерению жизни, ума и энергии». Другое послание носило более угрожающий характер. «Уважаемый господин, ваш механический робот Бел, божество в Библии, это механическое чудовище. Ваш робот нарушает пять поправок Конституции (1, 3, 4, 5 + 13я). Бог попускает мне смеяться над вами. Вы делаете предателя из президента Соединенных Штатов и ФБР, разрешая своему роботу обманывать вас. Я угрожал судебным иском нью-йоркской телефонной компании, и я выполню свои угрозы, если вы не проснетесь». Шеннон с юмором воспринимал подобные эпизоды. Он мог применить все свое обаяние, чтобы сгладить любые острые ситуации или, чаще всего, проигнорировать их, не задумываясь. В отличие от большинства ученых, которые умело пользовались своей успешной научной карьерой в дальнейшей жизни, Шеннон, похоже, даже не рассматривал возможность использовать свой статус в научном мире для расширения круга знакомств. Он также не стремился публично высказывать свои политические суждения или брать на себя роль общественного просветителя. Напротив, он еще больше закрылся, игнорируя письма, коллег и проекты и полностью сконцентрировавшись на тех задачах, которые были ему наиболее интересны. Шеннон заработал себе это право – теория информации была трудоемкой работой, – теперь его влекли новые проблемы и новые горизонты, включая те, которые, на взгляд коллег Шеннона, казались смехотворными для ученого его статуса.
«Думаю, что история науки показывает: ценный результат часто произрастает из простого любопытства», – однажды заметил Шеннон. Любопытство в чрезмерной степени рискует перерасти в дилетантизм – склонность разбрасываться и не доводить начатое до конца. Но любопытство Шеннона было иного рода. Он задавал вопрос, а потом конструировал – обычно своими руками – правдоподобный ответ. Сможет ли механическая мышь пройти по лабиринту? Построй его и выясни. Сможет ли машина выключить себя сама? Создай такую машину, которая будет обучена совершать техническое «харакири». То, что другие люди называли хобби, он обдумывал как эксперименты: упражнения в упрощении, модели, которые позволяли увидеть суть проблемы. Он был так убежден в будущности мира машин и с такой жадностью исследовал его границы, что готов был терпеть град насмешек в свой адрес. Он был поглощен, как он писал своему партнеру по переписке, «функциональными возможностями и сферами применения универсальных электронных компьютеров». Если оценивать их в свете этого будущего – нашего настоящего, – то его машины не были хобби, они были реальным доказательством. Одна отправная точка для всех этих опытов с механикой была вполне безобидной: рождественский подарок жены. «Я сходила в магазин и купила ему самый большой детский конструктор, который продавался в Америке. Он стоил пятьдесят баксов, и все сочли меня сумасшедшей!» – рассказывала впоследствии в своем интервью Бетти Шеннон. Клод Шеннон добавил: «Подарить его взрослому человеку! Но суть в том, что он чрезвычайно пригодился мне, и я использовал его, чтобы опробовать разные вещи». Словно ребенок с новой игрушкой, Шеннон просто помешался на этом конструкторе: весь подвал был усеян разобранными частями конструктора, и он засиживался там до поздней ночи, создавая бесконечные конструкции. Первая идея была холостым выстрелом: механическая черепаха, которая вышагивала по дому Шеннона, врезаясь в стены и разворачиваясь, чтобы в очередной раз врезаться в стену. Но незадачливая черепаха предвосхитила следующее изобретение – то, которое неожиданно вызовет интерес в масштабах страны. Это была механическая мышка Тесей, учившаяся находить выход из лабиринта. В каком-то источнике утверждалось, что идея создать механическую мышь, которая искала бы выход из лабиринта, возникла, когда Шеннон пытался найти выход из знаменитого лабиринта дворцового комплекса Хэмптон-корт в Лондоне. Ему понадобилось на это двадцать минут, но он посчитал, что это можно сделать быстрее. Позднее появится самое известное фото Клода Шеннона, где он изображен со сконструированной им мышью Тесей и лабиринтом. На этом снимке запечатлен момент, когда Шеннон устанавливает мышку в лабиринт. Она была названа – довольно оптимистично – в честь греческого героя, обманувшего Минотавра и покинувшего зловещий лабиринт. Но теперь это был трехдюймовый кусок дерева с медными усиками и тремя колесиками.
Позднее появится самое известное фото Клода Шеннона, где он изображен со сконструированной им мышью Тесей и лабиринтом.Исследования Шеннона в области переключательных схем и его работа в телефонной компании помогли ему придумать внутреннее устройство его изобретения. Семьдесят пять электромеханических реле – похожие на те, что использовались для переключения звонков в телефонной системе – приводили мышку в движение. Бетти завершала подключение соединительных проводов в самой ранней модели. «Мы делали все это ночью дома после работы», – рассказывала она. Тесей приводился в движение парой магнитов – один был вмонтирован в его полость, а другой свободно перемещался с внешней стороны лабиринта. Мышка начинала свой путь, врезалась в стенку, чувствовала с помощью своих «усиков», что ударилась о препятствие, активировала нужное реле, чтобы попробовать пойти по другой дорожке, а затем повторяла весь процесс, пока не достигала своей цели – металлического кусочка сыра. Реле хранили направления правильного маршрута в «памяти»: как только мышка успешно проходила лабиринт методом проб и ошибок, во второй раз она уже с легкостью находила кусочек сыра. Хоть в это и сложно было поверить, но мышь Тесей выполняла второстепенную функцию: именно лабиринт хранил всю информацию и продвигал Тесея своим магнитом. Как объяснял Шеннон, в чисто техническом смысле мышь не занималась поиском выхода из лабиринта; решения за нее принимал лабиринт. Но, так или иначе, система была обучаема.
Когда доходит до дальнейших аналогий с мышкой и лабиринтом, Шеннон позволяет себе лишь намеки на то, какие возможности открывает Тесей в плане создания «мозга» робота.Попав в Мюррей-хилл, Тесей стала маленькой знаменитостью «Лабораторий». Эта мышь принесла Шеннону и «Лабораториям» патент. «Лаборатории» заказали короткий фильм с участием Шеннона и Тесея. Семиминутный ролик был рассчитан в том числе на массовую публику. Шеннон, нарядно одетый, в темном костюме с красным галстуком, объясняет механизм работы мыши в неторопливой, обстоятельной манере университетского профессора. «Привет, – начинает он свою речь, – меня зовут Клод Шеннон, я математик и работаю здесь, в “Лабораториях Белла”. Затем он переходил к сути вопроса, поясняя одновременно то, что видит зритель, мышку, движущуюся по лабиринту, и то, как работает система. Когда доходит до дальнейших аналогий с мышкой и лабиринтом, Шеннон позволяет себе лишь намеки на то, какие возможности открывает Тесей в плане создания «мозга» робота. «Конечно, для решения определенной задачи и запоминания этого решения требуется определенный уровень умственной активности, что-то родственное мозгу. Маленькая вычислительная машина служит Тесею мозгом… Мы поместили клетки мозга Тесея, если можно так выразиться, за маленькое зеркальце, вот здесь». Шеннон объясняет, что мозг Тесея – это что-то базовое и привычное, что-то родственное системе, управляющей сложной телефонной сетью переключателей и проводов. «Здесь, в телефонной компании Белла, мы стараемся усовершенствовать для вас телефонную систему», – говорит Шеннон, фактически рекламируя своего работодателя. Этот момент наряду с показом изображений телефонов и активизируемых переключателей, а также бодрой музыкой на заднем фоне был необходимой частью пиара. Дело в том, что заинтересованное в стабильном интересе к своей работе высшее руководство «Лабораторий Белла» и компании «AT&T» не могло позволить, чтобы Клод Шеннон просто демонстрировал свою роботизированную мышь в кинотеатрах, школах или университетах, создавая впечатление, что та громадная свобода действий и те субсидии, которые предоставляло им правительство Соединенных Штатов, тратятся на всякие пустяки. Шеннон завершает свое выступление, меняя контуры лабиринта и помещая Тесея внутрь квадрата, не имеющего выхода. «Как и все мы, он периодически оказывается в ситуации, подобной этой», – говорит Шеннон, а в это время мышь двигается, ударяется о стенку, двигается, ударяется о стенку и оказывается в ловушке. Камера наезжает на Шеннона, который ухмыляется, а финальные аккорды музыки говорят об окончании фильма.
Внешний мир проявил неожиданный интерес к Тесею, и та известность, которую он принес Шеннону и «Лабораториям Белла», впечатлила боссов Шеннона. Одна история стала легендой в «Лабораториях». Генри Поллак подробно рассказал о том, что произошло, когда Шеннон продемонстрировал Тесея совету директоров «AT&T»: «Мне сообщили о том, что один из членов совета директоров по окончании демонстрации сказал: “Теперь это и есть то самое оригинальное мышление, которое компания «AT&T» ждет от своих сотрудников! Я предлагаю ввести Клода Шеннона в состав совета директоров!” И они потратили чертову уйму времени, разубеждая этого парня в том, что Шеннон должен стать членом совета директоров. В конечном счете они сошлись во мнении, что у Клода Шеннона не было достаточного количества акций для этого». Журнал Time посвятил Тесею короткую статью под заголовком «Мышь, обладающая памятью». Журнал Life опубликовал снимок Тесея, ищущего сыр. Журнал Popular Science разместил трехстраничный материал, озаглавив его «Эта мышь умнее, чем вы». Тесей также пробил себе дорогу в гораздо более серьезные чертоги. Механическая мышь стала предметом бурных дискуссий на знаменитой конференции Мэйси в 1951 году, а также на междисциплинарном совещании ученых и преподавателей в Нью-Йорке. Шеннон был в числе приглашенных, наряду с многочисленными ведущими экспертами в области искусственного интеллекта и вычислительных машин, а также с антропологом Маргарет Мид. Абсурдность ситуации, когда столь выдающиеся умы обсуждают механическую мышь, сглаживалась тем фактом, что Тесей (или, если быть точнее, вся система «мышь-лабиринт») был работающим образцом «искусственного интеллекта» – того, над чем годами билось большинство из собравшейся там почтенной публики в ходе своих теоретических исследований. Тесей обладал искусственным интеллектом. Когда один из присутствующих указал на очевидное – что если убрать металлический сыр, то мышь будет просто носиться, тщетно ища кусочек сыра, которого там нет, – участник конференции социолог Ларри Фрэнк ответил: «Это так по-человечески». В конечном счете организаторы конференции скептически оценили Тесея (по ходу обсуждения разжаловав его – возможно, неосознанно – из «мыши» в «крысу»). «Наблюдать за тем, как примитивная крыса Шеннона проходит лабиринт, интересно не из-за какой-то явной схожести между машиной и реальной крысой. На самом деле они довольно разные. Однако механические действия удивительно соответствуют тем определениям, которые дают некоторые ученые относительно крыс и живых организмов в целом». Другими словами, был сделан вывод, что Тесей не обладал реальным интеллектом, но явно демонстрировал то, как крыса или любое другое существо проходит некий процесс обучения. Какова была реакция Шеннона в тот момент – об этом история умалчивает. Впоследствии Шеннон расскажет своему бывшему преподавателю, что Тесей был «демонстрационным прибором, доказывающим способность машины решать методом проб и ошибок задачу и запоминать ее решение». На вопрос, можно ли «создать» конкретный грубый образец интеллекта, Шеннон ответил: «Да, можно». Машины способны учиться. Они могли – в том ограниченном варианте, который продемонстрировал Шеннон – совершать ошибки, находить альтернативные решения и избегать повторных ошибок. Процесс обучения и память могли быть запрограммированы и вмонтированы, «сценарий» вписан в прибор, который в каком-то смысле являлся простым предшественником мозга. Идея о том, что машины способны имитировать действия людей, была далеко не новой. Но Тесей сделал эту идею – и перспективу того, что машина будет запоминать и делать логические выводы – как никогда реальной. За долгие годы мыслящие и не мыслящие машины Шеннона принимали самые разнообразные формы и виды. Некоторые из них демонстрировали определенные функции. Например, «Ultimate Machine» при включении вытягивала металлическую «руку» и выключала себя. Машина «THROBAC» (Thrifty Roman-Numeral Backward-Looking Computer») представляла собой калькулятор, работавший с римскими цифрами, и была интересна только тем, кто мог заметить разницу между, скажем, комбинациями CLXII и CXLII. Все эти устройства были своего рода озорной шуткой. Но Шеннон не отрицал их высокую ценность. «Предназначение этих игровых машин может показаться, на первый взгляд, развлекательным и неинтересным, далеким от серьезных научных исследований», – соглашался он. Но при этом в них была «серьезная составляющая, и цель этой работы была значительной, ведь даже минимум четыре или пять университетов и научно-исследовательских лабораторий запустили проекты на их основе». И если цели Шеннона были грандиозными, то способы их достижения, по крайней мере в то время, были простыми. «Моя самая заветная мечта – построить когда-нибудь машину, которая будет по-настоящему думать, учиться, общаться с людьми и взаимодействовать с окружающим миром относительно сложным способом», – признавался Шеннон. И его не беспокоил страх зарождения мира, которым будут править машины, или перспектива, что человеческая раса покорится роботам. Скорее, Шеннон верил в противоположное: «В перспективе [машины] станут благом для человечества, и смысл в том, чтобы сделать их такими как можно скорее… На самом деле между человеком и машинами [сегодня] намного больше понимания… и нам нужно сократить этот разрыв, чтобы можно было вести полноценную беседу». Эта цитата и некоторые другие, приписываемые Шеннону, были взяты из теперь уже почти забытого досье, опубликованного в журнале Vogue под заголовком «Человеко-роботы могут первыми заговорить с доктором Шенноном». При подготовке этого материала Шеннон дал подробное интервью Броку Брюеру по поводу связи между автоматом и его создателями. (И так как это была публикация в журнале Vogue, а не, скажем, в журнале Scientific American, Шеннон должен был поучаствовать в фотосессии, которую осуществил известный фотограф Анри Картье-Брессон.) Так Шеннон оказался в компании выдающихся людей: Картье-Брессон снимал в том числе похороны Махатмы Ганди, коронацию Елизаветы II и первые несколько месяцев правления Мао Цзэдуна.
Для Шеннона перспектива создания искусственного интеллекта была ощутимой реальностью, а не футуристической фантазией.Статья начиналась с того, что в те времена могло показаться размышлениями сумасшедшего: «Доктор Клод Шеннон… который создает, играет, опережает на шаг думающие машины и с нетерпением ждет того момента, когда человек и машина смогут беспрепятственно общаться друг с другом. А почему бы и нет?» Для Шеннона перспектива создания искусственного интеллекта была ощутимой реальностью, а не футуристической фантазией. Представляя, как «управляемые компьютерами роботы-исследователи» будут действовать, случайно падая во впадину на Луне (и предвосхищая появление робота Roomba), он говорил: «Мы должны обдумывать те проблемы, когда машины почти не задействованы всерьез в реальном мире. Машина на Луне должна уметь защитить себя – не упасть в яму – без нашей помощи. С точно такой же проблемой мы столкнемся однажды, когда роботы-уборщики будут ходить по дому, наводя порядок». Шеннон, к счастью для него, никогда не задумывался об опасностях бурного распространения искусственного интеллекта, о роботах, порождающих еще более развитых роботов и ставящих человеческую расу на грань вымирания. Ему было присуще исключительно оптимистичное видение технологического прогресса, когда машины будут обретать все увеличивающиеся способности, функции и информацию. На вопрос, какова возможная цель его трудов над созданием роботов, Шеннон ответил, что целей, а точнее направлений, три. Во-первых, снабдить компьютеры лучшим сенсорным знанием реального мира. Во-вторых, помочь им понятно сообщить нам о том, что они знают, помимо распечатывания информации. И третье, заставить машины демонстрировать свои реакции на окружающий мир.
Шеннон оказался прав примерно наполовину: компьютер действительно разгромил чемпиона мира по шахматам в 1997 году, за четыре года до смерти ученого.А вот еще одно его объяснение из другого, более позднего интервью, где он был еще более оптимистичен: «Я верю, что сегодня, когда мы собираемся что-то изобрести, это уже больше не будет связано с биологическим процессом эволюции. Это будет изобретательский процесс, при условии, что мы станем создавать машины, которые будут умнее нас. А значит, наша помощь уже не понадобится. И они станут не только умнее нас, но и долговечнее, имея в своем распоряжении съемные части. Они будут намного лучше нас. Здесь открывается столько разнообразных возможностей, связанных с устройством человека, что это просто поражает. Единственное, чем могут помочь нам хирурги в целом, это вырезать у нас что-то. Но, вырезая что-то, они не заменяют это чем-то лучшим или какой-то новой частью». На самом деле, когда речь заходила о превосходстве человека над машиной, «мышление было своего рода последним аргументом в драке». Шеннон не надеялся, что компьютер пройдет знаменитый тест Тьюринга – когда машину сложно отличить от человека – при его жизни, но в 1984 году он все же предложил ряд более точных целей искусственного интеллекта. Компьютерщики могли предвидеть, что к 2001 году будет создана программа для игры в шахматы, которой присудят корону чемпиона мира по шахматам, программа написания стихов, фрагмент которых будет представлен в еженедельнике New Yorker, математическая программа, которая докажет сложную гипотезу Римана, и – «самое важное» – программа подбора акций, которая будет превосходить учетную ставку на 50 процентов. Шеннон оказался прав примерно наполовину: компьютер действительно разгромил чемпиона мира по шахматам в 1997 году, за четыре года до смерти ученого, и компьютеры действительно осуществляют большую часть мировой торговли акциями. И все же некоторые оптимистичные взгляды Шеннона на будущее в окружении машин оборачивались мизантропическими настроениями. «Мы, люди, мечтающие об искусственном интеллекте, ненасытны, – написал он однажды. – Когда машины начнут побеждать наших гроссмейстеров, писать за нас стихи, доказывать теоремы и управлять нашими деньгами, мы будет поставлены на грань вымирания, – говорил он полушутя. – Это может ознаменовать начало процесса выбраковывания глупой, создающий хаос и воинственно настроенной человеческой расы ради процветания более логично мыслящего, экономящего энергию и дружественно настроенного вида – компьютера».
24. Игра королей
Публика, собравшаяся у здания масонской ложи в Филадельфии, возможно, и слышала о существовании таинственной машины, обладавшей способностью играть в шахматы, но день, последовавший после Рождества 1826 года, стал для большинства из них тем днем, когда они могли впервые в жизни своими глазами увидеть «автомат, играющий в шахматы». Распорядитель всего действа, Джон Мальзель, вышел на сцену и предложил собравшейся публике взглянуть на машину, которая стояла рядом с ним: коробка, размером с конторский стол, за которым сидел манекен, одетый в свободное одеяние и тюрбан, как восточный «чародей». Театральным жестом Мальзель открыл боковую дверцу, ведущую к «турку», продемонстрировав внутренние механизмы и устройства. К тому моменту, когда машина разгромила своего первого соперника, публика пребывала в шоке. Сайлас Уэйр Митчелл, знаменитый врач и писатель, вспоминал, что «турок – даже со свойственной ему спокойной восточной манерой и закатывающимися глазами – еще долго грезился в ночных снах. С тех пор мы узнали его получше, но до сих пор при воспоминании о его вечно скрещенных ногах, тюрбане и леворукости возникает некий мистический страх». В свете всего вышесказанного слово «чародей» было вполне уместным. И все же единственное чародейство заключалось в том, как Мальзелю удавалось выходить сухим из воды. Турок был фальшивкой: внутри этого искусно выполненного механизма, за шестеренками и роликами, прятался человек, игравший в шахматы за «турка» – кукловод. Несколько величайших шахматистов того времени станут поочередно приводить в действие «турка», но его секрет останется не раскрытым широкой публике на протяжении многих десятилетий. Эдгар Алан По, среди прочих, был достаточно догадлив, а потому начал изучать этот феномен: его подозрение вызвал один из манипуляторов «турка», «которого никогда не было видно в процессе демонстрации игры “шахматиста”, хотя время от времени он появлялся незадолго до начала игры и сразу по ее окончании». Но По со своим скептицизмом был в меньшинстве, и на протяжении почти столетия люди верили, что машина была столь же хороша – и устрашающа, – как ее рекламировали. Могущество «турка» вызывало всеобщее волнение. Еще до появления мифологического американского героя Джона Генри и страха перед машиной, которая превзойдет мощь человека, еще до того, как научная фантастика задумала искусственный интеллект или сингулярность, был «турок» – машина, которая якобы могла превзойти своих создателей. Конечно, «турок» был фальшивкой, но в то же время всего лишь временной отсрочкой.Если Шеннон был оптимистично настроен по поводу возможностей мыслящих машин, это происходило не только потому, что он сконструировал механическую мышь, которая могла найти выход из лабиринта, стремясь добраться до кусочка стального сыра, и запомнить при этом маршрут. В конце 1940-х и начале 1950-х годов его интересовал вопрос, как запрограммировать компьютер, чтобы он мог сыграть в шахматы с человеком. И не имело значения при этом, что вся предыдущая история подобных машин ассоциировалась с мошенниками. Шеннон верил в то, что компьютер мог играть честно и при этом лучше, чем человек. Данное исследование еще больше убедило Шеннона в том, что грамотно запрограммированная машина способна сделать больше, чем просто имитировать человеческий мозг, она могла взять верх над человеком. Интересы и хобби Шеннона были весьма разношерстными и менялись со временем, но шахматам он оставался верен всю свою жизнь. Говорят, Шеннон так много играл в шахматы в «Лабораториях Белла», что «по крайней мере, один его руководитель был точно встревожен». У него был талант к этой игре. И по мере того как слухи о его способностях распространялись по «Лабораториям», многие сотрудники стремились победить его. «Большинство из нас не играли с ним больше одного раза», – вспоминал Брокуэй Макмиллан. Во время своей поездки в Россию в 1965 году Шеннон предложил товарищеский матч советскому мировому гроссмейстеру и трехкратному чемпиону мира по шахматам Михаилу Ботвиннику. Ботвинник, сыгравший, надо полагать, бессчетное количество матчей с самыми разными знаменитыми и высокопоставленными фигурами, дал свое согласие на этот матч. Но играл он, не сильно концентрируясь на процессе и крутя в пальцах сигарету. Всем собравшимся было заметно отсутствие у него всякого интереса к происходящему. Но вдруг неожиданно Шеннон смог добиться преимущества, удачно разменяв своего коня и пешку на ладью Ботвинника в самом начале матча. Внимание Ботвинника резко переключилось на шахматную доску, и атмосфера в зале переменилась, когда русский чемпион осознал, что его противник – не просто очередная знаменитость, кое-как играющая в шахматы. «Ботвинник был встревожен», – вспоминала Бетти впоследствии. Игра продолжалась гораздо дольше, чем кто-либо мог предположить, включая удивленного чемпиона. Но все равно не было особых сомнений относительно исхода матча. После сорока двух ходов Шеннон опрокинул своего короля, признав поражение. И все равно, продержавшись несколько десятков ходов против Ботвинника, считавшегося одним из самых талантливых шахматистов всех времен, Шеннон заработал себе уважение в кругах шахматистов. Еще одна история, произошедшая во время той же поездки по России, говорит о хорошем чувстве юмора Шеннона и Бетти. Когда Шеннон нарочито громко пожаловался на то, что замок в двери их номера сломан, к ним мгновенно пришел мастер по замкам. Это заставило их подозревать, что номер прослушивается. Дальше Шенноны, опять же громко, пожаловались на то, что никогда не получали авторских за вышедшую в России книгу Клода – и тогда чек материализовался на следующий же день.
Его работа над шахматными компьютерными программами станет еще одним примером способности Шеннона погрузиться в новую область знаний и одним махом определить ее границы и вскрыть многочисленные ключевые возможности. Спустя несколько десятилетий после того, как была опубликована его статья «Как создать компьютерную программу для игры в шахматы», журнал Byte напишет об этом точно и кратко: «Со времен Клода Шеннона появилось всего несколько новых идей относительно компьютерных шахмат». Работа, которая поможет миру существенно приблизиться к созданию реального, работающего «турка», не вызвала ни малейшего интереса у публики. Шеннон представил свою идею создания компьютера, играющего в шахматы, с характерной для него скромностью: «Несмотря на то что вопрос, возможно, не обладает практической ценностью, он представляет собой теоретический интерес. И хочется надеяться, что положительное решение данной проблемы станет опорой в изучении других задач аналогичной природы, имеющих большую значимость».
Шахматы были ценным пробным экспериментом для зарождающегося поколения машин с искусственным интеллектом.Шеннон уже представлял будущие сферы применения искусственного интеллекта, способного играть в шахматы: распределение телефонных звонков, перевод текста, сочинение мелодий. Он подчеркивал, что такие машины – реалии недалекого технологического будущего, и никто при этом не сомневался в их экономической пользе. Машины, какими бы разнообразными ни были возможные варианты их применения, имели одно важное общее свойство: они не работали в соответствии со «строгим, неизменным вычислительным процессом». Правильнее было бы сказать, «что решение подобных задач – это не просто выбор между правильным и неправильным, оно обладает протяженным “качеством”. В этом смысле шахматы были ценным пробным экспериментом для зарождающегося поколения машин с искусственным интеллектом. Почти за полвека до того, как компьютер «Deep Blue» разгромил чемпиона мира по шахматам, Шеннон смог оценить и использовать возможности шахмат как своего рода экспериментальную площадку для умных машин и их создателей. «Машина, играющая в шахматы, это идеальная стартовая модель, потому что: (1) проблема четко определена как в доступных операциях (ходах), так и в конечной цели (шах и мат); (2) она не столь проста, чтобы быть банальной, и не слишком сложна для того, чтобы получить приемлемое решение; (3) шахматы в целом – это игра, требующая умения “мыслить"; и решение данной проблемы вынудит нас либо признать возможность машинизированного мышления, либо сузить в дальнейшем наше представление о “мышлении” как таковом; (4) дискретная структура шахмат хорошо вписывается в цифровую природу современных компьютеров». Шеннон верил, что, по крайней мере, в области шахмат неодушевленные машины имеют изначальные преимущества перед человеком. Самые очевидные – это скорость обработки информации, намного превышающая возможности человеческого мозга, и бесконечные способности к вычислению. Кроме того, искусственный интеллект не будет подвержен скуке или усталости. Он станет продолжать вгрызаться в шахматные позиции, когда человек уже полностью потеряет концентрацию. Компьютеры были, по мнению Шеннона, «свободны от ошибок». Их единственные слабые места – это «недоработка программы, в то время как люди в процессе игры постоянно совершают очень простые и очевидные ошибки». Это касалось и огрехов психического состояния: компьютерам не грозили нервные срывы или самонадеянность – два недостатка у игроков-людей, приводивших к фатальным ошибкам в игре. Робот-игрок мог играть в шахматы без эмоций и настроя, демонстрируя беспристрастную игру, в которой каждый ход был просто новой математической задачей. Но – и Шеннон подчеркивал это – «эти качества должны быть уравновешены гибкостью, воображением, а также индуктивными и образовательными способностями человеческого мозга». Заметной уязвимостью машины, играющей в шахматы, считал Шеннон, была ее неспособность учиться в процессе, что, по его мнению, было ключевым для победы на самых сложных уровнях. Он приводит здесь высказывание Ройбена Файна, американского гроссмейстера, по поводу неверного представления людей о ведущих шахматистах и их подходе к игре: «Очень часто люди думают, что профессионалы предвидят все или почти все… что каждый шаг математически просчитан, вплоть до того, что ладейная пешка одного игрока проходит в ферзи раньше, чем пешка его противника, стоявшая рядом с конем. Все это, конечно, чистая фантазия. Лучше всего просчитывать возможные последствия на два шага вперед, но при этом пытаться вырабатывать комбинации по ходу». Осваивая варианты каждой возможной позиции, компьютер, играющий в шахматы, будет тогда не просто выполнять функцию всесильного гроссмейстера, а всего лишь качественно иного типа игрока. По сути, человек и компьютер будут играть в две разные игры, сидя за одним столом. Поэтому Шеннон предостерегал против того, чтобы программировать компьютеры так, чтобы они вели себя в точности как люди: «Это вовсе не означает, что мы должны выстраивать стратегию в соответствии с нашим собственным видением. Скорее, она должна совпадать с возможностями и недостатками компьютера. Компьютер силен своей скоростью и точностью и слаб в аналитических способностях и узнавании». Компьютеры следовало оценивать, исходя из их собственных сильных и слабых сторон, а не как «заменителей человека». То, что дальше следовало в его статье и что позднееШеннон популяризирует в менее специализированной статье для журнала Scientific American, представляло собой ряд алгоритмов, которые можно было ввести в компьютер в виде программы – сценарий превращения машины в хорошего, если не сказать отличного игрока. По общему признанию, это было обширное исследование: Шеннон изучал последствия каждого возможного шага; рассматривал подходы, применяющиеся в теории игр; описывал в общих чертах, как машина может справляться с оценочными шагами. В итоге он пришел к выводу, что компьютер можно запрограммировать, чтобы он идеально играл в шахматы, но такой исход будет крайне непрактичным. Это являлось, в некотором смысле, границей технологий того времени: если бы целью компьютера было просчитать все возможные ходы за себя и своего противника, то он не продвинул бы свою первую пешку, как просчитал Шеннон, в течение 1090 лет. Статья Шеннона, посвященная компьютерным шахматам, как и его статья по теории информации, служила своеобразной программой действий для зарождающейся области знаний. Шеннон еще при жизни сможет увидеть результаты этих трудов. Он будет использовать машину в качестве шахматного игрока, заставив его взволнованную жену сделать следующий комментарий: «Клод окончательно помешался на этом». Но он пошел дальше: ответ Шеннона Мальзелю, как можно было бы это назвать, явился в виде машины, которую он сконструировал лично. Окончательно завершенная в 1949 году, она имела два названия – «Эндгейм» и «Кайссак» (в честь богини – покровительницы шахмат, Каиссы). Машина Шеннона могла оперировать только шестью шахматными фигурами и концентрироваться на заключительных ходах игры. Свыше 150 релейных переключателей было задействовано для расчета хода, что позволяло машине принимать решение за вполне приемлемые десять-пятнадцать секунд. Упоминания об этой машине практически отсутствуют в официальных хрониках жизни Шеннона. Она хранится в музее МТИ и в памяти самых близких ему людей. На поверхности машины был выгравирован узор в виде шахматной доски. Как только компьютер определял верный ход, мигающие огоньки указывали пользователю его выбор. Это был, по некоторым оценкам, первый в мире компьютер, играющий в шахматы. Этот эксперимент в очередной раз продемонстрировал склонность Шеннона конструировать своими руками то, что он поначалу замышлял на бумаге. Для Шеннона и его статья о шахматах, и компьютер, играющий в шахматы, также давали ответы на вопросы экуменического характера. Как нам следует относиться к «мыслящим машинам»? Могут ли машины думать так, как мы? А хотим ли мы этого? Каковы плюсы и минусы искусственного интеллекта? Шеннон дал взвешенный ответ, из которого становится понятно, что сам он не пришел к каким-то четким заключениям: «С точки зрения бихевиоризма, машина действует так, как будто она способна мыслить. Считается, что умелая игра в шахматы требует способности мыслить логически. И если мы будем оценивать процесс мышления как атрибут сторонних действий, а не присущий системе, тогда можно смело утверждать, что машина, конечно же, думает».
Мысль о том, что машина никогда не сможет превзойти своего создателя, была «просто глупой логикой, ошибочной и некорректной».Со временем Шеннон стал еще более позитивно настроен в отношении того, что искусственный мозг способен превзойти биологический. Пройдут десятки лет, прежде чем программисты сконструируют шахматный компьютер, играющий на гроссмейстерском уровне, базируясь на тех знаниях, что заложил Шеннон. Но он всегда знал, что такой исход неизбежен. Мысль о том, что машина никогда не сможет превзойти своего создателя, была «просто глупой логикой, ошибочной и некорректной». Он продолжал: «Вы можете создать вещь, которая будет умнее вас. Ум в этой игре частично основан на времени и скорости. Я могу построить нечто, что сможет оперировать гораздо быстрее моих нейронов». И в этом не было ничего мистического: «Я считаю, что человек – это машина. Нет, я не шучу. Я думаю, что человек – это машина очень сложного рода, отличного от компьютера, т. е. иной организации. Но ее легко воспроизвести – оно обладает примерно десятью миллиардами нервных клеток, или 1010 нейронов. И если вы смоделируете каждый из них с помощью электронного оборудования, получившаяся система будет работать, как человеческий мозг. Если вы возьмете голову [Бобби] Фишера и создадите ее модель, она будет играть, как Фишер».
25. Конструктивная неудовлетворенность
Шеннон почти не оставил после себя мемуаров. Но наиболее близкой к автобиографическим высказываниям можно назвать беседу, которую он провел в аудитории «Лабораторий Белла» в тот же год, когда Тесей был впервые представлен широкой публике. Как можно догадаться, это был тот откровенный разговор, который, не касаясь эпизодов биографии ученого или его частной жизни, был тем не менее важен для него и давал представление о работе его мысли. Лекция, которая называлась «Креативное мышление», стала фактически коротким семинаром, посвященным исследованию картины мира глазами гения уровня Шеннона. В каком-то смысле на взгляд такого человека мир выглядит явно неравноценным. «Очень маленький процент населения вырабатывает большую часть важных идей, – начал Шеннон, показав в сторону графика распределения интеллекта. – Есть люди, которым выстрелишь одну идею, а они в итоге выдадут лишь половину. Есть другие, которые вырабатывают две идеи взамен одной полученной. Это люди, стоящие вне колена кривой». Он тут же быстро добавил, что не причисляет себя к аристократам интеллекта – он говорит лишь об избранном круге Ньютонов и Эйнштейнов. Находясь в аудитории, где собрались самые талантливые молодые ученые Америки, он, конечно же, не мог не коснуться предпосылок появления гения. Мы можем предположить, что он и дальше продолжал скромничать. Но в любом случае, даже если эти предварительные условия – наличие таланта и получение необходимого обучения – соблюдены, будет не хватать третьего компонента, без которого мир получит изрядную долю компетентных инженеров, но не обретет ни одного истинного новатора. В этом месте Шеннон, вполне естественно, говорил довольно расплывчато. Это свойство «мотивации… некое желание найти ответ, желание выяснить, как устроена та или иная вещь». Для Шеннона это было необходимым условием: «Если у вас этого нет, вы можете быть самым обученным и умным человеком в мире, но у вас не будет вопросов, и вы не станете искать на них ответы». И в то же время сам он был не способен определить источник этого желания. Как он сам сформулировал: «Вероятно, это вопрос характера, может быть, вопрос раннего обучения и раннего детского опыта». И наконец, не в силах дать четкого определения этому феномену, он ограничился чувством любопытства. «Глубже об этом я не задумывался». И все же великие идеи возникают не из чистого любопытства, а скорее из неудовлетворенности – не депрессивной (которую он тоже испытывал в свое время), а скорее «созидательной, конструктивной неудовлетворенности», напоминающей «легкое раздражение, когда вещи выглядят не совсем правильно». Это был, по крайней мере, удивительно несентиментальный портрет гения: гений – это просто тот, кто раздражен продуктивно. И наконец, гений должен наслаждаться процессом поиска решения проблемы. Возможно, Шеннону казалось, что, несмотря на то, что его окружали люди равного с ним уровня интеллекта, не каждый испытывал одинаковую радость в момент приложения своего ума. Что касается его самого, то он говорил: «Я испытываю громадное наслаждение, когда у меня получается доказать математическую теорему. Если я бился над этим неделю или больше и наконец получил решение, я испытываю дикий восторг. И для меня большой стимул, когда я вижу, как можно умно решить ту или иную инженерную проблему, разработать умный проект микросхемы, с которой будет задействовано очень маленькое количество оборудования и достигнут гораздо больший результат». Другими словами, Шеннон говорил об «удовольствии видеть конечный результат».Шеннону казалось, что, несмотря на то, что его окружали люди равного с ним уровня интеллекта, не каждый испытывал одинаковую радость в момент приложения своего ума.Предположим, что человек наделен нужной долей таланта, образованности, любопытства, творческого зуда и умения наслаждаться процессом творчества. Как такой человек будет решать реальную математическую или инженерную задачу? Здесь Шеннон был более конкретен. Он предложил шесть стратегий, и та легкость, с которой он ознакомил свою аудиторию с ними – рисуя на доске для наглядности буквы «П» как проблемы и «Р» как их решения, – говорит о том, что все это было подробно обдумано им ранее. Вы можете, сказал он, начать с упрощения: «Почти каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, скрыта за массой самой разной посторонней информации. И если вам удастся разложить эту проблему на основные вопросы, вы сможете более четко увидеть то, что вам нужно сделать». Конечно, упрощение – это отдельное искусство: оно требует особого умения вычленить все ненужное, за исключением того, что представляет реальный интерес. Здесь нужно чутье, чтобы разграничить случайное и суть, достойную схоластического философа. Так, к примеру, с позиции теории информации Шеннона различие между радио и геном просто случайное, а различие между произвольно подброшенной монетой и монетой, подброшенной определенным образом, имеет существенное значение. Не справившись с этой сложной работой по упрощению, вы можете попробовать предпринять шаг номер два: охватить вашу проблему существующими ответами на похожие вопросы, а потом проследить, что объединяет все эти ответы. На самом деле, если вы настоящий специалист, «ваша ментальная матрица» будет заполнена этими «П» и «Р» – словарем с уже отвеченными вопросами. Можно назвать это изобретательным инкрементализмом или, как выразился Шеннон, «оказывается, гораздо легче сделать два маленьких прыжка, чем один большой, и не важно, каким видом интеллектуальной деятельности вы заняты». Если вы не можете упростить или решить проблему с помощью похожих вариантов, попробуйте переформулировать вопрос: «Замените слова. Измените точку зрения… Отойдите от определенных ментальных групп, которые заставляют вас смотреть на проблему строго определенным образом». Избегайте «привычных ментальных шаблонов». Другими словами, не становитесь заложником прошлого опыта, той работы, которую вы уже осуществили. Вот почему «те, кто только знакомится с проблемой», иногда решают ее с первой попытки: они не отягощены теми предубежденностями, которые накапливаются со временем. Четвертое: математики обнаружили, что один из самых действенных способов изменить точку зрения – это провести «структурный анализ проблемы», то есть разложить многоплановую проблему на мелкие составляющие. «Многие математические доказательства фактически были получены с помощью обходных путей, – подчеркивал Шеннон. – Человек начинает доказывать свою теорему и обнаруживает, что ходит по кругу. Он берется за работу с удвоенной силой и получает массу хороших результатов, которые в итоге не приводят его ни к чему, а затем неожиданно находит решение данной проблемы, зайдя с черного хода». Пятое: проблемы, которые нельзя проанализировать, все равно можно перевернуть. Если вы не можете воспользоваться имеющимися у вас предпосылками, чтобы доказать сделанное заключение, просто представьте, что это заключение уже верно, и посмотрите, к чему это приведет – попробуйте доказать предпосылки. И наконец, как только вы найдете свое «Р», с помощью одного из этих методов или с помощью любого другого, не торопитесь и посмотрите, как оно работает. Математические решения, которые работают в малом, как оказывается, работают и в большом. «Типичная математическая теория разрабатывается для того…. чтобы получить очень ограниченный, узконаправленный результат – конкретную теорему. Но кто-то всегда появится походу и начнет делать обобщения». Так почему бы вам не сделать это самому? Надо сказать, что в каждом из этих методов нельзя не заметить след работы Шеннона: то существенное упрощение, которое превратило компьютерные реле в условное обозначение для языка логики, или то масштабное обобщение, которое выявило правила, лежащие в основе каждой системы связи. И все же одно дело – облечь эти способы мышления в слова, и совсем другое – жить внутри них. Шеннон, похоже, понимал и это: «Думаю, что хорошие исследователи применяют все эти вещи неосознанно, то есть делают это автоматически». Далее он выразил свою привычную рационалистическую точку зрения, что любой ученый извлечет пользу, если будет давать названия своим инструментам, делая неосознанные вещи осознанными. Но если бы это действительно было так просто, то почему «самый маленький процент населения вырабатывает самую существенную долю важных идей»? Если в аудитории и возникло какое-то напряжение, когда он завершил свою речь и пригласил присутствующих подойти поближе и рассмотреть его новое изобретение, над которым он работал, то это были сомнения, которые испытывал сам Шеннон, колеблясь между открытостью публике и размышлениями исследователя-одиночки. Существует известная научная статья на тему философии ума под названием «Каково это – быть летучей мышью?». Примерный ответ – мы не имеем об этом никакого представления. А каково это – быть Клодом Шенноном?
Часть 3
26. Профессор Шеннон
МТИ сделал первый шаг: в 1956 году университет попросил одного из своих самых знаменитых питомцев, Клода Шеннона, поработать в Кембридже в течение одного семестра в качестве приглашенного профессора. Возвращение в те места, где он когда-то учился, оказало некое живительное воздействие на Клода и Бетти. Во-первых, Кембридж был центром всеобщей активности, по сравнению с довольно сонным предместьем Нью-Джерси. А Бетти он также напомнил об их жизни на Манхэттене, когда выйти пообедать означало погрузиться в городскую сутолоку. Работа в академическом заведении также имела свои прелести. «Сама структура университетской жизни подразумевает отсутствие монотонности и скуки, – писал Шеннон. – Новые лекции, каникулы, разнообразные учебные мероприятия вносят существенное разнообразие в местную жизнь». Читая эти обезличенные строки, можно было и не заметить растущую скуку самого Шеннона. Преподавательская работа оказалась для него на удивление приятной переменой. Письмо Шеннона своим коллегам из «Лабораторий Белла» дает представление о его новой жизни в качестве профессора: «Я с удовольствием работою здесь, в МТИ. Семинар проходит очень хорошо, но требует большой работы. Поначалу я надеялся, что мне дадут удобную маленькую группу примерно из восьми или десяти способных студентов, но в первый же день ко мне заявилось сорок человек, включая многих представителей МТИ, Гарварда, нескольких претендентов на докторскую степень и довольно большое количество инженеров из ”.Лаборатории Линкольна”… У меня два полуторачасовых занятия в неделю, и реакция аудитории исключительно хороша. Почти все на 100 процентов понимают то, о чем я говорю. Я допустил ошибку в порыве щедрости, когда в самом начале согласился прочитать изрядное количество лекций на коллоквиумах и т. д. А теперь, когда занятия идут вовсю, я понимаю, что мне совсем не хватает времени. Все здесь очень интересуются теорией информации, и предстоит большая работа как на факультете, так и среди выпускников, специализирующихся в этой области». Аудитория на лекциях Шеннона была максимально подготовленной, как он, вероятно, и надеялся. «Те вопросы, которые возникали в процессе обсуждения, у меня создали весьма благоприятное впечатление о тех, кто посещает мои занятия, – писал Шеннон другому своему партнеру по переписке. – Пока лекции не стали для меня рутиной. Напротив, мне нравится заниматься этим, но думаю, что через месяц-другой новизна исчезнет». Такое бодрящее ощущение интеллектуальной новизны возникало не в последнюю очередь и потому, что Шеннон никогда не занимался преподавательской работой в формальном смысле этого слова. Для него это также стало возможностью вновь заняться любимым делом: свободный от большинства своих профессиональных обязательств, Шеннон мог использовать каждую свою беседу, чтобы глубже погрузиться в тему, представлявшую для него личный интерес. Семинар по теме «Теория информации», который прошел весной 1956 года, раскрыл широкий диапазон таких вопросов. Во время лекции под названием «Надежные машины из ненадежных компонентов» Шеннон представил следующую проблему: «В случае, когда жизни людей зависят от успешной работы машины, трудно определить допустимо низкую вероятность неудачи и, самое главное, неправильно было бы ставить судьбы людей в зависимость от успешности работы отдельных компонентов, какими бы надежными они ни были». Далее следовал анализ корректирующих и предохранительных механизмов, которые могли бы решить подобную дилемму. На другой лекции «Проблема комплексности идей» Шеннон размышлял над причастностью теории информации к незаконным азартным играм: «Следующий анализ, представленный Джоном Келли, появился после того, как автор узнал из новостей о том, что люди делают ставки, победит ли участник телевизионной программы “Вопрос на 64 000 долларов”. Похоже, что один предприимчивый игрок на западном побережье, где телевизионное вещание идет с запозданием на три часа, получал подсказки по телефону еще до того, как начиналась местная телетрансляция. Возникает вопрос, насколько хорошо справлялся бы этот игрок, если бы канал связи, по которому он получал свои подсказки, был с помехами». И далее все в таком роде. На его лекциях аудитории были переполнены, туда приходили многие члены факультета, которые были заняты своими собственными новаторскими исследованиями. Похоже, что Шеннон со своими идеями притягивал даже самых выдающихся личностей МТИ, отвлекая их от работы. От предложения перейти на постоянную работу и переехать в Массачусетс отказаться было сложно. Приняв его, Шеннон стал бы именоваться профессором наук в области связи и профессором математики на штатной должности, начиная с 1 января 1957 года, с зарплатой 17 000 долларов в год (примерно 143 000 долларов на 2017 год). Несмотря на всю притягательность университетской жизни, Шеннон с трудом делал свой выбор. На тот момент «Лаборатории Белла» были его профессиональным пристанищем уже более пятнадцати лет. Здесь прошли его самые продуктивные годы как исследователя и мыслителя. Здесь ему предоставили неслыханную интеллектуальную свободу и поддерживали в самых смелых начинаниях. Но Шеннон был экзотикой для культуры «Лабораторий»: его причуды терпели, но это был лишь вопрос времени, чувствовал Шеннон, когда-нибудь терпение руководства закончится. Как он писал своему руководителю, Хендрику Боуду: «Мне всегда казалось, что та свобода, которую мне предоставили [в “Лабораториях"], была особо оказанной мне честью».«Лаборатории Белла» не уступали и даже превосходили МТИ по уровню мышления, и Шеннон признавал это.В «Лабораториях Белла», вполне понятно, считали по-другому. Они сделали Шеннону встречное предложение, щедро подняв ему зарплату. Но в конечном счете не это повлияло на его выбор. Прошение об уходе с профессорской должности было обдуманным и взвешенным решением в пользу «Лабораторий». «Я определенно нахожу множество преимуществ в “Лабораториях Белла”, – пишет Шеннон. – Возможно, в числе самых важных это свобода от преподавательской деятельности и других обязанностей, которые будут заметно отвлекать меня от исследовательской работы». Шеннон признавался, что «Лаборатории» предложили ему больше денег, чем МТИ: «Хотя разница в моем случае была не слишком велика и лично для меня гораздо важнее были другие моменты». Немного удаленное местоположение «Лабораторий Белла», расположенных в Нью-Джерси, было само по себе неудобным. «Заметная уединенность и изолированность “Лабораторий Белла” имеет как плюсы, так и минусы. Это существенно сокращает число посетителей, отвлекающих от работы, но в то же время отсекает множество интересных контактов. Иностранные гости часто проводят всего один день в “Лабораториях” и целых полгода в МТИ. Это дает возможность для реального обмена идеями». «Лаборатории Белла» не уступали и даже превосходили МТИ по уровню мышления, и Шеннон признавал это. «Но общая свобода академической жизни, на мой взгляд, является одним из самых важных факторов. Долгие отпуска чрезвычайно привлекательны, как и общее ощущение неограниченности во времени работы». Два этих института были «примерно на равных», что означало отсутствие какого-то решающего фактора в пользу МТИ, только вполне понятное чувство непоседливости со стороны Шеннона, проведшего в стенах одного заведения более полутора десятка лет. «Проведя пятнадцать лет в “Лабораториях Белла”, – пишет Шеннон, – я чувствую себя немного закосневшим и непродуктивным, и смена обстановки и коллег подействовала на меня очень стимулирующе».
Проведя пятнадцать лет в «Лабораториях Белла», – пишет Шеннон, – я чувствую себя немного закосневшим и непродуктивным.Связи Шеннона с «Лабораториями» оказались в итоге слишком сильными, чтобы их можно было просто обрубить. Шеннон работал там в штатной должности. Как отмечал впоследствии Билл Бейкер, президент «Лабораторий Белла», беседуя с Генри Поллаком: «Шеннон – один из величайших людей, которыми славятся “Лаборатории”. Я не допущу того, чтобы он когда-либо нуждался». Поллак позднее шутливо заметит, что это было в духе «Лабораторий»: «В “Лабораториях Белла” было два типа исследователей: те, которым платили за то, что они когда-то делали, и те, которым платили за то, что они собирались сделать. Никто не получал денег за то, что делал в настоящее время». Возможно, в надежде на его возвращение для Шеннона держали его кабинет, и табличка с его именем украшала закрытую дверь. Приняв предложение МТИ, Шенноны переехали в Кембридж. Но прежде была Калифорния: годичная работа в Стэнфордском центре углубленного изучения бихевиоризма. Каким бы престижным ни было это назначение, Шенноны в первую очередь рассматривали его как возможность увидеть страну. Они с удовольствием отправились в поездку на микроавтобусе по национальным паркам запада в сторону Калифорнии и обратно. Подобно большинству профессоров, прибывавших сюда с восточного побережья, Шеннон восхищался Пало-Альто и, как говорят, открыто удивлялся тому, как можно работать, не отвлекаясь, в таком роскошном окружении. Вскоре после этого он порекомендовал тот же маршрут поездки своему коллеге: «Ты увидишь божественные места; все, что тебе нужно там, это большой белый фартук, поварской колпак и барбекю – и считай, что ты собран».
Но прежде чем отправиться на Запад, Клод и Бетти купили дом в Винчестере, штат Массачусетс, по адресу Кембридж-стрит, 5, в спальном районе, в двенадцати километрах к северу от МТИ. Как только их калифорнийский год подошел к завершению, они вернулись в свой новый дом. В Винчестере Шенноны находились достаточно близко к кампусу, что позволяло быстро добраться до работы, но в то же время достаточно далеко, чтобы жить по большей части изолированно от других. Они жили в доме, имевшем историческую ценность, что особенно примечательно в свете биографии Шеннона и его интересов. Этот дом был построен в 1858 году и предназначался Эллен Дуайт, правнучке гениального изобретателя более ранней эпохи, Томаса Джефферсона. Изначально он располагался на двенадцати акрах и был спроектирован по образцу усадьбы Монтичелло. «Окруженный с трех сторон верандой с сегментированными отверстиями и закругленными опорами», этот дом в три этажа величественно возвышался на вершине «обширного зеленого холма, спускающегося к лесистым берегам озера Аппер-Мистик». Ближе к концу жизни Шеннона он был внесен в национальный реестр исторических мест США со ссылкой, в которой отмечались «панорамные виды озера и отдаленных холмов», а также роскошные интерьеры дома: «Композиционным центром дома является восьмиугольная комната на первом этаже. Говорят, что паркетный пол в ней уложен в точности тем же узором, что и в усадьбе Монтичелло. На изысканной облицовке камина из желтого мрамора присутствует декор из листьев аканта, гидрофила и ионики. Потолки помещений первого этажа имеют высоту примерно в двенадцать футов и по всему периметру украшены декоративными гипсовыми узорами. Окна нижнего этажа панорамные, они открывают доступ на веранду. В расположенном справа кабинете/библиотеке стоит камин, отделанный зеленым мрамором». Дом станет впоследствии неотъемлемым элементом публичной жизни Шеннона. Почти в каждом посвященном ему материале, начиная с 1957 года, его помещали в доме на озере – обычно в двухэтажной пристройке, которую Шеннон построил в качестве многофункционального помещения, где он хранил и выставлял свои технические приспособления – пространство информационной активности, которое часто называли «комнатой для игрушек». Но для его дочери Пегги и двух ее старших братьев это была просто «папина комната». Шенноны называли свое жилище «домом энтропии». Статус Клода как математического светила сделали дом местом паломничества студентов и коллег, особенно когда преподавательские обязанности ученого заметно сократились.
Но даже в МТИ Шеннон умудрялся концентрировать свою работу вокруг собственных хобби и интересов. «Несмотря на то что он оставался научным руководителем у своих студентов, он не мог работать с кем-то в связке, так как всегда немного дистанцировался от своих коллег», – писал один из членов факультета. Не обладая особыми академическими устремлениями, Шеннон не испытывал потребности публиковать свои научные труды. Он отрастил бороду, начал бегать по утрам и снова принялся «мастерить».
А еще было кресло-подъемник, которое перевозило удивленных гостей от крыльца дома к берегу озера.Результатом этой работы стали самые изобретательные и причудливые проекты Шеннона. Например, труба, которая выстреливала огнем из раструба, когда на ней начинали играть. Сделанные вручную одноколесные велосипеды в самых разных вариациях: велосипед без сиденья, велосипед без педалей, велосипед для двух ездоков. Был довольно странный одноколесный велосипед со смещенным центром, который вынуждал ездока двигаться вверх и вниз, крутя педали. Это также заметно осложняло Шеннону процесс жонглирования. (Странный одноколесный велосипед стал первым подобным изобретением. Но какой бы оригинальной ни была эта идея, ассистент Шеннона, Чарли Меннинг, постоянно опасался за безопасность шефа, хоть и вынужден был аплодировать, когда наблюдал первую его успешную поездку.) А еще было кресло-подъемник, которое перевозило удивленных гостей от крыльца дома к берегу озера. Машина, собиравшая кубик Рубика. Машины, играющие в шахматы. Собранные вручную роботы, большие и маленькие. Наконец-то Шеннон мог заняться своим любимым делом. Оглядываясь назад, Шеннон называл эти занятия счастливыми и бесцельными: «Я всегда старался преследовать свои интересы без оглядки на их финансовую ценность или ценность для мира. Я потратил уйму времени на совершенно бесполезные вещи». Что характерно, он не делал различий между своим интересом к сфере информации и увлечением одноколесными велосипедами. Все они были звеньями одной цепи. Десятилетия спустя Роберт Галлагер позволит себе комментарий, в котором отразится мнение многих выдающихся умов того времени относительно личных причуд Шеннона: «Это были те вещи, которые нормальные крупные ученые не делают!» Галлагер был учеником Шеннона, и эта ремарка была сделана с симпатией и всего лишь шутливым возмущением. Но нетрудно представить, что более скептически настроенные современники Шеннона поражались тому, о чем думает легенда «Лабораторий Белла». В любом случае в МТИ с ним связывали большие ожидания. Ему выделили именную кафедру, штатную должность и предоставили возможность работать одновременно в двух департаментах – математическом и инженерном. «Его действительно превозносили. Он должен был стать тем корифеем, который поведет департамент электрической инженерии в светлое будущее теории информации», – говорил Тренчард Мур, бывший студент Шеннона. Изначально, похоже, сам факт присутствия Шеннона в МТИ вызывал восторг. Иметь такого человека, как он, в числе сотрудников факультета было знаком отличия. Само его имя привлекало сюда энергичных и перспективных выпускников, которые бы в ином случае отправились в другое место. Лен Клейнрок, выпускник того периода, вспоминал, что появление Шеннона в МТИ повлияло и на его выбор дальнейшей программы обучения: «Если я планирую потратить три-четыре года на защиту докторской диссертации, то я выберу самого лучшего, на мой взгляд, профессора. И при этом я хочу иметь стимул работать. Я знал, что лучшим профессором был Шеннон». И Клейнрок был не единственным, кто придерживался подобного мнения: выпускники, чьей специализацией была теория информации, загорались, узнав о возможности поработать с человеком, который открыл эту область знаний. Но реальность оказалась, возможно, не такой блестящей. Те несколько подопечных, которых он, как куратор, взял под свое крыло в МТИ, видели его не часто. Когда его попросили взять больше студентов, Шеннон ответил: «Я не могу быть куратором. Я не могу давать советы кому бы то ни было. Я не уверен, что имею право советовать». И дело было не только в замкнутости Шеннона: мысль о том, чтобы обратиться за помощью к такому человеку, как Шеннон, заставляла трепетать даже самых способных студентов. Галлагер, который поступил в аспирантуру в МТИ в тот же год, когда Шеннон пришел на факультет, не решался попросить живую легенду внести его даже в предварительный список. «Я испытывал перед ним такой благоговейный страх, что с трудом мог заставить себя подойти к нему и заговорить! <…> У него было совсем мало студентов, работающих над докторской диссертацией, и я думаю, что частично это объяснялось тем, что, когда рядом с тобой в МТИ находится такая колоссальная фигура, как Шеннон, нужно иметь очень большое самомнение, чтобы попросить такого человека стать твоим руководителем!» Клейнрок выразился более лаконично: «Я всегда ощущал это как большую честь, и мне было немного неловко, что он захотел работать со мной!» Шеннон ненамеренно соответствовал этим представлениям и слегка дистанцировался от обычной академической жизни. Он не был членом учебных комитетов, положенных ему по статусу в рамках факультета, и даже нерегулярно появлялся в своем кабинете. Все его взаимодействие с коллегами обычно сводилось к неожиданным приходам на их лекции. Профессор Герман Хаус вспоминал одну из своих лекций, которую посетил Шеннон. «Я находился под большим впечатлением от его визита, – вспоминал Хаус, – он был очень добр и задавал нестандартные вопросы. На самом деле один из его вопросов заставил меня написать новую главу в той книге, над которой я тогда работал».
Для некоторых студентов возможность наблюдать за тем, как Шеннон рассуждает вслух, находясь в учебной аудитории, станет одним из определяющих моментов всей академической жизни.Шеннон тоже читал лекции в костюме и галстуке, как требовалось от профессоров МТИ в те дни. Время от времени он подбрасывал кусочек мела в воздух, отвечая при этом на вопросы студентов (поразительно, что он никогда не ронял мел). Тем не менее его лекции получали смешанные оценки. Часть студентов находили их увлекательными и лично убеждались в том, что Шеннон действительно выдающаяся личность. «Его лекции были как изысканное блюдо! Ты приходишь туда, и то, о чем он рассказывает, так ясно, так наглядно. Это была отменная математика, дававшая свои результаты», – отмечал Клейнрок. Для некоторых студентов возможность наблюдать за тем, как Шеннон рассуждает вслух, находясь в учебной аудитории, станет одним из определяющих моментов всей академической жизни. Однако все те трудности, с которыми сталкивается гений, когда пытается объяснить свои идеи и взгляды, становились очевидными во время лекций. Профессор, быть может, и получал удовольствие, делясь своими откровениями со студентами, но часть аудитории с трудом поспевала за ходом его мысли. Дэйв Форни, тогдашний студент Шеннона, заметил, что качество лекций профессора почти полностью зависело от сути проблемы, которую он обсуждал на лекции. «Какие-то вопросы он разбирал очень хорошо. В других же случаях у него фактически получалось только сформулировать вопрос, – отмечал Форни, добавляя: – Это было очень ценно для выпускников, которые выбирали тему своей диссертации». В какой-то степени даже те студенты, которые любили его лекции, понимали, что для Шеннона они были не столько возможностью поделиться специфическими знаниями, сколько шансом поразмышлять вслух, собрать вместе самых талантливых представителей МТИ и обсудить с ними проблему, представляющую для него личный интерес. «На своих лекциях он не занимался обучением, – вспоминал Клейнрок. – Не думаю, что ему это сильно нравилось. Он хорошо справлялся со своими обязанностями, но я думаю, что он хотел поделиться своим мнением со студентами, будущими докторами наук. Он был счастлив работать с ними, но не собирался повторять одно и то же с каждым новым поколением учеников». А вот еще воспоминания Галлагера: «Он не был тем преподавателем, который по окончании занятия говорит: “Итак, главное, что вы должны отсюда вынести – то-то и то-то”. Он говорил: “Вчера вечером я задумался над этим вопросом и пришел к выводу, что его можно рассмотреть с очень интересной точки зрения”. Он произносил это с лукавой усмешкой, а потом возвращался, демонстрируя абсолютно превосходную вещь». Вот таким был «профессор Шеннон»: слишком талантливым, чтобы быть понятым или проигнорированным. К тому времени он являлся уже, скорее, источником вдохновения, чем преподавателем. Или, как сказал один из его студентов: «Мы все относились к Шеннону как к богу».
Но нашлось несколько счастливчиков, которым удалось попасть под крылышко своего бога. Эти доверенные лица имели доступ в дом Шеннона в Винчестере и даже право предлагать свои интересные идеи. Вот как описывал Клейнрок свой первый контакт с Шенноном: «Он сказал: “Почему бы тебе не прийти ко мне в гости в следующую субботу и не навестить меня?” И я ответил: “Здорово”. Понимаете, я был всего лишь скромным студентом-выпускником. И я не мог поверить, что он приглашает меня к себе в гости!.. Помню, как я сказал своим коллегам: “Я собираюсь в гости к Шеннону!"». Шеннон вдохновлял и направлял, подталкивая людей к новым идеям и озарениям. Вместо того чтобы давать готовые ответы, он задавал наводящие вопросы; вместо решений предлагал определенные подходы к изучению той или иной проблемы. Как вспоминал его бывший студент Ларри Робертс: «Любимым приемом Шеннона было выслушать то, что ты хотел сказать, а потом просто добавить: “А что если…” – и затем предложить подход к решению проблемы, о котором ты даже не задумывался. Вот как он консультировал». Именно так Шеннон предпочитал учить: словно он был твоим попутчиком и напарником в решении задач, так же сильно, как и его студенты, желавшим найти новый маршрут или свежий подход к серьезной проблеме. Рассказы о встречах с Шенноном становились легендами, а его идеи и советы, которые он предлагал во время занятий, оставались в памяти его студентов десятилетия спустя. Одна история, о которой поведал Роберт Галлагер, отражает одновременно силу и тонкость подхода Шеннона к преподаванию: «У меня было, как мне казалось, весьма четкая исследовательская идея относительно создания гораздо лучшей системы связи, чем строили другие люди, со всеми примочками. Я пришел к нему, чтобы обсудить это, и сформулировал те проблемы, которые пытался проанализировать. И он взглянул на все это, немного озадаченный, и сказал: “А тебе действительно необходимо это предположение?” И я ответил: “Ну, думаю, что мы можем рассматривать данную проблему и без него”. И мы продолжили разбираться. Потом он снова спросил: “А это предположение обязательно для тебя?” И я тут же понял, что это упростит проблему, хотя поначалу это выглядело немного непрактично и даже казалось пустяком. А он продолжал в том же духе, повторив так пять или шесть раз. Не думаю, что он сразу же понял, что именно так следует решать эту задачу. Скорее всего, он просто нащупывал верный путь, но при этом у него было то чутье, благодаря которому он мог определить, какие части проблемы фундаментальные, а какие – просто детали. В какой-то момент я расстроился, потому что понял, что моя четкая исследовательская идея стала фактически тривиальной. Но в то же время, в определенный момент, отбросив все лишнее, мы оба поняли, как ее решить. А потом мы постепенно возвращали все эти маленькие предположения обратно и в итоге неожиданно увидели решение всей проблемы целиком. Вот именно так он и работал: находил самый простой пример чего-то, а потом разбирался, почему это работает и почему это был правильный подход». Другие студенты могли обнаружить, что их давно обскакали, и та область, которую они только начинали исследовать, уже давным-давно изучена этим выдающимся мыслителем. Ирвин Джейкобс, учившийся в МТИ в то время и ставший впоследствии учредителем компании Qualcomm, вспоминал: «Люди приходили, обсуждали новую идею и то, как они решают эту проблему. А потом он подходил к одному из своих картотечных шкафчиков и доставал оттуда какую-то неопубликованную статью, которая очень хорошо освещала весь этот вопрос!»
В отличие от большинства мужей и отцов середины прошлого века, Шеннон много времени проводил со своей семьей. Среди множества воспоминаний об отце одна важная деталь особенно отчетливо запечатлелась в памяти дочери Шеннона Пегги: «Он очень много работал дома, а в офис приходил, только чтобы прочитать лекции и встретиться со своими студентами. Но если ему не нужно было быть там, он не задерживался в МТИ. Поэтому мне казалось, что он все больше времени проводит дома. Это заметно отличало его от большинства работающих людей». «Дом энтропии» стал его офисом. Студенты заходили к нему, чтобы получить отзыв на свой проект. Но не менее интересно им было знать, что «винчестерский мудрец» готовил в своей собственной домашней лаборатории. Даже самые консервативные профессора и старожилы из «Лабораторий Белла» время от времени заезжали в Винчестер, и Шеннон водил их по комнатам, показывая коллекцию своих изобретений и необычных устройств. Гостей поражала коллекция книг, построенный им двухэтажный кабинет-мастерская, а также невероятный набор всяких причудливых штуковин и прибамбасов. Но не только его постоянное присутствие дома или коллекция электромеханических конструкций делали его непохожим на других отцов. Шенноны своим примером доказывали, что только такая семья с двумя равноправными партнерами, талантливыми математиками, и имеет право на существование. Например, когда нужно было решить, кто будет мыть посуду после обеда, Шенноны прибегали к маленькой игре: они заводили механическую мышку, ставили ее на середину обеденного стола и ждали, с какого края она свалится. А еще возникали моменты спонтанных «уроков математики». Как-то раз, когда у Шеннонов были гости, юная Пегги завладела коробочкой с зубочистками. Она хотела отнести их на веранду, но по дороге случайно уронила, рассыпав все на крыльце. Отец, стоявший рядом, помедлил, взял горсть зубочисток, а потом сказал: «А ты знаешь, что с их помощью можно высчитать число Пи?» Он ссылался здесь на «иглу Бюффона», знаменитый метод приближенного вычисления числа Пи: оказывается, если бросить иглы (или зубочистки) на пол, расчерченный параллельными прямыми, то, подсчитав долю отрезков, пересекающих прямые, можно приближенно определить число Пи. Но самое главное, вспоминала Пегги, папа совсем не рассердился на нее за то, что она намусорила.
Книгу «Алиса в Стране чудес», любимую многими математиками, постоянно цитировали. Особенно Шеннону нравились цитаты из главы про «Бармаглота».Обычно семейный досуг был связан с главными увлечениями родителей: шахматы и музыка были семейными хобби, а еще в семье каждый день что-то мастерили. Шеннон часто водил своих детей на цирковые представления. Книгу «Алиса в Стране чудес», любимую многими математиками, постоянно цитировали. Особенно Шеннону нравились цитаты из главы про «Бармаглота». Когда дело касалось решения сложных задач по математике, Пегги часто отправляли к папе, хоть это и было, по ее признанию, перебором: любой в семье, включая двух ее старших братьев, мог помочь ей. Отец, как она вспоминает, объяснял терпеливо и спокойно, хотя, бывало, он отвлекался, рассуждая о своем. Так, к примеру, он досадовал по поводу модного увлечения «новой математикой», упоминая такие понятия, как комплексные числа, и мог даже забыть, о чем просила его дочь.
Работа в МТИ, оставлявшая ему массу свободного времени, также позволяла ему периодически отвлекаться от его ежедневной работы над теорией информации, чтобы изучить картину цифрового мира. Те годы, по признанию Томаса Кайлата, занимавшегося под руководством Шеннона, были «золотым веком теории информации в МТИ», где Шеннон играл роль крестного отца и ключевой фигуры, пусть даже он уже и не был центральным участником действа. Даже не общаясь напрямую, Шеннон умел возбудить интерес других людей к избранной им области знаний и повести за собой новое поколение ученых. Как заметил Энтони Эфремидис, более поздний исследователь теории информации: «Интеллектуальное наполнение его методов было столь манящим, что многие из тех, кто собирался выбрать совсем другое направление, говорили: “О, мне нравится это! Прекрасный способ взглянуть на данный процесс, о котором я ничего не знал. И я хочу знать об этом больше”. Эта его не требующая особых усилий роль могла показаться потворством собственным желаниям, если не брать во внимание тот факт, что Шеннон, несмотря на весь свой юмор и безмятежность, был феноменально продуктивен к тому моменту, когда покинул «Лаборатории», перебравшись в МТИ. Со всей его нелюбовью к записыванию собственных мыслей, знаменитым чердаком, забитым незаконченными работами, а также бесчисленными гипотезами, которые он прокручивал в голове, не говоря уже о егознаменитой «Математической теории связи», названной в одной статье делом всей жизни, Шеннон умудрялся публиковать сотни страниц статей и аналитических записок, многие из которых открывали новые направления исследования в области теории информации. То, что он являлся автором эпохальных работ в других областях – переключательные схемы, криптография, шахматные программы, – и тот факт, что он мог стать генетиком-новатором, если бы захотел, было поразительным. И все же Шеннон был вынужден признать, что его собственные лучшие дни уже позади. «Я убежден, что ученые осуществляют свои главные исследования до пятидесяти лет или даже раньше. Я проделал большую часть моей лучшей работы, когда был молод», – говорил Шеннон. Эта уверенность в существовании негласного возрастного ценза применительно к математическому гению была присуща не одному Шеннону. Математику Г. X. Харди принадлежит знаменитая фраза: «Ни один математик никогда не должен забывать о том, что математика в большей степени, чем любое другое искусство или наука, является уделом молодых».
«Я убежден, что ученые осуществляют свои главные исследования до пятидесяти лет или даже раньше. Я проделал большую часть моей лучшей работы, когда был молод».Несмотря на то что существовали известные исключения из этого правила, Шеннон был убежден в том, что не окажется в их числе. Его коллега по «Лабораториям» Генри Поллак вспоминает, как приехал в гости к Шеннону в Винчестер, чтобы сообщить ему о новом направлении в науке о связи. «Я начал рассказывать ему об этом, и он поначалу заинтересовался. А потом вдруг сказал: “Нет-нет, я не хочу об этом думать. Я уже больше не хочу размышлять на эту тему”. На мой взгляд, это было начало конца в его случае. Он просто… он просто выключил себя». Но если Шеннон «выключил» себя в том, что касается дотошного, скрупулезного исследования темы, тогда он так же лишил себя возможности заметить и оценить со стороны зарождавшийся «век информации», который стал возможен благодаря его работе. Важнейшим наследием этой работы стали перенаправленные усилия его коллег. Прежняя эпоха подошла к концу – та эпоха, когда ученые-связисты были разделены, запертые в рамках своей узкой специализации и не способные помочь друг другу советом в той или иной области исследования. «Для любого ученого, который создавал системы связи до Шеннона, главным была попытка найти способ передать голосовое сообщение, информацию, подобно азбуке Морзе, – вспоминал Галлагер. – А Клод объяснил им, что не нужно переживать за все эти разные аспекты». Теперь все их переживания находили гораздо более продуктивный выход: кодирование, хранение и передача битов». «Как только все инженеры занялись этим, сразу же наметился существенный прогресс: они находили все лучшие и лучшие способы оцифровывания и хранения, а также передачи этих очень простых объектов, именуемых двоичными единицами информации, взамен таких очень сложных вещей, как форма голосового сигнала. Если взглянуть на проблему с этой точки зрения, то Шеннон действительно совершил цифровую революцию». И пусть он уже не застал эту начавшуюся революцию, лекции Шеннона в МТИ, его беседы и встречи с учеными в разных уголках страны уже тогда помогли создать общую картину будущего мира. Так, к примеру, во время своего выступления в Пенсильванском университете в 1959 году он сказал следующее: «Я думаю, что в этом веке мы в каком-то смысле будем наблюдать заметный подъем и развитие всей коммерческой сферы связи… сферы сбора информации и передачи ее из одной точки в другую и, возможно, самое важное – обработки информации, то есть использования ее с целью заменить человека на полумеханических операциях на заводе… и даже заменить человека в таких творческих сферах, как математика или перевод с одного языка на другой». Даже если подобные слова кажутся нам сегодня не особенно очевидными и значимыми, стоит вспомнить о том, что все это Шеннон говорил более чем за четверть века до появления мировой паутины, в то время, когда все компьютеры были еще фактически размером с комнату. Говорить в то время о «коммерческой сфере связи» было все равно, что говорить о мире скорее фантазий, а не реальности. Поэтому, несмотря на расхожее мнение, что лучшие идеи Шеннона были исчерпаны к 1948 году, подобное критическое отношение может увести нас от той обширной проделанной работы, отмеченной игривостью ума, что была визитной карточкой Шеннона. Сбросив со счетов того дилетанта, который провел большую часть своих зрелых лет, погрузившись в шахматы, машины и жонглирование, вы также перечеркнете тот любопытный гений, который изобрел информацию – все это рождалось из одного и того же источника.
27. Внутренняя информация
Одна из самых знаменитых легенд о Шенноне звучит так: вдохновленный математическими идеями, он разгадал код для игры на фондовой бирже. Обложившись старыми номерами Wall Street Journal, Шеннон приложил все свои интеллектуальные способности, чтобы разработать ряд алгоритмов, которые внесли бы ясность в рыночный хаос и позволили бы понять закономерность финансовых подъемов-спадов. Это сделало бы его богатым, а еще могло превратить в ведущего национального инвестиционного гуру, захоти он публично огласить свою стратегию. Как и большинство легенд, окружавших Шеннона, эта выросла из маленького зерна правды: в 1960-1970-е годы Клод и Бетти действительно активно играли на бирже. Данный процесс стал семейным увлечением, вспоминала Пегги Шеннон: «В основном разговоры в доме крутились вокруг фондовой биржи, потому что… родителей очень интересовало, что происходит на рынке. Они с раннего возраста приучили меня читать журнал Wall Street Journal и изучать биржевые сводки. Я спускалась вниз, открывала газету, и они просили меня почитать, так как зрение у меня было получше, чем у них. И это был способ занять детей… В итоге они установили маленький личный компьютер, чтобы вносить котировки в течение дня, а потом вновь сверять их в конце дня. И весь дом был заполнен распечатками с биржевыми котировками». К тому времени семье не требовался дополнительный доход, полученный от игры на бирже. Помимо денег, которые платили Шеннону в МТИ и «Лабораториях Белла», он также был учредителем ряда технологических компаний. Один из его бывших коллег, Билл Харрисон, убедил Шеннона вложиться в его компанию, «Харрисон Лабораториз», которая впоследствии была приобретена компанией «Хьюлетт-Паккард». Приятель Шеннона по колледжу Генри Синглтон ввел Шеннона в совет директоров созданной им компании, «Теле-дайн», которая со временем превратилась в огромную промышленную корпорацию с доходом в миллиарды долларов. По словам Шеннона, он вложился в компанию Синглтона просто потому, что «был хорошего мнения о нем». Если бы можно было назвать тех людей, что стояли у истоков зарождения Силиконовой долины, своеобразным элитным клубом, то Клод Шеннон был там завсегдатаем со всеми положенными ему привилегиями. Но и сам клуб получал дивиденды, имея в своих рядах такого члена, как Шеннон: он выполнял функцию неформального консультанта. Так, к примеру, когда «Теледайн» получила предложение о приобретении компании, занимающейся распознаванием речи, Шеннон посоветовал Синглтону отказаться от него. Исходя из своего собственного опыта работы в «Лабораториях Белла», он сомневался в том, что процесс распознавания речи будет эффективен в ближайшее время: технологии находились еще в зачаточном состоянии, и он сам был свидетелем того, сколько времени и энергии было потрачено на это впустую. Годы консультаций окупились сполна, как для Синглтона, так и для самого Шеннона: за двадцать пять лет его вложения в «Теледайн» достигли ежегодного совокупного дохода в 27 процентов.Фондовая биржа была в каком-то смысле самым странным из поздних увлечений Шеннона. По общему признанию его близких и друзей, Шеннон был довольно равнодушен к деньгам. Кто-то рассказывал, что Шеннон снял все свои сбережения с текущего банковского счета, только когда Бетти настояла на этом. Один из его коллег вспоминал, что видел на столе у Шеннона в МТИ не обналиченный чек на крупную сумму. Со временем это дало основания для еще одной легенды: что его кабинет завален чеками, которые он забывает обналичить. В определенной степени интерес Шеннона к деньгам напоминал другие его страсти. Он не стремился накапливать богатство ради самого богатства, не было у него и жгучего желания приобретать какие-то изысканные вещи. Но деньги создавали рынки и математические задачи – проблемы, которые можно было проанализировать, интерпретировать и разыграть, как карты. Шеннона больше волновало не то, как потратить деньги, а связанные с ними увлекательные игры. Но в этой истории упустили, как водится, самое главное – упомянуть о Бетти. Фондовая биржа вызвала у нее в какой-то момент активный интерес, и именно Бетти, а не Клод, стала тем, кто подтолкнул семью к идее инвестировать. Она также распоряжалась семейными финансами. «Чековую книжку веду я», – призналась она как-то в одном из интервью. Пегги Шеннон вспоминала, что «их игра на бирже была итогом коллективных действий»: «Не было так, что у моего отца появлялись какие-то математические идеи относительно акций, и он размышлял, как воспользоваться ими, чтобы заработать деньги… Это всегда был совместный проект». И это стало возможным благодаря готовности обоих Шеннонов к риску. «Они были азартными игроками. Их не пугала перспектива принять рискованное финансовое решение», – рассказывала Пегги. Этот начальный интерес к фондовому рынку перерос в итоге во всепоглощающее увлечение. Они вдвоем – особенно Бетти – принялись жадно изучать книги на тему торговли ценными бумагами, размышляли над разными рыночными философиями и выстраивали возможные биржевые сценарии. Они узнали о многих самых успешных в истории инвесторах, включая Бернарда Баруха, Гетти Грин и Бенджамина Грэма. Они прочитали книгу Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», а также изучали работы фон Неймана и Оскара Моргенштерна по теории игр. Клод, вполне ожидаемо, разработал определенную схему, которая отражала механизм работы биржи. Когда Шеннон предложил выступить с лекцией в МТИ по теме фондовых бирж, то слух о его выступлении собрал такое количество народа, что пришлось занять самый большой лекционный зал университета. И даже там люди буквально висели на люстрах. Шеннон предложил теорию, которая бы позволила инвестору зарабатывать на падающем рынке акций за счет дневных колебаний курсов. На самый первый вопрос аудитории, воспользовался ли он своей теорией сам, Шеннон ответил: «О нет, комиссионные брокеров разорили бы вас». Эта беседа – вероятно, в большей степени, чем любое другое конкретное проявление удивительных финансовых способностей, – стала главным источником легенды о финансовом гении Шеннона. Впоследствии Шеннон поражался тому интересу, который вызвала его лекция. Когда данной темы коснулись в одном из его интервью, это, как ни странно, развеселило его: «Да, я проделал определенную роботу; связанную с теорией фондового рынка, которая относится к числу моих неопубликованных статей. Все хотят знать, что в них! [Шеннон смеется.] Это забавно. Я читал лекцию на эту тему в МТИ лет двадцать назад и кратко изложил математические принципы данной теории, но так и не опубликовал ее. А люди до сих пор спрашивают меня о ней. Не далее как в прошлом году, когда мы были в Брайтоне, ко мне неоднократно подходили люди и говорили: “Привет, я слышал, что вы рассказывали в МТИ о фондовом рынке!” Я был изумлен, что кто-то еще помнит об этом!» Но с любым, кто жаждал узнать одну крупную объединяющую теорию, которая бы объяснила рыночные колебания, Шеннон был краток и сразу же закрывал эту тему. Он и его жена были, по его собственным словам, «теоретиками, а не практиками». Шенноны развлекались, занимаясь техническим анализом, а потом обнаружили, что в нем есть потребность. Как сказал сам Шеннон: «Я думаю, что специалисты, которые так много работают с ценовыми графиками, отмечая фигуры “голова и плечи” и “линия шеи”, работают с тем, что я бы назвал шумным воспроизведением важной информации». Сложные формулы значили гораздо меньше, утверждал Шеннон, чем «люди и продукт» компании. Он продолжал: «Большинство людей смотрят на цену акций, в то время как они должны смотреть на саму компанию и ее доходы. Существует масса проблем, связанных с предсказанием стохастических процессов, например доходность компании… Мое общее ощущение, что проще выбрать те компании, которые в скором времени станут успешными, чем предсказать краткосрочные колебания цен, то, что длится недели или месяцы и что регулярно отражается в Wall Street Week. Там еще масса непредсказуемых моментов, которые невозможно предугадать, и это заставляет людей продавать или покупать кучу акций». Человеку, далекому от математики, подобный ответ мог показаться уклончивым. Но когда Шеннон использовал такие слова, как «стохастические процессы», он основывался на глубоком знании математических законов. По его мнению, тактика слежения за рынком и сложные математические расчеты уже не годились для солидной компании с явными перспективами роста и убедительными лидерскими качествами.
Бо́льшую часть его состояния составляли вложения в акции компаний «Теледайн», «Моторола» и «Хьюлетт-Паккард». Став одним из их учредителей, самое умное, что мог сделать Шеннон, это просто держать выбранный курс.Поэтому Шенноны при возможности старались лично оценить учредителей новой компании. Они тестировали образцы продукции и пилотные модели. Когда они размышляли над тем, стоит ли инвестировать в компанию Kentucky Fried Chicken, вспоминал Уильям Паундстоун, они купили несколько ведерок кур, чтобы оценить их вкус вместе со своими друзьями. Помимо научного исследования, был еще один фактор, который Шеннон с готовностью признавал как ключ к успеху. Когда его спросили, счастлив ли он в жизни, Шеннон ответил: «Даже больше, чем можно было надеяться». По его собственному признанию, ему повезло родиться в правильное время и быть лично знакомым с учредителями ряда компаний, что позволило удачно инвестировать деньги на раннем этапе. Большую часть его состояния составляли вложения в акции компаний «Теледайн», «Моторола» и «Хьюлетт-Паккард». Став одним из их учредителей, самое умное, что мог сделать Шеннон, это просто держать выбранный курс. Его дочь Пегги резюмировала все одной короткой фразой, которая так же могла принадлежать и ее отцу. Она сказала, что ее родители «использовали здравый смысл и связи и были удачливы». Если говорить о том заметном следе, что оставила работа Шеннона в области финансов, то это, скорее, его знаменитые афоризмы, многие из которых составляют часть легенд о Шенноне. «Я зарабатываю деньги, играя на фондовой бирже, доказательство теорем не приносит мне никакого дохода», – сказал однажды Шеннон Роберту Прайсу. А когда его спросили, какое направление теории информации наиболее перспективно для инвестирования, Шеннон пошутил: «Внутренняя информация».
28. Рай для изобретателя
Многие творения Шеннона, созданные им в свободное от работы время, были довольно эксцентричными – к примеру, машина, отпускавшая саркастические ремарки, или калькулятор с римскими цифрами. Другие же имели целью произвести заметный эффект на зрителей: труба, выпускающая пламя, или машина, собиравшая кубик Рубика. Но были и такие устройства, которые опередили технологии на несколько поколений. Одно из них заметно выделяется на общем фоне, но не только потому, что опередило свое время, а потому, что чуть было не создало Шеннону серьезные проблемы с законом – и с гангстерами. Задолго до появления часов Apple Watch или фитнес-браслетов Fitbit первый в мире носимый компьютер был задуман Эдом Торпом, в ту пору малоизвестным аспирантом-физиком Калифорнийского университета. Торп был тем редким типом ученого, который чувствовал себя одинаково легко и с вегасскими букмекерами, и с эрудированными профессорами. Он обожал математику, азартные игры и игру на бирже – примерно в таком порядке. Игровые столы и рынок акций он любил за тот вызов, который они бросали: можно ли создать предсказуемость на основе видимой случайности? Что может дать человеку преимущество в азартных играх? Но Торп не довольствовался одними лишь размышлениями на эту тему. Подобно Шеннону он решил найти и «сконструировать» ответы. В 1960 году Торп был преподавателем-стажером в МТИ. Он работал над теорией игры в блэкджек и результаты своей работы надеялся опубликовать в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Шеннон был единственным членом академии в математическом отделе МТИ, поэтому Торп обратился к нему. «Секретарь предупредила меня, что Шеннон даст мне всего несколько минут, не более, и что обычно он не тратит много времени на темы (или людей), которые ему неинтересны. Испытывая одновременно трепет и радость оттого, что мне повезло, я пришел в кабинет Шеннона и увидел там худого, энергичного человека среднего роста и телосложения с острыми чертами лица», – вспоминал Торп. Торп заинтересовал Шеннона своей работой по блэкджеку, тот лишь порекомендовал ему изменить название «Выигрышная стратегия для блэкджека» на более приземленное «Предпочтительная стратегия для игры в “двадцать одно”, чтобы произвести лучшее впечатление на консервативных рецензентов академии. Этих двоих объединяла одинаковая страсть – применять математику в незнакомых сферах в поисках неожиданных открытий. После того как Шеннон подробно расспросил Торпа о его работе, он задал ему следующий вопрос: «Работаете ли вы еще над чем-то в области азартных игр?» Торп признавался: «Я решил открыть ему еще один свой большой секрет и рассказать о рулетке. И мы стали подробно и живо обсуждать этот проект, обмениваясь своими идеями. По прошествии нескольких увлекательнейших часов, когда зимнее небо потемнело, мы наконец расстались, договорившись снова встретиться и поговорить о рулетке». Как написал один из журналистов: «Торп нечаянно направил одного из величайших умов века еще по одному пути». Торп сразу же был приглашен в дом Шеннонов. Подвальное помещение, вспоминал он, было «раем для изобретателя»: «Там были сотни разных механических и электрических приспособлений, таких как моторы, транзисторы, переключатели, блоки, зубчатые колеса, конденсаторы, трансформаторы и прочее». Торп был в восторге: «Наконец-то я встретил истинного изобретателя». Именно в мастерской-лаборатории они принялись разбираться, как играть в рулетку, заказав «лицензионную рулетку из Рино за 1500 долларов», стробоскоп и часы со стрелкой, вращавшейся один раз за секунду. Торп получил доступ в святая святых дома Шеннона. «Устройства были повсюду… У него был механический подбрасыватель монет, который можно было настроить на подброс монеты с заданным количеством переворотов, выдававший орла или решку по желанию. Ради шутки он сконструировал на кухне механический палец, который был соединен с лабораторией в подвале. Если потянуть за веревку, палец на кухне сгибался, подзывая к себе. Еще у Клода были качели длиной около 35 футов, привязанные к громадному дереву на склоне. Мы протянули качели с холма вниз, и нижняя их часть свешивалась на высоте примерно 15–20 футов над землей… Соседи Клода на озере Мистик время от времени удивлялись, увидев человека, “ходящего по воде”. Это был я, обутый в огромные “ботинки” из пенопласта, сконструированные Клодом для этой цели». И все же, по словам Торпа, гораздо больше его впечатлила загадочная способность хозяина дома «видеть» решение конкретной проблемы, не погружаясь в мучительные и долгие поиски. «Складывалось впечатление, что Шеннон мыслил идеями больше, чем словами или формулами. Новая задача была для него, как кусок камня для скульптора, а идеи Шеннона счищали все лишнее до тех пор, пока не появится подходящее решение, словно образ, который он продолжал улучшать новыми идеями». На протяжении восьми месяцев эти двое напряженно трудились, разрабатывая устройство, которое бы угадывало, в каком из секторов окажется шарик рулетки. Чтобы выиграть у казино, Торпу и Шеннону не нужно было угадывать точный исход каждый раз: им нужно было всего лишь добиться легкого преимущества над фактором случайности. Со временем и с достаточным количеством ставок даже маленькое преимущество умножилось бы в итоге до крупного выигрыша.Если бы Шеннона с Торпом поймали, то вряд ли владельца казино устроили объяснения двух профессоров из МТИ.Представьте себе колесо рулетки, поделенное на восемь секторов, или октантов. К июню 1961 года у Торпа и Шеннона была уже рабочая версия устройства, способного определить, в каком из этих октантов окажется шарик. Как только они пришли к выводу, что нашли достаточное преимущество, Шеннон потребовал от Торпа хранить их изобретение в строжайшей тайне. Он привел в пример работу теоретиков в области социальных связей, настаивавших на том, что два случайных человека связаны друг с другом через три знакомства. Иначе говоря, Шеннон, Торп и разъяренный владелец казино были совсем рядом. Прибор, который они изобрели, «был размером с пачку сигарет», Торп с Шенноном управляли им ногой – «у нас в ботинках находились микропереключатели», – а советы по игре передавались в виде музыки. Торп объяснял: «Один переключатель приводил в действие компьютер, а второй синхронизировал движения колеса и шарика. Как только удавалось отследить колесо, компьютер передавал один из музыкальных тонов, обозначавших октанты… Мы оба слышали музыкальный сигнал через крошечный динамик, помещавшийся в ухе. Мы покрасили провода, соединяющие компьютер и наушник, чтобы они сливались с цветом нашей кожи и волос, и закрепили их театральным клеем. Провода были диаметром с волос, чтобы не бросались в глаза, но даже эти тонкие стальные провода могли вызвать подозрение». Они взяли этот прибор с собой в казино, где Торп и Шеннон поочередно делали ставки. «Мы разделили обязанности, – объяснял Торп, – Клод стоял у колеса и высчитывал время, а я находился у дальнего конца, откуда было сложно рассмотреть вращающийся шарик, и делал ставки». Их жены следили за обстановкой, «наблюдая за тем, не возникло ли у сотрудников казино каких-то подозрений и не привлекаем ли мы внимания». Но все равно несколько раз они были на грани провала: «Однажды какая-то дама, стоявшая рядом со мной, взглянула на меня с ужасом, – вспоминал Торп. – Я быстро вышел из-за стола и обнаружил, что динамик торчит у меня из уха, словно какое-то диковинное насекомое». Несмотря на неудачи, Торп был убежден в том, что в дуэте они способны обыграть казино. Клод, Бетти и жена Торпа, Вивьен, не разделяли его уверенности. Позднее Торп пришел к выводу, что, вероятней всего, их предосторожность была оправданной: игорная индустрия Невады уже успела прославиться своими связями с мафией. И если бы Шеннона с Торпом поймали, то вряд ли владельца казино устроили объяснения двух профессоров из МТИ. От эксперимента пришлось отказаться после первого же пробного прогона, а носимому компьютеру было суждено пополнить обширную коллекцию причудливых изобретений Шеннона.
29. Особые движения
«Не возражаешь, если я подвешу тебя за ноги вниз головой?» Услышать подобный вопрос от любого другого профессора было бы странно. Но не в случае с Клодом Шенноном. Он задумал сложный эксперимент: объединить два вида жонглирования – классическое, когда предметы подбрасывают в воздух, и жонглирование на отскок, с предметами, отскакивающими от пола, подвесив одного жонглера вниз головой. Классическое жонглирование – это лучше всего знакомое всем нам искусство, а второй вариант предполагает удержание в постоянном движении предметов, которые отскакивают от пола – процесс, родственный игре на ручном барабане. Многим поколениям профессиональных жонглеров известно, что заставить предметы отскакивать от пола требует гораздо меньших затрат сил, чем подбрасывать их в воздух. В первом случае мячики достигают уровня руки в самом замедленном своем движении и самой высшей точки дуги. Но даже несмотря на то, что жонглер имеет подобное преимущество, традиционный вид жонглирования с подбрасыванием мячиков в воздух представляет собой более плавное движение, которое выглядит более естественно и позволяет жонглеру добиться большего контроля, в отличие от жонглирования на отскок с его взрывными движениями. Шеннон задумался, возможно ли объединить физику этих двух стилей. Можно ли заключить в одном движении плавность подбрасывания предметов в воздух с точностью жонглирования отскакивающими от пола предметами? Если рассуждать конкретно: когда вы подвешены за ноги и начинаете жонглировать, подбрасывая предметы, вы тем самым позволяете силе тяготения проделать за вас всю работу – донести мячики до земли, вернув их вам в руки. И сама задача, и метод ее решения были совершенно в духе Шеннона: эксцентричными, далекими от практичности и принадлежащими к тому роду деятельности, который типичным профессорам показался бы несерьезным. Но Шеннон, штатный сотрудник факультета МТИ, посчитал это достаточно забавным, а значит, заслуживающим его времени и внимания. Вот так Артур Льюбель, студент МТИ, оказался подвешенным за ноги в центре гостиной Шеннона. Мячики подскакивали вверх… и бесцеремонно падали на пол. «Как физический эксперимент это был полный провал», – вспоминал Льюбель. Даже идеальные математические расчеты не способны разрушить пределы физического действия. И в данном случае даже великий Клод Шеннон не смог справиться с очевидной проблемой: разве кому-то удавалось делать что-то вниз головой?К тому времени Льюбель уже успел привыкнуть к разнообразным вариантам висения вниз головой. Он был основателем клуба жонглеров в МТИ и впервые познакомился с Шенноном, когда знаменитый создатель теории информации случайно зашел на собрание клуба. Шеннон пришел туда по той же причине, почему многие родители оказываются в определенном месте, даже если не хотят этого: его дочь Пегги заставила его. Она прочитала о клубе в газете Boston Globe, и хоть, вероятно, ей потребовалось немного усилий, чтобы уговорить своего увлекающегося и разностороннего отца, изначальный интерес к клубу жонглирования исходил от Пегги. «Он просто пришел туда и не стал представляться. Там в стороне стояла группа жонглеров, отрабатывающих свои навыки, и он подошел к ним и спросил: “Могу я измерить ваши умения?” – вспоминал Льюбель. – Это было первое, что он нам сказал, раньше никто не задавал нам подобного вопроса». Льюбель и другие жонглеры согласились пройти тестирование, а между Шенноном и Льюбелем сразу же завязалась дружба. Визиты человека такого статуса, как Шеннон, со звездного факультета не были чем-то необычным. Льюбель говорил: «Одна хорошая вещь в клубе жонглирования в МТИ заключается в том, что ты никогда не знаешь, кто к тебе пожалует. Так, к примеру, однажды “Док” Эджертон, изобретатель стробоскопа, зашел в клуб жонглирования и спросил, может ли он сфотографировать нескольких из нас, жонглирующих под стробоскопическим источником света». Необычными можно было назвать лишь повторные визиты, причем их Шеннон наносил регулярно и даже принимал клуб у себя в гостях в своем винчестерском доме, когда им понадобилось просторное помещение для киношной вечеринки с пиццей. «Жонглерский клуб и жонглеры заворожили нас», – вспоминала Пегги Шеннон. Шеннон десятилетиями занимался жонглированием на любительском уровне. В детстве он представлял себя цирковым артистом. В «Лабораториях Белла» рассказы о его достижениях в области теории информации почти всегда сопровождались историями о том, как он ездил по узким коридорам «Лабораторий» на одноколесном велосипеде и при этом жонглировал. В его доме в Винчестере в детской комнате было припрятано немало предметов для жонглирования. К тому моменту Шеннон развил уже приличные навыки жонглирования, выйдя за рамки любительского уровня: говорили, что он мог жонглировать четырьмя мячиками, любой, кто пробовал жонглировать, знает, что это приличное достижение. Рональд Грэм, его коллега, математик и жонглер, объяснял часть своего успеха в этом деле трюком, который он позаимствовал у Галилея. «Когда Галилей хотел замедлить действие силы тяготения, он просто наклонял стол, позволяя шарику перекатываться от одного края стола к другому, – объяснял Грэм. – Представьте себе большой стол, и когда вы наклоняете его, вы уменьшаете вес шарика почти до 1 г». Направляя шайбы по наклонной поверхности стола аэрохоккея, Шеннон мог изучать траектории их движения и совершенствовать свою технику жонглирования в замедленном темпе. Траектории шайб были не параболическими, скорее заостренными, и можно было практиковаться». Возможно, жонглирование привлекало Шеннона в том числе и тем, что этот процесс давался нелегко. Несмотря на все его таланты в области математики и механики, «это был тот род занятий, которым он просто не мог овладеть до конца, что делало его еще более манящим, – писал Джон Гертнер. – Шеннон часто жаловался, что у него маленькие руки, а потому ему было очень сложно перейти от жонглирования четырьмя мячиками к жонглированию пятью. Кто-то считает, что это грань, отделяющая хорошего жонглера от выдающегося». Здесь, по крайней мере, Шеннону суждено было быть просто хорошим.
Жонглированию, конечно, не хватает аристократизма таких математических забав, как шахматы или музыка. И все же традиция математиков-жонглеров имеет давнее происхождение. По крайней мере, мы можем предположить, что она берет свое начало в десятом веке н. э. на городском рынке Багдада. Именно там Абу Сахль аль-Кухи – один из величайших астрономов мусульманского мира – научился жонглировать. Спустя несколько лет аль-Кухи стал придворным математиком местного эмира, который, желая наблюдать за движением планет, построил обсерваторию в саду своего дворца и назначил аль-Кухи руководить ею. Это принесло важные научные плоды: аль-Кухи изобрел геометрический циркуль (вероятней всего, первый в мире) и перевел труды греческих мыслителей, таких как Архимед и Аполлоний.
В следующий раз, когда вы увидите людей, жонглирующих в парке, спросите их, нравится ли им математика. Скорее всего, они ответят утвердительно…От жонглирования на рынке до измерения направлений движения планет… Что объединяло их, что притягивало аль-Кухи и многих других будущих математиков-жонглеров? Модели выстраивания парабол и дуг, уравнения, разыгрываемые прямо в воздухе. Грэм отмечал: «Математику часто называют наукой о моделях. Процесс жонглирования можно представить как умение контролировать модели во времени и пространстве». Поэтому неудивительно, что многие поколения математиков занимались тем, что жонглировали разными предметами во внутренних университетских двориках. Буркард Полстер, автор книги «Математика жонглирования», пишет: «В следующий раз, когда вы увидите людей, жонглирующих в парке, спросите их, нравится ли им математика. Скорее всего, они ответят утвердительно… Большинство молодых математиков, физиков, компьютерщиков, инженеров и пр. на каком-то этапе своей жизни жонглировали, по крайней мере, тремя мячами». Так что же заставило Шеннона заняться изучением процесса жонглирования? «Ему нравились необычные движения… Думаю, что в жонглировании его привлекало необычное движение физического предмета», – отмечал Льюбель. Эти необычные свойства в итоге заставили его в начале 1970-х годов написать математический труд по данной теме. «Жонглирование, – рассуждал Льюбель, – достаточно сложный процесс, обладающий интересными свойствами, и в то же время достаточно простой, чтобы можно было смоделировать эти свойства». И все же, когда Шеннон впервые приступил к работе над этой темой, он начинал с нуля: ей не было посвящено ни одного научного труда. Первой важной научной работой в данном направлении стала статья в области психологии. В 1903 году Эдгар Джеймс Свифт опубликовал в «Американском журнале психологии» работу, в которой автор изучал, сколько времени требуется на то, чтобы научиться жонглировать, используя это в качестве способа определить наиболее эффективные пути овладения нейросенсорными навыками. Сама природа жонглирования, похоже, сродни запоздалой мысли. Главное, что хотел понять Свифт, заключалось не в том, «как жонглер овладевает своим искусством», а скорее, в том, «как человек овладевает любым искусством». Следуя по его стопам, в середине двадцатого века психологи стали использовать жонглирование в качестве исследовательского инструмента, посчитав его удобным для исследования. Математики же неохотно использовали свой любимый вид развлечений в качестве источника информации и экспериментов. До Шеннона не было ни одной научной работы, в которой бы исследовалась математика жонглирования. Почему так? Как могло произойти, что на протяжении тысячелетия математики пробовали свои силы в жонглировании, но не оставили никаких математических расчетов по данной теме? В каком-то смысле это не трудно понять. Математика была тогда, как и сейчас, той научной дисциплиной, где царила жесточайшая конкуренция. И пусть карточные игры, ребусы, жонглирование и другие подобные занятия были увлекательными математическими хобби, ни один серьезный, честолюбивый математик не стал бы смешивать цирковую забаву с вопросами, заслуживающими длительного исследования или публикации. Точнее, никто до Шеннона. На тот момент его уже не беспокоили ни деньги, ни репутация, он был движим любопытством ради самого любопытства и мог позволить себе с головой окунуться в изучение интересовавшей его темы, не испытывая при этом сомнений.
На фоне других работ Шеннона статью, посвященную жонглированию, нельзя назвать выдающейся. Она не ознаменовала собой появление новой области исследований и не принесла ему мирового признания. Шеннон не опубликовал ее и даже не закончил. Несмотря на то что Шеннон, возможно, был первым ученым, исследовавшим процесс жонглирования с помощью строгого математического подхода, самое поразительное в его статье – это не ее оригинальность или математические данные. Работа открывает нам ее автора с совершенно новой стороны. Если теория информации, генетика и переключательные схемы показывали глубину мышления Шеннона, то жонглирование демонстрировало его физическую ловкость. Это еще одно доказательство правоты Шеннона в том, что практически все может стать предметом серьезного математического анализа. Шеннон начинает статью диалогом из романа «Замок лорда Валентина» Роберта Силверберга, действие которого происходит на далекой планете Маджипур. Это история приключений странствующего жонглера по имени Валентин, который оказывается королем, лишенным короны и трона. «– Ты думаешь, что жонглирование – просто трюк? – обиженно спросил маленький человек. – Развлечение для зевак? Средство выколотить пару крон на провинциальном карнавале? Все это так, но прежде всего это образ жизни, друг, кредо, образец для поклонения. – И род поэзии, – добавила Карабелла. Слит кивнул: – Да, и поэзия тоже. И математика. Жонглирование учит расчету, контролю, равновесию, чувству места вещей и основной структуре движения. Тут беззвучная музыка. Но превыше всего – дисциплина. Я говорю вычурно?» Для Шеннона было важно, чтобы люди, читающие статью, «попытались не забывать о поэзии, комедии и музыке жонглирования». Можно заметить некоторое смущение, которое испытывает Шеннон, когда устами Слита спрашивает читателя: «Я говорю вычурно?»
Поэтому он старался сгладить высокопарный слог статьи, погрузив читателя в историю жонглирования.Если и так, то Шеннон догадывался об этом. Видимо, поэтому он старался сгладить высокопарный слог статьи, погрузив читателя в историю жонглирования. На протяжении примерно двух страниц он совершает путешествие во времени, охватив период в 4000 лет, чтобы показать широкий диапазон культурных традиций, связанных с жонглированием. Этот своеобразный исторический тур начинается в Египте примерно в 1900 г. до н. э., где на стенах гробниц изображены сцены жонглирования – четыре женщины подбрасывают в воздух по три мячика. Оттуда читатель попадает на индонезийский остров Тонга в компании с морским капитаном Джеймсом Куком и ученым Георгом Форстером. Это был 1774 год, как описывал Форстер в своей книге «Путешествие вокруг света». Тонганцы владели способностью удерживать в воздухе последовательно несколько предметов. Далее Шеннон приводит наблюдение Форстера за одной девушкой, которая «быстрыми и легкими движениями играла с пятью тыквами размером с маленькие яблоки идеально круглой формы»: «Она подбрасывала их в воздух одну за другой, не останавливаясь, с большой ловкостью, и ни разу не уронила ни одну из них, по крайней мере, в течение четверти часа». Оттуда мы вновь возвращаемся в пустыню, 400 г. до н. э. Место действия – произведение Ксенофонта «Пир», где собравшаяся публика и Сократ наблюдают за девушкой, жонглирующей двенадцатью кольцами. Потрясенный Сократ замечает: «Мастерство этой девушки, друзья, это лишь одно из многочисленных доказательств того, что женская природа на самом деле вовсе не второсортная в сравнении с мужской, за исключением способности к рассуждению и физической силы. Поэтому, если у кого-то из вас есть жена, пусть он научит ее тому, что бы он хотел, чтобы она знала». Для Шеннона замечание Сократа было интересно в двух аспектах. Во-первых, если девушка в этой сцене действительно использовала двенадцать колец, то она поставила мировой рекорд по жонглированию максимальным количеством предметов. В данном случае Шеннон склонен поверить Ксенофонту и Сократу: «Кто бы нашел лучших очевидцев, чем великий философ Сократ и знаменитый историк Ксенофонт? Конечно же, они оба умели считать до двенадцати и были внимательными наблюдателями». Но это единственная уступка Шеннона. Его не устраивает несколько высокомерное отношение Сократа. Выбрав здесь явную непримиримую позицию, на которую он только способен, Шеннон отвергает ограниченный взгляд Сократа на способности женщины. «Забавно наблюдать, как Сократ, отходя от своего знаменитого метода учить посредством диалога, делает определенное утверждение и тут же опровергает его. Закончи он свою риторику девятью словами раньше, он бы стал прозорливым провозвестником женского движения за равноправие». Далее в статье Шеннон подробно останавливается на теме женщин-жонглеров. В частности он упоминает двух: Лотти Бран, «самую быструю в мире женщину-жонглера», частую героиню европейского кино 1920-х годов, и Трикси Фиршке, «первую леди-жонглера», немецкую звезду цирка из венгерской цирковой семьи. Таким образом, начав свое путешествие с древнего Египта и познакомив читателя со средневековыми традициями менестрелей, одинаково владеющими «искусством жонглирования, магии и комедии», Шеннон заканчивает свое повествование миром варьете двадцатого века. Корифеи этого искусства, включая У. К. Филдса, вдохновляли своим примером целое поколение мальчиков и девочек – в том числе юного Клода Шеннона, – которые пугали своих родителей обещанием присоединиться к бродячему цирку.
На этом урок истории был завершен, и автор переходил к более серьезному исследованию: как сочетаются между собой психология жонглера и практика жонглирования? А именно, как следует воспринимать тот род деятельности, который требует точности, но в то же время является веселой забавой? Ошибка гимнаста вызывает чувство сожаления, некое разочарование, которое испытывает и артист, и публика. А жонглер, не сумевший поймать булаву, скорее всего, вызовет смех. Как жонглеры справляются с этим? «Жонглеры – однозначно самые незащищенные из всех артистов развлекательного жанра», – пишет Шеннон, в очередной раз фактически касаясь личной темы. Действительно, самые серьезные жонглеры вынуждены прибегать к ряду манипуляций и уловок, чтобы замаскировать свою досаду из-за «не получившегося элемента или упавшей булавы». Подобные приемы варьируются в зависимости от уровня мастерства: жонглеры попроще стараются сгладить свои неудачи с помощью шуток и реквизита, а опытные мастера представляют свои ошибки как намеренные, как и свой успех. Разница в психологии жонглеров, отмечает Шеннон, делит их на два лагеря: жонглеров – цирковых артистов и обычных жонглеров. Обычные жонглеры занимаются игрой в числа, их руки работают безостановочно. Чем больше предметов в воздухе, тем выше престиж. Шеннон здесь приводит в пример одного из величайших в мире жонглеров, Энрико Растелли, о котором журнал Vanity Fair написал в своей хвалебной речи: «Посвятив двадцать лет своему ремеслу, этот сын Италии, вероятно, впервые в истории поднял его до уровня искусства». Растелли, как отмечал Шеннон, мог удерживать в воздухе десять мячей одновременно. Шеннон также добавлял, что Растелли «мог выполнять стойку на одной руке, жонглируя тремя мячами другой рукой и одновременно вращая ногами цилиндр».
Нет ничего удивительного в том, что Шеннон, чья любовь к жонглированию уступала по силе только его любви к музыке, открывает математический раздел статьи с упоминания о джазе.Растелли и его последователи представляли наибольший интерес для Шеннона и других математиков. Назовите это серьезностью цели или возможностью упорядочить процесс с помощью чисел и скрытых формул, чтобы управиться с постоянно увеличивающимся количеством предметов. Для математика цирковой номер с жонглированием, каким бы увлекательным он ни был, не обладает ни одним из этих свойств. Веселье толпы, завораживающие движения, элемент комедии – все это очень забавно, но совершенно неинтересно для математического ума. Исследование в статье начинается именно с этого: с ответа на вопрос, как увеличить количество предметов, которыми жонглируешь, сохраняя при этом точность движений – пересечение математики и движения. Нет ничего удивительного в том, что Шеннон, чья любовь к жонглированию уступала по силе только его любви к музыке, открывает математический раздел статьи с упоминания о джазе. В частности, он ссылается на барабанщика Джина Крупа, который сказал, что «перекрестная ритмика размера 3/2 является одной из самых притягательных». Для Шеннона модель 3 против 2 – это удобная аналогия для знакомства с математикой жонглирования. Это та модель, с помощью которой большинство людейначинает учиться жонглировать – стремя мячиками в двух руках. Если разложить движения жонглера на отдельные составляющие, то получится последовательность предсказуемых парабол. Один мяч, подброшенный в воздух, образует одну дугу; несколько мячей – несколько дуг. Остается только объединить их в упорядоченную модель с заданным ритмом. Вот как Шеннон подходил к проблеме жонглирования, не только как к упражнению на координацию, а как к алгебраической формуле. Получившаяся у него «теорема жонглирования» выглядела следующим образом: (F+D) Н = (V+D) N F = сколько времени мяч находится в воздухе D = сколько времени мяч находится в руке Н = количество рук V = сколько времени рука пустует N = количество мячей, которыми жонглируют
В теореме Шеннона постоянно отслеживается время. Как сказал Льюбель: «Ритм жонглера в теореме Шеннона зависит от изменения одного временного показателя за счет другого. Чем больше времени один мяч находится в воздухе, а не у вас в руке, тем больше у вас остается времени заняться другими мячами, а значит, тем большим количеством мячей вы можете жонглировать. Теорема Шеннона устраняет эти изменения при четких временных промежутках». Каждая часть уравнения отслеживает разное действие в процессе жонглирования: левая его часть отражает модель движения мячей, правая часть – модель движения рук. Так как «количество времени, когда мячи подбрасываются в воздух, совпадает с количеством времени, когда руки заняты жонглированием, равенство сохраняется».
Исследования Шеннона в области жонглирования могли быть на этом закончены: он уже придал правомерности процессу изучения жонглирования и позволил поколению математиков-жонглеров сочетать две свои страсти без всякого чувства смущения. Но в данном случае статья оказалась неполной. В 1983 году Шеннону удалось, как это бывало и раньше, воплотить свою теорию в жизнь посредством механики: он решил сконструировать своего собственного жонглирующего робота. «Все началось с того, что Бетти принесла из кондитерского магазина маленького декоративного игрушечного клоуна, бросающего пять мячей. Он стоил два доллара. Меня это одновременно позабавило и огорчило – позабавило потому, что я с детства мечтал стать цирковым артистом и долгие годы занимался жонглированием, а огорчила непривычная модель жонглирования и пластиковые сочленения между мячиками», – писал Шеннон. Клоун из кондитерского магазина только выглядел жонглирующим, а робот Шеннона жонглировал по-настоящему. Собранная из конструктора, эта машина могла оперировать тремя мячами. Мячи отскакивали от пола с барабанной дробью, а робот совершал своими руками-лопастями возвратно-поступательные движения. «Каждой рукой он ловит мяч, опуская руку, и подбрасывает его, когда поднимает руку». И хотя Шеннон так и не построил двойника этого робота, который бы мог так же успешно жонглировать в воздухе, он создал своих игрушечных клоунов, которые очень похоже имитировали этот процесс. И, как он с гордостью отмечал, в одном они явно превосходили любого человека: «Самые великие жонглеры не способны жонглировать без остановки дольше нескольких минут, а мои маленькие клоуны жонглируют всю ночь и никогда не роняют реквизит!»
30. Киото
За многие десятилетия Шеннон привык к наградам и мировой славе. Лучшие в мире университеты присуждали ему свои почетные степени. Научные сообщества самого разного уровня вручали ему дипломы, грамоты и золотые медали. А мальчика из Гэйлорда лишь забавляло все это внимание. Бетти Шеннон позднее заметит: «Он был очень скромным парнем. Он получил множество разных наград, но никогда не придавал этому большого значения и не говорил о них». Шеннон по этому поводу высказался так: «Не думою, что меня когда-нибудь мотивировало мысль о наградах, хотя пара десятков призов хранится в соседней комнате. Меня больше подстегивало чувство любопытства – и никогда желание разбогатеть. Мне просто было интересно узнать, как устроены вещи. Или какие законы и правила управляют той или иной ситуацией. И можно ли открыть теоремы, которые объяснят ту или иную проблему. И в первую очередь мне было интересно это самому». Подобное равнодушие к славе было продемонстрировано наглядно: у Шеннона накопилось столько почетных званий, что он повесил свои докторские шапочки на устройство, напоминавшее вращающуюся вешалку для галстуков (которую он, естественно, смастерил своими руками). И даже если представители этих академических институтов восприняли бы подобное отношение как оскорбительное, оно говорит о той легкости, с которой Шеннон воспринимал любую похвалу. Судя по воспоминаниям Пегги о том времени, родители пытались сохранять привычный образ жизни, невзирая на всю ту славу, что окружала Клода. «Тогда, – вспоминала Пегги, – чередой пошли приглашения по поводу вручения наград». Но как бы Шеннон ни пытался принизить значимость или отшутиться по поводу многочисленных достижений, некоторые из его наград даже ребенку ясно давали понять, что Клод был важной фигурой и, даже несмотря на всю его непритязательность, его работа представляла собой существенный мировой вклад. За день до наступления Рождества 1966 года было объявлено, что президент Линдон Джонсон вручит Клоду Шеннону Национальную научную медаль за «блестящий вклад в математические теории связи и информации». 6 февраля 1967 года Шенноны присоединились к собравшимся гостям в Восточном зале Белого дома, где президент Джонсон посвятил свою речь «одиннадцати мужчинам, чьей жизненной целью было исследовать великий океан истины»: «Их открытия – и работа других ученых – продлили человеческую жизнь, облегчили ее и обогатили наши общие знания». Для семьи Шеннонов это был знаменательный день, и все они присутствовали на этом приеме. Пегги вспоминала, как она спорила с матерью о том, какое платье ей лучше надеть. Но еще она помнила, как и большинство собравшихся в Белом доме гостей, ощущение значительности происходящего, которое возникало уже, как только ты входил в это здание. От нее не укрылось стремление ее отца держаться в тени, но она отмечала: «Мне было семь лет, и я смотрела на все глазами семилетнего ребенка, и для меня это было так круто». Сразу после награждения президент Джонсон уделил семье время, побеседовав с ними лично, а громкий смех вице-президента Хьюберта Хамфри так напугал юную Пегги, что она спряталась за мамой.Среди самых дорогих Шеннону наград были и такие, которые заставляли его смеяться. Например, миниатюрный греческий храм с надписью «Массачусетский институт жонглирования» и изображением клоуна, жонглирующего крошечными копиями почетных дипломов Шеннона. А еще со времен его членства в Стэнфордском научном обществе хранился стандартный университетский сертификат, нижнюю часть которого украшали подписи всех его членов, крупные и размашистые, насколько позволяло место. Шеннон умудрялся даже вносить элемент комедии в процедуру вручения ему некоторых наград. Когда его пригласили стать членом Американского философского общества, ему прислали сертификат, представляющий собой факсимиле послания, написанного каллиграфически. Заинтригованный, Шеннон нанял настоящего каллиграфа, чтобы написать пространный ответ с согласием принять членство в этом обществе.
«Добиться чего-то от Клода может быть проблематично», – писал Компфнер Пирсу.И даже высший академический стиль Оксбриджа со всей его благопристойностью не мог изменить его озорную натуру. Когда его посвящали в члены Колледжа Всех Душ Оксфордского университета в 1978 году, у него была возможность воссоединиться с Джоном Пирсом и Барни Оливером, его товарищами по Тринити-колледжу. Эта троица вместе с их коллегой, бывшим питомцем «Лабораторий Белла» и организатором этого воссоединения Руди Компфнером, должны были прочесть серию лекций по теме своих исследований – искусственный интеллект, теория информации и т. д. В переписке, которую вели Компфнер и Пирс, заметно их беспокойство относительно готовности Шеннона выступить с лекцией. «Добиться чего-то от Клода может быть проблематично», – писал Компфнер Пирсу. В период своего пребывания в Оксфорде Клод был занят серьезной – по крайней мере на его взгляд – проблемой: расстроенный тем, что ему приходится ездить по левой стороне дороги, Шеннон разработал уникальное инженерное решение. Его статья под названием «Трюк с четвертым измерением, или Скромное предложение в помощь американскому водителю в Англии» открывается рассказом о бедах американца водителя: «Американцу, путешествующему на машине по Англии, противостоит дикий и враждебный мир… Нам, с нашими укоренившимися привычками, он кажется совершенно безумным. Машины, велосипеды и пешеходы выстреливают из ниоткуда, а мы при этом всегда смотрим в противоположном направлении. Мужчины сыплют в наш адрес проклятиями, а женщины кричат и истерически смеются, когда мы лихорадочно пытаемся выбраться из каждой неловкой ситуации. Пассажиры в это время обычно совершают непроизвольные движения, закрывая лицо или давя на воображаемые тормоза. Указатель поворота и ручка стеклоочистителя ветрового стекла тоже расположены непривычно для американцев, и в итоге мы показываем повороты ручкой стеклоочистителя, быстро для правого поворота и медленно для левого. Вся эта дорожная ситуация усугубляется узостью английских улиц и высокой скоростью езды местных водителей. Не способствует нашей безопасности и пристрастие англичан к возведению каменных стен, примыкающих к дорогам». Шеннон предложил идею, которая даже по его признанию звучала «грандиозно и совершенно непрактично – пустая мечта математика». Его идеей было создать четвертое измерение, которое бы меняло представление о правом и левом: «Как это будет работать? Если выразить это коротко – используем зеркала. Если вы поставите правую руку перед зеркалом, в отражении это будет, как левая рука. Если вы увидите ее во втором зеркале, после двух отражений она снова выглядит, как правая рука, а после трех – опять как левая, и т. д. Наша идея – снабдить американского водителя системой зеркал, которая даст ему заметное преимущество, чтобы он смог увидеть мир не таким, какой он есть, а таким, каким бы он был в четырехмерном измерении и при обзоре в 180 градусов». И наконец, ряд усовершенствований в системе рулевого управления преобразовывал движения американского водителя в движения англичанина: поворот руля влево заставил бы повернуть машину вправо и наоборот. Вот так. Снабженная рисунками, расчетами и схемами, эта работа была написана, конечно, в шутливом ключе, но остается самым запоминающимся эпизодом пребывания Шеннона в Оксфорде. Ее нельзя было назвать пустяком – Шеннон продемонстрировал здесь желание потратить свое время на то, чтобы воплотить эту шутку в реальности, а также невозмутимое безразличие к любым наградам. А еще она вскрыла некоторую обеспокоенность опытного путешественника, который по большей части терпел всяческие перемещения по свету и мечтал взять с собой в поездку свой дом – пусть даже в качестве оптической иллюзии. К тому времени, когда начались приятные бесплатные поездки, связанные с награждениями, у Шеннона было уже трое детей, и каждая такая поездка была возможностью путешествовать по миру всей семьей. Их дочь Пегги вспоминала: «Ему вручали награду в Израиле, и мы всей семьей отправились в шести- или семинедельную поездку в середине учебного года. Мы поехали в Израиль, а потом в Египет, Турцию и Англию… Для этого меня выдернули из учебного процесса где-то на шесть недель».
Даже самая доброжелательно настроенная аудитория и мероприятия, проводившиеся в его честь, были ему неприятны.Сам Шеннон испытывал смешанные чувства по поводу этих поездок. Он был домоседом и интровертом, да к тому же приверженцем консервативной кухни. Его кулинарные пристрастия сводились к домашнему мясу и картошке, и если он не мог найти близкого этим блюдам иностранного эквивалента, то начинал беспокоиться. Пегги вспоминала, что их семья редко выходила куда-то поесть даже в Массачусетсе. Так что перспектива довольствоваться кускусом в Израиле или сырой рыбой в Японии в буквальном смысле страшила ее отца. Да к тому же его все больше тяготила публика, особенно когда он начал отходить от той работы, которая сделала ему имя. Если раньше он был уверенным в себе лектором МТИ, способным к импровизациям, то со временем у него развился заметный страх сцены. Но не потому, что он боялся повышенного к себе внимания, а, скорее, из опасения исчерпать интересные и интеллектуально наполненные темы. Шеннон не собирался уподобляться тем стареющим знаменитостям, что склонны читать проповеди и произносить банальные вещи. Тот стандарт, который он сам себе установил – чистая математика, и больше ничего. Даже самая доброжелательно настроенная аудитория и мероприятия, проводившиеся в его честь, были ему неприятны. Так, к примеру, в 1973 году Шеннона впервые пригласили прочитать свою лекцию в институте электрической и электронной инженерии в Ашкелоне, в Израиле. «Я никогда прежде не видел подобного страха сцены, – вспоминал математик Элвин Берлекамп. – Я даже не мог себе представить, что кто-то может быть таким напуганным в окружении друзей». За кулисами Шеннону потребовалось время, чтобы успокоить нервы, а на сцену он вышел вместе со своим другом. Еще один из присутствовавших на лекции отмечал: «Он просто чувствовал, что люди очень многого ожидают от его лекции, и боялся, что не скажет им чего-то важного и значимого. Вряд ли стоит говорить о том, что это была блестящая лекция, но, на мой взгляд… она продемонстрировала, каким скромным человеком он был». В ответ на очередное приглашение своего друга Шеннон, предчувствуя, что его вновь попросят выступить, попробовал упреждающий удар: «С тех пор, как мы вышли на пенсию, Бетти перестала мыть окна, а я не читаю лекций». И все же несмотря на все свои страхи перед публикой, Шеннон не отказывался от поездок и принимал все положенные ему почести, просто чтобы дать возможность Бетти посмотреть мир.
То, что приглашения и регалии лились потоком, частично можно было объяснить тем, что технологические достижения 1970-х годов показали миру важность теории информации. Том Кайлат, студент МТИ той эпохи, отмечал, что сразу после выхода «Математической теории связи» Шеннона все «были убеждены в том, что теория информации никогда не получит практического применения». В старые времена люди изучали латинский и греческий в качестве тренировки для ума, точно так же молодые инженеры 1950-1960-х годов рассматривали теорию Шеннона как «хорошую тренировку». Но зарождавшиеся цифровые технологии начали вбирать в себя те коды, существование которых впервые установил Шеннон. 5 сентября 1977 года в сторону Юпитера и Сатурна был запущен автоматический зонд «Вояджер-1». Он был защищен против возможных ошибок одним из этих кодов и мог передавать снимки планет-гигантов через 1,2 миллиарда километров космического пространства. В том же году пара израильских исследователей Джейкоб Зив и Абрахам Лемпель разработали алгоритм сжатия данных без потерь на основе работы Шеннона, посвященной кодированию. Впоследствии этот алгоритм станет одной из ключевых опор будущих систем интернет- и сотовой связи. Тот факт, что Зив был аспирантом в МТИ в то же самое время, когда Шеннон являлся членом факультета, было, по его собственному признанию, определяющим фактором его интереса к данной области.
Номинация Шеннона и Винера оценивалась как имеющая довольно слабые шансы, но сам ее факт демонстрировал отношение к Шеннону его современников.Но даже когда масштаб открытия Шеннона стал очевидным, «он не любил хвастаться», по воспоминаниям Артура Льюбеля. «Время от времени я вспоминаю, как однажды был у него дома и он показывал мне программу конференции по теории информации. Он просто взял ее, вручил мне, и я увидел список с названиями научных заседаний. Одно заседание называлось “Шеннон Теория 1”, а второе — “Шеннон Теория 2”, и далее шло пять заседаний подряд под его началом». Естественно, разговоры о Нобелевской премии преследовали Шеннона на протяжении почти всей его профессиональной жизни. В 1959 году он был номинирован на Нобелевскую премию в области физики вместе с Норбертом Винером. Но в тот год награды забрали физики Эмилио Джино Сегре и Оуэн Чемберлен за открытие антипротона. Номинация Шеннона и Винера оценивалась как имеющая довольно слабые шансы, но сам ее факт демонстрировал отношение к Шеннону его современников. Проблема с вручением Клоду Нобелевской премии частично объяснялась тем, что математики нет в списке наук, за которые присуждается эта премия, что, конечно же, воспринималось, как некий изъян. Сам Шеннон довольно откровенно высказался по этому поводу: «Всем известно, что не существует Нобелевской премии в области математики, хотя я считаю, что она должна быть». Математики, включая Джона Нэша и Макса Борна, получали премию за открытия в таких областях, как экономика или физика. Бертран Расселл получил Нобелевскую премию в области литературы. Работа Шеннона затрагивала несколько дисциплин, но ее сложно было втиснуть в категории, относящиеся к Нобелевской премии. Ему так и не суждено было получить ее. Однако в 1985 году в доме Шеннонов раздался звонок – не из Стокгольма, а из Киото. Клод Шеннон стал первым лауреатом премии Киото в фундаментальных науках, учрежденной японским миллиардером Кадзуо Инамори. Это был ученый, специализировавшийся на прикладной химии. Он основал международную корпорацию Kyocera, а позднее спас от банкротства японскую авиакомпанию Japan Airlines. Инамори был инженером по образованию, дзен-буддистом по вероисповеданию и бизнесменом по призванию. Также он изучал методологию управления. Это, вкупе с его буддистскими взглядами, вероятно, объясняет, почему учредительный документ премии Киото выглядит как причудливая смесь духовного послания и биржевой сводки: «Спустя четверть века неустанных и кропотливых усилий годовой оборот Kyocera, милостью Божьей, вырос до 230 миллиардов йен, а прибыль до налогообложения составила 53 миллиарда йен… По этому случаю я решил учредить премию Киото. Достойными премии Киото будут те люди, которые, кок и мы в Kyocera, работали смиренно и с полной отдачей, приложив все усилия, чтобы достичь идеала в своих выбранных профессиях. Это будут те личности, которые чувствительны к собственным человеческим ошибкам, а значит, глубоко чтут высокие стандарты… Будущее человечества возможно только благодаря балансу научного прогресса и духовности. И хотя современная цивилизация, опирающаяся на технологии, развивается стремительно, мы, к сожалению, заметно отстаем в исследовании нашего духовного начала. Я верю, что мир состоит из взаимозависимых двойственностей – плюсов и минусов, как инь и янь, мрак и свет. Только через осознание и подпитку обеих сторон этих двуединств мы достигнем полного и устойчивого равновесия… Я искренне надеюсь, что премия Киото может послужить тем толчком, что заставит нас совершенствовать наши научные и духовные потенциалы». Со временем премия Киото станет престижной, частично потому, что пыталась конкурировать с Нобелевской премией. Пресс-релизы, где объявлялись лауреаты премии, начинались так: «Премия Киото, которая наряду с Нобелевской премией является одной из высших в мире наград за достижения выдающихся личностей в области культуры и науки, в этом году вручается…» Оргкомитету премии Киото удалось даже опередить оргкомитет Нобелевской премии в ряде случаев, наградив тех ученых, которые годы спустя старались не повториться в своих лауреатских лекциях в Стокгольме. По пышности и блеску церемонии вручения премия Киото так же почти не уступала Нобелевской премии: японская императорская семья лично присутствовала на процедуре награждения. Возможно, демонстрируя желание учредителя премии использовать все бизнес-возможности, спектр номинаций был достаточно широк и включал те области, которые отсутствовали в Нобелевской премии – в том числе математику и инженерное дело. И пусть у Нобелевской премии было преимущество в восемьдесят четыре года, премия Киото могла составить ей конкуренцию в финансовом плане.
Премия Киото стала заметным триумфом Шеннона и явилась во многих смыслах венцом его научной карьеры. Шеннон, как обычно, нервничал в связи с этой поездкой, особенно опасаясь японской еды. Но в поездке его сопровождали и Бетти, и его сестра, Кэтрин, которая разделяла семейную страсть к математике: она была профессором математики в Государственном университете Мюррей в Кентукки. Заручившись поддержкой, как выразилась Пегги, «двух сильных женщин», Шеннон согласился отправиться в Японию, чтобы получить свою награду. Вручение Шеннону премии Киото заметно отличалось от других церемоний награждения: его попросили выступить с лауреатской лекцией, которая станет одним из его последних и самых продолжительных публичных выступлений. Лекция называлась «Развитие средств связи и компьютерных систем и мое хобби». Шеннон начал свою лекцию с обсуждения вопросов истории, точнее того, как преподают историю в его родной стране: «Я не зною, как преподают историю здесь, в Японии, но в Соединенных Штатах во времена моего студенчества большая часть времени уделялась изучению биографий политических деятелей и войнам – цезари, наполеоны и гитлеры. Я считаю, что это в корне неверно. Важными личностями и событиями истории являются мыслители и изобретатели, дарвины, ньютоны и бетховены, чья деятельность продолжает влиять на человечество самым положительным образом». Одну категорию новаторских идей он выделил особо: открытия в науке – это «сами по себе удивительные достижения, но они не окажут влияния на жизни простых людей без немедленных усилий инженеров и изобретателей – таких людей, как Эдисон, Белл и Маркони». Шеннон выразил свое восхищение техническим прогрессом двадцатого века, до которого «люди по большей части жили так же, как и столетия назад – это было преимущественно аграрное общество с малой мобильностью и отсутствием дальней связи». Он привел в пример прядильную машину, паровую машину Уатта, телеграф, электрический свет, радио и автомобиль – всем этим изобретениям было меньше двух веков, и все они были революционными для своей эпохи. То, что жизнь человека так заметно изменилась всего за несколько поколений, стало возможным, по его мнению, благодаря работе инженеров.
С собой на сцену он взял переносную транзисторную ЭВМ, сделанную в Японии, и признался, что она «делает все, что делала моя двойная логарифмическая линейка, и даже больше – до десяти десятичных разрядов вместо трех».И хотя Шеннон редко позволял себе рефлексировать на публике, он вспомнил тот день, когда его, молодого студента, изучавшего инженерное дело, попросили купить логарифмическую линейку, двойную, «самую большую, которая у них была». Оглядываясь назад, он отмечал, какой нелепой и устаревшей она выглядела. С собой на сцену он взял переносную транзисторную ЭВМ, сделанную в Японии, и признался, что она «делает все, что делала моя двойная логарифмическая линейка, и даже больше – до десяти десятичных разрядов вместо трех». Тот временной промежуток между использованием логарифмической линейки и переходом к работе с переносным компьютером – между дифференциальным анализатором размером с комнату и Apple II, стоявшим на столе у него дома, – вобрал в себя революционные открытия в области вычисления. Временами «интеллектуальный прогресс в области компьютеров… шел так стремительно, что они устаревали еще до того, как были собраны». В присутствии японской императорской семьи и почетных гостей Шеннон провел краткий экскурс в историю вычислительных машин, до того момента, когда он сам стал участником происходящего. Это было некое подведение итогов научной карьеры, посвященной созданию машин, которые могли общаться, думать, рассуждать и действовать, и краткое изложение той теоретической основы, что сделала все это возможным. Но вычислительные процессы были не единственной ключевой темой его профессиональной деятельности. Как следует из названия лекции, у Шеннона также всегда было его хобби – или, как он перевел это слово для своей аудитории, его суми. «Конструирование таких устройств, как машины, играющие в шахматы, и жонглирующие роботы – пусть даже в качестве “суми”, – может показаться смехотворным способом тратить время и деньги, – признался Шеннон. – Но я считаю, что история науки продемонстрировала, что по-настоящему ценные результаты часто произрастают из простого любопытства». Что могло вырасти из таких забав, как «Эндгейм» и Тесей? «Я возлагаю большие надежды на то, что машины составят конкуренцию и даже превзойдут по своим возможностям человеческий мозг. Эта область знаний, известная как искусственный интеллект, развивается уже на протяжении последних тридцати-сорока лет. Сейчас она приобретает коммерческую значимость. Так, к примеру, рядом с МТИ находятся семь различных корпораций, которые заняты исследованиями в этой сфере. Некоторые из них работают над параллельной обработкой данных. Сложно предсказывать, что будет в будущем, но по моему ощущению к 2001 году у нас будут машины, способные ходить, видеть и думать так же хорошо, как и мы». Но еще до того, как это сближение человеческого и компьютерного интеллекта произошло, машины стали богатым источником для аналогий с целью понять тонкости наших собственных интеллектуальных способностей. «Кстати говоря, система связи – это в том числе то, что происходит прямо сейчас. Я источник, а вы – получатель. Переводчик – это передающее устройство, осуществляющее сложную обработку моего американского сообщения с целью сделать его пригодным для японских ушей. Эта обработка достаточно сложна, когда имеешь дело с непосредственным фактическим материалом, и становится еще труднее при наличии шуток и двусмысленностей. Я не мог отказать себе в удовольствии включить ряд таких элементов в свою речь, чтобы испытать характер переводчика. На самом деле я хочу отдать пленку с его переводом другому переводчику, чтобы тот перевел ее обратно на английский. Мы, информационные теоретики, любим подобные развлечения».
31. Болезнь
Она покидает его, но не сразу; это было бы слишком болезненно, а в череде мучительных расставаний. В какой-то момент она здесь, а потом снова исчезает, и каждый ее уход все больше отдаляет их друг от друга. Он не может последовать за ней, и ему остается лишь гадать, куда она отправляется, когда уходит от него.Для друзей первые признаки болезни стали заметны в начале 1980-х годов. Поначалу они стали отмечать, что он с трудом отвечает на привычные вопросы. Затем пошли короткие провалы памяти. На ранней стадии часть друзей не придавали этому значения. В конце концов, научные достижения Шеннона были триумфом интуиции и анализа, а не памяти. Как сказал Роберт Галлагер: «Клоду никогда не нужно было запоминать большие объемы информации, потому что одним из тех качеств, которые делали его блестящим ученым, была его способность делать поразительные выводы на основе очень и очень простых моделей. Это означало, что, даже если он делал маленькую ошибку, вы бы никогда не заметили ее». То, что он начал забывать какие-то вещи, стало для большинства его самых близких людей просто признаком того, что он не избежал обычных возрастных проявлений. Однако вскоре он стал забывать дорогу домой из ближайшего продуктового магазина и не мог вспомнить телефонные номера, имена, лица. Начала дрожать рука при письме. Пегги Шеннон вспоминала, как однажды к ним пришел клуб жонглеров. Она сидела на полу, а отец в кресле рядом. Он посмотрел на нее, помедлил и спросил: «Ты жонглируешь?» «Я была поражена, – вспоминала она. – Либо он не знает, кто я, либо он не помнит, что я жонглирую. И то и другое было полной катастрофой». К тому времени заметные перемены, происходившие с Клодом, уже нельзя было отрицать. «В 1983 году он пошел к врачу, – рассказывала Бетти, – и был поставлен диагноз, что у него, вероятно, самая ранняя стадия болезни Альцгеймера».Дебра Дин
Шеннон очень быстро потерял большую часть когнитивной функции мозга, и забота о человеке с диагнозом «болезнь Альцгеймера» тяжким грузом легла на плечи Бетти.Шенноны стали избирательнее в том, на какие поездки соглашаться, а от каких отказываться. На встрече 1986 года в Мичиганском университете Шеннон вел себя «очень тихо», отмечал организатор мероприятия Дэвид Ньюхофф: «У меня было ощущение, что он уже страдал от этого недуга, болезни Альцгеймера. Тогда в основном говорила Бетти». Решения относительно того, куда можно ездить и насколько подробно делиться информацией о болезни Шеннона, принимала Бетти, которая хотела оградить семью от повышенного внимания. «Они оба чувствовали, что заслужили право на частную жизнь», – вспоминала Пегги Шеннон. Семья старалась помочь ему, занимаясь с ним и нагружая интеллектуальной работой, но болезнь брала свое. Шеннон очень быстро потерял большую часть когнитивной функции мозга, и забота о человеке с диагнозом «болезнь Альцгеймера» тяжким грузом легла на плечи Бетти. «Она была главной сиделкой, – вспоминала Пегги. – А он любил бродить. Мы жили на очень оживленной улице. Это так страшно – наблюдать за своим партнером, страдающим подобным недугом». Шеннон прошел обследование в местной больнице, Бетти контролировала весь процесс. На вопрос о том, догадывался ли Шеннон, что с ним происходит, Пегги ответила: «Были дни, когда он понимал, а иногда – нет… Я могу сказать только, что бывали периоды, когда мне казалось, что я вижу прежнего папу, а временами он совершенно выпадал из реальности». Наблюдать за его уходом, по словам Пегги, «было самым мучительным». В какие-то короткие периоды времени родные вдруг видели перед собой прежнего Клода, которого они знали. Пегги вспоминала: «В 1992 году у меня был разговор с отцом об учебных программах магистратур и о тех проблемах, с которыми я могу столкнуться. И я помню, что меня поразило, как он четко видел корень тех проблем, над которыми я размышляла. Я еще подумала: “Ого, даже в таком нарушенном состоянии он все равно обладает этой способностью”. Но это были лишь краткие вспышки света в сгущающемся тумане. В течение нескольких лет состояние Шеннона только ухудшалось: периоды просветления становились все реже и все короче. Роберт Фано вспоминал: «В 1993 году я спросил его что-то о прошлых событиях, не связанных ни с техническими, ни с математическими вопросами, и Клод просто ответил: “Я не помню”. Одна из жестоких превратностей его судьбы заключалась в том, что причиной его хронического заболевания стала болезнь мозга. Друзья и его любимые горько сокрушались и переживали из-за этого. И их боль только усиливалась от осознания того, что он скоро уйдет. Еще одна горькая несправедливость заключалась в том, что вскоре после того, как ему поставили диагноз, цифровой мир, появлению которого он так способствовал, расцвел в полную силу. «Это так странно, но я не уверена, что он даже понимал, что происходило… Иначе он был бы потрясен», – рассказывала Бетти. Ему бы наверняка было приятно узнать, что скорость кодов наконец достигла «лимита Шеннона», но не превысила его, если бы эти новости имели для него ценность. В период с 1983 по 1993 год Шеннон продолжал жить в «Доме энтропии» и держался, как мог. О глубине его натуры говорит, вероятно, тот факт, что даже на поздней стадии болезни его характер почти не изменился. «Нам казалось, что в тот период еще больше усилились такие его качества, как нежность, ребячество, игривость… Нам повезло», – отмечала Пегги. Они продолжали вместе играть и мастерить, но уже в более размеренном темпе. Артур Льюбель вспоминал одну из его последних встреч с Шенноном: «Последний роз, когда я видел Клода, болезнь уже взяла верх. Как ни печально видеть, как человек угасает на твоих глазах, особенно остро и несправедливо ощущаешь это, когда подобное случается с гением. Он смутно вспомнил, что я жонглировал, и с радостью показал мне экспонаты, связанные с жонглированием, что хранились в его комнате для игрушек. Как будто он это делал в первый раз. Но, несмотря на потерю памяти и разума, он был таким же сердечным, дружелюбным и задорным, как в тот раз, когда я впервые встретил его». В 1993 году Шеннон упал, сломал бедро и вынужден был лечь в больницу. Период интенсивного лечения и реабилитации занял длительное время. И главный вопрос волновал тогда его близких – что будет дальше. По мнению Бетти, Клод должен был оставаться дома. «Дом был для нее настоящим спасением», – говорила Пегги. И она начала готовить одну из комнат в «Доме энтропии», установив там больничную кровать и привезя другие необходимые вещи. Но сама Бетти уже начала стареть, и Пегги чувствовала, что ей будет слишком тяжело справляться со всеми заботами, связанными с уходом за отцом. Она настоятельно рекомендовала матери взять помощницу, которая бы жила в доме, но оставляла право окончательного решения за ней. И с облегчением вздохнула, когда узнала, что мама согласилась перевезти Клода в медицинский центр по уходу за больными, примерно в пяти километрах от Винчестера.
Клод сохранил способность двигаться и ходить, а пальцами часто отбивал музыкальный ритм.Для Бетти с переездом мужа ничего не изменилось: она все так же продолжала заботиться о нем, посещая его два раза в день. Пегги, вспоминая о том периоде, отмечала: «Она была очень предана ему. Она хотела знать, что он получает должный уход. А еще она скучала по нему. Он был центром ее жизни, и так продолжалось до самого конца». Для Клода эти посещения были драгоценными моментами. Бетти рассказывала: «В полдень я подходила к больнице, и сестры уже сидели на скамейке, потому что, когда я входила к нему, его лицо сразу светлело, и он улыбался мне. И это было так хорошо». Остальные члены семьи также навещали его время от времени, а медсестры давали ему решать простые арифметические задачки, чтобы чем-то занять. И даже в самые последние свои дни Шеннон продолжал что-то мастерить. Он взялся разобрать свои ходунки, стараясь сделать их более удобными. «Он снова полюбил разбирать предметы на части и смотреть, как они устроены», – говорила Бетти. Клод сохранил способность двигаться и ходить, а пальцами часто отбивал музыкальный ритм. «Он находился в больнице амбулаторно… и мог выходить гулять, осматривать территорию и то, что происходит вокруг. Но, конечно же, мыслями он был уже далеко». Однако его способность передвигаться и что-то по минимуму делать была сопряжена с определенным риском. «Им приходилось следить за ним, потому что он пробовал ходить по лестнице, хотя у него были ходунки на колесах. Он выходил на улицу, и им приходилось идти присматривать за ним». В конце концов его движения ухудшились, он ослаб, и какие-то простые вещи – разговор, самостоятельная еда – стали даваться ему с трудом. Клод Шеннон умер 24 февраля 2001 года. Его мозг был пожертвован на исследования болезни Альцгеймера. Похороны прошли в Винчестере и были скромными. За несколько лет до своего ухода Шеннон думал о том, как бы он хотел быть похоронен, и представлял себе нечто совершенно иное. Он считал это поводом для веселья, а не для горя.
За несколько лет до своего ухода Шеннон думал о том, как бы он хотел быть похоронен.В грубом наброске Шеннон описал эту торжественную процессию – помпезное шествие в стиле Мэйси – с целью повеселить и развлечь людей и вспомнить вкратце всю жизнь Шеннона. Кларнетист Пит Фонтейн возглавлял бы этот парад в компании джазового ансамбля. За ними следовали шесть человек на одноколесных велосипедах, каким-то образом балансирующих с гробом Шеннона на плечах (в наброске было помечено «6 велосипедистов/один я любимый»). Позади шла «убитая горем вдова», за ней – жонглирующий октет и «жонглирующая восьмирукая машина». Далее шествовали три черные шахматные фигуры, несущие 100-долларовые чеки, и «три богатых человека с Запада» – калифорнийские инвесторы, – следующие за деньгами. Они бы маршировали на фоне «шахматной платформы», на вершине которой английский гроссмейстер Дэвид Леви сходился бы в поединке против компьютера. Замыкали бы шествие ученые и математики, «4 кота, обученные по методу Скиннера», «мышиная группа» и шеренга жонглеров вместе с оркестром из 417 инструментов. Весь этот план так и остался на бумаге. Его семья, вполне понятно, предпочла скромную, домашнюю церемонию прощания. Шеннона похоронили в Кембридже, на кладбище Маунт-Оберн, что вдоль Бегониевой аллеи. На этом кладбище покоятся судьи Верховного суда, губернаторы, президенты университетов и многие прославленные мыслители, государственные деятели и ученые. Но надгробная плита Шеннона отличается от всех других. Обычный посетитель увидит надпись «ШЕННОН», выгравированную на светло-сером мраморе, и пройдет мимо. Но на обратной стороне мраморной плиты, скрытой за кустом, на нижней части выгравирована формула энтропии Шеннона. Дети Шеннона надеялись, что эта формула будет украшать переднюю поверхность памятника, но их мать посчитала, что скромнее будет поместить ее сзади. Вот так и получилось, что место упокоения Клода Шеннона отмечено кодом-посланием, спрятанным от посторонних глаз и заметным лишь тем, кто ищет его.
32. Отголоски гения
Истинное наслаждение, восторг, ощущение своего всемогущества, которое является мерилом выдающегося мастерства, можно обрести в математике, равно как и в поэзии.«Нью-Йорк Таймс» опубликовала некролог. Были заказаны скульптуры и бюсты Шеннона. Здание в кампусе «Лабораторий Белла» было переименовано в его честь. А потом память о нем стала стираться. В каком-то смысле самым глубоким его наследием стало не то, что принадлежит только ему, а то, что органично вплетено в работы других – его студентов, его последователей, более поздних специалистов теории информации, инженеров и математиков. Они хранили его наследие и память о нем, публикуя статьи, посвященные Шеннону, в специализированных журналах, которые принесли ему известность. Публикации его коллег – инженеров и специалистов в области теории информации – стали источником искренних, душевных воспоминаний и теплых отзывов, которые продолжаются по сей день. «Уникальный американский гений, с игривым и тонким умом», – писал один автор. «Шеннон излучал… мощный внутренний интеллектуальный свет», – писал второй. А вот автор, который никогда не встречался с Шенноном, признался, что в возрасте девяти лет наткнулся на его магистерскую диссертацию, и это заставило его в тот же момент принять решение о том, чтобы выбрать в будущем профессию математика. Частично подобные размышления были возможны благодаря тому, что многие из авторов обладали уникальным научным опытом – они жили на одной земле с человеком, который открыл изучаемую ими область знаний. Но не только: работа Шеннона заметно повлияла на целые поколения американских инженеров и математиков, в том числе потому, что она затрагивала фундаментальные ценности. Каковы были эти ценности? Решающее значение здесь имела простота. Простая, ясная математика была действенной математикой. Несущественные моменты, обильные записи, излишняя работа – все это следовало отбросить. Используя математику в качестве научного метода, помогающего добраться до основной сути, Шеннон осуществил работу, которая будет названа поразительно законченной, отточенной, наглядной и, конечно, гениальной – наравне с F = ma или Е = mc2. Группа российских математиков отмечала, что в работе Шеннона «логичный и естественный переход одного раздела в другой создает впечатление, что проблема решается сама собой». Они объясняли подобный эффект математическим свойством «единства»: работа Шеннона была полностью безукоризненной и органичной. Еще один современник Шеннона выразился на этот счет более поэтично: «Его идеи рождают красивую симфонию, с повтором тем и нарастающей силой, что вдохновляет всех нас. Это математика в высшем ее проявлении».Бертран Рассел
В 1948 году теоретическая работа Шеннона поставила немало вопросов, на которые также дала ответы. Но значимость этих трудов невозможно переоценить. Десятилетия спустя «лимит Шеннона» будет приобретать все более важное практическое значение. Даже сегодня он остается тем манящим внешним пределом связи, той целью, которую продолжают преследовать инженеры. Но то были узкие, практические аспекты. Самое поразительное свойство его статьи заключается в том, что она положила начало целой науке, став предметом дискуссий и размышлений, которые со временем переживут ее создателя. «Это было подобно землетрясению, толчки от которого мы ощущаем до сих пор!» – отмечал Энтони Эфремидис, информационный теоретик более поздней эпохи. Немногие научные работы оказывали столь продолжительное влияние на умы (свыше 90 000 ссылок и упоминаний!). И не будет преувеличением сказать, что несмотря на то, что у Шеннона были серьезные предшественники в том, что касается исследования теории информации, формальное изучение этой области по-настоящему началось с его работы. Как скажет один из авторов десятилетия спустя: «Для многих ученых открытие Шеннона стало чудом, как если бы они, проснувшись, обнаружили мрамор на пороге своего дома». Тот мрамор, который он откопал, будет в итоге обработан другими. Работа, которую проделал Шеннон, в какой-то степени сделала его наследие предпосылкой. Он является одним из авторов информационной архитектуры, которая сейчас охватывает всю планету, но вряд ли когда-нибудь приблизится к той славе, что окружает имена Стива Джобса или Билла Гейтса. Если не брать во внимание его собственное неприятие повышенного внимания к своей персоне, то подобную безвестность можно отнести на счет большого временного промежутка между проделанной им работой и технологиями, которыми мы пользуемся ежедневно. Когда инженер мирового уровня говорит, что «вся передовая технология обработки сигнала, которая позволяет нам передавать высокоскоростные данные, выросла на основе работы Клода Шеннона по теории информации», это утверждение верно для людей сведущих, но мало что говорит неподготовленной публике. И все же очень важно было бы заново переосмыслить наследие Клода Шеннона, но не так, как мы это обычнопредставляем. Относиться к нему следует не только как к далекому родоначальнику цифровой эры, а как к одному из великих творческих интеллектуалов двадцатого века. Он не только заложил основы информационного века, он был тем блестящим эрудитом, серьезно занимавшимся темами, которые представляли для него глубокий интерес, не останавливаясь исключительно на их практической пользе. Что нам известно об этой стороне личности Клода Шеннона?
Во-первых, научная деятельность Шеннона может стать хорошим примером универсальности на фоне сегодняшней беспрецедентной тенденции к сужению специализаций. Его работа охватывала широкий диапазон вопросов в лучшем смысле этого слова. В отличие от других выдающихся мыслителей двадцатого века, его сложнее причислить к каким-то строго определенным категориям. Был ли он математиком? Да. Был ли он инженером? Да. Был ли он жонглером, велосипедистом, механиком, футурологом и любителем азартных игр? Да, и не только. Шеннон никогда не видел никаких противоречий между своими интересами. Он просто шел в том направлении, куда влекло его ненасытное любопытство. Поэтому для него было совершенно естественно переключиться с теории информации на искусственный интеллект, а потом на шахматы, жонглирование и азартные игры. Ему просто не приходило в голову, что имеет смысл приложить свой талант к какой-то одной области знаний. Конечно же, существуют точки соприкосновения в разных научных сферах. И Шеннон вполне естественно понимал те связи, что объединяли его работу в области теории информации, в сфере создания роботов, шахматных программ и инвестирования. Немногим удавалось так далеко заглянуть в будущее и понять, что информационная революция фундаментально изменит наш мир. Но именно это понимание заставляло Шеннона делать выбор в пользу исследовательской работы, а не узкой специализации. Он мог продолжать извлекать выгоду из своей успешной работы по теории информации еще многие десятилетия. Но к тому времени, когда он прибыл в МТИ, его внимание переключилось на другие проблемы. Студенты той эпохи вспоминали, что сам Шеннон не очень много времени уделял теоретическим вопросам и проблемам теории информации. Но если вы подходили к нему с каким-то вопросом из области робототехники или искусственного интеллекта, отмечали они, он сразу навострял уши и был весь внимание.
Студенты той эпохи вспоминали, что сам Шеннон не очень много времени уделял теоретическим вопросам и проблемам теории информации.В 1963 году великий русский математик Андрей Колмогоров так высказался по этому поводу: «В наши дни, когда человеческие знания становятся все больше и больше узконаправленными, Клод Шеннон является исключительным примером ученого, который сочетает в себе глубокое абстрактное математическое мышление с широким и в то же время очень конкретным пониманием насущных технологических проблем. Его можно равно назвать одним из величайших математиков и также одним из величайших инженеров за последние несколько десятков лет». Подобное безразличие к видимым противоречиям распространялось и на весь его образ жизни. Он был окружен мировой славой, но при этом предпочитал вести по большей части уединенный образ жизни. Он писал новаторские статьи, но, будучи недовольным их текущим состоянием, откладывал их на неопределенное время и принимался за то, что было интересно ему в данный момент. Он разбогател, изучая движения рынка и потенциал перспективных проектов малого бизнеса, но жил подчеркнуто скромно. Он взошел на свою башню из слоновой кости, снискав все лавры и почести в виде профессорских званий, но не чувствовал никакого смущения, играя в те игры, что предназначались для детей, и создавая трактаты, посвященные жонглированию. Он был страстно любознательным, но временами беззастенчиво ленивым. Он был в числе самых продуктивных, почитаемых умов своей эпохи, но при этом производил впечатление человека, способного швырнуть это все за борт ради удовольствия сконструировать что-то в своей мастерской.
Его стилю работы была свойственна такая легкость и непринужденность, что иногда можно забыть о глубине и сложности тех проблем, над которыми он работал. Но несмотря на всю кажущуюся беззаботность, Шеннон брался за решение самых важных научных проблем своей эпохи и работал на пересечении математики, вычисл ительных наук и инженерного дела – в некоторых случаях помогая уточнить и доработать их границы. Один из первопроходцев в области искусственного интеллекта Марвин Минский, узнав о смерти Шеннона, сказал: «Чем сложнее была для него проблема, тем больше была вероятность, что он откроет что-то новое». Подобный подход требовал смелости – то качество Шеннона, которое хорошо отражено в словах одного из его сослуживцев по «Лабораториям Белла», Ричарда Хэмминга. В теперь уже известной лекции под названием «Вы и ваши исследования» Хамминг перечисляет группе студентов те качества, которые позволяют ученому осуществить первоклассное исследование в области математики и других дисциплин. Особо он выделяет Шеннона и отмечает, что в какой-то степени убедительности его работы способствовала его смелость. «Смелость – это одно из тех качеств, которыми Шеннон обладает в высшей мере. Нужно всего лишь вспомнить о его главной теореме. Он хочет создать способ кодирования, но не знает, что делать, и поэтому придумывает произвольный код. Потом он заходит в тупик. И тогда он задает невозможный вопрос: “Каков будет произвольный код среднего значения?” И далее он доказывает, что этот среднего значения код условно хорош и что, следовательно, существует, по крайней мере, один хороший код. Кто, как не человек с беспредельной отвагой, мог дерзнуть размышлять подобным образом? Это характерно для великих ученых; они обладают смелостью. Они способны идти вперед при невероятных обстоятельствах. Они думают и продолжают думать». Обычно не принято ассоциировать такие области знаний, как математика или инженерное дело, с древним человеческим качеством – отвагой. Но Шеннон и здесь внес особый вклад. И хотя он вряд ли признал бы это, нужно обладать большой смелостью, чтобы думать так, как думал Шеннон, и жить так, как жил он. Все это также оказывало влияние на тех, кто окружал его, включая его студентов. «Когда вы работаете с таким человеком, как Шеннон, вы расширяете свои горизонты, стараетесь добиться большего», – отмечал Лен Клейнрок.
Интересно, что его смелость и эго так уравновешивались, что в какие-то моменты казалось, что это эго у него отсутствует. То было ключевое качество Шеннона, которое активизировало все остальные. Почти при каждой возможности прорекламировать себя Шеннон протестовал. Математики обычно не любят тратить время на проблемы недостаточной сложности, которые они насмешливо называют «игрушечными». Клод Шеннон открыто работал с настоящими игрушками! Он брался за те проекты, которые других, возможно, смутили бы, занимался вопросами, казавшимися тривиальными или незначительными, умудряясь совершить с их помощью научный прорыв. Требуется немалая доля внутренней убежденности, чтобы попытаться создать искусственный мозг, который превзойдет по своим свойствам человеческий – или хотя бы сконструировать машину, единственной функцией которой будет способность отключать себя. И это связано, на наш взгляд, еще с одной отличительной особенностью жизни Шеннона – ценным качеством находить радость в работе. В нашем представлении величайшие умы и гении должны страдать и мучиться. Но за исключением короткого периода в двадцатилетием возрасте, когда Шеннон переживал непростые времена, возможно, даже испытывая депрессию, его жизнь и работа кажутся одной продолжительной игрой. Он был одновременно гением и обычным человеком. И все это происходило у него естественно. Ему не нужно было стараться, чтобы придать происходящему легкости. Шеннон просто получал удовольствие, увлекаясь теми разнообразными предметами, которые были ему интересны. И по рассказам тех людей, кто окружал его, можно сделать вывод, что эти увлечения, как и его ум, были многогранными. Он мог погрузиться в тонкости инженерной проблемы, а потом неожиданно переключиться на обдумывание какой-то шахматной позиции. У него был, ко всему прочему, артистический дар. Об этом говорят такие его изобретения, как труба, выплескивающая пламя, мышь Тесей, флагшток, который он собственноручно вырезал из высокого дерева на своем участке; жонглирующие клоуны, которых он сконструировал во всех деталях. Поклонники Шеннона склонны сравнивать его с М. К. Эшером и Льюисом Кэрроллом точно так же, как они сравнивают его с Альбертом Эйнштейном или Исааком Ньютоном. Он превращал сухие и скучные технические науки в масштабные и увлекательные загадки, решение которых было игрой для взрослых. Вот почему работы Клода Шеннона представлены как на страницах специализированных журналов, так и в музеях. С одной стороны, наверное, сложно делать какие-то выводы из этого. Увлеченность Шеннона выглядит уникальной в своем роде. Но, возможно, его пример говорит нам о том, что легкость может присутствовать и в тех областях, о которых обычно принято рассуждать в степенном и рассудительном тоне. В наши дни редко услышишь чей-то увлеченный рассказ о теоретических исследованиях в области математики или других научных дисциплин. Скорее, мы говорим об их практической пользе – для общества, экономики, наших перспектив работы. Изучение такого комплекса знаний, как естественные науки, технологии, инженерное дело и математика, является для нас надежным средством получить работу, но не радость от процесса познания. Овладение этими академическими дисциплинами сродни поеданию овощей – нечто ценное и нужное, но не всегда вкусное. Это, похоже, не то, чего бы хотел Шеннон. Он был инженером – человеком, который больше, чем кто бы то ни было, нацеливался на практический результат. И в то же время он был сторонником идеи, что любое знание ценно само по себе и что любое открытие приятно просто по факту. Как он сам говорил, его «больше привлекало само решение проблемы, чем то, к чему оно приведет». Один из его современников, оценивая пристрастие математика с мировым именем к одноколесным велосипедам, как и другие его увлечения, отмечал: «У него не было желания создать компанию по производству одноколесных велосипедов. Ему было интересно выяснить, как сконструировать велосипеды, чтобы они были необычными, узнать о них что-то новое». Его подход вдохновил целое поколение талантливых изобретателей. Хочется привести здесь слова Боба Галлагера, который описывал настроения ученых, работавших в области теории информации примерно в то же время, что и Шеннон: «Тот заинтересованный подход к исследованиям, свойственный Шеннону, был уже в ходу, когда я учился в аспирантуре в МТИ. Интеллектуалы были в моде. Все хотели одинаково разбираться в математике, физике и связи. Открытие компаний, зарабатывание миллионов, разработка прикладных тем были вторичны. Да, был интерес к тому, чтобы приблизить теорию к реальности, но теория стояла на первом месте. Нашими ролевыми моделями были неторопливые и вдумчивые ученые». Сегодня нам, вероятно, было бы сложно найти академический факультет, отвечающий данному описанию, но попытка того стоит.
К концу жизни Шеннон не растерял своего озорства и беззаботности даже в общении с самыми высоколобыми интеллектуалами. Пообещав журналу Scientific American свою статью по физике жонглирования, он тут же переключил свое внимание, случайно наткнувшись на проект, относящийся к совершенно иной области. Этому посвящено его послание своему редактору, написанное в 1981 году: Дорогой Дэннис! Ты, вероятно, думаешь, что я попусту растрачиваю свое время, пока моя статья по жонглированию томится на полке. Но это верно лишь наполовину. Недавно я пришел к двум заключениям. 1) Я больше силен в поэзии, чем в науке. 2) Журнал Scientific America должен обзавестись поэтической колонкой. Ты можешь не согласиться со всем этим, но я прикладываю к своему письму «Рубрику, посвященную кубику Рубика». С наилучшими пожеланиями, Клод Э. Шеннон P.S.: Я продолжаю работать над статьей о жонглировании.
Далее шла поэма из семидесяти строк, посвященная кубикам Рубика, которую «следовало петь с восьмитактовым припевом под “та-ра-ра! бум-де-ай!”, и подстрочные примечания. Судя по рифме и ритму, было ясно, что автор пробовал, как звучат слова, мысленно менял их местами и громко пропевал их вслух. Текст был серьезно несерьезен. А статья о жонглировании? Ей, как и многим продуктам интеллектуальной деятельности Шеннона, суждено было пылиться на полке. Внимание Шеннона в очередной раз переключилось. И все, что ему нужно было сказать о процессе жонглирования, было сказано, по крайней мере, его это удовлетворяло. Но все же у него осталось чувство сожалению в связи с этим эпизодом. Он был расстроен, что его поэма так и не попала на страницы журнала Scientific American. Он со смехом признавался: «Это одна из моих самых выдающихся работ!»
Благодарности
Эта книга могла быть написана в двух вариантах: с позиции эксперта или с точки зрения начинающего исследователя. В первом случае это была бы работа специалиста, пытающегося отправить всем нам разборчивое послание, при этом не упрощая его, чтобы сделать понятным для новичков и непосвященных. Во втором случае такая книга представляет собой работу людей, исследующих данную тему и пытающихся передать то, что они узнали в процессе ее изучения. Книги первого типа порождаются уже имеющимся знанием. Книги второго типа рождены тем, что физик и бонвиван Ричард Фейнман назвал удовольствием от поиска ответов. Каждая модель имеет свои преимущества и свои недостатки. Данная книга относится ко второму типу. Мы – биографы, не математики, не физики и не инженеры. Все, что мы можем сказать о своей не экспертного уровня книге, это то, что мы пытались писать ее так, как хотели бы жить. А это значит, что нас с самого начала преследовало назойливое чувство: есть нечто губительное в том, чтобы использовать то, чего ты не понимаешь, или, по крайней мере, то, что ты только пытаешься понять. Мы начали с идеи о том, что было бы неблагодарно и неправильно наслаждаться тем изобилием окружающей нас информации, даже не пытаясь задаться вопросом, откуда это все взялось. Мы не первые, кто живет с этим ощущением, и не первые, кто пытается избавиться от него. Вот как Артур Кёстлер, студент-физик, ставший впоследствии прозаиком, сказал об этом однажды: «Современный человек живет изолированный в своем искусственном окружении, но не потому, что искусственное – это само по себе зло, а из-за отсутствия у него понимания тех сил, которые заставляют это окружение работать, тех законов, которые связывают его гаджеты с силами природы, с вселенским порядком. И вовсе не центральное отопление делает его существование “неестественным”, а отказ проявить интерес к тем законам и принципам, которые стоят за ним. Будучи полностью зависимым от науки и в то же время закрыв глаза на это, он ведет жизнь городского варвара». Мы бы добавили здесь: и это не Интернет неестественный, и не наше поглощение информации, а нежелание интересоваться их источниками, тем, как и почему они возникли здесь, в потоке нашей истории и какими были те мужчины и женщины, которые сделали это возможным. Мы считаем, что наш долг – начать изучать эти вещи. Полагаем, что та честь, которой наш герой достоин, если бы ему это вообще было важно, вовсе не преклонение, а хотя бы частичное осмысление его деятельности.Выполнить этот долг было бы сложно, если бы нам не оказали огромную помощь. Дэн Кимерлинг – наш друг и предприниматель и тот, кем Шеннон, несомненно, восхищался бы. Он первым высказал идею написать биографию Клода Шеннона. Пусть это была случайно оброненная фраза приятеля (подкрепленная книгой о «Лабораториях Белла»), но она в итоге привела к тому результату, который вы сейчас держите в руках. И за это вдохновение мы благодарим Дэна. За то, что верила в нас с самого начала, и за понимание ценности данного проекта, когда это была всего лишь идея в наших умах, мы благодарны Лоре Йорк, нашему агенту. Она заставляла нас идти с любыми самыми слабыми идеями именно к Элис Мейхью, и когда нужно было, подталкивала нас, чтобы мы довели начатое до конца. Она – легенда книжного бизнеса, и это вполне заслуженно! Никто не обладает более острым чутьем на потребности книжного рынка, чем Элис Мейхью из издательства Simon and Schuster. Она также легендарная личность, и теперь мы понимаем, почему. Среди многочисленных счастливых событий, случившихся с нами за последние несколько лет, самым первостепенным можно назвать то, что она стала редактором этой книги. Элис Мейхью обладала безграничной верой в этот проект, даже в те моменты, когда наша собственная уверенность могла пошатнуться. Как и с целым поколением биографов, она проделала с нами потрясающую работу. За это и за ее бесподобное редактирование мы будем благодарны ей всегда. Так же, как мы будем благодарны Стюарту Робертсу из ее команды за то, что он приложил все свои усилия, чтобы сделать этот проект успешным. Стюарт необыкновенно умен, терпелив и добр, и именно поэтому он – правая рука Элис Мейхью. Джон Гертнер, автор книги «Фабрика идей», явился вдохновителем этого проекта, даже не подозревая об этом, а потом щедро дел ился с нами своими советами. Он отвечал на все наши вопросы, последовательные и не очень, предлагал нужные контакты и исследования и рассказал об одной неопубликованной истории о Торнтоне Фрае и математической группе «Лабораторий Белла», которая оказалась чрезвычайно важной. Он был самым ценным проводником для писателя, создающего произведение исторической направленности, – человеком, который уже прошел той самой дорогой и знает, где тупик или бесперспективность. И он был достаточно любезен и добр, указывая нам на них, за что мы ему глубоко признательны. (О, и если читатель еще не прочитал его книгу «Фабрика идей», мы настойчиво рекомендуем ее вам. Вряд ли вы найдете лучшее повествование об истории «Лабораторий Белла» и о том, как создавались передовые институты.) Кроме того, бесценным источником информации для нас стала книга Джеймса Глейка «Информация» и магистерская диссертация Энрико Маруи Гуиццо «Важное сообщение». Джоанна-Кинг Слуцки оказалась первоклассным ассистентом. Искать людей вне сферы науки и инженерии, которым известно имя Шеннона, дело трудное. Найти такого человека, как Джоанна, которая уже успела написать свой собственный труд, посвященный Шеннону, прежде чем занялась этим проектом, было настоящей удачей. Она была кропотлива, вдумчива и так же увлечена этой работой, как и мы. Профессор Серджио Верду из Принстонского университета стал нашим незаменимым гидом в мире теории информации и вносил дух коллегиальности и вдумчивости во все наши обсуждения. Его неподдельный интерес к магии жизни Шеннона являлся для нас движущей силой на протяжении всего проекта, и он усердно прочитывал каждую страницу, фиксируя все ошибки. Пока мы пишем эти строки, он вместе с режиссером Марком Левинсоном («Страсти по частицам») работает над документальным фильмом, посвященным Шеннону. Мы не сомневаемся, что фильм будет великолепным. Ближе к концу проекта мы связались с доктором Алексом Магуном – какое же счастье, что мы это сделали! Он дал нам свой собственный черновой вариант и корректировал многочисленные ошибки в макете. То, что он читал материал одновременно как человек, увлеченный этой темой, и как опытный историк, способный подправить возможные неточности, помогло нам безмерно. Мы благодарны ему за то время, что он потратил, и те ошибки, которые обнаружил. Маркус Велдон и вся команда Nokia Bell Labs – отдельно хочется упомянуть Питера Винцера и Эда Экерта – открыли для нас свои двери и архивы. Мы благодарны им за то, что уделили нам свое время и поделились своими ресурсами. Представление о «Лабораториях Белла» является ключевым для понимания жизни Шеннона, и мы бы не смогли проделать эту работу без их помощи. Уилл Гудмэн, интернет-ищейка высочайшего класса, помог нам найти контактную информацию членов семьи Шеннона и его современников. Нам хочется верить, что сам Шеннон был бы впечатлен большой любознательностью Уилла, его можно было бы назвать изобретателем-детективом двадцать первого века. Мы благодарим родных Шеннона за то, что нашли время поделиться семейными историями с двумя совершенно незнакомыми им людьми. Бетти Шеннон согласилась побеседовать с нами, и из ее рассказа мы многое поняли о той связи, что существовала между ней и ее покойным супругом. Сын и дочь Клода, Эндрю и Пегги Шенноны, тоже очень подробно делились с нами своими воспоминаниями. Они оба были столь любезны, что согласились прочитать знакомую им историю о человеке, которого они очень хорошо знали, и исправить по ходу ошибки (и даже опечатки!). Мы не смогли бы завершить этот проект без их помощи, и мы в долгу перед ними. Многие люди, подобно Шеннонам, отвечали на официальные письма по электронной почте и на телефонные звонки и тратили свое время, чтобы сесть и поговорить с нами. Роберт Галлагер согласился на интервью, а потом дотошно читал каждую страницу макета и исправлял множественные недочеты. Он невероятно щедро делился своим временем и был терпелив по отношению к двум гуманитариям. Артур Льюбель также читал макет, вносил мудрые замечания и позволил нам увидеть ту часть жизни Шеннона, что была посвящена жонглированию. Том Кайлат помог нам разобраться в том, какой вклад внесли Шеннон и Винер в теорию информации, и прочитал раннюю версию данного материала. Дейв Форни написал длинный конспект по поводу этого текста, который оказался невероятно полезным и помог нам освоиться с математикой настолько, насколько способны два нематематических ума. Мы ценим их вклад. Кельвин Карри помог нам найти, скомпоновать и представить подборку фотографий в середине этой книги. Не имея подобного опыта, он просто погрузился с головой в работу и добился потрясающего результата. Без его помощи мы бы не смогли собрать необходимые фотографии, чтобы хорошо рассказать эту историю. И мы благодарны ему за его помощь. Наша самая искренняя благодарность Брокуэю Макмиллану, Ирвину Джейкобсу, Рональду и Фэн Чанг Грэм, Джону Хоргану, Ларри Робертсу, Энтони Эфремидису, Марии Моултон-Барретт, Лену Клейнроку, Генри Поллаку, Норме Барцман, Эду Торпу, Мартину Гринбергеру, покойному Бобу Фано и покойному Соломону Голомбу. Все они щедро делились своим временем и помощью, заметно обогатив наш проект. Нашим собственным семьям эта книга позволит узнать часть тех бесконечных любопытных фактов о жизни Шеннона. Нет, серьезно, мы достигли своего предела, и на этом мы остановимся. Хотя малышек Винис и Абигейл, родившихся с разницей в одну неделю в тот последний год, когда завершался наш проект, в будущем, возможно, ждет какая-то новая информация.
Об авторах
Джимми Сони работал редактором в еженедельниках New-York Observer и Washington Examiner и шеф-редактором Huffington Post. В прошлом работал спичрайтером. Его статьи и комментарии публиковались в изданиях Slate, The Atlantic, на CNN и в других информационных источниках. Окончил Дьюкский университет.Роб Гудмэн – докторант Колумбийского университета и бывший спичрайтер, работавший в Конгрессе. Он писал статьи для Slate, The Atlantic, Politico и The Chronicle of Higher Education. Его научные работы появлялись в журналах History of Political Thought, Kennedy Institute of Ethics Journal и The Journal of Medicine and Philosophy.
Сони и Гудмэн – соавторы книги «Последний гражданин Рима: Жизнь и наследие Катона, заклятого врага Цезаря».

Последние комментарии
58 минут 43 секунд назад
6 часов 44 минут назад
6 часов 49 минут назад
6 часов 53 минут назад
6 часов 54 минут назад
6 часов 59 минут назад