Очерки теории искусства [Герман Александрович Недошивин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
ГЕРМАН НЕДОШИВИН ОЧЕРКИ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИСКУССТВО" МОСКВА 1953От автора
Предлагаемые читателю «Очерки теории искусства» ни в какой мере не являются систематическим курсом марксистско-ленинской эстетики. Такой курс можно создать только усилиями целого коллектива. Цель настоящей книги гораздо скромнее — попытаться в кратком очерке охарактеризовать лишь некоторые проблемы эстетики. За последние годы появился ряд работ, посвященных вопросам марксистско-ленинской эстетики. Это немало облегчило задачу автора этих строк. Но все же многие и многие теоретические проблемы искусства остаются совсем или почти неразработанными. Вытекающие отсюда серьезные трудности для систематического изложения эстетики известны каждому, кто пробовал свои силы на этом поприще. И по сей день эстетика наша резко отстает от все возрастающих потребностей теоретического осмысления практики социалистической художественной культуры. В этом отставании виноваты только мы сами — философы и искусствоведы, занимающиеся вопросами эстетики. У нас есть все предпосылки для плодотворного развития теории искусства. В бессмертных трудах классиков марксизма-ленинизма содержится стройная система взглядов на искусство, составляющая незыблемую основу советской эстетики. Произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина являются для нас замечательной сокровищницей глубочайших теоретических положений по различным важнейшим проблемам искусства. Огромное значение для разработки вопросов теории искусства имеют документы Коммунистической партии, на всем протяжении истории Советской страны руководящей и направляющей развитие искусства по пути, определенному с единственно правильных позиций — научных позиций марксизма-ленинизма. Образцы глубокого теоретического анализа принципиальных проблем художественной культуры мы находим в работах выдающихся деятелей партии — М. И. Калинина, А. А. Жданова, Г. М. Маленкова, В. М. Молотова и других. Замечательный теоретический материал содержится в работах А. М. Горького, эстетическое наследие которого хотя и разрабатывается главным образом литературоведами, но, как показали дискуссии последних лет, не всегда с правильных теоретических позиций. Необходимо подчеркнуть также значение трудов видных пропагандистов марксизма, прежде всего Г. В. Плеханова, который, несмотря на ряд ошибок, содержащихся в его статьях по искусству, сыграл немалую положительную роль в разработке марксистской эстетики. Марксизм и в области эстетики опирается на весь положительный опыт развития передовой мысли прошлого. Традиции материалистических художественных взглядов, уходящие, с одной стороны, в эпоху античности, с другой — на Восток, в частности в Китай, изучены нами еще недостаточно. Даже высший этап в развитии материалистической эстетической мысли домарксова периода — эстетика русских революционных демократов — далеко не полностью изучена и освоена. А между тем стройная материалистическая теория искусства Белинского, Чернышевского, Добролюбова представляет для нас самое значительное и актуальное наследие во всей истории эстетической мысли домарксова периода. Сейчас начинается новый этап развития советской эстетики как науки, обусловленный бурным ростом советского искусства, новым обогащением его идейного содержания и формы. Труды классиков марксизма-ленинизма, документы Коммунистической партии учат нас глубоко и конкретно ставить проблемы искусства. Вооруженные марксистско-ленинской теорией, мы должны разработать вопросы специфики искусства и отдельных его видов, художественного мастерства, ряд проблем практики советского искусства в период подготовки перехода от социализма к коммунизму. Предыдущие годы в развитии нашей эстетической теории были временем формулирования самых общих проблем, общих исходных положений. Предлагаемая работа — одна из попыток подвести известные итоги пройденному за последние годы пути. Специальностью автора объясняется известная односторонность работы как в выборе проблем, так, особенно, и в выборе примеров. Будучи специалистом в области изобразительных искусств, он опирался на известный ему материал и не стремился казаться энциклопедистом. Думается, что сейчас одна из важнейших задач эстетики — решительно покончить с абстрактным логизированием, имевшим довольно широкое распространение среди нас, работников эстетики. В таком схоластическом логизировании анализ конкретных вопросов искусства подменялся начетническим «саморазвитием» мысли. Автор ныне ясно ощущает этот недостаток в некоторых частях своих старых работ по вопросам эстетики, и он старался при последней обработке текста преодолеть следы такого подхода к проблемам в «Очерках». Книга эта выросла из ряда лекционных курсов, которые читал автор в разных научных и учебных учреждениях столицы, начиная с 1946 года. Впрочем, далеко не все вопросы, излагавшиеся в этих курсах, вошли в «Очерки», и, наоборот, нечто новое появилось и в тексте по сравнению с читавшимися лекциями. Большую помощь в работе над этой книгой автор получил от коллектива научных работников и аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС, а также от коллектива преподавателей, аспирантов и студентов искусствоведческого отделения Московского государственного университета. Без советов, без критики товарищей по работе эта книга не была бы закончена. Готовя «Очерки», автор все время думал об интересах аспирантов и студентов, в частности студентов - искусствоведов МГУ, работа с которыми уже ряд лет доставляет ему большую творческую радость. Их пытливая жажда знаний, их требование настоящей марксистско-ленинской теории искусства побуждали автора сделать эту попытку. Если она недостаточно удачна — в этом вина только пишущего эти строки. Но, быть может, этот опыт, один из первых в нашей литературе, поможет тем товарищам, которые будут дальше разрабатывать проблемы советской эстетики, в частности искусствоведческой молодежи. Если это хоть в какой-то мере так, автор будет считать свой труд не пропавшим даром.Г. Недошивин Москва. Январь 1953 года.
Искусство как форма отражения действительности
I.
Теорию какого-либо предмета уместно начинать с определения сущности самого предмета. Только дав общий ответ на вопрос о том, что такое искусство, возможно двигаться дальше в изучении важнейших сторон эстетической теории. Поэтому законно начать наши очерки с попытки охарактеризовать в основных контурах проблему сущности искусства. Определить, в чем сущность искусства, значит прежде всего определить его специфику, те его особенности, которые отличают его от других форм общественного сознания, хотя с ними у искусства есть, разумеется, общие черты, свойственные сознанию вообще. Все общественные явления имеют нечто общее. Но, как указывает И. В. Сталин, у общественных явлений, кроме этого общего, имеются свои специфические особенности, которые отличают их друг от друга и которые более всего важны для науки. Именно поэтому прежде всего требуется предпринять попытку указать на отличия искусства от других форм общественного сознания, на такие особенности, которые присущи именно искусству. Нам нет необходимости излагать бесчисленное множество самых различных определений искусства, которыми пестрит история эстетической мысли. Мы не ставим перед собой цели — углубляться в обозрение огромной эстетической литературы. Но если мы попытаемся разобраться в массе этих разнообразных формулировок, то увидим, что они в общем тяготеют к одному из двух полюсов. Или искусство рассматривается как одна из форм осознания человеком объективно существующей действительности, или в нем видят отражение (либо выражение) «духовных начал» — божества, «идеи», «субъекта» и т. п. Или за первичное принимается мир, реальная жизнь, а за вторичное — искусство, или искусство представляется самостоятельным, независимым от жизни. Нетрудно обнаружить связь этих двух групп определений сущности искусства с двумя основными направлениями в философии — материализмом и идеализмом. В первом случае, когда искусство, по существу, рассматривается как отражение объективной действительности, мы имеем дело с материалистическим утверждением первичности бытия и вторичности сознания. Идеалистическая эстетика пытается противопоставить объективно-научному истолкованию сущности искусства свои фантастические концепции о первичности духа перед материей, о независимости искусства от действительности. Уже из этого ясно, что подходить к определению сущности искусства можно, лишь опираясь на определенные общефилософские предпосылки. Если основной вопрос, разделивший философов на два лагеря, есть вопрос об отношении мышления к бытию, то основной вопрос эстетики как науки может быть сформулирован как вопрос об отношении искусства к действительности. В зависимости от ответа на этот вопрос, в конечном счете стоит разрешение и всех остальных вопросов эстетики. Это — фундамент, база, на которой строится все здание эстетической концепции. Если Гегель рассматривал искусство как одну из форм, ступеней саморазвития «абсолютного духа», то это явилось исходным пунктом всех пороков идеалистической эстетики философа прусской монархии. Великий русский демократ Чернышевский, предприняв разгром идеалистической эстетики Гегеля, начал с постановки вопроса об эстетических отношениях искусства к действительности и признал художественное творчество отражением жизни, создав на этой основе самую прогрессивную, самую цельную эстетическую концепцию материализма во всей домарксовой философии. Отвечая на основной вопрос эстетики с позиций марксизма-ленинизма, мы должны начать с попытки установить строго научный, материалистический взгляд на вопрос об отношении искусства к действительности. Искусство есть одна из форм общественного сознания, одна из специфических отраслей духовной жизни. В качестве таковой оно подчинено тем же общим законам, которым вообще подчиняется сознание общественного человека. Ниже мы подробнее ознакомимся с положением искусства в обществе и, в частности, попытаемся указать на место искусства в ряду надстроек, но уже сейчас необходимо подчеркнуть, что всегда, на всех этапах развития человечества — от первых шагов первобытно-общинного строя и до нашего времени — искусство было одной из форм отражения действительности сознанием общественного человека. Реальная действительность всегда является источником любых идей, которые возникают в обществе. Уже первобытные наскальные изображения животных представляют собой первые попытки осознания мира, воспроизведения наблюденных в действительности явлений. Весь многообразный мир искусства на всем протяжении его многовековой истории дает нам картину отражения объективной реальности, бытия человеческим сознанием, отражения, закрепленного, зафиксированного в художественных образах. Далеко не всегда, правда, это отражение есть на самом деле объективное отражение действительности. Так, средневековое искусство часто создавало изображения-символы, далекие от конкретного, реального облика вещей и явлений. Средневековая художественная теория пыталась обосновать этот отход искусства от жизни утверждением, что художник подражает не действительности, а «божественному» «архетипу». Но попытка теоретически противопоставить искусство реальности не означала того, что на практике средневековое искусство было независимо от действительности. На деле любое условное искусство представляет собой все же осознание мира, хотя и в фантастической, извращенной форме. Мистически-визионерское искусство Греко создает облики людей-призраков, существующих в каком-то причудливо смещенном пространстве. В этом искусстве, как в капле воды, отражается напряженная и сложная эпоха феодальной реакции. Конкретный анализ позволяет нам раскрыть земную основу даже самого далекого от реализма искусства. Это уродливое «...сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни...» В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее. К очень серьезным ошибкам приводит подмена тезиса, что всякое сознание есть отражение бытия, другим, что всякое сознание есть якобы правильное отражение бытия. Некоторые прогрессивные художественные критики за рубежом пытались обосновать и оправдать уродство формалистического искусства тем, что оно будто бы отражает уродливый, бесформенный и хаотический мир капитализма. Верно, конечно, что распад общественного сознания, выражающийся в формалистическом искусстве, отражает разложение общества, обострение его жесточайших антагонизмов. Но в какой-нибудь сюрреалистической картине, при всей нарочитой «достоверности» ее бредовых образов, разумеется, нет ни грана объективного отражения действительности. Формализм рождается, упадочным капиталистическим строем, но именно поэтому в нем и не содержится объективного отражения мира. Наличие таких превратных форм художественного отражения действительности, как сказано выше, имеет своим источником противоречия материальной жизни и не коренится в самой специфике искусства. Все дело в конкретных исторических условиях, в уродливом искажении сущности и задач искусства, диктуемом реакционным классовым интересом, который гипертрофирует, ставит с ног на голову, извращает какие-то стороны бесконечно сложного познания действительности. Марксизм-ленинизм учит, что объективная действительность познаваема, что сознание человека способно отражать с большей или меньшей глубиной существующую вне нас и помимо нас материю. «Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин», — подчеркивал В. И. Ленин это основное положение диалектико-материалистической гносеологии. Это общее положение применимо и к искусству. И искусство, подобно науке, представляет собой отражение действительности, в которой нет ничего, что принципиально не было бы доступно такому отражению. Весь мир является предметом искусства. Общественная жизнь и природа, любые события и явления, сложнейшие субъективные переживания человека составляют реальное содержание художественных произведений. Действительность, существующая помимо и вне сознания, служит для искусства источником его образов, материалом, без которого оно не может существовать. Сознание человека пусто, лишено содержания, пока оно не соприкасается с реальным миром при помощи опыта. Искусство лишается всякого содержания, коль скоро оно отрывается от действительности. Формализм — ярчайший тому пример. Абстрактные кубистические или супрематистские сочетания форм ни в малой мере не являются объективным воспроизведением форм реальной действительности, и это превращает их в совершенно пустую бессмыслицу, лишенную какой бы то ни было ценности, хотя, как мы указали выше, и это уродливое сознание возникает на определенной общественной почве. Иными словами, действительность, существующая вне нас и помимо нас, есть для искусства первичное, ее художественное осознание — вторичное. Искусство есть отражение действительности, отражение, более или менее объективно и полно воспроизводящее сущность, содержание, качества и свойства самой действительности. Эти общие предпосылки являются исходным пунктом для характеристики интересующей нас формы человеческого сознания — искусства.II.
Легче всего подойти к определению искусства в анализе его соотношения с другими видами общественного сознания. Человек может познавать действительность разными способами; искусство и наука являются двумя такими способами. Их сближает единство целей и предмета — и искусство и наука имеют своей задачей познание объективной реальности. В этом смысле наука и искусство представляют собой лишь различные формы осознания окружающего мира общественным человеком. Коллективизация может служить предметом изучения со стороны историка, и она может стать объектом художественного познания. В первом случае в результате мы будем иметь научное исследование, в другом, скажем, роман, как, например, «Поднятая целина» М. Шолохова. В обоих случаях предмет и цель познания будут, говоря в общей форме, одни и те же (разумеется, при наличии объективно-правдивого метода познания): раскрыть сущность событий, происходящих в советской деревне конца двадцатых — начала тридцатых годов. Различны будут, как мы увидим ниже, формы познания, а также в некоторых случаях и различные стороны явлений окажутся в центре внимания художника и ученого. Иногда научное изучение и художественное познание мира могут быть так тесно связаны друг с другом, что временами даже трудно уловить четкую грань между этими двумя формами осознания действительности. В эпоху Возрождения в Италии научное изучение человеческого тела — анатомия — и живопись шли рука об руку в теснейшем взаимодействии друг с другом. Леонардо да Винчи исследовал структуру человеческого тела как ученый, и трудно сказать, были ли эти его научные занятия подспорьем для его живописного творчества или, наоборот, его художнические штудии — подготовительными моментами к научным выводам. В истории русского пейзажа XVIII и начала XIX века немалую роль играла работа художников в различных географических экспедициях. Научное задание — делать «снимки местностей» — сливалось с художественными наблюдениями природы. Итак, наука и искусство объединяются единством предмета и цели познания. Но они суть различные формы познания. В чем же различие между ними? Мы можем исходить в нашей попытке определить сущность искусства из определения Белинского: «искусство есть ...мышление в образах». Согласно Белинскому искусство и наука равно познают действительность, но искусство познает действительность в образах, в то время как наука познает ее в понятиях. Разберемся в этом вопросе подробнее. Наука, начиная с наблюдений над отдельными фактами действительности, обобщает эти единичные наблюдения, открывает законы, управляющие теми или иными явлениями, и затем формулирует эти законы в понятиях, равно охватывающих все конкретные случаи, безразличных к случайным особенностям единичных явлений. Конкретный описательный материал имеет в науке первостепенное значение, он составляет обязательную базу обобщений, без которой научное понятие превращается в пустую абстракцию. Без огромного количества единичных фактов, которые, по словам И. П. Павлова, являются «воздухом ученого», невозможны никакие объективные выводы. Но самое описание конкретных фактов не составляет еще конечной цели науки. Историк, исследующий какой-нибудь темный, малоизученный период прошлого, добывает таким исследованием конкретный материал для дальнейших обобщений, в конечном счете для установления закономерностей исторического развития. Археолог, раскапывающий древнее городище, устанавливает конкретные единичные факты, составляющие, так сказать, первичные научные истины: он выясняет характер производства, образ жизни, формы утвари, оружия, одежды, жилья и т. д. Но подобные истины — мы называем их фактами — являются материалом для обобщения, создания общего вывода. Разумеется, для этого наука пользуется не только методом индукции, но и методом дедукции. Однако для нас сейчас важно выяснить соотношение единичных фактов и научного способа их обобщать. Задача науки — открытие и формулирование в общем виде объективных законов, управляющих явлениями. Знание этих законов затем оказывается исходным пунктом практической деятельности людей, а она, в свою очередь, вновь становится источником знаний. Так, например, знание законов наследственности дает в руки советскому сельскому хозяйству могучее орудие в практическом воздействии на природу, а практика сельского хозяйства питает дальнейший рост агробиологии. Обратимся теперь к искусству. В нем всегда результат познания выступает не в отвлеченной форме понятия, а в конкретно-чувственной форме образа. Какие бы обобщения ни содержались в художественном произведении, они всегда воплощаются в облике единичного факта, явления, лица. В литературных произведениях действуют конкретные люди, с ними происходят определенные события. Евгений Онегин — типичнейший образ для помещичьей России начала XIX века. Этот образ возник у Пушкина в итоге глубокого обобщения реальных фактов жизни. Но Онегин — определенный человек, со своей личной судьбой, переживающий такие события, которые характерны для эпохи, но все же представляют собой факты биографии именно этого человека. «Бурлаки» Репина — тоже плод глубокого познания жизни; в основе картины лежат серьезные обобщения. Но в картине художника живут и действуют конкретные люди — Канин, Ларька, отставной солдат, — идущие по определенному месту волжского берега, в определенное время жаркого летнего дня. Таким образом, обобщение действительности выступает в науке и искусстве в разных формах. Художник не формулирует в своем произведении законов. В самом деле. Возьмем ли мы картину, предположим, «Явление Христа народу» А. Иванова, скульптуру, скажем, «Давида» Микельанджело, литературное произведение, допустим, «Мать» А. М. Горького — всюду мы увидим изображение конкретных единичных образов: людей, действий, событий, фактов. Конечно, во всяком реалистическом произведении художник изображает все эти единичные явления в соответствии с их внутренним смыслом, с их сущностью. Художник-реалист умеет видеть и показывать типические события и характеры. Для ученого отдельные явления — материал, на основании которого он раскрывает законы, управляющие явлениями; для художника явление — это та плоть, в которой он только и может показать сущность. В художественном произведении, таким образом, не формулируются непосредственно законы явлений, искусство изображает закономерные явления, а стало быть, предполагает и познание законов действительности. Разумеется, границы между научным и художественным мышлением не абсолютны. В «Войне и мире» Льва Толстого десятки страниц являются изложением философско-исторических взглядов писателя и, строго говоря, принадлежат к сфере научно-философской, хотя они и вошли в ткань гениального художественного произведения. Знаменитое начало «Коммунистического манифеста» представляет собою могучий и яркий художественный образ. Ученый нередко пользуется художественно-образным способом выражения; художник, в особенности писатель, не менее часто обращается к чисто научным обобщениям. Идеалистическая эстетика не раз пыталась разорвать искусство и науку, противопоставить их друг другу не по форме, а по сущности. В художественном «созерцании» склонны были видеть более глубокое «знание» истины, чем в научном понятии, которое будто бы охватывает лишь «поверхность» явления. Так, реакционная «теория» символизма протаскивала идейку о том, что только с помощью художественного «символа» человек способен проникнуть в «тайну» вещей в себе, в то время как наука неспособна якобы дать подлинно глубокого знания. Но эта «теория» имела целью опорочить всякое познание объективной действительности, и научное и художественное. На самом деле различие науки и искусства относительно, оно есть различие форм познания объективной реальности. Одной из характернейших особенностей буржуазной эстетики является стремление оторвать искусство от других форм идеологии, принципиально противопоставить им искусство. Уже Кант видел суть прекрасного в том, чтобы оно нравилось нам без всякого понятия, и утверждал, что суждение вкуса не зависимо от какой бы то ни было примеси «материального интереса». Обособление «чисто эстетического» становится особенно настойчивым в эпоху упадка буржуазной эстетической мысли с конца XIX века. Некоторые историки искусства старались доказать, что собственно художественное мышление появилось лишь с эпохи Ренессанса, что в античности и в средние века искусство смешано с религией, наукой, этикой и т. д. и что «чистое суждение вкуса» начинается там, где искусство удовлетворяет обособившейся до конца потребности человека в прекрасном. На практике это приводило к самым уродливым утверждениям. Реакционная буржуазная «наука» пыталась доказать, что будто лишь тогда, когда искусство не несет в себе никаких познавательных моментов, когда оно не связано ни с какими моральными критериями, оно становится якобы в «подлинном смысле слова» искусством. Джотто — основоположник итальянского искусства Возрождения — превозносился за то, что в его творчестве якобы возникает замкнутая в себе эстетическая система, не нуждающаяся ни в каком ином суждении с точки зрения истины и добра. Игнорировались элементарные вещи: что Джотто один из первых открыл истинную трехмерную картину мира, что он дал глубоко этические образы, осуждающие предательство («Поцелуй Иуды»). «Пересмотр» классики понадобился, однако, реакционно-идеалистическому искусствознанию лишь для того, чтобы объявить апогеем искусства упадочный формализм, в самом деле «независимый» от истины и от всякого прогрессивного этического критерия. Джотто. Поцелуй Иуды.
Джотто. Поцелуй Иуды.
Формалистическое искусство провозгласило своей добродетелью отсутствие правдивости в отношении к действительной картине мира, и, торопясь «освятить» эту художественную ложь, буржуазные искусствоведы-формалисты решительно отвергают критерий правды в искусстве, единственный глубоко научный критерий. Формалистическое искусство, провозглашая принцип «по ту сторону добра и зла», делается в действительности апологетикой социальной несправедливости, ибо оно выступает с требованием не выносить правдивого суждения о мире, быть равнодушным к жизненной борьбе. Реакционно-буржуазное искусствоведение выдвигает категорическое требование — абсолютно разграничить этические и эстетические критерии. Так появляется в современном буржуазном искусстве проповедь аморальности, прекрасным объявляется безнравственное, декларируются «красота преступления» и «серая будничность добродетели». Формалистическое искусство пытается утверждать как эстетически ценное все безобразное, преступное, низменное, тем самым безнадежно стремясь оправдать все то, что является законом жизни в буржуазном обществе. Таковы глубоко земные корни тезиса об «эстетической суверенности» искусства. Американский сюрреализм, призывающий к «поэзии» подсознательного, темных звериных сторон человеческой души, представляет собой наглядный пример «искусства», окончательно разорвавшего с критериями истины и добра. Отвратительные фантасмагории сюрреалистов являются циническим отрицанием правды жизни и вместе с тем одним из самых гнусных орудий деморализации человека. Марксистско-ленинская эстетика исходит из основного тезиса диалектико-материалистической гносеологии о познаваемости мира. Действительность может познаваться человеком с разных ее сторон и в различных ее качествах. Но это разумеется, ни в какой мере не должно приводить к релятивизму, к сомнению о существовании объективной истины. В единстве предмета познания кроется основа внутреннего единства науки, искусства и этики. Все эти три формы идеологии направлены на то, чтобы отразить, осознать определенные стороны объективной действительности. Иногда полагают, что понятие о нравственном есть нечто только субъективное. Однако, как нам кажется, такая точка зрения глубоко ошибочна. Относительность нравственных суждений, конечно, отражает различие или даже противоположность классовых интересов. Но «добро» с точки зрения пролетариата и «добро» с точки зрения буржуазии — не просто два чисто субъективных «взгляда» на вещи. Первое является отражением, осмыслением того, что соответствует объективно необходимому ходу развития общества от капитализма к коммунизму, второе — этому прогрессивному движению в корне враждебно. То, что буржуазия провозгласила «нравственный» принцип — «человек человеку волк», — свидетельствует не о субъективности этических норм, а о попытке возвести аморальность буржуазных отношений в «вечный» нравственный догмат. Здесь уместно поставить вопрос о соотношении искусства и нравственности, эстетической и этической оценки. Аксиома, например, что русское искусство XIX века в лице его наиболее прогрессивных представителей никогда не отрывало понятия добра от понятия красоты и оба эти понятия от понятия истины. Само общественное призвание художника рассматривалось как нравственный долг перед народом. «Сейте разумное, доброе, вечное», — этот завет Некрасова был своего рода нравственным кредо русских художников-демократов. Но, может быть, это специфическая особенность только русского искусства второй половины XIX века, и мы не должны отсюда заключать о более общих связях искусства и нравственности. Ведь ставил же А. Бенуа вкупе со всей мирискуснической компанией в вину передвижникам их «общественные идеалы». Декаденты провозгласили принципиальную незаинтересованность в моральных оценках своего творчества. Они кичились своей внеморальностью, имморализмом, не дерзая еще, подобно современному экзистенсиализму, цинично декларировать свою враждебность морали, «моральность. Но здесь речь идет об упадочных, уродливых явлениях искусства. Если же взять передовые, значительные явления искусства, они всегда, прямо или косвенно, были прочно связаны с передовой моралью эпохи. Такое великое искусство, как искусство Возрождения, выдавалось буржуазными искусствоведами за искусство имморальное. Леонардо изображался холодным циником, а идеалом человека Ренессанса объявлялся кондотьер — личность, лишенная каких бы то ни было моральных устоев. Конечно, у Рафаэля нет такой осознанной программы нравственной оценки людей, как у Рембрандта, а мудрая человечность веласкесовского искусства бесконечно нравственно осознаннее венецианского гедонизма Джорджоне и Тициана. Но здесь различие — не между нравственным и безнравственным, а между двумя формами связи искусства и нравственности. XVII век прямо и открыто давал моральные оценки людям и событиям. Так, Веласкес в своих «Пряхах» прославил душевную красоту человека из народа. В эпоху Возрождения самую красоту человека рассматривали как добродетель, как выражение человеческого благородства. Чувственная красота ренессансного героя есть честная красота, и в этом смысле она родственна античности.
 Д. Веласкес. Пряхи.
Д. Веласкес. Пряхи.
Кстати сказать, русская демократическая мысль глубоко осмыслила такую нравственность, нравственность действительно прекрасного. Венера Милосская облагораживает, нравственно поднимает учителя Тяпушкина в знаменитом рассказе Г. Успенского «Выпрямила». Красота, даже чисто физическая красота эллинской статуи, «выпрямляет» человека, внушает ему чувство собственного достоинства, облагораживает и очищает душу. Здесь кроется источник органической связи морального и эстетического. Еще Аристотель говорил, что задача искусства — научить человека «правильно радоваться». Лишь в те периоды, когда искусство становилось жертвой бессердечного своекорыстия эксплуататорских классов, оно утрачивало эту благотворную, хочется сказать, естественную связь. Так случилось с буржуазным искусством эпохи империализма. Но во всех случаях, когда искусство содержало в себе прогрессивные тенденции, оно осознанно или в ряде случаев неосознанно всегда включало в себя нравственное суждение о мире. Таким образом, мы должны подчеркнуть внутреннее единство науки, искусства и нравственности. Передовое искусство не только не чуждается морали, оно неразрывно с ней связано. Всякий отрыв от нравственных требований, как и отрыв от требования отражения в художественных произведениях объективной истины, для искусства губителен. Сила советского искусства состоит в том, что оно опирается на принципы коммунистической морали. Это можно выразить и в других словах: советское искусство изображает доброе с точки зрения строительства коммунизма как прекрасное. Труд передовых советских людей, превратившийся «...из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства», — одна из основных добродетелей советского общества. Передовые художники изображают героический труд советских рабочих, колхозников, интеллигенции, как прекрасное содержание нашей жизни. Иными словами, можно сказать: то, что этика расценивает как добро, искусство изображает как прекрасное. Вернемся теперь к анализу соотношения науки и искусства. Мы видели выше, что искусство, как и наука, познает мир, обобщает, ищет закономерного или типического, но общие понятия, идеи воплощаются в художественном произведении в конкретно-чувственной, непосредственно-индивидуальной форме. Если в науке единичное выступает в форме общего, то в искусстве общее выступает в форме единичного, того, что воспринимается органами чувств как неповторимое явление. Исходной точкой всякого познания действительности является ощущение. Ощущение является источником и художественного познания мира. Но при этом следует иметь в виду, чтобы не впасть в субъективизм, что ощущения суть образы тел внешнего мира, существующего вне и помимо нашего сознания. Но мы совершили бы ошибку, если бы свели суть искусства только к фиксации чувственных, зрительных, слуховых ощущений, первичного, чувственного восприятия мира. Совершенно ошибочно утверждение, что различие искусства и науки в том, что первое имеет своим содержанием ощущения, мир чувств, а вторая — идеи, мир разума. Реакционная формалистическая критика не раз возвращалась к тезису о том, что в искусстве не должно мыслить, а, стало быть, не должна иметь места идейность. Цель проповеди чисто чувственной природы искусства совершенно ясна. Эта цель — лишить художественное творчество познавательного значения, свести его лишь к воспроизведению элементарных чувственных ощущений. Сама формалистическая практика шла по этому пути, уже импрессионизм пытался отречься от мысли в искусстве, свести искусство к фиксации ощущений. Вспомним, что с точки импрессионизма живопись — это «только глаз». Бесспорно, и в творческом процессе художника и в самом произведении искусства чувственность имеет весьма большое значение. Это обусловлено самой сущностью искусства. Всякое настоящее искусство не может существовать вне яркого ощущения и воспроизведения чувственной достоверности мира. Сила Веласкеса или Репина во многом зависит от того, что эти великие художники умели передать действительность с могучей силой чувственной убедительности. Предметный мир в их произведениях является во всей достоверности непосредственного ощущения. Но из этого никак нельзя сделать вывода о том, что воспроизведение ощущений и есть задача искусства, что художественное мышление не идет дальше фиксации чувственных восприятий. Суть искусства, как мы увидим ниже, — в другом. Попытки же идеалистической эстетики и критики ограничить сферу искусства чувственностью всегда приводят к подрыву самой основы художественного мышления. Когда у импрессионистов, например у Дега, передача непосредственного ощущения натуры становится самоцелью, сами эмоции приобретают элементарный характер. Скаковые лошади и танцовщицы становятся для художника на равных правах источником эстетических эмоций. Для того чтобы чувственное в искусстве приобрело свое подлинное значение, оно должно стать выше примитивного ощущения. Чувственность должна стать, по выражению Маркса, человеческой чувственностью. Что это значит? Как и для науки, для искусства ощущение есть начальная ступень познания, когда человек вступает в соприкосновение с действительностью в опыте. Известная формула пути человеческого познания, данная В. И. Лениным, гласит: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности». Всякое осознание мира не останавливается на «живом созерцании», хотя с него и начинается. Само по себе «живое созерцание» не есть еще глубокое, а следовательно, объективное полное отражение действительности. Переход от ощущения к «абстрактному мышлению» не следует понимать как отход от богатства жизненных явлений в сферу сухих и пустых абстракций. Этот переход есть переход от единичного к особенному и от особенного к общему. При этом общее совсем не бледнее единичного, если только оно воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного. В любой форме познания человек от живого созерцания идет к общему, к тому, что мы в искусстве называем обобщением. Обобщение играет в искусстве огромную роль, без него, как и без «живого созерцания», не может быть искусства; деятельность рассудка — необходимое звено художественного познания мира. Переход от ощущения к идее, мысли составляет второе звено художественного дознания, и, можно сказать, что без идеи, являющейся обобщением явлений действительности и служащей исходным пунктом практической деятельности, не может быть подлинно значительного произведения искусства. Существует легенда, что мысль написать картину «Боярыня Морозова» явилась у Сурикова при виде черной вороны на белом снегу. Даже если бы это было именно так, то отсюда совсем нельзя делать вывода о «чисто чувственном» характере этого замечательного произведения. Случайное зрительное впечатление могло оказаться только возбуждающим поводом, первичным ощущением, за которым последовала огромная работа мысли и чувства. Более того, первичное зрительное ощущение в конце концов исчезло в идее и образе картины. «Живое созерцание» черной птицы на снегу возбудило мысль, привело в действие огромный ряд ассоциаций, в которых обобщался вместе с тем колоссальный запас наблюдений, «опыта», не имевшего никакого отношения к заинтересовавшей художника вороне. Без «всеобщего», без больших идей и представлений о судьбах русского народа, о его героях не было бы и не могло быть «Боярыни Морозовой». На этом примере к тому же хорошо видно, как в творческой работе художника могут переплетаться и собственно художественные и научные звенья познания мира. Изучая историю раскола, знакомясь с документами, Суриков, строго говоря, вел научное исследование, но для него оно все время было связано с непосредственный представлением происходящего. Философская мысль в художественном произведении обязательно обнаруживается в конкретно-чувственной форме выражения.
 В. Суриков. Боярыня Морозова.
В. Суриков. Боярыня Морозова.
III.
Здесь мы подходим к уяснению одного из центральных понятий в теории о сущности искусства — к понятию образа. Формулируя еще раз высказанное выше положение, можно сказать, что искусство воплощает результаты познания действительности не в формах понятий, как это делает наука, а в образной форме, в форме конкретно-чувственного, неповторимо-индивидуального воспроизведения действительности. Художественный образ — не просто фиксация чувственно воспринятого облика данного единичного явления или предмета. Когда художник наблюдает какое-либо явление, скажем, лежащий на столе нож, на сетчатке его глаза фиксируется «изображение» этого ножа. Но не надо думать, что даже самая элементарная изобразительная задача сводится к воспроизведению того, что воспринимается сетчаткой как результат внешнего раздражения. К тому же практически это и невозможно. Ведь любое «живое созерцание» человека имеет в качестве своей предпосылки весь предшествующий опыт и знания не только данного индивида, но и — опосредованно — целых поколений. Чувство человека не есть tabula rasa. Когда живописец, предполагая писать натюрморт, ставит перед собой ряд предметов, он, по-видимому, имеет цель воспроизвести на полотне лишь то, что фиксируется его сетчаткой. Но в действительности это не так. Голландские натюрмортисты, старавшиеся с величайшей точностью передать облик предметов, давали в своих произведениях целые «философские» размышления не только о вещах, но и более того — о жизни человека. Чтобы это получилось, мастеру необходимо осознать видимое. Даже учебный натюрморт, составленный из трех-четырех элементарных предметов, имеет своей целью облегчить начинающему художнику изучение структуры вещей, их пространственных и цветовых отношений и т. д., то есть дело идет об осмыслении своих ощущений. Как только сетчатка приняла внешнее раздражение, оно становится достоянием сознания, и тут вступает целый ряд моментов — предшествующий опыт, ассоциации, способность к абстрагированию, те или иные знания, которые превращают первичное ощущение в обобщение. Предмет познается человеком, хотя, может быть, познается лишь с какой-то определенной точки зрения. Так, особенность образного познания заключается в том, что результаты сложных обобщений воплощаются, фиксируются в облике единичных предметов и явлений. Александр Иванов в своей замечательной «Ветке» сумел передать огромное богатство жизненных наблюдений и обобщений: здесь воплощены и мощное торжество неувядающей жизни, и мудрое прозрение в самые глубокие тайны великой книги природы. Но «Ветка» — скрупулезно точное воспроизведение определенного сука определенного дерева. Желая дать образ дерева, художник всегда изображает это дерево, данное дерево, с определенным расположением ветвей и листьев. Он представляет результаты познания, обобщения зачастую очень многих единичных явлений действительности в виде одного конкретного, неповторимого единичного явления. Притом, явление, которое изображает художник-реалист, это такое явление, в котором с наибольшей полнотой обнаруживается сущность. В своей работе «Относительно практики» Мао Цзэ-дун дал очень глубокий анализ соотношения «непосредственного» и «косвенного» опыта в процессе познания действительности: «...знания человека складываются из двух частей — данных непосредственного опыта и данных косвенного опыта. Вместе с тем то, что для меня является косвенным опытом, для других остается непосредственным опытом. Следовательно, если взять знания в целом, то никакие знания не могут бытьоторваны от непосредственного опыта. Источник всех знаний лежит в ощущениях, получаемых органами чувств человека из объективно существующего внешнего мира...». Когда мы изучаем какую-либо науку, предлагающую нам итоги познания действительности в форме понятий, мы приобретаем «косвенный» опыт. Для проверки или закрепления знания мы можем прибегнуть и к непосредственному опыту, но это будет иметь лишь вспомогательное, облегчающее значение. Для восприятия научной истины человек не нуждается в чувственно-наглядном соприкосновении со всей совокупностью отдельных явлений, обобщенных уже для нас ученым. Косвенный опыт я воспринимаю уже, так сказать, обработанным, осмысленным, обобщенным, вместе с теми или иными выводами. Таким образом, при косвенном опыте, в принципе говоря, минуется ступень «чувственного познания», как ее называет Мао Цзэ-дун. Сам характер научного мышления предполагает способность к движению разума в абстракциях, в отвлеченностях общих понятий. Поэтому, приобретя с помощью науки косвенный опыт, человек осваивает, так сказать, уже готовые результаты. Правда, здесь и лежит опасность так называемых «книжных» знаний, без которых не может существовать ни один человек, желающий знать что-либо в действительности, но которые, не будучи оплодотворенными живым и непосредственным опытом, добываемым в практике, могут дать только чисто «теоретическое» обогащение человеческому уму. Наука вне практики мертва, ученый вне практики не более, как «книжный червь», в лучшем случае «ходячая энциклопедия», кладезь готовых истин, иначе — начетчик и схоласт. Итак, когда я черпаю в научном труде какие-то новые для себя истины, я миную чувственную ступень познания. Теоретическое познание обладает несомненным достоинством всеобщности, хотя и не имеет достоинства непосредственной действительности. Теоретическая механика, бесспорно, дает человеку бесконечно более глубокое познание физических законов, чем то, которое он может почерпнуть лишь в своем непосредственном опыте обращения с конкретными предметами, но в научной абстракции математических формул тускнеет непосредственно чувственное ощущение единичных явлений. Образная форма обобщения действительности очень специфична по сравнению с научным обобщением в понятии. В ощущении, в непосредственном опыте человек всегда соприкасается только с единичными явлениями самой реальной действительности. Нельзя чувственно воспринять яблоко вообще, понятие яблока, можно вывести это понятие из ряда конкретных восприятий отдельных яблок. Искусство, создавая образ, то есть воплощая результаты познания в конкретно-чувственной форме, сообщает общему форму единичного, того, что может быть предметом непосредственного чувственного восприятия. Восприятие произведения искусства всегда предполагает чувственную ступень познания. Познанное приобретает облик объекта познания, обобщенное — вид единичного явления. Мы указывали, что результаты науки принимаются изучающим эту науку человеком как косвенный для него опыт. Разумеется, и научное понятие может быть воспринято лишь через посредство ощущений. Геометрическая теорема должна быть прочитана глазами или по крайней мере выслушана. Но в данном случае и глаз и ухо воспринимают не единичные явления — источник математического обобщения, — а уже самое научное обобщение, выраженное словесно. Геометрия, оперирующая линиями, поверхностями, геометрическими фигурами, отвлекается от единичных явлений; она «даёт свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы, как тела, лишённые конкретности, и определяя отношения между ними не как конкретные отношения таких-то конкретных предметов, а как отношения тел вообще, лишённые всякой конкретности». В отличие от науки, искусство никогда не абстрагируется от конкретных предметов, а наоборот, все воплощает в форме единичных явлений, то есть в буквальном смысле слова «воплощает» идею в плоти реальных предметов. Самые отвлеченные и всеобщие идеи художник способен воплощать лишь с помощью изображения тех или иных конкретных явлений. Идея материнства содержится в образе Сикстинской мадонны Рафаэля, идея патриотического самопожертвования — в облике трех братьев Горациев (картина Давида), идея советского гуманизма — в фигуре советского воина, бережно держащего на руках ребенка (скульптура Вучетича), и т. д. Произведение искусства всегда выступает как предмет непосредственного, эмоционального, чувственного восприятия. Художник как бы возвращает обобщение в мир реально существующих предметов и явлений объективной действительности. Разумеется, однако, и произведение искусства для всякого, его воспринимающего, в действительности есть предмет косвенного опыта. Так — по существу, но по форме искусство предлагает результаты познания в виде непосредственно, чувственно воспринимаемых явлений. Наиболее очевидно это в кино, театре и в изобразительном искусстве, где результат познания, обобщения выражается через конкретное изображение данного предмета, данного явления. Картина дает нам, хотя, разумеется, и в преобразованной форме, зрелище того, что мы могли бы увидеть и в самой действительности. Я вижу, как везут боярыню Морозову по старинной московской улочке. Вижу, как готовится купеческая семья встретить жениха-майора, вижу, как суетятся грачи на еще по-зимнему голом дереве, и т. д. Мое восприятие здесь есть восприятие единичных явлений, хотя и воспроизведенных мастерством живописца, это — восприятие того, что является в жизни предметом непосредственного опыта, начинающегося с чувственного познания предмета. Художественный образ обладает, иными словами, достоинством непосредственности. В реалистическом искусстве нет опасности ухода в сухую абстракцию, не наполненную живым содержанием; ибо реалистический образ есть конкретное единство общего и единичного, результат одновременно и абстрагирующей силы человеческого разума и непосредственно чувственного восприятия отдельного. В этом одна из исходных точек уяснения проблемы мастерства. Идея художника и возникает и реализуется в неразрывной связи с ее образной формой, с ее, иными словами, воплощением в единичном. Но об этом — впоследствии. Пока обратимся к дальнейшему анализу интересующей нас проблемы. В «Допросе коммунистов» Б. Иогансона все последовательно индивидуализировано, но каждый персонаж картины — не только данное лицо, он несет в себе «олицетворение» характерных черт множества людей. Сила и глубина обобщения в художественном произведении не только не противоречит индивидуализации, но, наоборот, истинное богатство и глубину образ приобретает только при наиболее яркой убедительности единичного. Б. Иогансон. Допрос коммунистов.
Б. Иогансон. Допрос коммунистов.
В конце двадцатых — начале тридцатых годов «теоретики» РАПХ под флагом борьбы «за диалектический метод в живописи» требовали от мастеров искусства отвлечения от всех неповторимо индивидуальных черт наблюдаемой натуры. Это на практике приводило к грубой схематизации и уводило художников от подлинно глубокого и правдивого отражения жизни. В искусстве общее становится подлинно убедительным, когда оно непосредственно обнаруживается в облике характерного единичного факта. Определенное типичное умонастроение раскрывается с помощью передачи душевного состояния данного лица. Так, мужество и преданность делу народа, характерные для русских революционеров, воплощены Репиным в изображении гневно-презрительного отказа обреченного на казнь революционера от церковного «утешения». Типический образ воплощает в себе общие черты явлений, подлежащих обобщению, сохраняя при этом всю неповторимость индивидуальной характерности. В самой действительности общее существует только в единичном. И если наука, отвлекаясь от единичного, дает общее понятие, которое, однако, всегда неполно охватывает каждое единичное, искусство это общее представляет в единичном облике. Бесконечное многообразие индивидуального отнюдь не противоречит типичности. «Протодьякон» Репина изумителен своей индивидуальной характеристикой. Все яркие черты его внешнего и внутреннего облика принадлежат этому человеку. Но вместе с тем или, лучше оказать, именно через это раскрываются перед нами типичные черты русского духовенства. Таким образом, обобщение, то есть то, что в философии является абстрагированием, есть неотъемлемое звено художественного познания действительности. И в этой сфере познания действует общий закон марксистско-ленинской гносеологии — от конкретного, частного к общему и затем опять к конкретному. Но обобщение в искусстве имеет особый, специфический характер. Если общее неполно обнимает конкретное, единичное, то отсюда еще совсем не следует вывод, что научное познание беднее художественного. В каждом единичном явлении есть элемент случайного, и он затемняет сущность. Наука в этом отношении обладает перед искусством определенными преимуществами, ибо в своих понятиях непосредственно обнажает сущность явления. В науке «...мы отбрасываем ряд признаков, как случайные, мы отделяем существенное от являющегося и противополагаем одно другому». В художественном образе, напротив, сущность содержится лишь внутри единичного я должна через это единичное, так сказать, «светиться».
 И. Репин. Протодьякон.
И. Репин. Протодьякон.
Историку философии нет дела до внешнего безобразия Сократа. Оно не имеет никакого отношения к ходу мыслей философа. Живописец, пожелавший изобразить Сократа, не может игнорировать его внешнего уродства. Художнику постоянно приходится сталкиваться с такими внешними чертами, которые ученый попросту игнорирует. И здесь все дело заключается в том, чтобы подчинить всю массу случайностей необходимости раскрытия сущности вещей, явлений, процессов. Один из пороков импрессионизма заключается как раз в том, что в нем случайное, хотя и существующее в единичном, заслоняет выявление сущности. На лице человека необходимо существуют рефлексы. Но эти рефлексы — результат физических явлений — солнечного света, способности предметов отражать лучи — не имеют существенного значения для сути образа человека. Однако просто отбросить их художник не может, ибо они существуют в жизни. Но все зависит от того, как сумеет художник дать эти рефлексы и для чего. В портрете «Девочки с персиками» В. Серова блестяще переданы рефлексы, но они не самоцель, а лишь одно из средств для вдохновенного раскрытия поэзии чистой человеческой юности. Все случайное в образе необходимо должно быть прямо или косвенно подчинено выражению существенного или по крайней мере не должно этому препятствовать. В картине М. Хмелько «Триумф победившей Родины» передается в соответствии с истиной сырая погода, но вместе с тем всякому ясно, что художник использовал соответствующий эффект для создания мажорного ощущения свежего, омытого дождем воздуха.
 М. Хмелько. Триумф победившей Родины.
М. Хмелько. Триумф победившей Родины.
Было, бы, конечно, ненужным ригоризмом считать, что любая деталь картины или статуи должна во что бы то ни стало непосредственно служить выражению общей идеи. Такое представление при конкретном анализе приводит к тому, что элементы формы начинают истолковываться аллегорически. Возникают вопросы: что выражает собой красный цвет в такой-то картине или неустойчивая, динамическая композиция такой-то статуи. Анализ произведения превращается в хитроумную науку прочитывания сложных ребусов. Между тем в любом произведении искусства многие конкретные детали преследуют одну цель: создание ощущения чувственной достоверности образа. В солнечном свете за окнами комнаты в «Не ждали» нет никакой символики; этот свет создает жизненное правдоподобие, одновременно формируя эмоциональный строй картины.
 И. Репин. Не ждали.
И. Репин. Не ждали.
Нас не будет здесь интересовать детальный анализ теории художественного образа. Проблему образа нам необходимо уяснить лишь настолько, насколько это требуется для правильного понимания сути искусства и отношения его к действительности. Возвратимся еще раз к сопоставлению науки и искусства. Как мы видели, различие между ними не абсолютно, хотя и имеет существенный характер. Для художника научные исследования нередко могут быть подспорьем при создании художественного образа. Но бывает и так, что произведение искусства окажется способным помочь в научном познании какого-либо явления. Известно, что Маркс называл Бальзака «доктором социальных наук» за его романы, то есть за его художественное изображение буржуазного общества, изображение, более объективное и глубокое, чем то, на которое были способны буржуазные экономисты того времени. Бальзак изображал буржуазное общество в длинной цепи конкретных, но типических событий, раскрывая суть складывающихся при капитализме отношений между людьми. Художественные образы, им созданные, обладают огромной силой обобщения, раскрывая сущность явлений. Сам художественный образ есть уже некоторое отвлечение от ряда нетипичных сторон и черточек, наблюдаемых художником в действительности. Идея, представляющая собой результат обобщения действительности, составляет коренное содержание искусства. Ясность и глубина идеи в художественном произведении — плод подлинно объективного познания действительности. Отсутствие ясной идеи — часто результат поверхностности художественного осознания мира. Требование идейности, которое мы предъявляем нашим художникам, есть с этой точки зрения требование наиболее полного и глубокого проникновения в суть реальной действительности. Толстой сформулировал основные идеи «Войны и мира» так, как он их сам понимал в последней части романа в научно-публицистической форме. Но, во-первых, идеи гениального создания Толстого, выраженные в самой ткани произведения, гораздо богаче и глубже того, что сформулировал сам писатель, да и, во-вторых, даже то, что он сформулировал, содержалось в образах романа, иногда, быть может, вопреки правде жизни, как это имеет место в описании некоторых эпизодов с Пьером Безуховым или в образе Платона Каратаева. Но, во всяком случае, Толстому понадобилось не только дать свое известное рассуждение о войне в главе XXVIII второй части романа, но и изобразить самые события Отечественной войны 1812 года в плане этих рассуждений. В этой связи следует затронуть проблему так называемой «тенденциозности». Известно, что Энгельс неоднократно выступал против «тенденциозности» в искусстве, в частности в социалистическом романе конца прошлого века. Он писал Гаркнесс: «Я далек от того, чтобы винить Вас в том, что Вы не написали чисто социалистического рассказа, «тенденциозного романа», как мы, немцы, его называем, для того чтобы подчеркнуть социальные и политические взгляды автора. Я совсем не это имею в виду. Чем больше скрыты взгляды автора, тем это лучше для произведения искусства». Упрекая М. Каутскую за то, что она написала такой «тенденциозный роман», Энгельс подчеркивал, что «...тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось...». По поводу этих высказываний Энгельса в нашей теоретической и критической литературе лет пятнадцать назад разгорелась целая полемика. Некоторые товарищи делали вывод, будто всякая тенденция в художественном произведении вредна и дело художника — просто объективное, беспристрастное изображение реальной действительности. Тенденциозность противопоставлялась объективности. Иногда она третировалась, как «публицистика», якобы разрывающая художественную ткань произведения. Такая постановка вопроса кажется нам глубоко неверной. Прежде всего Энгельс, а также Маркс не раз подчеркивали боевую тенденциозность того или иного художника. Энгельс, как будто предчувствуя возможность кривотолков, писал: «Я ни в коем случае не противник тенденциозной поэзии, как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, точно так же и Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера состоит в том, что это — первая немецкая политически-тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны». Маркс восхищался неукротимым боевым духом поэзии Данте. Само собою разумеется, что для основоположников марксизма открытая борьба художника за свои идеалы не могла быть пороком. Пропаганда передовых идей, их смелая защита всегда были для Маркса и Энгельса, как позднее для Ленина и Сталина, важнейшим достоинством произведения искусства. Выступая против «тенденциозности» социалистического романа, Энгельс выступал прежде всего против определенного содержания тенденциозности — против буржуазных иллюзий в социализме, которыми в изобилии была богата реформистская литература в Англии и Германии в конце XIX века и с которой, как и со всякими другими проявлениями ренегатства, Энгельс считал своим долгом непримиримо бороться. Но дело не только в этом. В знаменитом споре с Лассалем Маркс и Энгельс, противопоставив Шекспира Шиллеру, стали на сторону первого. По мнению Маркса и Энгельса, идея в произведениях Шиллера далеко не всегда приобретает адэкватную, соответствующую образную, «единичную» форму выражения. Выступая против дурной «тенденциозности», Маркс и Энгельс совсем не отождествляли ее с партийностью и уж, конечно, не ратовали за беспартийный объективизм в искусстве. Выразив недовольство отвлеченностью лассалевских героев, Маркс считал, что «...в обрисовке характеров не хватает как раз характерных черт», а Энгельс упрекал Каутскую за то, что в одном из героев ее романа личность растворяется в принципе. Основоположники марксизма требовали, таким образом, чтобы общее, существенное обнаруживалось в искусстве в форме единичного. Они выступали против того, чтобы идея, «тенденция» существовала вне образа, как добавление к нему. Можно сказать еще определеннее. Тем самым они выступали за тенденциозность самого художественного образа, за то, чтобы в нем ясно раскрывалась отчетливая, полноценно выраженная идея. Иначе говоря, идея в реалистическом произведении определяет характер, содержание, смысл образа изнутри, а не добавляется извне, как нечто дополнительное к конкретному изображению единичных вещей. Отсюда ясно, что неверно понимать художественный образ просто как мертвое зеркало явлений, единичных фактов, только как пассивное отражение действительности. Мы вернемся к этому вопросу несколько ниже, но сейчас должны подчеркнуть, что свести художественный образ к простому воспроизведению «наличного бытия» — значит забыть о важнейшей стороне образного познания мира — обобщении, которое предполагает раскрытие закономерностей развития действительности. И именно в том случае, когда самый образ не оказывается органическим выражением идеи, то есть когда он не является «тенденциозным», идея может быть механически «добавлена» в виде внешней тенденции, против которой и протестовал Энгельс. В художественном образе закон явления, его сущность обнаруживается в самих фактах, событиях, вещах, изображаемых художником. Тенденция раскрывается здесь через изображение данного факта, события в показе смысла происходящего, то есть в создании типического образа. «На старом Уральском заводе» Б. Иогансона — глубоко тенденциозное произведение. При этом тенденциозность в нем органически пронизывает образ, ибо раскрывается в характерах людей, в конкретной ситуации. В картине «Купание красной конницы» П. Кончаловский был безразличен к внутреннему содержанию образов красноармейцев, и вещь не спасают признаки внешней тенденциозности — буденновки на головах всадников.
 Б. Иогансон. На старом Уральском заводе.
Б. Иогансон. На старом Уральском заводе.
 П. Кончаловский. Купание красной конницы.
П. Кончаловский. Купание красной конницы.
IV.
Продолжая далее анализ структуры художественного образа как формы отражения действительности, мы должны обратить внимание еще на одну важную сторону дела. Мы справедливо требуем от искусства, чтобы оно волновало нас, видя в этом одно из существеннейших достоинств художественного произведения. И в этом отношении можно разграничить специфичность научного и художественного способов познания мира. Конечно, гениальное произведение науки захватывает и волнует нас, может быть, не меньше, чем произведение искусства. Мы бываем глубоко потрясены силой и глубиной мысли, смелостью человеческого ума, проникающего в самую суть сложных явлений действительности, наконец, «зрелищем» открывающейся перед нами истины. Изучение гениальных научных трудов сверх того, что обогащает нашу мысль, обогащает и наше чувство и волю. Но при всем том волнение, которое мы испытываем при восприятии художественного произведения, качественно отлично от эмоций, сопутствующих изучению научного труда. Любой научный вывод, любое теоретическое общее понятие, если оно правильно отражает объективную действительность, содержит в себе истину и, стало быть, оно в своем объективном содержании существует вне зависимости от того, нравится нам это или не нравится. Объективная научная истина, пользуясь выражением И. В. Сталина, «безразлична к классам», безразлична к субъективным желаниям и стремлениям людей. Другое дело, что общественные классы совсем не безразличны к научным истинам. Современная зарубежная реакционная наука дает этому множество самых уродливых примеров. Понятие, как таковое, в котором непосредственно воплощена истина, не обуславливает необходимо эмоционального к нему отношения. Являясь для нас предметом косвенного опыта, оно не затрагивает прямо эмоциональной сферы сознания. Эмоция в процессе освоения научной истины — вторичное. Не то в искусстве. Сам художник должен обладать интенсивной эмоциональностью. Это — одна из существенных сторон специфически художественного таланта. Важно отметить, что И. П. Павлов называл художников людьми «эмоционально мыслящими». И самый способ обобщения, и характер творческого процесса, и пути воздействия искусства на людей делают вопрос об эмоциональной стороне художественного способа освоения мира крайне важным. Поскольку познанная художником действительность выступает перед нами в образной форме, в форме изображения единичных явлений, восприятие произведения искусства обязательно предполагает эмоциональную ступень познания, как необходимое звено процесса усвоения заложенной в образе истины. Мы уже указывали в другой связи на то, что восприятие художественного произведения начинается с восприятия зрителем изображаемых художником единичных явлений и предметов. «Первый взгляд» на картину доносит до нашего сознания обычно лишь внешнюю сторону происходящего. Посмотрев на «Сватовство майора» Федотова, мы прежде различим фигуру девушки в резком движении, силуэт офицера, подкручивающего ус, позы и жесты других персонажей, аксессуары и лишь затем начнем понимать связь вещей, уловим фабулу, уразумеем богатое содержание федотовской картины. П. Федотов. Сватовство майора.
П. Федотов. Сватовство майора.
Создавая на базе наблюдений, изучения материала, размышлений и переживаний художественный образ, художник формирует в своем сознании то, что Ленин называл «отражением», «слепком» с действительности. Образная форма познания мира с особенной отчетливостью и в буквальном смысле наглядностью демонстрирует нам то приблизительное соответствие, которое существует между реальным предметом, как объектом познания, и его субъективным отражением в человеческом сознании. Но пока образ находится в голове художника, он еще не завершен, и искусства еще не существует. Искусство начинается тогда, когда создано художественное произведение. Живописец, вынашивающий картину, но еще не создавший ее реально, может, например, рассказать о своем будущем произведении. Он сформулирует идею его, опишет образы, сможет указать, какими приемами он предполагает пользоваться. Но все же такой рассказ, как бы ни был он подробен и точен, не заменит и не может заменить самого произведения. Художественный образ должен получить то или иное вещественное воплощение. Он должен объективироваться. Формы такого воплощения в разных видах искусства очень различны. Скульптор воплощает свой образ в материальную, вещественную форму статуи, существующую как реальный предмет; музыкант извлекает из своего инструмента ряд звуков; живописец при помощи красок создает плоскостную иллюзию зрительно воспринимаемой действительности; писатель закрепляет свои образы словесно, при помощи языка и т. д. Никакая мысль не может существовать оголенно, она всегда обладает в качестве своей формы выражения определенной природной материей. Так и любая художественная идея существует лишь в определенной материальной оболочке. В литературе такой материей является язык. Но и в тех искусствах, которые не пользуются языком, например в живописи, скульптуре, инструментальной музыке, мысль, идея может существовать лишь на базе тех образов, восприятий, представлений, которые человек черпает в практическом общении с объективной действительностью, и овеществляются они в «природной материи», различной для каждого вида искусства: в музыке — в совокупности звуков, в живописи — в системе воспринимаемых зрением элементов (краски и т. д.). Но как бы ни были разнообразны все эти формы воплощения, их объединяет то, что каждый раз образы, восприятия, представления, субъективно созревающие в сознании художника, объективируются в материальной форме реального произведения. Конечно, от этого произведение искусства ни в коей степени не перестает быть явлением сознания, идеологии, но нетрудно заметить, что для того, чтобы сделать доступным для людей свой образ, художник должен создать произведение. И самый процесс создания произведения составляет важнейшее звено в художественном освоении мира. Правда, и ученый создает научный труд. Знание, существующее в мозгу исследователя и не ставшее устно или печатно достоянием других людей, тоже еще не факт науки. Но разница заключается здесь в том, что ученый фиксирует в языке результаты своих обобщений непосредственно, а в искусстве этому обобщению необходимо найти форму единичного. Художник как бы воссоздает явления, в которых отчетливо содержится познанная им сущность вещей. Для своей идеи он должен создать «тело», в буквальном смысле слова воплотить свой замысел в произведение. Вспомним, как гонялся Федотов за «своим» купцом для «Сватовства майора», как подолгу и тщательно работал Суриков над образами «Утра стрелецкой казни», как упорно искал Репин наиболее наглядного пластического выражения замысла «Не ждали». Уже в самом слове «искусство» скрывается некоторая двойственность, отвечающая реальному содержанию самого понятия. Слово «искусство» имеет тот же корень, что и слово «искусный», применяемое нами по сей день к огромному кругу людей, крайне далеких от художественного творчества и занимающихся самыми разнообразными формами человеческой деятельности. Правда, мы говорим — «искусный художник», но мы говорим также — «искусный врач», «искусный портной», «искусный кузнец» и т. д. Человек любой профессии может быть «искусником» своего дела. Но все же! Неужели это только каприз языка, объединивший совершенно разнородные явления одним термином. Это не случайность только русской речи. Французский, немецкий, английский и многие другие языки знают очень широкое употребление соответствующих терминов, обозначающих «искусство». Говоря в самой общей форме, мы можем сказать, что «искусник», «мастер» — это тот человек, который в совершенстве, свободно владеет практикой своего дела, своей профессией, что он умеет делать свое дело артистически, превосходно. В отношении собственно искусства это означает совершенство в умении создавать художественные произведения. Вне и помимо высокого мастерства нет и не может быть подлинно совершенного искусства. Именно поэтому задача совершенствования мастерства — одна из насущнейших задач советских художников. На ранних этапах развития искусства, например в средние века, близость ремесла и искусства была значительно больше, чем в эпоху капитализма. Кузнец, гончар, плотник были мастерами определенного материального производства, но одновременно и художниками, мастерами духовного производства. Сфера прикладных искусств обильна примерами соприкосновения искусства и ремесла, искусства и техники. Лишь относительно позднее разделение труда обусловило то, что рисунок для ткани стал делать художник; прежде таким художником был сам ткач. Средневековый кузнец, делавший церковные врата, был и скульптором, подобно тому новгородскому мастеру Авраму, который оставил свой скульптурный автопортрет с орудиями и в фартуке ремесленника на знаменитых Корсунских вратах новгородской Софии. Впрочем, есть одно искусство, признаваемое в кругу «чистых» (в отличие от прикладных), которое по сей день (да и в будущем здесь ничего не изменится) демонстрирует нам органическое единство материального и духовного производства. Это — архитектура. Мастер-зодчий — одновременно и художник и строитель; произведение его — здание — в одно и то же время и факт материальной и факт духовной культуры. В мастерстве архитектора неразрывно слиты искусность инженера-строителя и артистичность художника. Конкретный труд, созидающий определенные потребительные ценности, является критерием мастерства, искусности. Нетрудно поэтому заметить связь между понятием «мастерства» и понятием «творчества». Всякий труд, изменяющий, преобразующий мир, есть творчество — источник любого материального и духовного богатства человека. Тот, кто владеет умением в совершенстве — при данном уровне производительных сил, знаний и опыта — изменять в необходимом направлении тот или иной предмет, явление или процесс, является мастером своего дела. В понятие мастерства необходимо входит элемент владения своим предметом. Средневековое правило, требовавшее от вступающего в цех мастера создания образцового «шедевра», имело целью испытание искусности ремесленника во владении своим делом. Длительный процесс отделения труда умственного от труда физического, экспроприация трудящихся классов приводили к тому, что с течением времени физический труд, создание материальных ценностей, все больше и больше лишался своего творческого характера в глазах трудящегося человека. Особенно резко это обнаруживается с наступлением капиталистической эры. Правда, долго и упорно ремесленники-мастера будут отстаивать свое горделивое право на артистизм, в конечном счете на творческое преображение мира, но неумолимый ход истории капиталистического строя безжалостно отнимет у них это право. Труд рабочего на капиталистической фабрике окажется окончательно лишенным творческого характера. Только социалистический строй вновь возвращает всякому труду его творческий характер, позволяя каждому члену общества до конца развивать свои способности и свое умение. Создание художественного произведения — не мертвый акт, не безразличное к форме «воплощение» субъективного образа. Только в процессе такого создания окончательно формируется образ. Вряд ли возможно представить себе художника, который бы сначала додумал и пережил до конца произведение в своем сознании, а затем приступил бы к писанию картины. Образ, как бы ни был он продуман заранее, чаще всего приобретает окончательную отчетливость в процессе работы над произведением. Суриков, ища воплощения замысла «Боярыни Морозовой», в ходе подбора типов, писания этюдов и эскизов окончательно формировал образ произведения. Менялись, приобретая более яркую характерность, отдельные действующие лица, менялся весь строй картины. Объективирование образа — превращение его в художественное произведение — большая творческая работа, во время которой субъективная идея приобретает свою окончательную реализацию, свою материальную плоть. Живописец думает с кистью в руке, скульптор — над куском глины или воска. Так, Суриков «знал», что сани его Морозовой должны «ехать», но, только пробуя по-разному менять композицию полотна, он, увеличив картину снизу, добился того, что сани «поехали»». Художник, создавая произведение, воплощает свой образ в определенном материале. Преобразовывая свой материал, мастер изменяет его первоначальное состояние, первоначальную форму, подчиняет его своей мысли, заставляет служить своим целям. Формалистическая теория выдвинула в свое время идею, что всякое настоящее произведение искусства «выявляет материал», сохраняет его: скульптура сохраняет блок камня, фреска — плоскость стены, живопись вообще — красочную поверхность. Эта идея порочна уже с общетеоретической точки зрения. Материал искусства служит художнику для воплощения определенной совокупности идей и чувств. Разумеется, смешно было бы ожидать, чтобы Федотов свои жанровые сцены стал выполнять не в живописи, а, скажем, в монументальной пластике. Материал искусства, разумеется, не безразличен к содержанию, но их отношения друг к другу совсем не таковы, как это утверждала формалистическая теория. В процессе творчества, точнее, в процессе создания художественного произведения, материал необходимо преобразуется, так сказать, порабощается мастером. Художник — мастер не тогда, когда он раболепно подчиняется своему материалу, а когда он уверенно и свободно им владеет, когда он побеждает его, заставляя наилучшим образом служить своим замыслам. Яснее всего это видно в скульптуре с ее материально-вещественной формой. Как известно, глыба камня, из которой Микельанджело изваял своего Давида, была брошена, потому что никто из мастеров не брался сделать из нее статую. Великий художник создал фигуру, в которой ни на секунду не замечаешь, что ее движения в известной мере определялись неудобной формой мраморной болванки. Микельанджело целиком сумел подчинить камень задачам образной выразительности. Но как бы ни была важна проблема преобразования «сырого» материала в произведении искусства, особенно для самого художника, она все же не составляет сути, ибо творческий акт мастера состоит не в борьбе с материалом, которая составляет лишь сопутствующий момент. Главное заключается в другом.
 Микеланджело. Давид.
Микеланджело. Давид.
Художник-реалист стремится воспроизвести результат своего познания действительности в индивидуальной, конкретно-чувственной, иначе говоря, образной форме. Он должен воссоздать жизнь, действительность, представить ее такою, какою ее воспринимают наши органы чувств, то есть во всем богатстве ее многообразных свойств. В этом отношении существуют известные границы между различными видами искусств. Так, романисту, описывающему определенное событие, не обязательно рассказать, во что были одеты участники этого события, но это совершенно необходимо живописцу; скульптор не нуждается в большинстве случаев в том, чтобы обозначить, какого цвета галстук носит его герой, или он не может изобразить, в буквальном смысле слова, какова его манера выражаться, и т. д. Границы эти не абсолютны, и их в большинстве случаев можно перейти, но, во всяком случае, всегда в искусстве необходимо учитывать и воспроизводить, воссоздавать массу обстоятельств, от которых легко и без труда абстрагируется ученый. Если историк изучает историю разгрома Наполеона во время кампании 1812 года, и в частности Бородинского сражения, он излагает, как оно происходило, каково было соотношение сил, каковы были замыслы Кутузова, — с одной стороны, и Наполеона — с другой, причем, раскрывая эти замыслы, он имеет право пользоваться или документами, или, в крайнем случае, домыслами, но в этом последнем случае он так прямо и говорит, что это — домыслы, гипотезы. Следовательно, излагая события, он нас информирует об этих событиях в той мере и постольку, в какой мере и поскольку ему это, во-первых, более или менее достоверно известно, а во-вторых, поскольку это необходимо для выведения каких-то общих моментов, выявления сущности, исторической тенденции развития и т. д. При этом историк опустит ряд деталей, не имевших важного, существенного значения для общего хода событий. Но если перед нами художник, который займется изучением и художественным обобщением или, что то же самое, типизацией событий 1812 года и будет воплощать свое познание фактов в художественных образах, он не сможет ограничиться только теми моментами и данными, которые использует ученый. Для ученого в конечном счете совершенно безразлично, был ли у Наполеона насморк в день Бородинского сражения, сидел ли он в ночь перед боем на барабане или на складном стуле. Художник, который хочет показать нам те же события, как это сделал Толстой в «Войне и мире», обязан, даже если он не знает достоверно каких-то деталей, их выдумать, домыслить так, чтобы это было вполне в духе истины. И он их выдумывает, даже когда речь идет об исторических событиях. А когда речь идет о людях, вообще созданных в фантазии художника, то эта фантазия будет правдива, реалистична, если она будет соответствовать истине. И автор обязан предложить нам определенный облик человека, его характер, конкретные события, происходящие при участии этого человека, и т. д. Как мы уже говорили, для художника необходимо облечь результаты своего познания в форму как бы предмета непосредственного опыта. Зритель картины ощущает себя очевидцем того, что в ней изображено. И в этом одна из очень важных особенностей художественного образа. Но поскольку в образе воплощается не первоначальное ощущение, более или менее равномерно фиксирующее все доступное чувствам, без различия существенного или случайного, в задачу художника входит — дать свое обобщение в форме индивидуального, во всей ее неповторимой жизненной яркости. В романе судьбы многих людей, обладающих определенным характером, слагаются в целую систему событий. Они созданы умом, воображением, чувством художника так, как их в большинстве случаев не существовало в действительности, хотя и созданы, если перед нами правдивое произведение, в соответствии с жизнью. Еще Аристотель указывал на то различие между наукой и искусством, что первая говорит о том, что есть, а второе — о том, что могло бы быть по вероятности и возможности. В самом деле, историк, не зная, что думал Кутузов в день Бородинского сражения, или совсем умолчит об этом, или выскажет соответствующую гипотезу. Незнание какого-нибудь частного факта не является для него препятствием в обобщении. Художник не имеет на это права. Он должен создать то, чего недостает в его фактических знаниях, разумеется, однако, так, чтобы это соответствовало «вероятности и возможности». Известно, что Петр I допрашивал своего сына в Монплезире в Петергофе, но никому не известно, как, в какой обстановке происходила его беседа с Алексеем. Неизвестно — стояли они или сидели, в каких были костюмах, каковы были выражения их лиц. Для историка это и неважно. Ему важно содержание разговора и его последствия. Но художник обязан «знать» все обстоятельства дела: «знать», как были одеты оба действующих лица, «знать», что один сидел, а другой стоял у стола, «знать», было ли солнце или стоял пасмурный день. Только «зная» все это, художник Н. Ге и мог написать свою известную картину. Так обстоит дело с историческими фактами и реально существовавшими людьми. Но в огромном большинстве случаев образ художественного произведения целиком создается художником на материале множества отдельных наблюдений, но без обязательного прямого соответствия каким-нибудь определенным фактам действительности.
 Н. Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея.
Н. Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея.
Когда ученый приходит к своему результату познания, он оперирует общими положениями, выводами, понятиями. Определенный психологический закон может быть подтвержден исследователем рядом примеров (притом обязательно взятых из действительности и изложенных с максимальным приближением к фактам), но он будет формулирован в общей форме. Художник тот же психологический закон сделает доступным осознанию, изображая конкретный образ человека, действующего в соответствии с ним. Ученый фиксирует наличную действительность и делает из нее свои выводы, художник должен наделить жизнью своих героев. Перефразируя слова Гейне, можно сказать, что ученый извлекает из тела явлений их душу, художник обязан дать этой душе тело. Он должен «сотворить» своего героя. Понятно, что художник «творит» свои образы, опираясь на материал действительности. Совокупность единичных явлений, созданных художником, может и не существовать в действительности, она целиком может быть плодом его фантазии, хотя в реалистическом произведении фантазия всегда опирается на реальную действительность. Созданный художником мир есть обобщенное отражение жизни, но он приобретает облик существующего конкретного мира людей, явлений и событий. В некоторых искусствах этот момент особенно отчетлив и буквально осязаем. Скульптор создает физическое подобие человеческого тела из куска мрамора или металла. Даже живописец, создающий на плоскости подобие чувственно воспринимаемых предметов, также создает все элементы своего изображения, точнее, воссоздает их, опираясь на натуру, заставляя их зрительно «существовать». Портрет давно умершего человека сохраняет нам его чувственный облик; то, как видел его некогда художник, оказалось вещественно, материально закрепленным. Эту истину в грубо примитивной форме осознавали еще древние египтяне. Мечтая о том, чтобы обеспечить себе чисто физическую вечность, египетские фараоны заказывали скульптурные портреты, которые «живут» и сегодня, когда и самые мумии фараонов истлели. Итак, художник, создавая произведение, является в определенном смысле слова творцом своих образов. Было бы, разумеется, нелепо делать из этого субъективно-идеалистический вывод и считать, что художник впервые творит изображаемую им реальность, как утверждала еще романтическая эстетика. Образы, создаваемые художником, если они действительно полноценны изначительны, всегда вторичны по отношению к действительности, являются ее отражением. Искусство есть осознание объективной реальности, но процесс этого осознания требует своего закрепления в конкретно-чувственной форме. Итак, художник облекает свои обобщения в ряд образов и дает им то или иное материальное воплощение. Здесь, как мы видели, большая роль принадлежит фантазии. Фантазия — неотъемлемое свойство познающего мир человеческого сознания, безразлично, идет ли речь о науке или об искусстве. Но в художественном мышлении фантазии принадлежит особое место, ибо именно эта способность позволяет художнику воспроизвести на основе богатого и разнообразного опыта изучения жизни совокупность или совсем не существовавших, или существовавших в ином виде явлений, фактов, людей, чтобы в них и через них воплотить результаты своего познания действительности. Именно творческая фантазия подсказала Репину облик его царевича Ивана, хотя в основе его лежали и непосредственные жизненные наблюдения (вспомним этюды с изображением Менка и Гаршина). Могучая творческая фантазия позволила Рембрандту создать его потрясающие мифологические библейские сцены, в которых с такой непререкаемой силой воплотилась мудрость глубокого знания реальных людей и реальной жизни. Фантазия в искусстве — великий источник непосредственно-эмоциональной силы произведения, хотя в ней и кроется опасность отлёта от жизни, специфически художественного субъективизма, могущего развиться (как это было, например, в романтизме) вследствие определенных исторических условий. Но реалистическая фантазия, которую В. И. Ленин противопоставлял «мечтательности пустой», создает глубоко жизненные образы, создает их на основе жизни, но все же заново. До Пушкина не было образа Евгения Онегина, хотя он целиком извлечен из наблюдений над дворянским обществом начала XIX века. До Репина мы не знали именно таких «Запорожцев», обладающих изумительной жизненной убедительностью, хотя и «Запорожцы» — плод глубокого изучения исторической действительности и современности. Образы комсомольцев, окружающих Владимира Ильича, в картине бригады художников под руководством Б. В. Йогансона «В. И. Ленин на III съезде комсомола» — не портреты тех людей, что на самом деле были делегатами съезда. В этом смысле они вымышлены художниками, которым надо было создать эти образы в соответствии с исторической и жизненной правдой. Здесь были пущены в ход и знания, и опыт, и память, и фантазия, и наблюдения, и многое другое.
 И. Репин. Запорожцы (пишут письмо турецкому султану).
И. Репин. Запорожцы (пишут письмо турецкому султану).
 Выступление Ленина на III Съезде комсомола.
Выступление Ленина на III Съезде комсомола.
Таким образом, художник очень часто «создает» необходимые ему единичные факты. Отсюда и еще один вывод. Имеется ли и в науке этот момент? Нет. Наука может давать ложные выводы, извращать факты, когда она стоит на идеалистических позициях. Но наука, если она заслуживает этого названия, стремясь лишь к открытию существующего, к установлению законов явлений, существующих вне и помимо познающего субъекта, не может позволить себе «фантазировать», выдумать ни одного факта, ни одного единичного явления, а это сплошь и рядом делает и не может не делать искусство. Находясь в кругу единичных фактов, ученый прежде всего озабочен констатацией их объективного существования. Историк должен прежде всего установить — что было. Первым актом научного исследования оказывается определение реальных явлений, и ни одному добросовестному ученому не придет в голову «фантазировать» для себя подходящие факты. Фантазия ученого помогает ему догадаться о существовании того или иного явления, она затем дает ему возможность восходить от явления к сущности, абстрагировать и обобщать. Но совокупность реальных фактов для него священна. Если не было никогда на свете Пьера Безухова и Андрея Болконского, историк Отечественной войны 1812 года не поставит их в круг героев той эпохи. Художник поступает иначе. Он создает типические характеры и типические обстоятельства. Художественный образ является предметом непосредственно-эмоционального восприятия. Произведение искусства волнует, приобщая зрителя, слушателя, читателя к непосредственному «соучастию» в ряде данных, конкретных событий, изображенных в произведении. Оно воздействует не только на ум, но и на чувство и волю человека. При этом важно отметить еще и следующее, Художественный образ не обладает в той мере достоинством всеобщности, как научное понятие. Теоретическое положение обнимает собой все соответствующие единичные факты, отчетливо выявляя сущность. Художественный образ «заставляет просвечивать» эту сущность через частное, единичное. Здесь источник того общеизвестного обстоятельства, что всякое произведение живописи (как, впрочем, и любого иного вида искусства) дает известный простор для различных толкований, разумеется, в пределах некоторых общих рамок. Общее положение (научная истина) само, так сказать, определяет — и притом точно — свое содержание и границы. Формулировка любого закона природы всегда однозначна, так как здесь уже извлечена сущность из всей совокупности случайных явлений. Когда экспериментатор видит, что в его опыте результат не отвечает ожидаемому в соответствии с известным законом эффекту, он ищет привходящих причин и нередко открывает новый закон. Художник, изобразивший что-либо, охватывает в этом изображении массу самых разных сторон, черточек, особенностей явления. Мы не ошибемся в общей характеристике леонардовской «Джоконды», указывая на воплощение в гениальном портрете идеала человека Возрождения. Но в портрете Леонардо мы найдем затем множество штрихов и деталей, которые позволят по-разному в частностях интерпретировать образ. Иной более акцентирует созерцательный покой, другой — внутреннюю жизнь, пробуждающую на губах Моны Лизы едва уловимую улыбку, третий — сфумато, придающее образу лирическую мягкость, и т. д. И все это будет правильно, ибо в том многогранном воспроизведении зрительного облика реального явления, которое дает живопись, не может не быть многообразия самых различных свойств и качеств. В произведении действительно есть и то, и другое, и третье. Воспроизводя в доступной мере непосредственную действительность, художник, создавая образ, изображает множество сторон и граней, сливающихся в совокупность единичного явления.
 Л. да Винчи. Джоконда.
Л. да Винчи. Джоконда.
Хотя образ есть результат абстрагирующей работы человеческого сознания, но он выступает как нечто, обладающее, подобно самой реальной действительности, в которой живет и действует человек, всей многогранностью свойств и особенностей. Поэтому понятно, что, возвращаясь вновь и вновь к гениальным произведениям искусства, мы не только вникаем в них все глубже и глубже, но каждый раз открываем в них новые грани, читаем и видим их по-новому. Вбирая в себя многое от бесконечного многообразия мира, они способны затрагивать многие струны человеческой души.
V.
Отсюда можно попытаться уяснить специфическую форму связи художественного познания мира с практикой. Познание действительности является для человека исходной точкой практического преобразования мира. И наука и искусство, обогащая сознание людей знанием объективной действительности, ее законов, становятся руководством к действию. Известно, какую огромную преобразующую роль имеют в обществе передовые идеи. Овладевая массами, они становятся материальной силой, переделывающей мир. Но формы, в которых участвуют в практическом преобразовании мира научные или художественные идеи, специфичны. Эти различия определяются местом и общественной ролью различных видов общественного сознания. В отношении науки связь с практикой совершенно очевидна и ясна. Научное познание мира есть в первую очередь та форма отражения действительности, опираясь на которую осуществляется и производственная и всякая иная общественная деятельность человека. Чем более обширной становится общественная практика, тем более богатым в соответствии с потребностями практики становится научное знание о мире. Чем более глубоки теоретические знания человека, тем более потенциально значительно его реальное господство над силами природы. Биолог, изучающий свойства злаков, опираясь на практику сельского хозяйства, приходит к определенным новым открытиям, которые сами затем используются для внедрения в практике сельского хозяйства, способствуя, таким образом, развитию производства. Экономист и историк, изучая развитие общества, открывают его законы, и если они руководствуются подлинно научной теорией, то правильно понятые законы развития общества становятся руководством к действию в практическом социальном строительстве и политике. Иными словами, руководством к действию является определенная теория. Теоретическое, научное познание мира неразрывно и органически связано с практикой, ибо, открывая и формулируя законы явлений, наука дает в руки человеку возможность воздействия на действительность. Как же обстоит дело с искусством? Несомненно, и художественное познание мира вооружает человека для практической деятельности; истины, добытые художником, нередко реализуются в практике непосредственно. Вспомним хотя бы, какую роль играла и играет «Поднятая целина» Шолохова для работников деревни в странах народной демократии. Следовательно, и в этом плане между общественными функциями научного и художественного способов освоения мира нет непроходимой грани. Но зададимся вопросом: почему человечество в ходе своей истории выработало два различных способа познания действительности — науку и искусство. Какова историческая необходимость существования искусства наряду с наукой, наряду с теоретической формой познания действительности? Обратим внимание на тот факт, что классики марксизма-ленинизма, разрабатывая вопросы гносеологии, и в частности ее коренную проблему — связи познания с практикой, всегда оперировали материалом теоретического мышления. Это равно касается и «Тезисов о Фейербахе» К. Маркса, и «Диалектики природы» Ф. Энгельса, и «Материализма и эмпириокритицизма» В. И. Ленина, и труда «О диалектическом и историческом материализме» И. В. Сталина. Случайность ли это? Думается, что нет. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо попытаться выяснить, в чем заключается непосредственная и основная общественная функция искусства, каким образом искусство участвует в общественной практике. Практически искусство выступает, прежде всего, как могучее орудие преобразования сознания общественного человека. Вспомним определение И. В. Сталиным роли советских писателей как «инженеров человеческих душ». Писатель является воспитателем людей, народа. Партия во всех своих постановлениях по вопросам искусства подчеркивала и подчеркивает огромное значение искусства в деле переделки сознания людей в духе коммунизма. Одна из основных задач искусства заключается в том, чтобы служить мощным орудием воспитания человека. Достаточно вспомнить, какое огромное воспитательное значение для передовых русских людей прошлого века имела великая русская литература, творчество русских художников-реалистов, какая могущественная сила положительного примера была у этого искусства, какая неукротимая обличительная страсть! Обладая огромной идейной и эмоциональной силой воздействия на людей, искусство связано с материальной практикой через воспитание человека в том или ином направлении. Являясь одной из форм познания действительности, искусство своими произведениями непосредственно воздействует на нас, переделывая сознание человека. Это то, что мы называем воспитательной функцией искусства. Конечно, и наука, в частности философия, воспитывает человеческое сознание, и здесь опять границы между наукой и искусством относительны. Но для науки это все же сопутствующий момент, а для искусства он основной, центральный. Так подошли мы ко второй важнейшей стороне сущности искусства, которую мы можем назвать проблемой партийности искусства. Проблема партийности искусства — основная, кардинальная проблема советской эстетики. Коммунистическая идейность составляет животворную основу нашего искусства. Нет ни одного крупного произведения советской художественной культуры, сила и значительность которого не были бы связаны с тем, что оно проникнуто идеями коммунизма, идеями Коммунистической партии. Оно тем значительнее, чем глубже и содержательнее раскрывается в нем его коммунистическая, идейная направленность. Идейность искусства неотъемлема от сущности художественного творчества. Реакционно-буржуазная эстетическая теория, пытающаяся, как правило, вообще снять проблему идейности искусства, нередко прибегает к такого рода рассуждениям: по своему существу искусство «бескорыстно» и, стало быть, не преследует никаких практических целей, не содержит в себе никакого материального интереса. По Канту, эстетическое суждение принципиально «незаинтересованно». Иногда, однако, под влиянием «внешних» обстоятельств, искусство «вынуждено» принимать участие в общественной борьбе, становиться на позиции определенной партии и т. д. Формалист Вельфлин соглашался, что в искусстве получают свое отражение общественные идеи века, но он утверждал, что эти идеи не имеют ничего общего с искусством и его «внутренней сущностью». Именно с этих позиций реакционно-эстетская критика начала XX века в лице Бенуа, Врангеля, Дягилева и других пыталась опорочить искусство передвижников, упрекая его в том, что как раз составляло главную его силу: в его передовой демократической идейности. Бенуа отказывался видеть в Перове художника и сожалел о том, что «чистый живописец» Суриков шел «на поводу» передовых идей своего времени. Для буржуазно-реакционного искусствоведения борьба против идейности искусства была средством отстаивать свою собственную контрреволюционную идейность. Борясь против Передвижников, Бенуа боролся против демократических основ русской культуры, выступал на защиту «устоев» буржуазно-самодержавной России. Именно стремлением оторвать искусство от жизни, от реальной классовой борьбы объяснялась мирискусническая проповедь независимости художественного творчества от действительности, от жизненно насущных потребностей народа. Вредное влияние этой буржуазной концепции сказывалось в советском искусствознании в попытках, имевших место еще недавно, рассматривать специфику искусства вне вопроса о его идейности. Конечно, советский искусствовед не может считать, что коммунистическая партийность «искажает» истинную сущность советского искусства, но некоторые иногда склонны полагать, что можно оторвать вопрос об идейности искусства от основного вопроса о его специфике, рассматривать проблему идейности как добавочную, дополнительную. Тут же мы должны внести некоторое уточнение в самую постановку вопроса о партийности искусства. Что такое партийность искусства в наше время, в условиях развития социалистического общества? Это прежде всего активное и последовательное отстаивание интересов народа, наиболее глубоко и полно выражаемых Коммунистической партией. Передовой советский художник — носитель высоких идеалов коммунистического общества, борец за дело народа и партии, за коммунизм. Но из этого нельзя ни в коей мере делать вывода о том, что проблема партийности советского искусства сводится к собственно партийно-политическим понятиям, как это утверждали в свое время рапповцы и всякого рода неорапповские эпигоны. Советский художник партиен не потому, что он состоит членом партии; организационный момент не играет здесь никакой принципиальной роли. Многие передовые советские мастера искусства последовательно проводили и проводят в своем творчестве идеи коммунизма, не будучи членами партии. Достаточно вспомнить Маяковского. И. В. Сталин предостерегал против того, чтобы переносить в область искусства собственно партийно-политические понятия. «Понятие «правое» или «левое» в настоящее время в нашей стране есть понятие партийное, собственно — внутрипартийное. «Правые» или «левые» — это люди, отклоняющиеся в ту или иную сторону от чисто партийной линии. Странно было бы поэтому применять эти понятия к такой непартийной и несравненно более широкой области, как художественная литература, театр и пр.» Всякого рода рапповцы и неорапповцы, подменяя вопрос о содержании искусства как формы общественной деятельности вопросом об организационных формах объединения художников, на деле проводили антипартийную политику разъединения сил на фронте искусства, механически применяли понятия и категории собственно политической борьбы к сфере искусства. Именно поэтому в сфере искусства вопрос о партийности должен ставиться в первую очередь как вопрос об идейном содержании творчества того или иного художника, о том, в конечном счете, «кому выгодно» его искусство. Советский художник видит поэтому высшую свою цель в труде на благо народа, помогая своим творчеством строить коммунизм, укреплять нашу великую Родину. Здесь решает идейная направленность искусства того или иного мастера. Смазывание вопроса об идейной сущности искусства, подмена его вопросами организационно-политическими, деление художников на «партийных» и «беспартийных» не может привести ни к чему иному, как к снижению роли искусства, к непониманию его подлинно преобразующей роли в советском обществе. Непонимание того основного факта, что советский художник партиен тогда, когда он объективно в своем творчестве проводит идеи Коммунистической партии, служит народу, всегда таит в себе опасность самой порочной путаницы. Вопрос об идейности советского искусства, всякого искусства вообще должен ставиться в неразрывной связи с вопросами о сущности художественной формы осознания действительности и ее общественной функции. Вот почему рассмотрение проблемы идейности искусства, как «привходящей», пусть даже и существенной проблемы эстетики, вольно или невольно есть следствие идеалистических концепций, отрывавших искусство от реальной общественной борьбы. Творцом учения о партийности искусства, как части теории о партийности идеологии вообще, был великий Ленин. Беспощадно разоблачая реакционеров всех мастей и оттенков, он показал, что за провозглашением независимости искусства от жизни скрывается защита интересов эксплуататорских классов. В борьбе против теории «искусства для искусства», против всех и всяческих представителей реакции Ленин развил свое гениальное учение о партийности искусства. В самый разгар революции 1905 года В. И. Ленин пишет свою знаменитую статью «Партийная организация и партийная литература», в которой развернуто формулирует принцип партийности, искусства. Противопоставляя лживую «свободу» буржуазного искусства задачам искусства, связавшего свою судьбу с освободительным движением рабочего класса, он писал в этой статье: «В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой,— социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме». Ленинское учение о партийности искусства представляет собою основу теории развития искусства в социалистическом обществе, а до его возникновения — в условиях социалистического революционного движения. Суть партийности, неразрывной связи искусства с практическими задачами революционного преобразования жизни Ленин видел в том, что «литературное дело должно стать частью общепролетарского дела...». Ленин требовал открытой связи искусства с народом и его насущными, практическими интересами. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на вопросе о характере партийности советского искусства; об этом речь пойдет в четвертой главе. Но отметим, что коммунистическая партийность искусства в условиях победившего социализма имеет специфические, характерные черты сравнительно с теми формами партийности, которые имели место в искусстве антагонистических классовых обществ. До нашей эпохи мы нигде не найдем такой последовательной, ясной, а главное, осознанной связи художественной идеологии с жизнью и борьбой общества, с революционным классом, как в условиях социализма. Даже революционные эпохи отдаленного прошлого порождали художественные направления, в которых народная, демократическая идейная основа причудливо переплетается с различными иллюзиями и ограниченными сторонами мировоззрения. Так, творчество Брейгеля было вскормлено эпохой нидерландской революции, и мы ощущаем ее дыхание в жанрах и религиозно-мифологических композициях мастера, но он не мог прямо и открыто воплотить в своей живописи историческое дело фламандского плебейства. Художественные взгляды общества всегда отражают определенные социальные интересы. Поскольку художественные взгляды входят в состав надстройки (подробнее об этом будет сказано в главе второй), искусство, выражающее эти взгляды, подчиняется общим законам, управляющим развитием надстройки. Художественные идеи, составляющие содержание искусства, представляют собой, таким образом, отражение определенных общественных потребностей и интересов, и поскольку это так, постольку и само искусство в классово-антагонистическом обществе не может встать на позиции одинакового отношения к классам. Связь искусства со всеми формами общественной борьбы, в особенности с теми, которые являются в данную эпоху ведущими, — существенная, характерная особенность его истории. Партийность искусства может выражаться в сложных формах. Она совсем не только в идейно-политической программе произведения; такой программы непосредственно мы нередко и не обнаружим. Но это, разумеется, не значит, что перед нами «беспартийное» искусство. Задача историка — суметь раскрыть в любом явлении искусства его реальную связь с практическими потребностями развития общества. Еще в древности эта связь художественного творчества с практикой жизни оказывается весьма наглядной. Она выражается и в спокойной уверенности идеального мужа — образцового воина-спартиата у Поликлета и в яростном пафосе подавления непокорства низших в Пергамском алтаре. В средние века она обнаруживается в форме столкновения религиозных концепций, как, например, в период смены романского искусства готикой, когда очеловечение образа бога в пластике XII—XIII веков имело своим источником борьбу за свои человеческие права всех тех, кому феодализм оставил в удел смирение и покорность. Иными словами, искусство всегда выражает в своих образах идеи, стремления, мысли и чувства того или иного класса, той или иной общественной группы.VI.
Возникает вопрос, не противоречит ли это положение изложенному выше тезису о том, что искусство есть отражение действительности, что оно есть форма познания мира. Разумеется, нет. Ленинское учение о партийности искусства прочно опирается на базу диалектико-материалистической гносеологии. Именно поэтому неверно видеть в проблеме партийности искусства некую привходящую проблему, не касающуюся вопроса о сущности искусства. На самом деле раскрытие основ учения о партийности искусства ведет нас к руководящим принципам теории отражения. Это ясно уже из сказанного выше о связи искусства с практикой. Ленин включил партийность в самую основу теории познания. Задача искусствоведения заключается именно в том, чтобы рассмотреть партийность искусства как важнейшую сторону его сущности. Марксизм-ленинизм учит, что, родившись из определенных условий материальной жизни, общественное сознание становится мощной преобразующей силой, хотя, разумеется, не само по себе, а через материальную практику. Ленин указывал, что сознание не только отражает мир, но и творит его. Это кардинальное положение марксистско-ленинской гносеологии, раскрывающее диалектику бытия и сознания, должно быть положено в основу понимания проблемы идейности искусства, его активно-преобразующей роли. Для того чтобы практически воздействовать на действительность, человеку необходимо знать, каковы будут результаты того или иного его действия. Отражая действительность, познавая объективные законы развития мира, сознание дает предпосылки практического в нее вторжения. Познавая свойства огня, первобытный человек осознал и возможности его практического применения, познавая свойства камня, — возможности изменения его формы в целях его приспособления для своих нужд. Деятельность человека — целесообразная деятельность: прежде чем начать практическое действие, человек обладает в сознании его планом, которым он руководствуется. «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении работника, т. е. идеально. Работник отличается от пчелы не только тем, что изменяет форму того, что дано природой: в том, что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю» (К. Маркс). Именно в этом смысле человеческое сознание способно творить действительность. Разумеется, это не надо понимать идеалистически. «Идеи вообще ничего не могут выполнить, — писали Маркс и Энгельс еще в «Святом семействе». — Для выполнения идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу». Но практическая деятельность человека, направленная на изменение мира, — его труд — предполагает «идеальную» цель, которая является результатом предшествующего, добытого в практике, в опыте знания действительности. Возвращаясь к приведенной выше формулировке Ленина, третьим звеном процесса человеческого познания следует считать переход от абстрактного мышления к практике. Реализация в действительности своего «плана» обогащает человека, давая ему новый опыт, новые знания и навыки. Совершается диалектический процесс, в котором практическая деятельность обогащает сознание человека, а это последнее в свою очередь ставит новые практические цели. Наиболее ранние неолитические сосуды грубы и бесформенны. Упражнение в гончарном искусстве обогащало, однако, сознание человека, и он ставил перед собой новые, более сложные цели. Его сосуды постепенно становятся более совершенными по форме, появляется орнамент, который постепенно делается все правильнее и богаче, и т. д. Итак, для того чтобы творить, человек должен знать или, по крайней мере, предполагать, каковы будут результаты его творчества. Его деятельность целесознательна. Это знание приобретается в практике и затем снова ее обогащает, создавая новые замыслы, новые планы, новые стремления. Здесь лежит принципиальная разница между деятельностью человека и «деятельностью» животного. Руководствуясь инстинктом, животное воздействует на окружающую среду лишь постольку, поскольку это сообразуется с потребностями данного вида; его отношения к миру ограничены этими непосредственными потребностями. Оно не познает действительность, не использует в своих целях объективно-существующих свойств и качеств любых вещей и явлений, если только они не могут быть непосредственно ассимилированы; оно не знает, каковы будут следствия данного действия, если эти следствия не касаются его собственной шкуры. Окружающий мир привлекает внимание животного лишь постольку, поскольку он может быть непосредственно усвоен или поскольку он угрожает опасностью; животное все и вся «меряет на свой аршин». Наоборот, человек руководствуется в своем практическом творчестве знанием объективных свойств и качеств явлений, которые он уже на самых ранних стадиях своего развития, худо ли, хорошо ли, может направить себе на пользу. Маркс указывал, что человек «творит» в меру каждого вида и умеет подойти к предмету с подходящей мерой. Огонь — ужас всякого животного в диком состоянии — становится для человека защитой, помощью в производстве и приготовлении пищи. Дикая лошадь, интересующая хищника лишь как предмет добычи, в определенный момент становится для человека домашним животным, которое человек использует в меру ее вида, эксплуатируя ее силу, быстроту, выносливость. «Коротко говоря, — пишет Энгельс, — животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия; человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней». В труде человек познает объективные качества вещей и явлений и научается использовать их для своих целей. Камень, обработанный рукой человека, не исчезает, но приобретает новые качества, вернее, обнаруживаются его объективные свойства. Чем шире, богаче, сложнее деятельность общественного человека, тем глубже проникает его сознание в суть вещей, тем богаче познание мира человеком; а чем полнее само это познание, тем большие возможности раскрываются для человеческого творчества, для практической деятельности. Изменение мира человеком строится на знании объективных законов действительности, открываемых им в самой практике. С этой точки зрения можно сказать, что творчество человека — не уничтожение объективно существующих вещей, а скорее наоборот, вызывание их к жизни. Драгоценный камень, найденный в своем естественном виде тусклым и бесформенным, когда он подвергнется обработке искусной рукой гранильщика, зажжется своим волшебным огнем. Металлическая руда — хрупкий, крошащийся, ни к чему не пригодный материал, — выплавленная в печи, становится гибким, прочным благородным веществом, из которого уже первобытный кузнец, недаром превращенный в «колдуна» в народных сказаниях, умеет делать много чудесных вещей. Знание свойств предметов, законов, управляющих природой, умение использовать их, умение вызвать к жизни не выявлявшиеся пока силы действительности, подчинить их себе, словом, умение управлять предметом своей деятельности, господствовать над ним — такова основа, на которой развертывается творчество человека в любой сфере его деятельности. Говоря коротко, сознание человека становится могущественным его орудием в борьбе со средой, средством «творить» действительность, поскольку оно планирует, направляет, корректирует, совершенствует самую практическую деятельность. Мы брали примеры ив области ранней истории человечества. Но во все эпохи сознание обладает активной силой, воздействующей через практику на действительность, преобразуя ее. Это ясно обнаруживается в наши дни, в социалистическом обществе, где человек действует на основе познанных им объективных законов общественного развития, где общество руководствуется планом, основанным на знании этих законов. «Доказано, — учит И. В. Сталин, — что общество не бессильно перед лицом законов, что общество может, познав экономические законы и опираясь на них, ограничить сферу их действия, использовать их в интересах общества и «оседлать» их...». Но это, как показал И. В. Сталин в своем труде «Экономические проблемы социализма в СССР», не означает, что общество может по своему произволу изменять или «преобразовывать» объективные законы действительности. Научно познавая эти объективные процессы, Коммунистическая партия осуществляет руководство развитием общества. Она в своей теории и практике сочетает глубочайшее изучение законов истории на основе самой передовой научной теории марксизма-ленинизма с их наиболее смелым, революционным использованием. Утверждение, что сознание может преобразовывать мир, совсем не означает, как сказано выше, какого-либо компромисса с идеалистическими концепциями. Положение это отнюдь не приводит к признанию первичности сознания и вторичности бытия, оно указывает лишь на диалектическое между ними взаимоотношение. Сознание порождается бытием, но затем воздействует на действительность через посредство практики. Само последовательное развитие принципов материализма требует утверждения этого важнейшего тезиса. Здесь лежит водораздел между диалектическим материализмом и всеми домарксовскими формами материализма. «Главный недостаток всего предшествующего материализма (включая и фейербаховский) заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, практика; не субъективно». Сознание творит действительность не само по себе, не по имманентным законам мысли, но оно способно полагать себя в действительности, поскольку человек преобразует мир, изменяя его. Осуществляется это при помощи материальной практики, реального изменения мира трудом, творчеством. Борьба со средой в целях ее приспособления к своим нуждам, устранение того, что препятствует движению вперед, вызывание к жизни нового, плодотворного — таков революционный дух человеческой практики, руководимой человеческим сознанием. Только в практике, в реальном преобразовании мира обогащаются и совершенствуются человеческое чувство и человеческая мысль, и в практике же проверяется истинность человеческого познания действительности. Превратить субъективное стремление в реальный, объективно существующий факт, преобразовать действительность в соответствии с потребностями человека, победить в борьбе, чтобы почерпнуть в победе новые идеи и новые силы для новых свершений, — такова высшая человеческая красота. В ходе истории вследствие разделения общества на классы и порабощения трудящихся самое развитие человеческих способностей совершалось противоречиво. Творческая преобразовательная деятельность людей была превращена в источник эксплуатации. Труд из первой потребности жизни, каким он должен быть, каким он является в коммунистическом обществе, превращался в тяжкое бремя. Это было исторически неизбежно, но эта историческая неизбежность не должна скрывать от нас того, что антагонистические противоречия общественного развития уродовали творческую деятельность трудящегося человека, часто принижали его, превращая из творца в раба своего дела. Именно поэтому борьба за освобождение народа, за раскрепощение труда, за общественный прогресс составляла одну из главных, ведущую форму передовой общественной деятельности. Революционное преобразование общества всегда оказывалось в прошлом единственной формой социального развития, и «историческое творчество масс», как непосредственно в производстве, так и в преобразовании всего здания общественных отношений, представляет собой основное содержание подлинной истории человечества. Утверждение новых форм жизни, отвечающих новому уровню реального господства человека над силами природы, осуществляемое в борьбе передовых и отживших общественных сил, составляет конкретное выражение изменения мира. Классовая идеология — могучее орудие в борьбе за утверждение в жизни данных общественных интересов. Каждая из идеологий, после того как они обособились друг от друга в ходе развития общественного разделения труда, служила человеческому обществу орудием в борьбе с природой, в общественной борьбе, служила исходным пунктом практики, в тоже время являясь ее осознанием. Искусство было таковым с первых дней своего существования и таким осталось оно до сегодняшнего дня. Оно было и остается могущественным средством революционизирования сознания в руках передовых классов, его использовали и продолжают использовать реакционные классы как средство тормозить развитие общества. В этом последнем случае искусство наполняется уродливым содержанием, теряет связь с жизнью, а иногда и вообще перестает быть искусством, как это имеет место в современном реакционно-буржуазном «художественном творчестве». Подлинных высот искусство достигало лишь тогда, когда оно выполняло свое призвание революционизирующей общество силы, как это было, например, в России в XIX веке. Могучий расцвет реалистического искусства — литературы и живописи, музыки и театра — был порожден тогда мощной волной освободительного движения. Но это великое искусство сделалось, в свою очередь, огромной, революционизирующей сознание общества силой. Большое искусство всегда насыщено передовой идейностью. Высокоидейной была античная трагедия и пластика, таким было искусство Данте и Микельанджело, Шекспира и Рембрандта, Бетховена и Гюго, Пушкина и Глинки, Александра Иванова и Гоголя, Стендаля и Домье, Репина и Мусоргского, Толстого и Горького. Таким будет оно и впредь. Боевой, революционный характер искусства отнюдь не померкнет после торжества коммунизма во всем мире. Преобразуются лишь формы его идейности. Сейчас, в эпоху, когда мир расколот на два лагеря, центр тяжести борьбы лежит в столкновении между передовыми силами социализма и силами империалистической реакции. Искусство необходимо выражает прежде всего интересы этой борьбы. В советском искусстве, за которым идут прогрессивные художественные силы во всем мире, передовые, народные идеи выражаются открыто и прямо, ибо оно защищает интересы прогресса, интересы народов, самые высокие и прекрасные идеалы. Реакционно-буржуазное «искусство» воплощает самые реакционные идеи, но воплощает трусливо, маскируя свое подлинное лицо под личиной «чистого творчества», ибо оно защищает силы мракобесия и социального зла. Такая поляризация антагонистических художественных взглядов исчезнет в эпоху победы коммунизма во всем мире. Но было бы уступкой идеализму утверждать, что тогда наступит царство чистой художественной гармонии, и борьба, страсть, деятельное стремление покинут искусство. Нет, и при коммунизме человеческое сознание будет руководителем человеческой практики, творчества, получающего безграничные возможности своего развития. Человечество не будет знать антагонистических общественных противоречий, но борьба, развитие будет бесконечно, и пока существуют люди, творческая мысль будет руководить все более и более грандиозной, преобразующей мир практической деятельностью, и, стало быть, сознание, в том числе и художественное, будет пронизано революционными идеями переделки, улучшения мира. Диалектическая природа сознания останется неизменной. Как мы уже говорили, различные формы идеологии по-разному осуществляют свою активно преобразующую роль в обществе. Искусство как форма отражения действительности выполняет свою общественную функцию, являясь прежде всего могучим средством воспитания людей, стимулирования их к деятельности. Искусство, раскрывая человеку окружающий мир, учит его жить, судить о жизни. Еще Чернышевский указал, что предметом искусства является вся жизнь, а призвание искусства — быть учебником жизни, выносить приговор о ее явлениях. Картина действительности, изображаемая художником-реалистом, никогда не дает безразличного описания существующего; в самом художественном образе, заключено отношение творца произведения к изображаемым им людям, фактам, событиям. Художник не только повествует людям о жизни, он их в этой жизни ориентирует, и идеи, которые он при этом внушает своей аудитории, определяют в конечном счете общественную позицию художника. Художник познает действительность и результат своего познания воплощает в произведении. Это произведение, воздействуя на ум, чувства и волю людей, формирует их сознание и притом формирует в определенном направлении. Воплощая в образах результаты своего познания мира, художник тем самым — именно в меру познания своего предмета — вкладывает в произведение и свое суждение о действительности. Эту мысль со всей отчетливостью выразил еще Чернышевский, говоря в своем знаменитом 17-м тезисе: «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни». Рассказывая человеку о жизни, искусство одновременно объясняет ее и судит о ней. Тем самым оно учит людей жить, по выражению того же Чернышевского. Великий революционер-демократ великолепно понимал, что «искусство достойно его (человека. — Г. Н.), когда служит на благо человеку. А оно много, много блага приносит ему, потому что произведение художника, особенно поэта, достойного этого имени — «учебник жизни»... Этим высоким, прекрасным, благодетельным значением своим для человека должно гордиться искусство». Позднее, в третьей главе, мы детально разберемся в вопросе о единстве правды изображения и идейности в реалистическом искусстве. Пока же подчеркнем, что в самой сущности художественного образа заключено его свойство не только пассивно отражать реальность, но отражать ее так, чтобы ясна была ее оценка. Репинский «Крестный ход» — не только воспроизведение жизни, но и гимн народу и гневное осуждение гнета и дикости правящего класса. Ученый, формулируя данное понятие, делает из него надлежащий вывод, как определение направления и метода необходимого действия. В произведении искусства, разумеется, в реалистическом произведении, вывод заключен уже в самом способе изображения единичных явлений, в их подборе, в том, как они изображены. Совершенный художественный образ не требует извне привнесенного толкования, морализации. Идея, вывод внутренне присущи самому изображению. В «Крестном ходе» совершенно наглядно, что добро, а что зло, и потому эта картина обладает могучей силой эмоционально-образного воздействия, революционизирующего общественное сознание. И. Репин. Крестный ход в Курской губернии.
И. Репин. Крестный ход в Курской губернии.
Искусство воспитывает людей, пропагандируя определенные идеи, определенные взгляды на жизнь, становясь на позиции определенной социальной силы и тем самым являясь орудием в борьбе классов, то есть становясь, сознательно или бессознательно, партийным, ибо оно так или иначе стремится либо изменить в определенном прогрессивном направлениидействительность или, наоборот, воспрепятствовать ее изменению. Неверно было бы противопоставлять «две функции» искусства — познание действительности и воспитание человека. Второе невозможно без первого. Конечно, если искусство пытается проводить глубоко порочные, в корне противоречащие интересам прогресса идеи, как это делает, например, современное формалистическое искусство на Западе, оно необходимо отказывается от объективного отражения действительности. И, наоборот, художник, искаженно отображающий жизнь, неизбежно отказывается тем самым от воспитания людей в духе прогресса. Критика таких явлений в советском искусстве дана в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Писания Зощенко грубо клеветали на советскую действительность и потому не только не выполняли своей воспитательной роли, но и приносили существенный вред. Воспитание в людях таких идей, чувств и стремлений, которые способны направлять к передовой, необходимой народу творческой деятельности, возможно лишь при глубоком познании и правдивом изображении действительности, ибо сама жизнь, понятая в ее существеннейших сторонах, в ее передовых тенденциях, является для человека лучшим учителем. В этом, как мы увидим дальше, одна из основ искусства социалистического реализма. Как понять, что искусство воспитывает людей? Это значит, что оно вооружает их для определенной по содержанию и характеру деятельности. Но, как явствует из сказанного выше, для практики человек должен быть вооружен подлинным знанием действительности, иначе его деятельность в конечном счете обречена на провал. Потому-то реалистическое искусство обладает и наибольшей революционизирующей силой. На это обстоятельство указывал в свое время Энгельс, подчеркивая революционизирующее значение правдивого изображения действительности реалистической литературой: «...социалистический тенденциозный роман, — писал он Каутской, — целиком выполняет, на мой взгляд, свое назначение, правдиво изображая реальные отношения, разрывая господствующие условные иллюзии о природе этих отношений, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнения по поводу неизменности основ существующего порядка...». В правдивом изображении действительности — великая сила таких, например, произведений, как «Воскресение» Толстого или «Гобсек» Бальзака. Советское искусство, многогранно и полно отражая жизнь, является в социалистическом обществе могучей преобразующей силой. Оно правдиво показывает вдохновляющие примеры героизма, духовного благородства передовых людей, прославляя их дела и дни; оно стремится к беспощадному разоблачению имеющихся еще в нашей жизни фальшивых людей. И как сила положительного примера, так и сила сатирического обличения равно присущи реалистическому искусству, искусству глубокого познания жизни. Вот почему реалистическое искусство обладает наиболее прогрессивным, передовым содержанием. Можно сказать и наоборот. Чем выше и благороднее воспитательные цели искусства, тем в конечном счете органичнее оно овладевает объективным, реалистическим методом познания действительности. Впрочем, в истории искусств бывает так, что как глубина познания, так и воспитательная роль искусства могут существовать в противоречивой форме. Например, глубина отражения жизни в искусстве нередко может развиваться односторонне. Необыкновенно сильное в критике «хозяев жизни» буржуазного общества искусство Домье оказывалось исполненным иллюзией в поисках положительного идеала. Русский портрет второй половины XVIII века, давший замечательные образы благородства, тонкости, внутренней цельности человека, остался глух в своей сословной ограниченности к сложным противоречиям исторического бытия эпохи. Всякое искусство тогда и постольку реалистично, поскольку оно объективно раскрывает содержание жизни, и в ту же меру оно служит целям воспитания в человеке подлинно высоких дум и стремлений. Итак, партийность искусства выражается конкретно в отстаивании им определенных позиций, определенных взглядов на жизнь, в воспитании человеческих душ. Этими средствами искусство непосредственно осуществляет свою общественную функцию, служа, в конечном счете, орудием практического преобразования действительности. Мы сейчас не касаемся тех специфических особенностей, которые имеет идейность советского искусства, искусства социалистического реализма. Партийность советского искусства, развивая лучшие традиции передовой, демократической идейности искусства прошлого, представляет собой новую историческую форму выражения передовой идейности. В чем заключается эта новая форма, мы попытаемся выяснить в главе четвертой, а сейчас ограничимся подчеркиванием того факта, что коммунистическая идейность советского искусства есть прямое выражение неразрывной связи его с интересами нашего народа, интересами, которые последовательно и полно выражает Коммунистическая партия. Марксистско-ленинское учение о роли передовых идей непосредственно относится и к оценке значения искусства в социалистическом обществе. Оно определяет и то внимание, которое партия ежедневно и постоянно уделяет вопросам развития советского искусства. Таким образом, в основе учения об идейности искусства лежит понимание его колоссальной преобразующей силы. Творческое воссоздание действительности в искусстве, могущее стать подлинным орудием воспитания человека, требует максимальной концентрации характерности, содержательности, силы образа. Момент этот немаловажен. Воспроизвести жизнь в художественном произведении — не значит дать ее точную, внешне схожую копию. При этом механическое копирование действительности совсем не тождественно детализации. Не раз живописцы прибегали к самому скрупулезному копированию мелочей, и от этого их картины только выигрывали в характерности. Вспомним, например, «Сватовство майора» Федотова. Обилие деталей в этой картине не только не мешает концентрации выражения образа, но, наоборот, является одним из основных в данном случае приемов ее достижения. Важно установить путь, по которому искусство становится средством воздействия на сознание человека. «Искусство не требует признания его произведений за действительность», — отмечал В. И. Ленин мысль Фейербаха в своих «Философских тетрадях». Когда-то Гёте оказал, что если он увидит изображение пуделя, как две капли воды схожее с настоящим, то он порадуется появлению второй собаки, но у него не будет оснований ликовать по поводу появления нового произведения искусства. Эта парадоксально выраженная мысль скрывает за собой глубокое содержание. Искусство, как форма познания действительности, обязано открывать своей аудитории нечто новое, в чем бы оно ни заключалось: в новых фактах, обобщениях, выводах, суждениях, в новых мыслях или чувствах. Лучше сказать это иначе: художник формулирует, может быть, первый, то, что он осознает в жизни. Осмыслить «веяния времени» и отлить их в чеканную форму — одно из благороднейших призваний художника. Всякий большой художник воплощает в своем произведении нечто, что до него оставалось художественно неосознанным. При этом важно, чтобы открытие художника соответствовало истине, иначе его «новаторство» будет лишь плачевной попыткой рекламировать свое собственное, внутренне пустое «я». Настоящий художник выражает в своих произведениях то, что скрывается в сердцах его зрителей, он оказывается глазами, сердцем, умом своего народа. Крамской и Перов, Некрасов и Салтыков-Щедрин выразили в своих произведениях самые глубокие демократические устремления шестидесятых-семидесятых годов XIX века, самые коренные потребности народа. Художник отличается от нехудожника не только тем, что он умеет рисовать и писать красками. Художник лучше видит, острее чувствует, глубже осмысливает действительность, чем «обыкновенный» человек, нехудожник. И художник тем гениальнее, чем ближе он в своем видении, ощущении, мысли к народу, чем шире диапазон его художественного познания. Здесь скрывается секрет силы его художественного обобщения. Таков Репин, великий живописец русского народа, с его глубочайшим и многограннейшим охватом жизни, с его могучей, подлинно мужицкой силой мировосприятия, с его непобедимой верой в жизнь, с его ненавистью к угнетателям народа. Настоящее же высокое реалистическое искусство обязательно обладает этой действенной, воспитующей, революционизирующей сознание силой. Этот момент можно было бы назвать определенной эстетической нормой в реалистическом творчестве. В раскрытии преобразующего значения искусства он имеет весьма немаловажное значение. Речь идет не о доктринерстве отвлеченных идеалистических концепций, которые претендовали, подобно классическим теориям, на то, чтобы диктовать искусству нормы и законы. Речь идет о соотношении в искусстве реального и идеального, поскольку оба эти элемента присущи бесконечно богатому человеческому познанию. Идеальное не должно пониматься как отрыв от жизни, как ее приукрашивание, замазывание ее противоречий. Идеальное в этом смысле есть то, что слагается в человеческой голове как программа будущих практических действий. Это — «прототип» будущего реального факта. Это — то, за внедрение чего в жизнь борется человек. Стало быть, в произведении художника-реалиста идеальное — это то, за что борется художник, что, будучи выведено из наблюдений жизни, должно быть внедрено в жизнь более широко и глубоко. В репинских портретах передовых русских людей — Стасова, Пирогова, Стрепетовой — всегда очень силен этот «идеальный момент», то, что делает эти образы образцами для подражания. Такая же образцовость присутствует в лучших созданиях советских художников. В этом смысле образы коммунистов в «Допросе коммунистов» Иогансона — образы идеальные. Такая «идеальность» образа в реалистическом искусстве не имеет ничего общего с «идеализацией», приглаживанием, приукрашиванием действительности. Всякий подлинно реалистический положительный образ всегда включает в себя элемент подчеркивания значительного, прекрасного и высокого в жизни. Таковы образы художников Возрождения, таковы произведения Веласкеса и Рембрандта, Кипренского и Александра Иванова, Репина и Сурикова. Мы уже указывали выше, что для правильного понимания сути искусства исключительно важна его связь с нравственными понятиями времени. Но ведь нормы нравственности — это отражение реальных общественных отношений, они представляют собой известное обобщение фактов действительности. Вместе с тем в нравственности всегда есть момент, который следует назвать «долженствованием», то есть момент требования, предъявляемого к человеку, к людям или к человеческому общежитию вообще. Для нравственности совсем не обязательно и даже невозможно ограничиться только констатацией. Наша коммунистическая нравственность, констатируя отношения между людьми, сложившиеся при социализме, тем самым определяет и требования, которые представляют собой идеальные нормы поведения советского человека. Мы говорим о лучших качествах советского человека, которые ему присущи, как о норме поведения, обязательной для социалистического общежития: о чувстве любви к социалистической Родине, преданности партии, чувстве пролетарского интернационализма, жажде творческого труда и т. д. В искусстве всегда в той или иной форме присутствуют моменты эстетически нравственного критерия, иногда открыто и прямо, иногда скрыто, но всегда диктующего определенную форму изображения. Передовое искусство обязательно заключает в себе подобный элемент нравственно-эстетической оценки. Эта нравственная оценка составляет зерно той субъективной идеи, которая идет несколько дальше наличной практики, опережает ее, чтобы затем в ней воплотиться. Сознание, как активная, революционизирующая действительность сила, необходимо включает в себя момент мечты. Это мечта революционная, стремящаяся и могущая быть воплощенной в реальной жизни. Ленин очень горячо подчеркивал этот момент вопреки меньшевистскому раболепию перед «фактом». Нечто подобное наблюдаем мы и в искусстве. Создавая значительный положительный образ, подчеркивая в нем существенное, художник в своем произведении прямо или опосредствованно дает определенные образцы для подражания. Обобщая, акцентируя то, что является самым передовым, художник-реалист формулирует свое понимание прекрасного. Когда мастера Возрождения в борьбе против средневековых представлений о греховности мира прославили реального человека, его земные стремления и земные радости, они представили в своих произведениях все это как прекрасное содержание жизни. Представить лучшие, передовые черты в облике советских людей в качестве прекрасного содержания нашей жизни, заклеймить отсталое, фальшивое, враждебное, как безобразное, — важнейшая задача наших художников. Таким образом, идеальное в искусстве представляет собой мечту, иногда несколько опережающую массовидные явления жизни, выхватывающую из нее основное, главное, возникающее и тем зовущую людей вперед, толкающую их на преобразование жизни, на борьбу, на утверждение в самой реальной действительности того, что прозорливо увидел художник-реалист. В конечном счете творчество художника и заключается в том, чтобы увидеть прекрасной жизнь в том случае, когда она такова, какою должна быть по нашим понятиям, пользуясь выражением Чернышевского, или, наоборот, с неменьшей страстностью осудить явления жизни, этим понятиям противоречащие. Изображая действительность в своем произведении, художник может, если он пользуется порочным, далеким от объективности методом, создавать не образцы для подражания (при всем своем желании создать таковые), а только лишь давать волю своему субъективному произволу, уводящему от жизни и ее борьбы. Так было еще с художниками-маньеристами в XVI веке. Но от этого искусство таких художников не становится менее партийным, менее направленным на изменение мира, но уже в сторону социального регресса. Вопрос лишь в том, каково содержание этой партийности. В данном случае оно уводит искусство от его единственной столбовой дороги — служить человечеству могущественным средством борьбы за прогрессивное изменение мира, борьбы, завершающейся реальным уничтожением основного тормоза в развитии человеческих сил и способностей, — эксплуатации человека человеком. В искусстве социалистического реализма животворная сила его партийности становится базой расцвета художественной культуры, осуществляющейся на почве крепчайшей ее связи с борьбой советского народа за построение коммунизма, которую он ведет, возглавляемый Коммунистической партией.
Искусство и общественная жизнь
I.
Искусство и общественная жизнь! Строго говоря, эта тема охватывает целую совокупность проблем теории и истории искусства. Можно сказать, что это одна из самых всеобъемлющих тем, с которыми имеет дело марксистско-ленинская теория искусства, ибо нет, пожалуй, ни одного вопроса, нет ни одной проблемы эстетики, которая могла бы быть правильно разрешена или даже поставлена вне вопроса о связи искусства с общественной жизнью, вне учета зависимости искусства от материальной основы общества, от общественного устройства, классовой борьбы. Общие принципы постановки этой проблемы определяются теорией исторического материализма. Как и все другие формы идеологии, искусство отражает развитие социально-экономической жизни общества. Художественные взгляды общества есть отражение его материальной жизни. Материальная практика создает предпосылки для формирования определенных художественных представлений, которые, в свою очередь, выражая интересы и стремления той или иной общественной группы или (если речь идет об обществе, не имеющем антагонистических экономических и общественных интересов) всего народа, составляют могущественную духовную силу, способную воздействовать на сознание людей и через это на самую общественную практику. Общественные идеи и взгляды, в том числе и художественные взгляды, раз возникнув, имеют огромное значение в жизни общества. Это относится к любой эпохе в развитии искусства. Так, в частности, художественные взгляды социалистического общества, выраженные в практике советских художников, отражают потребности развития материальной жизни социалистического общества. Но искусство социалистического реализма не пассивно отражает свой базис, оно обладает могущественной общественно-преобразующей силой, ибо, как подчеркивает И. В. Сталин, новые передовые общественные идеи после того, как они возникли, «...становятся серьезнейшей силой, облегчающей разрешение новых задач, поставленных развитием материальной жизни общества, облегчающей продвижение общества вперед». Можно взять в качестве примера кино 30-х годов. Такие фильмы, как «Встречный», трилогия о Максиме, «Великий гражданин», «Депутат Балтики», «Ленин в 1918 году», в своем содержании и в своей форме отражают эпоху победы социализма. И вместе с тем фильмы эти являются для нашего народа замечательным средством, мобилизующим мысли, волю и чувства широких масс на новые исторические подвиги во имя победы социализма. Огромна роль передовых художественных взглядов в поступательном развитии общества, ибо они способствуют преобразованию действительности. Но и старые, реакционные эстетические идеи стремятся активно вмешиваться в жизнь, поскольку их предназначение всячески тормозить развитие общества. Пример тому — современное реакционное буржуазное искусство. Так, когда лидер американского сюрреализма С. Дали пишет картины, в которых с навязчивой достоверностью воспроизводятся фантасмагорические видения больного рассудка, то такое «искусство» разлагает человеческие души, оно предназначено парализовать все здоровые и смелые дерзания людей. А это немаловажное звено в «духовной обработке» простых людей, ведущейся в интересах империалистической буржуазии. Таким образом, правильно подойти к любому явлению искусства — значит понять его в тесной связи с историческими условиями развития общества, понять, как художественно осмысливается реальная история человеческого общества во всем богатстве и сложности диалектических взаимоотношений социально-экономической структуры, политического и государственного строя. Но прежде всего следует попытаться определить место искусства как формы общественного сознания в ряду общественных явлений, определить, следовательно, роль, место и значение искусства в жизни общества. Вопрос стоит так: относится ли искусство к явлениям надстроечного порядка или же оно такое общественное явление, которое нельзя отнести ни к базису, ни к надстройке. Следует отметить, что в нашей литературе по этому вопросу развернулись обширные дискуссии, немало способствовавшие движению вперед нашей науки. В данном изложении мы лишь отчасти коснемся этих дискуссий и сформулируем определенную точку зрения, кажущуюся нам правильной. Во-первых, что значит определить — надстроечный или ненадстроечный характер имеет искусство как общественное явление? Совершенно бесспорно, что в практике искусства, и особенно в отдельных видах искусства, есть ряд элементов, сторон, которые не входят в надстройку. Возьмем такое искусство, как архитектура. Архитектура неразрывно сочетает в себе технику, материальное производство и духовное производство, собственно идейно-художественную сторону. Естественно, что материальное производство, техника, инженерное дело не принадлежат к числу надстроек, а стало быть, в архитектуре, как форме общественной практики, добрая ее половина имеет не надстроечный характер. Но не только это. Ряд собственно художественных элементов архитектуры мы не можем рассматривать как надстроечные. Так, например, в эпоху рабовладельческого греческого общества были выработаны определенные архитектурные системы, получившие название ордеров: дорийского, ионического, коринфского. Эти ордеры, иногда почти в неизменной форме, пережили рабовладельческий строй, феодальный строй, капиталистический строй и органично вошли в состав зодчества эпохи социализма. Стало быть, античный ордер ни в каком смысле не умирает вместе с базисом. То же касается, скажем, метрических форм в поэзии: хорей, ямб, дактиль, анапест и т. д. Все эти формы стихосложения были выработаны в рабовладельческом обществе, но они существуют и в поэзии общества социалистического. В живописи прямая перспектива с центральной точкой схода была разработана еще в период господства феодального строя, но эта система, пережив капиталистический базис, живет и в искусстве эпохи социализма. Таких элементов в разных видах искусства можно найти очень много. Наконец, большая часть искусств пользуется языком и вне языка не существует. Вне и помимо языка нет литературы, нет театра, нет звукового кино, нет, в сущности говоря, большей части музыки, коль скоро речь идет о музыке вокальной. Совершенно очевидно, что язык во всех этих искусствах — не надстроечное явление. Стало быть, роль ненадстроечных элементов в искусстве крайне существенна. Это не снимает необходимости поставить вопрос принципиально, то есть не о наличии тех или иных черт ненадстроечного порядка в художественной деятельности человека, а о том, чем является искусство как целостное общественное явление. Иными словами, мы должны стремиться определить специфику искусства. Чем является искусство в своем содержании, в своей функции, в своей сущности? Ненадстроечные элементы существуют в любой области надстройки. Философские взгляды, бесспорно, входят в надстройку, это не вызывает сомнения. Но и философия тоже пользуется языком, то есть элементом ненадстроечным. Попробуем теперь уяснить, для чего общество создает искусство, для чего искусство обществу служит, какова специфика общественной функции искусства. И. В. Сталин дал классическую формулировку сущности базиса и надстройки: «Базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития. Надстройка — это политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения». И в другом месте своей работы И. В. Сталин дает аналогичную формулировку: «Специфические особенности надстройки состоят в том, что она обслуживает общество политическими, юридическими, эстетическими и другими идеями и создаёт для общества соответствующие политические, юридические и другие учреждения». Таким образом, в состав надстройки входят художественные взгляды общества, его эстетические идеи и соответствующие им учреждения. Но это значит, что коренное содержание всякого искусства входит в надстройку, ибо, отражая действительность, художник в своем произведении выражает к ней свое отношение, дает ей определенное толкование, вкладывает в произведение те или иные идеи. Художественные взгляды рабовладельческого общества с последовательной полнотой выразились в трагедиях Софокла или статуях Поликлета. Художественные взгляды феодального общества обнаруживают себя отчетливо и в мистериях, и в громадах романских соборов, и в отвлеченных образах средневековой иконописи. Вряд ли было бы правомочно сводить понятие «эстетические идеи» к философско-теоретическим понятиям об искусстве. Впрочем, и эти последние представляют собой не более, как обобщение, осмысливание самой художественной практики. Кроме того, надлежит подчеркнуть, что художественными взглядами общество обслуживают, разумеется, не философы-эстетики, а именно художники, общественная функция которых как раз и состоит в производстве художественных идей. В самом деле, возьмем наше советское общество. Кто и что обслуживает наше советское общество художественными идеями? Разумеется, кино, литература, театр, живопись и другие искусства. Партия воспитывает в народе хороший вкус, передовые художественные представления с помощью произведений искусства. В них содержится система художественных взглядов социалистического общества. Борьба, которую партия ведет за высокую идейность нашего искусства, есть борьба за то, чтобы создаваемые нашими мастерами художественные произведения содержали бы в себе такие идеи, такие художественные взгляды, которые отвечают потребностям развития социалистического базиса, всего социалистического общества. Идеи мира и коммунизма, идеи патриотического служения Родине и дружбы между народами — таковы взгляды, идеи, которые воплощает наше передовое советское искусство. Отметим при этом, что выполнение советским искусством его долга перед народом во многом обеспечивается также входящими в надстройку художественными учреждениями — учебными заведениями, творческими союзами и т. д. Художественные взгляды общества, как известно, меняются вслед за изменением базиса. Прежде всего обратим внимание на то, что художественные явления меняются гораздо быстрее, чем язык. И. В. Сталин отмечает: «...современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина». Между тем русская литература прошла со времен Пушкина огромный путь: Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Некрасов, Толстой, Чехов, Горький... Несомненно, что искусство изменяется гораздо быстрее языка и притом изменяется гораздо решительнее. То же относится и к сфере изобразительного искусства. Со времен Кипренского и до советских живописцев искусство живописи прошло большой и сложный путь, меняясь в коренных своих принципах. Уже искусство передвижников основано на иных принципах, чем искусство первой половины XIX века, до Александра Иванова включительно. Нетрудно заметить, что коренные смены в сфере искусства совпадают с коренными изменениями в экономическом строе общества. Возникновение искусства Возрождения явственно обнаруживает свою связь с развитием товарно-денежных отношений в итальянских городах XIV—XV веков. Приспособление экономики России к потребностям капиталистического развития в 60-х годах XIX века вызвало более или менее быстро обнаружившийся переворот во всей надстройке русского общества, в том числе и искусства. Выход на арену истории Крамского с его артелью, а затем Товарищества передвижных художественных выставок — яркое тому свидетельство. Иными словами, изменение в базисе влечет за собой коренные качественные изменения и в художественной надстройке. Ведь каждой экономической формации соответствует своя система художественных взглядов, которая не может быть органично воспроизведена в иных социально-экономических условиях. Маркс указывал на невозможность возродить определенные художественные формы, соответствующие определенному общественному строю, в иных социально-экономических условиях. Он подчеркивал в книге «К критике политической экономии» и затем в «Теориях прибавочной стоимости», что безыскусственная поэзия эпоса невозможна в условиях развития капиталистических отношений. В эту эпоху в искусстве, по мысли Маркса, может появиться только сухое искусственное подражание эпосу, вместо настоящего, органически связанного со всем укладом жизни эпического искусства. И это понятно, поскольку каждому базису соответствуют свои художественные взгляды, свои эстетические идеи, свои художественные учреждения, то есть вся система искусства, которая отмирает вместе со своим базисом. В самом деле, разве не проникнуты надуманностью и манерничаньем все попытки «возродить» мир Эллады в живописи XIX-века — от Энгра через Моро и Беклина к Маре и Дени? Рабовладельческому обществу соответствовало свое искусство, и оно не может быть воспроизведено ни в условиях капиталистического общества, ни в условиях общества социалистического. Феодальному строю соответствовала опять-таки своя система искусства, невоспроизводимая в последующие эпохи. С этим связана и другая кардинальная особенность надстройки. «Надстройка, — указывал товарищ И. В. Сталин, — есть продукт одной эпохи, в течение которой живёт и действует данный экономический базис. Поэтому надстройка живёт недолго, она ликвидируется и исчезает с ликвидацией и исчезновением данного базиса». Не значит ли это, что, признав искусство составным элементом надстройки, мы должны будем отказаться от наследия, от утверждения исторической преемственности искусства; не должны ли мы будем притти к нигилизму в отношении классического искусства? Разумеется, ни в коем случае. Великие произведения искусства прошлого в подлинном смысле слова бессмертны. Создания эллинских мастеров, Леонардо да Винчи и Тициана, Веласкеса и Рембрандта, Левицкого и Рокотова, Кипренского и Александра Иванова, Курбе, Крамского и Репина интересны и важны для нас совсем не только как исторические документы эпохи. Пережив базис того строя, в условиях которого они возникли, художественные шедевры живут в наши дни, говоря, как живые с живыми. Они не только осваиваются и используются в строительстве советской художественной культуры. Они сами составляют живые элементы современной нашей культуры. Это относится ко всему в искусстве прошлого, что хоть в какой-то мере служило прогрессу, отражало мысли и чувства народа, в чем так или иначе закреплялся положительный художественный опыт человечества. Не противоречит ли это указанной характерной особенности надстройки, являющейся продуктом одной эпохи и исчезающей вместе со своим базисом? Бесспорно, не противоречит. Необходимо только правильно понять и всегда иметь в виду одну важнейшую особенность развития общественного сознания, будь то художественные, философские или какие-либо иные взгляды общества. Конечно, в истории человеческой мысли со сменой базиса никогда не происходит механического уничтожения всего предшествующего опыта. Со сменой строя общество не начинает на пустом месте создавать всю совокупность входящих в надстройку идей, хотя при каждой такой революционной смене базиса старые, реакционные идеи отменяются, ликвидируются. Но при этом положительные ценности, созданные в предшествующие эпохи и связанные прежде всего с народной основой культуры, осваиваются, сохраняются, развиваются. Например, возьмем развитие философских взглядов, являющихся, несомненно, составным элементом надстройки. Совершенно ясно, что философия Демокрита, Аристотеля, Лукреция — плоть от плоти рабовладельческого строя, Дунса Скотта и Р. Бэкона — феодального, Гоббса, Спинозы, Дидро — эпохи сложения буржуазного общества. Но разве это означает, что каждый раз, когда сменялся базис, все предшествующее развитие философской мысли попросту зачеркивалось, упразднялось, и человечество начинало все, так сказать, «с нуля»? Разумеется, нет. Ведь и марксистско-ленинские философские взгляды включают в себя все прогрессивное, что было создано наукой, в том числе философией, за всю предыдущую историю человеческой мысли. Стало быть, ликвидация философских взглядов, соответствующих данному базису, означает не их метафизическое отрицание, а снятие, то есть уничтожение и вместе с тем сохранение положительного зерна. Вопрос о ликвидации старого в сфере человеческой мысли должен ставиться диалектически. Решительно борясь против всего обветшалого, связанного с прошлым, революционная философия наследует, то есть критически перерабатывает, вместе с тем все то, что было положительного в этом прошлом. Заметим при этом, что великие философские творения материалистов прошлого — Демокрита, Ф. Бэкона, Дидро, Чернышевского, Добролюбова — не «умерли» и в наши дни и продолжают оставаться живыми факторами нашей культуры, хотя их положительное содержание освоено на принципиально новой основе марксизмом. Однако при всем том предполагать возможность простого, механического воспроизведения какого-либо этапа развития общественного сознания в последующую эпоху столь же неправомочно, как и метафизически его отрицать. Это относится и к философии, и к морали, и к праву, и к искусству. Античность создала непререкаемые художественные ценности, но все попытки возродить античную систему искусства со стороны классицистов неизбежно были обречены на искусственность, ибо иным был базис, иными — материальные потребности общества, иные классы боролись между собой, иные возникали жизненные проблемы. И каждая система отношения искусства к действительности сходила с исторической сцены вместе с ликвидацией своего базиса, оставляя в наследство будущим поколениям весь накопленный художественный опыт, все положительные ценности, которые в данных условиях могли быть и были созданы. Объективная истина складывается из суммы относительных истин, взятых в их развитии. Художественное познание мира данной эпохи содержит в себе какую-то совокупность этих относительных истин, и именно они и составляют объективное, непреходящее ее содержание. Это положительное содержание, с одной стороны, удерживается, как наследие, последующим прогрессивным художественным развитием, с другой — сохраняет непосредственно свою жизнеспособность в иных исторических условиях. Иначе и быть не может. Нельзя механистически противопоставлять объективную истину и субъективные взгляды. Всякая истина познается человечеством в конкретных исторических условиях, в определенных формах, в результате определенных потребностей и прежде всего определенной практики. Говоря иначе, истина, содержащаяся в художественных явлениях прошлого, проявляется в них не вопреки исторически конкретным условиям существования, а благодаря им. Познание мира происходит в формах классового сознания, и каждый раз, со сменой базиса, исчезает старая система и возникает новая, в которой вновь идет дальше процесс освоения мира, процесс познания объективной истины. Таким образом, античное искусство оказалось невоспроизводимым в условиях общества феодального или буржуазного, искусство средневековья не могло быть воспроизведено в обществе буржуазном. Но каждая следующая художественная эпоха стоит на плечах предыдущих. Все предшествующее развитие искусства служит базой, на которой строится здание социалистической художественной культуры. При этом искусство социалистического реализма, являясь развитием всего прогрессивного искусства прошлого, не является его простым, механическим воспроизведением. Итак, мы видим ясно, что уничтожение, снятие, — пользуясь философским термином, — предшествующего этапа развития человеческой мысли, будь то философия или искусство, означает не простое механическое зачеркивание, а глубокое критическое освоение. И если на полках наших библиотек стоят книги Ломоносова, Чернышевского, Добролюбова, Демокрита, Ф. Бэкона, Фейербаха и т. д., то совершенно таким же образом стоят на полках Пушкин, Гоголь, Толстой, Шекспир, а в музеях висят картины Брюллова, Репина, Сурикова, Рафаэля, Рембрандта. Но воспроизвести в эпоху капитализма искусство Поликлета или воссоздать в наше время искусство Рембрандта — невозможно, да и не нужно. Следовательно, изменение и ликвидация базиса действительно влечет изменение и ликвидацию его художественной надстройки, но не в механическом смысле. Ликвидация надстройки вместе со своим базисом для искусства означает не физическое уничтожение, а только историческую невозможность, а стало быть, и ненадобность буквального воспроизведения старых художественных форм, старой системы отношения искусства к обществу в новых исторических условиях. Эта старая система умирает вместе со своим базисом. Ошибочной представляется нам та точка зрения, которая, отрицая надстроечный характер искусства, забывает, что художественные взгляды общества, так же как и его философские взгляды, представляют собой не просто чисто субъективное выражение определенного социального интереса, но являются формами объективного отражения действительности. Несомненно, что по своему происхождению идеал гармонически развитого человека греческой классики органически связан с рабовладельческим строем, обусловлен классовым мировоззрением. Это была единственно исторически возможная форма познания действительности, но объективное содержание классического искусства, благодаря которому оно дожило до нашего времени, имеет своим источником правдиво познанную действительность. В произведениях греческого искусства отражены важные стороны объективной истины о сущности человека, а эта истина, по смыслу диалектико-материалистической гносеологии, безразлична к классам, к характеру строя. На этом и покоится возможность прогрессивного развития искусства, возможность наследования творческих достижений предшествующих эпох. Но каждая из этих эпох исторически неповторима, ибо исторически неповторим уклад материальной жизни общества, на котором возникает общественное сознание. Приглядимся к тому, как осуществлялось освоение классического наследия у нас уже в условиях начавшегося строительства новой социалистической культуры. В этом процессе сохранение, изучение, освоение, развитие искусства прошлого играло огромную роль. Владимир Ильич Ленин неоднократно подчеркивал необходимость осваивать наследие, опираться на него, развивать его. Но это совсем не означало простого сохранения старого, старой художественной системы, сложившейся в буржуазном обществе. Речь шла о наследовании и развитии всего ценного, что в сфере искусства создано было до того человечеством, прежде всего традиций русского прогрессивного, демократического искусства. Все то, что было в русском искусстве живого, демократического и социалистического, осваивалось пролетариатом как наследие. Речь шла о том, чтобы развивать, продолжать это передовое, прогрессивное русское искусство. Утверждая, что социалистический реализм является новым качеством реализма в искусстве, мы ни в какой мере не отрицаем, наоборот, подчеркиваем органическую и неразрывную связь его с реализмом прошлого. Прямыми предшественниками социалистического реализма в области искусства являются наши великие художники Перов, Крамской, Верещагин, Репин, Суриков, Серов и многие другие. Но в каком же тогда смысле произошла ликвидация старой надстройки над буржуазно-помещичьим базисом старой России, если иметь в виду искусство? В предреволюционной России мы ясно различаем две основные художественные тенденции, определяемые существованием в тех условиях двух культур: передового, прогрессивного, демократического искусства, реалистического по характеру, и искусства упадочного, декадентски-формалистического. В области изобразительного искусства начала XX века такие мастера, как Касаткин, Архипов, Малютин и другие, являлись художниками, в той или иной мере хранившими великие традиции реализма, и поэтому их творчество органически вошло затем в развитие реалистического советского искусства. Но, с другой стороны, имели место, как неотъемлемая особенность надстройки над буржуазно-помещичьим обществом, всякие декадентские, формалистические направления в искусстве. Они иногда тормозили, мешали творческому развитию даже крупнейших мастеров реалистического искусства. Многие из живописцев-реалистов отдали дань модернизму и импрессионизму. Среди них В. Серов, Архипов, Грабарь и ряд других. Даже такой гигант реалистического искусства, как К. С. Станиславский, в эпоху реакции, после подавления революции 1905 года, отдавал временами известную дань декадентству и формализму. Это, разумеется, не составляло сущности его искусства, но было исторически обусловлено воздействием реакции и, в конечном счете, определялось социальными условиями. Ломка старой надстройки в области искусства после Великой Октябрьской революции прежде всего означала ликвидацию всех форм зависимости искусства «от денежного мешка», установление новых взаимоотношений между искусством и народом, искусством и государством. Обнаруживавшееся в старом искусстве наличие двух культур в национальной культуре России с течением времени было уничтожено, и искусство стало плотью от плоти, костью от кости народа, что не могло не сказаться на всей системе художественных взглядов, не могло не определить развития и победы социалистического реализма, как качественно нового творческого метода советского искусства. А для этого в первую очередь было необходимо уничтожение всех препон, препятствий, которые мешали и тормозили развитие прогрессивных реалистических тенденций, уничтожение возможности для господства формалистических направлений. Благодаря политике партии и советской власти получили широчайшие перспективы для своего развития лучшие традиции реалистического искусства. Так, ликвидация старой надстройки и возникновение надстройки новой, соответствующей новому, социалистическому базису, обеспечили новый расцвет всему прогрессивному, что было заложено в классике и чему мешал, что ограничивал старый общественный строй. На этом примере ясно видно, что смена одной исторической эпохи развития искусства другой в порядке ломки старой надстройки не отменяет, а, наоборот, предполагает развитие прогрессивных тенденций старого искусства. Но смена эта наполняет старую традицию новым содержанием, обогащает ее, возникают новые художественные взгляды, органически связанные с новыми общественными потребностями. И именно благодаря этому искусство получает возможность в новых условиях осуществлять свою основную общественную функцию. И. В. Сталин пишет: «Надстройка порождается базисом, но это вовсе не значит, что она только отражает базис, что она пассивна, нейтральна, безразлично относится ж судьбе своего базиса, к судьбе классов, к характеру строя. Наоборот, появившись на свет, она становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться, принимает все меры к тому, чтобы помочь новому строю доконать и ликвидировать старый базис и старые классы. Иначе и не может быть. Надстройка для того и создаётся базисом, чтобы она служила ему, чтобы она активно помогала ему оформиться и укрепиться, чтобы она активно боролась за ликвидацию старого, отживающего свой век базиса с его старой надстройкой. Стоит только отказаться надстройке от этой её служебной роли, стоит только перейти надстройке от позиции активной защиты своего базиса на позицию безразличного отношения к нему, на позицию одинакового отношения к классам, чтобы она потеряла своё качество и перестала быть надстройкой». Эта глубокая характеристикаобщественной роли надстройки дает нам в руки ключ для понимания функции искусства в обществе. Раз возникнув, искусство становится величайшей активной, преобразующей силой. В этом и заключается общественная сущность искусства, в этом смысл его исторического существования, ибо оно никогда практически не бывает и не может быть, хотя реакционные теоретики и пытаются это прокламировать, искусством для искусства. Иными словами, искусство никогда не бывает безразлично к судьбе своего базиса, к судьбе классов, к характеру строя. Разве искусство Пушкина было безразлично к характеру строя крепостнической России? Разве пушкинская поэзия, так прочно связанная с идеями декабризма, не стала знаменем всех прогрессивных сил России? Разве демократическое искусство в семидесятых годах прошлого века, возглавленное Крамским, не служило тому, чтобы доконать и ликвидировать феодально-крепостнический базис и старые классы? Разве не являлась передовая литература, передовое искусство в России XIX века могущественной силой в борьбе за уничтожение крепостничества? Разве оно не способствовало расшатыванию старого феодального базиса? Разве вся политика нашей партии не направлена на то, чтобы всемерно развивать искусство как могучее оружие в деле борьбы за укрепление социалистического общественного строя, против всех и всяческих его врагов? Разве вся история советского искусства не является свидетельством того, как наши передовые художники, руководимые Коммунистической партией, все более глубоко выражая самые коренные интересы народа, интересы социализма, борются против враждебных эксплуататорских классов, против пережитков капитализма в сознании людей, за укрепление социалистического общественного строя, за коммунизм? Итак, общественная функция искусства теснейшим образом связана с его надстроечным характером. Если искусство не входит в надстройку и безразлично к классам, к характеру строя, мы неизбежно должны будем согласиться, что искусство существует для искусства. Ибо это означает, что искусство в наиболее значительных, прогрессивных явлениях создается не для того, чтобы укреплять новое, прогрессивное в жизни, не для того, чтобы доконать старое. Если оно безразлично к классам и характеру строя, подобно тому, как безразличен к классам и характеру строя язык, то, очевидно, его общественная функция — не в активном участии в общественной борьбе. Но уже русские революционные демократы — Белинский, Чернышевский, Добролюбов — справедливо видели сущность и призвание искусства в активном вмешательстве в общественную жизнь, видели в искусстве могучее орудие общественных преобразований. Коль скоро искусство есть орудие общественной борьбы и коль скоро речь идет об обществе, разделенном на антагонистические классы, очевидно, художник всегда выступает на стороне определенной общественной силы. Значит, искусство не безразлично к классам, к характеру строя. Да и возможно ли в обществе, где существуют антагонистические классы, искусству оказаться на позициях одинакового отношения к классам? Идейка о «бесклассовости» искусства является, кстати сказать, одной из самых излюбленных у идеологов реакционного буржуазного искусства: безразличие к классам, безразличие к характеру общественного строя реакционеры пропагандировали для того, чтобы скрыть свое подлинное классовое социальное лицо. Именно против этого лживого представления о мнимой «свободе» искусства, «свободе» от классовой борьбы, от социальной обусловленности искусства выступал В. И. Ленин в 1905 году в своей бессмертной статье «Партийная организация и партийная литература». В этом смысле очень существенно положение И. В. Сталина о том, что «...культура и язык — две разные вещи. Культура может быть и буржуазной и социалистической, язык же, как средство общения, является всегда общенародным языком и он может обслуживать и буржуазную и социалистическую культуру». И русский язык в начале XX века, например, обслуживал и культуру пролетарскую, которая представлена была в искусстве прежде всего именем Горького, и культуру дворянско-буржуазную, реакционную «культуру» декадентов — этого сонмища защитников отживающего социального порядка. Конечно, в искусстве литературы язык — категория бесклассовая, ненадстроечная — играет решающую роль. Без языка нет литературы, и, по существу, на одном и том же языке, только в одном случае великолепном и чистом, а в другом случае достаточно загаженном всякого рода дворянскими, буржуазными жаргонными словами и оборотами русском языке, писали в начале XX века А. М. Горький и какой-нибудь К. Бальмонт. Однако идеи и образы, всё, начиная от содержания их искусства и кончая конструкцией, художественной формой, которая неразрывно связана с содержанием, — всё было у этих писателей противоположно. Невозможно возникновение бесклассовых идей в обществе, разделенном на антагонистические классы. Невозможно представить себе идеи, представления, которые никак не связаны с социальной жизнью, с положением человека в обществе, с его местам в общественной борьбе. Невозможно представить себе искусство, безразличное к классам, к характеру строя. Другое дело, что вульгарные социологи в свое время опошлили понятие классовости искусства, видя весь смысл классового анализа искусства в том, чтобы обнаружить своекорыстные «классовые корни» творчества того или иного художника. Но если вульгарные социологи опошлили то, что они называли «классовым анализом искусства», это совсем не основание, чтобы искусствоведение отказалось вообще от изучения классовых источников определенных художественных идей. Цель классового анализа искусства заключается, конечно, не в «разоблачении» классового лица художника, а в том, чтобы показать происхождение художественных идей, в конечном счете, из материальных условий жизни общества, показать роль и значение данного явления искусства в общественной борьбе. Идеи, которые несет всякое прогрессивное искусство, несомненно, плоть от плоти и кость от кости передовых общественных сил. История общественного движения в России в XIX веке неотделима от развития передовой русской литературы, передового русского искусства. Таким образом, мы только тогда и сможем по-настоящему глубоко и прочно стать на позиции марксистско-ленинской эстетики, когда осветим понимание сущности и общественной роли искусства марксистско-ленинским учением о специфике надстроечных элементов, об особой роли надстройки в обществе. Учение о базисе и надстройке, об общественной функции надстройки, смене надстройки вслед за изменением базиса обязывает нас — в соответствии с общими принципами теории марксизма-ленинизма — подходить к анализу явлений искусства строго исторично, борясь против всех и всяческих попыток догматически решать общетеоретические проблемы искусствоведения. Решение основных проблем теории искусства возможно только на почве самой его истории; только в раскрытии исторической значимости того или иного художественного явления, его роли в реальной исторической практике может быть раскрыта его суть. Марксистско-ленинская теория искусств принципиально исторична. Диалектический способ рассмотрения явлений требует изучения их в развитии. Метафизическая догматика абсолютных эстетических нормативов неприемлема для нашей художественной теории.II.
Искусство в своем содержании и в своей форме всегда связано с обществом, всегда зависимо от условий и характера общественной борьбы. Но искусство на разных исторических этапах вступает с обществом в различные взаимоотношения. Это, пожалуй, особенно ясно можно видеть на сравнении положения искусства в обществах досоциалистических и в обществе социалистическом. Связь искусства с общественной жизнью в досоциалистическом обществе и в обществе социалистическом специфична, как специфичны и вообще взаимоотношения между идеологией и базисом в социалистическом обществе и в досоциалистических обществах. К этому вопросу мы вернемся еще впоследствии, но уже сейчас следует указать, что в социалистическом обществе всенародный характер искусства обуславливает прямую и непосредственную связь художественной культуры с практической борьбой всего советского общества, последовательное и ясное осознание художником своих общественных функций. Итак, ставить вопрос об искусстве в связи с общественной жизнью — значит ставить вопрос об историческом развитии искусства. Это, в сущности говоря, одна и та же проблема. В борьбе против принципов материалистической эстетики идеализм выдвинул идею о врожденности эстетического чувства, которое в своем возникновении якобы независимо от общественных условий развития. Согласно ряду теорий идеалистической эстетики эстетическое чувство, а следовательно, в конечном счете, сама практика искусства не зависимы от общественной жизни, а представляют собой некое биологическое качество, присущее человеку не как социальному существу, а как биологической особи. В этом пункте сходятся и базирующаяся на кантианских началах идеалистическая концепция Шиллера, и разнообразные варианты позитивизма, получившие особое распространение во второй половине XIX века. Потребность человека в искусстве объявляется особым «инстинктом», а отсюда и художественная практика выдается за независимое от всех практических потребностей и интересов людей — удовлетворение этого инстинкта. Подобно тому как существуют различные животные инстинкты, скажем, инстинкт голода, совершенно так же существует якобы и то, что можно было бы назвать в этом случае «эстетическим инстинктом». Доказательством существования такого «эстетического инстинкта» часто считают наличие определенных явлений в мире животных, скажем, красивого оперения у птиц в весенний период, пение птиц, окраску животных, иногда даже такие явления, как игры детенышей зверей, и целый ряд других аналогичных фактов. В этих фактах хотят видеть доказательство того, что уже животным присуща способность удовлетворения своего «эстетического инстинкта». Мы не будем подвергать подробной критике эти идеалистические концепции. Уже Плеханов показал полную беспочвенность утверждений об «искусстве» животных. Бесспорно, что эстетическое чувство является, в сущности, приобретением только лишь человеческого общества, плодом социального развития. Конечно, без наличия у человека определенных биологических способностей, прежде всего без наличия органов чувств, доставляющих ему ряд ощущений — слуховых, зрительных и т. д., — существование искусства невозможно, ибо невозможно по совершенно понятным причинам представить себе человека, наслаждающегося живописью и не имеющего глаз или же воспринимающего музыку и не имеющего слуха. Способность ощущения — основа, на которой может вырасти человеческое сознание как осознание объективной действительности. Она дана уже биологической природой человека. Но способность эта создает лишь возможность возникновения эстетического чувства и должна испытать длительное развитие и совершенствование, чтобы стать реальной, действительной основой эстетического восприятия. С другой стороны, определенная сенсорная (чувственная) раздражимость, свойственная не только животным, но даже и растениям (мимоза), не снимает того, что реакции человека качественно отличаются от реакций животных. Только с чисто механистической точки зрения можно отождествлять или видеть лишь количественную разницу в эмоциональной сфере человека и животного. У животного чувственность опирается на инстинкт, в то время как у человека она бесконечно обогащена и облагорожена практической, целесознательной деятельностью. Чувственность человека, если она действительно человеческая чувственность, становится составной частью его духовного богатства, а оно зависит от богатства и содержания его общественной практики. Любое чувство человека воспитано социальной практикой. В этом его принципиальное качественное отличие от животного чувства. Нельзя сводить человеческое богатство чувств к их элементарной животной основе. В основе человеческой любви лежат чисто физиологические потребности организма, но только декадентствующие идиоты могли утверждать, что она сводится к животному влечению индивидов. Любовная лирика Пушкина или Ронсара — выражение высокого, подлинно человеческого чувства. Это — не «мистификация» животного влечения, как утверждали некоторые декаденты, а художественное отражение всего богатства ставших человеческими, в самом благородном смысле слова, чувств. С точки зрения вульгарного буржуазного сознания эмоционально-духовная сфера человека сводится к соответствующим биологическим функциям и инстинктам. С точки зрения диалектического материализма между животным инстинктом и духовным богатством человека есть качественная разница. Без определенных биологических предпосылок невозможно существование искусства, но, как мы очень хорошо знаем, самая биология человека в той мере, в какой он вообще человек, уже перестает быть фактом собственно биологическим. У человека нет «чисто» биологической природы, она сама по себе есть плод длительного социального развития, как это было в свое время блистательно доказано Энгельсом в его работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Труд в корне изменил биологическую природу человека во всем, начиная с того, что создал вертикальное положение корпуса, кончая объемом и структурой головного мозга. Чтобы могло появиться искусство, было необходимо, чтобы и органы чувств и мозг человека оказались достаточно развитыми, облагороженными трудом. Для этого нужно также, чтобы возникла речь, как средство общения между людьми, и прежде всего чтобы такое «первичное орудие труда», как человеческая рука, получило достаточную гибкость. «Только благодаря труду, — писал Энгельс, — благодаря приспособлению к все новым операциям, благодаря передаче по наследству достигнутого таким путем особого развития мускулов, связок и, за более долгие промежутки времени, также и костей, и благодаря все новому применению этих переданных по наследству усовершенствований к новым, все более сложным операциям, — только благодаря всему этому человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини». Все это — результат труда, основы всякой общественной жизни человеческого коллектива. Так, уже самая возможность возникновения искусства обусловлена социальным развитием. Таким образом, искусство не только зависит в своем содержании и в своих формах от общественной жизни, оно вообще, как форма человеческой деятельности, является плодом, результатом социального развития человека. Так возникает вопрос о происхождении искусства. Мы не имеем в виду особо анализировать эту важнейшую теоретическую проблему, поскольку вопрос о происхождении искусства требует специальных и обширных исследований. Цель дальнейшего изложения — лишь выдвинуть некоторые моменты, освещающие различные стороны связи искусства с жизнью общества. В анализе этой проблемы возникает и еще одна трудность: ни в одной области искусствознания так много не напутали марровские вульгаризаторы, как именно в истории первобытного искусства, в вопросе о происхождении искусства. Но все же мы должны попытаться наметить некоторые контуры решения проблемы возникновения искусства как формы идеологии в результате определенного общественного развития. Обычно при анализе проблемы происхождения искусства обращают преимущественное внимание на доказательство того, что первобытные «произведения искусства», которые мы находим в древнейший период развития человека, еще в эпоху древнего каменного века, представляют собой порождение определенных, совершенно конкретных практических общественных потребностей. Ныне исчерпывающе доказано, что многочисленные изображения животных, которые покрывают стены темных пещер эпохи палеолита, созданы не с целью удовлетворения какого-либо особого эстетического чувства, а для обслуживания материальных, в первую очередь, потребностей первобытного человека, хотя он нередко фантастически осмысливал пути их удовлетворения. Во многих несомненных случаях мы имеем изображения, связанные с магическим ритуалом, и в искусствоведческой литературе, посвященной происхождению искусства, наиболее ранние художественные формы всегда удачно связываются с всевозможными колдовскими обрядами. Возьмем ли мы древнейшие изображения на скалах, первобытные песни, танцы — всюду мы найдем теснейшую связь этих произведений искусства прежде всего с магическим ритуалом. Так, мы откроем в танцах первобытных людей определенную цель, далекую от удовлетворения собственно эстетического чувства. Первобытный человек танцует не из «бескорыстной» художественной потребности, а для того, чтобы выполнить определенный колдовской ритуал, долженствующий по его понятиям облегчать человеку его труд. Рисование на стенах пещер имеет непосредственно магическое происхождение, и поэтому на первобытной стадии развития общества особенно легко открыть связь «художественных действий» с определенными, чисто материальными потребностями. Конечно, этот способ удовлетворения материальных потребностей первобытного человека чаще всего бывает фантастическим, он возникает на почве непонимания подлинной связи явлений. Так, первобытный охотник убежден в том, что рисунок, который он делает на стене перед охотой, есть нечто практически совершенно необходимое для обеспечения ее успеха, что это неизбежное, необходимое звено в процессе его труда. Понятно, что, поражая копьем изображение скачущего бизона, первобытный охотник ни в малой мере не обеспечивал себе каких-либо реальных условий для удачи, если не считать настроения уверенности, которого он тем самым достигал и которое могло стимулировать его настойчивость, смелость и т. д. Впрочем, самое появление таких фантастических форм освоения действительности в первобытную эпоху или позднее, на ранних стадиях классового общества,— не более как следствие неразвитости реальной общественной практики. «Что же касается тех идеологических областей, которые еще выше парят в воздухе, — религии, философии и т. д., то у них имеется предисторическое содержание, находимое и усваиваемое историческим периодом, содержание, которое мы теперь назвали бы бессмыслицей. Эти различные ложные представления о природе, о существе самого человека, о духах, волшебных силах и т. д. имеют по большей части лишь отрицательно-экономическую основу; низкое экономическое развитие предисторического периода имело в качестве своего дополнения, а порой даже в качестве условия и даже в качестве причины, ложные представления о природе», — писал Энгельс Конраду Шмидту. Нас не будет интересовать сейчас источник и происхождение конкретного содержания тех фольклорных представлений, в которых существуют в нерасчлененном еще виде зачатки философии, религии и искусства. Нам важно указать сейчас, что происхождение мифологической системы мышления связано (пусть и негативно, как указывает Энгельс) с практической, производственной деятельностью человека. Фантастичность мифологически-художественного мышления является, разумеется, его ограниченностью, хотя исторически неизбежной, но мифологические образы оказываются поэтическим воплощением стремления человека к преобразованию мира. И это очень важно. Это стремление получает здесь свое воображаемое, наивное оформление, но оно, как это было отмечено А. М. Горьким, составляет реальную основу фольклора. Герои — устроители земли, которых знает фольклор ряда народов в период сложения классового общества, — Илья Муромец, Давид Сасунский, Тезей — живое выражение стремления к недостижимому на том историческом этапе подчинению естественных сил и установлению социальной справедливости. «Всякая мифология, — указывает Маркс в своем знаменитом «Введении» к «К критике политической экономии», — преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, с действительным господством над этими силами природы». Таким образом, фантастическое в большинстве случаев содержание образов первобытного фольклора не только не доказывает независимости искусства от практики, но, напротив, ярко иллюстрирует непосредственную и неразрывную между ними связь. Именно так неразрывно связано с охотой в эпоху палеолита и религиозно-мифологическое и художественно-образное осознание мира. В рисунках, плясках, сопровождаемых пением, у первобытного человека нет и следа какого-либо обособленного «чистого» эстетического наслаждения, хотя, разумеется, совершая соответствующие обряды, человек испытывает эмоциональное возбуждение, могущее перерасти в эстетическое чувство. Но это — следствие, а не причина. Итак, ясно, что уже первобытные художественные произведения в своем происхождении теснейшим образом связаны с реальной практикой, порождены в конечном счете трудом человека. Это — самая элементарная основа, на которой строятся всякие отношения искусства к обществу. Художественная деятельность возникает в первобытном обществе ради удовлетворения определенной практической потребности общества, конечно, элементарной, но все-таки потребности, совершенно ясно и отчетливо выраженной. Но если мы акцентируем только эту сторону дела, то, пожалуй, достигнем лишь половины необходимого результата, ибо суть заключается не только в том, чтобы показать связь первобытной «художественной» магии, фольклорно-образной обрядности с трудовой практикой первобытного человека, — задача заключается в том, чтобы показать, как в самой практической деятельности человека рождается собственно художественная человеческая деятельность, имеющая своим следствием, а в известной мере и предпосылкой становление эстетического чувства. Зададимся таким вопросом: говоря строго, имеем ли мы право назвать первобытный танец, который танцует охотник перед тем, как итти на охоту, искусством? Хотя он и похож по форме на позднейшие танцы, все-таки это не дает нам права априорно утверждать, что мы имеем дело именно с художественным творчеством. Когда группа охотников рисует на земле зверя и затем разыгрывает вокруг этого рисунка мимическую сцену охоты, заканчивающуюся поражением рисунка копьями, то что дает нам право именовать все это искусством, хотя бы и в зачаточном его проявлении? Какую потребность удовлетворяет этот акт? Казалось бы, он имеет своей целью только одно — выполнение определенного магического обряда. Может быть, это надо назвать «художественной» магией? Может быть, это в какой-то мере, пусть в фантастическом представлении самих охотников, часть материального процесса охоты? Но имеем ли мы право говорить здесь хотя бы о зачатках искусства, — вопрос этот нуждается еще в особом анализе, потому что искусство начинается все-таки там, где появляются хотя бы элементарные, но специфические формы идеологической деятельности. Не всякая идеологическая деятельность, если она формально похожа на художественную деятельность, может быть без обиняков названа искусством. Магия не тождественна искусству, хотя в синкретическом сознании первобытного человека любые зачатки художественной деятельности обязательно сращиваются — и очень прочно — с магией, религией, а также с «наукой» и т. д. Общий ход развития обрисовать сравнительно не трудно. Первобытный танец или первобытный рисунок для их творцов кажутся неотъемлемыми звеньями самого материального производства. Даже на гораздо более высокой ступени развития, чем палеолит, мы наблюдаем аналогичные явления. Земледельческие обряды, относящиеся к посеву или сбору урожая, правда, уже далеко не так непосредственно связаны с процессом производства, но и они отчетливо обнаруживают свой обрядовый смысл — обеспечить первобытному земледельцу, хоть и фантастическими средствами, «власть» над силами природы. Но, разумеется, объективное содержание этих обрядов совершенно не соответствует их субъективному осмыслению. Уже в самых первоначальных магических обрядах есть элемент отражения, осознания действительности. Воспроизводя ход охоты в танце или рисуя животное, человек дает изображение реального хода вещей, он уже воспроизводит действительность. Таким образом, здесь колдовской обряд по самому своему характеру включает в себя момент образности. Магическое действие строится на ряде конкретно-чувственных представлений, связанных с предметом колдовства. Желая вызвать дождь, льют воду на землю, нередко через решето, имитируя, таким образом, реальное явление природы. Охотничий танец воспроизводит движения животного и т. д. Сам ритуальный акт, по крайней мере, в его первобытной форме, предполагает, так сказать, образное воспроизведение. Нельзя представить себе чисто условного, «иероглифического» (беря этот термин в его гносеологическом значении) отношения обрядового акта и явления или предмета, на который он направлен. По мере того как в ходе исторического развития стирается или осложняется первоначальная «производственная» функция магического обряда, растет и закрепляется его новое чисто образное значение художественного воспроизведения действительности. Пройдя иногда через тысячелетия, иной обряд уже совсем утрачивает свой первоначальный смысл и воспринимается его участниками как собственно художественный акт, имеющий целью образное воспроизведение действительности. В русском крестьянском искусстве XIX века крайне часто встречаются орнаментальные мотивы, например, изображения птиц, восходящие к седой древности первобытно-общинного строя и имевшие тогда религиозно-магическое назначение. Но то, что когда-то было «оберегом», впоследствии стало просто художественным образом. Не трудно свести некоторые позднейшие уже собственно художественные явления к их фольклорно-ритуальным источникам. Античная комедия ясно обнаруживает свою связь с первобытным обрядовым действом. Но между этим последним и классическим театром V века до нашей эры есть принципиальная качественная разница. Если «очищение» в древней трагедии имеет своим происхождением обряды, связанные с отношениями между членами рода, то свести его к первобытно-ритуальным источникам — значит забыть об историческом развитии, в результате которого изменились первоначальные представления и понятия, наполнившись совсем новым нравственно-эстетическим содержанием. Иными словами, развитие общества, влекущее за собою относительное обособление разных видов идеологии, имеет своим следствием развитие образного содержания первобытно-фольклорных «религиозно-художественных» представлений в собственно художественный способ освоения мира. Именно этого не хотели и не умели понять марровские вульгаризаторы. Механически сводя все содержание позднейших художественных явлений к их предполагаемому первобытному источнику, они игнорировали основное требование конкретности и историчности подхода к общественным явлениям. В самом деле. Весьма возможно, что в основе средневекового эпоса о Тристане и Изольде лежат очень древние первобытно-фольклорные образы. Но «объяснять» этот эпос путем механического «сведения» его содержания «вглубь веков», вплоть до вавилонской Иштари, значит абсолютно запутать дело, лишив явление искусства его конкретно-исторического, то есть жизненного содержания. Вместо действительно исторического анализа появляется произвольное жонглирование лингвистическими категориями. Анализ реального процесса отражения жизни в искусстве подменяется отысканием всяких «реликтов», «палеонтологией» «семантических пучков» и т. д. Но как же все-таки происходит процесс возникновения эстетического чувства, а вместе с ним и искусства, как художественно-образного воспроизведения действительности? Всякая художественная деятельность есть, конечно, прежде всего часть идеологии, духовной человеческой деятельности. Но, как мы указывали выше, чем более низка ступень развития, на которой находится человек, тем более неразрывно связаны между собой в практике различные стороны человеческой деятельности, не только духовной, но и духовной и материальной. Лишь постепенно разделение труда приводит к обособлению различных отраслей человеческой деятельности. Отделение умственного труда от труда физического было необходимой предпосылкой окончательного сложения искусства в качестве особой формы идеологической практики человека. Здесь нам необходимо коротко вернуться к тем вопросам, о которых шла речь в первой главе. Мы уже ссылались на то место из «Капитала», где Маркс говорит о принципиальном различии деятельности человека от деятельности животного, поскольку самый плохой архитектор тем отличается от самой хорошей пчелы, что у архитектора первоначально в голове готов план его здания, а потом он его реализует в практическом преобразовании предмета, в то время как пчела действует, руководствуясь инстинктом. Иными словами, всякая человеческая деятельность есть, хотя бы и в ограниченной форме, целесообразная деятельность; ей предшествует первоначальный план, в соответствии с которым человек стремится выполнить свой замысел. Для человеческой деятельности необходима «планирующая работу голова». Но любой «план» человеческой деятельности предполагает наличие в этой голове известных знаний о предмете деятельности и представлений о том, что должно быть совершено. Иными словами, человеческая деятельность предполагает необходимый уровень познания объективного мира. Чтобы сделать лук, надо на опыте узнать упругость дерева. Но всякая практика человека есть изменение действительности. И если всякое развитие, происходящее в объективной действительности, есть изменение этой действительности, то практика есть целесознательное, хотя бы и в очень ограниченной степени, преобразование мира, опирающееся на познание объективных законов развития и изменения действительности. Напомним в этой связи слова Маркса: «Животное творит сообразно мере потребности вида, к которому оно принадлежит, в то время как человек умеет производить в соответствии с мерой каждого вида и всегда умеет подойти к предмету с подходящей мерой...» И Маркс делает к этой фразе еще одно чрезвычайно поучительное добавление: «Человек творит, поэтому, по законам красоты». Это одна из необычайно глубоких мыслей основателя философии диалектического материализма. Попробуем в ней разобраться. Когда начинает творить человек, то в этом случае (и в этом принципиальное отличие его от животного), именно потому, что деятельность его целесообразна, он умеет использовать в своих интересах определенный круг качеств, присущих данному предмету. Умение подойти к предмету с подходящей мерой означает, что человек использует для своих нужд собственные свойства предмета, которые не обязательно представляют непосредственный интерес для практического присвоения. Иными словами, для человеческой практики, для того, чтобы практически осуществлять воздействие на среду, человеку необходимо познавать природу в ее объективных качествах. Стало быть, человек — творец в меру каждого вида — может не быть непосредственно заинтересованным, вернее, не обязательно должен быть заинтересован в непосредственном усвоении данного явления или данного предмета в своих целях. Предмет может интересовать его в более глубоком и широком плане познания действительности с тем, чтобы это познание потом употребить для практики. Животное, «творящее» в меру своего вида, ограничено в своих отношениях к природе, что прямо выражается в специфичности его органов чувств. Орел разглядит зайца с такой высоты, с какой человек не различит даже и куста, под которым прячется зверек. Но «орлиный взгляд» будет способен различить в зайце ровно столько, сколько необходимо для возбуждения соответствующей реакции, имеющей целью этого зайца поймать и съесть. Заяц «интересует» орла в меру его орлиного вида, и к этому приспособлены и органы чувств орла. В развитии трудовой, практической деятельности обогащается человеческая чувственность, приобретая качественно новую, отличную от животной человеческую форму: «...только благодаря (предметно) объективно развернутому богатству человеческой сущности получается богатство субъективной человеческой чувственности, получается музыкальное ухо, глаз, умеющий понимать красоту формы, — словом, отчасти впервые порождаются, отчасти развиваются человеческие, способные наслаждаться чувства...». Животное или человек, низведенный до уровня животного, не способны к качественным оценкам предметов и явлений окружающей действительности, а качественная оценка лежит в основе всякого эстетического отношения к миру. Прежде чем оценить какой-нибудь предмет, как прекрасный, человек необходимо должен отдать себе отчет в качественном его своеобразии. Если на ранних ступенях развития искусства огромную роль играют чисто количественные представления, то это — свидетельство неразвитости эстетического отношения к миру. Древнеегипетский фараон, приказывающий воздвигнуть для себя грандиозную пирамиду, стремится поразить своих подданных абсолютным масштабом постройки. «Культ количественного» в этих постройках составляет значительную долю их художественной выразительности. Но все же и на этой стадии в оценку вносится совершенно определенный качественный элемент. Пирамида — не просто громада — это громада правильной формы. В ее упорядоченности — качественное отличие от естественных геологических образований. Все большее обогащение способности человека к осознанию качественного многообразия и богатства мира прямо связано с развитием общественной практики человека. Труд вырывает человека из-под власти животных, грубо ограниченных отношений к миру. В нашем примере с зайцем человек различает форму животного, которая безразлична орлу, вследствие того, что опыт человека в производстве делает его к этому восприимчивым. Когда люди каменного века обрабатывали куски кварца, делая из них скребки, ножи, топоры и т. д., они приучались четко различать особенности объемов и поверхностей. Это — не произвольная игра восприятия человека; такая способность развивается прямо в самом производстве. Скалывая или отжимая камень, человек на ряде неудач убеждался в том, что необходимо соблюдать определенный угол удара, определенное направление поверхности и т. д. По мере усложнения практики усложнялся и опыт человека, а стало быть, обогащалась и его способность воспринимать мир и оценивать качественное своеобразие отдельных предметов. Достаточно сравнить орнамент каменного века и орнамент эпохи бронзы, чтобы почувствовать важнейшее отличие между ними. В первом случае линии угловаты, грубы, во втором они приобретают невиданную прежде гибкость и упругость. Нетрудно установить прямую связь этих двух орнаментальных систем с чувственным опытом человека, в первом случае воспитанном на обработке камня и глины, во втором — на обработке металла. Чем богаче и сложнее становятся практически-производственные и общественные отношения людей, тем более богата и способность различать в вещах многообразие их качеств. Человеческие фигурки эпохи палеолита примитивны и грубы, воспроизводя в лучшем случае элементарно-биологические особенности человеческого тела. Палеолитический скульптор не знает ни координации частей фигуры, ни, тем более, гармонии пропорций, ему абсолютно чуждо осознание внутренней жизни людей. Греческая пластика открыла в человеке такое богатство внешних и внутренних качеств, рядом с которыми первобытные статуэтки кажутся ярчайшим выражением примитивного состояния человека в эпоху палеолита. Качественная оценка предмета — необходимое условие художественно-образного осознания мира, возникновения эстетического чувства. Прежде чем осознать свойства животного вообще, человек осознает качественное своеобразие отдельных животных. Замечено, что в эпоху древнего каменного века человек особенно чуток к неповторимо индивидуальному облику данного животного в данном состоянии, который он воспроизводит в своих скальных изображениях с завидной яркостью. Но живописец палеолита плохо координирует, он крайне слаб в самых первоначальных элементах абстрагирования, слаб до того, что изображает животных без полосы почвы под ногами, давая одно из них по одной мыслимой линии горизонта, другое — по второй, третье — по третьей и т. д. Низведение человека до уровня животного, — а оно на протяжении истории, как правило, было результатом угнетения человека человеком, — всегда приводит к утрате им способности качественной оценки предметов. «Для изголодавшегося человека не существует человеческой формы пищи, а существует только ее абстрактное бытие как пищи: она могла бы с таким же успехом иметь самую грубую форму, и невозможно сказать, чем отличается этот способ удовлетворения потребности в пище от животного способа удовлетворения ее... Нуждающийся, полный забот человек не способен понять прекраснейшей пьесы; торговец минералами видит только денежную стоимость, но не красоту и особенную природу минералов: у него нет минералогического чувства». Именно поэтому способность оценить предмет в его собственных качествах — необходимая предпосылка развития эстетического чувства. Для хищника определенное животное — просто пища, источник насыщения. Это, по выражению Маркса, «грубая форма пищи», не осознаваемая в ее качестве. Человек тогда, когда он смотрит на животное, которое будет его пищей, как человек, то есть обогащенный богатством его «предметных отношений», может оценить его, судить о нем не только с этой грубо утилитарной и притом чисто количественной точки зрения. Богатство человеческой чувственности, опыт осознания реальной действительности, обусловленные трудовым развитием человечества, дают человеку возможность «отдать должное» воспринимаемому животному, что отчетливо проявилось уже и в палеолитических росписях. Когда у человека появляется такое объективное отношение к действительности, только тогда он оказывается способным воспринимать красоту действительности, хотя бы в какой-то ограниченной, элементарной форме, и воспроизводить осознаваемый им мир по законам красоты, объективным законам действительности. Но осознание качественного богатства мира не только обогащает человеческую чувственность. В этом есть и существенная обратная сторона. Самое богатство человеческой чувственности, вооруженной определенным опытом, служит предпосылкой дальнейшего обогащения практической деятельности. Если заблуждением палеолитического охотника было то, что изображение животного помотает ему убить зверя, то, все же, разумеется, через ряд посредствующих звеньев, осознание повадок, характера бизона, закрепляемое в наскальных росписях, являлось практически полезным для охоты. Искусство уже здесь, хотя и в очень ограниченной форме, оказываясь средством осознания мира, практически способствует его изменению. С другой стороны, ясно, что объективное содержание «художественной» магии заключается в осознании действительности, в ее освоении способом, в котором уже заложены основные черты искусства. Таким образом, искусство как форма общественной деятельности и в своей субъективной и в своей объективной стороне порождено трудом, реальной практикой общественного человека. Иными словами, чувственность, порожденная и развитая человеческой практикой, затем богатство познания, имеющего своим источником ту же общественную практику, и, наконец, разнообразие самой этой общественной практики — вот те условия, при которых может возникать и развиваться искусство. Все это есть порождение общественной жизни, все это есть порождение того, что человек развивается, как общественный человек и только как общественный человек.III.
Искусство обособляется в самостоятельный вид общественной практики в результате общественного развития, в результате определенного, исторически обусловленного уровня разделения труда. В ходе общественного развития дифференцируются различные формы общественной деятельности, происходит разделение материального и духовного производства. В пределах самого духовного производства происходит разделение на различные виды идеологии, и таким образом самая практика человека приобретает разнообразные формы. Эстетическое чувство в его осознанной форме может возникнуть только тогда, когда произошло разделение труда на умственный и физический. Как бы ни было сильно воздействие образов первобытного искусства на эмоциональную и вообще духовную сферу первобытного человека, это воздействие не составляет основной и единственной цели изобразительного творчества в эпоху палеолита, да и позднее. Пока умственный труд не обособился от труда физического, искусства как особой формы идеологии не существует. Это обстоятельство является предпосылкой того, что первоначальный магический обряд может превратиться со временем и в определенных исторических условиях в форму осознания действительности, имеющую специфически художественный, образный характер. Правда, еще в V веке до нашей эры «делатель богов» Фидий создавал скульптуры, имевшие непосредственное предназначение служить религиозному культу. Но и Олимпийский Зевс и Афина-Дева — законченные и совершенные художественные образы, объективный смысл которых не только выходит далеко за пределы их ритуальной функции, но и, бесспорно, над ней доминирует, определяя и самый ритуал. Но прежде всего античная пластика, как и все античное искусство, уже вполне обособилась от материального производства, обособилась решительно, поскольку духовное производство и материальное производство становятся здесь достоянием разных классов общества. Такого резкого разделения не было еще на Востоке, где, как например в древнем Египте, скульптура, как форма духовного производства, еще не до конца отделилась от производства материального, от каменотесного ремесла, что не могло не отразиться на формах египетской пластики. Но уже в Египте идеологическое осознание действительности отделяется от непосредственного материального производства и в этом процессе приобретает своеобразие и особое содержание. Давая образное отражениемира, оформляя представления о прекрасном в действительности, искусство служит практической деятельности людей, о чем уже говорилось в первой главе. И по мере того как оно становится осознанным способом «художественного освоения мира», мы имеем право видеть в нем уже особую форму общественного сознания, вне зависимости от того, связано ли собственно художественное творчество с какой-либо иной формой идеологии (например, религией) или, как в прикладном искусстве, с самим материальным производством. Тот факт, что замечательные греческие вазописцы обрабатывали предметы материального обихода, ни в малой мере не лишает их деятельность собственно художественного содержания. Порожденное в трудовой практике искусство обособляется от материального производства как специфический вид деятельности, творчества. Но если мы пойдем дальше, то увидим следующую любопытную картину. Когда мы из доклассового общества переходим к анализу отношения искусства к обществу, разделенному на антагонистические классы, мы обнаружим чрезвычайно резко выраженное (и чем дальше в истории классового общества, тем более резко это будет выражено) положение, при котором «творчеством» будут считать по преимуществу только духовное творчество, в то время как материальное производство, физический труд перестают рассматривать как творчество. Правда, окончательно это происходит только при развитии капиталистического способа производства. То, что у материального производства отнимаются его «духовные потенции», является одним из основных, если не основным признаком враждебности капитализма искусству. Но об этом ниже. Что же касается античного или средневекового ремесленника, то они еще сохраняют известную долю поэзии в своем труде. Этим и объясняется высокое художественное мастерство обработки, которым отличаются даже рядовые предметы обихода в феодальном обществе. Не говоря уже о роскошных золотых и серебряных предметах утвари древней Руси, скромные по материалу изделия деревенских ремесленников поражают своим художественным совершенством, своей эстетической значимостью. Та или иная мера духовного и телесного искалечения работника имеет своим источником прежде всего разрыв материального и духовного производства. Так, уже античный раб, на которого были взвалены все самые тяжелые и «оглупляющие» человека работы, неизбежно оказывался лишенным возможности полного развития своих духовных потенций. И если средневековый ремесленник сохраняет еще способность, хотя в ограниченной мере, творчески относиться к предмету своего труда, то мануфактурный рабочий, а затем и рабочий капиталистической фабрики лишен уже «...возможности делать что-либо самостоятельно в соответствии со своими естественными дарованиями...». Так, естественные способности человека материального труда в буржуазном обществе уродуются и обрекаются на уничтожение. Вот почему «специфически мануфактурное разделение труда поражает индивидуума в самой его жизненной основе...». Буржуазная философская и эстетическая мысль резко противопоставляет материальную деятельность человека и искусство. Кант считал, что в сфере материального производства человек порабощен «внешними законами необходимости», в то время как искусство, будучи само в себе целью, «свободно» и является творчеством в подлинном смысле слова. Легко понять, откуда взялась эта идея. Она есть теоретическое оправдание основного порока классовых обществ, «обоснование» извечности экспроприации труда, порабощения человека человеком. «Свобода» искусства, провозглашенная Кантом, есть прежде всего «свобода» искусства от практической деятельности, изоляция его от реального преобразования мира, то есть, в конечном счете, от народа, творца и создателя всех материальных и духовных ценностей. На самом деле, лишь с возникновением классов неизбежно происходит разрыв между трудом и наслаждением. Подневольный труд раба, крепостного крестьянина, рабочего на капиталистической фабрике становится для угнетенного класса проклятьем, а, следовательно, он в большей или меньшей степени теряет свой непосредственно творческий характер, теряет свою поэзию. Плоды этого труда в той или иной форме отчуждаются от непосредственного производителя, и это лишает последнего полной творческой радости труда. Труд — реальный источник всех материальных и духовных благ общества — лишен для трудящегося полноты творческой радости, поскольку он труд подневольный и является в большей или меньшей степени тяжелым и зазорным бременем. Лишь свободные производители, например ремесленники античности и средневековья, в известной степени обладали возможностью видеть в своем труде самостоятельное творчество, имеющее в виду действительную практическую ценность создаваемого предмета. Ремесленник античности или средневековья был способен ценить эстетическое значение предмета своего труда. Но и это выражается, по словам Маркса, лишь в «сентиментальной привязанности» к своему предмету. Свобода творческого труда не имеет здесь еще подлинно общественного характера, который она приобретает лишь в эпоху социализма. А в целом трудящиеся классы в антагонистических обществах несут на себе не только бремя подневольного труда, но и бремя духовного порабощения, поскольку, трудясь под игом нужды и угнетения, они лишены возможности в полной мере развивать свои духовные способности. Труд лишается для трудящегося своей радости и часто становится в сознании людей наказанием за первородный грех. Недаром античная мысль видела в бессмысленной работе Данаид и Сизифа горшее наказание за преступление. Сказанное, разумеется, не следует понимать так, что трудящийся в антагонистических классовых обществах вообще не может испытывать творческой радости от своей работы. Преобразование мира, в каких бы условиях оно ни осуществлялось, не может не вызывать в человеке чувства собственного достоинства, гордости своим творением, радостного вдохновения. Господствующим классам никогда и ни при каких условиях не могло удаться поработить работника настолько, чтобы превратить его, действительно, в «говорящее орудие». Только буржуазная фантазия Г. Уэллса могла создать образ «морлоков» в его пресловутой «Машине времени». В трудовой деятельности черпал и всегда черпает трудящийся человек убежденность в своем человеческом достоинстве, свою гордую независимость, сознание права на отпор эксплуататорам. Благородство труда и трудящихся, творческую основу всякой преобразующей деятельности с гениальной прозорливостью показал в ряде произведений Горький. Но при всем том порабощение человека человеком не могло не ломать, не уродовать высшую поэзию людского существования — поэзию творческого деяния. Мудрый философ-работник Канин изображен Репиным впряженным, как животное, в бурлацкую лямку. Господствующие классы, присваивающие себе плоды труда народа, создают глубоко порочную иллюзию, что высшая форма наслаждения — безделие, возможность не работать. В этом причина появления в разное время идеи о том, что блаженство человека — в свободе от труда, идея, которая не только присуща господствующим классам, но и разлагающе действует на некоторых представителей угнетенных классов, заставляя видеть путь к счастью в освобождении от труда. Труд и наслаждение оставались и должны были оставаться в условиях классовых антагонистических обществ оторванными друг от друга. Труд трактовался либо как бремя, не дающее возможности развить личность, либо как долг, который обязан исполнить человек, пусть и с пафосом самоотречения. Строго говоря, только пролетариат окончательно освобождается от этой морали христианского смирения перед «обязанностью» трудиться. Понятно почему. Только рабочий класс, освобождая себя, освобождает все общество, освобождает и сам труд, делая его делом чести и славы. И если мы, забегая вперед, обратимся к нашему времени, к социалистическому обществу, то возвращение любой форме труда ее творческого характера представляет собой одно из высших достижений социализма, имеющее огромной важности последствия и для художественной культуры. Только социалистическое общество снимает роковое противоречие, возникшее вместе с классовым обществом и в классовом обществе развивавшееся и углублявшееся, противоречие между творчеством и трудом, наслаждением и работой, в то время как в действительности, по своей сущности, именно труд, как основное содержание жизнедеятельности человека, и является творчеством. В любом классовом обществе труд является единственным источником материальных и духовных благ, но экспроприация труда приводит к тому, что в сознании людей возникала антитеза духовного творчества, прежде всего искусства, как творчества в собственном смысле слова, и материального труда, который якобы по самому своему существу не может быть творчеством. Правда, идеологическое осмысление этого реального противоречия получает свое полное развитие только в эпоху капитализма. Еще в средние века и в античном мире между трудом и искусством, как указывалось выше, не существовало такой резкой грани. Время рождения капиталистических отношений зафиксировало происходящий перелом в ряде анекдотов. Рассказывают, например, чрезвычайно в этом смысле поучительный анекдот о фламандском художнике XVII века Тенирсе, который, будучи уже широко известным мастером, приехал в Париж и, остановившись в гостинице, велел позвать к себе брадобрея. Брадобрей явился, сделал свое дело и, когда художник спросил, сколько он должен заплатить, парикмахер обиделся и воскликнул: «Помилуйте, какие могут быть счеты между артистами!» Но то, что было воспринято тогда как нахальство цирюльника, на самом деле явилось выражением гордости по-средневековому мыслившего ремесленника, артистически ценившего свое мастерство. Ромэн Роллан в образе Кола Брюньона сумел с большим чутьем уловить поэзию ремесленника, еще по-средневековому привязанного к своему ремеслу, но уже обладающего чувством ценности своего личного творчества — чувством человека Ренессанса. Однако это переходное состояние было сравнительно непродолжительно. Художественное ремесло эпохи Ренессанса и затем барокко дало много замечательных произведений, свидетельствующих о еще не уничтоженном капиталистическим разделением труда единстве материального производства и искусства. Более того, именно этот переходный период истории создал подлинно артистическое художественное ремесло. Богатство творческой индивидуальности и прочная ремесленная традиция здесь весьма плодотворно обогащали друг друга. Но чем дальше шло развитие буржуазных отношений, тем более ясной становилась враждебность господствующего способа производства искусству. Любопытно, что еще в XVII веке делаются попытки организовать художественное производство по принципу мануфактуры. Наиболее яркий пример — мастерская Рубенса. Но в эту эпоху мануфактурное разделение труда между Иордансом, Ван-Дейком и самим Рубенсом не принижало отдельных художников до уровня «частичных рабочих». Уже «индустрия романов» Александра Дюма-отца — яркий пример гибели таланта в условиях капитализма. Но наиболее наглядно это — в современной американской организации кинопроизводства, где, например, многие работники сценарного отдела цинично превращены в изготовителей эпизодов определенного характера.IV.
Вернемся, однако, к анализу того глубокого переворота, который совершился в отношениях между искусством и обществом в эпоху перехода первобытного общества в общество классовое. К этому времени в основном дифференцируется духовное и материальное производство, и искусство становится уже особой формой идеологической деятельности. Искусство, однако, в это время еще существует как непосредственно связанное с трудом, а следовательно, и с трудящимся человеком, то есть — как искусство непосредственно народное. В первобытном обществе существует только это народное художественное творчество, искусство, принадлежащее всему обществу, обслуживающее все общество, им создаваемое, прочнейшим образом связанное со всеми членами общества и своим содержанием и формами своего бытования. Именно поэтому, может быть, такое огромное значение вообще в дальнейшей истории художественной культуры имеет фольклор. Фольклор как художественная форма впервые возникает в тех условиях, когда нет разрыва между искусством и народом, непосредственным производителем материальных и духовных ценностей общества. Искусство в своих фольклорных формах воспроизводит народную жизнь и удовлетворяет определенные народные потребности, хотя, бесспорно, эта фольклорная художественная культура первобытного общества еще ограничена в своей практике, еще удовлетворяет очень узкую сферу интересов первобытной общины. Тем не менее образы фольклорного искусства неразрывно связаны с жизнедеятельностью всего народа в целом. Мифологические образы в поэзии, орнаменте, танце равно понятны всем членам общества, оформляют практику каждого человека. Фольклор создал огромные, глубокие по своей значимости образы; правда, они всегда в своих первоначальных формах несут на себе печать наивности, простосердечия, соответствующих относительной узости самой общественной практики. Но поэзия мифов о героях, борющихся с враждебными народу силами (Илья Муромец, Геракл, Вейнемейнен), отражает высокие народные представления о том, что нет интересов высших, чем доблесть труда на благо своей земли. Являясь, в буквальном смысле слова, народным творчеством, все первобытное искусство было самодеятельным искусством. Профессионализация искусства — явление сравнительно позднее. Она завершается только на высших ступенях первобытно-общинного строя. В классовом обществе искусство дифференцируется окончательно, как особая форма идеологии, производимая профессионалами-художниками. В первобытном обществе поэтом нередко оказывается жрец, скульптором — кузнец, артистом — рядовой участник общенародного праздника. В условиях зарождения классов появляются художники-профессионалы, оказывающиеся уже выразителями определенных классовых интересов. Что же касается первобытного искусства, то оно знает лишь начатки художественной профессионализации, связанной, как правило, с формированием ремесел — строительного, кузнечного, гончарного и других. И вот, когда происходит переход от первобытного искусства к искусству классового общества, то параллельно с материальной экспроприацией трудящихся происходит другой процесс, тоже очень тяжелый, мучительный, сложный — процесс их духовного порабощения. Всякое искусство в любых формах и любых исторических условиях существует только лишь в результате труда самого народа, в классовом обществе — труда угнетаемых, эксплуатируемых. Больше того, всякое искусство, если это великое искусство, так или иначе, в той или иной степени и форме опирается на народ, отражает его интересы и стремления. Но при всем том как раз в эпоху появления классового общества художественное творчество оказывается предметом экспроприации со стороны господствующих классов. Эта экспроприация — процесс очень длительный и сложный. Она происходит по-разному в рабовладельческом обществе на Востоке, в рабовладельческом обществе античности, в обществе феодальном, но в тех или иных формах происходит повсюду. Здесь нет необходимости касаться различных исторически существовавших форм этой духовной экспроприации, в частности экспроприации господствующими классами художественного творчества. Укажу лишь в качестве примера на то, как она совершалась в античном обществе. Благодаря особенностям экономической структуры самого античного рабовладельческого общества эксплуатируемый класс, класс рабов оказался вообще низведенным до уровня орудия производства, приравненного к орудиям и рабочему скоту, и исключен из состава гражданского общества. Рабы полностью лишались возможности жить человеческой жизнью, и лишь с большим трудом и в ограниченной мере могли формировать свое классовое самосознание. Но на данном историческом этапе существование рабства было не только необходимостью, но и единственной формой осуществления прогресса; развитие искусств и наук было возможно «...не иначе, как при усиленном разделении труда, в основу которого должно было лечь великое разделение труда между массами, поглощенными простой физической работой, и немногими привилегированными, управлявшими трудом, занимавшимися торговлей, государственными делами, а позже искусствами и науками». Рабовладельцы переложили на плечи рабов все бремя малопроизводительного материального труда, и это дало возможность для господствующего класса развить различные формы духовного творчества, в том числе и искусство. Именно поэтому господствующий класс в целом, по крайней мере в эпоху классики, сумел в своем искусстве развить идеалы свободы и общественной гармонии; классическое искусство сохранило и даже развило существенные элементы народности в пределах самой общины свободных граждан. Человеческий идеал греческой пластики V века — так называемая «калокагафия», единство красоты и доблести. Образы людей у греческих скульпторов обладают гармонически развитыми человеческими качествами. И если в этих качествах отказано рабам, то все же в наивно-целостной форме мастера греческой классики дали человечеству образцы самого высокого представления о человеке-гражданине, плоти от плоти и кости от кости своего народа. Недаром в Греции было так развито (быть может впервые в истории с такой отчетливостью!) народное самосознание, в выработке которого такую огромную роль сыграли и эпос, и трагедия, и зодчество, и пластика. В противоположность этому феодальное общество почти с самого начала приходит к развитию идей господства и подчинения, иерархической соподчиненности, как «божественного» закона жизни; порабощение свободной крестьянской общины, особые формы внеэкономического принуждения приводят к художественным системам, диаметрально противоположным античной. Именно этим объясняется то обстоятельство, что средневековое искусство, вырабатывая свой идеал человека, исходит из осознания неравенства людей между собой, подчеркивает дистанцию между господами и подданными. В представлениях о «божественном» средневековый художник оформляет ощущение «неизбежного» разрыва между небесами и несовершенной землей. Но реальное основание этого представления коренится в действительных отношениях господства и подчинения, царствующих в феодальном обществе. Вот почему античное искусство ищет, хотя и в ограниченной форме, человеческого в самом человеке, а средневековое — отчуждает все человеческие достоинства в образе господствующего над человеком божества. Ограничение, торможение, уродование духовного развития трудящегося народа неизбежно сопутствуют истории культуры классовых обществ. Основная причина этого явления на ранних ступенях эволюции классовых обществ лежит в низком уровне развития производительных сил. Тогда, когда большинство народа обременено обеспечением общества материальными ценностями, лишь меньшая его часть получает ресурсы для развития своих духовных способностей. Принципиальное отличие в этом смысле общества капиталистического от общества феодального и тем более античного заключается в том, что в нем уровень производительных сил достаточен для обеспечения надлежащих возможностей духовного развития всего народа. При капитализме духовное порабощение трудящихся не оправдано ничем, кроме классового интереса капиталистов. Становится исторически неизбежным коренное уничтожение этого противоречия в результате социалистической революции, уничтожающей всякое угнетение человека человеком. Таким образом, общий результат духовной экспроприации масс заключался в том, что плоды духовного развития всего общества были присвоены господствующими классами. Даже в тех случаях, когда дело идет об искусстве подлинно народном, отражавшем интересы народа уже в эпоху разделения общества на классы, самые плоды этого искусства или совсем не доходили до народа, или доходили в ничтожно малой степени. Возьмем в качестве примера творчество Пушкина. Мы справедливо считаем его искусство глубоко народным, выражающим лучшие стремления русской нации, воплотившиеся, в частности, в идеях и стремлениях представителей передового дворянства того времени — декабристов. Но искусство Пушкина в его эпоху было практически вполне и без всяких ограничений доступно только верхушке господствующего класса. Правда, даже в условиях самодержавно-крепостнического гнета пушкинская поэзия просачивалась в народную толщу, в частности через лубок, но это были крохи, и миллионы тружеников совсем не знали или знали только понаслышке своего великого поэта. Это касается всех лучших созданий русского гения в XIX веке. Еще Некрасов мечтал о времени, «когда мужик не Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет». Каковы бы ни были формы существования искусства в классовом обществе, господствующие классы всегда стремятся сделать его своим исключительным достоянием. Народ может пользоваться благами художественной культуры лишь в очень ограниченной степени. Здесь возникает одна из самых важных и по существу еще недостаточно разработанных проблем нашей искусствоведческой науки — проблема народности искусства. Часто, когда мы говорим о народности искусства, у нас встречается какая-то неясность в самом употреблении термина. О чем идет речь, когда мы называем художника прошлого народным, — идет ли она о том, что его искусство выражает идеологию народа, какого-то определенного угнетенного класса, или о чем-то ином. Возвратимся к нашему примеру. Когда мы говорим о народности Пушкина, мы говорим это, очевидно, не в том смысле, что Пушкин является идеологом крестьянства, ибо бесспорно, что Пушкин — художник, порожденный передовой дворянской культурой начала XIX века. Тем не менее мы никоим образом не откажем в народности творчеству величайшего поэта русского народа. Таких явлений в истории мирового искусства бесконечное множество. Сравнительно легко вопрос решается лишь в тех случаях, когда речь идет о таких художниках, которые являлись прямыми выразителями, идей угнетенных масс. Таковы, например, наши великие живописцы второй половины XIX века — Крамской, Перов, Репин, Суриков и другие. Выразители интересов крестьянской демократии, они сумели воплотить в своем творчестве стремления широчайших трудящихся масс русского народа. Однако обладает ли народностью искусство Кипренского или, скажем, Баженова и Казакова? Бесспорно, обладает, хотя ни Кипренского, ни великих наших зодчих-классиков мы не сможем без натяжки считать выразителями идей крестьянства. Некоторые склонны прибегать к искусственным и сложным решениям проблемы народности там, где речь идет об искусстве, так или иначе связанном с господствующими классами. То оказывается, что на дворянского художника «косвенно» воздействовал народ, то суть вопроса видят в том, что художник воспринимал в своем искусстве черты народного творчества, например использовал народные сказки, то народность видят в изображении народных типов и т. д. Все это имеет свое значение, однако, лишь как частности, и народность какого-нибудь искусства определяется во всяком случае не только тем, что в этом искусстве (я имею в виду искусство досоциалистического общества) у художника господствующего класса существуют какие-то элементы, заимствованные из искусства класса угнетенного. Так, например, можем ли мы считать, что Кипренский народен постольку и в ту меру, поскольку он изображает крепостных крестьян и перестает быть народным, изображая Пушкина и тем более Ростопчину? Можем ли мы считать, что Шубин народен в том только, что в его великолепном мастерстве звучит опыт народных поморских резчиков по кости? Естественно, такое понимание дела крайне суживает проблему. Больше того. Возьмем историю духовного развития крестьянства в России. В XVIII и XIX веках крестьянство имеет свое замечательное искусство — то самое народное творчество, которым крестьянство, в первую очередь, удовлетворяло свои эстетические потребности — свои песни, свою музыку, свой литературный фольклор, свой изобразительный фольклор: деревянную резьбу, деревянную архитектуру и т. д. Является ли это искусство народным? Бесспорно. Это искусство, непосредственно принадлежащее народу, им создаваемое, удовлетворяющее его художественные потребности. В начале XIX века существует чудесная крестьянская деревянная архитектура с великолепной деревянной резьбой, остатки которой еще можно найти до сих пор в наших северных деревнях. Это — архитектура собственно народная, непосредственно обслуживавшая материальные и духовные потребности крестьянства. С другой стороны, существует петербургский ансамбль начала XIX века, созданный гением Старова, Воронихина, Захарова и других, блестящая архитектура русского классицизма, которую мы также справедливо считаем народной, ибо видим в ней одно из лучших проявлений русского национального гения в области зодчества. Всякому ясно, что речь идет о двух разных содержаниях термина народность. Сколько бы мы ни сближали архитектуру захаровского Адмиралтейства с деревянной русской крестьянской постройкой, между ними есть существенная, принципиальная разница. Сколько бы мы ни объясняли народность захаровского искусства тем, что Адмиралтейство будто бы в чем-то похоже на крестьянскую избу, это ровно ничего нам не даст, даже если мы допустим какую-то между ними родственность. Указывая на это важное обстоятельство, мы не имеем в виду, как это будет ясно из дальнейшего, противопоставить, как два чуждых друг другу явления, русский классицизм начала XIX века и крестьянское зодчество этого периода. Внутренняя связь между ними несомненна, ее наглядно можно ощутить, изучая усадебное строительство начала XIX века, совершавшееся нередко руками крепостных мастеров. Дело, однако, в том, что Адмиралтейство Захарова и другие шедевры русского классицизма нельзя свести к принципам крестьянского зодчества. Между ними есть качественная разница. Видя народность Захарова лишь в родстве принципов его архитектурной композиции с традиционными, укоренившимися в народе приемами, мы снимаем вопрос о возможности прогрессивного развития искусства. Естественно, что всякое крупное художественное явление вносит в историю искусства нечто новое, прежде не существовавшее и, стало быть, в чем-то изменяющее, развивающее или преодолевающее установившиеся традиции. Неужели же народность такого явления лишь в связи его со старым, уже существовавшим прежде, уже созданным народом в более ранние периоды его исторического творчества? Как мы указывали, чрезвычайно ограничено желание доказать народность Пушкина только тем, что он использует фольклор в своем творчестве. Иногда, говоря о народности Пушкина, вспоминают «Руслана и Людмилу» и сказки, а не «Евгения Онегина», не «Повести Белкина», а если и их, то в ту лишь меру, в какой они связаны с использованием простонародных мотивов. Бесспорно, сводить народность Пушкина только к использованию этих простонародных мотивов было бы глубоко неверно. Это в свое время блестяще и глубоко раскрыл Белинский. Если бы мы встали на такую точку зрения, то были бы скорее похожи на народников, чем на марксистов, ибо считали бы, что народно только то, что порождено патриархальными условиями жизни народа. Точка зрения на исторический прогресс, как на что-то лишь затемняющее народную сущность, глубоко ошибочна, ибо народ выявляет свои духовные возможности именно в прогрессивном, поступательном своем развитии. В патриархальном укладе культуры родилось много замечательных и непреходящих ценностей. К числу их относится и чудесная старинная крестьянская архитектура с ее великолепной резьбой. Но русский народ создал не только избу, но и многие иные ценности зодчества, представлявшие собой новые прогрессивные явления, не имевшие аналогии в прошлом. Адмиралтейство Захарова — новое слово в развитии культуры русского народа, и задача историка искусства — открыть, каков вклад его в сокровищницу русского национального искусства, в чем оно обогатило культуру народа. Очень существенно с точки зрения проблемы народности, что y Пушкина есть мотивы, непосредственно сближающиеся с народным творчеством; очень важно, что есть они и в русском классицизме, но было бы, повторяем, глубоко неправильно творчество Пушкина сводить к народным сказкам, а архитектуру Захарова — к народной избе. И творчество Пушкина и творчество Захарова — явления гораздо более развитые, богатые, которые принесли человечеству и, в первую очередь, русскому народу, нечто новое по сравнению с русской избой и народной сказкой, которые обогатили свой народ, человечество новыми достижениями. Поэтому-то они и становятся по-настоящему народными. Именно поэтому мы находим действительно народный язык у Пушкина, а не у тех старомодных членов псевдонародной «Беседы», которые нарочно, желая имитировать «народность», создавали искусственный жаргон с «мокроступами» и прочими «благоуханными» псевдонародными словами. Подлинная народность у великих художников не в консервации и, тем более, не в уродливом приспособлении источников народного творчества, какое мы нередко находим у идеологов реакции, а в развитии национального искусства, в его обогащении, движении вперед. Замечательные достижения всех великих художников заключаются именно в том, что они опирались на опыт и традиции искусства своего народа, осваивали народное творчество, его образы, его язык, его формы, развивая, наполняя их новым богатым содержанием, соответствующим новой исторической ступени развития. Не может быть подлинно великого, подлинно народного искусства, которое бы не опиралось в той или иной степени на непосредственное творчество народа. Это не значит, однако, что творчество Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова — лишь простое воспроизведение народных мелодий и музыкальных форм. Оно крепко опирается на них, их развивает и совершенствует. Пушкин не был бы великим художником, если бы он просто, как Даль, коллекционировал фольклор. Пушкин бесконечно обогатил народные мотивы, сделал из них новое искусство. Известно, как восхищался Суриков народным творчеством, но «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова» не могли явиться простым повторением образов и изобразительных мотивов крестьянских донцев и т. д. В развитии прогрессивных начал, заложенных в народном творчестве, а не в преклонении перед патриархальностью — великое достоинство подлинно народных художников, и потому мы по праву называем их народными. Беда некоторых наших искусствоведов заключается в том, что они термин «народный художник» в отношении мастеров прошлого употребляют как общее и потому неопределенное выражение, а не как точный научный термин. Мы обязаны найти совершенно определенное, конкретное, историческое, научное определение этого понятия. У нас иногда боятся таких «жестких», а на самом деле научно-четких определений. При этом ссылаются на то, что якобы искусство — область сложная, тонкая и нежная, — и поэтому о нем надо говорить поэтическим языком, пользуясь эластичными, неопределенными формулами. Утверждают, что чем менее точными, «сухими» будут наши определения, тем ближе мы якобы будем к сути художественного материала. Надо ли говорить, что это просто эстетская чушь, объективный смысл которой — уйти от подлинно научного изучения явлений искусства. Об искусстве можно и должно говорить со всем уважением, с восторгом, но не надо бояться ясных, точных научных определений. Вот почему необходимо подчеркнуть, что термин «народность искусства» надо употреблять как научный термин, а не просто как комплимент великим художникам. Итак, в чем же суть вопроса о народности искусства? Очевидно, говоря о народности Пушкина, с одной стороны, и о народности сказки с другой, мы имеем в виду какие-то две грани проблемы. Дело, по-видимому, в том, что здесь смешиваются два несовпадающих понятия. Народными мы именуем две разные категории художественных явлений, которые нуждаются прежде всего в их терминологическом разделении. Одно дело, когда мы говорим о народности искусства в том смысле, что оно непосредственно обслуживает угнетенные массы народа и ими же непосредственно создается, другое дело, когда мы говорим об искусстве, связанном с господствующими классами, которое в силу тех или иных исторических причин осознает интересы народа, осознает прогрессивные пути развития нации, объективно служит прогрессу народа. Говоря о народности творчества Баженова, скажем, в его проекте Кремлевского дворца, мы не имеем в виду утверждать, что в этом проекте прямо и непосредственно отразились идеи и стремления крепостного крестьянства второй половины XVIII века, осознавшего противоположность своих классовых интересов интересам дворянства. Кремлевский дворец Баженова не есть осознание и выражение этих классовых интересов крестьянства. Но его образ, построенный на идее могущества России и на благородной мысли о человеческом равенстве, в сущности своей есть осмысление судеб русского народа. В этом смысле он и народен. Другая сторона вопроса заключается в том, что хотя архитектура одно из наиболее общественных искусств и постольку доступна восприятию относительно широких народных масс, дворцовое строительство Баженова (например, в Царицыне) непосредственно предназначено для дворянского общества, а не для крестьян. Очевидно, стало быть, что народность творчества Баженова имеет другое содержание, или, говоря точнее, другое выражение содержания, чем народность искусства мастера-плотника, рубившего избы для крепостных мужиков. Искусство Баженова, являясь народным, не перестает быть дворянским. Однако поскольку в условиях феодального общества дворянство заведует производством, отражение вопросов общенационального развития совершается в недрах дворянской культуры, передовые представители которой оказываются последовательными выразителями освободительных идей своей эпохи. Достаточно вспомнить дворянского революционера Радищева. Народность таких художественных явлений в том как раз и состоит, что они отражают поступательное развитие общества в его наиболее передовых, ведущих в будущее проявлениях, тем самым отражая и интересы народа. Внести ясность в вопрос, думается, возможно, исходя из анализа указанного выше факта духовной экспроприации народа, происходящей вместе с разделением общества на классы. Духовная экспроприация народа неизбежно должна была лишить народ тех художественных сокровищ, которые он сам создавал или которые создавались на базе его труда. Он имел на эти сокровища полное право, но был их лишен вследствие классового угнетения. Начиная уже с раннеклассовых обществ и чем дальше, тем резче, история развития искусства в классовом обществе в большей или меньшей степени дает нам картину как бы двух художественных потоков, которые все время взаимодействуют между собою, но все же более или менее отчетливо различаются. Во-первых, это собственно искусство народа, то, что мы называем народным творчеством. Вытекая из фольклора еще родовой эпохи, этот поток развития искусства благодаря экономическому и социальному положению эксплуатируемых классов имеет ту особенность, что эволюционирует он очень медленно, заторможенно, удерживает древние образы и формы. Он дает очень глубокие, сильные и цельные художественные произведения, но они в большинстве случаев несут на себе печать простонародной наивности и известного архаизма. Известно, что в северной крестьянской вышивке чуть ли не до нашего времени сохранились образы, восходящие к седой древности, — образ «богини — матери земли», «древа жизни» и т. д. Для вышивальщицы XIX века образы эти, конечно, утратили давно свой первоначальный смысл, но показательно, как народный художественный опыт хранит поэтические образы фольклора дофеодальной эпохи. Неверно, конечно, сводить к этим архаическим переживаниям народное искусство нового времени. Оно создало множество новых образов и форм, отражающих новые условия жизни угнетенного крестьянства. Но все же крестьянская живопись остается во многом архаической. Отметим, в частности, что она не создала реалистически трехмерного, сложно-повествовательного изображения. Великое счастье, что вплоть до XIX века дошли русские былины — творчество, сложившееся к XI веку. Это счастье не только для фольклористов. Огромная эстетическая ценность этого искусства — свидетельство одаренности и мудрости народа, который сумел под гнетом тяжелой эксплуатации в течение столетий сохранить ее, не только не растратив, но и приумножив. Но, как бы высоко ни ценили мы русский фольклор, если бы русский народ жил до XIX века в своем литературном развитии только былинами, сказками и песнями, а в своем изобразительном искусстве — резьбой или росписями прялок, вряд ли это могло бы явиться свидетельством богатейшего художественного развития народа, развития, отмеченного в действительности именами Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Некрасова, Щедрина, Иванова, Крамского, Репина, Сурикова и других великих русских художников. История искусства в классовых обществах развивается так, что наряду с этим простонародным (в основном крестьянским), как мы условно будем его называть, потоком искусства существует другой, который также, в конечном счете, будучи порожден деятельностью народа, его историческим творчеством, вместе с тем у трудящихся классов в основном экспроприирован и поэтому неизбежно поставлен в противоречивые условия существования. И основное противоречие развития искусства с этой точки зрения заключается именно в том, что в искусстве, связанном с господствующими классами, развиваются часто такие явления, такие стороны, которые далеко выходят за пределы идеологии господствующего класса. Причина этого заключается в следующем: «В каждую эпоху,— указывали Маркс и Энгельс, — мысли господствующего класса суть господствующие мысли, т. е. тот класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, в силу этого располагает и средствами духовного производства, так что благодаря этому ему в то же время в общем подчинены мысли тех, у кого нет средств для духовного производства». Господствующий класс, таким образом, имеет возможность располагать талантами, выходящими из народа, ставя их себе на службу, как это случалось с крепостными мастерами XVIII века. Во всяком случае, этому «ученому», как его назвал А. А. Жданов, искусству даны все материальные возможности существования, ему обеспечены и широта духовного развития и культурные традиции и т. д. Все положительное, что создается разделением труда, используется именно этим искусством, и в нем происходит основной процесс художественного развития, постоянного поступательного движения вперед. Если народное творчество меняется в своих формах, то, как сказано, эти изменения медленны и постепенны. Достаточно бросить взгляд на эволюцию крестьянского искусства в течение XVIII—XIX веков. В известной мере, народное творчество не знает взрывов в своем развитии и движется вперед путем медленной и постепенной эволюции. Напротив, в «ученом» искусстве происходит бурный процесс развития, отражающий эволюцию всего общества в целом, смену базисов, коренные изменения в характере строя. Искусство, которым материально и в известном смысле духовно владеет господствующий класс, является отражением, причем часто более богатым и сложным, чем собственно народное творчество, всего развития общества. Оно вынуждено отвечать на коренные вопросы жизни, хотя, конечно, отдельные мастера дают нам свои ответы с разных классовых позиций. В творчестве Кипренского и Венецианова, Брюллова и Иванова жизнь русского народа в первой половине XIX века отразилась гораздо более полно и многогранно, чем в крестьянской резьбе или в росписях туесков или донцев. Но сама эта жизнь, ее содержание — борьба между классами. Стало быть, так или иначе, «ученое» искусство должно отразить в себе и жизнь народа, его интересы и стремления. Идеология, в том числе и художественная, есть отражение материальной жизни общества. Но подчеркивая классовый характер идеологии в классовом обществе, мы не должны понимать его механистически. Идеолог, в том числе и художник, совсем не отражает бытие только «своего класса», но всего общества. Наличие самой обостренной борьбы классов не должно заставлять нас забыть о единстве общества. Классы данного общества, несмотря на решительную противоположность их интересов, есть классы одного общества. Поэтому идеолог, рассматривая явления с определенных позиций, все же осознает судьбы всего народа. Всякий социальный или экономический конфликт, касающийся общества в целом, затрагивающий, хотя и с разных сторон, все классы, получает свое отражение в общественном сознании, в различных идеологических формах, в которых люди осознают этот конфликт и ведут с ним борьбу. В зависимости от социального содержания идеологии, она стремится либо способствовать разрешению конфликта, либо тормозить его разрешение. В первом случае мы имеем дело с прогрессивными идеями, в частности художественными, во втором — с консервативными. Художественная идея прогрессивного класса отражает интересы народа, поскольку интересы этого класса в той или иной форме связаны с интересами всех угнетенных классов. Когда Кипренский дал героически благородное представление о личности его класса, в большой мере определившееся войной 1812 года и стремлениями передовой, революционно настроенной части дворянства, то это соответствовало общенародным интересам, являлось выражением народности. Иными словами, можно сказать, что художник господствующего класса народен в ту меру, в которую он отражает реальный конфликт в жизни народа, предлагая при этом передовое его решение. Ограниченная сторона искусства господствующих классов часто обнаруживается в том способе, с помощью которого оно борется с соответствующим общественным конфликтом. В полных драматической борьбы рельефах алтаря Зевса в Пергаме впервые с могучей силой отразился трагический конфликт господства ирабства, существовавший в античности. Народность Пергамского алтаря в том, что его мастер сумел показать могучую страсть дерзкого возмущения порабощенных и трагическую безысходность их борьбы, но он становится напыщенно холодным в чисто рабовладельческом апофеозе торжества установленного порядка. Таким образом, в «ученом» искусстве отражается и раскрывается в той или иной мере вся история народа.
 Рельефы Пергамского алтаря.
Рельефы Пергамского алтаря.
V.
Но тут возникает вопрос: каковы же взаимоотношения между понятием классовости искусства и понятием народности искусства, ибо нет никакой идеологической деятельности в классовом обществе, которая не была бы классовой. Несомненно, что искусство в классовых антагонистических обществах всегда является классовым, хотя его социальная принадлежность может выразиться в очень сложных, трудно анализируемых формах. Но так или иначе искусство всегда выступает как могущественное и активное орудие классовой борьбы. В соответствии с общими закономерностями надстройки искусство не может быть безразличным к классам, к характеру строя. Оно всегда оказывается отражением и оценкой прежде всего общественной действительности с точки зрения того или иного класса. Однако конкретные формы, в которых обнаруживается классовая принадлежность «ученого» искусства, — очень разнообразны. В этой связи необходимо внести одно существенное уточнение. История до сих пор всегда была историей борьбы классов, и искусство никогда не было безучастным свидетелем этой борьбы. Но классовая борьба в истории человечества имеет чрезвычайно многообразный характер. Историк всегда обязан в любых формах проявления общественной борьбы раскрывать столкновения различных классов, уметь вышелушить из сложного многообразия фактов это основное содержание социального процесса. Но это не значит, что борьба классов в реальной истории совершается всегда в обнаженной форме. Классики марксизма-ленинизма неоднократно указывали на то, как сложно обнаруживали себя классовые антагонизмы, классовая борьба в предшествующем развитии общества. Мы знаем эпохи максимального напряжения классовой борьбы, эпохи, когда враждебные классы резко противостоят друг другу, когда столкновения этих классов неизбежно разрешаются революцией. Но мы знаем эпохи, когда классовые противоречия оказываются не столь отчетливо развитыми или, строже говоря, не столь отчетливо обнаруживаются. «Дело в том, — указывал В. И. Ленин, — что именно революционные периоды отличаются большей широтой, большим богатством, большей сознательностью, большей планомерностью, большей систематичностью, большей смелостью и яркостью исторического творчества по сравнению с периодами мещанского, кадетского, реформистского прогресса». В соответствии с этим интересы и идеи противоположных классов то проявляются в общественном сознании эпохи со всей яркостью и смелостью, то более робко и осторожно. В шестидесятых-семидесятых годах XIX века идеи крестьянской демократии получили свое выражение в творчестве Крамского или Перова. Интересы крестьянства здесь решительно противопоставлены интересам общественно политической реакции. В творчестве Венецианова и мастеров его круга демократические идеи еще робки, они находятся в той стадии, когда революционный протест не разрушил еще традиционного повиновения раба господину. Все это не означает ни в какой степени, что существуют какие-то межклассовые идеологии. Но существует общественное сознание класса, вступившего в активную борьбу, приводящую к революционизированию общества в целом, и есть сознание класса, еще мирящегося с определенным общественным состоянием. Именно это обуславливает большую сложность и пестроту отражения классового интереса в искусстве. Конечно, в феодальном обществе всегда существует основное противоречие между классом помещиков и классом крестьян, но иногда оно может обнаруживаться с величайшей напряженностью и революционной остротой, а иногда принимает гораздо более туманную и замаскированную форму. В новгородском искусстве XII—XIV веков мы можем различить определенные тенденции, являющиеся отражением интересов относительно широких народных масс. Но одно дело — фрески Нередицы с их патриархальным, наивно эпическим величием, другое — росписи храма на Волотовом поле, полные страстного стремления, взволнованности, порыва, доходящего порою до открытого социального протеста. В обоих случаях перед нами церковное, религиозное искусство. Но во фресках Нередицы социальные отношения времени как бы санкционируются, как вечные и естественные, в них царствует идея незыблемости установленного богом порядка, хотя в могучей силе их образов мы ощущаем глухую работу мысли и чувства того «мира», который еще не осознал, хотя бы и в фантастически-религиозной ферме, противоположность своих интересов интересам «господы». В Волотове, напротив, уже чувствуется дыхание бунтарской страсти народных масс, напряженных конфликтов новгородской жизни второй половины XIV века. Фреска из церкви Спаса на Нередице (реконструкция).
Фреска из церкви Спаса на Нередице (реконструкция).
 Фреска из церкви Успения на Волотовом поле (фото до 1941 г.)
Фреска из церкви Успения на Волотовом поле (фото до 1941 г.)
Даже самое существование классов в истории приобретает иногда чрезвычайно сложные формы. Хорошо известно, что в феодальном обществе классы выступают в одежде сословий, и, естественно, что борьба между сословиями — это не та обнаженная борьба классов, которую мы находим в капиталистическом обществе. Это — различные формы классовой борьбы. И несомненно, что в таких идеологических сферах, как искусство, борьба классов и сам характер классовых отношений отражаются часто в чрезвычайно сложных формах. Нельзя представлять себе дело так, что идеолог определенного класса обязательно и навсегда «привязан» к своему классу, как это утверждала в свое время меньшевистская переверзевщина. Лучшим опровержением этого является замечательная работа Коммунистической партии по перевоспитанию, русской буржуазной художественной интеллигенции в первые годы советской власти. Так, Нестеров, до революции поэт феодально-романтического прошлого, стал одним из лучших художников советского народа. Если в периоды реформистского, «постепеновского», по выражению Ленина, развития интеллигенция может создавать себе иллюзию межклассового положения, соответствующего ее мелкобуржуазной природе, то эпохи революционных взрывов решительно ставят перед нею вопрос — на какой стороне баррикад она будет бороться. Как мы видели, художник отражает в своем искусстве действительность не только того класса, интересы которого он выражает. Он отражает жизнь всего общества, но с определенных, более или менее отчетливо обнаруживаемых позиций. Но здесь появляется возможность перехода художника с одних классовых позиций на другие. Так, Маяковский начал с мелкобуржуазного бунта против капиталистического строя и лишь впоследствии перешел на позицию последовательного отстаивания интересов революционного рабочего класса в СССР. Это, разумеется, ни в какой мере не уничтожает самой классовости искусства в классовом обществе. Исследователь, внимательно изучая того или иного художника, то или иное художественное явление, всегда может найти совершенно отчетливые классовые корни этого явления. Но это не значит, что историю искусства можно разложить по изолированным полочкам «классового сознания». Живой процесс истории гораздо богаче, сложнее, запутаннее. Самая борьба классов создает возможность таких сложных явлений. В. И. Ленин блестяще вскрыл и показал сложнейшие противоречия классового сознания художника в богатую революционными событиями эпоху на примере творчества Толстого. Ленин показал содержание толстовского утопизма, силу критических элементов в нем и одновременно отразившуюся в его искусстве неподготовленность патриархальных крестьянских масс к организованной борьбе. Ленин показал в Толстом и могучий протест мужика и размагниченную расхлябанность «юродствующего во Христе» помещика. Этот пример гениального раскрытия противоречивой сложности классового положения художника предостерегает против схематизма и упрощения в подходе к анализу художественных явлений. Сложность развития классовых антагонизмов в их художественном преломлении заставляет нас обратиться к критике так называемой вульгарной социологии, которая немало принесла вреда нашей художественной культуре в двадцатых и отчасти в тридцатых годах. В двадцатых годах вульгарная социология выступала с претензией олицетворять собою марксистский метод анализа искусства. Партийная критика разоблачила ее подлинную антиленинскую сущность, показав, что в действительности она представляет собой меньшевистскую ревизию марксизма, ничего общего не имеющую с подлинно революционным духом учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. В чем же суть, корень извращения основ марксистско-ленинской теории искусства вульгарными социологами? На этот счет нам кажется необходимым внести некоторую ясность. Критикуя вульгарный социализм, у нас нередко обращают внимание только на одну его сторону. Вульгарные социологи стремились представить художественные явления, как непосредственное выражение экономического развития общества, ставили появление новых художественных тенденций в зависимость, скажем, от роста или падения ввоза или вывоза, уровня концентрации капитала и т. д. С другой стороны, вульгарные социологи схематически классифицировали всех художников по определенным классовым рубрикам, разыскивая идеологов «буржуизирующегося дворянства» или «промышленной буржуазии, срастающейся с финансовым капиталом и идущей на блок с владельцами феодальных латифундий» и т. д. Пустая и вредная игра в порою надуманные социальные категории являлась одним из коренных пороков вульгарной социологии. Но вульгарная социология порочна не только тем, что она оперирует примитивными, вульгарными понятиями. Даже если социологический метод замаскирован и не обнаруживается непосредственно в вульгарности используемых категорий, он все же остается, как небо от земли, далеким от марксизма. Ошибочно было бы считать, что в отличие от социологизма марксизм требует отказа от точных классовых определений. Неверно, что если мы будем говорить «вообще» о духе общества, об «умонастроениях», будем приводить в качестве параллелей искусству разнообразные факты культурной жизни, то у нас будто бы получится марксистский анализ. В действительности, при таком подходе вместо марксизма, в лучшем случае, получается либеральная водица культурно-исторической школы. Подобная тенденция на самом деле представляет собой уступку буржуазному объективизму и ни в какой мере не исправляет пороков вульгарного социологизма. Из-за того, что вульгарная социология извратила и опошлила анализ отношения искусства к классовой борьбе, не следует вообще отказываться от научно точного анализа социального содержания художественного явления. Вопрос заключается в том, как подходить к самому «классовому анализу» искусства. Один из главных пороков вульгарной социологии заключается в том, что она видела цель анализа художника в его, как тогда говорили, «классовой атрибуции», в нахождении «классового эквивалента» его искусству. Цель изучения искусства сводилась к тому, чтобы доказать, что Курбе или Репин, например, есть идеологи такой-то прослойки такой-то буржуазии на таком-то этапе ее развития. Подобный «анализ» выдавался за классовый, марксистский анализ. Использование марксистской терминологии вульгарными социологами призвано было замаскировать буржуазную сущность социологического метода, основанного на порочных гносеологических и исторических предпосылках. Вульгарная социология находила в явлениях искусства прежде всего узкосубъективное выражение определенных классовых интересов. Вульгарная социология не желала видеть в художественном творчестве одну из форм познания действительности и утверждала, что искусство — лишь «выражение» идеологии, мировоззрения того или иного класса. Поэтому она сводила анализ художественного произведения к «объяснению» тех или иных формальных его особенностей из особенностей классовой «психоидеологии». Таким образом, на самом деле изложение эволюции художественной формы и изложение хода реальной истории шли параллельно, поскольку искусство для вульгарного социолога было не отражением объективной исторической действительности, а лишь выражением субъективной «психоидеологии» того или иного класса. Так, с точки зрения вульгарной социологии «объяснение» социального смысла барокко сводилось к тому, чтобы выяснить, какими особенностями мышления дворянства или буржуазии объясняется его «живописность», «динамичность» и другие формальные признаки, которые установила для барокко формалистическая буржуазная наука. Все пороки вульгарной социологии — механистичность, подмена анализа роли искусства в общественной борьбе «классовой атрибуцией», признание равнозначности любых художественных явлений (поскольку каждое из них — равно «выражение идеологии определенного класса») и прежде всего отрицание значения реализма в искусстве — в конечном счете имеют своим источником забвение ленинской теории отражения. Немалую роль в «теориях» вульгарного социологизма играло грубое извращение основ исторического материализма» извращение, против которого предостерегал еще Энгельс. Вульгарные социологи, пренебрегая прямыми указаниями классиков марксизма-ленинизма, видели в искусстве выражение автоматически действующей экономической необходимости, не умея анализировать факты в свете объективных законов общественного развития, в частности «забывая», что «сами люди делают свою историю», игнорировали активную роль сознания, в частности искусства, в развитии общества. Подчеркнем, однако, еще раз, что метод вульгарной социологии был порочен не только тем, что диктовал слишком упрощенный, примитивный подход к взаимоотношениям между искусством и социальной жизнью, и не только тем, что вульгарные социологи искали прямых соответствий между определенными экономическими фактами и определенными художественными явлениями, сводя, в сущности, и классовый анализ искусства лишь к анализу того, какую «психоидеологию» порождает определенное экономическое положение класса. Коренной теоретический порок вульгарной социологии заключается, как мы сказали, в том, что она ее видела в искусстве формы познания, отражения действительности, а усматривала в его произведениях только субъективное выражение мировоззрения какой-либо классовой прослойки, мировоззрения, определяющегося ее экономическим положением. Благодаря такому способу рассмотрения игнорируется решающий момент — то, что искусство является определенной формой познания действительности. Таким образом, упускается из виду, что анализ любого произведения искусства должен быть, в конечном счете, раскрытием того, что и с какой точки зрения, с какой мерой глубины и всесторонности отразил художник из самой действительности. Нас интересует в произведении искусства прежде всего его объективное содержание, мера его правдивости, но лишь тогда, когда мы встанем на классовую точку зрения, когда мы будем подходить к искусству с точки зрения отражения в нем социальной действительности, мы сумеем сделать это правильно. Ведь дело заключается в том, что художник вдвойне зависит от общества, в котором он живет и деятелем которого является. С одной стороны, его образ мыслей, его способ подходить к действительности зависит от его образа жизни, от его классовой — в классовом обществе — позиции. Но с другой — и как раз этот-то момент и упускают вульгарные социологи — художник отражает в своих произведениях ту объективную реальность, которая предстоит перед ним как познающим субъектом. А эта реальность есть прежде всего жизнь общества в целом. Сознание художника — не только продукт «среды», но и форма ее отражения. Связь искусства Федотова с обществом его времени обнаруживается не только в том, что мастер сам был связан с «низами» городского общества, что, несомненно, отразилось на его складе мыслей, но и прежде всего в том, что русская жизнь сороковых годов получила в произведениях художника очень богатое и содержательное отражение. Только если мы отчетливо уясним себе это обстоятельство, мы сможем подходить к явлениям искусства, как к форме отражения действительности, а стало быть, и видеть в нем орудие в общественной борьбе, при помощи которого общественный человек стремится определенным образом воздействовать на действительность. Так мы правильно охарактеризуем положение искусства в общественной жизни, подчеркнув, что оно есть не только выражение определенных социально-экономических ситуаций, но и способ познания социальной действительности. Так, изучая русскую живопись начала XIX века, мы должны стремиться раскрыть в ней ее объективно-историческое содержание. Разрушение сословного образа человека у Кипренского, понимание им ценности личности самой по себе — результат художественного осознания тех процессов, которые происходят в русском обществе в первые десятилетия прошлого века. Вульгарный социолог становится в тупик перед этим явлением. Для него искусство Кипренского — лишь «выражение» дворянского мировоззрения, и центр тяжести вопроса он переносит на решение проблемы об изменении характера дворянской идеологии, ищет «косвенного влияния народа» и т. д. Решает, однако, не характер, а содержание идеологии, а это содержание — сам реальный мир, жизнь общества, которая определенным образом отражается в сознании дворянских идеологов. Именно поэтому вульгарная социология по существу своему остается формальной. Она хочет исследовать формы мышления и оставляет в стороне содержание его. Она говорит о «гармоничности», «ясности», «пластичности» образов Кипренского, — и они на самом деле таковы, — но ее не интересует реальное общественно-эстетическое содержание этих образов. Ведь портреты Кипренского ставят важнейшие жизненные вопросы той эпохи — о свободе человека, о его умственном и моральном достоинстве, в конечном счете, о смысле жизни, как ее понимает представитель передовой дворянской интеллигенции той поры, когда само освободительное движение развивается еще как дворянское движение. И именно поэтому образы Кипренского «ясны», «гармоничны», а не потому, что «ясность» и «гармоничность» — свойства дворянской идеологии. Вульгарная социология не способна видеть процесс развития искусства иначе, как только чисто формальный процесс чередования явлений, не имеющий внутреннего смысла, содержания. Ведь если каждый художественный факт есть выражение определенных, конкретных социально-экономических условий, то история искусства — только вереница никак не связанных между собою явлений, каждое из которых автоматически выражает эти условия. А если это так, вульгарный социолог игнорирует объективное содержание художественного познания мира. Поэтому для него содержание истории искусства — не развитие познания мира средствами искусства, а цепь относительных классовых заблуждений. Все принципиальное расхождение марксизма с вульгарной социологией в этом вопросе заключается в том, что для вульгарных социологов цель анализа — прикрепить художественное явление к какому-либо своекорыстному классовому интересу, а цель всякого марксистского исследования общественной роли искусства есть раскрытие того, какое значение, какое место в классовой борьбе, совершающейся в обществе, играло данное художественное явление, чем, как и в какой мере оно участвовало в поступательном развитии общества. Руководствуясь марксистской теорией, мы прежде всего должны выяснить объективное содержание соответствующего произведения искусства как отражения действительности. Изучая искусство Левицкого и Рокотова, мы будем стремиться выяснить, как в нем отразилась русская действительность второй половины XVIII века, какие важнейшие объективные явления жизни сумели осознать эти великие художники. И мы увидим, как в еще подчеркнуто-сословных формах парадного портрета складывается и крепнет новое понимание назначения человека и смысла человеческой жизни. Если брать вопрос в его чисто гносеологическом аспекте, то окажется, что вульгарная социология не в силах раскрыть содержания художественного развития человечества: она не способна рассмотреть процесс развития искусства, как процесс отражения объективной истины. Между тем этот момент имеет решающее значение. В самом деле, ведь классовость сознания в условиях классовых обществ отнюдь не отменяет того, что это сознание — в определенных пределах, разумеется, — отражает объективную реальность, что каждый новый прогрессивный этап в развитии искусства есть шаг вперед в познании мира и тем самым шаг вперед в художественном развитии человечества. Прогресс художественного познания действительности происходит в формах классового сознания, да и не может происходить иначе, пока общество разделено на антагонистические классы. Как невозможно противопоставить классовость и народность искусства, так невозможно видеть в правдивом отражении мира средствами искусства нечто противоположное выражению в нем классового интереса. В истории классовых антагонистических обществ прогресс познания мира, в том числе и художественного познания, осуществляется только в формах классового общественного сознания. Искусство Возрождения было грандиозным шагом вперед в художественном осознании реальной действительности, но это совсем не значит, что оно было бесклассовым. Идеологи новых общественных сил, зревших в недрах феодального общества, коротко говоря, идеологи городского бюргерства, именно в силу своего социального, классового положения сумели дать с такой смелостью широчайшую реальную картину действительности. В силу своего социального, классового положения, в силу прогрессивности своего класса они и были чем угодно, но только не буржуазно ограниченными людьми. Таким образом, общечеловеческие ценности, создаваемые искусством, обнаруживаются в нем в форме классового сознания, и дело заключается лишь в том, позволяют ли реальные исторические интересы класса его художественным идеологам правдиво, объективно отражать мир, внося тем самым в художественную сокровищницу человечества непреходящие ценности. Буржуазия в начале прошлого века во Франции еще поддерживала демократические идеалы реалистического искусства, буржуазия в наше время утратила в искусстве, как и во всех формах своего общественного сознания, последние остатки положительного демократического содержания. Причина этого для нас ясна в свете замечательного анализа судеб идей демократии в буржуазном обществе, данного И. В. Сталиным в его исторической речи на заключительном заседании XIX съезда партии: «Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой «свободы личности», — права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменён принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт». В этих условиях буржуазия цинически отрекается от всех лучших традиций демократического реализма. И эти великие традиции подхватывает и отстаивает рабочий класс и его коммунистические партии, берущие в свои руки знамя буржуазно-демократических свобод. Недаром именно передовые художники и критики Франции, связанные с народным фронтом свободы и мира, возглавляемым коммунистами, сейчас выступают подлинными хранителями заветов Давида и Делакруа, Жерико и Домье. Итак, классовость искусства не только не противоречит необходимости рассматривать историю художественной культуры, как историю правдивого осознания действительности, но и предполагает ее. Только в формах классового художественного сознания могло существовать осознание мира, какова бы ни была мера его объективности. Вульгарная социология не могла понять этого реального исторического противоречия и таким образом скатывалась на принципиально антиисторические позиции. Историю искусства в строгом смысле этого слова писать с точки зрения вульгарной социологии нельзя, ибо историческая логика развития искусства рассматривается вульгарными социологами только как формальная логика развития, и поэтому вся эволюция искусства сводится к отысканию параллелей между формальным рядом искусства и социальным рядом условий общественной жизни. Возьмем такой характерный образец вульгарного социологизма, как «Социология искусства» Фриче, в которой основы этого порочного метода видны особенно отчетливо и ясно. Как рассуждает Фриче? Происходит определенная смена форм: сначала искусство «линейно», потом оно становится «живописным». Почему это происходит? Фриче объясняет, что это происходит по таким-то и таким-то социальным причинам. Так, в отношении искусства итальянского Возрождения эта смена произошла, согласно Фриче, потому, что вначале стояла на первом плане «производственная» Флоренция с трезвым и рациональным умом ее буржуазии, затем на первый план выступает тортовая Венеция с гедонистически-чувственным отношением к миру, свойственным купечеству. Трезвой Флоренции соответствует линейность в искусстве, гедонистической Венеции — чувственная живописность. Так, изложение истории искусств сводится к прослеживанию формального ряда. Такая грубо вульгарная схема позволяет Фриче вообще забыть о социальной борьбе, о борьбе классов, о революциях, о смене старого новым. И он, скатываясь на явно меньшевистские позиции, только констатирует автоматическую зависимость художественных явлений от социально-экономических условий. Очень показательно, что Фриче без всякой критики берет формальные схемы, выработанные реакционно-буржуазным формалистическим искусствоведением, и видит свою задачу только в их «марксистском» истолковании. Принятые им схемы Гаузенштейна, Кон-Винера, Вельфлина и других порочны сами по себе, так как изображают историю искусства как чередование формальных приемов. Схемы эти не пригодны уже потому, что в них ни в малой степени не отражается объективное содержание процесса. Ведь нельзя же в самом деле видеть в огромном кризисе, охватившем искусство в XVI веке и представляющем собою попытки осознать сотрясший Европу социально-экономический переворот, смену линейного принципа живописным! Недаром из анализов вульгарных социологов, следующих за формалистами, всегда выпадает художественный образ, как суть, смысл, основное зерно всякого произведения искусства. Понятие образа откидывается вульгарным социологом, оно ему просто не нужно, ибо художественный образ есть не что иное, как форма, в которой искусство осознает, осмысливает действительность.
VI.
Нам необходимо было подробно остановиться на этих проблемах, так как вопрос о классовости искусства в классовых обществах не может быть сброшен со счетов только потому, что этим вопросом «слишком много» занимались вульгарные социологи и слишком много в нем напутали. Было бы неверно считать, что всякий анализ классового содержания искусства со стремлением точно определить социальную позицию и социальные идеалы художника, не ограничиваясь общими словами о «народности», обязательно является вульгарной социологией. Участие художника в борьбе классов это участие идеолога, познающего действительность, раскрывающего в ней одни стороны и вследствие своей классовой позиции слепого к другим. В истории искусства мы наблюдаем художников, связанных с определенным классом, которые по самому историческому положению этого класса оказались способными отразить в своем творчестве существенные стороны прогрессивного развития своего времени и вообще прогрессивного развития человечества. Ленин исчерпывающе показал это на творчестве Толстого. Можно обратиться также к передвижникам, чтобы увидеть, что и у них, поскольку они были идеологами крестьянской демократии, получили отражение существеннейшие стороны пореформенной эпохи в жизни России. Такое искусство оказывалось искусством, способствующим поступательному развитию общества. Оно прямо или косвенно отражало объективное развитие общества, само ему способствовало и в эту меру выражало «всеобщий интерес», то есть было народным. Следовательно, определенное классовое положение художника в определенных условиях могло определить его народность, ибо с этой точки зрения народность есть не что иное, как прогрессивность идей художника с точки зрения прогрессивного развития самого данного народа. Раз искусство проникнуто прогрессивными идеалами, оно способствует и развитию народа, и, поскольку художник чуток к народным нуждам, он воплощает в себе стремления народа. Таким образом, народность искусства следует для классовых обществ рассматривать не в противоположность, а в диалектическом единстве с его классовостью. Для классовых обществ мера народности любого художника, в конечном счете, определяется ролью класса, идеологом которого является художник, в развитии общества. Так, дворянское искусство в России в XVIII веке и в первой половине XIX столетия обладало народностью, ибо и само освободительное движение в этом периоде было дворянским. С наступлением нового периода освободительного движения — разночинного — дворянские художники утрачивают в основном все народное, что было прежде в их искусстве. Если молодой Ф. Бруни пишет «Смерть Камиллы» — картину, проникнутую гражданским пафосом, то Бруни-старик — враг всего нового и прогрессивного, — олицетворение антинародной художественной реакции. И он, по меткому выражению Крамского, «превращается в юношу, в Семирадского». Ф. Бруни. Смерть Камиллы.
Ф. Бруни. Смерть Камиллы.
С другой стороны, то, что всякое передовое искусство способствует прогрессу общества, обуславливает и его народность. Формалисты, а вслед за ними и вульгарные социологи выдвинули теорию о том, что в искусстве нет прогресса, нет движения вперед, а есть лишь чередование явлений. С их точки зрения этот тезис был вполне- закономерен. Отрицая за искусством значение способа объективного отражения действительности и видя в нем лишь различные субъективные формы «выражения», формализм утверждал, что всякое искусство хорошо в своем роде и нет и не может быть каких-нибудь объективных критериев для сравнительных оценок. Судорожно изломанные фигуры на романских рельефах и пластически гармоничные статуи Поликлета — разные способы «видеть» — и только. Концепция эта целиком была воспринята вульгарной социологией, которая сформулировала это же положение в тезисе, что каждое художественное явление, будучи выражением идеологии определенного класса, равноценно другому. И социология, подобно формализму, категорически отвергала основной критерий оценки произведения искусства — сравнение отражения и отражаемого, искусства и действительности — принцип, блестяще развитый Добролюбовым и названный им «реальной критикой». Подробнее мы рассмотрим связанные с этим проблемы в следующей главе, а сейчас подчеркнем другую сторону дела. Так как искусство — форма познания действительности, то, естественно, развитие искусства есть процесс развития одной из форм познания мира. Иными словами, мы имеем право говорить о прогрессе, поступательном развитии искусства. При всем обаянии греческой классики понимание ею человека наивно. Это понимание бесконечно богаче и сложнее, скажем, в искусстве Ренессанса, хотя какие-то стороны «истины» этим последним по сравнению с античностью утрачиваются. Естественно, что с развитием самого общества перед идеологами встают и новые проблемы, и они-то и составляют объективное содержание каждого нового, прогрессивного этапа в художественном развитии. Период Петра I выдвинул перед искусством ряд совершенно новых задач, в частности всестороннего осознания личности реального человека и реальной человеческой жизни, и это обусловило окончательное крушение древнерусской художественной системы и рождение новой эпохи в развитии русского искусства. Историк искусства, изучая эволюцию художественного творчества, должен постоянно иметь в виду связь новых явлений в искусстве с новыми явлениями в самой исторической действительности. Важно уметь видеть в каждую данную эпоху и прогрессивные и, наоборот, консервативные художественные тенденции. Именно такой диалектический способ позволяет рассматривать искусство не просто как чередование «стилей», а как поступательное развитие, как прогресс. Непонимание этого момента приводит иногда к ошибкам в оценке определенных фактов. Некоторые историки искусства, например, оценивая искусство Антропова, подчеркивали в нем как достоинство его связь с древнерусской парсуной, не учитывая того, что это была отмирающая традиция, нередко мешавшая художнику во всю силу развернуть новые тенденции в его портретном искусстве. Рассматривать развитие искусства как прогресс, осуществляющийся в борьбе нового со старым, таково, как нам кажется, основное требование марксистско-ленинского изучения истории художественной культуры. Этот прогресс осуществляется не плавно и чисто эволюционно. Накопление новых художественных явлений и тенденций приводит к скачку, к революционному установлению нового направления или целой художественной системы. Такой художественной революцией было Возрождение, таким же революционным скачком была петровская эпоха в истории русского искусства, скачком, подготовленным длительным количественным накоплением элементов нового отношения к миру в течение XVI и XVII веков. Смена классового господства неизбежно приводит к смене господства одной художественной идеологии другой. Так и было в эпоху Возрождения, решительно и воинственно отметавшего средневековую художественную систему. Но даже и при сохранении господства данного класса, однако, в условиях серьезных преобразований в пределах данной формации изменяется и надстройка, в том числе и искусство. Это мы видим в России в эпоху Петра I. Конечно, в искусстве прошлого «взрывы» не надо представлять себе как чисто механическое отметание прошлого. Преемственность культуры оказывается несомненной при всех условиях. Так, русское искусство XVIII века вобрало в себя все прогрессивное наследие древнерусского искусства. Но происшедший на рубеже XVIII века переход русского искусства в новое качественное состояние все же явился отрицанием основ средневеково-религиозного художественного мышления. Произошла коренная ломка, пусть протекавшая в течение двадцати пяти лет, но тем не менее достаточно решительная, чтобы мы могли говорить о взрыве. Но при всем том прогресс искусства в условиях антагонистических классовых обществ нельзя представлять себе и как простое восхождение, прямую линию подъема, где каждая следующая эпоха выше предыдущей. В классовых обществах прогресс осуществляется противоречиво, развитие искусства совершается в противоречиях, которые делают картину художественной эволюции очень сложной. Неравномерность развития искусства в классовых обществах — факт, широко освещенный и в нашей искусствоведческой литературе на основе знаменитого абзаца ив «Введения» к «К критике политической экономии» К. Маркса: «Относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета не находятся ни в каком соответствии с общим развитием общества, а следовательно также и развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации. Например, греки в сравнении с современными народами или также Шекспир». Марксистская теория общественного развития диаметрально противоположна плоскобуржуазной теории прогресса, цель которой — апология капитализма. Социологи-позитивисты утверждали, что если эпоха капитализма несет с собой бурный рост техники, то и в области культуры, в частности искусства, неизбежен такой же блистательный расцвет. На самом деле, однако, капиталистический способ производства, как подчеркивал Маркс в «Теориях прибавочной стоимости», враждебен искусству. Таким образом, нельзя утверждать, что между уровнем материальной основы общества и искусством обязательно некое механическое соответствие. Разумеется, экономический строй общества определяет, в конечном итоге, содержание развития идеологий, но не в том смысле, что раз страна процветает экономически, то она должна при любом общественном строе процветать в сфере культуры. Иными словами, победы искусства в прошлом обуславливаются определенным характером, содержанием всего общественно-экономического развития данного народа. Россия в технико-экономическом отношении была во второй половине XIX века отсталой страной сравнительно, скажем, с Англией, но ее искусство переживало могучий расцвет, рожденный огромным размахом освободительной борьбы. В то же время английское изобразительное искусство XIX века не создало чего-нибудь столь же великого. Противоречие между искусством и обществом, отрыв от искусства широких народных масс, жизнь и труд которых при всех условиях являются почвой и материалом для всякого подлинно художественного творчества, получают свое наиболее острое выражение в эпоху капитализма. Если в условиях феодализма при сравнительно низком общем уровне культуры разрыв между массами и так называемым образованным обществом не был очень глубоким, то в эпоху господства буржуазии этот разрыв становится особенно резким, отсекая у трудящихся пути к подлинной культуре. Крайне ярким свидетельством враждебности капитализма искусству является губительное его воздействие на народное творчество. Капиталистическое общество, отрывая производителя от средств производства, разрушая все патриархальные связи, уничтожая ремесло, обеспечивавшее в средние века известную меру эстетического отношения человека к предмету своего труда, превращая рабочего в «частичного рабочего», внедряя в общественную жизнь уродливое господство денег, гибельно действует на народное искусство, которое еще продолжает существовать в среде трудящихся масс, прежде всего крестьянства. Мелкобуржуазный романтический протест против «машинизации», губящей художественное ремесло, и попытки его искусственного возрождения (Рескин, В. Моррис и т. д.) — только доказательство глубокого кризиса искусства, так как все эти попытки не привели и, разумеется, не могли привести к каким-либо ощутительным результатам. Если мы возьмем такие современные капиталистические страны, как Англия или Франция (не говоря об Америке, которая своего живого народного искусства вообще почти не имеет), мы увидим, что там давно уже, не менее столетия, народное творчество находится в упадке. Капитализм убивает это искусство. Здесь одна из причин того факта, что и само «ученое» искусство в высоко развитых капиталистических странах, постепенно все больше и больше отрываясь от народа, неизбежно идет к своему упадку, а в эпоху империализма приходит к полному разложению и маразму, к антинародному формализму и заходит в тупик. Я имею ввиду, разумеется, реакционное буржуазное искусство, потому что, с другой стороны, рост сознательности рабочего класса, созревание его революционной энергии обуславливают переход на его позиции ряда представителей прогрессивной буржуазной художественной интеллигенции, которые более или менее последовательно связывают свое творчество с идеями демократии и социализма. Уничтожение отрыва искусства от народа возможно только на базе практического разрешения основных общественных конфликтов классового общества. Оно возможно лишь в результате социальной революции. Отрыв народа от искусства не может быть ликвидирован никакими средствами в пределах самого буржуазного общества. Предпосылкой уничтожения разрыва между народом и искусством является практическое устранение таких социальных условий, которые этот разрыв порождают. История советской художественной культуры доказывает это со всей наглядностью, ибо у нас полностью снимается противоположность, разрыв искусства и народа. Особое развитие, которое получило в нашей стране народное творчество, — великолепный пример уничтожения пропасти между искусством в собственном, узком смысле слова народным и искусством, которое мы условно называем «ученым». Между ними стирается принципиальная разница, ибо само «ученое» искусство стало в нашем обществе народным в прямом, точном и полном смысле этого слова, а искусство непосредственно народных масс становится в уровень с искусством, которое мы называем профессиональным, если не в мастерстве, то, во всяком случае, в поднимаемых проблемах, в способности к развитию, во всех своих существенных возможностях. Причина этого лежит в уничтожении противоположности между умственным и физическим трудом. Это, конечно, отнюдь не означает, как это утверждали еще лет двадцать тому назад некоторые энтузиасты самодеятельного искусства, довольно плохо разбиравшиеся в марксизме, что единственной формой существования искусства в социалистическом обществе должно быть именно искусство самодеятельное, как искусство самих масс. Эти идеологи самодеятельного искусства пытались аргументировать свою теорию об «отмирании» профессионального искусства известным положением Маркса: «В коммунистическом обществе не существует живописцев, существуют лишь люди, которые между прочим занимаются и живописью». Они забывали при этом, что здесь речь шла об уничтожении уродующих человека условий капиталистического разделения труда. Уничтожение капитализма, подавляющего художественные таланты в массах, создает условия, о которых у Маркса несколькими строками выше, будто специально ради устранения недоразумений, сказано:«... они (коммунисты. — Г. Н.) не думают вовсе, как воображает Санчо, будто каждый должен работать вместо Рафаэля, но что каждый, в ком сидит Рафаэль, должен иметь возможность беспрепятственно развиваться». Упразднение уродливых форм разделения труда, рожденных капитализмом, открывает, с одной стороны, широчайшие возможности для развития всех индивидуальных талантов, а с другой — делает для каждого доступной всю культуру, в том числе и художественную. Когда мы говорим о народности нашего искусства, то мы придаем этому термину сразу оба значения, о которых говорилось выше. Любое большое произведение советского искусства народно, как потому, что оно создано художником, крепчайшими узами связанным с народом, и непосредственно удовлетворяет художественным потребностям всего народа, так и потому, что оно своими образами способствует движению нашего народа вперед, прогрессивному развитию социалистического общества. Эти две стороны дела в советском искусстве совпадают. Таким образом, у нас, в конечном счете, исчезает то реальное историческое противоречие, которое характеризовало развитие искусства в классовых обществах. В заключение рассмотрения этого круга проблем надлежит сделать еще одно уточнение. Говоря о разделении «ученого» искусства и народного творчества, ни в коем случае не следует отождествлять это разделение с разделением двух культур в пределах каждой национальной культуры. Было бы вопиющей и вредной нелепицей отождествить профессиональное «ученое» искусство с «культурой Пуришкевичей и Струве» и видеть «демократические и социалистические элементы» только в собственно народном творчестве. Ленинская теория двух культур предполагает необходимость анализа самого «ученого» искусства с точки зрения наличия в нем «демократических и социалистических элементов», обусловленных тем, что в этом искусстве осознается, осмысливается жизнь, судьба угнетенных, эксплуатируемых классов. Вся история прогрессивного русского национального искусства есть, в сущности, история роста и развития «демократических и социалистических элементов», явившихся предпосылкой, источником развития и самого искусства социалистического реализма. Народность искусства в классовом обществе и определяет принадлежность его к передовой, демократической культуре. Искусство социалистического реализма является прямым наследником этой великой традиции, ибо социалистический общественный строй, раскрепощая все творческие силы народа, дает возможность неограниченного развития всем передовым, подлинно народным художественным идеям прошлого. Советские художники являются наследниками Крамского и Репина не только потому, что они учатся у них реалистическому мастерству, но и потому прежде всего, что они продолжают в новых исторических условиях славное дело классиков русского искусства — дело служения народу.
VII.
Пойдем теперь дальше и продолжим наш анализ противоречивых условий существования искусства в классовом обществе. Изучая взаимоотношения между искусством и общественной жизнью, нужно прежде всего учитывать историческую изменчивость самих форм отношений искусства и общества. Мы можем наблюдать три основные формы таких взаимоотношений: между искусством и обществом в обществе доклассовом, между искусством и обществом в антагонистических классовых обществах и между искусством и обществом в социалистическом обществе. Отношения эти существенно различны, и хотя, разумеется, первичным во всех случаях является базис, а вторичным — идеология, упускать из виду эти различия — значит рисковать не понять многое в истории искусства. О взаимоотношениях искусства и общества в эпоху социализма мы будем говорить особо в главе о социалистическом реализме. Об искусстве в обществе доклассовом речь была выше. Сейчас необходимо остановиться на некоторых проблемах, связанных с развитием искусства в классовых обществах. Мы уже в разных местах касались роли разделения труда в развитии искусства. Предпосылкой прогресса искусства на ранних стадиях общественного развития является определенный уровень разделения труда. Обогащение практического опыта человечества связано с ростом многогранности отношений человека со средой в процессе производства. Этот рост обуславливает, таким образом, с одной стороны, более широкий и глубокий охват действительности сознанием общественного человека, с другой — в соответствии с обогащением практического опыта — развитие человеческих способностей. Разделение труда при условии очень малого уровня развития производительных сил оказывается единственной возможной формой роста и производства и вообще практических способностей человека. Искусный кузнец не мог быть тогда одновременно искусным гончаром, как опытный скотовод не мог быть опытным земледельцем. На этой стадии исторического развития художественные способности человека совершенствуются в условиях разделения труда. Так как разделение труда совершенствует способности человека, оно играет прогрессивную роль, хотя, как мы отмечали выше, уже на ранних стадиях классового господства разделение труда обнаруживает свою противоречивость. Разделение труда создало античное искусство, но оно же лишило эксплуатируемый класс всех условий человеческого развития. Еще отчетливее проблема становится в буржуазном обществе, где капиталистическое разделение труда является одним из самых разрушительных для искусства моментов. Чем дальше идет развитие классового общества, тем более и более обнаруживаются противоречия общественного разделения труда, окончательно раскрывшиеся в эпоху капитализма. Возьмем античное общество и присмотримся к тому, возможно ли было бы такое развитие и расцвет искусства в классической Греции, если бы огромные массы эксплуатируемых рабов не были бы отрешены от всякой духовной жизни, не были бы экспроприированы не только материально, но и духовно. Напомним слова Энгельса: «Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земледелием и промышленностью и, благодаря ему, расцвета древнегреческого мира. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки». Но уже в античности отчетливо обнаружилась противоречивость разделения труда, не только способствовавшего, но и ограничивавшего развитие искусства. Рабство уничтожало свободного производителя как решающую социальную силу, а вместе с ним и гражданский идеал свободного человека. «Не демократия погубила Афины... а рабство, которое сделало труд свободного гражданина презренным», — писал Энгельс. Очень ярко эта противоречивость проявилась и в истории русской художественной культуры X—XI столетий, когда Русь окончательно переходила от первобытно-общинного строя к феодальному общественному укладу. Бесспорно, что расцвет религиозно-христианской архитектуры и живописи в период Владимира и Ярослава был решительным шагом вперед по сравнению с более ранним искусством восточных славян, хотя он и происходил на базе относительного преодоления народно-фольклорного искусства более раннего этапа. Мы не можем и не должны оплакивать оттеснения на задний план народного изобразительного фольклора. Но мы ясно видим, как суровое величие мозаических образов киевской Софии оттесняет наивно-сказочный мир изображений на черниговских пиршественных рогах. Другой стороной противоречивого развития искусства в классовом обществе явилось то, что в истории мирового искусства неизбежно возникает конфликт между личностью и обществом. Противоречие между личными и общественными интересами — свойство любого антагонистического классового общества; это противоречие неотъемлемо от классовой, социальной структуры вообще, где антагонизм между личными и общественными интересами является одним из важнейших проявлений общественного антагонизма. Только социалистическое общество снимает это противоречие. В соответствии с этим одной из основных проблем, которые возникают в развитии искусства классовых обществ и которые по-разному себя обнаруживают в разные эпохи, является проблема отношений человека и общества, личности и коллектива. Эта проблема возникает уже на ранних стадиях развития общества, еще в античном мире, хотя опять-таки, как и все противоречия классовых обществ, получает полное и обостренное,развитие именно в эпоху капитализма. В буржуазном обществе интересы отдельного человека вступают в резкое противоречие со стихией общественного развития. Недаром буржуазное искусство так отчетливо ставит проблему зависимости человека от обстоятельств и колеблется между романтическим противопоставлением героя толпе и натуралистическим признанием личности «продуктом» бесконечного ряда причин. Уже Гоббс сформулировал волчий закон капитализма в своей знаменитой формуле: «война всех против всех». Маркс указывал: «...все буржуазное общество есть война отделенных друг от друга исключительно своей индивидуальностью индивидуумов друг против друга и всеобщее необузданное движение освобожденных от оков привилегий стихийных жизненных сил». Это «всеобщее необузданное движение» приводит к тому, что художник подчеркивает одиночество индивида между множества себе подобных. Среди художников XIX века это острее всего почувствовал Домье в прачке, бегущей в каменной пустыне города, в Дон-Кихоте, трагически-смешном искателе добра, или, наоборот, в вихре «Восстания», где уже нет никаких индивидуальностей. О. Домье. Восстание.
О. Домье. Восстание.
Общественное устройство в эпоху капитализма предстает как чуждая людям сила, и это, хотя и односторонне, отражало реальное положение вещей. Недаром еще классицизм XVII века видел основную трагическую коллизию в непримиримом антагонизме личного стремления, побуждаемого чувством, и социальных требований, воплощаемых в сознании долга. Впрочем, уже античная трагедия вывела стихию общественного развития как слепую силу рока, губящего индивидуальные стремления людей. Характерно, что самая гениальность, художественная одаренность отдельного человека в классовом обществе может получить надлежащее развитие в результате подавления творческих возможностей множества индивидуальностей. Художественные гении возникают не как нечто «сваливающееся с неба», а как результат длительного процесса разделения труда, благодаря которому эта гениальность, противопоставленная среднему уровню, только и может возникнуть, как это показали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии». Романтики в свое время особенно подчеркивали, что в средние века искусство было гораздо общедоступнее, чем в новое время. Они не видели, правда, основной причины этого — капиталистического способа производства. Но с другой стороны, следует отметить, что наивные образы средневекового искусства понятнее для всех людей своей эпохи вследствие общего довольно слабого развития культуры, чем богато развитые произведения мастеров XVII века для человека того времени, коль скоро во втором случае уже резко разграничены «знатоки» и «профаны». Дело, конечно, не в том, что произведения Рембрандта или Веласкеса недоступны простому человеку из-за своей особой сложности, а в том, что нужда делает эти шедевры чуждыми потребностям повседневной жизни огромного большинства простых людей. Уже маньеризм пропагандировал особую «эсотеричность» своего искусства, что и делает его одним из ранних провозвестий уродливого развития искусства в буржуазном обществе. Так формируется лживая буржуазная «теория» о недоступности искусства для масс, о «гениальности», мера которой — отсутствие «пошлости», то есть, согласно этой «теории», — общепонятности. Теория «единственности» гения, которую высмеивали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии», имеет особое хождение в современной реакционной буржуазной эстетике. Она имеет целью объявить отрыв искусства от масс, уродливое противопоставление «творческой личности» и народа «вечным» законом. Между тем практика показывает, что, например, лишь те художники современного Запада, которые подобно Фужерону и другим передовым французским живописцам ищут пути к народу и стремятся выражать его интересы, спасают свое творчество от полного маразма и приобретают подлинную оригинальность таланта. Мы уже касались другой важной проблемы, которая возникает при изучении отношений искусства и общества: проблемы несоответствия между материальным развитием общества и его духовным развитием. Мы приводили то место из «Введения» к труду Маркса «К критике политической экономии», где Маркс говорит, что духовное развитие общества, по-видимому, не стоит ни в каком соответствии с уровнем развития его материальной основы. Обратимся к некоторым другим сторонам этой проблемы. Дело в том, что самое понятие материального уровня развития общества требует очень точного исторического анализа. Как мы выяснили, речь идет не просто об абсолютном уровне развития производительных сил. Богатство общества совсем не означает богатства основной массы членов этого общества, обеспечивающего им возможности духовного развития. Производственные отношения, господствующие в данной социально-экономической формации, определяют классовые, политические, идейные отношения между людьми. И, поэтому, естественно, что буржуазное общество, доводящее социальные антагонизмы до крайних пределов, создает совершенно иное по характеру искусство, чем искусство античное, возникшее на базе относительной неразвитости общественных конфликтов, имевших тогда наивно-грубую и вместе с тем «прозрачную» форму, обеспечивавшую художнику возможность относительно цельного и ясного взгляда на жизнь. Иными словами, характер и структура данного общества, являющегося предметом художественного познания, определяет уровень развития и самый характер искусства. Известно, что Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» указал, что «...капиталистическое производство враждебно некоторым отраслям духовного производства, каковы искусство и поэзия. Не понимая этого, можно притти к выдумке французов XVIII столетия, осмеянной уже Лессингом: так как мы в механике и т. д. ушли дальше древних, то почему бы нам не создать и эпоса? И вот является Генриада взамен Илиады!». Действительно, изучение капиталистического общества и его искусства приводит к неопровержимому выводу, что капиталистическое общество неблагоприятно для развития искусства. Причина этого заложена в самих производственных отношениях буржуазного общества. Капитализм лишил труд его творческого характера, а самое производство превратил в производство меновой стоимости, в абстрактное «материальное богатство», безразличное к качествам созданных ценностей. Этот характер капиталистического производства получает свое наиболее яркое выражение в господстве денег, этого «материального представителя богатства» (Маркс). Извращающая, по выражению Маркса, сила денег состоит прежде всего в том, что общество, основанное на их власти, необходимо ставит наголову все естественные отношения, отчуждает все человеческие способности и таланты: «Если у меня есть призвание учиться, но нет на это денег, то нет и призвания к наукам, т. е. нет действенного, настоящего призвания. Наоборот, если я на самом деле не имею никакого призвания к науке, но у меня есть воля и деньги, то, значит, у меня есть к этому и действенное призвание». Так и искусство, во мнении буржуазных идеологов, создает не тот, кто обладает талантом, а тот, кто имеет деньги, чтобы эти таланты купить. Отвратительная история парижских торговцев картинами, начиная с пресловутого Воллара, дает нам немало примеров этому. Отталкивающе безобразное «искусство» сюрреалистов делают не таланты, его делают доллары. Ведь талант, не находящий сбыта своим творениям, в буржуазном обществе — не талант. Раннее феодальное общество обладало весьма ограниченными возможностями развития художественной индивидуальности. В разрушении буржуазией не только феодального общества, но и духовных отношений, свойственных феодализму, был большой прогресс. Но разрушая старое, буржуазия ставила на место средневековой патриархальности господство денежного интереса, открытую и бессердечную эксплуатацию. Буржуазия извратила все человеческие добродетели, превратила труд из творчества в источник наживы, сделала художника своим наемным слугой. Мы отвергаем романтический протест против развития буржуазных отношений, протест, исходивший из представления о средневековье, как о «золотом веке» искусства. Но циническое бессердечие буржуазного общества было справедливо взято под обстрел романтической критикой. Расцвет искусства в эпоху Возрождения и в XVII веке имел своим источником сравнительную неразвитость специфически капиталистических антагонизмов, этот расцвет вырос на почве острейшего антагонизма между старым феодальным обществом и новыми буржуазными отношениями Развитие буржуазных отношений, разрушив узость средневекового отношения к миру, гигантски обогатило и усложнило искусство как в смысле социального содержания, так и в смысле форм, но в ту эпоху еще сохранялась, хотя бы и односторонне, известная непосредственность в отношении к людям, явлениям, вещам. Это обстоятельство способствовало художественному расцвету XV—XVII столетий. Лишь в XIX веке искусство в отдельных своих проявлениях приобретает специфически буржуазный характер, если не считать ряда симптомов этого в голландской живописи XVII века. В культуре Возрождения и XVII столетия сохраняется еще наивно-чувственное отношение к миру, отмеченное Марксом применительно к Бэкону. Здесь источник той «философии наслаждения», которая в эту эпоху «...сохраняет еще форму непосредственного наивного жизнепонимания, получившего свое выражение в мемуарах, стихах, романах и т. д.» Современные «меценаты» из числа американских миллиардеров интересуются искусством лишь с точки зрения стоимости приобретаемых произведений. Красота произведения выражается в количестве долларов. В этом смысле нынешние буржуазные «ценители» искусства стоят бесконечно ниже меценатов XV—XVI веков при всей их нередко чисто феодальной грубости. Говорят, будто Карл V, например, прекрасно понимал ту истину, что он может из дюжины художников сделать дюжину дворян, но из дюжины дворян не может сделать ни одного Тициана. Нынешний меценат покупает «свои» шедевры, капиталистический рынок делает «гениев» и безжалостно губит настоящие таланты. Таким образом, развитие собственно буржуазных отношений ставит перед искусством тяжелые препятствия для его полного и целостного развития. Это, разумеется, совсем не значит, что век господства буржуазии — XIX век — не дал человечеству ряда замечательных мастеров. Искусство отнюдь не останавливается в своем развитии, наоборот, в нем создается много нового и существенного. Не говоря уже о России, где расцвет искусства в XIX веке имеет своим источником грандиозное по размаху антикрепостническое освободительное движение, в наиболее развитых капиталистических странах мы находим ряд славных имен — Делакруа и Домье, Бетховена и Берлиоза, Бальзака и Диккенса и многих других. Но заметим с самого начала, что все наиболее крупные художники XIX века (и здесь русские мастера не составляют исключения) в той или иной форме находятся в оппозиции к господствующим в жизни капиталистическим отношениям. В буржуазном обществе всякое подлинное искусство может существовать постольку, поскольку оно является одной из форм борьбы с буржуазным обществом. Среди великих художников XIX века нет ни одного апологета капитализма, в то время как апологетами своего строя были, скажем, для античности Фидий, для русского средневековья — Андрей Рублев, для Возрождения — Рафаэль. Подойдя к проблеме враждебности капитализма искусству (и, как мы видим, всякого подлинного искусства капитализму), мы должны обратить внимание и еще на один факт. Изучая соотношение отдельных видов искусства в XIX веке, мы видим, что некоторые из них оказываются гораздо менее развитыми по сравнению с более ранними стадиями того же вида искусства. Мы видим, например, что в капиталистическом обществе большое развитие получает роман; но, с другой стороны, драма и особенно трагедия оказываются гораздо менее развитыми, нежели в античном мире или в эпоху Шекспира и великих испанских и французских драматургов. Мы видим в XIX веке, в эпоху развитого капитализма в Западной Европе, блистательный расцвет музыки, но вместе с тем замечаем определенный упадок скульптуры. И, наконец, для XIX века чрезвычайно характерен глубочайший упадок такого вида искусства, как архитектура. Заметим кстати, что особую картину представляет нам развитие русского искусства второй половины XIX века. Эта особая картина, как мы уже отметили, определяется специфическими историческими условиями развития России, прежде всего силою народного освободительного движения, направленного против крепостничества, а вскоре и против капитализма. Но все же и в России мы видим относительное развитие художественной прозы, живописи и музыки и относительное отставание скульптуры и особенно зодчества. Получается довольно сложная картина, но в ней можно наметить определенную закономерность. Капиталистическое общество с его глубочайшими противоречиями, с его калечащим человека разделением труда, с его «тайной прибавочной стоимости», с гигантским разрывом между бедностью и богатством, с его разлагающей все человеческие достоинства и разрушающей все человеческие отношения силой денег требует своего правдивого изображения в сложных формах аналитического, критического искусства. Разные виды искусства оказываются здесь не в равном положении. Те виды искусства, которые, как, например, роман, способны давать глубокий анализ противоречий социальной жизни, получают в капиталистическом обществе наиболее широкое развитие. Наряду с этим приобретают развитие и такие по преимуществу субъективно-лирические виды искусства, которые обрабатывают материал действительности прежде всего через посредство эмоций, переживаний, как, например, музыка. Естественно, что зодчество, наиболее непосредственно материально связанное с господствующим классом, не может оставаться высоким искусством, утверждая господство буржуазии. Поэтому оно и приходит теперь в упадок. Архитектура расцветает тогда, когда она может эстетически утверждать существующий общественный уклад. Нетрудно представить себе глубоко аналитическое и критическое изображение действительности в художественной прозе. Маркс и Энгельс ценили Бальзака, а Ленин — Толстого именно за это. В живописи развиваются такие виды и жанры, которые наиболее благоприятны для развертывания глубокой, аналитической критики буржуазной действительности. Здесь между прочим, лежит причина того, почему все передовое искусство живописи XIX века оказывается «литературным». Репин, давая в «Крестном ходе» широкую картину русской жизни в ее противоречиях, необходимо обращается к описанию, к рассказу. И это не порок, а достоинство великих живописцев XIX века. Если же мы возьмем античный мир, то там увидим развитие прежде всего тех видов искусства, которые выражают с наибольшей полнотой непосредственно пластическую красоту образа действительности. Недаром ведущей областью искусства в древней Элладе оказывается скульптура, причем мы говорим даже о своеобразной скульптурности и в произведениях других видов искусства. Иными словами, развитие искусства в классовом обществе всегда осуществляется в глубоких и, можно сказать, антагонистических противоречиях. В чем их основная суть? Если цель всякого искусства заключается в познании действительности и в вынесении о ней своего приговора, то есть в изображении мира в его прекрасных и безобразных сторонах, то в искусстве классового и прежде всего буржуазного общества неизбежно возникает следующее противоречие. Социальная действительность исполнена глубоких органически присущих ей антагонизмов. Уже в силу наличия эксплуатации человека человеком, в силу наличия порабощения, неизбежно порождающего целую цепь вопиющих социальных несправедливостей, она зиждется на безобразной, с точки зрения эстетического суждения, основе. Эти социальные несправедливости, это «уродство» общественного строя становится особенно обнаженным в эпоху капитализма. Поэтому правдивое искусство необходимо видит в этих коренных явлениях социальной действительности антагонистических классовых обществ отрицание подлинной красоты жизни. Отсюда одно из двух: или искусство должно смело раскрывать эти противоречия действительности, анализировать их, подвергать критике, разоблачать, изображать борьбу с господствующим строем, погружаясь целиком в материал действительности, как это делал, скажем, реалистический роман XIX века, или же перед художником стоит соблазн некоего возвышения над жизнью, поиски эстетической гармонии, которой в жизни нет соответствия. Этот второй путь ведет, как правило, к реакционной апологии существующего. Таким образом или художник видит свой идеал, своего героя в смелых борцах с господствующим укладом жизни, сила положительного примера которых в их отрицании угнетения человека человеком, бессердечия и эгоизма, как общественного закона, либо он ищет «забвения» от суровых испытаний жизни в идиллической умиротворенности, в примирении с действительностью. Так возникает осознанная впервые на пороге буржуазного мира одна из «проклятых» проблем развития искусства в классовом обществе — проблема отношения в искусстве поэзии и правды, красоты и истины. Наиболее ярким выражением противоречия между истиной и красотой, поэзией и правдой является опять-таки искусство XIX века, которое неизбежно должно было итти (и смело шло в лучших своих проявлениях) к резкой критике действительности, к разоблачению ее язв, к срыванию, как говорил Ленин, всех и всяческих масок. И это — единственный благородный путь искусства в капиталистическом обществе, иного пути у него в эту эпоху нет, если оно хочет оставаться верным правде. Путь французской живописи XIX века наглядно иллюстрирует это положение. Делакруа и романтики болезненно ощущали противоречия буржуазного общества, они видели вместе с тем, что «истина» современного мира — это «низкая» истина, видели прозаизм, непоэтичность буржуазного общества. Отсюда у позднего Делакруа уход в «красивый мир» средневековья или Востока. Домье отдался жестокому разоблачению безобразного облика господствующего порядка, но он так и не нашел способа показать прекрасными угнетенных, изуродованных трудом и нуждой представителей народа. Курбе решительно порвал с понятием красоты, но вместе с тем он утратил и понятие «безобразного». В результате в его позднем творчестве «правда жизни» приобретает подчас печать натуралистической тривиальности. Напротив того, искусство, желающее сохранить «гармонию» образа, неизбежно уходит от правды жизни и приходит к примирению с буржуазной действительностью, к капитуляции перед безобразием жизни, к идеализации, ко лжи в любых и самых разнообразных формах. Это наглядно видно в искусстве таких художников, как Беклин, Пювис де Шаваян и т. д. При этом существенно и то, что самая «красота», оторванная от правды жизни, становится пустым и бессодержательным жеманством, полным самой низменной пошлости. Разумеется, не надо представлять дело так, что передовой художник буржуазного общества вообще не может найти красоты в жизни. Не говоря о таких «непреходящих» ценностях, как природа, он находит красоту прежде всего в борьбе против господствующего порядка, он видит ее в героях борьбы против капитализма, в людях из народа, всюду, где еще сохраняется честь и человеческая совесть. Вспомним хотя бы «Свободу на баррикадах» Делакруа или длинный ряд положительных образов в русском искусстве XIX века. Но дело в том, что художник не может изображать господствующие формы жизни как прекрасные или, наоборот, изображать прекрасное как господствующее в жизни. Иными словами, художник в капиталистическом обществе не может своим искусством утверждать тот общественный строй, в котором живет, не вступая в вопиющее противоречие с истиной.
 Э. Делакруа. Свобода на баррикадах.
Э. Делакруа. Свобода на баррикадах.
В реальной истории искусства это противоречие проявляется в очень сложных и запутанных формах. Так, русская живопись второй половины XIX века с предельной последовательностью изображает безобразие буржуазно-крепостнического гнета, но вместе с тем умеет найти высшую поэзию и красоту в изображении народа и борцов за его интересы. Но самая объективная действительность, служившая предметом изображения для Перова и Крамского, Репина и Сурикова, была полна горя и страдания для народа, и изображать его счастливым и свободным, то есть таким, каким они хотели его видеть, они не могли. Глеб Успенский очень хорошо чувствовал суть вопроса, когда писал свою повесть «Выпрямила». Прекрасный образ античной статуи облагораживает человека, так как являет ему образец, каким должен и может быть человек. Но вместе с тем, когда Семирадский писал своих «античных» красавиц, это был не облагораживающий пример, а ложь, имеющая целью увести человека от правды. Облагораживающие примеры дали, взяв их из жизни, Крамской и Перов, Репин и Суриков. Проблема поэзии и правды остро волновала умы самых передовых людей русского искусства. По-разному откликнулись они на нее, но все в большей или меньшей степени понимали — и Репин, и Крамской, и Салтыков-Щедрин, — что путь к высокой красоте человека в искусстве лежит через уничтожение безобразия в самой жизни. Салтыков-Щедрин с потрясающей трагической силой изобразил конфликт художника-обличителя в условиях самодержавной России в своей сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым». «Неужто, — восклицает писатель, — в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями?» Но это горькое открытие — не все! Он чувствует, что его протест сам по себе не может привести к разрешению конфликта, ибо «он утратил всякое общение со своим читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог». И путь оказывался лишь один — путь разрушения самого общественного уклада. Это для революционера-демократа было единственным путем для того, чтобы «заветные и дорогие стремления души» стали бы в обществе «естественными». Противоречие поэзии и правды, красоты и истины неразрешимо в пределах не только буржуазного общества, но и вообще общества, разделенного на антагонистические классы. Оно разрешается только тогда, когда в самом общественном строе практически снимается непреодолимое противоречие между состоянием общества и идеалами передовых людей этого общества, когда возникает уже определенное соответствие общественных и личных интересов, уничтожается борьба антагонистических классов и возникает морально-политическое единство народа. Тогда уничтожается в самой действительности основа противоположности поэзии и правды, тогда сама правда социалистического строя оказывается глубоко поэтической и истинная поэзия делается возможной только на путях правды. Иначе говоря, это осуществляется в социалистическом обществе. Но для искусства классовых обществ противоречивость поэзии и правды оказывается неизбежной. Само стремление искусства к прекрасному, к идеалу, отражающее стремление лучших людей каждой эпохи к реальному преобразованию, совершенствованию жизни, в принципе чрезвычайно положительное явление. Неизбежность указанного противоречия, однако, лежит в том, что борьба за реальное переустройство жизни до пролетарской революции ставит на место одной формы эксплуатации и угнетения другую. Поэтому даже самые прогрессивные эстетические идеалы в старые времена всегда обладали известной утопичностью. Искусство Возрождения дало один из замечательнейших образцов такого утопического эстетического идеала, основанного на глубоко прогрессивных понятиях о свободе и достоинстве человеческой личности. Но этот идеал был в ходе исторического развития сначала обречен на отчуждение от конкретной действительности уже в искусстве Рафаэля, а затем и погиб под напором новых общественных антагонизмов, найдя себе прибежище в пустом и безжизненном академизме. Классическим примером антагонизма истины и красоты является французский революционный классицизм конца XVIII века. Его античные одежды — необходимая маска, скрывающая реальные противоречия рождающегося буржуазного порядка под покровом возвышенных, но абстрактных идеалов. Клянущиеся умереть за родину братья Горации у Давида в своем величавом пафосе отражают подлинный пафос революционного действия, но он неизбежно должен облечься в римские одежды, чтобы в нем не раскрылась оборотная его сторона, и притом сторона реальная — своекорыстие буржуазного интереса. Проблема противоречия красоты и правды недаром получила у теоретиков конца XVIII века свою первую отчетливую формулировку. Недаром эта формулировка оказалась идеалистической, и только Чернышевский сумел нанести ей первый решительный удар. Идеалистическая эстетика объявила исторически возникшее противоречие поэзии и правды исканным и непреодолимым. Жестокий мир социальных антагонизмов она противопоставила как мир нужды и железной необходимости искусству, которое призвано якобы создавать «царство эстетической видимости» (Шиллер), иллюзорное царство свободы. Искусство представлено здесь средством преодолевать противоречия жизни. Но уже Чернышевский, перенеся понятие прекрасного в среду действительности, показал, что если и есть противоречие между красотой и истиной, то оно заключено не в природе вещей, а в том социальном факте, что не всегда жизнь на самом деле бывает такой, какой она должна быть по нашим понятиям. Отсюда неизбежны революционные выводы даже в сфере самой эстетики. Так философ-материалист показал беспочвенность «увековечивания» антитезы правды и красоты, антитезы, перед которой остановилась идеалистическая эстетика. Многие «проклятые» проблемы старой эстетики оказываются порождением основного социального противоречия, они обнаруживаются поэтому в противоположности между общественно-эстетическим идеалом и состоянием общества, между той целью, которая ставится искусству, и той действительностью, которая является для искусства предметом. Отсюда возникают и такие вопросы эстетики, как вопросы жизни и смерти, долга и чувства, счастья и несчастья, богатства и бедности, свободы я рабства. Одна из самых насущных, острых проблем, ставившихся в искусстве прошлого, — проблема свободы человека. Над ней задумывались лучшие умы прошлого. Передовое искусство постоянно ставит проблему свободы, хотя иногда и не прямо, а косвенно и в сложных формах, как, например, в мифологических аллегориях Рубенса. Проблема свободы в искусстве — отражение реальной борьбы за свободу, которую ведут народные массы и которая в более или менее отчетливой форме осознается идеологами. Именно поэтому ее не могут миновать и реакционные художественные идеологи. Но фальсифицируя идеал свободы, они ставят проблему как проблему духовной независимости человека от общества. Искусство пытаются превратить в «суррогат» свободы. Такая фантастическая «свобода» приводит искусство к «свободе» от жизни, к отрыву от действительности. Так, абстрактное искусство позднего Маре являет собой яркий образец такой романтической псевдосвободы, на деле представляющей реакционный уход от жизни. Эту реакционную позицию впервые выразила теоретически кантовская эстетика. То, что было глубочайшим противоречием всякого искусства в классовом обществе и прежде всего в обществе буржуазном, она объявила вечным смыслом искусства. Суровой необходимости жизни и ее жестоким законам противостоит «свободное» искусство, в котором эти железные законы необходимости якобы снимаются и где человек будто бы приближается к искомому царству свободы. Это сугубо идеалистическая концепция, в которой искусство призывается к отрыву от жизни, противопоставлению себя жизни. Это попытка утвердить как закон реальное противоречие самого буржуазного искусства. Между тем всякое истинное искусство, искусство реалистическое, в буржуазном обществе всегда идет по линии создания не иллюзорно прекрасных образов, а изображения суровой правды жизни. Оно не изображает свободное и прекрасное человечество, ибо его нет в действительности, но дает образы реальной борьбы за свободу и тем самым борется за реальную свободу, критикуя и разоблачая все отжившее и реакционное. Ведь как часто тенденциозное боевое искусство демократов у нас в России или на Западе в XIX веке получало упреки от реакционеров за то, что оно отклоняется от «высоких заветов», предъявляемых к искусству, что оно не возвышает и облагораживает, а наоборот идет в самую гущу «низкой» жизни. Такие клеветнические выпады против передвижников без устали повторял журнал «Мир искусства», обвиняя Перова и Крамского, Репина и Савицкого в том, что они, погрузившись в «грязь жизни», забыли якобы о красоте искусства, Но красота — и притом подлинная красота — передвижнического искусства заключается в том, что оно прямо и косвенно отразило борьбу народа за свободу, тем самым способствуя раскрытию той истины, что достижение свободы в буржуазном мире есть прежде всего реальное уничтожение самого капиталистического строя. Так дело обстоит с искусствам в буржуазном обществе, где уже есть возможности для реального уничтожения всякого рабства путем пролетарской революции и где поэтому и в искусстве проблема свободы может решаться как проблема борьбы против капиталистического и любого иного рабства. Иначе обстояло дело в более ранние эпохи. Движения рабов в древности, крепостных в средние века, плебейских масс в эпоху первоначального накопления могли получать прямое или косвенное отражение в искусстве, но оно неизбежно приобретало форму утопии, подобной утопическим учениям в собственно социальной сфере. Поэтому там революционная программа в искусстве носит противоречивый, зачастую мистифицированный характер, одновременно отражая и силу и слабость самого революционного движения. С одной стороны, в нем получает отражение общее и широкое стремление масс к свободе. Объективное содержание искусства Возрождения сводится именно к оформлению идеала свободного и счастливого человечества, идеала, который может иметь такие непосредственно демократические формы, как в искусстве Джотто или Мазаччо, но который может оформиться как более узкий, аристократический по характеру идеал, как у ряда поздних кватрочентистов. Но то, что революционная борьба масс в ту эпоху переживала трагическую коллизию между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления, приводило к тому, что искусство, непосредственно близкое плебейским массам, всегда сильнее в изображении страданий народных масс, чем в положительных идеалах борьбы. Его герой — чаще жертва, чем борец, и никогда не победитель. Самое крупное движение позднего средневековья — Великая крестьянская война в Германии — недаром породила не только Дюрера, но и такого художника, как Грюневальд, в творчестве которого наиболее выпукло отразились предрассудки крестьянского сознания. У Брейгеля мы находим прежде всего гневный протест против угнетения. Только когда на сцене появляются апокалиптические силы, как в известных дюреровских гравюрах, испепеляющий гнев безжалостно губит всех хозяев мира во главе с папой и императором. Так, и в старом искусстве до XIX века проблема свободы оставалась реально не разрешимой, и даже прогрессивная ее трактовка нередко носила печать утопизма. Отсюда может быть понятно, почему для всего последующего развития искусства в классовых обществах античная художественная культура стала «нормой и недосягаемым образцом». Классическая Греция сумела дать наиболее полное разрешение проблеме свободы, впрочем, только за счет исключения из сферы своих интересов раба. В эпоху классики греческие художники не задумывались о взаимоотношениях господ и рабов. Они считали естественным, что свободная гармония человека возникает тогда, когда с людских плеч сняты все тяготы непосильного материального труда и бремя угнетения. Таков был «естественный» порядок античности. Но то, что возможно было для греков, стало предметом тщетной зависти классицистов, стремившихся возвыситься над мучительными конфликтами современности. Мы взяли в качестве примера одну из «проклятых» проблем искусства. Каждая из них могла бы служить предметом особого всестороннего анализа, но важно показать, что все эти «вечные» проблемы теснейшим образом связаны с противоречиями, существующими в классовом обществе, и неизбежно снимаются, в конечном счете, в обществе социалистическом. Все пороки и противоречия развития искусства в классовом обществе выражаются с наибольшей резкостью и отталкивающим безобразием в современном упадочном буржуазном искусстве. Современное буржуазное искусство есть выражение уровня и состояния буржуазной мысли на сегодняшний день, мысли, находящейся в глубоком маразме и направленной к отчаянной защите умирающего общественного строя. Именно в современном буржуазном искусстве всесторонне раскрывается враждебность капитализма художественной культуре. Уродливость и чудовищность современной формалистической западной живописи, проповедь зла, насилия, низведение человека до уровня зверя — все это имеет целью циническую пропаганду империалистических «добродетелей» — захватов, войн, ограбления и оглупления трудящихся масс. Идейному разложению искусства соответствует разложение формы, ибо нынешний антинародный формализм (как, впрочем, и всякий формализм) есть распад формы, отрицание гармонии и красоты, разложение самых основных, естественных законов искусства. Этот кризис современного буржуазного искусства так глубок, так всесторонен, так потрясающе отвратителен именно потому, что в его гнилостных формах как бы собирается та скверна, которую человечество накопило в течение всего своего развития в условиях антагонистического классового общества. Необходимо коренное изменение социальных условий, чтобы спасти искусство от этого страшного разложения. Пример развитияискусства в СССР и странах народной демократии наглядно демонстрирует тот факт, что предпосылкой художественного расцвета является коренное оздоровление социальной почвы. В нашу эпоху, когда все дороги ведут к коммунизму, только социализм обеспечивает широчайшие возможности для плодотворного развития искусства.
Проблема реализма в искусстве
I.
Если существенным содержанием истории искусства является история художественного сознания или, что то же, осознания реального мира, естественно, что в центр внимания советской теории искусства выдвигается проблема реализма, как такого художественного метода, который дает объективное отражение действительности. Как мы видели, ленинская теория отражения учит нас видеть в искусстве прежде всего именно отражение жизни, оценивать искусство с точки зрения того, насколько художник глубоко и полно отражает в своих произведениях жизнь в ее существенных проявлениях. В нашем практическом искусствоведческом обиходе мы очень часто говорим о реализме, правильно ухватывая элементарное содержание этого центрального понятия нашей науки. Мы называем реализмом всякое искусство, которое более или менее объективно, правдиво отражает жизнь, действительность. Такая формула — плод эмпирических наблюдений искусствоведа, встречающегося в своей работе с различными образцами реалистического искусства. Мы всегда рассматриваем явления искусства прошлого под углом зрения их реалистичности. Ныне для исследователя стало элементарной научной необходимостью изучать те или иные художественные факты с точки зрения наличия в них реализма или хотя бы «реалистических элементов». Однако это еще не означает, что проблема реализма в истории искусства выяснена уже в полной мере. Здесь многое еще предстоит сделать, и предлагаемый очерк — опыт анализа лишь некоторых сторон этого вопроса. К сожалению, ссылки на реализм иногда и по сей день носят характер простых оговорок и не увязываются с общей исторической концепцией исследования. С другой стороны, остается широко распространенным и такой взгляд на реализм, при котором он выступает как одно из явлений истории искусств, равноправное с другими стилистическими явлениями. Так, история искусства XIX века рассматривается, говоря схематически, примерно в такой последовательности стилей: в начале века господствует классицизм, затем его сменяет романтизм, далее начинается период реализма, который уже вскоре сменяется импрессионизмом и т. д. В этой концепции реализм выступает в качестве одного из стилей, имеющих преходящее, так сказать, эпизодическое историческое значение. В самом деле. Если присмотреться к указанной концепции, реализм согласно ей рассматривается не как общая объективная закономерность истории искусств, а как один из ее более или менее кратковременных эпизодов. Это приводит и к неверным оценкам. Верно ли, в самом деле, считать Курбе крупнейшим мастером XIX века во Франции, мастером, наиболее последовательно реалистическим? Думается, такое безапелляционное утверждение было бы натяжкой. Ценность Женино далеко не исчерпывается тем, что он «предвосхищает» Курбе, а Домье во многом значительнее Курбе и притом не вопреки, а благодаря своим революционно-романтическим тенденциям. Во всяком случае видеть в творчестве Курбе (при самой высокой его оценке) безусловную вершину развития искусства Франции XIX века — очевидное сужение и обеднение исторического процесса. Было бы, на наш взгляд, ошибкой считать реализм одним из стилей истории искусств наряду с классицизмом, романтизмом и т. д. Согласно подобному взгляду реализм — стиль, который сегодня может существовать, а завтра — бесследно исчезнуть, сегодня он исторически закономерен, а завтра закономерно развитие романтизма или, скажем, барокко и т. д. Такого рода точка зрения, которая у нас в науке недавно была чрезвычайно распространена, да и сейчас еще имеет известное хождение, в сущности, исходит из формалистического представления о мировой истории искусства. В основе этой концепции лежит формалистическая теория стиля, в свое время внедрявшаяся в советское искусствознание вульгарными социологами. Понятию стиля в формалистическом искусствоведении было отведено особое место, далеко выходящее за пределы естественных, если так можно выразиться, границ этого понятия. Как известно, формализм развивал идею, что история искусства есть история стилей. Понятие стиля как совокупности, системы формальных приемов, приобрело в формалистическом искусствознании основополагающее значение. Все многообразие художественных явлений насильственно подгонялось под категорию определенного стиля с его крайне отвлеченными признаками. Когда ищут общих формальных признаков в ясном и вдумчивом искусстве Веласкеса и трагически сложном Рембрандта, ликующе-чувственном Рубенса и рационально-систематическом Пуссена, получается лишь несколько чисто формальных абстракций, составляющих, по мнению Вельфлина, стиль барокко. В этом схематическом понятии стиля стираются не только все индивидуальные особенности художественного произведения или личности мастера, но и, что важнее всего, идейно-художественное содержание любого явления искусства. Недаром Вельфлин мечтал об «истории искусства без имен», без художников, в которой конкретные мастера и индивидуальные явления исчезают в самых общих категориях формы, объединяющихся в понятие стиля. При этом схематизация оказывается настолько велика, понятия настолько абстрактны и пусты, что конкретная история искусства сводится к простому чередованию двух-трех «стилей». В различных формалистических концепциях эти стили определяются по-разному. Но сама тенденция к наибольшей абстрактности понятий говорит за себя достаточно красноречиво. Вся история искусств во всем ее многообразии и сложности оказывается уложенной в прокрустово ложе скудных стилистических категорий. Поскольку признаки этих «стилей» столь «всеобъемлющи», под них можно подогнать не только одновременные явления, но и явления, отдаленные друг от друга столетиями. «Конкретности» определений хватает, в конечном счете, на два, от силы три «стиля» для всей мировой истории искусств. Ригль всюду видит смену стиля «оптического» стилем «хаптическим» (осязательным). Кон-Винер рассматривает историю искусств как чередование «стилей» — конструктивного, деструктивного и декоративного. Вельфлин видит в истории искусств смену «Ренессанса» «барокко». Так, «барочным» оказывается не только барокко в собственном смысле слова, но и эллинизм, а в XIX веке — живопись романтиков в противоположность «ренессансности» классицизма. Таким образом, не говоря уже о том, что понятие стиля в таком смысле целиком снимает вопрос об отношении художника к действительности, оно попросту превращается в пустую абстракцию, за которой нет и не может быть никакого конкретного исторического содержания. Для формалиста важно не то, что отражает художник в своих произведениях и с какой точки зрения судит он о действительности, и, стало быть, не объективное содержание искусства, а только система средств выражения, которая развивается якобы по своим имманентным законам. Отрывая, таким образом, искусство от действительности, формализм выступал с воинствующей проповедью идеалистического взгляда на искусство. В художественных «средствах выражения» формалисты видят не субъективное отражение объективных качеств самой реальной действительности, а только чисто субъективную систему «мыслить» о мире. В так называемых «формальных категориях» — цвете, пространстве, ритме и т. д. — формалистическое искусствознание усматривало поэтому не отражение объективных свойств реальных вещей, а чисто субъективные категории «видения». Прямым выражением этой реакционной концепции формализма и явилась развитая им «теория стиля» как системы «видения». Поскольку с точки зрения формализма искусство — не отражение действительности, то выразительные средства его представляют самодовлеющий интерес. Сам «стиль» поэтому понимается как система приемов, отвечающих свойственному эпохе «способу мыслить». Описание признаков различных стилей составляло, в сущности, содержание формалистической искусствоведческой науки. Имманентная эволюция формы, изменение ее приводит согласно этой глубоко порочной концепции к смене одного стиля другим. Отсюда формалисты делали целый ряд выводов, направленных против реализма в искусстве, поскольку и самый реализм рассматривался ими как одна из возможных «формальных систем». Реализм с этой точки зрения — не объективное отражение действительности, а просто один из способов «мыслить мир», равноправный с любым другим субъективным способом. Так, например, формалисты, изучая воспроизведение пространства в европейской живописи, констатировали, что в средние века художники довольно последовательно пользовались так называемой «обратной перспективой», то есть изображали предметы в ракурсе не сужающимися, а расширяющимися вглубь. Искусство Возрождения, как известно, сделало очень много в изучении законов прямой перспективы, и мастера XV века начинают впервые правильно изображать предметы в пространстве. Для нас в этом факте — значительный прогресс в объективном отражении действительности, но для формалиста и «прямая» и «обратная» перспективы — равноправные, или, точнее, равно субъективные формы «пространственного мышления». Они просто входят в разные стилевые системы. Используя старое понятие «стиль», реакционный формализм придал ему особое, специфическое значение, сообщив ему, как мы видели, значение определяющей категории мировой истории искусства. Чрезвычайно характерно, что первоначально термин «стиль» (а он употребляется еще с античных времен) имел значение чисто субъективное; стиль — это манера, индивидуальный почерк художника, способ художественно выражать свои мысли. Позднее, по мере развития академической доктрины, начиная с конца XVI века и особенно в классицистической эстетике XVIII века, понятие стиля приобретает значение некоей нормы, закона, так сказать, «стандарта» художественности, в соответствии с которым судят произведение искусства: соответствует ли оно «стилю» или не соответствует. В немецком искусствоведении даже сложился такой термин «stylgemass» — «стильно» — в смысле соответствия нормам стиля. Однако все искусствоведческие теории, которые существовали до третьей четверти XIX века, никогда не придавали этому термину принципиального характера. Такой характер проблема стиля получила именно в конце XIX века, в период начавшегося упадка буржуазной культуры, в кругу в то время только еще слагавшегося формалистического искусствоведения. Именно тогда формалистическая теория стиля была разработана основателями формалистического искусствознания Вельфлином и Риглем. Разумеется, нельзя отрицать того, что искусство одной и той же эпохи, выросшее на основе одной и той же общественно-экономической действительности, несмотря иногда на диаметрально противоположное идейное содержание творчества отдельных художников, оказывается сходным в некоторых своих качествах или особенностях и притом, что важно подчеркнуть, не только формальных. В самом деле, искусству XVII века в целом свойственны не только глубинная, динамическая композиция или решительное развитие живописной светотеневой трактовки формы, но и склонность к изображению глубоких внутренних противоречий жизни. Сильный драматизм присущ «Снятию с креста» и Рубенса и Рембрандта, хотя это во многом идейно противоположные вещи. По сравнению с рафаэлевской «Диспутой» и «Пряхи» Веласкеса и «Блудный сын» Рембрандта покажутся не только ближе к повседневности, но и глубже в смысле отражения жизни в ее бесконечных изменениях. Есть сходство — и не только в сфере формальных приемов — между «Медным змием» Бруни и «Явлением Христа народу» А. Иванова. Их авторы тяготеют к монументальной синтетической картине с историко-героическим содержанием, хотя смысл обоих произведений крайне различен, если не противоположен. Рембрандт. Снятие с креста.
Рембрандт. Снятие с креста.
 Рубенс. Снятие с креста.
Рубенс. Снятие с креста.
 Рафаэль Санти. Диспута.
Рафаэль Санти. Диспута.
 Рембрандт. Возвращение блудного сына.
Рембрандт. Возвращение блудного сына.
 Ф. Бруни. Медный змий.
Ф. Бруни. Медный змий.
 А. Иванов. Явление Христа народу.
А. Иванов. Явление Христа народу.
Эта общность обнаруживается с большей или меньшей четкостью в различные эпохи. Она исчезает там, где сосуществуют одновременно две различные общественные формации. Так, нет и не может быть ничего общего слова между советским искусством, выросшим на базе социализма, и худшим порождением разложившегося буржуазного порядка — современным зарубежным формализмом. Таким образом, не только в отношении формальных категорий, но и в отношении более глубоких моментов содержания искусства художественная культура каждого времени может отличаться известной общностью. Более того, сами формальные приемы имеют общность в меру общности жизненного содержания искусства. Так, динамика барочных композиций — результат стремления к драматическому изображению жизни. Как же возможно, что в искусстве антагонистических обществ, где искусство служит идейным оружием разных, нередко враждебных классов, где оно с разных социальных позиций борется с реальными общественными конфликтами, возникает такая несомненная общность, благодаря которой любой мало-мальски наметанный глаз без труда различит вещи XVI или XVII века, картины первой или второй половины XIX столетия, или даже произведения 70-х или 80-х годов? Большую роль играет здесь, бесспорно, развитие мастерства, совокупности приемов, так сказать, общеупотребительных способов выражения. Но есть и другая причина. На нее мы уже, в другой связи, указывали выше. Искусство есть отражение действительности. Наличие антагонистических классовых интересов не приводит и в самой общественной жизни к изоляции одного класса от другого. «Конечно, неверно, — указывает И. В. Сталин, — что ввиду наличия ожесточённой классовой борьбы общество якобы распалось на классы, не связанные больше друг с другом экономически в одном обществе». Для искусства этот важнейший факт имеет то следствие, что художественное отражение действительности, ведущееся с разных идейных позиций, есть при всем том, в конечном счете, попытка осмыслить (другой вопрос, какая именно!) одну и ту же социальную действительность. Касаткин и Сомов — художники идейно-противоположные, но их искусство равно порождено жизнью России начала XX века, ее коренными общественными проблемами. Конечно, прежде всего важно то, что Касаткин дал глубоко правдивое изображение русского рабочего класса, а Сомов бежал от ненавистной ему действительности в мир призраков дворянского прошлого. В этом смысле их искусство — ярчайший пример двух культур в русской национальной культуре. Но это не исключает того, что представители обеих культур должны прямо или косвенно иметь дело, в конечном счете, с одним и тем же предметом — с обществом своего времени. Эта общность социальной действительности, являющейся объектом искусства, и может в ряде случаев, хотя и не всегда и не обязательно, обусловить наличие общих типических черт художественной культуры данного времени. Художники эпохи барокко дают самые различные ответы на вопросы жизни, но они все так или иначе вынуждены обращаться к осознанию сложных конфликтов времени, чтобы, каждый по-своему, с ними бороться. В этом, думается, реальное основание возникновения общих черт искусства эпохи. Эта общность (мы готовы обозначить ее термином «стиль») может быть объяснена конкретным историческим анализом: можно понять ее из рассмотрения искусства как формы осознания действительности. Но эта общность не имеет ничего общего с формалистической категорией «стиля». В этом плане, как нам кажется, возможно разрабатывать марксистскую теорию стиля. В такой интерпретации общие черты искусства эпохи определяются не «формой выражения», не «способом мышления», а единством действительности, так или иначе отражаемой искусством данного времени. Такое «единство» искусства не только не снимает, но в ряде случаев, наоборот, предполагает разделение на противоположные художественные течения. Если сейчас для нас ясна порочность формалистической теории стиля, то еще лет двадцать — двадцать пять назад она имела самое широкое хождение в советском искусствознании. В советском искусствознании двадцатых — начала тридцатых годов были еще весьма сильны различные формалистические влияния, в частности, без надлежащей критики была принята и широко популяризировалась и указанная теория стиля. Когда во второй половине двадцатых годов и в тридцатых годах были подвергнуты решительной критике основные принципиальные установки формализма, понятие стиля не стало предметом критики, хотя, может быть, именно в этом понятии самые приемы и методы формалистического искусствознания оказываются наиболее отчетливыми в их воинствующе-идеалистической сущности. Чтобы понять основные исходные принципы формалистической истории искусства, надо прежде всего выяснить коренной порок формализма, как метода, противоположного и в корне враждебного реализму. При этом надо с самого начала отказаться от широко распространенного заблуждения о том, будто основное в формализме заключается в особом, преимущественном внимании к вопросам формы в ущерб содержанию. Главный порок формализма коренится в его идеалистической гносеологической основе. Суть формализма в том, что он выдвигает тезис о принципиальной независимости искусства от жизни, утверждает, что искусство не отражает и не может отражать жизнь. Формализм противопоставляет искусство жизни, исходя из агностицизма. Так, один из ранних идеологов формализма Конрад Фидлер считал, что искусство не есть способ познания, отражения действительности, а средство создания «новой реальности», с помощью которой человек приводит в порядок «чудовищную массу опыта». Опираясь на реакционную неокантианскую философию, формалисты утверждали, что мир непознаваем и, стало быть, сознание человека, в том числе и его художественное сознание, есть нечто чисто субъективное, независимое от объективной реальности. Отсюда и необузданный и притом, хочется сказать, принципиальный произвол художников-формалистов в воспроизведении действительности. Неважно, что видит художник, и видит ли он что-либо правильно. Пресловутый формалистический лозунг «я так вижу» скрывает за собою отрицание всякого объективного содержания искусства. Если я «вижу» лошадей синими, я имею право нагромоздить друг на друга кучу таких животных и назвать все это — «башня синих лошадей» (немецкий экспрессионист Ф. Марк), если я «вижу» человеческое лицо разложившимся на бессмысленные геометрические плоскости, я напишу «портрет» в духе французских кубистов. Уже Клод Моне, изображая в серии картин Руанский собор в разное время и при разной погоде, то розовым, то оливково-зеленым, то фиолетовым, то ярко-желтым, как бы убеждал зрителя, что у предметов нет объективно присущих им качеств; все дело в субъективном восприятии. Уродливое своеволие в искажении реального мира у формалистов обосновывается отрицанием способности искусства объективно познавать мир. Мир — непознаваем, мышление человека — только способ «систематизировать» хаос впечатлений. Если искусство для формалиста не имеет своей целью познание действительности, а создает, по выражению Фидлера, лишь «новую реальность», тогда оценка любого искусства должна сводиться только к установлению элементов этой «новой реальности», а эти элементы, поскольку они не имеют иного содержания, кроме самих себя, неизбежно оказываются формальными элементами. Если так, нельзя изучать содержание человеческого сознания, а можно характеризовать только его формы. Коль скоро искусство не имеет согласно идеалистической концепции формализма дела с действительностью, оно не имеет также в себе и жизненного содержания. Его явления отличаются друг от друга лишь способом мыслить, только субъективной «формой выражения». Стиль и есть определенный способ художественного мышления, есть форма мышления. Таким образом, основной порок формализма раскрывается не в области техники искусства, а в сфере гносеологии. Базируясь на идеализме и агностицизме, он отрицает самую познаваемость действительности средствами искусства. И при этом теория стиля есть попытка фальсифицировать историю искусства с позиций формалистической реакции, поскольку формализм хочет представить развитие художественного творчества как чередование чисто субъективных «систем мышления». Рассматривая историю мирового искусства как историю смены стилей, или, точнее, как историю простого чередования стилей, формализм снимает основной вопрос истории искусства — вопрос о познании искусством действительности — и сводит всю проблему лишь к изменению, эволюции формальных элементов «художественного мышления». Если так рассматривать историю искусства, то тогда и реализм есть не что иное, как только определенный способ «художественно мыслить» (по терминологии Вельфлина). Формалистическое извращение понятия «реализм» сводится к выхолащиванию из него самого главного — правдивого отражения реальности. Для формалиста реализм — это определенная совокупность формальных элементов, с помощью которых художник «имитирует» формы чувственно воспринимаемой действительности. Формалист всегда охотно прибавляет к термину «реализм» прилагательное «наивный». Реализм согласно формалистической теории есть наивное следование восприятию «обычного» человеческого глаза. Поэтому с точки зрения формализма реализм может рассматриваться как один из способов художественного мышления или, что то же, как один из стилей мировой истории искусства, наряду и наравне со всеми другими стилями. Утверждая, что реализм — «один из стилей» мировой истории искусства, формалисты придают другим стилям гораздо более важное значение и уже во всяком случае ставят реализм в одной плоскости с такими явлениями, как классицизм, романтизм, натурализм и т. д. Между тем, реализм и эти стили — явления и понятия разного порядка. В реакционной буржуазной науке, особенно в последние десятилетия, реализм вызывает к себе особую ненависть. Умалить по возможности роль реализма реакционная буржуазная наука и ставит своей основной целью. Один из воинствующих врагов реализма в искусстве, голландский историк культуры Хойзинга, чрезвычайно популярный в современной буржуазной науке, «властитель дум» реакционного искусствознания двадцатых-тридцатых годов нашего века, утверждал, например, что эпохи реализма в искусстве — это якобы эпизодические, случайные, «промежуточные периоды», лежащие будто бы между «великими эпохами» мистического искусства. По его мнению, периоды реализма — только времена «грехопадения» искусства, когда оно отказывается от своего «основного», по Хойзинге, предназначения — возвышаться над действительностью. Идеологический смысл такой дискредитации реализма абсолютно ясен: апологет формализма вполне логично со своей точки зрения выступает против объективного раскрытия действительности в искусстве. Однако понятно, что и Хойзинге и всем тем, кто пытался фальсифицировать картину развития реализма в мировом искусстве, необходимо было так или иначе подтасовывать материал, извращая факты и толкуя их вкривь и вкось. Сводя все дело к внешней достоверности изображения, формалистическая теория «подтягивает» реализм к натурализму, отрицая за первым право и на заострение, преувеличение, гротеск и т. д. На этом основании производилась своеобразная «ревизия» истории искусства. Например, Хойзинга совершенно серьезно утверждал, что Шекспир и Сервантес — не реалисты, как не реалисты Брейгель и Рембрандт и т. д. Таким образом, сначала фальсифицируется понятие реализма, а потом на основе этого фальсифицированного понятия из круга реалистического искусства пытаются изъять все великое, что невозможно ни замолчать, ни отрицать. Именно поэтому реакционное буржуазное искусствоведение так настойчиво тщится доказать, что все великие художники прошлого были не реалистами или хотя бы «не совсем» реалистами. Так, и русская формалистическая критика предреволюционного времени объявляла «мистиками» таких мастеров, как Федотов или Суриков. Характерно, например, что современное буржуазное искусствознание считает реалистами только очень небольшой круг художников, причем, как правило, второстепенных мастеров. Все, что представляет собой сколько-нибудь крупное явление в мировой истории искусства, пытаются так или иначе представить как нереалистическое искусство. Самая грубая фальсификация истории искусства становится обыкновенным приемом этой «науки», которая в страхе перед реализмом старается и все прошлое размалевать под современное разложившееся искусство буржуазии.
II.
С марксистско-ленинской точки зрения проблема реализма — не частная проблема мировой истории искусства, она упирается в главный тезис советской эстетики о том, что искусство является определенной формой отражения действительности. Мы уже указывали выше, что исходной точкой марксистско-ленинской теории искусства должно быть основное гносеологическое положение — о познаваемости мира. Человеческое сознание, а стало быть, и художественное сознание в том числе, обладает способностью объективно отражать действительность. Отсюда понятно, что успехи искусства определяются, в конечном счете, мерой и глубиной освоения мира средствами искусства. Но это положение не надо понимать упрощенно. История искусств — сложный процесс, где развитие объективно-реалистического познания действительности идет порой извилистым, спиралевидным путем. Периоды расцвета реализма сменяются периодами упадка. Каждая исторически новая ступень в развитии реализма, внося нечто новое, нередко утрачивает какие-то грани метода, свойственные более ранним периодам. Рисовать картину развития мировой художественной культуры как картину «плоского» прогресса, где нет никаких противоречий, значит итти по пути буржуазного позитивизма, а не марксистско-ленинской диалектики. Борьба классов получает свое сложное отражение в общественном сознании, изобилующем вследствие существования эксплуататорских классов заблуждениями и преднамеренными извращениями истины. Вот почему действительное содержание истории общественного сознания — это процесс объективного познания мира человеком, процесс, совершающийся в борьбе против всех и всяческих форм идеализма, субъективизма и т.д. Именно в борьбе, зачастую очень напряженной и драматической, с подобными реакционными тенденциями и прокладывает себе дорогу объективно-правдивое художественное освоение мира. Если с этой меркой подойти к истории мирового искусства, она должна предстать перед нами как история художественного познания мира, в которой постепенно, хотя и противоречиво, раскрываются все новые и новые стороны объективной действительности. Потому-то всю историю мирового искусства можно представить и должно изучать как историю художественного познания мира, то есть как историю становления, формирования и развития объективно правдивого, иначе говоря, реалистического искусства и его борьбы с различными антиреалистическими течениями. Нам кажется вполне закономерным провести здесь аналогию с другой формой общественного сознания — философией. Неверно рассматривать содержание истории философии, как смену, или, вернее, чередование различных систем и течений — материалистических, идеалистических, агностических и т. д. Такой подход страдает объективизмом, поскольку он не учитывает роста, развития действительных знаний о мире. А. А. Жданов охарактеризовал предмет истории философии следующим образом: «Научная история философии, следовательно, является историей зарождения, возникновения и развития научного материалистического мировоззрения и его законов. Поскольку материализм вырос и развился в борьбе с идеалистическими течениями, история философии есть также история борьбы материализма с идеализмом». В истории искусств нас также должно интересовать ее положительное, объективное содержание, история правдивого, то есть реалистического отражения действительности. Однако поскольку развитие реализма совершается в истории искусств в борьбе против различных тенденций и направлений, знаменующих отрыв от действительности или по крайней мере одностороннее, искаженное отражение ее, история искусства есть также история борьбы реалистических тенденций с различными формами тенденций антиреалистических. В классовом обществе, где существуют антагонистические общественные интересы, основной, прогрессивной реалистической линии развития искусства противостоит противоположная тенденция, порожденная стремлениями и потребностями враждебных прогрессу консервативных социальных сил. Это, разумеется, не следует понимать механистически, так, что всех художников данной эпохи мы можем попросту распределить на реалистов и сторонников антиреалистических тенденций. В искусстве указанное противоречие выступает, по-видимому, в более сложных формах, чем в философии, которая представляет собой обобщенно-теоретическое осмысливание действительности и где поэтому более или менее отчетливо выясняется соответствующий ответ на основной философский вопрос — о примате бытия или сознания. В искусстве в творчестве одного и того же художника могут крайне противоречиво сплетаться реалистические и антиреалистические тенденции. Ограниченные стороны искусства такого художника могут стеснить, а иногда и изуродовать реалистические его устремления. В каждом конкретном случае историку искусства необходимо вскрыть прогрессивную тенденцию в явлении, иными словами, его реалистическую сторону, проанализировав одновременно и то, что мешает ей раскрыться в полной мере, если дело идет о таком противоречивом явлении. С этой точки зрения нет особых трудностей в анализе искусства, допустим, Репина или Рембрандта. Гораздо сложнее дело обстоит, например, с готической скульптурой. В ней происходит напряженная борьба противоположных тенденций. Мы находим здесь прогрессивное стремление к изображению реального человека со всем богатством его субъективного мира, и вместе с тем христиански-средневековая сторона готического искусства нередко превращает эти передовые тенденции в свою противоположность — мистическую экзальтацию и необузданный субъективизм. Но как бы то ни было, а подлинный вклад каждого крупного мастера заключается в том, что его творчество, являясь новым шагом в художественном развитии человечества, входит в это развитие в меру отражения, освоения в нем каких-то сторон объективной действительности, то есть, в конечном счете, своей реалистической стороной. Ведь Андрея Рублева мы ценим не за то, что в его иконописи по вполне понятным историческим причинам отразились религиозные предрассудки эпохи, а за то, что в ней в исторически ограниченной форме получили выражение передовые идеи своего времени о людях, их красоте, их жизненном призвании. Это было реальное осмысление жизни в ее передовых для своего времени проявлениях. Без этого искусство Рублева неизбежно умерло бы для нас. Во всяком случае, в условиях антагонистических классовых обществ всегда наличествуют противоположные тенденции, хотя, быть может, противоречиво себя обнаруживающие. Так, в русском искусстве XIX века живописи Александра Иванова противостоит искусство позднего Бруни, Репину противостоит Вениг, Сурикову — Бронников, Серову — Сомов. Антиреалистические тенденции в искусстве здесь постоянно и необходимо воспроизводятся, коль скоро существуют консервативные классы, заинтересованные в торможении прогресса общества. Группа мастеров «Нового реализма» — Фужерон, Замбо, Мило и другие — пришла к поискам нового, правдивого художественного метода через осознание требований близкого народу искусства. Таким образом, реализм — это не один из многих «стилей», существовавших в истории искусства наряду с другими; дело идет о раскрытии положительного объективного содержания истории мирового искусства. Проблема реализма в искусстве — это проблема объективного отражения действительности. Реализм в той или иной исторической форме является основой всякого подлинного искусства. Вот почему — это проблема гораздо более широкая, нежели проблема какого-нибудь стиля. И вот почему история мирового искусства может быть рассмотрена как история противоречивого развития реалистического искусства. Процесс этот очень сложен. Как сказано выше, в условиях обществ, разделенных на антагонистические классы, неизбежно возникновение различных антиреалистических тенденций и направлений. Уже в первобытном обществе рядом с изначально реалистическим способом художественного освоения мира, документированным палеолитическими росписями с их необыкновенной жизненной яркостью, появляются схематизированные, отвлеченные изображения, обусловленные слабостью практического господства первобытного человека над природой. В дальнейшем с возникновением антагонистических обществ наличие классов, заинтересованных благодаря своему социальному положению в замаскировании истины, неизбежно порождает антиреалистические тенденции, временами причудливо переплетающиеся с объективно-реалистическими художественными тенденциями. Но какое бы значение в мировой истории искусства мы ни придавали антиреалистическим тенденциям, все же основной смысл развития мировой истории искусства, основное ее содержание должно рассматриваться как развитие именно реалистического, единственно объективного способа художественного познания действительности. Вот почему необходимо отказаться от попыток определить реализм как совокупность формальных признаков, то есть как стиль, ибо определять его так — значит свести его с положения основного содержания истории искусства до уровня более или менее частного явления. В классовых обществах, где имеет место определенный исторически конкретный социальный конфликт, возникновение антиреалистических тенденций постоянно связано с тем способом, с помощью которого господствующие эксплуататорские классы сознают этот конфликт и борются с ним. Когда возникает в обществе потребность в материальном перевороте, идеологи передового класса могут способствовать его совершению, и тогда они изображают мир реалистически, правдиво раскрывая сущность общественной жизни; но уходящие со сцены классы заинтересованы в обратном, и стремления их идеологов заключаются в том, чтобы затушевать конфликт, воспрепятствовать его революционному разрешению, для чего необходимо извращать действительность, скрывая ее подлинное содержание. Так, в дворянском искусстве Франции XVIII века в период подготовки буржуазной революции в творчестве Буше и художников его круга отчетливо заметно стремление закрыть глаза на грозные противоречия действительности, создать мир образов, полных легкомысленной беспечности. И недаром этому миру так резко противостоит в этот период подготовки революции трезво-реалистическое искусство третьего сословия, преисполненное морального пафоса. Однако вот что здесь важно подчеркнуть. В искусстве прошлого мы не знаем таких явлений, которые бы целиком были лишены каких бы то ни было элементов объективной правды. Если дворянская культура рококо была в основном, в главном антиреалистична, то причина этого кроется в положении самого класса дворянства накануне буржуазной революции. Идеологи старого порядка сознательно или бессознательно отворачивались от той правды, которая могла подорвать кровные интересы феодального строя. В противоположность Грезу, у Буше нет настоящего народа, нет передовых нравственных идеалов, нет утверждения права повседневности на эстетическое осмысление. Но все же искусство Буше содержит и какие-то реалистические грани, коль скоро это не противоречит коренным интересам того класса, за идеалы которого борются художники рококо. Непосредственная поэзия наслаждения, хотя и в очень ограниченной форме, грациозное изящество мысли и чувства — все это имеет в основе реальную правду, и здесь секрет обаяния искусства рококо. Только формализм — порождение эпохи, когда существование эксплуататорских классов перестает быть какой бы то ни было исторической необходимостью, — формализм, представляющий собой объективно отстаивание интересов реакционной империалистической буржуазии, не несет в себе никаких элементов объективно-правдивого отражения действительности. В нем все — последовательная пустота и ложь, уродство и цинизм. Здесь антиреалистические тенденции искусства прошлого как бы конденсируются в чудовищной последовательности и систематичности.III.
Обратимся теперь к дальнейшему анализу реализма. Реализм в истории искусств приобретает крайне различные формы. Реализмом мы называем — и вполне правомочно — явления, друг на друга крайне не похожие. Софокл и Шекспир, Сервантес и Толстой, Пушкин и Горький, Рембрандт и Рафаэль, Репин и Кипренский — достаточно выбрать наудачу любую группу имен, чтобы можно было сразу же почувствовать, какое бесконечное многообразие явлений мы определяем как реалистическое искусство. Даже если мы возьмем какую-нибудь элементарную художественную задачу, мы обнаружим всю сложность вопроса. Что значит, например, реалистически изобразить человеческую фигуру? Реалистично обобщенно-пластическое изображение идеально гармонического юноши Дорифора у Поликлета и реалистично богатое трепетом юности, глубоко индивидуализированное тело донателловского Давида. Реалистичен сдержанно ясный облик Хвостовой у Кипренского и драматически взволнованный образ Стрепетовой у Репина. Поликлет. Дорифор.
Поликлет. Дорифор.
 Донателло. Давид.
Донателло. Давид.
 О. Кипренский. Портрет Д.Н. Хвостовой.
О. Кипренский. Портрет Д.Н. Хвостовой.
 И. Репин. Портрет П.А. Стрепетовой.
И. Репин. Портрет П.А. Стрепетовой.
Если мы будем рассматривать реализм как формальную категорию стиля, тогда вынести за скобки всех этих реальных исторических явлений реализма некую общую сумму признаков — вещь совершенно невозможная. Можно ли вывести формулу признаков реализма, которая бы равно подходила к Мирону, Джотто, Брейгелю, Рембрандту, Кипренскому, Федотову, Репину, Серову! Вынести за скобки какую-то группу формальных признаков так, чтобы она равно охватывала все эти художественные явления, — значит предложить абсолютно бессодержательную абстракцию. Отсюда ясно, что необходимо отчетливо различать определенные, исторически существовавшие формы реализма. Факт существования различных типов реалистического искусства должен быть положен в основу теории реализма. Античный реализм не похож в своих конкретных проявлениях на реализм Возрождения, а этот последний, в свою очередь, на реализм XIX века. Конечно, в основе всякого реализма лежит умение правдиво отражать мир, прежде всего свою эпоху. В этом вопросе есть две стороны дела. Художественный способ освоения мира каждой эпохи зависит, в конечном счете, от условий материальной жизни общества; с другой стороны, именно этим исторически обусловленным способом и познается в данное время сама историческая действительность. Наивная поэтичность античного искусства — результат неразвитости общественных антагонизмов и сравнительно низкого уровня развития производительных сил. Маркс указывал: «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, с действительным господством над этими силами природы». Но, разумеется, осознание мира с помощью мифологии делает античное искусство способным отразить определенные стороны самой действительности, оставляя его глухим к другим, в частности (в эпоху классики) к противоположности классовых интересов свободных и рабов. Задача, таким образом, состоит в изучении того, как в разных исторически обусловленных формах развивается реалистическое художественное мышление. Механистичность вульгарной социологии заключалась, между прочим, в том, что ее представители не хотели и не могли понять, что реализм в искусстве — понятие историческое, что одно и то же понимание реализма нельзя прилагать к разным эпохам, что реализм принимает различные формы в соответствии с определенными историческими условиями, что старая форма реализма в определенное время оказывается отмирающей, чтобы уступить место новой его форме, и т. д. Пушкинское творчество — одна из замечательных вершин реализма не только в русском, но и в мировом искусстве. Но и оно связано с определенной эпохой истории России. Образы Пушкина бессмертны именно потому, что они возникли на совершенно конкретной исторической и национальной почве. Именно поэтому во времена Некрасова простое механическое повторение форм и идей пушкинской поэзии не было бы уже дальнейшим развитием реализма. В области поэзии таким развитием было как раз творчество Некрасова, воспринявшее традиции пушкинской поэзии, но двинувшее их дальше в соответствии с новыми историческими задачами, в соответствии с новым периодом освободительного движения. Поэтому рассмотрение истории искусства как истории развития реализма предполагает понимание исторической изменчивости самого понятия «реализм». Вульгарные социологи обычно подходили к этому вопросу так: они понимали под реализмом только какую-то определенную форму реализма, существовавшую в прошлом, и ею меряли все остальные. Обычно таким эталоном, критерием реализма считался западноевропейский реализм XIX века. Например, нередко образцом реализма считался в литературе Золя, и все явления искусства расценивались в плане их реалистичности по тому, в какой мере они похожи на Золя. Не будем говорить о том, что Золя — это отнюдь не«вершина реализма» даже в пределах XIX века, что в его творчестве очень отчетливо обнаружились натуралистические тенденции. Принципы реализма в западноевропейской литературе критического реализма XIX века выразились наиболее отчетливо в творчестве Бальзака. На это указывал Энгельс. Но если взять даже Бальзака за критерий реализма и примерять к его творчеству все развитие реализма, то и из этого не выйдет ничего удовлетворительного. Если сравнивать с романами Бальзака, например, «Илиаду», античную поэму придется объявить образцом антиреалистического искусства. То же получится, если сравнить, допустим, с Курбе Леонардо да Винчи или Рембрандта. На подобных сопоставлениях можно убедиться, насколько необходим исторический критерий в подходе к анализу реалистического искусства, поскольку самое понятие реализма — развивающееся понятие. Задача научной истории искусства заключается в том, чтобы изложить историю искусства, прослеживая различные исторические этапы, развитие реалистического метода, от первых его начатков в первобытном обществе, кончая искусством социалистического реализма. И это последнее, кстати сказать, обязательно, ибо всякое рассмотрение истории искусства будет правильным только при условии, если мы будем изучать явления в перспективе развития, приводящего, в конечном счете, к формированию метода социалистического реализма. Таким образом, вопрос об истории искусства как истории развития реализма в его борьбе с антиреалистическими тенденциями — это вопрос об изучении конкретных исторических форм развития реалистического искусства, а эти конкретные исторические формы определенно соответствуют этапам развития самого человеческого общества. Теперь мы должны обратиться к анализу некоторых характерных особенностей развития реалистического искусства в прошлом, с тем чтобы попытаться выяснить здесь некоторые его закономерности. Отметим прежде всего одну весьма важную черту. Любая форма реализма, которая существовала в предшествующей истории искусства, обладала известным своеобразием отношения к действительности, приводившим к тому, что какая-то сторона жизни раскрывалась относительно полно и глубоко, другая, наоборот, оставалась в тени. Искусство Высокого Возрождения в Италии сильно прежде всего в передаче ярких, мощных характеров, прекрасных в своей цельности. Но внутренняя противоречивость характера начинает проникать в искусство лишь в самом конце развития Возрождения. Напротив того, противоречивость человеческого образа широко и полно разрабатывается мастерами XVII столетия, прежде всего Веласкесом и Рембрандтом. Задача историка искусства как раз и заключается в том, чтобы на основе изучения природы искусства, обусловленной социальным характером каждой эпохи, раскрывать качественные особенности данного реалистического направления во всем его историческом своеобразии. Исходить из отвлеченного понятия реалистичности — значит не учитывать того, что всякий реализм есть объективное познание реальной действительности, то есть прежде всего социальной действительности данной эпохи, которая является предметом для художника, и что в реалистическом искусстве всегда в большей или меньшей степени раскрывается существенное содержание данного общественного строя. Так, сущность античного общества полнейшим образом выразилась в греческой мифологии, художественно обработанной великими драматургами и ваятелями. Так, в противоположность этому, сущность отношений между людьми при капитализме многообразно и богато отразилась в романе XIX века и т. д. Классики марксизма-ленинизма дали ряд образцов характеристики различных типов реалистического искусства. Таков замечательный марксовский анализ античного реализма во «Введении» к работе «К критике политической экономии». Таковы известные замечания Маркса и Энгельса об искусстве Возрождения. «Люди того времени не стали еще рабами разделения труда...» — говорит Энгельс, подчеркивая основу многогранного, яркого искусства этой эпохи с ее полнотой и силой характера. Своеобразие реалистических тенденций в искусстве революционного классицизма, в частности у Давида, становится ясным в свете глубокой характеристики Маркса: «В классически строгих преданиях римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии». Но то, что в классицизме Давида была здоровая реалистическая основа, в противоположность, скажем, реакционному неоклассицизму Пювис де Шаванна, раскрывается в свете последующих мыслей Маркса. Маркс подчеркивал, что в революционную эпоху «заклинание мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой, служило для того, чтобы преувеличить значение данной задачи в фантазии», тогда как в эпоху реакции — во время Второй империи — это «заклинание мертвых» служило не для разрешения жизненной задачи, а «для того, чтобы увильнуть от ее разрешения на практике». В. И. Ленин дал замечательный анализ характера толстовского реализма, анализ, позволяющий осветить многие существеннейшие стороны реализма в буржуазном обществе вообще. Ленин показывает силу Толстого, его «...самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок», он подчеркивает, что Толстой «...горячий протестант, страстный обличитель, великий критик». Эти черты критики, разоблачения социальных пороков свойственны лучшим проявлениям реализма XIX века, поскольку реалистическое искусство оказывается неизбежно враждебным капитализму как социальному строю. Таким образом, задача заключается в том, чтобы, изучая историю мирового искусства, суметь понять и раскрыть бесконечное многообразие исторически существовавших форм реализма, обусловленное историческим многообразием самого общественного развития, являющегося предметом искусства. Реалистическое искусство есть объективное отражение той исторической борьбы, активным участником которой является и само художественное сознание. Поэтому разница между рембрандтовским реализмом и реализмом Репина — не только и не столько разница в личной манере воспроизводить натуру, сколько прежде всего различие форм, способов познания различной исторической действительности, различие способов разрешения определенных социальных проблем, выдвигаемых перед художником жизнью. Таким образом, история реалистического искусства есть история многообразия исторически существовавших форм реализма. Она дает нам очень противоречивую картину развития то одной, то другой стороны реалистического метода, и абсолютным критерием здесь не может служить ни одна из исторически существовавших форм реализма, не может потому, что для различных исторических эпох не может быть единой нормы реализма. Мы уже указывали на неправомочность считать «нормой» реализма, пригодной для всех эпох и стран, реализм XIX века, хотя это столетие, как увидим ниже, принесло колоссальный прогресс реалистического художественного метода. Тем не менее считать реализм XIX века эталоном для всего предшествующего развития реализма — значит отступать от принципа историзма. Демократический реализм XIX века во многих отношениях представляет собой высшую форму реализма прошлого. Он является замечательным вкладом в сокровищницу мирового искусства, новым словом в художественном развитии человечества. Реализм XIX века раскрыл такие стороны и грани действительности, которые были недоступны ни одной предшествующей эпохе. Никогда прежде не было такого всестороннего анализа социальных противоречий, такой полноты охвата явлений общественной и частной жизни, никогда в предшествующее время художник не обладал такой мерой «независимой от мифологии фантазии». Но полнота и последовательность этого реализма не дают нам еще права считать его единственной формой реализма. И если мы справедливо считаем реализм XIX столетия высшим этапом развития реализма в смысле общего хода предшествующей нашей эпохе истории искусств, то это совсем не значит, что эта форма реализма совершеннее всех предыдущих, «выше» их эстетически. Маркс указывал на порочность буржуазно-позитивистского понимания художественного прогресса. Репин бесспорно превосходит и по своему историческому значению и по глубине охвата действительности, скажем, Шардена. Но это не дает нам еще основания считать в Шардене реалистичным лишь то, что сближает его с Репиным. Здесь перед нами две различные исторические формы реализма, каждая из которых требует своих критериев оценки. Более того, самая сложность и, если можно так сказать, богатство реалистического отношения к миру у мастеров XIX века делает особенно неправомерным рассмотрение остальных форм реализма с точки зрения реализма XIX века; с этой точки зрения нам пришлось бы признать античную классику лишь зародышем реализма, в то время как сравнение с XIX веком позволяет нам констатировать лишь наивную форму этого реализма, обладающую к тому же поэтической цельностью и ясностью отношения к миру, которую исторически необходимо утратили мастера эпохи капитализма. Каждая из исторических форм реализма прошлого дает нечто новое по сравнению с предшествующими этапами развития, обогащает художественную культуру, но каждая из них обладает своим особым историческим содержанием, которое невозможно отождествить с историческим содержанием искусства других эпох. Это мы видим, обращаясь уже к самой заре развития человеческой художественной культуры, к культуре первобытного общества. Там в очень наглядных формах можно проследить, что история искусства возникает, собственно, как истерия реалистического искусства и что самый рост, развитие, прогресс художественной культуры осуществляются как рост, развитие, прогресс художественного освоения мира, все более разнообразного и глубокого познания окружающей действительности. Очень поучительно, что наиболее древние памятники искусства, которые нам вообще известны, отличаются наибольшей в пределах первобытного общества реалистичностью. Буржуазная наука нередко пыталась использовать материал первобытной художественной культуры для доказательства того, что человеку якобы искони присуще символическое, отвлеченное от реальной действительности художественное мышление. Указывали, в частности, на большое развитие в первобытном искусстве орнамента, отвлеченного, не связанного непосредственно по крайней мере с какими бы то ни было формами природы, орнамента, состоящего из сложного переплетения разнообразных геометрических линий. Но все эти утверждения представляют собой более или менее сознательную фальсификацию, так как древнейший этап развития искусства, падающий на период так называемого верхнего палеолита, дает картину очень яркого, реалистического, близкого к действительности творчества. Изображения животных на стенах пещер поражают необыкновенной наблюдательностью, исключительной меткостью в воспроизведении фигуры животного, его движения, повадок. Само собой разумеется, что самый круг явлений, охватываемый первобытным художником, очень узок. Это почти исключительно животные — предмет его охотничьих вожделений — и человеческие фигурки, самым грубым образом обозначающие формы тела. Нельзя забывать, что первобытное искусство при всей его яркости и жизненной убедительности отмечено крайней ограниченностью кругозора. Это естественно для того общества, где самый масштаб реального освоения мира в практике общественного человека был весьма невелик. Поэтому огромное количество явлений природы и общественной жизни, которые искусство начинает осваивать лишь впоследствии, здесь лежит еще вне пределов художественного осознания мира. Правда, по мере развития первобытного общества мы наблюдаем один очень интересный процесс. Развитие идет, по-видимому, не от меньшего реализма к большему, а наоборот, — постепенно изображения становятся все более схематичными. Никогда впоследствии на протяжении истории первобытно-общинного строя, ни в период нового каменного века, ни в период обработки металлов мы не найдем такой реалистической яркости изображения, какая имела место в эпоху палеолита. В эпоху неолита перед нами первый в истории мирового искусства случай, когда противоречивость самого общественного развития приводит к возникновению антиреалистических тенденций. Откуда они берутся — нетрудно выяснить. По мере того как в связи с развитием общественной практики все более и более широкий круг явлений входит в поле зрения первобытного человека, появляется необходимость не только фиксировать отдельные объекты, но и сопоставлять, обобщать, пытаться разгадывать более глубокую сущность явлений. Но каков может быть уровень и характер обобщений в обществе, в котором реальный уровень освоения мира, как уже указывалось, все еще чрезвычайно низок? Поэтому, хотя здесь нет еще эксплуатации человека человеком и, стало быть, корыстные интересы господствующего класса еще не могут создавать предпосылки для антиреалистических тенденций, слабость в реальном овладении миром обуславливает то, что искусство приходит к обработке материала действительности с помощью отвлеченной от конкретных предметов фантазии. Эта фантазия необходима и для любого действительно объективного обобщения, но в силу указанных причин творческая фантазия первобытного человека рождает и массу ложных представлений. Так возникает искусство, в котором причудливейшим образом сочетается самое реальное осознание действительности, объективное отражение мира с самой широкой мифологической фантазией. Если мы обратимся к фольклору первобытных народов, то увидим крайне характерную, бросающуюся в глаза двойственность. С одной стороны, во всяком первобытном фольклоре (и это — важнейшая, коренная особенность народного творчества и впоследствии) мы всегда найдем необычайно яркую реалистичность, составляющую его основу. Таковы любые народные сказки, таковы узоры на тканях или украшения, ритуальная утварь или театрализованные танцы — всюду и везде нас встретят живые, крепко связанные с действительностью, с жизнью народа образы. Но вместе с тем в самом этом «мифологическом реализме» налицо фантастичность образов и форм, самая причудливость которых — результат наивно-поэтического способа освоения мира. Поэтическая обработка материала действительности здесь всегда насыщена наивной гиперболизацией, смешением реального и фантастического, иногда кажущейся произвольностью в комбинации впечатлений. Ярчайшие примеры дает древнее скифское искусство. В напряженной ярости фантастических чудовищ, грызущих свою жертву, с необыкновенной убедительностью фиксируется не только длительный опыт охотника. Выразительная жизненность этих сказочных образов дает наивное, но по-своему глубокое осознание жизни природы как силы еще чуждой, но уже ведомой мудрому опытом человеку. Эти образы недаром носят колдовской характер, и недаром колоссальная сила реалистического восприятия неотрывна здесь от смутной, необузданной, действительно еще варварской фантазии. А. М. Горький, очень глубоко и тонко анализируя эту сторону раннего народного творчества, в свое время указывал на источники его фантастичности. Дело в том, что в наивном мифологическом реализме отражается и сама реальная практика общества того времени и вместе с тем то, что Горький называл мечтой народа. Горький анализировал в этом плане ряд образов русского фольклора очень давнего происхождения, в частности ковер-самолет русской сказки. Само собой разумеется, в этом ковре-самолете нет ни на йоту реальной правды, отражающей практику жизни того времени, хотя все, что происходит с этим ковром-самолетом, непосредственно не только связано с жизнью, но и является прямым отражением человеческих отношений той эпохи. Но в поэтической мечте-фантазии уже живет пробудившееся в реальной борьбе с природой упрямое стремление господствовать над миром. Фантазия смело опережает практику, в которой человек не обладает еще реальными возможностями такого овладения миром. Так совершается обработка природы в художественной фантазии. Подчеркнем еще один важнейший момент. И реальная основа фольклора и его безудержная фантастичность — плоть от плоти и кость от кости уклада жизни и интересов самого трудящегося народа. Рассказы о герое, очищающем землю от всякой нечисти с помощью своей гигантской силы, с помощью чудесных орудий, носят конкретный, связанный с жизнью и борьбой народа характер. Но это — не простое отражение реальных отношений, сюда вплетена и поэтическая мечта, с помощью которой народ стремится предвосхитить в фантазии будущие свои возможности. Очень поучительно с этой точки зрения, что в мире народного творчества, сформировавшегося еще до возникновения классов, нет ни одного сколько-нибудь существенного образа, который бы подчеркивал неравенство между людьми, угнетение человека человеком. Впоследствии, в эпоху сложения классов, в эпоху становления феодализма фольклор приобрел очень много таких черт, но в доклассовом еще по происхождению народном творчестве нас встречает герой, который служит народу, для него совершая свои величайшие подвиги. Таковы афинянин Тезей и карачаровский мужик Илья Муромец, которого позднейший исторический опыт народа заставил, хоть и с неохотой, служить князю, таков Сигурд Старшей Эдды и Давид из Сасуна, герои и благодетели своих народов. В этом, кстати сказать, принципиальная разница между фольклором в собственном смысле слова народным и фольклором феодальным, фольклором, в котором появляется прославление господства и подчинения, а главную роль начинают приобретать типично феодальные герои, которые торжествуют над своими врагами и пафос которых — порабощение. В противоположность этому феодальному фольклору народное творчество на протяжении столетий и тысячелетий сохраняет свою жизненную силу и реалистические основы. Основным пафосом этого искусства, его жизненным смыслом, его высшей поэзией является поэзия служения народу. Но пока неизбежно еще, что эти глубоко реалистические образы необходимо облекаются в фантастическую форму. Если мы проследим дальнейшую судьбу этого «мифологического реализма», как мы позволим себе его именовать, то увидим, что он будет развиваться в двух различных направлениях, в зависимости от того, в каких социально-исторических условиях это происходит. С одной стороны, этот «мифологический реализм» становится почвой, основой античного искусства, искусства, развивающегося в условиях рабовладельческого общества, с другой стороны, подобный же поэтический мир фольклора оказывается исходным пунктом формирования искусства раннего феодального общества. Отметим некоторые характерные особенности обоих этих путей развития «мифологического реализма». Античное общество характеризуется замечательным расцветом искусства. Всякому прекрасно известно, в какой мере идеи, образы, формы, традиции античного искусства продолжали на протяжении столетий и тысячелетий жить как одно из самых замечательных достижений человеческой культуры. Достаточно вспомнить античную трагедию Эсхила и Софокла, комедию Аристофана, лирику Алкея и Архилоха, скульптуры Фидия, Поликлета, Лисиппа, чтобы представить себе, какие огромные художественные сокровища были созданы в эпоху античности. При этом все колоссальные достижения античного искусства возникли на базе мифологического по характеру реализма, корни и источники которого лежат еще в доклассовом обществе. В самом деле, и античная трагедия вместе с театром, и античная поэзия, и античная пластика — все эти виды искусства теснейшим образом связаны с мифологией, составлявшей, по словам Маркса, почву и арсенал искусства древности. Образы, замечательные по целостной ясности раскрытия человека, которые даны античными скульпторами или античными трагиками, образы высокого благородства, героизма, большой возвышенности и красоты — эти образы в жизненном своем содержании глубоко реалистичны. О человеческом величии и мудрости повествовал «делатель богов» Фидий, создавая свою прославленную Афину-Деву. Живым патриотическим пафосом дышат сказочные образы героев-лапифов, поражающих грубых кентавров под покровительством Аполлона на фронтоне Олимпийского храма. История гражданских установлений древних Афин составляет реальную основу обработанного Эсхилом сказания о преследующих матереубийцу Ореста Эринниях. Во всех этих и тысячах иных случаев реальная жизнь разъясняется мудростью народного мифа, через нее становится предметом художественного осмысления. Это, конечно, не означает, что античное искусство вообще не знало прямых и непосредственных изображений реальных людей и реальных отношений между людьми. Их немало, в частности, в вазописи. Это значит только, что реальные отношения людей представали для человека античности в органической связи со всем миром поэтических сказаний мифологии, в которой фиксировался реальный общественный опыт народа, накоплялась его вековая мудрость. Но мы не должны забывать того, что вся античная культура выросла на почве эксплуатации человека человеком. Развитие античного искусства, науки, поэзии и т. д. оказалось возможным лишь на базе самой жестокой, самой бесчеловечной эксплуатации рабского труда. Это обстоятельство, как мы указывали, явилось источником внутренних противоречий и всего античного общества, и в частности античного искусства. Но тогда, в условиях низкого уровня развития производительных сил, это был единственный путь, ибо, возложив на плечи рабов основное бремя материального производства, господствующий класс получил возможность развития разнообразных человеческих способностей. Лишив рабов человеческого развития, античное общество дало возможность развития человеческих способностей, в том числе и художественных способностей, максимально широкому кругу представителей общины свободных. Таковы реальные источники расцвета искусства в античности, за этим скрывается очень важная сторона дела. Она заключается в том, что в классическом греческом искусстве появляются идеи и мотивы, глубоко отличные от тех, что определяли мифологическое искусство первобытного общества. Ранний этап развития античной мифологии, тот этап, который связан с еще доклассовым обществом, дал величайшие образцы пафоса служения народу. Мифы о Прометее и Геракле — это были мифы о людях, которые делали для народа величайшие блага. Материал этой ранней мифологии, конечно, вошел и в последующее античное творчество, но сюда присоединились и иные мотивы. Если в первобытной мифологии всегда живет, пусть очень наивная, но очень твердая вера в чудесные силы, могущие притти на помощь человеку, когда это необходимо, то античное искусство, осмысливая основное противоречие античного общества, приходит к трагической мысли о том, что самым лучшим человеческим стремлениям кладется некий предел. Противоречия, антагонизмы общественного развития осознавались античными мыслителями и художниками, но осознавались опять-таки в мифологической форме. Стихия социальной эволюции была осознана как господствующая над человеком неумолимая сила судьбы, рока, а идеалом человеческого «блаженства» стал считаться гармонический покой, отсутствие желаний и стремлений, «божественная атараксия». И это очень ярко сказалось в трагедии. Ее главная тема — трагический рок, который ставит необоримые преграды самым могучим и самым благородным человеческим дерзаниям. У Софокла в «Антигоне» гимн величию человека, его творческим возможностям — «много в природе дивных сил, но сильней человека нет...» — кончается суровым выводом, что и человек должен покориться слепой силе рока, который обрекает людей смерти. Греческая классика V века дала нам непревзойденные образцы гармонически ясного и наивно-поэтического изображения мира. У Мирона, Фидия, Поликлета человек впервые является во всем своем собственно человеческом достоинстве. Такая вера в красоту и совершенство человека наивна, но поистине возвышенна и возвышающа. Греческие художники показали человека венцом творения, обожествили его в своем искусстве. Впрочем, уже Скопас ввел в скульптуру страсть, но показательно, что эта страсть — главным образом страдание, нарушающее счастье гармонически ясного бытия. И не в изображении реальных противоречий жизни следует искать вершин античного изобразительного искусства. Дело в том, что в реальном, во плоти и крови, образе земного человека греки раскрыли великую нравственную силу, то, что они сами называли этосом. Мощь и непререкаемая ясность, с которой удалось классическим скульпторам Греции этого достичь, как раз и сделали античную классику предметом мечтаний всех классицистов последующих эпох. В подражании античной гармонии видели они способ преодолеть противоречия своей социальной действительности. Но то, что в Греции было естественно, то, что там было новым словом реализма, впоследствии становилось часто абстрактной догмой. Не следует думать, что гармонический идеал античного искусства, поскольку он как бы стоит над реальным историческим конфликтом между рабовладельцем и рабом, есть отказ от реализма. Реалистичность античного классического искусства раскрывается в той сфере, где великие мастера древности сумели впервые в истории понять и показать подлинно человеческое в человеке. Эти мастера создали глубоко правдивые образы человеческого благородства и доблести, пластической красоты и гармонической свободы, реально существовавшей в общине свободных граждан. Основное противоречие рабовладельческого общества вскрывается в самом ходе истории. Эпоха эллинизма дала ряд образов, неведомых классике; вспомним статуи точильщика, рыбака, старухи и т. д. Но обогащение искусства изображением сложного, пестрого мира, где красота и безобразие существуют рядом и где разыгрываются сложные социальные драмы, привело к тому, что свободный классический идеал потерял свою естественность и правдивость. То, что художники обратились к изображению противоречивой и многообразной жизни, было значительным прогрессом, но светлая гармония классики должна была, естественно, утратить свое безраздельное господство. Вот почему классическое античное искусство, создавая величайшие образцы реализма, создавая замечательные памятники человеческой красоте, человеческому благородству, вместе с тем оказалось бессильным раскрыть реальный смысл социальной жизни человека непосредственно. Оно сделало это в формах, которые обусловлены конкретными историческими условиями. Наивная мифологичность античного искусства — одновременно и источник его могучей поэтический силы и граница проникновения в глубины общественных конфликтов. Обратимся теперь ко второму пути, по которому пошло дальнейшее развитие мифологического реализма, родившегося в первобытно-общинном строе, и посмотрим, что произошло с ним в раннем феодальном обществе. И здесь ведущую, решающую роль играет мифологическая традиция народного творчества, первоначально связанная с языческими верованиями различных племен, а затем и с христианством, впитавшим в себя огромное количество народных представлений и мифов. Это, разумеется, не снимает того, что в конкретных условиях формирования средневекового искусства в Европе античное наследие играло огромную роль. Но то, что прежде было народным поэтическим восприятием мира, ныне стало большой культурной традицией. Мифология средневековья непосредственно имела иные источники (впрочем, отчасти также антично-мифологические). Искусство, которое мы обычно именуем средневековым, очень различно у различных народов. Момент национальной индивидуальности, как называл его Белинский, в этот период никогда нельзя сбрасывать со счетов: средневековое искусство Китая, например, не похоже на средневековое искусство Франции, средневековое искусство Руси отличается от средневекового искусства Англии и т. д. Это обстоятельство очень важно, хотя оно, разумеется, не снимает наличия общих закономерностей развития искусства в условиях раннефеодальных обществ. Раннесредневековое искусство в большей своей части является религиозным, церковным по форме, символическим, абстрактным, отвлеченным по характеру. Художники в основном обслуживают церковь — христианскую, мусульманскую, буддийскую и т. д. Конечно, есть в это время и светское, внецерковное искусство. Просто сбросить его со счетов абсолютно невозможно. Но в средние века при всем том доминирует искусство религиозное. Можно ли отсюда сделать вывод об антиреалистическом характере этого искусства в целом? Бесспорно, что самая структура феодального общества, его социальный характер не давали тех возможностей для развития искусства вообще, а в том числе и реалистического искусства, какие давало общество античное. Феодальные отношения господства и подчинения, всестороннее порабощение крестьянина и ремесленника, необходимость постоянного идеологического давления на угнетенные классы — все это привело к тому, что в феодальном искусстве очень большое значение приобретает пропаганда покорности человека богу и господину, распространение религиозных идей и представлений, воспитывающих в человеке раба, что и приводит к расцвету аскетических, условных, отвлеченных форм. Все это — бесспорные факты, и с этой точки зрения раннее средневековое общество во многом неблагоприятно для развития реализма в целом ряде отраслей искусства. Но вместе с тем, особенно в тех искусствах, которые были наименее тесно связаны с догматикой господствующей религии, освещавшей и санкционировавшей феодальный гнет, достаточно полно и ярко выражает себя живая струя мифологического по характеру реализма, хотя, конечно, совсем не похожего на античный. Правильной оценке средневекового искусства мешает, кроме всего прочего, и то, что впоследствии было уничтожено большое количество произведений искусства, целиком или отчасти независимых от господствующей церкви, имевших потому наиболее отчетливо выраженный народный характер. Поэтому, когда мы обращаемся, например, к искусству древней Руси, мы должны всегда помнить, что круг памятников, которыми мы располагаем, довольно тенденциозно «отредактирован» господствующими классами. Характерно, что «Слово о полку Игореве», замечательный памятник не только древнерусской культуры, но и искусства всех народов, дошел до нас только в одном рукописном тексте. В этом факте можно видеть, в какой мере господствующие классы, заинтересованные прежде всего в церковном искусстве, относились пренебрежительно к тому, что составляло подлинные вершины искусства древней Руси. Архитектура древней Руси представлена для нас на девять десятых церквами. Эти церкви — величайшие документы художественного гения русского народа, но насколько богаче и шире осмыслили бы мы древнерусское зодчество, если бы видели эти церковные здания в окружении многообразных светских построек, которые почти совершенно исчезли. Все живое и настоящее в средневековом искусстве прежде всего питается народным поэтическим отношением к миру с его крепкой реалистической основой. Задача историка средневекового искусства заключается в том, чтобы в сохранившихся памятниках церковного искусства разглядеть за господствующей церковной идеологией живой и могущественный источник реалистического народного творчества, хотя в ту пору по-прежнему мифологического по своему характеру. Совершенно неверно и теоретически неправомочно представление о средневековом искусстве как о периоде якобы абсолютного господства антиреалистической условности. Мы знаем, что официальная религиозность средневековья, будь то религиозность христианская, мусульманская или какая-либо иная, тормозила живое проникновение искусства во все богатство реальных человеческих отношений. Господствующие феодальные религиозные системы в этом отношении противоположны религии классической античности, почему они и враждебны реализму в искусстве. Но и в этой, иногда уродливой форме средневековый художник нередко умел глубоко и правдиво отразить окружающую его действительность. При этом хотелось бы подчеркнуть, что речь идет отнюдь не только об искусстве, связанном со старыми дофеодальными, языческими традициями. Их значение огромно, ибо эти старые верования и поэтические представления противостояли господствующей феодальной идеологии. Но не только здесь надо видеть мифологическую основу средневекового искусства. Средневековое христианство, не как доктрина, а как реальное бытовое явление, — целая мифологическая система, и в ее художественном выражении так же, как и в образах языческих верований, много непосредственной связи с жизнью, с идеалами и стремлениями народных масс. Не только сказочная фантастика Черниговского рога, но и величественное милосердие защитницы — «Нерушимой стены» в киевской Софии, не только причудливое узорочье и живая пестрота бытовых фигур новгородского книжного орнамента, но и ликующая страстность волотовских фресок или высокая моральная чистота рублевских ангелов воплощают в мифологической форме, характерной для эпохи, глубокие стремления народа, его жизненный опыт и жизненную мудрость. В древней Руси говорили о красивом человеке, что он «аки на иконе писан». Так, сами современники видели в прекрасных образах иконописи некое отражение жизни, а совсем не «божественный архетип», как это утверждали эстетические теории византийских богословов.
 Мозаика Софийского собора в Киеве "Богоматерь Оранта - Нерушимая стена".
Мозаика Софийского собора в Киеве "Богоматерь Оранта - Нерушимая стена".
Как же прорывались в условное церковное искусство эти живые черты? Это понятно. Материальной экспроприации народных масс в средние века сопутствовала и их духовная экспроприация. Народная фантазия, народное поэтическое отношение к миру, жившее в средневековом искусстве, так или иначе приспосабливались господствующими классами к своим нуждам. Анализируя формы давления господствующего класса на народное творчество, мы должны вместе с тем прослеживать живой источник, подлинную сущность средневекового искусства. Народный эстетический идеал как бы «присваивался» церковью и, конечно, уродовался при этом. И все же в образах средневекового мифологического искусства мы всегда можем открыть его жизненные народные источники. Поэтические представления о героической доблести идеального воина ярчайшим образом выразились в иконах святых воинов, например в известной иконе Георгия со змеем из Новгорода XV века. Это совсем не византийский святой, а былинный удалец, родной брат Вольги Святославича или Добрыни.
 Новгородская икона "Чудо Георгия о змие".
Новгородская икона "Чудо Георгия о змие".
Итак, и античное искусство и искусство раннего средневековья, хотя и по-разному, остаются на почве мифологического художественного творчества. Вследствие этого искусство при всем своем совершенстве, при всех своих замечательных достижениях остается наивным, отражая ранние стадии развития человеческой культуры. Можно было бы сказать, не рискуя набросить тем самым тень на эти ранние формы реалистического творчества, что здесь мы имеем дело с наивным реализмом, поскольку творческая фантазия общественного человека здесь неотделима от мифологии. Совершенно естественно, что по мере дальнейшего развития человечества, по мере того, как появляются все новые и новые успехи в реальном овладении силами природы, по мере того, как развивались новые формы общественных отношений, эта наивная поэзия мифологического реализма должна была уступить место новым формам реалистического искусства, формам, во многом гораздо более сложным и по-своему богатым и содержательным. Последующая история реалистического искусства представляет собой картину очень сложную и противоречивую. Прежде всего хотелось бы отметить, что сама эта сложность и противоречивость являются характерной особенностью позднейшего развития реализма. По мере развития общества, по мере обострения и обнажения общественных конфликтов эволюция искусств приобретает совершенно иной, чем прежде, характер. Новая форма развития реализма в искусстве связана с возникновением еще в недрах феодального общества сначала товарно-денежных отношений, затем с формированием и развитием капиталистического уклада, тоже еще пока в пределах феодального общества, и, наконец, с торжеством и господством капиталистического способа производства. Если мы возьмем античный мир, то там по вполне понятным причинам мы не найдем искусства угнетенного класса — рабов — в виде сложившейся системы. Класс рабов комплектовался из самых разных племенных источников, у него был очень пестрый состав. Но еще важнее то, что класс рабов был настолько материально и духовно задавлен, что для развития своих человеческих способностей, как уже говорилось, у него не было никаких возможностей. Именно поэтому говорить об искусстве рабов в эпоху античности, по-видимому, нельзя, хотя это и не означает, что в пределах античного общества не было мыслителей и художников, которые в той или иной мере не задумывались над судьбами рабов и косвенно не выражали их стремления к освобождению. В феодальном обществе дело обстоит совершенно иначе. Там угнетенное крестьянство обладает собственным очень мощным искусством, тем самым искусством, которое составляет живую почву и основу всей средневековой художественной культуры. Но для средневековья характерна общая тенденция к духовной экспроприации крестьянства. Именно поэтому мифологический реализм средневековья господствующие классы стараются приспособить к своим нуждам, сделать искусство средством идейного воздействия на народные массы. Если мы возьмем эпоху зарождения и формирования капиталистических отношений, промежуток времени в Западной Европе от XV по XVIII век, то здесь очень ясно можно наблюдать отчетливое разделение художественной культуры на два лагеря. С одной стороны, искусство новое, прогрессивное, связанное с выступающими на арену истории передовыми классами, искусство широко демократическое, народное, смело несущее знамя реализма, с другой стороны, искусство реакционных классов, прежде всего феодального дворянства, отстаивающего старый, отживающий общественный порядок. Противоречивость и сложность художественного развития, начиная с эпохи становления буржуазных отношений, обнаруживается в том, как решительно и резко противостоят друг другу передовые реалистические тенденции и тенденции консервативные, антиреалистические. В сфере искусства происходят теперь решительные битвы, и вся история искусства, начиная с эпохи Возрождения и кончая нашим временем, дает нам картину резкого столкновения направлений. Так, искусство Возрождения развивалось и укреплялось в решительной борьбе с консервативным средневековым искусством. Мазаччо и Гиберти, Леонардо и Дюрер были боевыми мастерами, которые не только работали как реалисты, но отстаивали и внедряли реализм в практику искусства, зачастую обосновывая его и теоретически. Так, в XVII веке такие художники, как Шекспир, Рембрандт, Мольер, выступали против придворного классицизма, академических канонов, надуманного маньеризма и других антиреалистических доктрин века. Так, в XVIII веке передовое реалистическое искусство, связанное с просветительством, сталкивается с аристократически-жеманным искусством рококо. Но дело не только в том, чтобы отметить самую сложность борьбы направлений, а в том, чтобы за ней различить основную линию развития реалистического искусства. Укажем в этой связи на общую тенденцию, окончательно кристаллизующуюся лишь в искусстве XIX века. Реалистическое искусство в капиталистическом обществе формируется как искусство так называемого критического реализма. Критическим реализм XIX века мы называем совсем не потому, что его содержание сводится к критическому изображению действительности, что его пафос есть пафос отрицания. Неверно суть критического реализма (а у нас это в теоретической литературе имело место, особенно при сравнении критического реализма с реализмом социалистическим) видеть в такой формуле: критический реализм ставит в центр внимания отрицательного героя, а социалистический реализм — героя положительного, критический реализм критикует, а социалистический реализм утверждает. Такое определение — не более как вредная и вульгарная схема, не имеющая ничего общего с реальной историей искусства. Нам представляется, что суть критического реализма может быть лучше всего вскрыта в сравнении критического реализма с более ранними формами реалистического искусства, то есть при помощи выяснения, что нового внесло искусство критического реализма. Формирование нового этапа реализма, начиная с эпохи Возрождения и кончая рубежом XVIII—XIX столетий, — это время окончательного разложения и ликвидации старого, мифологического реализма и торжества нового, реалистического отношения к миру, где господствующим становится непосредственное изображение социальной жизни. Еще эпоха Возрождения, сделавшая первый решительный шаг к ликвидации наивно мифологического отношения искусства к действительности и для того объединившая усилия искусства и науки, выросшей в ту пору неизмеримо, все еще часто решает конкретные проблемы жизни в форме условно поэтического отражения действительности. Мадонны Ренессанса — реальные женщины-матери, но всеобщий нравственный идеал материнства еще нуждается в интерпретации через образ богоматери. Возрождение с презрением отбросило рабский аскетический ужас средневековья перед грехом, Тициан восславил земную любовь, но общезначимость эта глубоко земная тема получает все же через мифологические (теперь, впрочем, чисто литературные) ассоциации — через образы Венеры, Данаи и т. д. В искусстве XIX века, вернее, в передовых, реалистических направлениях этого столетия, все великие и малые проблемы жизни решаются в подавляющем большинстве случаев на конкретном жизненном материале. Если художник хочет сказать, что бремя труда тяжело ложится на плечи народа, — это будет непосредственное изображение бурлаков, как у Репина, или каменщиков, как у Курбе, тогда какнесколькими столетиями раньше эта тема осознавалась через посредство образов Адама и Евы «в поте лица зарабатывающих хлеб свой», как в ренессансных рельефах у Кверча или Гиберти. Художник-реалист XIX века обычно не нуждается ни в мифологических, ни в морально-философских условностях. Источник этого коренится в самом укладе жизни буржуазного общества. В капиталистическом обществе борьба классов выступает обнаженно, именно как борьба классов, а не так, как в феодальном обществе, где она облекается в форму борьбы сословий, хотя от этого не перестает быть в действительности классовой борьбой. Имущественные реальные экономические связи людей выступают теперь в цинической откровенности. Это ставит художника в упор, лицом к лицу с основными, насущными вопросами социального бытия в их прямом, обнаженном облике. И здесь источник того, почему весь поэтический мир мифологии должен совершенно исчезнуть, тем более, что реальное господство над силами природы, благодаря гигантскому развитию производительных сил, которое несет с собой капиталистический способ производства, делает также невозможным дальнейшее существование мифологических образов. Итак, первая предпосылка развития критического реализма заключается в том, что теперь искусство оказывается непосредственным изображением самой социальной действительности. Переворот происходит, повторяем, постепенно. Еще эпоха Возрождения, как уже указывалось, во многом пользуется привычными формами и образами старой христианской и «новой» языческой мифологии. Живопись эпохи Возрождения по сюжетам — в большой мере религиозная живопись, хотя в традиционные темы прорывается горячая и живая жизнь современных итальянских городов. Поэзия Таосо или Ариосто наполнена мифологическими образами, но здесь их использование становится уже поэтическим приемом. В еще большей степени это непосредственное, открытое изображение социальной жизни со всеми ее конфликтами, трагедиями, противоречиями выступает у великих художников второй половины XVI и первой половины XVII веков. Это прежде всего Рабле, который, давая фантастическую форму своему повествованию, вместе с тем использует ее не всерьез, а как средство создать гротеск. Это относится в еще большей степени к Сервантесу, у которого в романе — прямая насмешка над миром средневековой поэтической фантазии и где автор сталкивает своего героя, фантаста и мечтателя, со всеми суровыми перипетиями реальной жизни. Реальные отношения людей очень ярко воспроизводятся у Шекспира, они торжествуют в комедиях Мольера, они выступают в живописи Рембрандта и Веласкеса. И недаром в эпоху подготовки последних схваток между буржуазией и старым феодальным миром — в XVIII веке противостоят друг другу, с одной стороны, трезво реалистическое искусство буржуазии, которое настаивает на простом изображении жизни простых людей — у Дидро, у Шардена, у Лессинга, с другой стороны, мирок псевдомифологических представлений аристократического искусства. И чем глубже реалистическое искусство начинает проникать в сущность окружающей жизни, чем пристальнее оно изучает эту жизнь, тем более широким становится круг охватываемых искусством явлений. Сравните охват мира у Фидия и у Рембрандта. Какая колоссальная разница в масштабах, как многообразно освоение мира у Рембрандта по сравнению с греческими художниками. Я уже не говорю о еще более огромном диапазоне охвата жизни в русском искусстве XIX века, одном из самых замечательных проявлений художественного гения всех времен и всех народов. Итак, характерная черта нового реализма — очень широкий охват сложных явлений самой социальной действительности. Но не забудем, что явления, лицом к лицу с которыми оказался художник,— это явления необычайной сложности и противоречивости, в логике которых последовательно может разобраться только человек, стоящий на позициях марксизма. Следовательно, здесь были неизбежны исторически обусловленные иллюзии и заблуждения. Но если реалисты не всегда могли до конца вскрыть историческую логику вещей, то победой реализма оказывается глубокое умение раскрыть в типических образах суть социальных отношений, то, что В. И. Ленин называл у Толстого срываньем всех и всяческих масок. Это не значит, что у мастеров критического реализма не могло быть и не бывало положительных героев, в частности там, где они опирались на освободительное движение, отражали мощные движения демократии. Так было в русском искусстве XIX столетия. Разве можно говорить, что нет положительных образов у Чернышевского и Некрасова, у Репина или у Мусоргского. Русское искусство XIX века создало замечательную галерею положительных образов людей из народа и борцов против социального гнета и несправедливости. Есть сильные, положительные образы и в произведениях таких великих мастеров критического реализма на Западе, как Жерико или Курбе. Но в чем суть дела? Суть дела в том, что художник-реалист XIX века, показывая правдиво своего положительного героя, показывает его в непримиримой борьбе с господствующим социальным порядком или, по крайней мере, в разладе с ним, не хозяином жизни, а самоотверженным борцом за свободу и счастье угнетенного народа. Положительный герой критического реализма выступает в антагонизме с тем укладом жизни, в условиях которого он должен бороться. Художник не может показать своего героя человеком, уже утвердившим свои идеалы в жизни. Таковы, в частности, герои революционного цикла Репина («Не ждали», «Отказ от исповеди», «Арест пропагандиста»).
 И. Репин. Отказ от исповеди (Перед казнью).
И. Репин. Отказ от исповеди (Перед казнью).
Иными словами, критический реализм в принципе враждебен капиталистическому строю. Глубоко правдивое изображение современной истории приводит художника к обличению буржуазного общества. В этом суть критики. Итак, если мы возьмем историю развития реалистического искусства в целом, от первобытного общества до возникновения социалистического реализма, то мы можем заметить в этих пределах две тенденции, исторически последовательно сменяющие друг друга. Если взять первобытное искусство, затем искусство античное и искусство раннего средневековья, то можно заметить, что во все эти исторические эпохи непосредственное художественное осознание действительности оформляется, главным образом, в формах мифологии. Это не мешает передовому искусству этих эпох быть глубоко реалистичным, потому что в мифологической фантазии правдиво, хотя и ограниченно, отражается реальная действительность. В «Прометее» Эсхила, в «Антигоне» Софокла выражены глубоко правдиво серьезнейшие жизненные вопросы. Но форма, которую приобретает их изображение, есть форма мифологическая. Книга Данте, которую так любили Маркс и Энгельс, книга необыкновенно боевая, неукротимо страстная, наполненная животрепещущими вопросами современности, большим политическим пафосом, книга, в которой поэт расквитался со всеми своими земными врагами, по своей форме еще заключена в оболочку христианской мифологии. В ней реальная жизнь реальных людей вплетена в систему общего фантастического замысла. Уже Возрождение знаменует начало разрушения этой мифологической формы реализма. Легенды, обрабатываемые художниками Ренессанса, все чаще используются ими как традиционные художественные мотивы. Картины Леонардо да Винчи, Рафаэля по форме, по сюжетам еще в большой мере отражают старые мифологические представления, хотя по существу, по содержанию в их произведениях — уже целиком реальные, современные люди, реальные отношения. Если же мы возьмем XIX век, то увидим, что здесь искусство во всех своих основных проявлениях целиком покончило с разными формами мифологической фантазии, погрузившись в суровое царство прозы. Толстой и Бальзак, Пушкин и Стендаль, Репин и Курбе не нуждаются в мифологической поэзии. Реализм XIX века — это прежде всего непосредственное изображение социальной жизни современника. И это явилось огромным завоеванием реализма, потому что давало простор той независимой от мифологии фантазии, которая позволяет художественно обрабатывать материал действительности, не прибегая ни к какой мифологической форме, ни к какой религиозной, легендарной оболочке. Впрочем, эта особенность реализма XIX века в условиях классового, антагонистического общества обнаруживается еще противоречиво. Предложенные замечания об исторических тенденциях развития реализма в искусстве ни в коем случае не следует рассматривать как попытку начертить схему истории мирового искусства. Нам кажется, однако, что сказанным выше обозначается одна весьма важная историческая закономерность развития реалистического метода, позволяющая уловить прогресс в области художественного освоения мира. Не забудем, что именно социалистический общественный строй открывает безграничные возможности независимой от мифологии фантазии.
IV.
Таким образом, историческая изменчивость реалистического метода не исключает, а предполагает некоторое внутреннее единство понятия реализм, которое, однако, ни в коем случае не следует трактовать абстрактно-догматически. Несомненно, античное рабовладельческое общество требует иных форм своего реалистического изображения, чем общество капиталистическое. В первом случае реализм, естественно, приобретает наивно поэтическую, мифологическую форму, во втором — сложную аналитическую форму критического реализма. Но отсюда нельзя сделать вывода, что границы реализма — только релятивны, что невозможно найти некоторый общий критерий реалистичности искусства. При всем разнообразии форм исторической действительности в самой природе реалистического искусства есть и нечто общее, что может и должно обусловить конечное единство реализма как метода при бесконечном многообразии конкретных его форм, исключающих возможность трактовать их как тождество. Мы уже указывали, что одним из существеннейших условий реализма является правдивое изображение натуры, то есть такое ее изображение, где формы реального мира воспроизводятся примерно так, как они нами чувственно воспринимаются. Если живописец изображает человека, то внешний облик его должен быть воспроизведен объективно. Нам ясно, что «портрет», написанный каким-нибудь Браком в кубистической манере, где нельзя различить даже элементов человеческой головы, тем самым уже принципиально чужд реализму. Но, конечно, воспроизведение лишь чувственно воспринимаемого облика явлений предметного мира, любого лица или целого события само по себе не представляется целью и главным критерием реалистического искусства. Сводить реализм в изобразительном искусстве только лишь к правильному изображению зрительно воспринимаемого предметного мира, — значит очень сужать проблему, хотя, как мы увидим ниже, эта сторона дела имеет принципиальное значение. Реализм Серова не в том только, что он умеет очень ярко передать зрительный облик человека. Реалистичность портрета В. О. Гиршмана раскрывается прежде всего в глубокой социально-психологической характеристике личности. В. Серов. Портрет В.О. Гиршмана.
В. Серов. Портрет В.О. Гиршмана.
Объективная передача зрительно воспринимаемой действительности крайне важна для реалистического искусства, поскольку речь идет о создании достоверного изображения; это важно для достижения необходимой убедительности образа, но это все же лишь условие, в лучшем случае, одна из сторон реализма, но не его суть. Более того, чувственная достоверность изображения может быть использована и сугубо антиреалистическим искусством. Так, в современном американском искусстве существует направление, которое претендует на якобы «объективное» изображение зримой действительности. Художники этого направления, так называемого реджионализма, Бентон, Вуд, Керри и другие склонны особенно подчеркивать конкретную «вещественность» своего искусства. Но здесь видимая «натуральность» изображенного используется для создания внешней якобы «убедительности» глубоко порочного, лживого художественного содержания: апологии «прочных устоев» американского «образа жизни», маскирования противоречий капиталистического строя. Так, воинствующе-реакционное искусство буржуазной Америки пользуется мнимореалистической формой как удобной ширмой для своей социальной демагогии. Таким образом, сводить проблему реализма лишь к внешней правдоподобности изображения было бы неверно.
 Г. Вуд. Американская готика.
Г. Вуд. Американская готика.
В «Пряхах» Веласкеса с необыкновенной убедительностью воспроизведены все чувственно воспринимаемые формы действительности: фигуры, интерьер, свет и т. д., и без такого воспроизведения не существовало бы и самого образа картины, но легко понять, что не в этом суть реалистического метода художника, так глубоко раскрывающаяся в этом произведении с его необыкновенно чистой поэзией человека. Таким образом, зрительно-чувственная достоверность образа, которую иногда склонны смешивать с сутью реализма, является в действительности необходимым условием реалистического искусства. Суть реалистического творчества не только в воспроизведении чувственно воспринимаемых форм бытия, но прежде всего в том, чтобы через посредство такого воспроизведения объективно раскрыть сущность, содержание общественной жизни человека, шире — действительности вообще. Этому служит и сама зрительная достоверность образа. Недаром без умения изображать реальный мир нет и не может быть реалистического искусства. Однако для художника важно уметь видеть и глубоко познавать мир, проникать в содержание наблюдаемых вещей и явлений. Для этого недостаточно простого копирования чувственного облика действительности. Для этого нужно прежде всею прозорливо и чутко проникать в общественный смысл изображаемого, раскрывая в своих произведениях суть явлений. В любом виде искусства и в любом его жанре, какими бы они сами по себе ни казались далекими от задач раскрытия социальной жизни человека, она все же получает свое более или менее отчетливое и полное раскрытие. Там, где речь идет о романе, драме, трагедии или, скажем, о живописи, прямо или косвенно посвященной изображению общественной жизни, дело обстоит довольно просто и ясно. Мы ценим «Страшный суд» Микельанджело или «Боярыню Морозову» Сурикова не потому, в первую очередь, насколько правильно нарисованы там фигуры или дана перспектива. В обоих случаях допущены даже отклонения от школьной правильности — у Микельанджело в моделировке тел, у Сурикова в построении пространства улицы. Мы видим глубину реализма этих произведений в объективности и полноте раскрытия основных социальных проблем эпохи, хотя в первом случае это сделано на материале христианской мифологии, а во втором использован исторический сюжет. Относительно просто и ясно это еще и там, где (как, скажем, в лирической поэзии) непосредственным предметом изображения оказывается субъективный мир человека, сам по себе являющийся плодом определенного социального бытия. Осмысление этого внутреннего мира человека, формулирование определенных идей, чувств и стремлений само по себе является выражением социальной жизни.
 Микеланджело. Страшный Суд.
Микеланджело. Страшный Суд.
Способ, с помощью которого лирический поэт стремится разрешить конфликты жизни, ответить на насущные вопросы действительности, отношение художника к вещам и событиям, понимание им смысла жизни определяют правдивость или неправдивость его искусства. Но то же самое мы находим и в любом виде художественного творчества. Какой-нибудь натюрморт, изображающий два яблока в вазе и рядом цветок, лежащий на деревянном столе, хотя по сюжету и не имеет прямо ничего общего с социальной жизнью человека, — этот натюрморт, как и всякое другое произведение искусства, призван косвенно, но все же раскрывать отношение художника к миру, к жизни. В конечном счете, за отношением художника к вещам всегда открывается определенное мировоззрение. В натюрмортах Хеды или Клааса заключена целая социальная программа, и о реалистичности их натюрмортов мы будем судить не только по натуральности изображения, но и по тому, какое через эту натуральность раскрывается отношение к миру, какова «философия жизни» художника.
 В. Хеда. Натюрморт с окороком.
В. Хеда. Натюрморт с окороком.
Так мы подходим к уяснению основного критерия реалистичности произведения искусства. Можно сказать, что реалистическое искусство есть искусство, правдиво раскрывающее сущность познаваемой действительности, прежде всего общественной жизни человека. К этому следует добавить, что для такого раскрытия сущности — по самому принципу художественного способа освоения мира — необходима чувственная достоверность изображения. Но об этом ниже. Здесь необходимо еще раз подчеркнуть следующее. Всякое произведение искусства, будучи обусловлено определенным состоянием общества, определенными фактами общественной борьбы, само по себе представляет плод этой борьбы, а следовательно, в нем так или иначе отражается социальная жизнь. Произведение искусства всегда является для историка как бы неким овеществленным документом социальной борьбы, и он обязан в любом художественном явлении видеть отражение общественного бытия. Нет искусства, независимого от материальной жизни, и в этом смысле любое самое антиреалистическое художественное произведение есть отражение в общественном сознании реальной общественной действительности, ее противоречий. Ведь и современное упадочное буржуазное искусство является в своих уродливых, чудовищных формах отражением разложения капиталистического мира. Оно отражает упадок, маразм всего капиталистического строя и реакционнейшие идеи господствующего класса, определяемые его позицией в общественной борьбе. Но было бы абсурдом считать это искусство «реалистическим». Реализм есть правдивое познание действительности, а какой-нибудь С. Дали в своих сюрреалистических полотнах отказывается от всякого объективного познания, отражения мира. Конечно, болезненная фантазия сюрреализма социально обусловлена, но она дает нам не объективное отражение действительности, но ее чудовищное извращение. Всякая форма самого реакционного идеализма социально обусловлена, но мы ушли бы с почвы марксизма на почву богдановщины, если бы забыли, что реакционный идеализм дает нам в корне извращенную картину действительности. Вульгарная социология, отождествляя объективное познание мира в искусстве и отражение определенных социальных условий в мировоззрении художника, также уходила с почвы марксизма на почву богдановщины. С нашей же точки зрения для оценки реалистичности произведения важно, что искусство познает в действительности, что оно раскрывает в ней и, следовательно, какие выводы оно отсюда делает, то есть в каком направлении — вперед или назад — оно стремится вести человечество. Поскольку задача реалистического искусства заключается не в том, чтобы просто фиксировать внешний облик вещей и явлений, а в том, чтобы проникать в их сущность, уместно задать вопрос, как сочетается в реалистическом художественном образе раскрытие сущности и достоверность показа явления, иными словами, как в искусстве осуществляется показ существенного, закономерного? Энгельс писал Гаркнесс: «На мой взгляд реализм подразумевает, помимо правдивости деталей, правдивость воспроизведения типичных характеров в типичных обстоятельствах». Из определения Энгельса прежде всего вытекает необходимость считать критерием реализма не ту или иную систему приемов изображения, а метод отражения и раскрытия действительности. Это положение следует связать с другим — о характере и сущности тенденциозности в искусстве. Энгельс, как известно, считал, что тенденция не должна привноситься в произведение извне, она должна, так оказать, раскрываться изнутри, из самого существа изображенных событий и фактов. Мы об этом говорили выше, и сейчас необходимо лишь напомнить об этом важнейшем моменте. Дело в том, что неразрывное единство правдивости и тенденциозности, с одной стороны, показ сущности через непосредственную достоверность чувственно воспринимаемого облика вещей и явлений — с другой, раскрываются в центральном понятии теории реализма — понятии типического. Обращаясь к анализу проблемы типического, необходимо прежде всего подчеркнуть единство правдивости и идейности в реалистическом произведении. Правда жизни и идейность — не разные, друг от друга не зависящие стороны искусства. Нельзя представить себе дело так, что художник, с одной стороны, правдиво изображает жизнь, а, кроме того, вносит в свое произведение какую-то идею. Именно в подобных случаях и возникает та внешняя, навязанная образу тенденциозность, против которой предупреждал Энгельс. Бывает, что художник не сумеет пронизать свое изображение жизни подлинно правдивой идеей и тогда пытается исправить положение, добавляя к своему серому, констатирующему воспроизведению действительности какой-нибудь изобразительный комментарий: навязчиво акцентированные внешние атрибуты, позволяющие «опознать» сюжет, и т. д. В таких картинах на самом деле нет ни большой идеи, способной захватить зрителя, ни — неизбежно — правды изображения, ибо без освещающей суть происходящего мысли нет и не может быть подлинного реализма, а только робкое цепляние за внешнюю скорлупу явлений. В глубоко реалистическом произведении искусства идейное содержание произведения неотъемлемо от правды изображения. Попробуйте разграничить, где кончается «правда» и где начинается «тенденция» в «Не ждали», в «Утре стрелецкой казни», в «Похоронах крестьянина», в «Сватовстве майора» и т. д. Идейность искусства — не разъяснение, добавляемое художником к изображенным фактам. Она в самих этих фактах, в их выборе, в их трактовке. И здесь-то необходимо уяснение проблемы типического. Для этого следует вернуться, впрочем, уже в несколько новом плане, к некоторым проблемам, затронутым нами в первой главе. Известно, что одной из главнейших особенностей художественного образа является то, что общее существует в нем лишь через единичное, сущность — через явление. Общие понятия, идеи, мысли тогда и предстают перед нами «в образной форме», когда они воплощаются (в буквальном смысле слова!) в конкретно чувственной форме единичных явлений. Эта форма в различных искусствах различна и никогда не охватывает всей совокупности свойств явления. Само явление в реальной действительности обладает бесконечным множеством черточек, свойств, особенностей и т. д., которые во всей своей совокупности, во всем своем бесконечном многообразии не входят и не могут входить в художественный образ. В этом и нет надобности, ибо реалистический образ в каждом виде искусства имеет целью вызвать в человеке представление о всем предмете с помощью фиксации лишь некоторых его качеств. Так, в живописи предмет существует лишь через изображение его качеств, доступных зрительному восприятию. Любая мысль, любое отвлеченное понятие существуют в произведении живописи постольку, поскольку они обнаруживаются в каком-то факте, который может быть доступен восприятию с помощью глаза. Пение соловья само по себе неизобразимо в живописи, хотя в результате очень сложных ассоциаций в человеческом сознании можно, опираясь на определенный отбор зрительных восприятий, вызвать впечатление звука (вспомним хотя бы «Вечерний звон» Левитана).
 И. Левитан. Вечерний звон.
И. Левитан. Вечерний звон.
Теперь необходимо проанализировать специфические свойства реалистического художественного образа. Разберемся в них более пристально. В реальной действительности существуют лишь конкретные единичные явления, факты, события, предметы. Объективно нет дерева «вообще», человека «вообще», моря «вообще». Существуют лишь данные деревья, люди, моря. Иными словами, всякая идея вторична по отношению к явлениям, которые она обнимает и сущность которых вскрывает. Это не значит, однако, что общее понятие представляет собой нечто чисто субъективное, что бесконечная множественность явлений обрекает человеческую мысль на ничем не ограниченный релятивизм. Напротив, абстрагирующая сила ума проникает за кору явлений и, обобщая, вскрывает сущность, которая составляет действительное содержание данной группы явлений. Если не существует человека «вообще», а есть лишь реальные люди, то из этого нельзя сделать вывода, что понятие «человек» только субъективно (а, стало быть, и произвольно!). Оно, это понятие, отвечает реальной сущности множества людей, из наблюдений над которыми и абстрагировано это объективное научное понятие. Таким образом, сущность явления объективна, но она существует лишь в явлениях и через явления. Познание сущности начинается с соприкосновения с рядом единичных, конкретных фактов. Разум, отвлекаясь от случайных моментов в этих явлениях, путем абстрагирования восходит к сущности. Таков принцип любой науки, вообще любого человеческого познания. «Возрождение» — совершенно объективное понятие искусствоведческой науки; оно охватывает сущность множества единичных художественных явлений, хотя на самом деле существовали лишь сами эти конкретные явления, например, творчество Мазаччо и Донателло, Леонардо и Рафаэля, Браманте и Сансовино. Именно поэтому всякое познание начинается с живого созерцания единичных явлений. В реальной практике человек сталкивается с бесчисленным множеством конкретных, данных вещей и фактов. Практически изменяя мир, люди воздействуют именно на единичные вещи и факты, преобразуя их в своих интересах. Оставим сейчас в стороне тот важнейший момент, что само это изменение мира возможно лишь в результате более или менее глубокого познания внутренней сущности подвергаемых воздействию явлений (без этого человеческая деятельность утратит целесообразность!). Концентрируем внимание на том, что процесс человеческой деятельности осуществляется в соприкосновении с реальными единичными явлениями. Именно здесь, в практике, имеющей своим предметом мир конкретных явлений, — источник человеческого опыта, с которого начинается всякое познание. Чувственный опыт, чувственная практика — основа, вернее, исходный пункт любой формы осознания мира. Начинаясь с чувственного восприятия реальных вещей, единичных явлений, познание восходит к рациональному обобщению, к раскрытию сущности в понятиях. Понятия, если они соответствуют реальности, глубже отражают действительность, чем непосредственное представление, ибо они обладают «достоинством всеобщности». Но сама практика, осуществляемая в воздействии человека на явления, на мир единичных фактов, по исключительно глубокому замечанию В. И. Ленина, выше теоретического познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности. Вот это достоинство «непосредственной действительности» чувственного опыта имеет для нас весьма важное значение. Если общие понятия науки отвлекаются от доступного чувственному восприятию облика единичных вещей и явлений, то реалистический художественный образ с ними всегда и неразрывно связан. В геометрии понятие шара существует независимо от представления о каких-то определенных шарах; в живописи, по крайней мере тогда, когда она исходит из реалистических основ, шар может быть представлен лишь с помощью изображения конкретного шарообразного предмета. Здесь становится очевидным один из важнейших внутренних пороков формализма. Уже Сезанн пытался свести многообразие явлений к совокупности абстрактных представлений: голова — это шар, яблоко — это шар и т. д. В дальнейшем формализм вполне логично со своей порочной точки зрения вообще порвал с чувственной достоверностью предмета. Это было нарушением основных законов искусства. Научное положение — самодержавно-крепостнический режим в России в середине прошлого века опирался на жесточайшую эксплуатацию и угнетение народа — основано на обобщении бесчисленного множества реальных фактов истории. Но это общее научное положение я воспринимаю и усваиваю, не нуждаясь непременно в том, чтобы самому непосредственно соприкоснуться с этими отдельными фактами. Но когда дело идет о художественном осознании той же истины, она предстает перед нами обязательно в форме конкретного, данного факта, единичного явления: бурлаков, тянущих баржу, сезонников, изнывающих на ремонтных работах, детей, из последних сил волокущих тяжелую бочку, и т. д. Это то, что можно непосредственно наблюдать. Познанная художником сущность жизненных явлений в художественном образе выступает как предмет непосредственного наблюдения, как то, что доступно чувственному опыту. Реалистическое искусство стремится представить нам предметы, факты, явления такими, какими они встречаются нам в самой нашей практической деятельности. В этом одно из важнейших принципиальных различий теоретического (научного) познания и художественного способа освоения мира, который Маркс назвал однажды художественно-практическим. Вот в чем, как нам кажется, причина того, что богатство и глубина непосредственных наблюдений жизни художником является необходимым условием полноценного реалистического воспроизведения действительности. Художник только тогда сумеет создать картину, в которой познанная жизнь выступает во всей яркости и непосредственности предмета наблюдения, когда он сам будет располагать по-настоящему содержательным запасом жизненных наблюдений. Но в каждом единичном явлении, как было указано выше, мы можем различать бесконечное множество отдельных черточек, свойств, случайных особенностей, которые мы неизбежно чувственно воспринимаем, когда в жизни соприкасаемся с данным явлением. Нужно определенное усилие аналитической способности, умение абстрагировать, чтобы вскрыть сущность данного явления. При этом различные индивидуальные явления и факты совсем не одинаково отчетливо и наглядно обнаруживают свою сущность. Кроме того, одно и то же явление в разные моменты своего бытия раскрывается с разных сторон и с большей или меньшей полнотой. В свое время древние эллины пришли к очень глубокой и благородной мысли о красоте и совершенстве свободного человека. Но при этом наивность греческого художественного сознания заключалась не только в том, что они считали, будто духовная красота человека неотъемлема от его физической красоты, что некрасивый человек может быть добр лишь вопреки своему внешнему безобразию. Неповторимая наивность греческого искусства обнаруживается не в меньшей степени и в том, что оно в классическую пору хотело замечать и замечало лишь физически прекрасных людей, хотя, разумеется, практически в Элладе людей некрасивых было весьма немало. Ища сущность человека, классический скульптор концентрировал свою способность наблюдения лишь на определенных явлениях, оставаясь слеп к другим. Иными словами, характер и конкретное содержание жизненных наблюдений художника-реалиста помогают ему найти в жизни такие факты и события, которые яснее и полнее всего раскроют перед зрителем сущность данного явления. Талант художника предполагает остроту и богатство чувств, эмоциональной сферы, обеспечивающих способность наблюдать, умение видеть жизнь. Одаренность художника во многом обуславливается способностью непосредственно наблюдать и схватывать, способностью, которая, как показывают многочисленные факты, может иногда носить стихийный характер. То, что мы называем в искусстве интуицией, фантазией, — необходимое условие художественного творчества, хотя было бы неверно видеть в творческом процессе обязательное преобладание интуитивного восприятия (даже, разумеется, основанного на предшествующем опыте и знаниях). Но так или иначе эта видимая стихийность процесса творчества, дающая большой простор фантазии, интуиции, импровизации и т. д., неразрывно связана с конкретно-чувственной формой художественного образа. Наблюдая конкретные факты, во многом воспроизводя их в картине непосредственно, как увиденное, то есть как бы давая возможность наблюдать эти факты другим (хотя, разумеется, в большинстве случаев факты эти на полотне воспроизводятся не так, как их наблюдал художник в жизни), живописец вскрывает сущность тем острее и убедительнее, чем глубже проникает он в явления. Репин создал замечательный образ своего друга и наставника В. В. Стасова. С так называемого дрезденского портрета на нас смотрит могучий и жизнелюбивый человек необузданно страстного темперамента, весь во власти обуревающих его смелых и беспокойных мыслей. В состоянии такого творческого пафоса Стасов, разумеется, не бывал ежеминутно, постоянно. Он зажигался таким внутренним светом в часы, когда его натура проявлялась с наибольшей полнотой. И весь гений Репина в том и обнаружился здесь, что он изобразил Стасова не в обыденную минуту жизни, когда натура этого человека дремала или по крайней мере не выявлялась пластически с такой силой, а именно так, что, кажется, перед нами Стасов, готовый к одной ив самых горячих своих битв. Образ Стасова «схвачен» в максимальной полноте его внутреннего содержания.
 И. Репин. Портрет В.В. Стасова.
И. Репин. Портрет В.В. Стасова.
Вот почему необходимо подчеркнуть, что изучение жизни для художника-реалиста не сводится к подбору единичных явлений к заранее данной общей идее, а образное воспроизведение идеи не есть выражение понятия в некоей наглядно доступной форме. Художник, чтобы раскрыть действительность, должен иметь возможность, условно говоря, «наблюдать» сущность явления, не ограничиваясь общим, отвлеченным о ней представлением, нередко достаточным для того или иного теоретического умозаключения. Это имеет для искусства двойное значение: в художественном образе через изображенное явление раскроется сущность, и тогда явление не будет выглядеть мертвым и безразличным фактом, но вместе с тем, поскольку сущность будет «жить» лишь через явление, в явлении, она не будет выглядеть тощей и сухой абстракцией. Такой разрыв сущности и конкретного изображения имеет место в натуралистическом искусстве: оно страдает и отвлеченностью мысли и, так сказать, неодухотворенной натуральностью изображения. Вспомним хотя бы бесчисленные образцы позднего салонного академизма, где претендующая на «возвышенность» абстрактная идея выражается через посредство самой тривиальной натуры. Итак, жизнь расстилается перед художником-реалистом в бесконечном многообразии ее конкретных проявлений. Задача мастера, стремящегося к глубокому познанию и раскрытию действительности, — разобравшись в этом потоке фактов, найти, обнаружить, показать главное, основное, существенное. Исходя из практических задач, выдвигаемых жизнью, художник-реалист концентрирует свое внимание на наиболее важных жизненных вопросах, подлежащих разрешению. Выбор явлений, изображение их такими, каковы они в своей сущности, умение извлекать из любого наблюденного факта его подлинный смысл, способность с помощью фантазии воссоздать необходимую совокупность конкретных явлений — таков путь художника к изображению типического. По тому, что в жизни взято мастером и что увидено и показано во взятом жизненном явлении, отчетливо обнаруживается позиция художника, его идейная устремленность, его способ судить о вещах. Задача художника, по выражению Чернышевского, — произносить приговор о явлениях жизни. Таким образом, именно в том, что художник считает типическим в окружающей его жизни и что он изображает как типическое, в том затем, как он умеет выявить, раскрыть это типическое, прежде всего и обнаруживается его партийность. Внешнюю, извне пристегнутую к произведению тенденцию можно уподобить пустой, не подтвержденной делами декларации. В двадцатых годах представители формалистического направления в советском искусстве нередко создавали подобного рода «тенденциозные» картины, на самом деле, однако, как небо от земли, далекие от подлинно коммунистической идейности, ибо сам показ жизни в них был проникнут совсем другим — сугубо враждебными передовым явлениям мыслями и чувствами. Формалистическое, как и любое иное антиреалистическое искусство, также партийно, ибо отстаивает интересы реакционного класса. И формалист выносит свой «приговор» явлениям жизни, хотя в действительности этот приговор — клевета на жизнь. Но отсюда совершенно понятно, что формалист и не создает, да и не стремится создать типический образ, и, стало быть, в антиреалистическом искусстве основной сферой проявления партийности окажутся ложные, внутренне порочные, враждебные истине идеи, пронизанные самым необузданным субъективизмом, не имеющие опоры в жизни. Напротив того, в реалистическом искусстве партийность художника обнаруживается через воспроизведение сущности того или иного общественного явления в типических образах. Образ «Каменщиков» Курбе типичен, ибо в этом конкретном, единичном явлении, воспроизведенном со всей непосредственностью непредвзятого наблюдения, обнаруживается сущность труда и положения трудящегося человека в буржуазном обществе. Именно в самом этом честном и прямом показе и скрыта тенденция картины, в ней нет ни йоты сентиментального жаления или псевдообличающей риторики. Вывод здесь, в буквальном смысле слова, нагляден, мы видим жизнь в ее глубоком существе. Формалистический принцип искусства Сезанна обнаруживается не только в том, что он сознательно проходит мимо тех острых вопросов жизни, которые постоянно тревожат душу Курбе. В натюрмортах Сезанна не раскрывается истинная сущность бытия, она подменяется здесь отвлеченно идеалистическим, субъективистским философствованием о неизменности, инертности, безжизненности мира.
 Г. Курбе. Каменщики.
Г. Курбе. Каменщики.
 П. Сезанн. Натюрморт с корзиной яблок.
П. Сезанн. Натюрморт с корзиной яблок.
Таким образом, типическое в реалистическом произведении искусства есть раскрытие сущности явления и одновременно вынесение о нем своего приговора, ибо в изображении типического и фиксируется результат познания сути предмета. Здесь необходимо иметь в виду те принципиальной важности положения о сущности типического, которые содержатся в докладе Г. М. Маленкова на XIX съезде партии. Если рассматривать типическое «статистически», то нельзя понять главного: типическое — не то, чего в жизни бывает больше или меньше, типическое соответствует сущности данной социальной силы, вне зависимости от ее арифметической распространенности. Почему порочно утверждение, что типично только то, что наиболее широко распространено, наиболее часто встречается? Прежде всего потому, что это целиком снимает вопрос о раскрытии сущности, основы всякого развития, борьбы нового со старым. Новое может еще только нарождаться, оно еще не стало массовым, но разве это должно заставить художника отказаться от наблюдения и воспевания этих зачатков новых форм жизни? Если подойти к вопросу статистически, среди русской интеллигенции семидесятых-восьмидесятых годов XIX века людей революционно настроенных было сравнительно немного. Но именно в их делах и помыслах воплощались лучшие, передовые идеи борьбы за демократическое переустройство родины. Именно поэтому цикл картин Репина, посвященный образу революционера, дает нам глубокое раскрытие типического в жизни России того времени. И, наоборот, старое может быть уже в основном вытеснено, но оно еще живет и хоть и не составляет ни в какой мере господствующей формы жизни, мешает двигаться вперед. Разве это должно заставить художника отказаться от наблюдения и разоблачения этих еще живых остатков старого; разве не долг передового художника всеми силами помочь умереть отжившему? Стало быть, арифметика здесь ни при чем. Художник, полагающий, что он изображает типическое уже тем самым, что он изображает широко распространенное, вольно или невольно уходит от самого главного. Конечно, типические явления жизни могут быть и нередко бывают широко распространенными. Было бы столь же неверно утверждать, что типическое обязательно встречается не часто. Неверно потому, что это вообще не вопрос количества. У нас немало фальшивых людей, и хотя они не господствуют численно в нашей жизни, тем не менее они мешают нам, и яркое, гневное, разоблачающее изображение фальшивого человека будет глубоко типическим изображением, ибо оно вскроет сущность данной социальной силы вне зависимости от меры ее арифметической распространенности, но в соответствии с ее общественной значимостью. У нас очень и очень много передовых, очень хороших и благородных людей, но если художник не сумеет раскрыть и показать во всю силу сущность такого человека, он не сумеет создать типического образа. Иногда думают, что достаточно взять для картины образ передового человека, чтобы получилось типическое. В действительности этого мало. Надо суметь показать его передовым. Тогда и только тогда образ станет типическим. Следовательно, суть вопроса не в статистике, а в том, что сумел раскрыть художник в изображаемом, удалось ли ему раскрыть сущность данной социальной силы. Вот почему вопрос о типическом есть вопрос не количества, а качества, не только вопрос о том, чему посвящает художник свое произведение, но и о том, какое содержание он умеет раскрыть в изображаемом. Можно было бы, нам кажется, эту мысль выразить и иначе: типическое — специфическая для искусства форма раскрытия сущности явления. То, что наука формулирует как общее понятие, вскрывающее существенное в данной совокупности явлений, художник показывает как тип, единичное явление, в котором наиболее полно и ясно обнаруживается сущность. При этом прежде всего важно следующее: в общем понятии отсекаются все случайные, частные особенности индивидуальных явлений, в типическом, в соответствии с указанным выше характером художественного образа, они необходимо сохраняются. Типическое — это сущность явления, которую можно непосредственно наблюдать в самих явлениях. В этой связи следует вспомнить замечательные по глубине указания В. И. Ленина, адресованные А. М. Горькому. Разъясняя Горькому, почему, находясь в 1919 году в Петрограде, он как художник несумел понять сущность происходящего процесса — борьбы нового, революционного, со старым, контрреволюционным, Ленин писал: «Тут жить надо либо активным политиком, а если не лежит к политике душа, то как художнику наблюдать, как строят жизнь по-новому...». Ленин разъясняет, что значит для художника наблюдение: «Если наблюдать, надо наблюдать внизу, где можно обозреть работу нового строения жизни, в рабочем поселке провинции или в деревне, — там не надо политически охватывать сумму сложнейших данных, там можно только наблюдать» и далее: «Там легко простым наблюдением отделить разложение старого от ростков нового». Из этих замечательных слов Ленина, разумеется, ни в коем случае нельзя было бы сделать вывода, что художник не может и не должен итти чисто научным путем изучения жизни. Ведь и в самом письме Владимира Ильича заключено стремление великого ученого-мыслителя помочь великому художнику охватить, уяснить суть вещей силой научного анализа. Но при всем том в словах В. И. Ленина содержится важнейшее указание на различие между научным «охватом» сложной действительности и художественным «обозрением» с помощью наблюдения. Если таков один из существеннейших путей художественного освоения мира, то таков и один из источников специфики типического, как непосредственного обнаружения глубокой сущности данной социальной силы в определенном единичном явлении. Эта непосредственная, единичная форма обнаружения сущности в художественно типическом обязательно предполагает неповторимую индивидуализацию. Общее вскрывается при художественном воспроизведении данного случая. В. И. Ленин считал, что обработка определенной общей проблемы средствами искусства требует иной методики, чем обработка ее научным способом. В. И. Ленин указывал, что раскрытие общего в единичном факте предполагает понимание того, что «... тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов». В искусстве общее улавливается, раскрывается именно потому, что перед нами именно такая индивидуальная обстановка, такой характер, такой социальный тип. Как по-разному раскрывается общее чувство веселого задора и свободолюбивой независимости в каждом из репинских запорожцев! Разные люди ведут себя по-разному, и только потому, что Репин с полной и исчерпывающей ясностью определил каждый характер, раскрылось надлежащим образом и общее, существенное, типическое. Общее и в самой жизни существует лишь в отдельном и через отдельное. Сохраняя чувственно наблюдаемую форму бытия действительности, художник через нее, в ней видит сущность вещей. Это и есть типическое. Но именно поэтому общая идея, суть раскроются в искусстве лишь при сохранении всего богатства и многообразия индивидуального. Это индивидуальное в типическом образе нельзя свести к простому «олицетворению» общей идеи. Было бы неверно истолковывать образ Ларьки в «Бурлаках» аллегорически, как это делалось некоторыми искусствоведами. Образ этого молодого, нетерпеливого парня нельзя трактовать чисто иллюстративно: в образе Ларьки, «как бы» скидывающего бремя лямки, Репин стремился, дескать, отобразить протест против угнетения. Если бы это действительно было так и великий мастер видел бы в каждом из своих героев фигурантов, аллегорически изображающих какую-то общую мысль, какой-то общий тезис, то все они превратились бы просто в безжизненные марионетки. На самом деле связь общего и частного в типическом образе гораздо сложнее. Ларька потому так вскинулся, что ему трет плечи лямка, что он нетерпелив, так как непривычен. И через это сугубо конкретное восприятие данной личности при данных обстоятельствах мы воспринимаем и гневный протест и многое другое. Таким образом, общее раскрывается через данный характер.
 И. Репин. Бурлаки на Волге.
И. Репин. Бурлаки на Волге.
Вот почему изображение характеров вполне ясных, индивидуальностей, выражающих себя ярко и отчетливо, является одним из главных условий успеха реалистического произведения. Вся русская живопись XIX века от Кипренского до Серова, от Федотова и Иванова до Сурикова неустанно трудилась над изучением и воспроизведением больших, содержательных, определенных человеческих характеров, в которых наиболее полно выразилось свое время. Требуя «типичности» характера, некоторые искусствоведы нередко видели эту типичность в некотором приведении изображения к «среднему уровню». Человек изображался нарочито «обыкновенным», и самую эту ничем не примечательную «обыкновенность» выдавали за типичность. Отсюда прямо открывался путь к натурализму. Именно натурализм, борясь против глубоко реалистического раскрытия действительности, приводил к тому, что в его произведениях совершались какие-то малозначительные происшествия с невзрачными, серыми, «средними» персонажами. В таком «среднем» персонаже натуралистических картин не получает своего раскрытия подлинно типическое. Да и может ли быть иначе, если этот персонаж неспособен ни на какое настоящее, требующее большой страсти дело, ни на какое высокое, захватывающее всю натуру чувство, ни на смелый полет напряженной мысли. Крамской писал в свое время: «Теперь другое: так называемый жанр. Для нас прежде всего (в идеале, по крайней мере) — характер, личность, ставшая в силу необходимости в положение, при котором все стороны внутренние наиболее всплывают наружу». Эта мысль кажется исключительно плодотворной для уяснения задачи изображения характера. В умении выразить сущность через непосредственно конкретное изображение жизни — источник многих успехов советских художников: и «На старом уральском заводе» Иогансона, и «Председательницы» Ряжского, и «Ходоков у Ленина» Серова, и «О далеких и близких» Неменского, и «Утра на Куликовом поле» Бубнова, и «Приема в комсомол» Григорьева, и многих, многих других. Во всех этих произведениях «все стороны внутренние» изображенных людей обнаруживаются наглядно пластически вполне ясно и определенно. И чем богаче и сочнее раскрывается в картине изображенная личность, тем резче и очевиднее становится ее внутренняя сущность.
 А. Бубнов. Утро на Куликовом поле.
А. Бубнов. Утро на Куликовом поле.
 Б. Неменский. О далеких и близких.
Б. Неменский. О далеких и близких.
V.
Мы уже отмечали, что «правда жизни», в реалистическом искусстве воспроизводимая через типические образы, обладает чрезвычайно важной особенностью: она содержит в себе и суждение, приговор о данном явлении. Объективное познание действительности в искусстве, коль скоро оно действительно правдиво, то есть отражает суть вещей, заключает в себе и суждение об изображаемом, поскольку изображение какого-то явления или человека прекрасным или безобразным (говоря условно, в схеме) есть форма одобрения или отрицания. Здесь мы соприкасаемся с чрезвычайно важным вопросом о революционизирующей роли реалистического искусства. Вспомним очень глубокие замечания о творчестве Бальзака, которые дали в свое время Маркс и Энгельс. По мнению Маркса, Бальзак — художник, «замечательный по глубокому пониманию реальных отношений». Основоположники марксизма высоко ценили творчество великого писателя. Анализируя взгляды Маркса и Энгельса на Бальзака, мы обыкновенно подчеркиваем одну сторону дела: то, что Бальзак был «доктором социальных наук». В самом деле, в произведениях Бальзака противоречия капиталистической действительности раскрывались с необычайной яркостью и глубиной. Глубина раскрытия жизни составляет существеннейшую сторону реализма писателя, и это делает «старика Бальзака» (пользуясь выражением Энгельса) одним из крупнейших мастеров реалистического искусства прошлого. Но Маркс и Энгельс подчеркивали у Бальзака и умение смотреть вперед, умение разглядеть в зародышевом явлении современности то, что окажется развившимся лишь в будущем. Как рассказывает Лафарг, по мнению Маркса, «Бальзак был не только бытописателем своего времени, но также творцом тех прообразов-типов, которые при Людовике-Филиппе находились еще в зародышевом состоянии, а достигли развития уже впоследствии — при Наполеоне III». Здесь речь идет об изображении тех «героев» буржуазного общества, вся отвратительная суть которых стала наглядной лишь при Второй империи, но которых уже сумел различить Бальзак в тридцатых годах. Следовательно, Бальзак глубоко вскрыл типическое для буржуазного общества. Важно, однако, не только это. Будучи легитимистом, сторонником аристократии, Бальзак преследует горькой иронией представителей высшего дворянства. «Единственные люди, о которых он всегда говорит с нескрываемым восхищением, это его самые ярые противники, республиканцы — герои улицы Cloitre Saint Merri, люди, которые в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс. Я считаю одной из величайших побед реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был итти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти», — отмечал Энгельс. Умение видеть, наблюдать для художника-реалиста означает, таким образом, не только умение различать противоречия действительности, вскрывать ее пороки, на чем так охотно настаивала космополитическая критика, но и умение видеть в жизни передовое, видеть «настоящих людей будущего». Другое дело, что нередко у художника с ограниченным или даже консервативным политическим мировоззрением такой показ передовых людей может быть стихийным, неосознанным. Он является в этих случаях действительно результатом победы реалистического художественного метода. Инсаров Тургенева, писателя либеральных взглядов, создан во всем его положительном содержании в меру правдивости творческого метода Тургенева и, если угодно, вопреки его политическим взглядам. Так реализм Бальзака позволил ему не только глубоко и широко раскрыть противоречия капиталистического общества, показать многие глубокие его язвы, но и нащупать историческую тенденцию развития, несмотря на его консервативные, легитимистские позиции. И реалистическое искусство тем богаче, содержательнее и значительнее, чем оно оказывается более способным раскрыть эти исторические тенденции. Суть ленинских характеристик творчества Толстого заключается в подчеркивании именно этого момента. Великий художник, в соответствии с приведенной выше мыслью В. И. Ленина, обязательно отразит в своем творчестве существенные стороны, основные вопросы современной общественной жизни, их ведущую историческую тенденцию. В. И. Ленин говорил о толстовской критике капитализма, подчеркивая, что великий художник гениально умел видеть противоречия буржуазного общества, но Ленин вместе с тем указывал, что Толстой в своем творчестве «отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого...» и что «эта критика действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян». Таким образом, правда жизни, которую отражает в своем творчестве подлинно великий художник, включает в себя момент глубокого проникновения в суть исторических тенденций эпохи, ибо в самом способе раскрытия жизни заложено и определенное о ней суждение. Реализм предполагает раскрытие сущности данной социальной силы, следовательно, умение видеть в жизни передовое, растущее, а также отмирающее и уходящее. Применительно к искусству умение видеть новое в жизни приобретает всю полноту своего развития лишь в искусстве социалистического реализма. Но было бы неправильно отрицать за реализмом прошлого способность различать передовые и отживающие тенденции жизни. Искусство прошлого не может, как правило, показать реальные пути преобразования жизни и достижения свободы и счастья людей в самой реальной действительности; художник-реалист в буржуазном обществе, подобно Л. Толстому, может быть сильнее в критике несправедливостей и пороков общественного строя, чем в пропаганде справедливых форм жизни, которые он представляет чаще всего лишь утопически. Сила утверждения у него — это прежде всего умение видеть значение народа, это сила защиты народных интересов, сила изображения борьбы честных передовых людей против мерзостей угнетения. Противоречие политического мировоззрения и творческого метода, нередкое у художников прошлого, приводит к наличию в их произведениях ряда иллюзий и исторических заблуждений. Но все же глубоко правдивое изображение действительности именно потому, что оно правдиво, включает в себя и изображение новых общественных сил или тенденций, положительных героев современности. Коль скоро реалист видит в окружающей его действительности социальные несправедливости, общественные уродства и т. д.,— а он не может не видеть их в капиталистическом обществе, — он не может стать апологетом самого этого общества и останавливает свою симпатию на представителях народа или на тех, кто восстает против существующего порядка. Бесчисленное множество примеров глубоко положительных образов мы находим у русских художников-реалистов XIX века — в творчестве Крамского, Репина, Сурикова, В. Маковского, Савицкого, Ярошенко и т. д. Таким образом, подлинно реалистическое искусство не просто копирует жизнь; изображая типическое, оно судит о ней, не довольствуясь простой констатацией существующего. Различны формы, в которых реализм прошлого высказывает свой «приговор о явлениях жизни» (Чернышевский), но в основе всякого подлинно реалистического раскрытия жизни лежит правдивое отражение действительности, а стало быть, и правдивое о ней суждение. Если мы возьмем искусство Репина, то важно не ограничиться совершенно правильным указанием на то, что в его живописи раскрывается широкая картина жизни пореформенной России со всеми ее сложными противоречиями. Сила объективного изображения действительности у Репина неподражаема. Но все значение великого русского художника станет нам ясным тогда, когда мы поймем, что в его искусстве раскрывается историческая тенденция развития. «Крестный ход» — не только изображение классового расслоения деревни, но и гневное осуждение разительных контрастов социального неравенства и, что, может быть, самое важное, показ могучей нравственной силы народа, будущего освободителя России от самодержавно-крепостнического строя. Именно реалистическая правдивость Репина позволила ему преодолеть романтический субъективизм народничества и дать в своих картинах о русских революционерах изображение передовых людей своего времени там, где только их можно было тогда увидеть. Само отрицание, критика действительности во всяком большом реалистическом искусстве прошлого не есть голое отрицание, бессодержательный протест. Напротив, реалистическое искусство как раз в меру своей правдивости умеет, как мы видели, различать в жизни ее подлинных героев. Даже в собственно критических изображениях реализм никогда не теряет из виду критерий положительного примера. В «Крестном ходе» Перова нет ни одного положительного героя, а есть лишь люди, задавленные и изуродованные нуждой и темнотой. Но сама сила обличения перовской картины предполагает наличие положительного идеала (в данном случае идеала демократа-просветителя), с позиций которого осуждается данное явление. Надо ли говорить о тех произведениях, где прямо показан положительный герой эпохи, — о портретах передовых деятелей России у Крамского, Перова, Репина, об их образах крестьян и представителей революционной интеллигенции. В. Перов. Сельский крестный ход на Пасхе.
В. Перов. Сельский крестный ход на Пасхе.
Во всяком случае, именно в раскрытии исторической тенденции развития и критике социальных пороков, в конечном счете, с позиций прогресса, в показе борцов за лучшее будущее — огромная сила всякого реалистического творчества в условиях антагонистических классовых обществ. Протест против социального зла может выступить в искусстве в объективно художественной форме — в драме Шекспира, в романе Бальзака и Толстого, в живописи Репина или Сурикова. Во всех этих случаях в непосредственном изображении общественной жизни, социальных конфликтов, борьбы нового со старым более или менее полно раскрывается революционизирующая сила реализма. Но эти же тенденции реалистического метода могут выразиться и в более сложных, более скрытых формах — не в виде непосредственного изображения исторической жизни общества, а в форме субъективного (но не субъективистического) истолкования действительности — в лирической поэзии, иногда в живописи или в скульптуре. Так, мифологические сюжеты Серова, в частности его «Одиссей и Навзикая», не являются прямым изображением современной ему русской действительности. Они подобны лирическим стихам в поэзии. И все же вся противоположность между реалистом Серовым и реакционерами-стилизаторами «Мира искусства» обнаруживается здесь совершенно отчетливо. Бакст вынес из своей поездки в Грецию философию «древнего ужаса», крушения и гибели культуры, тем самым недвусмысленно выразив свое отношение к революционным событиям; Серов же увидел в древней легенде сказание о скитаниях усталого человека, ищущего страну, в которой нет зла и насилия. Конечно, перед нами интеллигентски узкое восприятие событий, но и в нем угадывается реалист.
 В. Серов. Одиссей и Навзикая.
В. Серов. Одиссей и Навзикая.
Итак, всякое реалистическое искусство, правдиво отражая жизнь, обладает революционизирующей сознание силой. Находя и показывая типическое, оно выносит приговор о жизни, наглядно показывая, что в жизни является злом и что добром, или, иными словами, что безобразно, а что прекрасно. Вот почему, как указывалось выше, неотъемлемой особенностью реализма является его тенденциозность. Всякий большой реализм прошлого включает в себя тенденциозность, причем эту тенденциозность не следует понимать просто как горячую заинтересованность художника в прокламировании, утверждении своих идеалов, — это было бы слишком примитивное понимание вопроса. Всякий крупный художник с большей или меньшей страстностью утверждает свои взгляды, но не в этом заключается идейность реалистического произведения. Тенденциозность реализма заключена в раскрытии сущности исторических тенденций развития, в том, что он наглядно обнаруживает внутренний смысл каждого явления. Эта тенденциозность может выражаться в создании образцовых, идеальных образов, как в античной пластике, в торжествующе ярком утверждении жизни и права на наслаждение, как в искусстве Возрождения, она может выразиться в решительной и последовательной критике существующего общественного уклада и прославлении борцов за демократическое переустройство жизни, как в искусстве XIX век. Но во всех случаях правдивость художника, его способность глубоко видеть мир позволяют ему обнаруживать с большей или меньшей полнотой сущность данного социального явления. Это — историческая мудрость, которой обладает реалистическое искусство, способное в той или иной мере выполнить свою историческую миссию — революционизировать сознание людей. Вот почему проблема типического, как указывал Г. М. Маленков, есть всегда проблема политическая. Толстой мечтал, чтобы искусство стало учителем жизни, чтобы оно указывало пути движения вперед. Эту роль способно выполнить только реалистическое искусство, искусство, раскрывающее типические характеры в типических обстоятельствах. Правда, эта сторона реалистического метода могла реализоваться в прошлом лишь противоречиво. Толстой как раз в своем морализировании очень далек от реализма и дает глубоко реакционную программу, но он учит правильно разбираться в жизни тогда, когда срывает все и всяческие маски, когда со всей мощью своего реалистического гения обнажает противоречия социального строя и воплощает в своем творчестве созревающий в массах крестьянства гневный протест. Нередко, особенно в условиях буржуазного общества, революционная сторона реализма, его боевая тенденциозность выражается с помощью смелой, прямой критики капиталистического строя. Но напрасно было бы думать, что в этой форме реализма его сила заключается в беспристрастной объективности, позволяющей мастеру «без гнева и со вниманием» просто показывать то, что существует. Уже из изложенного выше ясно, что умение найти и показать типическое в каждом явлении само несет с собой партийное суждение об этом явлении. Показ истинной сущности буржуазного строя сам по себе является его осуждением, объективно ведущим художника на путь борьбы с ним, разоблачения его внутренних пороков, противопоставления «героям» капиталистической наживы подлинно народных героев, борцов за человеческое достоинство, за свободу и счастье людей. Реализм по существу своему — революционный метод искусства, и недаром буржуазия, как только она пришла к господству, бросила знамя реализма и борется с ним по сей день. Так мы вплотную подходим к важнейшему вопросу о социальном значении реализма. Если мы для примера возьмем историю русского искусства XIX века, то найдем здесь рядом с убежденными художниками-демократами таких мастеров, которые, будучи реалистами, в своих политических взглядах были достаточно далеки от демократизма, тем более от демократизма революционного. И все же эти художники были большими реалистами. Вспомним хотя бы Гончарова и Тургенева в области литературы. Вспомним, что в шестидесятых годах борьбу за реализм вели не только такие идеологически передовые художники, как Перов, но и такие умеренные люди, как Якоби. Можно ли сделать отсюда вывод о том, что реалистическое искусство в России середины прошлого века было разным по своей глубине и качеству, что был, допустим, «революционно-демократический реализм» Н. Успенского и «либеральный реализм» Тургенева? Такая схематизация на деле приводит к вульгарно-социологическому извращению историко-художественного процесса. Конечно, демократические идеи получали свое наиболее отчетливое выражение в творчестве тех художников, которые были политическими сторонниками революционно-демократических методов борьбы. Но сложность решения вопроса от этого не меняется. Думается, уяснить эту проблему можно, задавшись вопросом о том, какую роль в идейной жизни и борьбе той эпохи играло реалистическое по своему методу искусство? Кому было оно «выгодно», каким социальным силам помогало? Революционизирующая сила реализма ясно обнаруживается как раз в этом пункте. Критико-публицистическая деятельность Чернышевского и Добролюбова была направлена всегда на то, чтобы осветить значение любого разбираемого художественного произведения для демократического движения. И они блестяще умели показать, что самое реалистическое изображение жизни, нередко вопреки политическим взглядам художника, именно потому, что художник-реалист умел обнажить сущность данного социального явления, способствует пробуждению народного сознания, помогает освободительной борьбе. Так, Островский не был, конечно, человеком «партии Чернышевского», но Добролюбов в своих гениальных статьях показал, для какой общественной силы в России был выгоден беспощадный показ «темного царства». В этом плане можно сказать, что по самой своей глубокой сущности, по исторической тенденции реализм в России XIX века носил демократический характер. Он был демократическим потому, что правдивое отражение жизни было выгодно в первую очередь делу демократии, потому, что реалистическое искусство «работало» на демократическое освободительное движение, ему помогало, воспитывало людей в надлежащем направлении. В этом плане можно объяснить прогрессивный характер творчества того или иного художника, субъективно стоявшего на консервативных идейных позициях. Если эти позиции не подрывали основ реалистического метода, то сам этот метод, помимо, быть может, воли художника, получал значение революционного, демократического метода воспроизведения и оценки жизни. В. Васнецов, как известно, не отличался во второй половине жизни передовыми общественно-политическими взглядами. Именно поэтому в его творчестве мы не найдем, например, прославления революционера, как у Репина, но поскольку реалист Васнецов смог создать «Трех богатырей», поэму о силе и мощи народа, его картина служила и продолжает служить делу народа. Иными словами, самое реалистическое изображение несет в себе (ибо оно правдиво и в меру этой правдивости) передовую тенденциозность. Таким образом, можно было бы сказать, что реализм в искусстве всегда способствует прогрессу, является в тенденции демократическим, народным. Недаром подлинно реалистическое искусство всегда просто и доступно, понятно самым широким массам. Самая художественная форма в реалистическом произведении демократична. Так, в самой сущности реализма как метода, в его содержании и в его форме заложена его близость интересам народа, делу прогресса. Именно поэтому тенденциозность реалистического воспроизведения действительности никогда не бывает навязанной ему извне, она коренится в правде жизни, причем само раскрытие этой правды, то есть смысла вещей, заключает и справедливый о ней приговор. Тенденция в реалистическом произведении заключена в самой его ткани, в типическом образе, и как таковая она является действенной стороной объективного показа действительности в ее исторической перспективе, в исторической тенденции ее прогрессивного развития.
VI.
Но здесь мы соприкасаемся с очень любопытным и очень важным кругом явлений реалистического искусства. Для раскрытия сущности данного социального явления реалист вправе прибегать к преувеличению, заострению образа. Это — один из важнейших и интереснейших аспектов теории реалистического искусства. Мы знаем практически, из истории искусств, как часто корифеи реализма нарушали внешнее соответствие облика явления в произведении его «натуральному виду» во имя более наглядного, яркого выражения его сущности. Реалистическое искусство всегда пользуется различными формами преувеличения, заострения образа, ибо эти приемы помогают выявлять сущность данного социально-исторического явления. При этом следует отметить, что исторически сложились самые разнообразные и сложные виды художественного преувеличения, к сожалению, еще далеко недостаточно нами изученные. Попытаемся проанализировать эту проблему на одной из самых «крайних» форм реалистического преувеличения образа — на гротеске. Гротеск не является наиболее широко распространенной формой заострения образа в реалистическом искусстве, некоторые ошибочно даже считают гротеск приемом, чуждым реализму. Между тем реалистическое искусство во многих случаях прибегает к различным формам фантастики и гротеска, как средству преувеличения, заострения образа, в целях наиболее полного выявления его типичности. Мы встречаем его уже среди рисунков Леонардо да Винчи, он составляет существеннейшую сторону искусства Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Гойи и Домье. Немалое место занимает гротеск в работах советских мастеров сатиры. Вопрос о гротеске — один из важных вопросов развития реалистического искусства, так как с проблемой гротеска связаны многие и многие попытки буржуазного искусствоведения разделаться с реализмом. Именно в наличии гротеска реакционная критика хочет видеть аргумент против реалистичности того или иного художника. Искусству Брейгеля часто из-за его гротесковости отказывают в реализме, в гротеске Домье видят не особенность его реализма, а «непреодоленные» остатки романтизма. То же говорят и о гротеске у Федотова и Перова. Между тем, появление гротеска само по себе совсем не означает отхода от реализма, если это гротеск реалистический и направлен не на уродование действительности, не есть результат субъективного формалистического произвола. В истории искусства реалистический гротеск является одним из существенных способов раскрытия сущности, разоблачения определенных сторон социальной действительности. В искусстве гротеска деформируется внешне чувственный облик тех или иных вещей или явлений. Если это гротеск реалистический, такая деформация осуществляется в целях наиболее наглядного обнаруживания скрытой сущности уродливого в самой жизни. Гротеск должен сделать безобразное, безнравственное, преступное, социально уродливое доступным непосредственному чувственному наблюдению в соответствии с общими принципами искусства. Гротескны изображения Гойи — все эти уродливые чудовища, в которых великий реалист с помощью образов фантазии представил нам зловещую нелепость средневековых социальных сил, терзавших Испанию. Для Гойи гротескность его образов — способ наглядно, чувственно изобразить уродливую суть обветшалого старого уклада жизни в самых разных его проявлениях. Но в любом классовом обществе с его антагонизмами, с его основным пороком — существованием эксплуатации человека человеком — самое социальное устройство, выражаясь в эстетических понятиях, «гротескно», то есть дает картины неизбежно возникающего уродства. Поэтому гротеск оказывается закономерной формой изображения различных сторон действительности в реалистическом искусстве на ряде этапов исторического развития, когда особенно остро и наглядно обнаруживаются мучительные общественные противоречия. Поэтому в истории реализма гротеск не может не оказаться неизбежной и притом очень важной формой правдивого изображения действительности. Он существует не только как просто преувеличение. Гротеск — не парадокс, как утверждали некоторые буржуазные эстетики, в частности Бергсон, не выражение субъективного произвола человеческого «я», играющего с действительностью. Нет, реалистический гротеск никогда не является произволом. Он лишен всякого элемента субъективизма в смысле нежелания художника считаться с действительностью. Наоборот, это — попытка художественного осмысления того реально, закономерно существующего в мире безобразия, с которым художнику приходится сталкиваться. И в определенные эпохи истории искусства гротеск приобретает особенно острый характер. Вспомним искусство XVI и XVII веков, когда распадалась, по словам Шекспира, связь времен, когда рушилось старое феодальное общество и в муках складывались новые буржуазные отношения. Именно в это время гротеск становится одним из самых сильных оружий реалистического искусства. Достаточно назвать Рабле и Сервантеса в литературе или же Калло в изобразительном искусстве. Художники этого времени часто не разоблачали непосредственно язвы действительности, как мастера XIX века, но горькая насмешка, остроумное осмеяние, изображение причудливого, нелепого были для них средством выносить свой приговор о явлениях жизни. Гротеск является не только формой изображения, но и формой осуждения действительности. Недаром искусство этого периода пестрит образами героев, сражающихся с ветряными мельницами, людьми, превратившимися в марионеток, рубищами, похожими на парчу, и парчой, похожей на лохмотья. Все это были средства художественно изобразить и осудить уклад жизни, несущий людям новые беды и скорби. Но в искусстве гротеска возникает очень важное противоречие — противоречие между тем, что непосредственно существует в чувственно воспринимаемой действительности, и художественным отражением этой действительности. Способ гротескового изображения — «этого не может быть!» В действительности никогда не существовало и не могло существовать таких физически уродливых лиц, какие порой изображает Домье, но их гротесковая уродливость — точно найденная форма выражения их внутреннего, духовного безобразия. Однако гротесковые образы, которые появляются в искусстве прошлого и сопровождают развитие реалистического искусства на всем пути его эволюции, скрывают в себе какое-то внутреннее противоречие. Они на самом деле не существуют в реальном мире, тем самым они — плод фантазии, но вместе с тем обладают «реальностью», убеждают, как квинтэссенция реальной действительности, как очень концентрированное изображение того, что составляет сущность явлений. Искусство изображает скрытую связь вещей, внутреннее содержание явлений, делая их наглядно, чувственно воспринимаемыми. С этой точки зрения гротеск и есть способ внешнепластического выражения таких социальных пороков, таких общественных язв, которые в действительности не имеют непосредственно наблюдаемого чувственного обличия. Так, в фантастических образах Салтыкова-Щедрина — в его градоначальниках с фаршированными головами и органчиком вместо мозга — заложена глубокая реалистическая правда, требующая, однако, по самой своей сути изображения в виде дикой и одновременно смешной нелепости. И именно изображение какого-либо явления по принципу гротеска — «этого не может быть» — всегда звучит гневной силой обличения — «этого не должно быть!» Здесь нужно обратить внимание еще на одно обстоятельство. Противоречия социальной действительности приобретают в разное время разные внешние формы, и искусство эти разные формы может изображать правдиво только разными приемами. Если взять XVI—XVII века, то там перед нами в качестве основной фигуры новой эпохи, вступающей в борьбу со старым и идущей победоносным пока шествием, оказывается «рыцарь первоначального накопления». Это — конквистадор, человек, который едет куда-нибудь в Америку или Ост-Индию, чтобы разбогатеть торговлей и разбоем, или, вернее, торговлей-разбоем, который не верит «ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай», человек сильный и энергичный. Это — по-своему яркая и определенная фигура, лишенная каких-либо моральных устоев. Ее отвратительная хищническая сущность очень чувственно, художественно наглядно, прямо и резко бросается в глаза. Этот образ чрезвычайно отчетлив и пластически выразителен, и мы видим его в искусстве того времени. Он глядит на нас с портретов Гольбейна и Антониса Мора. Искусству той эпохи сравнительно легко было наглядно воспроизвести суть этого «героя своего времени». Но если мы возьмем эпоху развитого капиталистического общества XIX века, то увидим, что «тайна прибавочной стоимости» здесь скрыта от глаз непосредственного наблюдателя. Здесь господствует не конквистадор. Капитализм стал «нормальным» порядком вещей, «герой» жизни — человек совершенно иного склада, иного характера и иного положения в жизни. Он не носится по бурным волнам на вооруженном корвете, чтобы добыть себе золота, арена его деятельности — биржа; он не устраняет соперника ядом или кинжалом, его яд — конкуренция, он не охотится за невольниками у «Золотого берега», невольники сами идут к нему на фабрику, подгоняемые нуждой. И если еще Бальзак пытался в какой-то мере показать хищничество капиталистического мира в своем образе Вотрена, в последнем осколке конквистадоров прошлого, то тот же Бальзак показал победу не калейдоскопически пестрого мира Вотренов, а внешне благопристойного «порядка» Гобсеков и Нюсинженов. Сущность капиталистической эксплуатации, присвоение прибавочной стоимости, не может быть наблюдаема непосредственно чувственно, особенно в каком-нибудь зрительном образе. Можно уловить лишь условия, в которых оно происходит, его результаты, но недаром Маркс назвал «тайной» способ, при помощи которого капиталист присваивает себе плоды труда рабочего. Механика капиталистической эксплуатации, присвоение прибавочного продукта, скрыта от глаз где-то в тайниках бухгалтерии. Поэтому здесь основное противоречие общества непосредственно, наглядно, чувственно невыразимо, и оно неизбежно требует гротескной формы своего выражения, по крайней мере в изобразительном искусстве. Вспомним карикатуры Моора и Дени. Уже отсюда ясна неизбежная необходимость для реалистического метода самого широкого использования творческой фантазии. Но дело не только в том, что художник-реалист может и должен дать волю своей фантазии в целях последовательного заострения образа. Речь идет не только о фантазии, как необходимом условии художественного творчества, а о «фантастике», так сказать, объективно присущей самой действительности. Вспомним, что говорит Маркс о товарном фетишизме: «Формы дерева изменяются, напр., когда из него делают стол. И, тем не менее, стол остается деревом — обыденной, чувственно воспринимаемой вещью. Но как только он делается товаром, он превращается в чувственно-сверхчувственную вещь. Он не только стоит на земле всеми своими четырьмя ножками, но становится пред лицом всех других товаров на голову, и эта его деревянная башка порождает причуды, в которых гораздо более удивительного, чем если бы стол пустился по собственному почину танцовать». Поучительно, что когда Маркс образно характеризует товарный фетишизм и его тайну, он прибегает, в сущности, к гротесковому художественному образу. Важно при этом подчеркнуть, что в реалистическом гротеске всегда сохраняется соответствие чувственного облика изображения внутренней сущности предмета. Романтики, символисты и т. д. также прибегали к гротеску, но это был гротеск страха. Несоответствие сущности и чувственно воспринимаемого облика явления здесь имеет своим источником попытку художника обнаружить якобы существующие «в вещах» таинственные силы. Такой гротеск не помогает раскрытию правды, он ее затемняет. Подобный гротеск мы находим, например, у Ропса или Мунха. Для реалиста гротесковое уродство изображаемых им людей и явлений есть способ обличения, способ обнажения сущности. Для художника-реалиста тут нет никакой мистики, которую стараются сыскать в любом гротеске буржуазно-реакционные искусствоведы. На самом деле речь идет о самых реальных вещах. Так, например, извращающая сила денег, способная в буржуазном обществе поставить на голову все представления, отражается в искусстве часто в фантастических образах. То, что не может получить своего непосредственно пластического выражения, неизбежно приобретает вид фантастического образа. Подлость, продажность, корыстолюбие, коварство представителей буржуазии может нередко скрываться под весьма благообразной внешней оболочкой. Именно поэтому Домье прибегает к фантастической утрировке физиономий в своем «Законодательном чреве». О. Домье. Законодательное чрево.
О. Домье. Законодательное чрево.
В том-то и дело, что действительность бывает настолько противоречива, настолько сложна и исполнена антагонизмов, что реалистический художественный образ, возникающий как объективная, правдивая форма осознания этой действительности, в определенных условиях требует фантастического гротескового способа выражения. Не надо только при этом забывать, что в peaлистическом гротеске всегда самое главное — осуждение. Недаром против этого гротеска настойчиво борется буржуазный натурализм, маскирующийся тем, что он якобы защищает «естественность». В этом смысле натурализм и исходит из понимания типического как арифметического среднего. Натуралисту кажется, что если он изобразит людей, которые похожи сразу на очень многих, то это и будет тип. Но такое представление неверно. Здесь исчезает главное — глубокое раскрытие сущности, которое невозможно без отказа от неопределенной серости «среднего». То что мы выше показали на примере гротеска, наиболее резкой формы художественного преувеличения, может быть показано и на гораздо более широком круге явлений, ибо для реалистического искусства преувеличение, заострение образа составляет одно из самых важных средств выявления сущности. Так, например, положительный герой в реалистическом искусстве обладает всей силой выразительности, позволяющей ему являться предметом подражания. Для этого также необходимо последовательное выявление их яркости, оригинальности, силы характера с помощью преувеличения, заострения образа. Но это относится не только к положительным, но и к отрицательным персонажам, которые будут вполне выражать свою сущность лишь в том случае, если окажутся отчетливо своеобразными, характерно индивидуальными, как Чичиков у Гоголя (и, добавим, у Агина), как Иудушка Головлев у Щедрина, как федотовский майор или репинский протодьякон. Под рукой настоящего художника даже мелкий человек вырастает в «перл создания», будто взятый под лупу и освещенный до конца отчетливым светом художественного преувеличения. Ошибочно считать, что мелкий человек должен быть изображен мелко, а серая будничность ситуации требует такой же серости в художественном воспроизведении. Лучшим опровержением этого мнимого, натуралистического правила служат чеховские рассказы, где с гениальной прозорливостью в малом, обыденном показана глубочайшая сущность жизни, людских отношений, человеческих мечтаний и страстей. В чем спасение от этой скучной серости? Уж, конечно, не во внешней, напыщенной риторике развевающихся флагов, нарочито театральных жестов, псевдовыразительных фигур. Аффектацией не прикрыть бедности наблюдения, мысли и показа жизни и людей. Художественное преувеличение, заострение — неотъемлемое качество реалистического искусства, важный способ раскрытия типического, но думается, что это заострение равно враждебно и безразличной констатации неинтересных событий, совершающихся с недалекими, скучными людьми, и шумливой напыщенности наигранной романтики. Вопрос о преувеличении, заострении образа требует специальной разработки применительно к изобразительному искусству. Мы вынуждены поэтому ограничиться лишь предварительными замечаниями. Но эти замечания необходимо сделать ввиду важности самой проблемы. Заострение, преувеличение образа — неразрывно с задачей раскрытия типического. Это один из способов его художественного воссоздания. В реальном течении жизни сущность явления нередко очень неярко выражается в каком-либо отдельно взятом индивидуальном факте. Иногда бывают необходимы особые условия, чтобы «вызвать к жизни» дремлющие в явлении коренные качества. Характер человека выражается по-настоящему в минуты серьезных испытаний, важных решений, больших дел, требующих от действующего полной отдачи всех душевных сил. При этом не надо, разумеется, понимать это так, что личность обнаруживает себя лишь в героические моменты жизни. Человек можетжить всей полнотой своей сущности и при вполне «нормальных», обыденных обстоятельствах. Задача художника и заключается в том, чтобы, прорываясь через внешнюю скорлупу обыденности, силой наблюдения и обобщения выявить в явлении сущность, найти или творчески создать такой момент, такие обстоятельства и прежде всего такой характер, которые наиболее отчетливо и сильно выразят смысл происходящего. Здесь-то и необходимы преувеличение и заострение. Любая грань или сторона жизни, быть может, малоприметная среди многообразия и пестроты явлений, если она резко выражает сущность, может быть извлечена художником, усилена, что называется, вытащена на свет божий. Наоборот, все, что не помогает зрителю наблюдать суть явлений, может отойти на задний план, ибо оно только обволакивает сущность. Реалистическое преувеличение, заострение типического образа сосредоточено вокруг задачи как можно ярче, богаче, жизненно убедительнее обнаружить перед зрителем внутреннюю сущность изображаемого. Поэтому все «красноречивые» моменты самой жизни здесь неразрывны с содержанием, и любая деталь убедительна в ту меру, в какую она несет в себе это содержание. С этой точки зрения все элементы формы в искусстве, например в живописи — пространственное решение, цвет, пластика, ритм и т. д., — отнюдь не условные приемы «художественной выразительности», «знаки», отвечающие определенным мыслям и чувствам, а средства, с помощью которых живописец только и может сделать типическое, сущность вещей наблюдаемой непосредственно, то есть наглядной, потому что это — качества самой действительности, без которых немыслимо ее конкретное бытие, ее реальная плоть. Воспроизведение этих качеств, сторон действительности есть одно из условий создания образа, в котором до конца понятны и выразительны ситуация и характер. Так, мы еще раз убеждаемся в неразрывной связи идейности и мастерства, в их единстве. Создание типического образа, то есть образа, с наибольшей полнотой выражающего суть явления, идею и потому опирающегося на наиболее сильное и полноценное раскрытие неповторимой яркости данного человека, данного события, данных обстоятельств, требует органического слияния общего и единичного, идеи и формы. Типический образ — познанная художником действительность. Но познанное выступает в нем как предмет непосредственного наблюдения, поэтому сущность в образе выражается через единичные явления, доступные непосредственному опыту. Однако художник не просто переносит в образ свои чувственные восприятия, впечатления, не просто копирует действительность, он выявляет сущность и для того преувеличивает, заостряет, усиливает или ослабляет и т. д. В результате художественное изображение не есть имитация самой натуры, жизни. «Плоть вещей» в действительности и «плоть вещей» в искусстве существенно различны. В первом случае явления эти существуют сами по себе и могут лишь стать предметом познания со стороны человека. В плоти художественного образа — не только наблюдаемая действительность, не только кусок живой жизни, но в нем, в этом куске жизни, — человеческая мысль, суждение, приговор. То, что реалистический художественный образ включает в себя приговор об изображаемых явлениях жизни, — его неотъемлемое внутреннее качество. На это важнейшее обстоятельство мы уже выше указывали. Сейчас необходимо это еще раз подчеркнуть, обратив внимание на то, что художественное преувеличение, заострение и есть способ вынесения такого приговора. Федотовский аристократ мог бы производить (и желал производить всеми силами) вполне благопристойное впечатление. Но, заостряя ситуацию, показывая кусочек черного хлеба на изысканном столике красного дерева, «вспугивая», как охотник дичь, своего героя в момент, когда он ни перед кем не ломает комедии, Федотов сразу обнажает натуру недалекого, мелкого человечишки, и он, показанный полно и ясно, становится для нас смешон и противен.
 П. Федотов. Завтрак аристократа.
П. Федотов. Завтрак аристократа.
Но замечательно то, что негативный образ должен тоже быть прекрасным, как художественное произведение. Так, прекрасны изображения Хлестакова или протодьякона, хотя и тот и другой показаны художниками как безобразные в жизни люди. Это и есть то, что Гоголь называл возведением любой шельмы в перл творения. Заостряя образ, преувеличивая его внешнюю выразительность, художник беспощадно обнажает истинную сущность фальшивого человека, нередко скрытую под внешне благопристойной маской. Особое значение имеет тот факт, что есть важное различие в формах раскрытия сущности положительного и отрицательного персонажа. Положительный герой и в жизни не нуждается в том, чтобы выглядеть не таким, каким он является на самом деле, и потому здесь задача художника — заострение тех черт образа, которые в его внешнем облике наиболее полно соответствуют внутреннему. Отрицательный персонаж в действительности нередко вынужден надеть на себя нравственную маску. «Милейший» Павел Иванович Чичиков должен стараться быть для всех именно таким. Поэтому здесь задача реалистического преувеличения в том, чтобы срывать эти нравственные маски, разоблачать смехом, сатирой, гневным обличением. В реалистическом изображении скрытая подлость не может спрятаться от взоров людей, преступность показана всему миру. Так художественное изображение становится победой над злом. Правдивым изображением фальшивого человека мы эстетически наслаждаемся, ибо такое изображение таит в себе торжество справедливости, более того, это есть акт возмездия, художественный способ беспощадного преследования порока. Именно потому и прекрасен подлинно реалистический отрицательный образ. Итак, заострение, преувеличение образа — способ художника выносить приговор о тех существенных явлениях жизни, которые он правдиво изображает. В реалистическом художественном образе сливаются воедино отражение жизни и приговор над ней, в нем заключено одновременно и правдивое изображение необходимо совершающихся процессов действительности и утверждение нового как желательного, то есть для искусства как прекрасного, и беспощадное преследование порока и уродства, которые не могут укрыться от бича реалистического преувеличения и выступают в произведении во всей своей неприглядной уродливости. Таким образом, мы вплотную подходим к проблеме воспитательной роли реалистического искусства. Художник-реалист, показывая, что в мире прекрасно и что безобразно, с помощью заострения и преувеличения ориентирует людей в действительности, воспитывает сознание, зовет и направляет в борьбе. В нашу эпоху искусство, как могучее орудие коммунистического воспитания, успешно выполняет свои огромные задачи, если оно умеет с высоким мастерством, вернее, благодаря высокому мастерству, показать сущность жизни, сущность происходящих в ней процессов, борьбу нового со старым. Именно поэтому вопрос о типическом приобретает политический характер. Художник-реалист становится активным борцом за новое в жизни, участником передовых социальных и политических движений своей эпохи благодаря своему творчеству, которое, революционизируя сознание людей, способствует прогрессу. Хочет того сам реалист или не хочет, его искусство служит боевым оружием в руках прогрессивных социальных сил. Созданные им типические образы освещают людям жизнь, помогают им разбираться в ней, действовать и бороться. В этом — решительная противоположность между реализмом и натурализмом, который склонен нередко маскироваться под реализм.
VII.
Натурализм — термин, по поводу которого существует очень много путаницы. Часто считают, что если в картине все написано так, что видна каждая самая мелкая деталь, — это «натуралистическая выписанность»; если же все детали не видны, живопись обобщена, — это реализм. Иными словами, под натурализмом у нас иногда понимают то, что в изящной форме критической рецензии выражается словами: излишняя детализация. Но вдумаемся, что это означает. С какой точки зрения излишняя? И где грань, за которой появляются «лишние» детали? Нам кажется, что такой критерий натурализма крайне поверхностен. Ведь, если детализация есть признак натурализма, то, пожалуй, мы рискуем очень многие, весьма значительные явления искусства прошлого зачислить без обиняков в разряд натурализма. Возьмем, например, живопись Федотова или Перова. Вульгарные социологи зачисляли в натуралисты этих мастеров именно потому, что в их картинах находили излишние якобы детали, мелочную выписанность. Получалось, что Репин — реалист, поскольку он пишет широкой кистью, а Перов — натуралист, так как его вещи, особенно ранние, тщательно выписаны. По этой схеме получалось и еще хуже. Считали, что коль скоро у Федотова множество любовно написанных предметов, он натуралист, а Клод Моне, в произведениях которого часто совсем пропадают детали, более того, всякая определенность формы, якобы самый подлинный реалист. Здесь все становится на голову и приводит к вопиющим нелепицам. Следует подчеркнуть, что натурализм определяется не каким-либо техническим или формальным приемом. Произведения натуралистов могут быть написаны и в скрупулезно детальной и в широкой манере, как это, например, имело место у ранних французских импрессионистов. Нам необходимо в своем определении исходить не из совокупности формальных элементов, а из анализа отношения натуралистического искусства к действительности. Как законченная художественная система натурализм есть плоть от плоти и кость от кости буржуазного мира, и основное свойство натурализма мы должны искать совсем не в «излишней детализации». Натурализм — это есть прежде всего прозаически плоское восприятие действительности. Он означает «раболепие перед фактом», апологию умеренности и аккуратности, самодовольство, враждебное революционным преобразованиям. Он не идет дальше констатации существующего и не смеет ни прославлять, ни осуждать никаких явлений жизни. Покорность в отношении фактов скрывает за собой нежелание и неумение войти в глубь вещей, выдаваемое за нежелание «фантазировать», за стремление держаться «реальности». В этом смысле натурализм в искусстве есть то же самое, что реакционно-буржуазный позитивизм в истории философии. Натурализм утверждает, что вообще в мире нет ничего значительного, ничего великого, что все состоит из пустяков и мелочей повседневности. Поэтому в живописи натурализм нередко прибегает к выписыванию деталей, то есть к погоне за мелочами, но эта погоня за мелочами не суть, а один из очень часто встречающихся приемов натурализма. Самая суть натурализма — в его идейно-эстетическом консерватизме, в его отказе бороться за новое против старого, в его «приятии» всех и всяческих форм жизни. Трусливость и филистерство немецкой мелкой буржуазии тридцатых-сороковых годов прошлого века привели к тому, что первоначальные попытки критики действительности у художников так называемого «бидермейера» в ряде случаев превращались в мещански натуралистическую апологию существующего. Исходя из утверждения «достоверности» непосредственного наблюдения, натурализм ищет не глубокого раскрытия жизни со всеми ее противоречиями, не прощупывания исторической тенденции развития, а только лишь поверхностной фиксации чувственно воспринимаемых явлений. Отсюда вывод о равнозначности существующего, равном праве на существование любого явления жизни. Таким образом, в основе натурализма лежит неспособность раскрыть сущность явлений, так сказать, ползучий эмпиризм. Именно поэтому он не борется и не критикует и способен лишь к плоскому утверждению тривиальных «истин», вроде того, что стол есть стол, дерево — дерево и т. д. На деле натурализм представляет собой апологию буржуазной действительности, в которой он видит «естественное» и «закономерное» явление. Исходя из этого, легко понять противоположность реализма и натурализма. Первый всегда идет к критике буржуазного общества, второй исходит из утверждения незыблемости, неизменности всех форм жизни, а стало быть, и капиталистического порядка. Смысл натурализма заключается, в конечном счете, в защите буржуазного строя. И в этом раскрывается социальная основа буржуазного натурализма. Неприязнь, которую Энгельс испытывал к Золя, несмотря на его социалистические тенденции, можно полагать, объясняется тем, что этот крупный писатель хотел изображать жизнь как естественно-исторический процесс, в котором гнев рабочего против угнетения существует так же, как любое другое явление в природе и обществе. Золя мог изображать революционные настроения, но не историческую необходимость революционного переворота. В этом именно смысле гиганты критического реализма с внутренней революционизирующей силой их искусства далеко превосходят «всех Золя прошлого, настоящего и будущего», как выражался Энгельс. Натурализм уходит от раскрытия противоречий жизни, от раскрытия исторически необходимых тенденций развития, ограничиваясь тривиальной констатацией «фактов», изображением неизменного мира, у которого нет будущего. И с этой точки зрения натурализм исключает и всякую фантастику и гротеск, как и все другие формы реалистического преувеличения, заострения образа. Отсюда последний момент, который необходимо затронуть в связи с раскрытием сущности реализма, — взаимоотношение между реалистическим изображением социальной действительности и тем, что мы можем назвать мечтой в искусстве и что часто именуется романтикой или романтизмом. Возьмем пока взаимоотношение этих понятий только в прошлом искусстве, оставляя для будущего рассмотрения взаимоотношения реализма и романтики в искусстве социалистического реализма. Подчеркнем сейчас только то, что искусство социалистического реализма представляет собой новый этап во взаимоотношениях между поэзией и правдой, реальным и идеальным, этап, определяемый прежде всего совершенно новыми социальными отношениями, которые сложились в социалистическом обществе и которые впервые в истории ликвидировали окончательно противоположность мечты и реальности. Если же мы возьмем искусство прошлого, то постоянно будем наблюдать некое противоречие между реалистическим изображением действительности и романтической мечтой. Это не следует понимать так, что реализм и романтика в прошлом всегда существовали раздельно, исключали друг друга. Напротив, часто многие крупнейшие явления искусства прошлого представляли собой как бы некое слияние романтики и реализма. Достаточно вспомнить хотя бы Бальзака или Рембрандта. В творчестве последнего самая трезвая, суровая проза жизни сочетается с мечтательной поэзией, и это сочетание составляет значительную долю обаяния его «Данаи» или «Блудного сына». Но в творчестве каждого «романтика-реалиста» прошлого мы всегда очень легко установим внутренний конфликт: с одной стороны, все большее и большее углубление в противоречия действительности, все более вдумчивый ее анализ, раскрытие ее внутренних пороков и, с другой — стремление противопоставить горестной стороне жизни истинную поэзию. Совершенно естественно, что без противоречий, без мучительного, глубокого внутреннего конфликта сочетание романтики и реализма в искусстве прошлого не могло иметь места. Поэтому «романтики-реалисты» в искусстве прошлого являются художниками наиболее противоречивыми, наиболее сложными, творчество которых исполнено конфликтов. Рембрандт. Даная.
Рембрандт. Даная.
Романтика в искусстве прошлого сама по себе может быть двояка. Об этом подробно говорить не будем. Мы различаем реакционную романтику и романтику революционную. Но сюда надо внести один акцент, который очень важен для уяснения эстетической сути проблемы. В чем вообще заключается сущность романтизма в искусстве прошлого? Романтика исходит из неприятия современной действительности, поскольку эта последняя не удовлетворяет ее своими противоречиями. Говоря о романтизме XIX века, мы можем заметить общность исходного пункта романтизма и реализма: критическое отношение к буржуазному обществу. Но для романтизма характерна не столько трезвая и прямая критика действительности, сколько субъективный протест против нее, уход от нее. Так, Делакруа, создав свою замечательную «Свободу на баррикадах», шедевр реалистического искусства, впоследствии все более уходил в мир средневековья с его яркими страстями и энергично очерченными характерами или на Восток с его неразрушенной буржуазной цивилизацией поэтической патриархальностью. Однако, отрицая современную действительность за ее уродство, романтика может делать из этого разные выводы. Куда обращать полет своей мечты — таков основной вопрос, ответ на который делит романтику на реакционную и революционную. Идеалы реакционной романтики всегда лежат позади, реакционная романтика — это романтика «золотого века», она ищет где-то в прошлом идеальное состояние человека, такое состояние, которого она не находит в настоящем. Она исполнена иллюзий. Она защищает средневековье и уходит в христианскую мистику, подобно немецким назарейцам или Новалису. Поэтому такая романтика реакционна. Эта реакционность обнаруживается не только в тяге к прошлому, отжившему, но и в том, что ее идеалы нереальны, иллюзорны, патриархально-сентиментальны. Реакционная романтика боится революции и жаждет реставрации старого порядка, как граф Шатобриан. Она уходит от общественной борьбы и в конце концов приходит к апологии самых реакционных сторон современности. Так случилось, например, с лидером назорейцев Корнелиусом, начавшим с обращения к средним векам и кончившим воспеванием прусской монархии. Всякая реакционная романтика враждебна прогрессу. В ней всегда господствует бессильный страх перед жизнью и ее развитием, слабодушная капитуляция, уход в мир мечты, в мир розовых иллюзий и беспочвенного прекраснодушия. Во всех сферах идейной жизни общества реакционный романтизм тянет назад, сравнивая настоящее с прошлым, и притом в ущерб настоящему. Именно это делает реакционный романтизм принципиально враждебным реализму. Первый стыдливо отворачивается от жизни, от ее передовых тенденций, второй смело старается проникнуть во все ее «тайны», первый призывает к бегству в прошлое, второй революционизирует сознание. В революционной романтике мы находим нечто совсем другое, чем в романтике реакционной, — стремление найти освобождение от конфликтов современности в будущем. Мечта революционных романтиков устремлена вперед, и поэтому их искусство, как искусство Жерико, раннего Делакруа, Домье, преисполнено духом революционности. Но для всех революционно-романтических художественных движений прошлого характерно все же неясное, неотчетливое представление о том идеальном строе, который когда-то наступит и за который эта революционная романтика борется. У революционной романтики есть то преимущество, что она хочет проложить дорогу в будущее, но она имеет тот коренной недостаток, ту ограниченность, что для нее это есть более или менее отвлеченная мечта. Такую революционную романтику было бы уместно назвать эстетическим утопизмом. Этот эстетический утопизм представляет собой явление чрезвычайно благородное в смысле стремления художника к будущему, но этим же самым определяется его ограниченность, обусловленная разрывом идеала и действительности да и неотчетливостью самого идеала, подобной поэтической мечтательности и социальных утопистов прошлого. Вот почему реализм прошлого может сочетаться именно с революционной романтикой, или, как мы ее назвали, эстетическим утопизмом, ибо реакционная романтика, уходя от конфликтов современности в прошлое, преследует цель иллюзорно-эстетического снятия противоречий жизни, а средством для этого является обращение к некоему «золотому веку», к некоему будто бы бывшему когда-то идеальному состоянию людей. Революционная романтика, напротив, направлена на изменение действительности; в ней нет стремления эстетически-иллюзорно снять противоречия жизни, в ней нет апологии прошлого. Она преисполнена стремлениями к будущему идеальному совершенству общества. В значительной степени неясные, сбивчивые мечты революционных романтиков представляют собой искание «естественных» (пользуясь термином самих романтиков), счастливых взаимоотношений между людьми. С другой стороны, революционная романтика — это искание, в конечном счете, того живого и целостного отношения искусства к действительности, которое возможно только при реальном, а не эстетическом снятии общественных антагонизмов, то есть при замене антагонистических классовых форм общественного устройства социалистическим общественным строем. Таким образом, революционная романтика может рассматриваться как одна из форм реализма в искусстве прошлого, но как форма незрелая, утопическая, до краев наполненная иллюзиями. До тех пор пока революционная борьба в пределах классового антагонистического общества не может реально привести к окончательному уничтожению порабощения человека человеком, мечты о будущем в области искусства часто приобретают характер «эстетического утопизма». В этом и заключается источник того противоречия, которое в прошлом всегда имело место в сочетании реализма и романтизма, правды и мечты. Революционно-романтическая тенденция есть, в конечном счете, утопическая мечта о будущем обществе и о том состоянии искусства, которое возможно только в условиях социалистического строя и которое выражает себя в конкретной форме социалистического реализма.
Вопросы искусства социалистического реализма
I.
Проблема социалистического реализма является центральной проблемой марксистско-ленинской эстетики. В сущности, все вопросы марксистско-ленинского искусствоведения так или иначе соприкасаются с проблемой социалистического реализма. Наша советская эстетика есть эстетика социалистического реализма. Проблемы, которые она ставит и разрешает, она черпает прежде всего из опыта развития советского искусства, из опыта культуры социалистического общества. Она представляет собою теоретическое обобщение этого опыта. С этой точки зрения вопросы истории художественной культуры получают свое подлинное разрешение в свете теории социалистического реализма. Сущность явлений искусства прошлого, их содержание и историческую тенденцию можно по-настоящему раскрыть только тогда, когда они будут поняты в свете теоретических проблем и практических задач развития социалистического реализма. Лишь когда теоретик искусства любую проблему теории разрабатывает не только на материале прошлого искусства, не только в плане изучения опыта досоциалистических эпох в развитии художественной культуры, но и на анализе характера и задач искусства эпохи социализма, лишь тогда решение проблемы может приобрести надлежащую полноту. Суть вопроса, как нам кажется, заключается в том, что проблематика классического искусства, искусства прошлого может быть понята лишь в свете проблематики развития художественной культуры в социалистическом обществе, так же как сущность советского искусства может быть, в свою очередь, уяснена в перспективе исторического развития всей художественной культуры человечества. Это не значит, конечно, что искусство старых мастеров надо мерить меркой искусства социалистического реализма. Это значит только, что законы развития искусства раскрываются полностью в свете теории построения того общества, в котором уничтожается эксплуатация человека человеком и раскрываются безграничные возможности для всестороннего развития человека, «...где личность, свободная от забот о куске хлеба и необходимости подлаживаться к «сильным мира», станет действительно свободной». Вот почему, как нам кажется, проблему искусства социалистического реализма надо рассматривать как проблему историческую, иными словами, как проблему реализма в эпоху борьбы за свержение капитализма и построение социалистического, а затем коммунистического общества. Между тем нередко еще проблему социалистического реализма рассматривают с точки зрения совокупности признаков социалистического реализма. Ставят проблему так: какие отличительные особенности у искусства социалистического реализма? Возможно, что в целом ряде случаев эти особенности и признаки искусства социалистического реализма указываются правильно (к этим признакам мы еще вернемся), но, как бы ни были они верно перечислены и констатированы, суть проблемы заключается все-таки не в этом. Дело, как нам кажется, прежде всего в том, чтобы понять всемирно-историческое значение социалистического реализма в его неразрывной связи с прошлым, с наследием классического искусства и вместе с тем в его существенно новом содержании, то есть понять его не как формальную проблему, но как проблему историческую. Однако при такого рода рассмотрении вопросов социалистического реализма они в известной степени приобретают расширительное толкование. Говоря о социалистическом реализме, мы таким образом обязуемся говорить о принципах, закономерностях развития и существе социалистического искусства. Но именно так и только так, нам кажется, и можно правильно поставить самую проблему социалистического реализма. Здесь, однако, и возникают немалые трудности, ибо теория искусства эпохи социализма остается у нас еще недостаточно разработанной в ее конкретных проблемах, особенно применительно к отдельным видам искусства. Глубокая разработка вопросов эстетики социалистического реализма все еще остается одной из насущных задач теоретиков-искусствоведов. Вот почему в этой главе сделана лишь попытка суммировать уже высказанное и отчасти поставить некоторые не совсем разработанные вопросы. Итак, можно, на наш взгляд, сказать, что вопрос о социалистическом реализме есть вопрос о социалистической художественной культуре, поставленный с точки зрения ее творческого метода. Именно поэтому проблему социалистического реализма следовало бы раскрывать не при помощи перечисления определенных признаков, которые социалистическому реализму присущи, а с точки зрения освещения коренных вопросов нашего художественного развития: об отношении искусства к действительности в социалистическом обществе, о народности советского искусства, о его коммунистической партийности и т. д. С самого начала хотелось бы подчеркнуть, что конкретное содержание социалистического реализма — понятие развивающееся. Мы были бы очень неправы, если бы считали, что социалистическому реализму раз навсегда присущи какие-то неизменные признаки, тем более формальные признаки, и что только те произведения, которые «на все сто процентов» под эти признаки подходят, мы можем называть искусством социалистического реализма, а все остальное таковым не является. Мы мыслили бы так по закону формальной логики и очень погрешили бы против диалектики, которая требует исторического подхода к делу. В самом деле. Когда мы рассматриваем «Председательницу» Г. Ряжского, «На старом уральском заводе» Б. Иогансона, «Хлеб» Т. Яблонской как произведения социалистического реализма, то мы исходим, и правильно исходим, не из формальной общности этих картин. Формальные признаки у названных произведений различны. Общее же у них — их социалистическое содержание, правдивость их реалистической формы, и это делает их примерами искусства социалистического реализма. Значение произведения искусства для социалистического строительства, для борьбы народа и партии за коммунизм, для развития нашей культуры, искусства, жизненная правдивость его содержания, его идейная направленность — вот в чем общий критерий того, насколько художник правильно понял свою задачу, правильно нашел путь решения жизненных вопросов, и тем самым критерий того, в какой мере и степени его творчество входит в круг искусства социалистического реализма. Г. Ряжский. Председательница.
Г. Ряжский. Председательница.
 Т. Яблонская. Хлеб.
Т. Яблонская. Хлеб.
Важно при этом учитывать рост, становление нашего искусства. Нельзя не видеть, что живопись периода социализма представляет собою иной этап в развитии, чем живопись двадцатых годов. Возможно ли на этом основании отказывать, скажем, некоторым живописцам раннего АХРР в том, что они сделали свой существенный шаг к расцвету искусства социалистического реализма? Здесь требуется конкретно исторический подход к явлениям. Не случайно, отвечая поэту Безыменскому, И. В. Сталин подчеркивал необходимость конкретной, исторической оценки произведения искусства, оценки, сообразующейся с уровнем развития революционного советского искусства в каждый данный момент его движения вперед. Оценивая произведения советской живописи исторически, необходимо выяснить, в какой мере они соответствуют требованиям роста реализма в данный период времени. Так, если на ранних выставках АХРР было еще немало слабых, робких и по содержанию и по форме произведений, в которых еще недостаточно отражалось новое содержание жизни советских людей, то примерно к 1928 году появляется ряд крупных полотен, отмеченных серьезностью мысли, относительной четкостью реалистической формы, в которых уже отражены глубокие революционные изменения и преобразования в стране. Сравнивая ранние жанровые портреты Е. Кацмана со всей их внимательной точностью в передаче натуры с «Председательницей» и «Делегаткой» Г. Ряжского, мы видим, что последние сильны ярким ощущением глубочайших изменений в облике и характере женщины из народа, изменений, которые явились следствием Великой Октябрьской социалистической революции. Если многие историко-революционные картины Владимирова, Терпсихорова, Перельмана и других не поднимались над чисто внешним описанием события, то «Узловая станция» Б. Иогансона, произведения М. Грекова и других были плодом серьезных обобщений, в них уже начинает раскрываться типическое содержание изображенных событий. Разумеется, эти произведения, если сравнивать их с картинами послевоенного периода, покажутся нам во многом несовершенными. Лица героинь Ряжского даны несколько схематично, в «Узловой станции» Иогансона акцент поставлен на сутолоке и неразберихе, царящей среди вытолкнутых с насиженных мест, исстрадавшихся и растерявшихся людей. Но основное заключается все же в стремлении схватить революционную суть явления, ломку старого и рождение нового. Исторический подход к явлениям обязывает нас видеть в этих произведениях важный этап роста реалистического искусства.
 Б. Иогансон. Узловая железнодорожная станция в 1919 году.
Б. Иогансон. Узловая железнодорожная станция в 1919 году.
 Г. Ряжский. Делегатка.
Г. Ряжский. Делегатка.
Для конца двадцатых годов мы можем считать их образцами революционного искусства, ставшего орудием партии в воспитании советского человека. Отсюда можно сделать вывод: когда мы отказываемся от конкретно исторического подхода к вопросу и пытаемся извлечь «признаки» социалистического реализма из какого-то одного или нескольких произведений искусства, принадлежащих определенному этапу развития, то рискуем, что эти признаки не подойдут к произведениям другого времени и других мастеров. Особенную остроту приобретает проблема тогда, когда речь идет не о первоклассных, а о рядовых произведениях нашего искусства. В этом случае критика нередко бывает излишне осторожна. Она опасается говорить о социалистическом реализме применительно к средним по своему уровню произведениям советского искусства, хотя они, удовлетворяя основным требованиям метода, все же не представляют собою крупного художественного обобщения. Конечно, наиболее ярко и полно художественный метод выражает себя в лучших произведениях, но это не дает права применять понятие социалистического реализма только и исключительно к лучшим произведениям советского искусстве. Критический реализм получил свое выражение и в творчестве И. Репина и в творчестве К. Савицкого, хотя у первого он выразился в целом гораздо полнее и глубже. «Ремонтные работы на железной дороге» — произведение по-своему очень яркое и характерное, хотя по глубине и значительности отражения жизни эта картина, бесспорно, уступает репинским «Бурлакам». Совершенно так же мы можем говорить о социалистическом реализме применительно к произведениям разного качества, только бы эти произведения отвечали основным требованиям коммунистической идейности и правдивости. Исходить из каких-то отвлеченных критериев было бы глубокой ошибкой. Нужно всегда иметь в виду главное в сущности произведения искусства, которое определяется, в конечном счете, выражением в нем передовых, коммунистических идей о жизни нашего народа. Так, «Хозяева земли» А. Максименко, бесспорно, уступают по глубине и яркости раскрытия образа передового советского человека, как и по мастерству, скажем, «Хлебу» Т. Яблонской. Но это совсем не означает, что работа Максименко не есть хороший пример искусства социалистического реализма.
 К. Савицкий. Ремонтные работы на железной дороге.
К. Савицкий. Ремонтные работы на железной дороге.
 А. Максименко. Хозяева земли.
А. Максименко. Хозяева земли.
Таким образом, мы не должны исходить в нашем анализе из какого-то отвлеченного мерила, но должны пытаться изучать в самом искусстве развивающийся принцип социалистического реализма. Изменяется сама жизнь, встают перед нашим народом новые задачи, и поэтому, естественно, изменяется и самый облик советского искусства, хотя основные его принципы, само собой разумеется, остаются незыблемыми. Это — принципы реалистической правдивости, коммунистической партийности и народности. Но конкретный характер и особенности искусства все время меняются, развиваются в соответствии с развитием самой нашей жизни и нашей культуры. И если бы мы удовольствовались теми формальными признаками, которые мы извлекли из произведений 1935 года, и попытались бы их применить к произведениям 1952 года, то убедились бы, что они в какой-то мере уже не совсем к ним подходят. И наоборот, если бы мы, отвлекая от произведений 1952 года определенные признаки, приложили бы их к произведениям более ранним, то также увидели бы, что они не совсем применимы к этому раннему этапу. Необходимость исторического подхода к понятию социалистического реализма обуславливает, на наш взгляд, принцип анализа проблемы. Говоря коротко, мы попытаемся рассмотреть социалистический реализм не как «стиль», характеризуемый определенными формальными признаками, а как ведущую историческую тенденцию искусства нашей эпохи, как внутреннюю закономерность развития художественной культуры в эпоху пролетарских революций, в эпоху перехода от капитализма к коммунизму. Исходным пунктом для нас будет здесь гениальное сталинское определение метода советского искусства как метода социалистического реализма, раскрытое на Первом Всесоюзном съезде советских писателей А. А. Ждановым и А. М. Горьким.
II.
Впервые самое понятие социалистического реализма было сформулировано в 1932 году И. В. Сталиным. Это замечательное определение, положившее конец всевозможным кривотолкам и извращениям, которые имели место в конце двадцатых — начале тридцатых годов в смысле определения метода советского искусства, отчетливо показало деятелям нашей художественной культуры основной смысл и направление их работы на пользу народа под руководством Коммунистической партии. Каковы же были те конкретные исторические условия, в которых И. В. Сталин дал свое определение метода советского искусства как метода социалистического реализма? Около 1930—1932 годов окончательно вырисовалась победа близкого народу реалистического искусства. Чувствуя шаткость своих идеологических позиций, формалисты в эти годы пытаются активизироваться. Организуется из осколков распавшихся формалистических группировок объединение «Октябрь». В Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ), куда вошло много художников-реалистов, верховодили формалисты и пробравшиеся в руководство ассоциации политические проходимцы, враги народа и партии. Но это оживление формализма отнюдь не было свидетельством его силы. Напротив того, оно было результатом его слабости. Формализм пытался дать последний бой побеждающему и крепнущему реализму. Формирование нового метода искусства связано было с определенными трудностями, трудностями роста, поскольку богатство новых проблем, вставших перед искусством в эпоху социалистической реконструкции, разумеется, не могло быть освоено сразу, без определенного, хотя бы и краткого периода поисков, тем более, что к этому времени был уже накоплен большой художественный опыт в раскрытии нового в жизни Страны Советов, нуждавшийся в том, чтобы быть обобщенным. Теоретическая мысль — искусствоведческая и критическая — резко отставала от этих важнейших задач. В ту пору она была еще в большой мере заражена, с одной стороны, эстетством, с другой — вульгарной социологией. Этим попытались воспользоваться воинствующие формалисты, которым немало помогали безграмотные путаники, ничего не понявшие в революционной сути учения марксизма-ленинизма. Рапховцы делали попытку увести советское искусство от решения конкретных жизненных задач в дебри мертвой схоластики; реальные потребности художественного развития затемнялись путаными абстрактными рассуждениями. Естественно, что в среде художников в 1929—1931 годах разгорелись споры о методе: они были выражением насущных интересов нашего искусства, но критики РАПХ и «Октября» максимально запутали вопрос. Был выдвинут тезис о том, что методом советского искусства является «диалектический материализм». Подменяя конкретное требование о необходимости для художника овладения идейной сокровищницей марксизма-ленинизма, рапховские «теоретики» требовали, прибегая к грубо примитивной аналогии, создания «диалектико-материалистической формы», тем самым в сущности издеваясь над философией марксизма-ленинизма. Им удавалось иногда на время сбить с толку отдельных художников-реалистов. Так, художник П. Соколов-Скаля написал картину «Прорыв», в которой попытался в соответствии с требованиями «теоретиков» изобразить событие «во всех связях и опосредствованиях». В этой картине в центре написана мартеновская печь, около нее трудятся ударники в нарочито «динамических» позах (статичная форма объявлялась признаком «метафизического метода»), немного в стороне — рабочие, не охваченные ударничеством, еще дальше — лодыри, совсем близко к краю — специалист, собирающийся включиться в работу, и, наконец, у самой рамы в темноте — скрывающийся вредитель. Все фигуры изображены намеренно схематично, опять-таки в угоду «теоретикам», утверждавшим, что индивидуализация образа есть «признак буржуазного мышления». В результате получилась странная смесь наивной аллегории и наглядной диаграммы. П. Соколов-Скаля. Прорыв (авария на керченской домне № 1).
П. Соколов-Скаля. Прорыв (авария на керченской домне № 1).
Формалисты из кожи лезли, чтобы доказать, что их пустое и бессодержательное искусство и есть якобы творчество по законам диалектического материализма. Искусствовед И. Иоффе доказывал, например, что картины одного из самых заядлых формалистов-мистиков Филонова есть подлинное выражение «пролетарского мировоззрения», так как его искусство «динамично», изображает не «эмпирическую действительность», а ее «диалектическую суть» и т. д. Вся эта чудовищная путаница, декларировавшаяся формалистами и их пособниками, усугублялась еще и тем, что консолидации советских художников, стремившихся честно служить своим искусством народу, бурному развитию искусства советского характера, препятствовали узкие, групповые рамки художественных организаций. Враги народа, пробравшиеся в РАПХ, сознательно раздували вражду между художниками, стараясь свести на нет плоды терпеливой работы партии по воспитанию и перевоспитанию мастеров искусств, они распределяли художников по определенным, надуманным политическим рубрикам, отыскивали у них «правые» и «левые» уклоны, стараясь всячески воспрепятствовать движению основной массы мастеров к реализму, к народу. Коммунистическая партия резко осудила подобные попытки перенесения политических понятий на область искусства. В письме Билль-Белоцерковскому И. В. Сталин писал: «Правые» или «левые» — это люди, отклоняющиеся в ту или иную сторону от чисто партийной линии. Странно было бы поэтому применять эти понятия к такой непартийной и несравненно более широкой области, как художественная литература, театр и пр.». И далее: «... применять их в художественной литературе на нынешнем этапе её развития, где имеются все и всякие течения, вплоть до антисоветских и прямо контрреволюционных, — значит поставить вверх дном все понятия». В свете этих партийных указаний нам ясно, какую вредную роль играло раздувание групповщины в тот период, когда основная масса художников, прочно встав на платформу советской власти, искала пути к новым высотам близкого народу искусства. Начиналась решительная борьба против антинародных формалистических тенденций, которые были еще очень живучи, хотя почва из-под ног формализма в основном была выбита вследствие ликвидации в СССР эксплуататорских классов, стремления которых могли питать и питали различные, враждебные интересам передового советского искусства направления. В этих условиях необходимо было разрушить старые, ставшие тормозом организационные формы развития советского искусства и вооружить его ясным пониманием его идейно-творческого пути. Эти огромной важности задачи были осуществлены в 1932 году Коммунистической партией. 23 апреля 1932 года было издано постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Этим постановлением был положен конец групповщине, препятствовавшей дальнейшему развитию советского искусства. Постановлением объединялись в единый союз все художники, поддерживающие платформу советской власти и стремящиеся участвовать своим творчеством в социалистическом строительстве. Так определялась основная, жизненная программа советского искусства. В том же 1932 году И. В. Сталин в беседе с писателямиопределил метод советского искусства как метод социалистического реализма. Определение И. В. Сталина осветило путь передовому советскому искусству. Оно дало в руки художников путеводную нить, обеспечивающую ясность перспективы, четкость принципов, прочность связи с интересами народа, с интересами построения коммунизма. Это определение явилось вместе с тем как результат глубоко научного обобщения пути роста советского искусства, характера его развития в условиях строительства социализма. Несколько позднее, в 1934 году, на Первом Всесоюзном съезде советских писателей А. А. Жданов так разъяснил сущность сталинского определения: «Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накладывает на вас это звание? Это значит, во-первых, знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить в художественных произведениях, изобразить не схоластически, не мертво, не просто как «объективную реальность», а изобразить действительность в ее революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма. Такой метод художественной литературы и литературной критики есть то, что мы называем методом социалистического реализма». В этой исчерпывающей характеристике раскрыты основные принципы, самая суть метода социалистического реализма. Советское искусство правдиво; поэтому его метод должен быть определен, как реализм. Но реализм советского искусства — это реализм социалистический, то есть такой, который, с одной стороны, правдиво отражает эпоху строительства социалистического общества, с другой, — проникнут идеями социализма, руководствуется интересами народа и его Коммунистической партии. Эту мысль с большой отчетливостью и яркостью выразил М. И. Калинин: «Социалистический реалист должен рисовать действительность, живую действительность, без прикрас. Но вместе с тем он должен толкать своим произведением развитие человеческой мысли вперед». Сочетание правдивости нашего реалистического искусства с его коммунистической идейностью, с задачами, которые ставит перед страной Коммунистическая партия, то есть с задачами построения коммунизма, — это сочетание, эта тесная связь с насущными нуждами народа и является основным, определяющим моментом метода социалистического реализма. Все остальное является лишь следствием.
III.
Начнем с одного из самых существенных вопросов социалистического реализма — с вопроса о значении правдивого отражения действительности в советском искусстве. Говоря об искусстве прошлого, мы указывали на борьбу реализма с антиреалистическими направлениями как на исторически неизбежную форму развития искусства в антагонистических классовых обществах. Поскольку существуют классы, заинтересованные в отказе от объективного познания действительности, так как она работает против них, в этих условиях в большей или меньшей степени всегда заново воспроизводятся антиреалистические художественные тенденции. Они порождаются самою сутью антагонистического классового общества. Иными словами, наличие наряду с реализмом враждебных ему течений в досоциалистических обществах исторически неизбежно, они вырастают на почве этих обществ закономерно и необходимо. Принципиально иное положение складывается в стране социализма. Если вначале умирающие эксплуататорские классы, цеплявшиеся за старое и надеявшиеся на реставрацию капитализма, могли порождать, питать формалистические и иные антиреалистические тенденции в советском искусстве, то с ликвидацией этих классов исчезает внутренняя социальная почва для воспроизводства этих тенденций. Закономерностью, определяющей поступательное развитие искусства, оказывается реализм, поскольку в условиях морально-политического единства советского народа в СССР нет таких социальных сил, которые были бы заинтересованы в маскировании правды. Вот почему, если в 20-х годах у нас было еще много не только отдельных художников, но и организационно оформившихся группировок, которые активно отстаивали формализм, то 30-е годы, особенно их вторая половина — время первого яркого расцвета художественного творчества на пути социалистического реализма. Разумеется, есть еще много причин, обуславливающих и по сей день относительную живучесть разбитых вдребезги антиреалистических направлений: пережитки капитализма в сознании людей, тлетворное влияние буржуазного Запада, наконец, даже естественное отставание формы от нового содержания. Но все эти причины способны лишь временно продлить жизнь обветшалым, старым художественным формам, они не могут создать новых форм антиреалистического искусства. В Советской стране исторически закономерно развитие лишь реализма, социалистического реализма. Борьба партии за его укрепление есть, таким образом, борьба за осуществление внутренне необходимых тенденций исторического прогресса в искусстве. Лозунг социалистического реализма есть его определение. Являясь обобщением предшествующего опыта, понятие социалистического реализма одновременно выступает и как определение пути дальнейшего роста советского искусства. Это обстоятельство представляется нам и теоретически и практически очень существенным. В искусствознании, как и в других общественных науках, имели место субъективистские, волюнтаристические ошибки, вскрытые И. В. Сталиным в его труде «Экономические проблемы социализма в СССР». Требование социалистического реализма рассматривалось некоторыми товарищами только как выражение субъективных стремлений нашей партии, как такое требование, которое впервые ставится перед художниками, вносится в жизнь. Иными словами, социалистический реализм рассматривался как будто бы создаваемый партией закон развития советского искусства. Между тем подобное понимание дела, исходившее у некоторых из искреннего желания подчеркнуть руководящую и направляющую роль Коммунистической партии во всех отраслях жизни советского народа, на самом деле умаляло эту роль, поскольку затушевывалось, что политика нашей партии вообще, в области искусства в частности, строится на основе изучения объективных законов действительности и наиболее последовательного и революционного применения их в интересах советского общества. Было бы волюнтаристическим субъективизмом видеть в определении закономерности развития советского искусства по пути социалистического реализма пример «создания» закона развития искусства. Социалистический реализм в искусстве есть отражение жизни и идейных стремлений рабочего класса, возглавляющего борьбу широких трудящихся масс за социализм, за его укрепление, за переход от социализма к коммунизму. Он возник в России к началу XX века в прямой связи с развитием мощного революционного движения против самодержавия и капитализма («Мать» Горького), он сделал дальнейшие крупные успехи в первые полтора десятилетия победоносного строительства социализма в СССР после Великой Октябрьской социалистической революции, пустив более или менее прочные корни не только в литературе, но и в кино, театре, музыке, живописи, архитектуре, скульптуре и т. д. Он стал после второй мировой войны, когда борьба за социализм получила новый грандиозный размах, знаменем прогрессивного искусства во всем мире. Глубина сталинского определения метода советского искусства состоит в том, что оно с исчерпывающей полнотой и ясностью фиксирует главное содержание внутренней, объективной тенденции развития передового искусства в эпоху борьбы за свержение капитализма и победу коммунизма. В частности, это открытие есть открытие пути развития советского искусства. Таким образом, лозунг социалистического реализма не есть лозунг, выражающий только субъективно желаемое партией. Наоборот, потому-то партия и «желает» утвердить принципы социалистического реализма в практике искусства, борется за это, строит в соответствии с этим свою политику в области искусства, что она вооружена научным обобщением исторического пути, знанием объективного закона истории искусства в эпоху пролетарских революций и строительства коммунизма. Отсюда — борьба партии за социалистический реализм, борьба, определяемая особенностью использования общественных законов, поскольку применение их обычно наталкивается на сопротивление консервативных общественных сил, в активной борьбе против которых и осуществляется необходимое, закономерное развитие. Начало 30-х годов было временем первых крупных побед нового искусства. Однако отживающие силы общества как внутри страны, так и за ее пределами в это время не только продолжали питать самые разнообразные антиреалистические тенденции, но и тем более активизировали свою враждебную идеологическую деятельность, чем более крупными были победы социализма. Партия не могла пустить осуществление закона развития советского искусства на самотек. Нужно было преодолеть бешеное сопротивление со стороны формализма, эстетства, натурализма и т. д., нужно было организовать и направить усилия всех художников, стремившихся стать под знамена социалистического реализма. Так развернула партия борьбу за социалистический реализм, помогая наиболее быстро пробиться объективной тенденции развития советской художественной культуры. Теперь нам необходимо отметить один весьма существенный для понимания исторической сути социалистического реализма момент. Важно уяснить отношение социалистического реализма к реалистическому искусству прошлого, в частности отношение советского искусства к демократическому реализму второй половины XIX века. Последнее время этому вопросу посвящалось немало внимания в различных искусствоведческих и литературоведческих исследованиях. Многие теоретики искусства, стремясь определить специфику советского искусства, искали его особенностей в противопоставлении искусству прошлого. Самый принцип подхода к этой проблеме был примерно таков: специфика социалистического реализма может быть определена, если установить, в чем он не похож, более того, в чем он противоположен реализму классиков. Подобный принцип подхода к интересующей нас проблеме свойствен был, в частности, и автору этих строк. В некоторых своих работах я пытался выяснить характерные особенности социалистического реализма, стремясь показать, чем он не похож на реализм Репина, Сурикова, и других. Хотя уже тогда я протестовал против отвлеченного конструирования понятия социалистический реализм, но сам чисто логическим путем приходил к антитезе метода советского искусства искусству классиков, не столько опираясь на практику, сколько просто умозаключая. Такая установка представляется порочной. Порочность ее заключается не только в том, что, хотел я того или не хотел, я отрывал советское искусство от наследия, умалял великое значение национальной художественной традиции. При таком глубоко ошибочном подходе смазывались или даже извращались некоторые важнейшие принципиальные особенности искусства социалистического реализма. Как мы видели в предыдущем очерке, реалистическое искусство в принципе есть искусство, способное революционизировать общественное сознание. Правдивое изображение действительности способствует передовым общественным силам в осуществлении их исторического дела. Исторически конкретная форма реалистического искусства определяется социальными условиями времени, теми задачами, которые стоят перед прогрессивным общественным сознанием в соответствии с самыми главными, ведущими проблемами эпохи. В период, когда в Италии в крупных ремесленно-торговых городах были созданы некоторые предпосылки для уничтожения феодализма и утверждения нового, капиталистического порядка, когда стояла задача всесторонней критики феодальных отношений и смелого утверждения идей свободы, счастья человечества, реалистическое искусство стало могучим орудием борьбы с отживающими общественными отношениями. Реализм Возрождения отчетливо обнаруживает свою органическую связь с самыми передовыми движениями века. Возьмем другой пример. В России во второй половине XIX века главным вопросом был вопрос об уничтожении крепостничества и всех его остатков, о последовательно демократическом переустройстве страны. Реалистическое искусство этого времени в России, часто вопреки идейным установкам того или иного художника, способствовало борьбе за демократию. Не только Некрасов и Салтыков-Щедрин, не только Толстой, выразивший и «рассудок» и «предрассудки» крестьянской демократии, но и либералы Тургенев и Гончаров своим искусством и как раз в меру его правдивости помогали делу демократического преобразования России. Сам Гоголь по своим политическим взглядам никогда не был революционным демократом, но еще Белинский с огромной глубиной и блеском показал, что правда жизни в произведениях великого реалиста — острейшее орудие критики крепостнических порядков, и притом такой критики, которая объективно входит в русло последовательно демократического направления общественной мысли. Вот почему реализм в русском искусстве XIX века, как бы он ни выражался конкретно, в конечном счете служил делу демократического преобразования страны. Это и дает нам право именовать реализм XIX века демократическим, хотя среди его представителей было не так много людей, прямо разделявших идеи революционных демократов. В свете этих особенностей отношения реалистического художественного метода к важнейшим задачам времени мы можем уяснить себе некоторые новые стороны проблемы социалистического реализма в целом, и в частности связи его с реализмом прошлого. Когда в России начинает формироваться социалистический реализм? Тогда, когда в самой русской действительности во всю ширь и силу встал вопрос не только о демократическом, но и о социалистическом пролетарском освободительном движении. В. И. Ленин подчеркивал значение романа Горького «Мать» для осознания рабочими своего исторического дела. Развитие искусства социалистического реализма, овладение этим методом со стороны все новых групп художников знаменовали процесс укрепления связи искусства с борьбой за социализм. Естественно, что этот процесс начинает итти все более быстро после Великой Октябрьской социалистической революции, когда в результате первой всемирно-исторической победы социализма были сломаны, уничтожены основные социальные барьеры, разделявшие искусство и народные массы, поднявшиеся на борьбу за построение социализма. Если в XIX веке реалистическое искусство служило делу демократического переустройства России, то теперь оно начинает служить делу социализма. Существует неразрывная, органическая связь реалистического искусства прошлого и искусства социалистического реализма. На наш взгляд можно сказать, что (по крайней мере в начале развития) это те же реалистические формы искусства, но в новых исторических условиях. В русской живописи эта особенность исторического развития ясно может быть прослежена на творчестве Н. А. Касаткина. Один из последовательнейших продолжателей дела первого поколения передвижников в 1890-х годах, он стал в советское время одним из основателей искусства социалистического реализма. Недаром АХРР, ставшая колыбелью социалистического реализма в живописи, явилась даже организационно прямой наследницей передвижничества. Конечно, уже в ахровских картинах есть новые черты по сравнению с произведениями русских реалистов XIX века. Эти новые черты обусловлены новой исторической реальностью. Передвижники не могли наблюдать и писать народ, сбросивший с себя оковы эксплуатации и с воодушевлением строящий новую жизнь. Но при всем том эти новые черты не только не снимают неразрывной связи ахровского реализма с передвижническим, но они и проявляются прежде всего в меру верности ахровцев лучшим традициям демократического реализма. Эта связь советского искусства с классической традицией обнаруживается явственно не только на первых порах развития советского искусства, но и в гораздо более зрелую его пору. Разве не очевидна связь метода послевоенных бытовых картин Ф. Решетникова, С. Григорьева и других художников с передвижническим жанром? Основа различия в том, что там реалистический метод был прежде всего направлен на критику всех и всяческих буржуазно-крепостнических устоев, на прославление борьбы народа против самодержавия и капитализма, а ныне он служит делу социализма, делу коммунистического воспитания советского народа. Следовательно, дело состоит совсем не в том, чтобы находить действительные или мнимые несходства метода советского искусства и метода классиков (в этом корень многих ошибок, в том числе, как было сказано, и автора этих строк), а в том, чтобы изучать, как метод классиков становится основой, исходным пунктом борьбы передового советского искусства за социализм. «Догоняние» классиков, о котором говорил А. А. Жданов на Совещании деятелей советской музыки, и есть процесс овладения высотами реалистического метода во всем его богатстве, достигнутом в прошлом, с тем, чтобы, только прочно утвердившись на этой основе, двигаться дальше. Таким образом, задача критики состоит не в том, чтобы «открыть», насколько советский портрет не похож на портрет Репина или в чем наш пейзажист должен избегать уроков Саврасова и Левитана, а как раз в обратном: в изучении способов, форм применения метода классиков к практическим задачам строительства социалистической художественной культуры. Лишь на этой базе возможно дальнейшее развитие реалистического метода, развитие, идущее от реальной практики жизни. Основа основ реалистического метода в нашу эпоху заключается в том, что теперь правдивое изображение жизни отвечает коренным интересам народов, борющихся за коммунизм. Социалистическое строительство нуждается в правдивом осмыслении действительности. И наоборот, правдиво-реалистическое изображение жизни, иногда даже вопреки намерениям автора, служит делу социализма. Замечательный пример этого указан И. В. Сталиным в его «Ответе Билль-Белоцерковскому» по поводу «Дней Турбиных» Булгакова. Один из пороков рапповского схематизма заключался в том, что рапповцы ставили под сомнение идейный смысл и объективное значение правдивого изображения жизни. Рапповские горе-теоретики, опошляя и извращая партийное требование к художникам — овладевать самыми передовыми идеями века — идеями марксизма-ленинизма, — противопоставляли воспроизведение действительности в искусстве идейности художника. Это было извращением основ марксистско-ленинского понимания сути реализма, поскольку мы не можем оторвать партийность искусства от правдивого отражения жизни. Рапповские схематики на основе своего извращенного, уродливого понимания «партийности» призывали бороться со всеми художниками, которые не подходили под сочиненные ими искусственные мерки «пролетарской идеологии». Вследствие этого на деле рапповцы тормозили развитие реализма в советском искусстве. Партия же всегда учила ценить реалистичность произведения искусства, даже в том случае, если художник, вопреки своим неверным или даже порочным субъективным установкам, отражал действительность в той или иной мере правдиво. Так, критикуя рапповцев, И. В. Сталин указывал в свое время на необходимость оценки произведения искусства по существу: «Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она даёт больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав своё дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?». Разумеется, порочные идейные установки Булгакова отразились в его пьесе, но главное, как указывает И. В. Сталин, в том, что писателю удалось в известной мере правдиво показать непобедимость большевиков, революции. Советскому искусству для воспитания людей в духе коммунизма нужна правда. Прежде всего правда. Недаром партия ведет упорную борьбу со всеми проявлениями формализма. Ведь формализм — искажение жизни. Изображая жизнь правдиво, в типических образах, в существе ее содержания, советский художник тем самым показывает смысл происходящего, помогает разбираться в действительности, и это является сильнейшим воспитательным средством. В. И. Ленин еще в 1919 году подчеркивал необходимость для писателя изучать жизнь. «Поменьше политической трескотни, — писал он в «Великом почине», — побольше внимания самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства — этот лозунг надо неустанно повторять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее». Выше мы говорили, какую огромную роль для создания подлинно типических образов, глубоко вскрывающих сущность действительности, имеет наблюдение жизни, тщательное и подробное ее изучение. Если художник внимательно изучил то, что он хочет изобразить, получается настоящее искусство, без этого — «выходит нехудожественно» (Ленин). С. Григорьев — прекрасный жанрист, и его лучшие произведения основаны на вдумчивом и поэтическом наблюдении жизни. Но когда этот художник, не изучив как следует предмета и, стало быть, не поняв его, взялся за изображение «Энтузиастов Каховки», вышла пустая и надуманная вещь. Всякое «выдумывание» жизни жестоко мстит художнику тяжелыми творческими неудачами. Изображать жизнь правдиво значит уметь раскрыть в ней существенные стороны и тенденции, вскрыть, что в ней положительно и что отрицательно. В чем сила лучших произведений советского искусства? В том, что они, раскрывая какие-то важные стороны нашей действительности в типических образах, помогают разобраться в жизни, вынести о ее тенденциях определенные, партийные суждения. С. Григорьев. Энтузиасты Каховки (Геодезисты на строительстве Каховской ГЭС).
С. Григорьев. Энтузиасты Каховки (Геодезисты на строительстве Каховской ГЭС).
Поэтому требование реализма, правдивого воспроизведения жизни является неотрывным от вопроса об идейности нашего искусства. Именно потому, что наше искусство идейно, оно реалистично. Можно было бы сказать и наоборот: именно потому, что наше искусство реалистично, потому что оно правдиво отражает нашу действительность, оно неизбежно приходит в лучших своих проявлениях к коммунистической идейности, ибо это есть прямое следствие, прямой вывод из правдивого познания жизни. Эта неpaзpывнaя связь правдивости и идейности в искусстве социалистического реализма, связь органическая, и неразрывная, может быть понята в свете некоторых общих проблем развития искусства в эпоху социализма. В социалистическом обществе существенно изменилось отношение художника к действительности по сравнению с искусством в эпоху капитализма. Там реализм именно вследствие своей правдивости служил расшатыванию официального оптимизма буржуазного общества, разоблачал все скрытые язвы и пороки капиталистического строя и тем самым объективно подрывал самые его основы. Срывание всех и всяческих масок для художника в век капитализма означало борьбу против того общества, в котором он жил. В социалистическом обществе правдивое изображение действительности означает прежде всего борьбу за укрепление и процветание этого общества, за его дальнейшее движение вперед, и в этом заключается важнейший прогрессивный, общественный смысл нашего искусства. В этом источник его высокого и благородного патриотизма. Советский патриотизм — важнейшая черта искусства социалистического реализма. Любовь к своей социалистической Родине, гордость за ее успехи и прославление этих замечательных успехов в художественных произведениях, борьба за процветание и могущество своей страны, ненависть к ее врагам — великие и благородные качества советского искусства. К вопросу о советском патриотизме, как животворной основе нашего искусства, мы еще вернемся ниже, а сейчас продолжим наш анализ особенностей реалистического, правдивого отражения жизни в искусстве социалистического реализма. Цель реалистического искусства в буржуазном обществе заключается в том, чтобы обнажить пороки, этому обществу присущие. Реализм в буржуазном обществе — суровый и нелицеприятный обвинитель господствующего социального строя. В социалистическом обществе реалистическое искусство призвано открывать, так же как и в обществе буржуазном, суть отношений между людьми, суть определенных социально-исторических явлений. Но эта суть в обоих случаях диаметрально противоположна. В условиях капитализма суть — в угнетении человека человеком, в волчьей морали «войны всех против всех», в опозоривании всех человеческих качеств в человеке. В условиях социализма суть — в равенстве людей между собой, в морально-политическом единстве народа, в социалистическом гуманизме. Закономерно, что реализм в социалистическом обществе утверждает все эти качества и в этом именно смысле из реализма критического превращается в реализм, утверждающий и укрепляющий социализм. В советском искусстве огромную роль играет правдивое и глубокое изображение передовых форм жизни, новых лучших качеств, рождающихся в борьбе за социализм, ибо все это имеет великое моральное и политическое значение для коммунистического воспитания советского человека. Опираясь на великие традиции классиков, которые оставили нам бессмертные положительные образы, советское искусство стремится создавать яркие и вдохновенные образы наших людей, с наибольшей силой и глубиной типизации раскрывая существо их духовного облика. «Сила и значение реалистического искусства состоит в том, что оно может и должно выявлять и раскрывать высокие душевные качества и типичные положительные черты характера рядового человека, создавать его яркий художественный образ, достойный быть примером и предметом подражания для людей». Марксизм учит, что основным содержанием исторического развития общества является борьба нового, передового в жизни со старым, отживающим, реакционным. Партия призывает советских художников раскрывать эту борьбу нового со старым в нашей социалистической действительности, борьбу, в которой осуществляется наше развитие. «Драматурги и театры, — указывается в постановлении ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», — должны отображать в пьесах и спектаклях жизнь советского общества в её непрестанном движении вперёд, всячески способствовать дальнейшему развитию лучших сторон характера советского человека...». Следуя этим указаниям партии, художник выполняет свое призвание «инженера человеческих душ», поскольку он, с одной стороны, стремится показать самое прекрасное, что есть в советских людях и в их творчестве, то, что может служить образцом, примером, с другой — призван бороться со старым, отжившим, разоблачая его, бичуя его проявления. Подлинное новаторство советского художника — не в поисках каких-то отвлеченных новых форм, как об этом болтала формалистическая критика, а в умении находить новое в жизни, умении отделять его от старого. Умение видеть новое в жизни — залог успеха художника. Картина большого мастера и опытного наблюдателя советской деревни А. Пластова «Ярмарка» получилась неудачной именно потому, что автор ее не сумел разглядеть существенное в жизни послевоенного колхоза — жажду скорее залечить раны, нанесенные войной, вновь возродить самоотверженным, страстным трудом родную землю. Вот почему картина А. Максименко «Хозяева земли» по своему идейному смыслу превосходит пластовское полотно. Колхозники Максименко — подлинные хозяева земли, готовящиеся к радостному творчеству на бескрайних колхозных полях. В этом подлинная поэзия картины. В этом же достоинство «Возрождения» Ф. Шурпина, несмотря на его ненужный аллегоризм.
 А. Пластов. Ярмарка.
А. Пластов. Ярмарка.
Передовые советские люди, их подвиги, их моральный облик — вот то новое в жизни, что входит в произведения советских художников как главный источник их красоты. Умение видеть новое в жизни, конечно, не надо понимать так, что советский художник может и должен изображать только это новое. Все, что существует в жизни и имеет общественное значение, является для реалистического искусства предметом. Вот почему важно подчеркнуть, что, поскольку в нашей действительности есть еще немало отрицательных фактов, существуют фальшивые люди, важнейшая задача искусства заключается в том, чтобы разоблачать отсталое и отмирающее. Мы проанализируем эту проблему несколько ниже подробнее, а сейчас обратим внимание на то, что различить отживающее невозможно вне умения видеть новое. Если художник показывает борьбу нового со старым, обнажая в типическом образе сущность того и другого, он опирается на ясное понимание того, что именно делает новое новым, в чем наиболее уродливо обнаруживается мертвенность старого. Яростная непримиримость Маяковского ко «всяческой мертвечине» в общественной жизни и в быту неразрывно связана с замечательным чутьем великого поэта ко всему новому, ко всему, что в жизни предвещает «отечество, которое будет». В связи с этим возникает проблема реализма и революционной романтики и их взаимоотношения в искусстве эпохи социализма. Как мы видели, буржуазная теория искусства привыкла категорически противопоставлять реализм и романтику. Впрочем, для всех эпох развития искусства до эпохи социализма такое противопоставление имело некоторый смысл. Не потому, разумеется, что обе эти тенденции обязательно существовали раздельно, но в том, что, даже совмещаясь в творчестве одного художника, они оказывались в противоречивых друг с другом взаимоотношениях. Так, у Александра Иванова мы находим отчетливое противоречие между утопической, по существу романтической, концепцией его «Явления Мессии» и гениальными реалистическими завоеваниями его в художественном освоении природы и человека как в этюдах, так и в самой картине. Романтические течения в искусстве прошлого всегда были связаны с неприятием современной действительности, с отрицанием ее, с уходом от нее в мир утопической мечты, сказки, истории. Так было со всеми романтическими течениями в досоциалистический период. При этом данная черта свойственна не только реакционному романтизму, где она очевидна, например в творчестве Новалиса или Делароша, но даже и романтизму революционному. В нем романтические мечты, как субъективный протест против уродств буржуазного общества, всегда имеют тенденцию приобрести облик утопического отлета от действительности. Например, Домье, с одной стороны, — мастер ярчайшего, беспощадного, реалистического гротеска, в духе его политической или, точнее, социальной карикатуры, с другой — создатель таких лирико-романтических и по сути очень отвлеченных образов, как «Дон-Кихот». Но уже на первых стадиях развития искусства социалистического реализма, — что мы очень хорошо можем наблюдать на раннем творчестве Горького, — появляется новое взаимоотношение между правдивым, реальным изображением жизни и романтической мечтой. Романтизм в искусстве прошлого как форма отрицания существующего общественного строя есть неприятие жестоких условий современного капитализма, но он не мог предложить конкретной программы переустройства жизни, эта программа по необходимости оставалась утопической. Об этом мы уже говорили выше. Поэтому романтики, отрицая современность, приходили к одному из двух выводов. Либо это было утопическое стремление вперед, в будущее, хоть и тогда это будущее не получало и не могло получить своего конкретно исторического изображения. Недаром даже у Чернышевского Вера Павловна грезит о жизни при социализме. Либо это был романтизм реакционный с его мечтой о счастливом прошлом. Лишь с того момента, когда практически встал вопрос о социалистической революции, когда наступила эра разрушения старого, капиталистического и закладывания основ нового, поистине свободного общества, только тогда мечта художника могла перестать быть утопической мечтой, она могла получить осязаемую, конкретную форму, связавшись с реальной, практической программой коренного переустройства мира. Как только художник вслед за передовыми представителями общества начинает сознавать не только то, что «золотой век» человечества лежит не позади, а впереди, но и то, что этот «золотой век» есть конкретная, достижимая цель реальной жизненной борьбы, что ясен путь этой борьбы, лежащей через разрушение капитализма, через социалистическую революцию, через диктатуру пролетариата, тогда становится возможным сочетать, слить воедино трезво реалистическое изображение действительности и страстную, смелую мечту о разрушении одряхлевшего капиталистического мира, мечту о том прекрасном будущем, которое ожидает человечество, когда оно сбросит с себя цепи капиталистического рабства. На этой основе и строится искусство раннего Горького еще до социалистической революции. В этом и поэтический пафос Маяковского. И поэтому-то в искусстве социалистического реализма революционная романтика не есть нечто противоположное реалистической правдивости, а есть необходимая составная часть самого метода социалистического реализма. Подчеркивая нерасторжимое единство реализма и революционной романтики в советском искусстве, мы видим источник этого единства в том, что именно в самой повседневной работе народа в наших условиях заключается величайший героический пафос строительства коммунизма. С другой стороны, романтическая мечта о счастливом и радостном будущем подготавливается и реализуется в конкретной, ежедневной деятельности советских людей. Именно потому, что революционный романтизм прошлого строился на «исключительной» борьбе героя с «нормальными» условиями жизни, старый романтизм вызывал к жизни образы нарочито односторонние, обязательно выходящие за рамки «обыкновенной» действительности. Таковы уже герои наполеоновского цикла у Гро, таковы рыцари многочисленных «средневековых» картин Делакруа. Герои советского искусства — стахановцы производства и колхозных полей, ученые и военные — обыкновенные люди, представители советского народа, в них нет ничего исключительного, но это — люди больших исторических свершений. Именно эти совсем новые герои стали героями советского искусства. Впервые в истории народ стал безраздельным властителем дум художников, а его историческое творчество — неисчерпаемым источником художественного вдохновения. Мастеря искусства обратились к образам рабочих и колхозников, понимая, что «...их «скромный» и «незаметный» труд является на самом деле трудом великим и творческим, решающим судьбы истории».
 А.-Ж. Гро. Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту.
А.-Ж. Гро. Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту.
 Э. Делакруа. Рыцарский поединок.
Э. Делакруа. Рыцарский поединок.
Самые традиционные сюжеты и мотивы изображения в результате этого приобретают существенные новые черты, порою решительным образом меняются. Есть близкое сюжетное сходство между крестьянскими картинами Милле, в частности его «Сеятелем», и «Возрождением» Ф. Шурпина. В обоих случаях — вековечный, исконный труд человека на земле. Но какая поразительная разница! У Милле в его картинах есть что-то благочестивое. Труд для него, может быть, и не изнуряющая каторга, но священная, почти роковая обязанность крестьянина участвовать в вечном круговороте земли. Крестьянин не хозяин, а слуга плодородия. В смиренной истовости, с которой он обрабатывает почву, есть нечто от Экклезиаста — «время сеять и время убирать жатву». Он покорен своей обязанности трудиться. Это делает образы Милле иногда патриархально-величавыми, но никогда труд у него не обладает поэзией свободного творчества, он у него — служение.
 Ж.-Ф. Милле. Сеятель.
Ж.-Ф. Милле. Сеятель.
Главная тема Шурпина — послевоенное возрождение страны. Колхозница у Шурпина объята страстной жаждой вернуть землю к жизни. Ее образ исполнен творческого пафоса, хотя в картине он и дан несколько внешним, аллегорическим приемом. Художник погрешил даже против элементарного правдоподобия, заставив женщину бросать зерна в непробороненную землю, но это нужно было ему, чтобы создать ощущение поднятой человеком почвы, тяжелые пласты которой лежат свидетелями его могущественных усилий.
Так, на конкретном примере мы можем видеть, как романтика выступает необходимым элементом правдивого изображения жизни в ее типических проявлениях. Прославление того, как практически, конкретно строится сегодня завтрашний день, мечта, ежедневно становящаяся явью, — вот где одна из существенных основ революционной романтики как важнейшего качества социалистического реализма. Революционная романтика предполагает страстную, последовательную борьбу за определенный идеал. Содержание романтики социалистического реализма, с этой точки зрения, — борьба за построение коммунистического общества. А для этого опять-таки необходимо прежде всего умение отличить старое от нового. Ведь с точки зрения глубокого, истинного познания действительности, как этому учит диалектический материализм, важно прежде всего не то, что кажется в данный момент прочным, а то, что возникает и развивается. И реалист в подлинном смысле слова принимает за ведущее в жизни не то, что в данный период времени является наиболее распространенным и часто встречающимся, а передовое, прогрессивное, то, чему принадлежит завтрашний день. Яркий образец революционно-романтического отношения к действительности представляет нам творчество Маяковского. Ведь Маяковского очень часто упрекали в утопическом характере его творчества, что, мол, пишет он совсем не о том, что есть на самом деле, а все стремится в «коммунистическое далеко». Но для творчества Маяковского как раз чрезвычайно характерно страстное отвращение ко всему отжившему, ко всему, что тянет назад, ко всем пережиткам капитализма в жизни и сознании наших людей, и, наоборот, страстная любовь ко всему, что есть в нашей действительности передового, к будущему, создаваемому в практическом творчестве сегодняшнего дня. То, что сегодня еще полно жизни и кажется господствующим, но является порождением прошлого и мешает развитию новых, может быть, еще слабых форм жизни, не может изображаться в реалистическом искусстве как незыблемое и полновластное. Это положение можно иллюстрировать на примере картины Б. Иогансона «На старом уральском заводе». Именно потому, что художник правильно понял диалектику развития нового в жизни, он дал ясно ощутить зрителю всю внутреннюю непрочность образа фабриканта, а в образе рабочего показал будущего революционера. В этом смысле полотно Иогансона — пример единства реализма и революционной романтики, вернее, романтики, присущей социалистическому реализму, как его качество. Особенную, народную популярность приобрели те произведения советского изобразительного искусства, в которых получало яркое отражение новое, передовое в нашей жизни, где была дана типизация этих новых явлений, характерных для нашей действительности. Почти в одно время, в середине двадцатых годов, появились две картины: Е. Чепцова «Заседание сельской ячейки» и П. Кончаловского «С ярмарки». Обе были посвящены жизни русской деревни. Полотно Кончаловского давало очень яркое, чувственное ощущение натуры. Небольшая картина Чепцова была куда скромнее и, я сказал бы, даже аскетичнее. Но несмотря на это, сила социальной-правды оставалась на стороне чепцовского произведения. Он сумел уловить в жизни крестьянства самые важные для того времени новые черты: пробуждение крестьянских масс к активной политической жизни, меняющее самый облик вековечно сложившегося деревенского бытового уклада.
 Е. Чепцов. Заседание сельской ячейки.
Е. Чепцов. Заседание сельской ячейки.
 П. Кончаловский. Возвращение с ярмарки.
П. Кончаловский. Возвращение с ярмарки.
У Кончаловского изображена та деревня, которая казалась в 1926 году, когда он писал картину, статистически «типичной», с ее грязными проселками, босым, мрачным мужиком-хозяином, молодым ухарем и молодайкой в платке. Типичный ли это образ крестьянина тех лет? Да, в каком-то отношении типичный. Это — та деревня, которая ежедневно и ежечасно рождает капитализм. Но Кончаловский не обратил внимания на те важнейшие новые элементы жизни крестьянина, которые так обрадовали Чепцова. Революционная романтика не сводится к определенным внешним художественным приемам. Нам кажется, что революционную, романтику мы должны видеть не в риторике — развевающихся знаменах, патетических жестах и т. д. Романтика может формально выражаться совершенно по-разному. Революционная романтика в нашем искусстве — это умение художника различать в современной действительности завтрашний день и бороться за него. Но эта борьба за завтрашний день по указанным выше причинам не может быть пустопорожним мечтательством. Суть дела заключается в том, чтобы уметь видеть новое в самой жизни. «Советский суд» Б. Иогансона обладает подлинной революционной романтикой в большей мере, чем, например, «Оборона Петрограда» А. Дейнеки, хотя в первой нет никаких элементов «романтической» риторики, а вторую нередко рассматривают из-за ее отвлеченно-формального пафоса как образец романтического» решения образа.
 Б. Иогансон. Советский суд.
Б. Иогансон. Советский суд.
 А. Дейнека. Оборона Петрограда.
А. Дейнека. Оборона Петрограда.
Подчеркнем этот важнейший момент. Революционная романтика есть умение видеть новое в жизни (и, добавим, воспевать это новое) и вместе с тем, ненавидя старое, отмирающее, преследовать его заостренным художественным изображением, срывая все и всяческие маски. И существенно то, что революционная романтика социалистического реализмаи в утверждении нового и в отрицании старого равно покоится на глубоком изучении жизни и правдивом ее изображении в типических образах. Вся действительность во всем богатстве и разнообразии ее явлений — предмет для советского художника. Все общеинтересное в жизни должно быть в поле зрения искусства социалистического реализма. «Пишите правду», — это указание И. В. Сталина подчеркивает коренное значение всестороннего и полного изучения и отображения жизни советскими художниками. Любые попытки догматически ограничить задачи искусства социалистического реализма могут только повредить делу его плодотворного развития. Партия всегда предостерегала теоретиков искусства и художественных критиков от искусственного, догматического и схоластического «предписывания» путей советскому искусству. В трудах классиков марксизма-ленинизма мы находим замечательные образцы творческого марксизма, образцы того, как на основе изучения конкретного материала делаются глубочайшие теоретические выводы, соответствующие объективному ходу вещей. Марксизм — непримиримый враг абстрактного логизирования. Теория марксизма-ленинизма потому и является руководством к действию, могучей силой в реальной общественной практике, что она, в корне отвергая всякий догматизм, наиболее полно и глубоко отражает сущность процессов действительности. Марксистско-ленинская эстетика не может допустить в своем составе мертвых, вневременных формул, отвлеченно-схоластических, логически придуманных догматов. Нормативизм враждебен самому духу советской теории искусства. Задача эстетики — открывать объективные законы, по которым развиваются искусства, с тем чтобы использовать их в интересах социалистического общества, а отнюдь не в том, чтобы «регламентировать» деятельность советских художников. Абстрактный догматизм, к сожалению, получил известное распространение среди деятелей искусства и в послевоенные годы. Хотя партия еще в начале тридцатых годов дала пример борьбы против схоластического догматизирования в области искусства, разгромив порочные и вредные рапповские «теории», рецидивы рапповщины имели место еще совсем недавно. Они сказались, в частности, в том противопоставлении классических традиций и социалистического реализма, о котором говорилось выше. Абстрактное логизирование, догматизм обнаруживались более или менее отчетливо и в ряде других положений, имевших хождение среди искусствоведов и критиков. Автор этих строк указывал уже на наличие такой вредной тенденции в некоторых положениях его прежних работ по вопросам теории. Помимо отмеченного выше, необходимо подчеркнуть ошибочность разделявшегося мною положения о преимущественно «утверждающем» характере искусства социалистического реализма (см. сборник Академии художеств: «Вопросы теории советского изобразительного искусства», М., 1947). Хотя я и подчеркивал необходимость критики, изображения отрицательных явлений жизни, но тем не менее, анализируя проблему, приходил к абстрактному по конструкции, ошибочному по существу положению, что коль скоро задача художника уметь видеть новое в жизни, значит он «должен» «прежде всего» это новое и изображать. Тот же схематический догматизм получил свое выражение и в вопросе о сущности типического. Ошибочное понимание типического как статистического среднего исходило, по существу, из того же абстрактно-логического способа «конструировать» теоретические выводы. Механистический ход мысли защитников этого тезиса примерно таков: раз задача художника — глубоко изучать жизнь, значит надо вскрывать то, что наиболее типично, а так как наиболее типично то, что в жизни бывает наиболее часто, требование Энгельса об изображении типических характеров в типических обстоятельствах надо понимать как необходимость изображать наиболее часто встречающиеся явления действительности. Получалась схематическая мерка, согласно которой многие важнейшие темы должны были стать для советского искусства книгой за семью печатями. Любое отступление от выработанного схоластического регламента вызывало бурные протесты — это не типично! Необходимо было развеять такую порочную, тормозящую живое развитие советского искусства схоластическую догму, что и было выполнено на XIX съезде партии в докладе Г. М. Маленкова в освещении проблемы типического. Выше, в третьей главе, мы попытались проанализировать это важнейшее положение теории реалистического искусства. Мы отмечали, что типизация и есть специфическая форма обобщения в искусстве, что типическое есть обнаружение сущности в конкретном, единичном, что, раскрывая сущность явления, его внутренний смысл с помощью создания подлинно типических образов, художник-реалист тем самым выносит об этих явлениях свое суждение, свой приговор и что, следовательно, именно в выборе и трактовке типического обнаруживается партийность художника. Так, в самом глубоком раскрытии правды жизни в картине Б. Иогансона «На старом уральском заводе» выявляется ее идейная направленность. Как понять, что произведение это глубоко правдиво? Это значит, что в нем показана зреющая в рабочем ненависть, его сила, его внутренняя правда и вера в победу, а в фабриканте, несмотря на внешность господина, — страх, низость, неизбежность его катастрофы. Но разве не в этом идейный смысл полотна Иогансона? Разоблачение «теории» типического как статистического среднего нанесло серьезный удар по остаткам догматизма в нашей искусствоведческой науке и художественной критике, раскрыло новые возможности для более быстрого развития искусства социалистического реализма. Какой вред практике искусства наносила эта «теория», показала в свое время «Правда», напечатав письмо группы читателей «По поводу романа В. Лациса «К новому берегу». Некоторые критики напали на роман Лациса, руководствуясь именно порочной «статистической» теорией типичности. Объявив некоторые характеры (Айвар Лидум) и обстоятельства (распад семьи Пацеплиса) «нетипичными», эти критики обрушились на произведение латышского писателя. Такая критика шла не от изучения жизни, а от предвзятой схемы — «так бывает редко, стало быть, это — не типично». В письме группы читателей ясно вскрыта порочность такой позиции. В нем показано, что те факты, которые критики объявляли «случайным явлением, незначительным эпизодом», выражают на самом деле глубоко типические особенности изображаемого исторического периода. Так, например, как указывается в письме, «разлом семейного быта кулаков и подкулачников в период роста колхозного движения является не случайным явлением и не простым эпизодом, а законом жизни». Именно поэтому мы можем сказать, что в романе Лациса прекрасно показаны типические характеры в типических обстоятельствах и прежде всего самое главное — «эпопея латышского народа, порвавшего со старыми буржуазными порядками и строящего новые социалистические порядки». Сказанное ясно показывает вредность схоластической «теории» типического как статистического среднего в применении к советскому искусству. Ведь еще в конце двадцатых годов, на том же в сущности основании, рапповцы обвиняли Маяковского в том, что он якобы не стоит на позициях реализма! С другой стороны, идеологи формализма из «ЛЕФ'а», «Октября» и других организаций нередко выступали против принципов реализма, толкуя типизацию как «статистическое обобщение» и на этом основании «разоблачая», например, реализм АХРР за недостаток такой «типизации». Особенно отчетливо за последнее время абстрактная догматика в искусствознании сказалась в так называемой «теории бесконфликтности». Хотя эта теория была разоблачена прежде всего в области драматургии, где она нанесла, пожалуй, наибольший вред, и хотя в конкретных проявлениях ее многое связано со специфическими вопросами драматургии, которых мы не имеем возможности касаться в этой работе, значение интересующего нас сейчас вопроса выходит далеко за пределы теорий драмы. Перед нами классический образец отвлеченного логизирования в теории, немало повредившего развитию самой художественной практики. В чем же суть и в чем коренные пороки «теории бесконфликтности»? Как мы уже видели, искусственное, догматическое ограничение художника, исходящее не из потребности жизни, а из надуманных псевдотеоретических схем, всегда подрывает основу создания полноценного реалистического искусства. Пресловутая «теория бесконфликтности» нанесла немалый вред не только драматургии, кино и литературе, но и изобразительному искусству. Она отвращала художников от настоящего изучения жизни, а вместе с тем от ее многогранного и содержательного изображения. Тем самым ослаблялась и действенная сила искусства, которое насильственно отвлекалось от актуальных проблем нашей действительности. Это можно отчетливо уяснить на одном вопросе. Может ли наше искусство со всей надлежащей силой выполнять свою общественно-воспитательную функцию, если оно не будет решительно бороться против того зла, которое еще есть в нашей жизни, если оно не будет разоблачать фальшивых людей, мешающих нашему движению к коммунизму, если оно не будет раскрывать те реальные противоречия и конфликты, в преодолении которых осуществляется наше развитие? Разумеется, нет. Вот почему так вредна «теория бесконфликтности», подсовывающая голую (и притом неверную) схему там, где художник должен смело погружаться в кипучую и многообразную, сложную и противоречивую жизнь, чтобы показать сущность происходящего, помогать нашим людям в их борьбе. Влияние этой порочной теории в области практики искусства сказалось в том, что художники опасливо воздерживались от изображения ряда действительно жизненных конфликтов, порою мотивируя этот отказ тем, что такие конфликты «редки», а стало быть, «не типичны». Уже отсюда очевидна связь между «теорией бесконфликтности» и среднестатистическим пониманием типического. Конечно, например, у нас в социалистическом обществе фальшивых людей бесконечно меньше, чем людей честных, подлинных советских патриотов, преданных делу коммунизма. Но их все же немало, и они делают свое враждебное дело. Борьба с фальшивыми людьми — актуальная задача, прямо связанная с общей целью советского народа — строительством коммунизма. Стало быть, и искусство социалистического реализма не может не разоблачать этих фальшивых людей, как бы они ни маскировались, сколько бы их у нас ни оставалось, ибо пока в самой жизни возникают конфликты с разного рода врагами, мимо них не пройдет подлинно передовое, реалистическое искусство. «Теория бесконфликтности» строит свою концепцию, опираясь на сравнительно малую распространенность определенных жизненных конфликтов, а это практически приводит к лакировке действительности, к разоружению советского искусства в его насущной борьбе с отсталостью, косностью, со всем консервативным, враждебным. Здесь вновь наглядно виден смысл положения, что проблема типического есть проблема политическая. Может ли быть типическим отрицательный персонаж в советском искусстве? Да, разумеется, может, хоть это и противоречит основным принципам «теории бесконфликтности». Типична ли фигура командующего Горлова или военного корреспондента Хрипуна в пьесе «Фронт» Корнейчука? В соответствии с «теорией бесконфликтности» следовало бы ответить, что нет, и, очевидно, поставить под сомнение реалистичность этой замечательной пьесы. Марксистско-ленинская теория типического учит нас принципу подхода к таким проблемам. Мы, разумеется, не можем сказать, что горловы типичны для Советской Армии периода Великой Отечественной войны. Но мы должны понять, что образ Горлова с большой отчетливостью конденсировал в себе характерные черты ряда отсталых командиров, мешавших Советской Армии на первом этапе войны в ее боевых действиях против гитлеровских захватчиков. И пьеса Корнейчука сыграла большую идейную и политическую роль в 1942 году, в частности потому, что в ней был дан типический образ Горлова, типический для консервативных военных руководителей. В этом образе раскрывалась сущность данного социалыно-исторического типа, а острейший драматический конфликт Горлова с Огневым и всей Советской Армией оказывался типическим конфликтом передового и отсталого, конфликтом, успешное разрешение которого в самой действительности имело тогда насущное жизненное значение. И то, что Корнейчук смело обнажил перед всеми истинную сущность Горлова, показал его типичность, и было главным проявлением партийности передового советского художника. Задача разоблачения всего отсталого и отжившего, фальшивого и враждебного — актуальнейшая задача советского искусства, которое призвано вмешиваться в жизнь. Разоблачение врагов служит советскому народу могучим орудием в борьбе за построение коммунистического общества. Г. М. Маленков на XIX съезде партии подчеркивал важнейшее значение сатиры, смелого показа жизненных противоречий: «Неправильно было бы думать, что наша советская действительность не даёт материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнём сатиры выжигали бы из жизни всё отрицательное, прогнившее, омертвевшее, всё то, что тормозит движение вперёд. Наша советская литература и искусство должны смело показывать жизненные противоречия и конфликты, уметь пользоваться оружием критики,как одним из действенных средств воспитания». «Теория бесконфликтности» поставила под сомнение право советских художников на критику, на сатиру при изображении советской действительности. В области изобразительных искусств это сказалось, в частности, в ничтожно малом количестве хороших произведений, посвященных отображению жизненных конфликтов советской действительности. Ныне советские художники, вооруженные замечательными указаниями нашей партии, имеют все необходимые предпосылки для преодоления этого существенного недостатка. Важно как можно скорее покончить с «теорией бесконфликтности» и ее остатками и в области искусствоведения. Для этого необходимо вскрыть ее порочную методологическую суть, ее чисто схоластическое происхождение. Не секрет, что теория эта была «разработана» чисто логическим путем. Если, рассуждали сторонники бесконфликтности в искусстве, в антагонистических, классовых обществах имеются конфликты, требующие революционного вмешательства, то это отражается в искусстве в изображении драматических, конфликтных жизненных столкновений. Но, говорили они дальше, в условиях социализма нет неразрешимых социальных конфликтов, следовательно, в искусстве социалистического реализма также нет места конфликту. «Классический» пример логистики да к тому же совсем не безобидной! В самом деле, о чем говорят классики марксизма-ленинизма, когда указывают на отсутствие конфликтов в социалистическом обществе? О том, что социалистический строй уничтожает антагонизм между классами, что он покоится на базе морально-политического единства советского народа, на базе дружбы народов. Отсюда ясно, что при социализме нет и не может быть конфликтов, скажем, между рабочим классом и крестьянством или между братскими социалистическими нациями. Попытка выдумать такие конфликты в искусстве привела бы только к уродливому извращению действительности, к клевете на советский народ. Но прежде всего нельзя забывать, что наша эпоха есть эпоха раскола мира на два лагеря — лагерь социализма и лагерь империализма, что по-прежнему существует капиталистическое окружение и угроза новых попыток развязать войну против СССР, что внутри нашей страны еще сохранились остатки разбитых эксплуататорских классов, живые люди, носители враждебной идеологии. Нельзя забывать, что предстоит еще колоссальная работа по выкорчевыванию пережитков капитализма в сознании людей. В этих условиях борьба против всего враждебного внутри страны имеет огромное политическое значение. Антагонистический конфликт имеет место у советских людей с укрывающимися, маскирующимися врагами, фальшивыми людьми. Борьба с ними предполагает их ликвидацию как социальной силы, и здесь возможно лишь революционное вмешательство. Здесь нет и в помине никакого отсутствия антагонизмов. Отрицать это — значит, по существу, ревизовать основы теории диктатуры рабочего класса, скатываться на вражеские, объективно контрреволюционно-бухаринские позиции. Таким образом, «теория бесконфликтности» в своей основе смыкается с глубоко порочной, враждебной «теорией» затухания классовой борьбы. Это необходимо иметь в виду, чтобы понять всю опасность ее распространения в советском искусстве. Практически она вела к попыткам парализовать боевой, непримиримый дух искусства социалистического реализма, подорвать основы его коммунистической партийности. Так, исходя из схоластического, начетнического толкования отдельных выводов марксистской теории, некоторые теоретики оказались слепы к важнейшим явлениям жизни и начали пропагандировать «теорию бесконфликтности», ставить под сомнение сатиру, задачи критического изображения определенных явлений, имеющих место в советской действительности. Отсюда грубейшие теоретические ошибки и пороки, отсюда тенденция к опаснейшему дезориентированию художественной практики. В конечном счете, анализируемая порочная концепция базируется на забвении основы социалистического реализма — правдивости и исторической конкретности изображения жизни в ее революционном развитии; она базируется на подмене живого и многообразного изучения жизни абстрактной схемой, на деле этой жизни враждебной. А это, в свою очередь, приводило к тому, что некоторые горе-теоретики пытались оторвать советское искусство от практических потребностей движения нашего народа вперед, к коммунизму. На самом деле, правдивое изображение действительности есть основа важнейшего качества искусства социалистического реализма, его последовательной и всесторонней народности.
IV.
Обратимся теперь к анализу проблемы народности советского искусства. Важнейшей чертой нашего социалистического искусства является его народность. Выше мы говорили о народности искусства в первобытном и в антагонистических классовых обществах. Народность искусства социалистического реализма, представляя собою дальнейшее развитие принципов народности искусства прошлого, вместе с тем имеет и новые черты, обусловленные особенностями социалистического общественного строя, впервые уничтожившего эксплуатацию человека человеком. Советское социалистическое искусство может быть названо народным в нескольких смыслах этого слова. Прежде всего советское искусство народно уже по тому необычайно широкому, массовому охвату людей, который характерен для нашей художественной практики и никогда не имел себе равных в прошлом. Не говоря о кино, литературе, музыке, театре, даже изобразительное искусство, в этом смысле несколько отстающее, дает нам картину беспримерного расширения своей аудитории. Потребность в живописи, графике, скульптуре становится поистине общенародной потребностью. Такого широкого охвата людей искусством не знала ни одна эпоха, ни одна страна, никогда само государство не было заинтересовано в столь широком внедрении искусства в народные массы. В буржуазном обществе, если отбросить жалкие опыты социально-художественной демагогии, художник ищет своего потребителя стихийно. Зависимость художника от денежного мешка обнаруживается уже чисто материально. Искусство, как и все прочее, становится при капитализме предметом купли-продажи. Даже самые благородные стремления двинуть подлинное искусство в народ наталкиваются на преграды; угнетенные массы в этих условиях оказываются в большой мере оторванными от того искусства, которое мы называем «ученым». В социалистической действительности дело обстоит принципиально иначе. Хорошо известно, какую огромную роль играет искусство в повседневной жизни нашего народа. Народ, приобщившийся к сознательному историческому творчеству, уже в первые годы советской власти начал борьбу за овладение культурой. В. И. Ленин писал: «...нигде народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как у нас; нигде вопросы этой культуры не ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас; нигде, ни в одной стране, государственная власть не находится в руках рабочего класса, который в массе своей прекрасно понимает недостатки своей, не скажу культурности, а скажу грамотности; нигде он не готов приносить и не приносит таких жертв для улучшения своего положения в этом отношении, как у нас». Теперь у нас неизмеримо выросла культура народа. Партия, Советское государство кровно заинтересованы в том, чтобы и дальше повышать культурный уровень масс, в частности, обеспечивая максимальное изобилие художественных ценностей для народа. Исторический XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза с новой силой подчеркнул исключительное значение дальнейшего роста и развития всех звеньев социалистической культуры, в том числе и искусства. И. В. Сталин указывает: «Цель социалистического производства не прибыль, а человек с его потребностями, то есть удовлетворение его материальных и культурных потребностей». Именно поэтому социалистическое общество ликвидирует уродливые условия развития искусства, свойственные капитализму, где искусство делается, как и все прочее, прежде всего источником извлечения прибыли. В период социализма искусство получает никогда не виданные возможности расцвета уже потому, что самый экономический базис общества обеспечивает искусству благоприятную почву для беспрепятственного обслуживания широчайших народных масс. В СССР созданы экономические и социальные предпосылки общенародного распространения художественной культуры, углубления неразрывной связи искусства с народом. Обладая подлинно массовым зрителем, наше искусство прочно входит в жизнь народа, оказывается связанным с ним более тесно, чем это когда-либо было возможно в прошлом, по содержанию, по своим идеям и образам. Так, наше искусство оказывается вдвойне народным. Оно не только выражает передовые стремления народа, но выражает его чувства и мысли непосредственно. Перов и Репин, подлинно народные художники прошлого, не были непосредственно связаны с массами, да и сами массы, поскольку они в целом не овладели еще передовыми идеями (это совершается вполне лишь тогда, когда происходит соединение социализма с рабочим движением), жили во многом иными конкретными стремлениями, чем те, которые формулировали их передовые идеологи, осмысливая наиболее глубоко для своего времени коренные потребности народа. Необходимым условием широчайшего распространения лучших художественных ценностей в массах является социалистическая революция. Всемирно-исторический переворот, совершенный Великой Октябрьской социалистической революцией, пробудил миллионные массы трудящихся к историческому творчеству. Ленин считал это одним из основных достижений революции. Народ, который эксплуататоры старались держать под двойным — материальным и духовным — гнетом, впервые получил возможность распрямиться. Разбив оковы материальной эксплуатации, народы Советского Союза положили конец и своему духовному порабощению. Раскрепощение народа стало источником могучего развития самодеятельности масс во всех сферах экономической, социальной, политической и идеологической деятельности. Всестороннее развитие человеческих способностей, расцвет народных талантов получили великолепное воплощение в искусстве всех народов СССР, культура которых достигла невиданно высокого уровня на основе мудрой ленинско-сталинской национальной политики. Убедительным доказательством этого может быть уже тот факт, что многие народы, до Октября вообще не знавшие искусства живописи в современном смысле слова, — туркмены, буряты, башкиры, таджики и т. д. — имеют теперь свою национальную по форме, социалистическую по содержанию живопись. С первых дней революции партией была поставлена задача коммунистического воспитания широчайших народных масс. Необходимо было воспитать в трудящемся настоящего хозяина жизни. Искусству в этой благородной работе принадлежит огромное место. Впервые непосредственно приобщенное к народу, оно является в руках партии и Советского государства могучим орудием воспитания мысли, воли и чувств народа в духе коммунизма, раскрепощая «испорченную капитализмом» человеческую личность. Говоря о задачах советской школы как орудия воспитания, Ленин писал: «И буржуазия... во главу угла школьного дела ставила свою буржуазную политику... никогда не заботясь о том, чтобы школу сделать орудием воспитания человеческой личности. И теперь ясно для всех, что это может сделать только школа социалистическая, стоящая в неразрывной связи со всеми трудящимися и эксплуатируемыми...». Эта замечательная ленинская мысль целиком применима и к искусству. Только то художественное творчество, которое неразрывно связано со всеми трудящимися, выражает их интересы, может ныне стать «орудием воспитания человеческой личности», а не замаскированным орудием буржуазной политики. Это ленинское положение вооружает нас для решительного разоблачения фальшивых претензий идеологов буржуазного формалистического субъективизма на то, что они якобы выражают интересы «суверенной личности», «индивидуальной свободы человека» и т. п. Претензии эти — ложь, ибо никаким средством выражения подлинных интересов личности формализм не является и не может являться. Нынешние сюрреалисты не только не способствуют духовному обогащению людей, но разлагают, развращают человеческие души в угоду интересам империалистической буржуазии. Наоборот, советское искусство, неся в массы благородные идеи и чувства, в действительности становится «орудием воспитания человеческой личности». «Конец» Кукрыниксов — воплощение гнева, презрения, непримиримости миллионов людей к гнусному поджигателю войны — Гитлеру, и в этом смысле их произведение — яркое выражение широчайших народных стремлений, дум и волнений, выражение личности каждого из этих миллионов. «Атомно-меланхолическая идиллия» Сальвадора Дали имеет своей целью вселить в души животный страх, гнилую муть чувств, отравленное разложение мыслей. Это ли «орудие воспитания человеческой личности»?! Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов). Конец (Последние дни гитлеровской ставки в подземелье Рейхсканцелярии).
Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов). Конец (Последние дни гитлеровской ставки в подземелье Рейхсканцелярии).
 С. Дали. Ураново-атомная меланхолическая идиллия.
С. Дали. Ураново-атомная меланхолическая идиллия.
Таковы два противоположных «итога» второй мировой войны, как их подводят мастера советского и буржуазного искусства. Коммунистическая партия всегда высоко ценила огромное воспитательное значение искусства, его способность быть орудием политического, идейного, морального, эстетического обогащения трудящегося человека, превращения его из темного и забитого раба эксплуататорских классов в свободного и сознательного строителя социалистического общества. Еще в начале 1918 года Владимир Ильич предлагал награждать выдающиеся деревенские коммуны между прочим «...предоставлением большого количества культурных или эстетических благ и ценностей». Именно в русле этих идей, направленных на дальнейшее сближение искусства с народом, становится понятным и сыгравший такую огромную роль в развитии советского изобразительного искусства так называемый план «монументальной пропаганды», в основе которого лежит мысль В. И. Ленина о необходимости «двинуть вперед искусство как агитационное средство». Владимир Ильич предполагал этим широко задуманным планом направить художников на решение конкретной, реальной, жизненно важной общественной задачи. Постановка памятников деятелям революции и культуры на улицах и площадях городов должна была сблизить художников непосредственно с нуждами и интересами революционного народа. Работа по проведению в жизнь ленинского плана «монументальной пропаганды» явилась первым большим поражением формализма в советском искусстве, так как в ходе его реализации наглядно обнаружилось, что чуждое народу формалистическое искусство оказалось бессильным выполнить прямо и ясно поставленную Лениным задачу создания народных художественных произведений. Народ с негодованием отверг ухищрения скульпторов-формалистов. Это было предметным доказательством антинародности формалистического «творчества». Идея В. И. Ленина о «монументальной пропаганде» — одно из звеньев ленинского учения о народности искусства. Теснейшая связь искусства с народом была для Ленина залогом его жизненной силы и общественного значения. «Искусство принадлежит народу, — говорил Владимир Ильич Кларе Цеткин. — Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их». Истина эта, теперь ежедневно подтверждаемая практикой нашего искусства, действительно принадлежащего советскому народу, подчеркивалась Лениным с тем большей энергией, что тогда, в первые годы революции, слишком много еще было в художественной культуре родимых пятен буржуазного общества. Но Великая Октябрьская социалистическая революция уже завоевала основные предпосылки для того, чтобы искусство стало до конца и всесторонне принадлежащим народу, полноценно выражающим его самые глубокие помыслы и стремления. Советский общественный строй освободил художников от порабощения их мысли эксплуататорскими классами. Художественное творчество имеет с тех пор, в сущности, одного потребителя — народ; оно служит только ему. С первых шагов советская власть позаботилась, чтобы реально превратить искусство в достояние широчайших масс: были национализированы музеи и частные собрания, государство стало заказчиком произведений искусств, выставки широко распахнули свои двери перед рабочими и крестьянами. Все достижения искусства, все подлинно художественное, что было создано в прошлом и создавалось в настоящем, стало достоянием народа, чтобы помогать ему в борьбе и строительстве. Помогая культуре сродниться с народом, партия превращала ее, — по выражению В. И. Ленина, — в «орудие социализма». Это был двусторонний процесс. С одной стороны, необходимо было вернуть все духовные ценности, созданные на основе эксплуатации трудящихся, самому народу, приобщить его к культуре, к искусству, с другой стороны, требовалось дать возможность художникам стать неразрывно, органически связанными с народом. Одно из главных достижений передового реалистического советского искусства и заключается в том, что оно перестало быть делом немногих, более или менее узкого круга представителей «образованного общества», а явилось прямым и непосредственным выражением мыслей, чувств и стремлений миллионов. В. И. Ленин еще в 1905 году подчеркивал необходимость неразрывного единства искусства с самими массами. Он предвидел уже тогда будущую свободу искусства в эпоху социализма: «Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата...». В советском искусстве идеи и чувства художника есть непосредственно идеи и чувства самого народа, те же идеи и чувства, которыми живет каждый передовой строитель коммунизма. И это, может быть, является самым существенным и самым главным в социалистическом искусстве. Здесь следует напомнить о том раздвоении художественного развития, которое имело место в досоциалистический период истории искусства. Как мы говорили выше, в прошлом можно видеть, с одной стороны, искусство, которое экспроприировано у народа и стало достоянием господствующих классов, и, с другой — собственно народное творчество; с одной стороны, искусство, которое, концентрируя в себе художественный опыт и труд народа, непосредственно почти не доходило до широких масс трудящихся, с другой стороны, художественный фольклор, который обслуживал народ непосредственно, но в условиях эксплуататорского общества не получал надлежащих возможностей своего поступательного развития. Это народное творчество содержало в себе подлинные художественные сокровища, замечательные по глубине мысли и широте чувства, но оно в основном сохраняло свои наивно-патриархальные, эпические формы. Русский крестьянин прошлого века пел чудесные песни, но он почти или совсем не знал музыки Глинки, выросшей на почве его песен; он создавал великолепные узоры, так восхищавшие и вдохновлявшие Сурикова, но он не видел «Боярыни Морозовой». В эпоху социализма мы являемся свидетелями постепенного уничтожения противоположности между «ученым» искусством и народным творчеством. Иначе говоря, мы наблюдаем исчезновение противоположности в путях развития, идейном содержании и даже в конкретных формах профессионального и самодеятельного искусства, хотя это, конечно, не означает, что между ними исчезает вообще всякое различие. Утрачивая в условиях советской культуры ограниченность патриархальной наивности, народное творчество сохраняет и развивает свое основное содержание — это по-прежнему непосредственно-поэтическое оформление общих чаяний и стремлений народа. Если мы возьмем такие яркие фигуры, как Джамбул или Сулейман Стальский, мы увидим в их искусстве ярчайшие образцы народного творчества в самом непосредственном смысле этого слова. Это — фольклор, устная поэзия, это — во многом те же формы и образы, которыми народы жили в течение долгих и долгих столетий. Но в творчество народных певцов властно врывается новое богатейшее содержание жизни народа. При этом народное творчество в смысле отражения действительности во всем ее богатстве и полноте не только не уступает творчеству профессиональных художников, но и в ряде отношений часто его превосходит. Но происходит и обратный процесс. Профессиональное искусство впитывает в себя источники народного творчества, в свою очередь обогащаясь ими. Особенно любопытно это в таком искусстве, как кино. Кино — искусство, возникшее в результате развития новейшей техники, искусство молодое, которое не имеет за своей спиной многовековой традиции, и в нем нельзя найти какой-либо непосредственной связи с искусством фольклора. Но если мы возьмем такие, например, фильмы, как «Чапаев», мы увидим, как рождается в кино новый жанр, нечто вроде кинематографического эпоса. Источник постепенного сближения искусства профессионального и самодеятельного, при котором они взаимно обогащаются, развиваются на новой основе, заключается в том, что у нашего искусства нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, всего советского народа в целом. В связи с этим постепенно ликвидируется разрыв между «ученым» искусством и народным творчеством. Источником этого разрыва было разделение труда, повлекшее за собою и классовое расслоение общества. В эпоху социализма у нас сохраняется разделение труда, хотя тенденции его уничтожения уже налицо. Стахановское движение, как указывал И. В. Сталин, определило пути преодоления противоположности умственного и физического труда; намечаются некоторые признаки уничтожения существенных различий между городом и деревней. Но при всем том мы еще очень далеки от того этапа в развитии коммунистического общества, когда окончательно исчезнет общественное разделение труда. Этим определяется, в конечном счете, наличие в Советской стране различных социальных групп деятелей искусства: с одной стороны, художников-профессионалов, а с другой — мастеров народного творчества. Но разделение труда при социализме, в частности наличие профессиональных художников, не делает их оторванными от народа. Напротив, оно обеспечивает им на данном историческом отрезке времени возможность углубления и тщательной разработки в искусстве мыслей и чувств народа, совершенствование художественного мастерства. Нет принципиальной разницы в смысле образа мыслей и склада чувств между несовершенной еще картиной самодеятельного художника, изображающей победы Советской Армии, и произведениями мастеров живописи — Грекова, Авилова, Кривоногова и т. д. Профессионалы-живописцы, именно потому, что они мастера своего дела, полнее и яснее могут воплотить в своих картинах стремления народа, но суть дела от этого не меняется. Именно потому, что советские художники черпают свой материал непосредственно в жизни и интересах народа, потому, что в самой структуре социалистического общества нет оснований для существования двух оторванных друг от друга потоков искусства, противоположность между народным творчеством и профессиональным искусством теряет свой принципиальный характер. У них один материал, одна цель, одни идеи. В народе, строящем коммунизм под руководством Коммунистической партии, художник черпает и свое вдохновение, и свои идеи, и цели, которые он себе ставит; именно в народе он черпает и одобрение и критику своей деятельности. Всеми своими корнями живые побеги нашего искусства уходят в народ и связаны с народом. Поэтому мы и можем говорить, что наше искусство представляет собой высший этап, новую стадию развития народности художественной культуры, что народность приобретает здесь такой размах и всеобъемлемость, каких не имела она ни на одном из предшествующих этапов развития искусства. В этих условиях особенно резко обнаруживается растленная суть формализма в искусстве, его враждебность народу. Формализм антинароден по своему существу. Произведения искусства обретают свое подлинное бессмертие в признании народа. Формалистические «произведения» Татлина, Штеренберга, Тышлера канули безвозвратно в Лету, ибо были бесконечно далеки от народа, более того, враждебны ему по строю идеи и по своей заумной, бессмысленной форме. ЦК ВКП(б), вскрывая недостатки в развитии отдельных звеньев советского искусства, подчеркивал: «Многие драматурги стоят в стороне от коренных вопросов современности, не знают жизни и запросов народа, не умеют изображать лучшие черты и качества советского человека». Быть народным по содержанию своего искусства и означает для художника уметь всесторонне и ярко отображать жизнь, мысли и чувства советских людей, отображать их в доступной, близкой народу форме. Важнейшие задачи, стоящие ныне перед советским искусством, прямо и непосредственно определяются его народным характером. «Огромные обязанности в великой борьбе по выращиванию нового, светлого и выкорчёвыванию обветшалого и омертвевшего в общественной жизни ложатся на наших работников литературы и искусства. Долг наших писателей, художников, композиторов, работников кинематографии — глубже изучать жизнь советского общества, создавать крупные художественные произведения, достойные нашего великого народа», — говорил Г. М. Маленков в своем докладе на XIX съезде партии. Основой народности советского искусства по содержанию является его неразрывная связь с жизнью народа, с интересами социалистического государства, руководящими идеями Коммунистической партии. Отношения, установившиеся между искусством и социалистическим общественным строем, обуславливают для первого возможность непосредственно участвовать в практическом строительстве коммунизма, помогает тем самым решению основной исторической задачи народа. Рассматривая вопрос с этой главной точки зрения, мы можем констатировать, что советское искусство обнаруживает свою народность, во-первых, в том, что оно отражает эпоху всенародной борьбы за коммунизм, во-вторых, в том, что оно-выражает мысли, волю и чувства миллионов строителей коммунизма, и, в-третьих, в том, что оно целиком принадлежит народу, является его достоянием, делает полностью доступными народу все ценности, которыми оно располагает. В прошлом, в условиях антагонистических обществ, не было такого полного единства искусства в пределах каждой национальной культуры. В противоположность языку, обслуживавшему каждую буржуазную нацию в целом, культура развивалась противоречиво. Любые идеи, в том числе и художественные, имели классовый характер. Это значит, что и искусство, как мощное средство идейной борьбы, в условиях капиталистического общества, как и общества феодального и рабовладельческого, всегда подчиняется общим законам развития культуры в антагонистических обществах: коль скоро существуют эксплуатируемые и угнетенные массы, существует и их культура, враждебная культуре эксплуататоров. Иное дело — общество социалистическое. Советское искусство не служит какому-либо одному классу внутри социалистического общества, в ущерб другим классам. Оно стоит на общенародных позициях, так как обслуживает общество в целом. И эта общенародность советского искусства ярко выражает себя в содержании искусства и формах социалистического реализма. Возможность такой общенародной позиции советского искусства коренится в особых условиях развития национальной культуры после Великой Октябрьской социалистической революции. Марксизм-ленинизм учит, что развитие социалистической культуры совершается на базе расцвета социалистических наций, свободных от непримиримых классовых противоречий, разъедающих буржуазные нации, и являющихся гораздо более общенародными, чем любая буржуазная нация. На базе развития и укрепления общенародных социалистических наций в СССР и расцветает искусство социалистического реализма, стоящее на общенародной позиции, ибо это отвечает социальной структуре новых наций, самому общественному строю.
V.
Здесь мы соприкасаемся с очень важным вопросом, чрезвычайно актуальным в строительстве социалистической художественной культуры. Это вопрос о том, что при тесной связи с советским народом в целом искусство, социалистическое по содержанию, обладает богатейшим разнообразием национальных форм. Искусства — русское, украинское, узбекское, грузинское, армянское и т. д. — при единстве социалистического содержания различаются многообразием, многогранным богатством проявлений своей национальнойформы. Мы не можем взять на себя задачи всестороннего и глубокого рассмотрения вопроса о советском искусстве, социалистическом по содержанию и национальном по форме. Мы проанализируем здесь эту проблему лишь в связи с проблемой народности. В основе теории о социалистическом искусстве в его своеобразных национальных проявлениях лежит учение И. В. Сталина о социалистическом содержании и национальной форме советской культуры. И. В. Сталин дал глубокое и ясное определение сущности и путей развития советской культуры, органической частью которой является искусство: «Мы строим пролетарскую культуру. Это совершенно верно. Но верно также и то, что пролетарская культура, социалистическая по своему содержанию, принимает различные формы и способы выражения у различных народов, втянутых в социалистическое строительство, в зависимости от различия языка, быта и т. д.». Нет и не может быть на данном историческом этапе и на обозримый период времени впредь искусства, лишенного национальности. В настоящее время развитие культуры вообще, развитие художественной культуры в частности возможно только как развитие национальной культуры. В современных условиях это обстоятельство имеет свои специфические и притом крайне важные особенности. Прежде, в эпоху формирования и развития капитализма, процесс укрепления национальной культуры, процесс глубоко прогрессивный, шел в условиях руководящей роли буржуазии. В это время, при социальной и политической гегемонии буржуазии, и даже с ее помощью и поддержкой, народы создали могучие основы своей национальной художественной традиции. Таким было, в частности, искусство Возрождения, например, во Франции в эпоху Рабле, Ронсара, Леско и Клуэ, таким было голландское искусство XVII века, такою была немецкая художественная культура времен Винкельмана, Лессинга, Шиллера, Гёте, таким во многих своих чертах было искусство большинства стран Европы первой половины XIX века, искусство Гойи и Давида, Бетховена и Шопена. Прогресс национального искусства в ту эпоху не только не противоречил интересам буржуазии, но был для нее выгоден, и поэтому, хотя эта национальная традиция ни в какой мере не является специфически буржуазной, буржуазия извлекала для себя из нее немалые идейно-политические выгоды. Теперь положение кардинальным образом изменилось. Ныне буржуазия, империалистическая буржуазия окончательно и бесповоротно превратилась в злейшего и непримиримого врага всякого прогресса — экономического, социального или культурного — все равно. С ненавистью отрекается она от великих национальных традиций своих народов. Безродный космополитизм становится ее официальной идеологией, ибо она готова предать и ежедневно предает самым подлым образом насущные интересы нации, лишь бы сохранить свои выгоды и прерогативы. Космополитизм служит идеологической ширмой, с одной стороны, для практики империалистических захватов («долой национальную независимость!»), с другой — для политики пресмыкательства национальной буржуазии отдельных стран перед «не знающим отечества» (Ленин) империализмом («да здравствует «мировая» культура!»). В этих условиях буржуазия перестает быть силой, способной поддержать культурные традиции нации, не говоря уже о том, чтобы двинуть их вперед. То, что в этом смысле делается сейчас в таких странах, как Италия и Франция, странах с великой национальной художественной традицией, — яркий и трагический тому пример. Буржуазия этих стран, пресмыкаясь перед чужеземным империализмом, ежедневно предает свою родину. Поэтому она бесстыдно отрекается от славного наследия своих народов, фальсифицируя его или просто объявляя его «устаревшим». Так, во время последнего юбилея Леонардо да Винчи наемные писаки объявили великого сына итальянского народа одним из основоположников современного космополитизма (!). Борьба за передовую национальную художественную традицию есть борьба за политическую и идейную свободу народов от империалистического рабства. В нашу эпоху борьба за национальную культуру народа неразрывно связывается с борьбой за мир, демократию и социализм. «Раньше буржуазия, считалась главой нации, — говорил И. В. Сталин, — она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия продаёт права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять». И мы видим, что именно коммунисты являются сейчас в разных странах наиболее последовательными самоотверженными защитниками великих культурных традиций своих наций. Кто в современной Франции борется за наследие Давида и Жерико, Пуссена и Шардена? Передовые художники и критики, объединяющие свои силы вокруг коммунистической партии, неустанно и последовательно борющейся за независимость и свободу нации, за процветание и культуру французского народа. Если мы возьмем страны народной демократии, то здесь особенно отчетливо увидим неразрывную связь успехов национального искусства с борьбой за социализм. Буржуазия Польши и Чехословакии, например, немало шумела о своей борьбе за «национальную» культуру. На поверку, однако, получалось, что буржуазное искусство этих стран до второй мировой войны было насквозь пропитано тлетворным влиянием космополитического формализма; национальные демократические традиции художественной культуры ежедневно попирались. В Польше виднейшим объединением было объединение художников-формалистов под красноречивым названием: «Парижский клуб». В Чехословакии сторонники космополитического формализма будто по иронии судьбы входили в группировку, носившую имя прославленного национального чешского художника. Но в клубе «Манес» тогда мало что, кроме этого славного имени, напоминало о великих традициях народа. Иное теперь. Под водительством коммунистических и рабочих партий художники стран народной демократии беспрепятственно развивают лучшие национальные традиции, строят свою свободную, подлинно народную культуру, народное искусство, социалистическое по содержанию, национальное по форме. В свете этих важнейших исторических фактов становится ясно, какое актуальное значение имеет борьба против всех и всяческих влияний космополитизма в области искусства. Партия всегда указывала и указывает на то, что космополитизм — идеологическое оружие империализма, с которым ни на минуту не должна ослабляться борьба. На основе последовательного искоренения всех остатков и влияний формализма и других космополитических тенденций в советском искусстве, строительство искусства, социалистического по содержанию и национального по форме, может разворачиваться еще успешнее. А в этом строительстве — одна из актуальнейших задач Коммунистической партии в области развития социалистической культуры. При этом следует подчеркнуть еще одно важнейшее обстоятельство. Культивирование национального по форме искусства неразрывно связано с развитием в нем благородных идей братства народов, идей пролетарского интернационализма. Социалистическое содержание советского искусства предполагает в качестве одного из основных своих элементов развитие интернационализма. Итак, единство содержания советского искусства предполагает многообразие национальных форм выражения. Морально-политическое единство советского народа, братство наций СССР, имеющих одну цель и одни интересы в общем движении к коммунизму, обуславливают единство социалистического содержания советского искусства. Но это единое содержание приобретает различные формы в зависимости от языка, исторических традиций, уклада жизни, особенностей быта и характера того или иного народа, нации. Максимальное развитие национальных искусств, обеспечение для любой национальности возможностей самобытного расцвета своей художественной культуры — важные условия расцвета всего искусства социалистического реализма. Когда мы подходим к искусству какого-либо народа, то в чем видим мы национальную форму, в которую отливается социалистическое содержание этого искусства? Главный критерий отчетлив и ясен — это критерий языка. Там, где перед нами литературное или театральное произведение, созданное на языке данного народа, там уже мы можем говорить о существеннейшем, можно сказать, решающем элементе национальной формы. Но целый ряд искусств не оперирует языком. Таковы, в частности, изобразительное искусство и архитектура. В чем национальная форма в живописи или зодчестве? Вряд ли было бы правильно сводить понятие национальной формы лишь к использованию приемов и мотивов народного творчества, фольклора или же, тем более, феодального искусства данной нации. Стилизация под средневековую миниатюру в Узбекистане или под древние фрески в Грузии, например у Гудиашвили, не является примером плодотворного развития национальных художественных форм. Конечно, умелое использование традиций народного, в частности средневекового, искусства может быть чрезвычайно плодотворно. Вспомним хотя бы постройки Таманяна в Ереване. Нет сомнения, важным элементом архитектурной орнаментации является использование народного узора, примеры чему мы находим на Украине, в Узбекистане, Грузии и т. д. Но, во-первых, нельзя сводить весь вопрос о национальной форме в архитектуре и изобразительном искусстве только к воспроизведению традиционных художественных мотивов, в частности средневековых, во-вторых, должен делаться тщательный отбор, поскольку средневековое искусство, в частности, обладает целым рядом ограниченных сторон, недоучет которых может привести к реставраторству, к некритическому воспроизведению средневековых образов, разумеется, бесконечно далеких от нашей социалистической действительности. Известно, что буржуазные националисты в Грузии, на Украине и в других местах протаскивали свою враждебную советскому народу идеологию под маской якобы возрождения средневековых «исконных» национальных форм. Группа врага украинского народа Бойчука усиленно маскировала свой формализм стилизацией под старое украинское искусство. Но важно при этом указать, что во всех подобных случаях никакого подлинного возрождения истинно национальных традиций не получалось, да и не могло получиться. Бойчук болтал об украинском портрете, а писал картины в духе космополитического формализма. М. Бойчук. Доярка.
М. Бойчук. Доярка.
В основе развития национальной формы в искусстве лежит возрождение и развитие всех живых и плодотворных традиций в художественной культуре данного народа, которые обогащаются практикой современной действительности. Провозглашение некоей отвлеченной национальной формы, национального характера вне времени и пространства, вне их социалистического содержания приводило и приводит нередко к серьезным ошибкам националистического характера. Так, еще недавно партийная печать подвергла справедливой критике стихотворение украинского поэта В. Сосюры «Люби Украину», где патриотические чувства художника выражены «вне времени и пространства». Поэтому в таком произведении мы имеем дело не с воплощением священного чувства советского патриотизма, а объективно, с влиянием буржуазно-националистических идей. Национальная форма каждой из социалистических наций СССР, являясь неразрывно связанной с лучшим наследием национальной культуры, и в частности даже с определенными, веками сложившимися формами и приемами мастерства, обогащается и развивается в соответствии с новыми условиями жизни народа, с социалистическим содержанием советского искусства. Национальная форма социалистического по содержанию советского искусства — это не только те или иные формальные мотивы, особенности, допустим, колористического строя, типов орнамента и т. д. Конечно, есть определенное различие и в этом отношении. Но не оно кажется нам главным в области изобразительного искусства. Искусство советской Армении отличается от искусства Казахской республики не только и, может быть, не столько живописной манерой, сколько характером и укладом жизни народа, отразившимся в произведениях искусства. От казахского художника мы не будем требовать изображения жизни виноградарских колхозов со всей окружающей роскошью южной природы, так же как от армянского мастера — поэзии степных просторов, по которым скачут опытные в коневодстве жигиты. Вместе с тем, разумеется, и в этом плане невозможно предписывать искусству какие-то рамки. Армянский художник может писать картину об Арктике, а казахский график — иллюстрировать, например, «Витязя в тигровой шкуре». К национальной форме опасно подходить так, чтобы искать в ней то, что отгораживает культуру данного народа от культуры других народов. Каждая нация, все равно большая или малая, делает свой вклад в общечеловеческую культуру, в этом ее национальное своеобразие и подлинная оригинальность. Но разве отсюда правомочно сделать вывод, что национальная форма — лишь то, что делает непохожим искусство данного народа на искусство всех иных народов. Такой подход к проблеме национальной формы более похож на подход буржуазно-националистических «теоретиков», чем марксистов-интернационалистов. Возьмем украинскую советскую живопись. Разве необходимо изобретать какую-то особую национальную форму для украинских художников, которая бы обязательно отличала их от русских мастеров. В чем эта специфика, например, в «Весне» Т. Яблонской или в картине «Обсуждение двойки» С. Григорьева? Мы не найдем в них формальных моментов, принципиально отличающих эти произведения от образцов русской советской живописи. Здесь нет ни специфически украинского колорита, ни какой-либо «национальной» композиции. Но только человек, зараженный буржуазным национализмом, может на этом основании отказывать указанным полотнам в их принадлежности к украинской социалистической культуре.
 Т. Яблонская. Весна.
Т. Яблонская. Весна.
 С. Григорьев. Обсуждение двойки.
С. Григорьев. Обсуждение двойки.
Национальная форма в советском искусстве — это отнюдь не то, что разделяет социалистические нации СССР друг от друга. Свободное развитие каждым народом своей национальной по форме культуры, наоборот, есть условие монолитной дружбы всех народов страны социализма, вместе строящих коммунизм. Все то, что способствует движению данного народа к коммунизму, все то, что в культуре, в искусстве данной нации помогает переделке сознания людей в духе социализма, составляет важнейшие слагаемые национальной формы социалистического по содержанию искусства, здесь и язык, и культивирование передовых художественных традиций своего народа, и национальные формы орнамента, и образы, связанные с укладом жизни народа, и одновременно все то, что обогащает искусство взаимным культурным обменом, все то, прежде всего, что связано с оплодотворяющим влиянием передового искусства великого русского народа. Национальный орнамент резьбы по ганчу в выстроенном русским архитектором Щусевым театре в Ташкенте, узбекская опера, построенная на использовании народных мелодий и ранее неведомая культуре народа, постановка Островского в узбекском театре на узбекском языке, картина, написанная «европейским» языком реалистической живописи, — все это неотъемлемые элементы национальной по форме культуры социалистической узбекской нации. Понятно, что в развитии социалистической художественной культуры каждой нации ее богатое художественное прошлое имеет первостепенное значение. Но важно правильно разобраться в этом прошлом. Ленин писал: «Есть две нации в каждой современной нации — скажем мы всем национал-социалам. Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть такие же две культуры в украинстве, как и в Германии, Франции, Англии, у евреев и т. д.». Марксистско-ленинское учение о двух культурах определяет подход к вопросам развития национальных традиций в советских условиях. Владимир Ильич требовал, чтобы из каждой национальной культуры брались ее демократические и социалистические элементы. Разумеется, это не следует понимать так, что, допустим, в русском искусстве следует развивать традиции передвижников и не следует — художников начала XIX века, периода дворянской культуры, — Кипренского, Мартоса и других. Важно только, чтобы во всем наследстве осваивались прогрессивные, связанные с народом тенденции, ибо само социалистическое искусство есть последовательное и полное развитие всего, что было создано действительно ценного в прошлом. Портреты Ф. Рокотова и Д. Левицкого принадлежат к лучшим сокровищам национального русского искусства. Но они интересуют нас в качестве наследства не в своей дворянско-сословной ограниченности, а в том объективном человеческом содержании, которое в них заключено. Великие прогрессивные традиции искусства каждой нации получают неограниченные возможности своего расцвета в условиях социализма. Теперь они становятся единственно жизнеспособными, поскольку уничтожены эксплуататорские классы, питавшие в прошлом «культуру Пуришкевичей, Гучковых и Струве». Только подлинно народное искусство, искусство, выражающее интересы миллионов, развивается в советских условиях широко и полнокровно, и это делает его особенно чутким к народным традициям в искусстве прошлого, неразрывно роднит советское искусство каждой нации с лучшими проявлениями народной художественной культуры минувших времен. Развитие в наше время народных художественных традиций обусловлено расцветом в СССР новых, социалистических наций. Социалистическая революция в России ликвидировала старые буржуазные нации. На их обломках возникли новые, советские нации, нации социалистические. Рождение общенародных социалистических наций создает предпосылки для невиданного расцвета подлинно всенародного искусства и на этой почве — развития, возрождения и обогащения живых традиций демократизма и социализма в художественной культуре прошлого. Чудесные народные художественные промыслы народов Средней Азии были в условиях капитализма обречены на вымирание. Социалистический строй спас их от гибели, и мы восхищаемся великолепными современными туркменскими коврами, узбекской резьбой, таджикской вышивкой. Старые художественные формы приобретают новую жизнь, развиваются, обогащаются, пополняясь новым содержанием. Происходит процесс сложения новой национальной художественной формы социалистического по содержанию искусства, основой, фундаментом, исходным пунктом которой является прогрессивная художественная традиция народа. Огромные перемены в характере, укладе жизни, уровне культуры народов СССР делают необходимым развитие всех прогрессивных элементов искусства прошлого и, вместе с тем, включения и новых элементов национальной формы, соответствующих новому, социалистическому содержанию жизни народа. Это обязывает нас учитывать прогрессивное развитие национальной культуры, особенно интенсивное и бурное в эпоху социализма, когда раскрепощены все творческие силы нации. Как видим, это не означает разрыва с национальной традицией: это — ее развитие, обогащение ее лучших тенденций. Ничего общего с марксизмом не имеет, например, третирование русской культуры прошлого, противопоставление ее культуре социализма. Русская культура — культура великих передовых традиций. Никогда нельзя забывать, что «...кроме России реакционной существовала ещё Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Всё это вселяет (не может не вселять!) в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса». В этих замечательных словах И. В. Сталина, обращенных к Демьяну Бедному, подчеркнута неразрывная связь передовой советской культуры с лучшими революционными традициями великого русского народа. Эти лучшие традиции — достояние всех народов СССР, они помогают росту и развитию национального искусства, помогают укреплению социалистической по содержанию, национальной по форме художественной культуры каждой нации Советского Союза. Хорошо известно, например, что у целого ряда народов Севера культура до революции стояла на чрезвычайно низкой ступени развития. Сами эти народы находились на стадии разложения родового строя или феодализма, и у них были соответствующие формы главным образом прикладного искусства: резьба по кости, плетение и т. д. Было бы, однако, странным считать, что ради сохранения «национальной формы» их художественной культуры мы не должны внедрять постепенно, по мере самого культурного роста народа, новые виды, жанры и приемы искусства. У дореволюционных бурят-монголов не было живописи в современном смысле слова. Творчество Ц. Сампилова дает нам яркий образец искусства глубоко национального по форме, в котором образ мыслей, уклад жизни и быт бурятского народа получили свое яркое выражение, хотя основы своей живописи Сампилов почерпнул из передового опыта русского искусства.
 Ц. Сампилов. Любовь в степи.
Ц. Сампилов. Любовь в степи.
Роль русского искусства в деле развития и обогащения национального по форме искусства народов СССР — огромна. Его благотворное влияние для развития передовых элементов отечественной художественной культуры испытали на себе многие народы СССР еще до революции. Так, именно под воздействием искусства передвижников сложилась реалистическая школа живописи во главе с Габашвили и Мревлишвили в Грузии. После Великой Октябрьской социалистической революции это влияние еще более возросло, так как оно осуществлялось теперь вполне беспрепятственно во имя развития национальных культур. Многие нации, до сего времени вообще не знавшие реалистической живописи, теперь ее развивают с помощью русских советских художников, растя и свои национальные кадры. Такова, например, живопись Киргизии, где рядом с киргизскими художниками работает русский по происхождению мастер С. Чуйков.
VI.
Новое, социалистическое содержание искусства обуславливает возникновение новой формы. Все дело заключается в том, чтобы эта новая форма была национальна, опиралась на передовой художественный опыт прошлого, развивала его, а отнюдь не представляла собою нигилистического отрицания всего предшествующего художественного и вообще культурного опыта народа. Щусев, строя театр в Ташкенте, привлек к творческому содружеству замечательных узбекских резчиков по ганчу. И древняя традиция мастерства возродилась здесь в новых формах и новых образах. Государственный Академический Большой Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте, Узбекистан (архитектор А. Щусев).
Государственный Академический Большой Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте, Узбекистан (архитектор А. Щусев).
Вопрос о национальной форме в искусстве неразрывно связан с другим — с вопросом об освоении художественного наследия прошлого. Мы его уже отчасти коснулись в связи с проблемой национальной традиции. Рассмотрим его теперь более пристально. Вопрос о наследии — один из самых важных вопросов развития нашей социалистической культуры, формирования искусства социалистического реализма Без точного знания культуры прошлого, без изучения и использования наследства искусство социалистического реализма развиваться не может. Проблема наследия является одной из важнейших проблем с точки зрения практического строительства нашей художественной культуры. Но что это значит — проблема наследия? Что значит наследовать прошлое искусство? Мы говорим сейчас не о том, что произведения старого искусства непосредственно живут в нашей современности, являясь, в прямом смысле слова, достоянием советского народа: читаются книги классиков, в музеях висят картины старых художников, в зданиях, построенных великими русскими зодчими, живут и работают советские люди. Уже несколько сложнее обстоит дело, окажем, в музыке или в театре, где исполнение симфонии Чайковского или постановка пьесы Островского есть не просто воспроизведение классического творения, а одновременно и событие советской художественной культуры, потому что поставить Островского на сцене — это значит не только дать возможность советскому зрителю увидеть классическую пьесу, но и создать советское произведение театрального искусства. Здесь речь идет о как бы «второй жизни» классического искусства. Таким образом, классика живет в нашей современности, живет прямо или опосредствованно, составляя существенную сторону художественной культуры советских людей, являясь мощным средством воспитания человека, всестороннего развития его духовных способностей. Но когда мы говорим о наследии, то имеем в виду обычно другое — использование классического наследия непосредственно в творческой работе советского художника. Партия постоянно учит нас внимательному и бережному отношению к наследию. Всякое нигилистическое его отрицание, как правило, связанное с антинародными формалистическими тенденциями, должно и может рассматриваться как стремление подорвать основы строительства советского искусства, искусства социалистического реализма. Известно, как настойчиво подчеркивал необходимость овладеть наследием В. И. Ленин в ту пору, когда формалисты подняли особенно большой шум, намереваясь «забросить классиков на свалку». Разъясняя основы соотношения новой, пролетарской культуры и культуры старой, Ленин сформулировал свое знаменитое положение: «Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества». Таким образом, Ленин подчеркивал беспочвенность и порочность пролеткультовско-богдановского противопоставления старой культуры, как якобы специфически «буржуазной», и новой, пролетарской. В определении В. И. Ленина акцентируется прежде всего необходимость закономерного развития лучших традиций прошлого, необходимость исходить из культурного опыта человечества. «Почему, — протестовал В. И. Ленин против формалистического нигилизма по отношению к классикам, — нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»? Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица». Эти бессмертные указания В. И. Ленина нисколько не устарели. В них сформулированы основы всей практической работы партии в деле строительства советского искусства, опирающегося на классическое наследие, прежде всего, наследие русского реализма. Известно, какой вред принесла советскому искусству борьба формалистов против наследия. Именно потому, что эта вредная, антимарксистская теория тормозила развитие социалистического реализма в искусстве, партия разгромила ее и развернула широкую борьбу за глубокое и тщательное изучение и освоение опыта творчества великих мастеров прошлого. Достижения советской живописи целиком базируются на изучении и освоении классического наследия. Это относится к АХРР, художники которой стремились — и не без успеха — исходить из опыта передвижничества. Это относится и к искусству тридцатых годов, когда развернувшееся широко изучение и популяризация классики явились исходным пунктом крупнейших удач советских художников; наконец, в послевоенный период такие задачи, как борьба против остатков формализма и эстетства, повышение уровня мастерства, в общем успешно решаются только при условии постоянного и последовательного освоения наследия. Естественно, что не все в прошлом подлежит наследованию. Опираясь на марксистско-ленинскую теорию двух культур, мы осваиваем, развиваем и обогащаем все лучшее, что было создано человечеством в прошлом. Великая традиция реалистического отображения действительности, крепко связанная с народными источниками художественной культуры, — вот главный животворный источник, исходный пункт искусства социалистического реализма. Вспомним, что ведь и само искусство социалистического реализма есть закономерный этап развития реалистического метода в определенных исторических условиях. На протяжении всего развития человечества до социалистической революции в искусстве был накоплен огромный опыт, созданы великие сокровища, поставлены и во многом разрешены важнейшие эстетические проблемы. За тысячелетия своего существования искусство создало огромные ценности в смысле правдивого раскрытия существа самых различных сторон действительности, человечество обогатилось освоением многих и многих граней мира. Весь этот грандиозный опыт художественного познания жизни представляет собою ту основу, на которой может и должен осуществляться дальнейший художественный прогресс. Так, раскрывая духовное богатство советского человека, наши живописцы исходят из того опыта в изображении духовно богатого человека, который был накоплен в прошлом. Они учатся на образцах Репина, Крамского, Кипренского, Рембрандта и многих других. А. Герасимов в своих портретах исходит из опыта Репина, Бубнов в «Утре на Куликовом поле» опирался на творчество Сурикова, Ромадин в своих пейзажах — на Васильева, Саврасова и Левитана. Они примыкают к большой традиции реалистического познания действительности, хотя, разумеется, советским художникам необходимо еще многое сделать, чтобы «догнать» классиков в смысле полноты и совершенства их художественных решений. Тем не менее в советском искусстве самые крупные победы были достигнуты в результате глубокого и внимательного изучения классического искусства. Конечно, опираться на классику, осваивать наследие — не значит механически повторять решения великих мастеров прошлого. Но творчество советских художников не может не иметь своей предпосылкой художественный опыт, накопленный человечеством в прошлом.
 Н. Ромадин. Розовая весна.
Н. Ромадин. Розовая весна.
То, что советское искусство развивается как часть национальной по форме культуры социалистических наций, определяет особую роль, которую приобретает национальное наследие. Речь идет о развитии национальной традиции в ее наиболее прогрессивных исторических тенденциях. Это делает проблему критического освоения национального наследия принципиально существенной. Правильно решить этот вопрос можно только опираясь на марксистско-ленинское учение о социалистических нациях и о культуре социалистической по содержанию и национальной по форме. Обычно, рассматривая проблему социалистического содержания и национальной формы, ограничивают ее всеми нациями, населяющими Советский Союз, кроме русской, и исключают, таким образом, совершенно незакономерно русское искусство. Русское советское искусство, выражая в своих произведениях социалистическое содержание, так же, как и всякое другое, обладает национальной формой. Значение, которое придаем мы в нашей практике наследию русского искусства, подтверждает это положение. Советское русское искусство, конечно, не является каким-то аморфным с точки зрения своего национального лица ответвлением «общеевропейского» искусства. Являясь одним из ярчайших национальных искусств, оно, разумеется, оказывается и неотъемлемой частью общей культуры человечества, но это совсем не значит, что в нем нет ясно выраженной «национальной индивидуальности». Советское искусство не отказывается от изучения и использования всех достижений мировой классики; более того, невозможно игнорировать грандиозный запас художественных ценностей, которые созданы всеми народами во все времена. Важно, однако, иметь в виду, что мы строим свою национальную по форме художественную культуру, и этим определяются и конкретные задачи и значение, которое приобретает национальное наследие. Наследие русского искусства имеет еще и потому такое существенное значение, что русская культура в целом играет в развитии советского искусства особую роль, ибо носительница этой культуры русская нация обладает исключительным богатством своего культурного наследия, так ярко охарактеризованного И. В. Сталиным. Русская нация — это нация «Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..». Русский народ имеет великую революционную освободительную традицию, так замечательно оплодотворившую бессмертное русское искусство; русский народ создал могучую культуру, принадлежащую к вершинам человеческой культуры. Развитие лучших традиций русского искусства — необходимое и неотъемлемое условие высокого расцвета искусства социалистического реализма в нашей стране. Вопрос о национальной форме русского искусства — очень сложный вопрос. В чем обнаруживается с наибольшей яркостью национальный характер русского искусства? Что является «более национальным» с точки зрения развития русского искусства: живопись Кипренского, Федотова, Репина или Серова? Конечно, творчество этих мастеров представляет разные стороны, разные этапы развития национальной русской художественной культуры. Иногда делают ошибку, считая национальный характер чем-то абстрактным, заранее данным, как бы предшествующим развитию самого искусства, чем-то, что, существуя постоянно и неизменно, как некая идея, лишь по-разному выражает себя в разные эпохи. Такая, в сущности идеалистическая, концепция противоречит марксистско-ленинскому положению об историческом характере процесса формирования нации. Правильным будет лишь тот подход, при котором мы поставим вопрос на историческую почву. Мы не должны умалять глубокого национального характера средневекового искусства Рублева, но в творчестве Репина демократические элементы русского искусства раскрылись с гораздо большей силой, какой, само собой понятно, не могло быть по историческим причинам в эпоху Рублева. Национальную форму русского искусства надо брать в развитии. Поэтому развитие русского искусства в социалистических условиях является не механическим воспроизведением идей, образов, форм старой русской художественной культуры, а ее органическим развитием в новых условиях. Новая социалистическая действительность, новая культура требуют обогащения национальной традиции. Искусство социалистического реализма есть разработка заветов классиков реализма с точки зрения потребностей жизни, с точки зрения актуальных проблем и конфликтов исторической действительности, характерных для нашей эпохи. Живая связь соединяет дореволюционное демократическое искусство и искусство советское; это ясно видно, когда обращаешь внимание хотя бы уже на то, какую непосредственную роль в сложении нашей реалистической живописи сыграли Н. Касаткин, А. Архипов, С. Малютин, К. Юон и другие мастера-реалисты, начавшие свой творческий путь еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Но отсюда было бы неверно делать вывод, что между произведениями передвижников и произведениями художников АХРР нет никакого различия в отношении как содержания, так и формы. Новая действительность, в корне противоположная той, которую изображали художники в буржуазно-помещичьей России, новое отношение к миру, складывавшееся в практике работы художников и в неразрывной связи с общенародным делом строительства социализма, определяли формирование нового метода. Великая Октябрьская социалистическая революция коренным образом изменила положение трудящегося человека в обществе, она вернула ему все созданные его трудом и отнятые у него господствующими классами материальные и духовные ценности. Уничтожение всякой эксплуатации обеспечило массам широчайшие возможности духовного развития. Старое искусство было поставлено перед необходимостью видеть, что человек из народа находился под гнетом эксплуатации, что его духовные силы уродовались условиями жизни. Репин в Канине, Суриков в стрельцах увидели могучие возможности человеческого духа, возможности, которым во всю их силу не суждено было свободно раскрыться в условиях подневольной, угнетенной Руси.
 В. Суриков. Утро стрелецкой казни.
В. Суриков. Утро стрелецкой казни.
Мы знаем замечательные образы людей из народа — и у Кипренского, и у Венецианова, и у Тропинина, не говоря уже о Перове, Крамском, Репине и Сурикове. Все это — образы с большим душевным содержанием. Но на них неизбежно лежит печать эпохи. Великие русские реалисты показали в своих произведениях прекрасных, но порабощенных людей. Это не ограниченность, а правдивость старого искусства, определяемая классовым гнетом, господствовавшим в царской России, гнетом, давившим и душившим все человеческие способности в народе. Сознательных выразителей народных дум и стремлений художники искали прежде всего в образах передовой, прогрессивной интеллигенции. В этом один из главных источников могущественного обаяния душевной силы всей замечательной портретной галереи русских художников от Кипренского до Серова. Ни одно эксплуататорское общество, а в особенности общество капиталистическое, не способно ценить человека, как такового. Оно неизбежно связывает свое представление о человеке с сословными, расовыми, имущественными или какими-либо иными посторонними моментами. Только социалистическое общество разбивает все эти ограничивающие условности и открывает неограниченные возможности подлинной оценки человека. Для искусства открывается широчайшее поле раскрытия духовного богатства человека в каждом активном, сознательном строителе коммунизма. У нас впервые в полную силу и с полным правом звучат прекрасные горьковские слова: «Человек — это звучит гордо». И. В. Сталин учит: «...мы должны прежде всего научиться ценить людей». Ценить людей по их действительной сущности, по их личным качествам, по их творчеству, по их делу — значит ценить в людях человека. То, что воцаряется в самой жизни, становится источником вдохновения для художников социалистического реализма. В советском искусстве нет объективных оснований для противопоставления образа интеллигента образу рабочего или крестьянина. Между портретами академика Зелинского и стахановки Савкиной работы П. Котова нет принципиальной разницы: оба — люди большого творческого труда и, стало быть, большого и богатого внутреннего содержания и тем прекрасны в глазах художника.
 П. Котов. Портрет академика Н.П. Зелинского.
П. Котов. Портрет академика Н.П. Зелинского.
 П. Котов. Знатная стахановка Савкина.
П. Котов. Знатная стахановка Савкина.
Советское искусство делает главным героем своих произведений людей из народа без различия их классового, национального или профессионального положения. Свободный человек страны социализма — основное его содержание. И искусство находит этого человека всюду, где живут, борются, творят и мыслят советские люди. Мы видим их в «Допросе коммунистов» Б. Иогансона и в «Ленине» В. Цыплакова, в «Письме с фронта» А. Лактионова и «На плотах» Я. Ромаса, в «Далеких и близких» Б. Неменского и в «Колхозном празднике» А. Пластова, в нестеровском портрете В. Мухиной и в портретах стахановцев «Серпа и молота» Г. Горелова, в портретах В. Ефанова и в «Отдыхе после боя» Ю. Непринцева. В бесчисленном множестве произведений раскрывается перед нами прекрасный образ народа — творца и победителя, единого и цельного в своем стремлении под водительством Коммунистической партии довести до конца великое дело строительства коммунизма.
 А. Лактионов. Письмо с фронта.
А. Лактионов. Письмо с фронта.
 Я. Ромас. На плотах.
Я. Ромас. На плотах.
 В. Цыплаков. В.И. Ленин в Смольном.
В. Цыплаков. В.И. Ленин в Смольном.
 А. Пластов. Колхозный праздник.
А. Пластов. Колхозный праздник.
 М. Нестеров. Портрет Веры Мухиной.
М. Нестеров. Портрет Веры Мухиной.
 Г. Горелов. Знатный сталевар завода «Серп и молот» М. Г. Гусаров со своей бригадой.
Г. Горелов. Знатный сталевар завода «Серп и молот» М. Г. Гусаров со своей бригадой.
 В. Ефанов. Портрет академика Петра Капицы.
В. Ефанов. Портрет академика Петра Капицы.
 Ю. Непринцев. Отдых после боя.
Ю. Непринцев. Отдых после боя.
Сам народ, простой труженик, вошел в искусство как самое важное и прекрасное его содержание. Советское искусство видит свой идеал в борьбе за коммунизм, в постоянном победном движении вперед, в решительной борьбе со старым, в созидании нового в жизни, которое одно безгранично обогащает человека, уничтожая в нем последние родимые пятна пережитков капитализма. В старом русском искусстве не было и не могло быть такого образа народа, который создали советские художники уже в первое пятнадцатилетие. Народ, восставший против угнетения, сознающий цели своей борьбы, руководимый партией, проявляющий высокий и сознательный героизм в бою, смелый и решительный в мирной жизни, — таков образ, проходящий перед нами в картинах М. Грекова, Г. Савицкого, Г. Рижского, М. Авилова и многих других. По глубине разработки своей мысли, по уровню мастерства эти произведения нередко стоят еще недостаточно высоко, порою это еще первые робкие шаги, но новые черты в них несомненны. Так, существенные отличия искусства социалистического реализма от реализма классиков определяются прежде всего новым идейным содержанием, почерпнутым в правдивом отражении новой действительности, а не какими-то априорно выведенными признаками «новой формы». В конечном счете, когда-нибудь социалистическоеискусство сформируется в такое художественное целое, которое будет так же отличаться от искусства Репина и Сурикова, как их искусство, в свою очередь, отличается от творчества Рафаэля и Леонардо да Винчи. Но сегодня важно то, что передовое наше искусство находит в Репине и Сурикове своих непосредственных учителей и помощников, и новое, характеризующее социалистический реализм в живописи, — прежде всего не в «формах мышления», а в тех практических, жизненных задачах, которые он призван решать. Так, одна из важнейших проблем наследия, проблема реалистического мастерства, должна решаться сейчас (и может решаться плодотворно) не с позиций того, что можно и чего якобы нельзя брать у Репина, а с позиций наиболее глубокого освоения мастерства классиков, без чего практически невозможно движение советского искусства вперед.
VII.
Великие мастера прошлого обладали непревзойденным пока совершенством художественного мастерства. Их искусство — великолепная школа для художника. На произведениях классиков можно и должно учиться ремеслу искусства в узком смысле этого слова. Мы очень хорошо знаем, как много наши художники получили от изучения приемов великих классических русских живописцев. Мы можем указать на влияние Репина, его манеры писать, на творчество многих наших художников, например Иогансона. Но освоение реалистического мастерства не сводится к овладению техникой. Освоение ремесла — дело крайне важное. Никакого искусства без ремесла вообще не может быть, и если художник не является мастером в смысле владения техникой своего дела, то будь он хоть самым одаренным от природы живописцем, он не сумеет реализовать своих замыслов. Учиться владеть своим ремеслом у художников прошлого — значит восходить к вершинам блистательного владения мастерством. Но если взять только технику искусства, его ремесло, мастерство в узком смысле, то, конечно, использование наследства этим отнюдь не исчерпывается. В искусстве прошлого нас интересует не только техника. У классиков можно и должно учиться глубине проникновения в жизнь, умению наблюдать и обобщать увиденное, умению создавать художественный образ и находить ему чеканную внешнюю форму. Мастер — не тот, кто умеет только выполнять, хотя, разумеется, художник, не владеющий ремесленной техникой своего искусства, — не художник. Более того, ремесло художника — совсем не мертвое, чисто техническое умение. Для скульптора, вопреки мнению Гёте, совсем не безразлично, обрабатывает он мрамор или бронзу; для поэта сам процесс слагания стихов неотъемлем от всей совокупности целостного поэтического воссоздания действительности. И все же не техническая искусность составляет основу мастерства; она — необходимое условие мастерства, его элемент, но не суть. Можно блестяще владеть техникой живописи и не стать живописцем. Для этого необходимо нечто большее. Мастерство живописца, как и мастерство всякого иного художника, на наш взгляд, включает в себя ряд сторон или аспектов, которые лишь в совокупности делают художника действительно совершенным мастером. Коль скоро мы откажемся от рассмотрения вопросов мастерства как вопросов механического выполнения, мы сразу должны будем притти к очень важному общему принципиальному выводу. Нельзя решать вопросы мастерства в отрыве от вопроса об идейности искусства, вопросы формы отрывать от вопросов содержания. Проблема мастерства — идейно-художественная проблема. Ниже мы попытаемся ближе проанализировать смысл этого положения и следующие из него выводы, но и сейчас необходимо подчеркнуть главное: мастерство художника есть его мастерство в отражении жизни. Великие реалисты прошлого потому вызывают наше восхищение и преклонение, что они сумели раскрыть и показать жизнь по-настоящему глубоко и полно. В свое время формалисты, сводя искусство к «деланью вещей», видели мастерство художника в умении делать «художественный предмет». Они игнорировали при этом содержание такого умения, становясь тем самым в позицию гоголевского Петрушки, для которого, как известно, грамота тоже сводилась к умению составлять из букв слова. Итак, говоря коротко, все, что необходимо уметь для того, чтобы «делать» искусство, входит в круг проблем мастерства. Сейчас проблемы эти особенно актуальны, так как с дальнейшим повышением уровня художественного качества произведения связаны теперь новые успехи нашего искусства. Выставки последних лет продемонстрировали очень серьезный рост мастерства художников и вместе с тем поставили ряд сложных вопросов, без решения которых невозможно двигаться дальше, к новым высотам социалистического реализма. Было бы, однако, неверно думать, что только сегодня, так оказать, неожиданно всплыли вопросы мастерства, будто раньше они вообще не стояли или ставились только, что называется, по ходу дела, практически. Разумеется, в той форме, как ныне, проблема мастерства выдвинулась только в послевоенные годы, но нельзя забывать, что, в сущности говоря, вся история советского реалистического искусства есть вместе с тем история борьбы за мастерство. Формализм не только причинил огромный ущерб идейности, содержательности искусства, он нанес тяжелый удар и по совершенству художественной формы. Этот момент необходимо иметь в виду при рассмотрении всех вопросов борьбы реализма против формализма в первые годы развития советской художественной культуры. Формалисты выступали с претензией на монополию в области художественной формы. Пусть, говорили они, мы недооцениваем содержание искусства, но зато наши произведения являются лабораторией художественной формы, мастерства. Мы, мол, вырабатываем язык искусства, экспериментируем, пробуем. В свое время эта заманчивая для формализма теорийка имела довольно широкое хождение. Ее распространению способствовало то, что и самый формализм часто рассматривали как якобы преувеличенное внимание к вопросам формы в ущерб содержанию. Ну, а уж если внимание к форме представлялось преувеличенным, стало быть, в этой области от формализма можно было якобы ждать всяческих благ. В том-то, однако, и дело, что формализм в действительности сочетал искажение, уродование объективного содержания жизни с ломкой, коверканьем и художественной формы. Все «эксперименты» формалистов в живописи не стоили ломаного гроша, подобно тому, как в области литературы бессмысленны и нелепы были словотворческие выкрутасы Хлебникова и Крученых. В самом деле. О каком реальном смысле фактурных комбинаций Татлина, геометрической аритмии малевичевского супрематизма, красочной какофонии Кандинского может итти речь всерьез? Разумеется, такого смысла в них нет ни на йоту. В. Татлин. Угловой контррельеф.
В. Татлин. Угловой контррельеф.
 К. Малевич. Супрематизм.
К. Малевич. Супрематизм.
 В. Кандинский. Композиция VI.
В. Кандинский. Композиция VI.
Причина этого заключается в том, что подлинно совершенная и богатая художественная форма может существовать лишь как реалистическая художественная форма. Все так называемые формальные элементы живописи, которые мы абстрагируем для удобства научного изучения, — колорит, пространство, объем, ритм и т. д., — существуют в произведении изобразительного искусства в неразрывном единстве. Они представляют собой художественное отражение объективно существующих, реальных сторон и свойств действительности. Цвет есть реальное качество вещей, могущее быть измеренным с помощью физических приборов с большой точностью. Совершенно объективны и тональные интервалы между отдельными цветами. Живописец улавливает и передает с помощью красок это объективное качество природы. Точно так же объективно существует пространственная протяженность предметов, их форма, ритм и т. д. Поэтому в произведении искусства его формальные слагаемые, если только это произведение правдиво, соответствуют реальной, вне сознания художника существующей действительности со всеми присущими ей материальными свойствами. Коль скоро живопись создает зрительный образ мира, все свойства и качества его, которые способен воспринять человеческий глаз, становятся исходной, объективной предпосылкой художественного изображения. Даже в самых, казалось бы, отвлеченных произведениях эта взаимосвязь налицо, если только речь идет о подлинно высоком творчестве. Именно эта связь и является основой художественного воздействия. Мы любуемся изумительным богатством линейного ритма икон Рублева. Этот ритм, несомненно, условный и отвлеченный, напоминает какую-то алгебраическую формулу реальных движений тела, контуров драпировок, очертаний предметов. Но так же как в алгебраической формуле содержится некая «конденсация» множества жизненных явлений, так содержится она и в рублевских ритмических симфониях, в которых угадывается огромное богатство наблюдений замечательного по остроте глаза. Мы всегда рискуем впасть в субъективизм, уподобляя формы рублевских икон каким-то данным, конкретным впечатлениям. Трудно сказать, навеяли ли ему ритм стройных женских фигур колеблемые ветром молодые березки или, быть может, реальные человеческие движения. Вероятнее всего, и то, и другое, и еще многое. Но важно, что в основе этой великолепной ритмической музыки лежит сама действительность. Мы сознательно привели в пример условное искусство средневековья, ибо его авторитетом пытались прикрыться формалисты. Но не говоря о том, что исторической бессмыслицей является попытка «возродить» архаический строй наивного искусства феодальной эпохи, принципиальная разница между творчеством Рублева и «живописью» какого-нибудь Грищенко, немало болтавшего о древнерусской иконе, заключается с точки зрения формы в том, что первый исходит, опирается на наблюдение, реальную действительность, второй принципиально отрывается от нее, «творя» все — и колорит, и ритм, и форму — из «глубин собственного духа».
 Андрей Рублев. Икона "Троица".
Андрей Рублев. Икона "Троица".
 А. Грищенко. Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья.
А. Грищенко. Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья.
Форма, переставшая быть формой отражения объективных свойств реальности, подобна звуку без мысли, пресловутому футуристическому «самовитому слову». Это — пустая абстракция, результат самого капризного, бессмысленного субъективного произвола. Формальный произвол упадочного буржуазного искусства покоится на тех же основаниях, что и реакционная идеалистическая философия, отрицающая объективность реального мира. Итак, формализм разрушает форму, разрушает ее как совокупность средств воспроизведения многообразных свойств и качеств действительности. Формализм превращает форму в бессмысленную игру пустыми, а потому уродливыми приемами. Вот почему формализм неизбежно приносит с собой крушение мастерства. Дело начинается с самых элементарных вещей. Формализм «освобождает» художника от необходимости уметь что-либо. В самом деле. Если форма не более как совокупность произвольных «форм мышления», то не надо уметь наблюдать, различать, сопоставлять, не надо уметь рисовать, компоновать в пространстве и т. д. и т. д. А если так, формализм открывает дорогу бездарности и развращает талант. Среди формалистов встречались и встречаются несомненно художественно одаренные люди. Но их талант оказывался тяжело и часто безнадежно изуродованным. Формалист не нуждается в выучке, в школе, полагаясь на собственные способности к «творческой импровизации». Способности помогают иногда выдумать якобы красивое красочное сочетание, начертить якобы выразительную линию. Но не оплодотворяемый ежедневно и ежечасно наблюдением, натурой, действительностью, талант хиреет и засыхает. Разве не был способным человеком Малевич? Но если в ранних его пейзажах ощущаешь еще живописный талант, впрочем, и тогда дурно направленный, то в последующих его супрематических опусах нет уже ничего, что бы говорило о том, что этот художник когда-то подавал надежды. Характерно, что когда в конце жизни Малевич попытался вернуться к изобразительной форме, у него не получалось ничего, кроме жалкого уродства. Талант уже умер. Подчеркивая, что источником всякой формы является сама действительность, что «элементы формы» есть отражение в произведении искусства свойств и качеств самой действительности, мы отнюдь не имеем в виду свести роль художника к роли, так сказать, простого репродуктора натуры, отказать ему в праве на творческое отношение к действительности. Фантазия, творческое воображение играют в искусстве огромную роль. Вопрос в том, в какую сторону они направлены. Если они направлены на отрыв от действительности, существуют лишь сами по себе, они, как огонь, не находящий пищи, тухнут. Иное дело, если творческое воображение художника постоянно находит для себя обильный материал в действительности. Тогда и дарованный природой талант получает возможность могучего расцвета. Безграничные возможности обогащения чувства формы раскрываются для художника, постоянно ищущего в самой действительности все новых и новых художественных откровений. Именно против такого приобщения к жизни, к действительности и выступает формализм, выступает даже в тех случаях, когда исходит из якобы изучения натуры. Когда Сезанн декларировал свое отношение к природе, он, как известно, провозгласил, что все многообразие предметов сводится к элементарным стереометрическим схемам — шара, куба, цилиндра и т. д. Это неизбежно влекло за собой чудовищное оскудение чувства реальной формы предмета. В репинском портрете Пирогова «шарообразность» человеческой головы выявлена с неменьшей энергией и отчетливостью, чем в известном автопортрете Сезанна. Но Сезанн стремится как бы вобрать в мыслимый шар головы все реальные очертания человеческого лица. Репин же, наоборот, развивает основную пластическую форму до бесконечно богатого и вместе с тем неповторимо конкретного индивидуального облика. Сезанн поступает с натурой, как легендарный Прокруст, обрубая все, что выходит за пределы формальной схемы, — у Репина форма расцветает могучей пульсацией жизни. Сезанновский метод приводит к тому, что в его картинах воцаряется мертвый мир оцепеневших схем предметов. Реалистический метод Репина позволяет ему уловить бесконечное богатство живой действительности. Мы вынуждены были далеко отклониться в сторону и во многом вернуться к уже затронутым выше проблемам, но в этом есть, думается, известная необходимость, поскольку долгое время борьба с формализмом в советском искусстве тормозилась именно тем, что не была до конца развеяна легенда о мнимых завоеваниях формализма в области формы.
 П. Сезанн. Автопортрет.
П. Сезанн. Автопортрет.
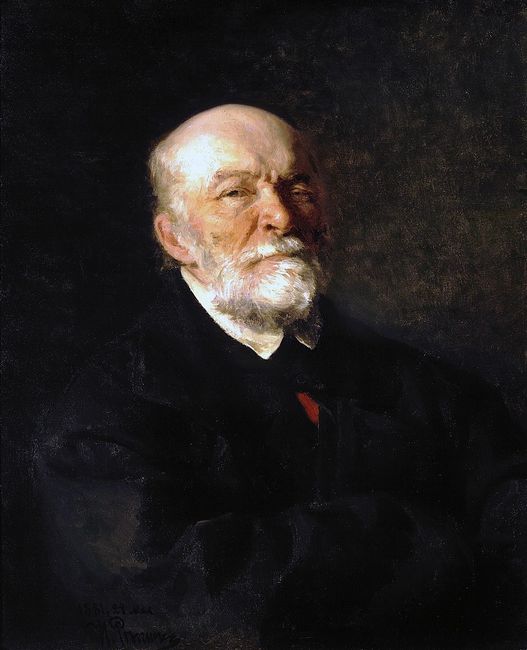 И. Репин. Портрет хирурга Н.И. Пирогова.
И. Репин. Портрет хирурга Н.И. Пирогова.
С этой точки зрения уже первые выступления художников-реалистов в двадцатых годах являлись не только борьбой за советскую тематику, за приобщение искусства к жизни, к народу, — это было началом борьбы за разгром формализма также и на почве формы, мастерства. Сколь бы ни были несовершенны по мастерству многие ахрровские картины начала двадцатых годов, объективно они означали стремление вернуться к великим традициям русской реалистической классики, они опирались на правильные исходные позиции: их форма была обусловлена прежде всего стремлением передать реальную картину действительности. В нашу задачу не входит хотя бы краткое рассмотрение истории борьбы за реалистическую форму, за реалистическое мастерство в советской живописи. Отметим только, что по мере роста нашего искусства, по мере овладения им методом социалистического реализма росли и требования к мастерству. И каждая победа реалистического искусства на этом пути означала новый удар по формализму, новый шаг к окончательному его вытеснению. Так, в тридцатых годах наша художественная общественность поставила во всю ширь проблему «картины», что было неразрывно связано с появлением таких обобщающих, целостных по замыслу и исполнению произведений, как «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» А. Герасимова, «На старом уральском заводе» Б. Иогансона, «Незабываемая встреча» В. Ефанова и другие.
 А. Герасимов. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле.
А. Герасимов. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле.
 В. Ефанов. Незабываемая встреча.
В. Ефанов. Незабываемая встреча.
В борьбе за картину немалую роль сыграли, между прочим, большие всесоюзные выставки классиков живописи — Рембрандта, Репина, Сурикова, — на образцах которых советские художники учились создавать полотна, не только значительные по идее, жизненные по сюжету, правдивые по содержанию, но и обобщающе целостные по своему мастерству. Для роста искусства социалистического реализма это было крайне необходимо. Новый этап борьбы за мастерство наступил после Великой Отечественной войны. Пока мы можем различить в нем два периода. Первый связан с лозунгом законченности. Направленный своим острием против импрессионизма — этого последнего прибежища формалистического субъективизма также и в области формы, — он был в немалой мере стимулирован появлением на выставках ряда работ, получивших широкое признание в народе. Это такие произведения, как «На плотах» Я. Ромаса, «Письмо с фронта» А. Лактионова, «Шевченко у Брюллова» Г. Мелихова и ряд других. Смысл борьбы за законченность, давший уже свои плоды на последних всесоюзных выставках, заключался, как нам представляется, не только в чисто техническом требовании — завершать работу (прежде всего в смысле рисунка), но и в более глубоком моменте — в указании на необходимость досказывать свои мысли до конца, отчетливо и наглядно доносить до зрителя художественный образ. Это было в широком смысле слова требование доступности формы. Для искусства социалистического реализма она является неотъемлемым качеством.
 Г. Мелихов. Молодой Тарас Шевченко у художника К. П. Брюллова.
Г. Мелихов. Молодой Тарас Шевченко у художника К. П. Брюллова.
Проблема законченности явилась узловой проблемой, которая позволила направить внимание художников на главную, основную задачу. И совершенно закономерно, что после выставки 1949 года, когда появилось много тщательно обработанных, действительно законченных вещей, рамки вопроса расширились, и мы стали говорить развернуто о всей совокупности стоящих перед советской живописью задач. Перед искусством во всей ее сложности и многообразии встала проблема мастерства. Как мы уже указывали, вопрос о мастерстве не может быть сведен к техническим задачам живописи. Конечно, нет и не может быть какой бы то ни было речи о мастерстве вне и помимо чисто ремесленного умения работать. Это умение необходимо в живописи так же, как и в любой другой сфере человеческой деятельности. Оно составляет непременное условие художественного мастерства. Однако ремесленная техника искусства неотделима от всей совокупности работы над созданием художественного образа; техническое умение мы лишь условно можем выделить в особую сферу знаний и навыков живописца. Повторяем, техника искусства — необходимое условие подлинного мастерства, но понятие мастерства гораздо более обширно. Именно в этом смысле следует понимать замечательные слова Крамского: «Говорят, например: «Поеду, поучусь технике». Господи, твоя воля! Они думают, что техника висит где-то, у кого-то, на гвоздике в шкапу, и стоит только подсмотреть, где ключик, чтобы раздобыться техникой; что ее можно положить в кармашек, и, по мере надобности, взял да и вытащил. А того не поймут, что великие техники меньше всего об этом думали, что муку их составляло вечное желание только (только!) передать ту сумму впечатлений, которая у каждого была своя особенная. И когда это удавалось, когда на полотне добивались сходства с тем, что они видели умственным взглядом, техника выходила сама собой». Иными словами, техника в искусстве — не самоцель, а средство наиболее полного и точного воспроизведения замысла художника, наиболее яркой и убедительной передачи жизни. Но если это так, в понятие мастерства войдут многие вопросы, строго говоря, выходящие за грань технических проблем искусства живописи. В понятие мастерства войдет, очевидно, и умение наблюдать жизнь, умение схватывать в ней главное, существенное и характерное; затем это понятие заключит в себе и способность художника обобщить свое изучение действительности и создать замысел, так сказать, субъективный образ будущего произведения; наконец, важной стороной мастерства окажется и умение — умение не только в смысле техническом — воспроизвести на полотне задуманное, «передать, — по выражению Крамского, — сумму впечатлений» от действительности, объективировать результаты познания жизни в произведении. Чтобы глубоко проникать в жизнь, художник должен изучать ее, а для художника это значит, в первую очередь, уметь наблюдать. Мастерство наблюдения отличает творчество всех великих художников-реалистов. Леонардо и Рембрандт, А. Иванов и Федотов, Домье и Курбе, Репин и Суриков были все проникновенными наблюдателями, о чем свидетельствуют, в частности, их рисунки, с помощью которых они фиксировали свои наблюдения, а не только «штудировали» натуру. В своих рисунках Леонардо изучает мир в самых разнообразных планах, рембрандтовские наброски с необыкновенной точностью закрепляют острые впечатления и глубокие прозрения мудрого мастера. Рисунки Федотова — это записная книжка, где проходят перед нами результаты «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Рисунки Репина наглядно показывают, какой могучей силой и гибкой многогранностью наблюдательности обладал великий мастер. Роль непосредственного наблюдения жизни в искусстве вообще очень велика. Многие произведения советских живописцев своей удачей обязаны в большой мере тому, как хорошо в них увидена жизнь. Большая острота наблюдения лежит в основе таких, например, детских жанров, как «Они видели Сталина» Д. Мочальского или «Вратарь» С. Григорьева.
 Д. Мочальский. Возвращение с демонстрации (Они видели Сталина).
Д. Мочальский. Возвращение с демонстрации (Они видели Сталина).
 С. Григорьев. Вратарь.
С. Григорьев. Вратарь.
Но мало просто уметь наблюдать; материал жизни должен быть обобщен, в нем надо отыскать, обнаружить главное, существенное, типическое. Наблюдения — сами по себе сырье, они должны стать мыслью, идеей. Это и есть то, что мы называем творческим претворением жизни. Классики русского искусства всегда ценили и не могли не ценить мастерство в обобщении наблюдений жизни, настоящую глубину ума и силу фантазии, проявляющиеся в художественном произведении. Жизненный материал, обобщенный, ставший идеей произведения, только так становится животворящей основой художественного образа. Идейность, связь с передовыми мыслями века, серьезное отношение к делу художника — есть своеобразная национальная традиция русского искусства. На этом пути искусство превращалось в общественное служение. Наблюдения жизни, лишь обобщенные, осознанные глубоко и полно, становятся необходимой основой подлинно правдивой, отвечающей объективному ходу вещей идеи. Как бы ни были блестящи и метки наблюдения художника, без большой синтезирующей мысли, без «творческого претворения» он не сможет создать высокого произведения. Все лучшие произведения советской живописи — это картины большого идейного содержания и потому рождающие у зрителя мысли и мысли, это картины, заставляющие раздумывать о жизни, предлагающие обильную пищу для пытливого ума. Может быть, один из ярчайших примеров — творчество Б. Иогансона. В своих лучших произведениях — от «Советского суда» через «Допрос коммунистов» и «На старом уральском заводе» до «Выступления В. И. Ленина на III съезде комсомола» — повсюду Иогансон выступает как мастер большой и благородной мысли. На примере творчества Иогансона можно наглядно убедиться в том, что идейность и мастерство — вещи неразрывные, что вне идейности нет и не может быть никакого серьезного разговора о мастерстве.
 Б. Иогансон. Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола.
Б. Иогансон. Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола.
Мы особенно хотим подчеркнуть это, так как в нашей художественной практике нередко вопросы мастерства изолируют от идейности. Между тем одно от другого неотделимо. Б. В. Иогансон, рассказывая о своем методе работы над «Допросом коммунистов», блестяще показал, как вся система средств выражения, пластическая сторона живописи была обусловлена в ходе создания картины идейным замыслом. Бесспорно, что и в самом техническом выполнении, в искусности ремесла ничего нельзя понять, если оторвать форму от мысли произведения, от его идейного содержания. Творчество Иогансона интересно для нас в этой связи и с другой стороны. Мастерство, с которым художник обобщает материал действительности, мастерство мысли, если так можно выразиться, не следует отождествлять с рационалистическим превращением картины в «наглядное пособие», о чем у нас шла речь выше. «Умной картиной» мы назовем не то произведение, в котором живая жизнь вытеснена «наглядным» воспроизведением общих положений. Вот почему важно подчеркнуть, что одной из существенных основ художественной выразительности действительно реалистических картин является столь присущее им единство мысли и ее конкретного выражения, иначе говоря, идеи и формы. Таким образом, не следует смешивать требование глубины мысли с требованием схематического подчинения всех изобразительных средств абстрактной идее. У Иогансона же не картина иллюстрирует общую мысль, а напротив, общая мысль рождается как естественный результат созерцания картины. Картина «На старом уральском заводе» написана не как наглядное пояснение к мысли о начале рабочего движения в России; в этом произведении мысль, идея рождается из конкретного изображения. Не трудно заметить связь указанного положения со специфическим для искусства требованием богатства и яркости чувств. Разумная ясность отличает искусство Ренессанса, но любая мадонна Рафаэля дышит непререкаемой убедительностью непосредственности. Только классицизм нередко переступает эту грань живой чувственности и погружается в сферу холодной умозрительности. Следует отметить, что советская живопись нуждается еще в очень большой мере в углублении этой стороны своего мастерства: того, что мы условно можем называть сферой «поэтического вымысла». Мы задержались на вопросе мастерства обобщения, ибо это — один из центральных пунктов для уяснения интересующей нас проблемы. Нет мастерства там, где богатство жизненных наблюдений не становится большой мыслью. Но плохо и то произведение, где живая жизнь используется как костыли, которыми поддерживается тощая абстракция надуманного, не почерпнутого из действительности замысла. С мастерством обобщения неразрывно связано мастерство выражения. Известно, что мысль не существует до тех пор, пока она не выражена в какой бы то ни было материальной форме. Мыслей, оголенных от природной материи, не существует. Следовательно, и в сфере изобразительных искусств речь идет не только о том, чтобы превратить совокупность наблюдений в некоторое обобщение, но и о том, чтобы результаты этого обобщения получили ясное и полное выражение. Между этими двумя сторонами трудно провести отчетливую грань. Трудно сказать, где в «Не ждали» Репина кончается глубокое обобщение, мысль о судьбе русского революционера, о его моральном долге, о его личности и где начинается выражение этой идеи во всей совокупности зрительного образа произведения. Важно, следовательно, умение обобщить, найти идею, но найти такую идею, которая бы без комментариев, без «нравоучения», как говорил Крамской, без «тенденциозности», навязанной произведению извне, что решительно подчеркивал Ф. Энгельс, может воплотиться именно в данной форме, в форме художественного образа. И более того. Идея ведь воплощается не в художественном образе вообще, она обретает себе адекватную форму в данном художественном образе: стихотворения, картины, фильма, сонаты и т. д. Вот почему И. Е. Репин считал обязательным для успеха картины «напасть на глубокую идею, которая бы пластично выливалась в образах...». В самом деле. Каждая данная мысль может наилучшим способом выразиться именно в такой, а не иной какой-нибудь форме. Для изобразительного искусства вообще, для живописи в частности, способность данной идеи «пластично» воплотиться в образ представляется крайне важной. Замечательным мастером такой пластической выразительности был М. В. Нестеров. Какую огромную роль в раскрытии образа И. П. Павлова играет великолепно подмеченный и безошибочно точно переданный резкий жест нетерпеливых рук великого ученого. Как ясно выражает характер изображенного человека изысканно роскошный и вместе с тем сосредоточенно тревожный колорит портрета А. М. Северцева.
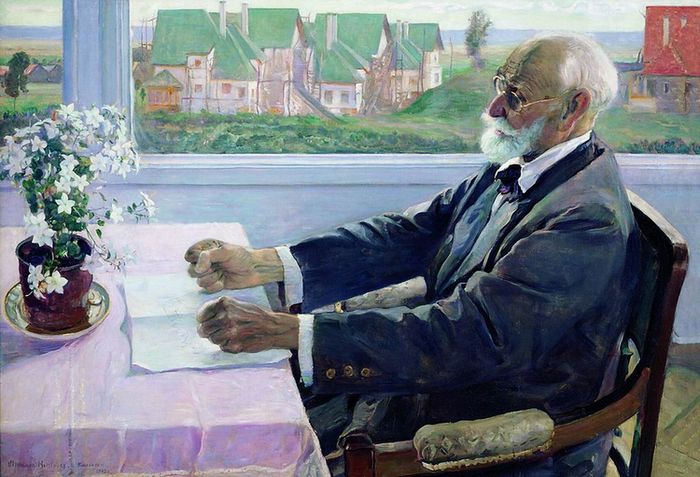 М. Нестеров. Портрет академика И.П. Павлова.
М. Нестеров. Портрет академика И.П. Павлова.
 М. Нестеров. Портрет академика А.Н. Северцова.
М. Нестеров. Портрет академика А.Н. Северцова.
В изобразительном искусстве не существует мысль пластически невыразимая. Мысль, пластически не выразившаяся, не может быть в живописи глубокой и содержательной мыслью. Но отсюда становится очевидным важнейшая роль технического мастерства выполнения. Без него нет произведения, ибо любые результаты художественного освоения мира должны объективироваться, обрести материальное, физическое существование. Если картина как следует не сделана, ее не существует. И все же это есть только средство для достижения цели, ибо в искусстве всегда что-то выполняется; выполнение — не самоцель, хотя для художника самая работа над холстом неотъемлема от наблюдений и размышлений о виденном. Разумеется, не следует понимать нашу мысль так, что существуют четыре разных мастерства: наблюдения, обобщения, выражения и выполнения. Мы стремились охарактеризовать лишь различные грани этой все же единой по своей целостности проблемы. Уже из сказанного выше ясно, что нельзя оторвать друг от друга эти различные аспекты проблемы мастерства. Они между собой неразрывны. Несомненно также и то, что эти четыре грани единого мастерства не следует рассматривать как этапы творческого процесса художника. В жизни не бывает так, что художник сначала наблюдает, потом обобщает, потом ищет выражения и лишь затем выполняет. Практически художник наблюдает до последней минуты работы над картиной, умение воплощать — неотрывно от искусности в обобщении и т. д. Сделанное разграничение в этом смысле искусственно, потому что в живом единстве творческого лица художника постоянно объединяются разные стороны мастерства. Но для уяснения проблемы важно, пользуясь методом научного анализа, расчленить единое понятие мастерства на различные его стороны с тем, чтобы подойти к более глубокому раскрытию внутренней сущности вопроса.
VIII.
Теперь, подходя к итогам нашего анализа различных сторон социалистического реализма, мы должны осветить центральный вопрос социалистического реализма, вопрос о партийности советского искусства. В первой главе мы попытались дать разъяснение этой важнейшей проблеме в общей форме. Сейчас нам необходимо сделать ряд дальнейших уточнений. Выше мы говорили о народности как основном качестве искусства социалистического реализма. В чем же народность произведений нашего искусства? Прежде всего в борьбе искусства за счастье и процветание народа, в его участии в строительстве нашей Родины, в утверждении и прославлении завоеваний социализма, достигнутых под руководством Коммунистической партии. Так обнаруживается неразрывная связь народности искусства социалистического реализма и его партийности. Идеи марксизма-ленинизма, идеи коммунизма — это самые важные, самые глубокие и самые вдохновляющие идеи советского народа. Что сделало скульптурную группу В. Мухиной «Рабочий и колхозница» такой популярной в народе? Прежде всего то, что в ней с большим пафосом и вдохновением были выражены идеи строительства коммунизма. В. Мухина. Скульптура "Рабочий и колхозница".
В. Мухина. Скульптура "Рабочий и колхозница".
Существенные различия между двумя формами народности, о которых мы говорили выше, постепенно начинают стираться в условиях социализма. В советском обществе «ученое искусство», как мы видели, начинает сближаться с народным творчеством именно вследствие того, что творчество мастеров социалистического реализма оказывается непосредственным выражением передовых идей миллионов строителей коммунизма. Таким образом, коммунистическая идейность, партийность искусства социалистического реализма есть прежде всего выражение его последовательной и полной народности. Поэтому так трудно аналитически расчленить в советском искусстве его партийность и народность. Коммунистическая партия есть партия советского народа; наш народ, под знаменем ленинизма строящий коммунизм, представляет собой ту социальную силу, которая рождает коммунизм как свою идеологию, он создатель в своей грандиозной исторической практике самой партии коммунистов, а она, партия, сильна тем, что черпает свои силы в народе. Вот в чем социальная основа проблемы партийности искусства социалистического реализма, проблемы, впервые сформулированной в бессмертной статье В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» в 1905 году. Итак, в чем же партийность советского искусства? Если понимать под партийностью искусства то, что художник воодушевлен идеями коммунизма, то, само собой разумеется, наше искусство, активно включившееся в борьбу за построение коммунистического общества, не может не быть органически, неразрывно связанным с народом, с Коммунистической партией. Связь с жизнью, прямое участие в практической борьбе трудящихся масс, воплощение лучших стремлений советского человека — таковы основные моменты, определяющие идейную основу социалистической художественной культуры. Советское искусство сделало своим основным героем миллионные массы трудящихся — строителей коммунизма, творцов новой жизни. С другой стороны, оно само сделалось орудием духовного их обогащения. Это необходимо потребовало от искусства обобщения и оформления мыслей и чувств, стремлений и страстей самих этих миллионных масс непосредственно. Успехи социализма в нашей стране обуславливают постоянный и неуклонный рост материальных и духовных потребностей народа. Искусству в удовлетворении духовных запросов народа отведено немалое место, и к нему предъявлены немалые требования. В свете основного экономического закона социализма становятся понятными многие характерные особенности и исторические тенденции развития советского искусства. И. В. Сталин так формулирует этот закон: «Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники». Отсюда мы можем сделать ряд важных выводов. Прежде всего необходимо отметить, что и в эпоху социализма остаются в силе основные законы исторического материализма и в том числе закон первичности общественного бытия и вторичности общественного сознания. Уяснение основного экономического закона социализма кладет предел попыткам со стороны субъективистских извратителей марксизма представить идеологию социалистического общества, в частности искусство, независимой от социально-экономического развития. Удовлетворение культурных потребностей общества обеспечивается непрерывным ростом и совершенствованием социалистического производства. Значит, постоянная тенденция роста и развития советского искусства, в конечном счете, объясняется неуклонным развитием и укреплением социалистического базиса. Достаточно вспомнить, какой яркий расцвет искусств во второй половине тридцатых годов вызвало завершение строительства социализма (и непосредственно, и в результате ликвидации эксплуататорских классов) или успехи художественной культуры СССР в послевоенный период, которые были бы невозможны, если бы они не обеспечивались, в конечном счете, невиданным размахом и темпами развития социалистического производства. Далее. Определение И. В. Сталина указывает на закономерность развития в условиях социализма общенародной культуры, поскольку экономика социализма имеет целью удовлетворение потребностей всего общества. И, наконец, может быть, самое важное для искусства следствие. Социализм имеет своей целью человека, удовлетворение его материальных и культурных потребностей. В этой кардинальной особенности социалистического производства кроется материальная основа социалистического гуманизма, одного из самых главных идейных принципов советского искусства, красной нитью пронизывающего всю его историю, гуманизма, провозвестниками которого были Горький и Маяковский. Таким образом, развитие социалистического базиса по самой внутренней своей сущности благоприятно для развития искусства, обеспечивает ему широкие возможности расцвета. Социалистическое общество начисто уничтожает те социально-экономические отношения, которые делают капитализм враждебным искусству. Маркс открыл в свое время закон враждебности капиталистического способа производства некоторым отраслям духовного производства, каковы искусство и поэзия. Этот закон особенно ясно обнаружил свою разрушительную в отношении культуры силу в эпоху загнивания капитализма. Наиболее чудовищные формы губительность социально-экономических условий империализма для искусства принимает в наше время. Причина этого становится для нас особенно ясной в свете открытого И. В. Сталиным основного экономического закона современного капитализма. «Главные черты и требования основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимальной капиталистической прибыли путём эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путём закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путём войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей». В свете основных экономических особенностей современного капитализма становятся очевидными основные источники коренных пороков современного реакционно-буржуазного искусства. Становится понятным и отказ от принципов реализма, и развитие разнообразных антинародных формалистических направлений, и идеология космополитизма, и поджигательская пропаганда трубадуров империалистических войн, и проповедь неравенства наций и рас, господ и рабов, и бессердечие бесчеловечного корыстолюбия, и моральное разложение художников, ставших жертвой подкупа и цинической капиталистической эксплуатации. Капиталистическое производство — основа общества, где «человек с его потребностями исчезает из поля зрения». Отсюда — антигуманистические принципы реакционно-буржуазного искусства, всемерно стремящегося отравить любыми способами сознание масс, добиться столь выгодного империалистическим поджигателям войны духовного обнищания народов. На фоне чудовищных преступлений современного буржуазного общества перед культурой особенно отчетливой становится ведущая тенденция социалистического общества, для которого благо человека — цель, а развитие производства — средство для достижения этой благороднейшей цели. Так, возникающая на базе экономического строя социализма объективная тенденция роста изобилия духовной культуры для всего народа становится источником народности советского искусства. И как другая сторона этого же процесса обнаруживается идейная сущность советского искусства, его коммунистическая партийность, как выражение заботы нашей партии о всех материальных и культурных потребностях советского человека, хозяина и творца новой жизни. С этой точки зрения проблема партийности раскрывается для нас и в другом своем важнейшем аспекте. Политика партии в области искусства строится на учете объективных закономерностей развития социалистического общества, на использовании их в интересах этого общества. То, что человек — цель социалистического производства, — факт объективный, не зависящий от желания и воли людей. Уясняя этот факт на основе марксистско-ленинской теории, партия строит свою политику так, чтобы дать максимальный простор действию этого благодетельного для советского народа закона. Для этого создаются определенные материальные предпосылки: расширяется и укрепляется сеть художественных учреждений — кино, театров, музеев, учебных заведений, оказывается широкая материальная и организационная поддержка развитию искусств в национальных республиках. Для этого партия ведет постоянную борьбу против таких идейных тенденций, которые мешают все более полноценно и богато удовлетворять художественные потребности советского народа. Этим определяется борьба с формализмом, эстетством, безидейностью, растленной идеологией буржуазного космополитизма. На это были, в частности, направлены исторические постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам 1946—1948 гг. В этих постановлениях начертана замечательная программа развития советского искусства по пути социалистического реализма, к наиболее полной и совершенной реализации которой призывает наших художников Коммунистическая партия. Эта программа с большой полнотой, применительно к материалу музыки, сформулирована в постановлении «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели», где говорится о необходимости «...развивать в советской музыке реалистическое направление, основами которого являются признание огромной прогрессивной роли классического наследства, в особенности традиций русской музыкальной школы, использование этого наследства и его дальнейшее развитие, сочетание вмузыке высокой содержательности с художественным совершенством музыкальной формы, правдивость и реалистичность музыки, её глубокая органическая связь с народом и его музыкальным и песенным творчеством, высокое профессиональное мастерство при одновременной простоте и доступности музыкальных произведений...». Если мы приглядимся к практике нашего искусства, то увидим, что его достижения тем больше, чем больше произведения искусства отвечают этой замечательной партийной программе. Любые примеры подтвердят это. Почему «Чапаев», «Великий гражданин», трилогия о Максиме стали классикой советского киноискусства? Именно потому, что они опирались на лучшие традиции русской классической литературы, театра, живописи, музыки, потому, что они были высокоидейны и вместе с тем мастерски сделаны, правдивы в изображении действительности и глубоко народны, доступны, миллионам и одновременно профессионально совершенны. Исторические документы XIX съезда являются новым замечательным свидетельством неустанной заботы Коммунистической партии о дальнейшем росте советского искусства на благо советского народа, на благо коммунизма. Отмечая большие достижения наших художников, съезд партии со всей четкостью отметил серьезные недостатки в их работе, подлежащие скорейшей ликвидации. «Мы имеем крупные успехи в развитии советской литературы, изобразительного искусства, театра, кино», — указывал Г. М. Маленков в своем докладе на XIX съезде партии, но при этом подчеркивал: «Однако было бы неправильно за большими успехами не видеть крупных недостатков в развитии нашей литературы и искусства. Дело в том, что, несмотря на серьёзные успехи в развитии литературы и искусства, идейно-художественный уровень многих произведений всё ещё остаётся недостаточно высоким. В литературе и искусстве появляется ещё много посредственных, серых, а иногда и просто халтурных произведений, искажающих советскую действительность. Многогранная и кипучая жизнь советского общества в творчестве некоторых писателей и художников изображается вяло и скучно». Требовательность к советским художникам со стороны партии определяется сутью исторических тенденций социализма, ведь максимальное удовлетворение культурных потребностей общества, каждого советского человека — закон социализма. Документы XIX съезда партии освещают главные перспективы и актуальнейшие задачи советского искусства в борьбе за построение коммунизма, в борьбе лагеря мира, демократии и социализма против лагеря империалистической агрессии, порабощения наций, жестокой эксплуатации широчайших народных масс. Эта программа есть величественная программа расцвета искусства, направляемого в своем развитии Коммунистической партией. Процветание искусства в эпоху социализма, его постоянный и неуклонный рост обеспечиваются успехами социалистического общественного строя, в конечном счете, социалистического производства. Советское искусство порождается социалистическим базисом. Но являясь надстройкой над этим базисом, оно, раз родившись, становится могущественной активной силой. Искусство социалистического реализма — могущественное орудие партии в борьбе за построение коммунистического общества. Как известно, переход от социализма к коммунизму невозможен без соблюдения определенных предварительных условий. Одним из основных таких условий, как указывает И. В. Сталин, является решительный культурный рост общества, развитие физических и умственных способностей людей. Мобилизация всех средств, в частности всех форм общественного сознания, для такого всестороннего развития физических и умственных способностей членов общества является, таким образом, сегодня одной из актуальнейших задач. Коммунистическое воспитание советского народа есть в современных условиях одна из необходимых предпосылок перехода к коммунизму. Именно этим, в конечном счете, объясняется то огромное значение, которое теперь приобретает в нашей жизни искусство. Этим определяется смысл и содержание исторических постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, призвавших всех деятелей искусства неразрывно связать свое творчество с делом народа, делом партии, делом строительства коммунизма. Этим определяется и программа развития искусства, начертанная историческим XIX съездом партии. Среди средств коммунистического воспитания народа искусство занимает одно из первых мест. Обладая могущественной силой воздействия на ум, чувства и волю человека, советское искусство лишь тогда по-настоящему выполняет свое высокое общественное призвание, когда всемерно способствует росту сознательности, коммунистической идейности советских людей — строителей коммунизма. Отсюда и высота требований, которые мы сегодня предъявляем художнику. Мы хотим, чтобы советское искусство максимально удовлетворяло своему великому назначению — воспитывать в людях идеи, чувства и стремления строителей коммунизма. В общей форме нетрудно определить, исходя из этого, критерий оценки любого художественного явления. Все, что способствует решению этих задач коммунистического воспитания, должно быть поддерживаемо и развиваемо, все, что этих задач не решает или, еще того хуже, мешает их решать, то чуждо столбовой дороге развития советского искусства. Сознательная борьба за интересы народа, за его общественные, политические идеалы, за идеалы коммунизма, за идеалы Коммунистической партии — такова программа, таков долг передового советского художника. Она предполагает связь искусства с жизнью, открытую связь его с народом. «Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства», — указывал Центральный Комитет Коммунистической партии в своем постановлении «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Социалистическая революция приобщила к историческому творчеству миллионные массы трудящихся, она пробудила их к сознательной жизни, и это впервые дало художнику великое счастье обращать свой голос непосредственно ко всему народу, ежедневно и ежечасно ощущать свою близость к миллионам трудящихся Советской страны, взыскательным потребителям искусства. Ныне художник поистине может стать инженером миллионов человеческих душ. Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами. В социалистическом обществе искусство может и обязано воплощать такие идеи, которые становятся материальной силой в борьбе народа за коммунизм. Вот почему всякий художественный «брак» в советском искусстве так нетерпим: он может повредить душам миллионов людей. И поэтому борьба за коммунистическую идейность советского искусства становится ответственной идейно-политической задачей. Она проистекает из того места и значения, которое имеет советское искусство в социалистическом обществе. Советское искусство по внутреннему содержанию своему не может быть аполитичным, не может стать безразличным к классам, к характеру строя. Боевой, активный характер искусства социалистического реализма, таким образом, оказывается его неотъемлемым качеством. Итак, нашего искусства нет и быть не может без или вне коммунистической идейности. Если мы рассматриваем партийность советского искусства именно как борьбу за реализацию принципов коммунизма в жизни, как воспитание народа в духе коммунизма, в духе советского патриотизма и дружбы народов, то ведь это означает обогащение художника важнейшими, значительнейшими вопросами современной жизни. В. М. Молотов говорил: «Нельзя считать случайностью, что ныне лучшие произведения литературы принадлежат перу писателей, которые чувствуют свою неразрывную идейную связь с коммунизмом. В нашей стране коммунизм воодушевляет к вдохновенному труду, к героической борьбе за Родину, к высокому идейному творчеству». Как только художник отрывается от великих идей коммунизма, как только он перестает чувствовать себя инженером человеческих душ, равноправным участником, строителем коммунистического общества, чрезвычайно суживается круг интересов и проблем, которые он охватывает в своем искусстве, и оно от этого, именно как искусство, мельчает, становится не важным, насущным, общенародным делом, без которого нельзя жить, а пустым по содержанию и мелким по значению времяпровождением, безделицей. Так отчетливо обнаруживается вредность безидейности, теории искусства для искусства и т. п. Каков источник пороков Ахматовой и Зощенко, вскрытых в известном постановлении ЦК ВКП(б)? Это — отрыв от основных вопросов нашей борьбы и нашего строительства. Замечательное свойство нашей художественной культуры заключается в том, что искусство и в своем собственно художественном значении обогащается тем самым и в той мере, в какой оно вооружается коммунистической идейностью, в какой оно стремится к охвату, к разрешению основных, ведущих, главных проблем жизни. Вся история советского искусства подтверждает это положение. Начиная с «Окон Роста» В. Маяковского, все лучшее, что было создано нашими художниками, создано как искусство больших, общественно значимых идей. «Выступление В. И. Ленина на Путиловском заводе» И. Бродского и посвященные Красной Армии полотна М. Грекова, «Выступление И. В. Сталина на XVI съезде партии» А. Герасимова и «Красное Сормово» П. Котова, «На отвоеванной земле» Д. Шмаринова и «После ухода немцев» Т. Гапоненко, «Новая тема» Г. Сателя и «На мирных полях» А. Мыльникова, наудачу выбранные характерные вещи каждого периода, — все без исключения черпают свою силу в глубокой идейной связи с жизнью и борьбой народа, руководимого партией коммунистов.
 В. Маяковский. Окна РОСТА (Российского телеграфного агентства), 1920 г.
В. Маяковский. Окна РОСТА (Российского телеграфного агентства), 1920 г.
 И. Бродский. Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года.
И. Бродский. Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года.
 М. Греков. Трубачи Первой конной.
М. Греков. Трубачи Первой конной.
 А. Герасимов. Доклад И. В. Сталина на XVI съезде ВКП(б).
А. Герасимов. Доклад И. В. Сталина на XVI съезде ВКП(б).
 П. Котов. Красное Сормово.
П. Котов. Красное Сормово.
 Д. Шмаринов. На отвоеванной земле.
Д. Шмаринов. На отвоеванной земле.
 Т. Гапоненко. После ухода немцев.
Т. Гапоненко. После ухода немцев.
 Г. Сатель. В ремесленном училище. Новая тема.
Г. Сатель. В ремесленном училище. Новая тема.
 А. Мыльников. На мирных полях.
А. Мыльников. На мирных полях.
Но как только художник замыкается в «башне из слоновой кости», как только он начинает искать какую-то свою «отдельную» субъективную проблематику, которая, может быть, кажется ему очень благородной, возвышенной и т. д., на поверку оказывается, что это и неблагородно, и невозвышенно, и не поднимается выше обывательского мещанского уровня, выше барского кокетничания с художественной формой. Фонвизин загубил свой незаурядный талант, так как, вместо того чтобы искать подлинный образ советского человека, ушел в камерную утонченность. В результате же его акварельные портреты при всей их рафинированности пусты в своем салонном эстетстве. В свое время Тышлер субъективно искал, по-видимому, какого-то особого, «глубокого» смысла в людях и вещах, создавая свои уродливые, экспрессионистического типа картины. В итоге — пошлейшая мистика! Искусство, оторвавшееся от передовых идей, становится не только враждебным искусством, оно становится плохим искусством, потому что искусство только тогда действительно значительно, когда оно питается живой связью с жизнью, с основными, ведущими вопросами борьбы народа. Вот почему идейность нашего искусства является его неотъемлемым качеством.
 А. Фонвизин. Портрет актрисы Н.И. Слоновой.
А. Фонвизин. Портрет актрисы Н.И. Слоновой.
 А. Тышлер. Женский портрет.
А. Тышлер. Женский портрет.
Итак, основная задача, которая стоит перед искусством социалистического реализма, как органическим элементом надстройки над социалистическим базисом, это — непосредственное участие в практической жизни народа, в построении коммунизма в нашей стране при помощи «перестройки человеческих душ», то есть при помощи воспитания нашего народа в духе коммунизма, в духе преданности идеям Коммунистической партии, в духе советского патриотизма и интернационализма, то есть в том духе, который обеспечивает наиболее быстрый рост и движение нашего народа вперед, к коммунизму. Лучшим способом осуществить это свое призвание для советского искусства является правдивое изображение действительности, создание типических образов, в которых прежде всего и раскрывается партийность художника. Отсюда неразрывная связь партийности советского искусства и его реалистической правдивости. На этом вопросе следует остановиться несколько подробнее. Если мы вернемся назад и обратимся к критическому реализму прошлого столетия, то заметим одну чрезвычайно важную особенность, на которую неоднократно указывали классики марксизма-ленинизма: Маркс и Энгельс в отношении Бальзака, Ленин в отношении Толстого. Эта особенность может быть отмечена и у многих других художников прошлого века, так что речь идет не о каких-то исключениях, а скорее об очень характерном моменте. Мы уже указывали выше, что в искусстве критического реализма в ряде случаев наблюдается более или менее отчетливое противоречие между художественным реалистическим воспроизведением действительности и политическим мировоззрением автора. Анализируя Бальзака, Энгельс подчеркивает, что Бальзак по своим политическим взглядам был легитимистом. Но далее Энгельс говорит: «Я считаю одной из величайших побед реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был итти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи...». Подчеркивая победу реалистического метода Бальзака, Энгельс, таким образом, указывает, что она достигалась вопреки классовым симпатиям художника, вопреки его политическим взглядам. Ленин с исключительной глубиной проанализировал противоречия политического мировоззрения и художественного метода Толстого. И здесь мы наблюдаем, как политическое реакционное мировоззрение Толстого с его непротивлением злу, с его патриархальной утопией противоречит его глубочайшему реалистическому раскрытию действительности, срыванию всех и всяческих масок с жизни буржуазно-помещичьей пореформенной России. Если мы возьмем произведения Бальзака или Толстого, то, читая их, мы всегда очень ясно ощутим, где кончается то, что родилось непосредственно в художественном наблюдении жизни, и начинается то, что навязано художественному произведению извне, то, что надумано, «вставлено» в художественное произведение от автора как искусственная реакционная политическая программа, отнюдь не вытекающая необходимо из самого содержания изображаемой жизни. Ленин показал, в частности, какие объективные выводы проистекают из искусства Толстого, и они совсем не совпадают с субъективными выводами самого художника. Если угодно, произведения Толстого выиграли бы в художественности, если бы его политические реакционные тенденции не нашли в них себе отражения. Конечно, нельзя искажать реальный облик Толстого и, конечно, никто не предлагает сейчас «вычеркивать» из Толстого его реакционные высказывания, его «непротивленческую» тенденциозность и, таким образом, его модернизировать. Дело не в этом. Но очень важно, что политические, философские, этические, даже непосредственно эстетические взгляды художника часто находились в противоречии с самим художественным изображением и нарушали, даже иногда разрывали живую ткань художественного образа. Иными словами, в подобных случаях реакционное мировоззрение художника противоречило тем объективным выводам, которые неизбежно вытекают из реалистического изображения действительности. Другое дело, когда художник обладает прогрессивным политическим мировоззрением. В этом случае оно способствует глубине и последовательности реализма, как это было, например, с русскими художниками-демократами — Крамским и Мусоргским, Некрасовым и Салтыковым-Щедриным. Таким образом, в ряде случаев мы наблюдаем противоречие реалистического отображения действительности и непоследовательных, односторонних, исторически ограниченных, а подчас и просто реакционных взглядов того или иного художника. Известно, например, что политические взгляды Сурикова не отличались устойчивостью, но делать на этом основании вывод о том, что его искусство чуждо борьбе за демократию в России, было бы нелепо. Победа суриковского реализма в том и заключается, что он дает глубочайшие по своей правдивости, демократические по существу образы мятежного народа, преодолевая свои не всегда последовательные политические взгляды. Это одно из тех острых и сложных противоречий, в которых приходится развиваться искусству в капиталистическом обществе. Если мы обратимся теперь к искусству социалистического реализма, то увидим, что один из основных, характерных его признаков — отсутствие в нем подобного противоречия между политическим и философским мировоззрением художника и практикой его творчества. Более того, во всяком подлинном произведении социалистического реализма существует крепчайшая, неразрывная связь политического мировоззрения художника, иными словами, его коммунистической идейности и его художественного метода. Вне коммунистической идейности нет и не может быть в наше время полноценного художественного произведения, так как она составляет силу, живую душу, костяк самого художественного метода. Все крупнейшие произведения советского искусства отличаются четкой идейной направленностью. Без высоких и благородных идей любви к Родине, преданности своему народу и государству не могли быть, например, созданы такие картины военных лет, как «Немец пролетел» А. Пластова, «После ухода немцев» Т. Гапоненко, «На освобожденной земле» Д. Шмаринова. Сила художественного воздействия этих вещей неразрывно связана с их идейной глубиной. Чем глубже, полнее вооружен советский художник боевым оружием марксизма-ленинизма, тем более могущественным будет в его руках реалистический метод изображения действительности. В этом раскрывается очень важная сторона искусства социалистического реализма: коммунистическая идейность является неотъемлемым его качеством, не как некое «добавление» к художественному методу, как иногда думают, а как содержание, как принцип, как суть этого метода. Однако само по себе коммунистическое мировоззрение еще не обеспечивает художнику творческих успехов. Дело тут, как увидим ниже, сложнее.
 А. Пластов. Немец пролетел.
А. Пластов. Немец пролетел.
У нас еще иногда встречаются критики, которые позволяют себе анализировать идейную направленность произведений нашего искусства в отрыве от их художественного смысла. Такой разрыв «идейного» и «художественного» анализа исходит из ошибочного взгляда, что может якобы быть высококачественное художественное произведение советского искусства, бедное передовыми идеями, скудное или же даже порочное по мысли. Это — лазейка формализму. На самом деле художественное произведение социалистического реализма только тогда полноценно, только тогда содержательно всесторонне и глубоко, когда оно значительно и сильно по своей коммунистической идейности. Глубокая идейность означает для художника по-настоящему уметь раскрывать действительность, она — условие правдивости художественного произведения. Да иначе и не может быть. В прошлом политические и философские иллюзии даже передовых художников иногда ограничивали в каких-то отношениях их проникновение в жизнь со всей глубиной правдивости. Ныне самое последовательное мировоззрение — марксизм-ленинизм — является могучим орудием, помогающим художнику раскрыть правду жизни. Очень поучительна в этом смысле та критика, которой подверглась первая редакция «Молодой гвардии» Фадеева в нашей партийной печати. Ведь то обстоятельство, что в «Молодой гвардии» Фадеев первоначально не показал надлежащим образом роли партии, руководившей комсомолом в подпольной борьбе, сказалось прежде всего на полноте и правдивости воспроизведения жизни. Вследствие этой идейной ошибки роман много потерял именно в своей художественности, потому что картина, изображенная Фадеевым, оказалась в определенном отношении искажающей самые существенные стороны действительности; художник серьезно отступил от требований типичности. И поэтому критика «Молодой гвардии» партийной печатью была направлена одновременно и на исправление серьезного идейного порока романа и тем самым на восстановление правдивой картины жизни. Это и выполнил Фадеев во втором варианте своего замечательного романа. Связь идейности и правдивости в реалистическом произведении заключается в том, прежде всего, что «тенденция» художника заложена в способе показа явлений жизни. Идейное содержание произведения обнаруживается в раскрытий сущности воспроизводимого явления, и чем глубже и резче эта сущность выражена, тем острее и значительнее идейность произведения. «Конец» Кукрыниксов — глубоко идейное произведение. Передовые советские художники по-партийному подошли к трактовке своей темы и сумели показать всю отвратительную, преступную сущность прогнившей гитлеровщины. И тем самым они рассказали глубокую правду о последних днях гитлеровского фашизма, которому Советская Армия наносила последние и уже смертельные удары. Не менее четко партийность, советского художника, глубина его идейности обнаруживается, например, в картине Ю. Непринцева «Отдых после боя». Правдиво изображая группу советских бойцов-патриотов, живописец дал типические образы, и в самой этой типизации раскрылось благородное идейное содержание картины, прославляющей простого советского человека искренне и горячо. Как мы уже говорили выше, создание типического образа, то есть раскрытие в изображаемом явлении его глубокой сущности, и есть основной способ выносить приговор о жизни. Воспитывают, учат жить, несут людям подлинно высокие идеи те произведения, которые правдиво изображают жизнь. Но, с другой стороны, идейная направленность художника, разумеется, далеко не безразлична для искусства. Наоборот, в искусстве социалистического реализма вооруженность художника теорией марксизма-ленинизма — один из главных залогов серьезного творческого успеха. Однако не следует, как мы видим, порознь рассматривать правдивость художника и его идейность. Нельзя сказать, что советскому художнику необходимо, «с одной стороны», правдиво отражать жизнь, а, «с другой стороны», овладевать теорией марксизма-ленинизма, чтобы создавать высокоидейные произведения. Марксизм-ленинизм для художника — верное орудие глубокого познания действительности. Мастер может положить много труда на наблюдение и изучение жизни, а вместе с тем результаты окажутся мизерными. Частой причиной такого печального положения является то, что художник, не владея научным марксистско-ленинским методом, не понял изучаемой им действительности. Нужно изучать жизнь, чтобы глубоко ее познать, а для этого необходимо овладение марксизмом-ленинизмом. Вот почему овладение марксистско-ленинской теорией необходимо художнику как надежная предпосылка глубокого-проникновения в действительность, без чего невозможно создание правдивых, типических образов. Это и означает, что в искусстве социалистического реализма передовая коммунистическая идейность неразрывно связана с правдой изображения; их невозможно оторвать друг от друга, тем более друг другу противопоставить. Итак, идейность советского искусства — это его художественное качество. Без этого нет искусства социалистического реализма, как искусства, ибо идейная позиция художника определяет выбор и трактовку типического, суждение художника о жизни, то есть, в конечном счете, политический смысл его произведения. Если идея не находит себе вполне соответствующего выражения в образе, она остается часто целиком лишь благим пожеланием художника и не «объективируется» в произведении с надлежащим реалистическим мастерством. Это, например, очень ясно можно наблюдать сейчас в некоторых произведениях художников стран народной демократии. Многие из них стремятся выразить новые идеи — освобождение народа, героизм труда и т. д., — но, не владея еще реалистическим методом, не могут этого пока сделать в достаточно полной и ясной форме. Таким образом, и недостаток идейности и недостаток владения реалистическим мастерством воспроизведения жизни в типических образах приводят к тому, что действительность не раскрывается во всей своей правдивости и яркости. Но если партийность — неотъемлемое качество социалистического реализма, то отсюда было бы неверно делать вывод о тождестве такой формы общественной деятельности как искусство, и политически-партийной работы в собственном смысле слова. Не должно быть места механическому отождествлению партийности в организационно-политическом смысле этого слова и литературно-художественного дела. Извращения, проводившиеся в этом вопросе рапповскими теоретиками, по временам возрождающиеся и ныне в форме своеобразного неорапповства, запутывали самые элементарные вещи. Получалось, что все советские художники, если они не члены партии, в большей или меньшей степени «неполноценны» и к ним необходимо настороженное отношение. Иными словами, вместо того чтобы консолидировать силы советского искусства вокруг задач строительства социализма, рапповцы вносили в них раскол, групповщину, на деле тормозившую рост нашего искусства именно в его связи с народом, передовыми идеями Коммунистической партии. Здесь поэтому требуются некоторые уточнения. Как мы указывали, в классовом обществе нет и не может быть ни одной идеологии, которая была бы внеклассовой, не была бы выражением идей определенных общественных групп, не отражала бы определенных общественных интересов. С этой точки зрения всякое искусство в классовом обществе является искусством партийным. Оно всегда рассматривает действительность с определенных общественных позиций, борется за определенные идеалы, отстаивает определенные общественные интересы, пропагандирует определенные принципы. Всякие легенды о беспартийности искусства, о независимости его от интересов практической жизни — или иллюзии, или сознательный обман, охотно распространяемый апологетами эксплуататорских классов. С этой точки зрения наше советское искусство так же партийно, как и всякое другое, оно отстаивает определенные общественные интересы, защищает определенные принципы — принципы коммунизма. Но партийность советского искусства в корне, принципиально отличается от партийности буржуазного искусства. Еще до социалистической революции, когда только формировалось искусство революционного пролетариата, Ленин отчетливо определил это коренное отличие в статье «Партийная организация и партийная литература». Принцип партийности советского искусства предусматривает открытую его связь с народом, прямое и ясное признание художником своей деятельности «частью общепролетарского дела». Отсюда необходимость, чтобы художник осознал свою классовую позицию, чтобы отстаивание им дела социализма было сознательным, осмысленным, опирающимся на марксистско-ленинскую идеологию. Буржуазное искусство, напротив, вольно или невольно всячески маскирует свои истинные позиции, поскольку оно объективно заинтересовано в том, чтобы скрыть своекорыстную сущность идей своего класса. Именно поэтому партийность — идея пролетарская, беспартийность — идея буржуазная, как указывал Ленин. Лозунг беспартийности, лозунг противопоставления «свободного» искусства и «скованной» жизни — маска, скрывающая подлинно буржуазное классовое лицо всякого формалистического искусства. В предреволюционных условиях, в обстановке решительного размежевания классов особенно важным было ленинское требование партийности, означавшее тогда, что художнику надо осознать свою классовую позицию, чтобы сознательно участвовать в социальной борьбе. Указывая буржуазным художникам, порою свято верившим в «свободу искусства» и свою собственную беспартийность, что они на самом деле находятся в рабстве у «денежного мешка», Ленин вскрывал общественные противоречия, разоблачал иллюзии. В тех исторических условиях от художника требовалось отчетливое уяснение себе по какую сторону баррикад он стоит, за что он борется своим искусством. Это осознание своего классового лица и требовало четкого определения своей принадлежности к определенной партии. Лозунг Ленина был направлен против лживой «беспартийности» буржуазного искусства, ибо искусство последовательно революционного класса, призванного уничтожить всякую и любую форму порабощения, не заинтересовано и не может быть заинтересовано в том, чтобы скрывать свои классовые позиции. За ним — истина, за ним — будущее. Таким было уже искусство Горького в период революции 1905 года, таким осталось навсегда советское искусство в самых передовых своих проявлениях! Но историческая обстановка меняется в условиях социализма, где искусство становится в иные отношения к обществу, являясь выражением его идей и стремлений в целом.
IX.
Социалистический строй уничтожает антагонистические классы. В нашем обществе достигнуто гармоническое единство интересов всех общественных сил — рабочего класса, колхозного крестьянства, советской интеллигенции. Именно поэтому в нашем обществе отсутствуют такие художественные течения, которые бы выражали интересы разных, враждебных друг другу классов или общественных групп, исчезает искусство, построенное на классовой исключительности. Морально-политическое единство советского народа, сплотившегося вокруг Коммунистической партии, представляет собой тот источник, на котором зиждется вся идеология советского общества. Это нерушимое единство народа, сплоченного вокруг партии, под бессмертным знаменем Ленина — Сталина, приводит к тому, что нет никакого различия в интересах и идеалах рабочих и колхозников, коммунистов и беспартийных. Морально-политическое единство советских людей получает свое ярчайшее выражение в советской, социалистической демократии. Это не может не найти себе отражения и в искусстве. Если А. Пластов в основном певец советской деревни, то это совсем не означает, что его идеалы и стремления как-то отличаются от идеалов и стремлений других художников, стоящих на общей идейно-политической платформе. Коль скоро наше искусство объединяет мысли, волю и чувства всех советских людей, оно в подлинном смысле всенародно. Оно представляет собой одну из идеологических форм утверждения господствующего социального строя, защиты его от посягательств извне, от противостоящего миру социализма и демократии мира империализма и войны. Боевое острие советского искусства в нынешних исторических условиях направлено прежде всего против реакционной буржуазии, против поджигателей войны, против растленной идеологии империалистического капитала. Оно направлено против носителей буржуазной идеологии внутри страны, против тех, кто ведет вражескую работу, фальшивит, тормозит наше победоносное движение вперед. Коротко говоря, партийные идеалы искусства социалистического реализма ныне направлены на борьбу с лагерем загнивающего капитализма во всех его проявлениях. И это делает его основным, главным, ведущим идейным содержанием животворный советский патриотизм. Таковы корни благороднейшей черты советского искусства — его советского патриотизма. Нет и не может быть художника, нет и не может быть настоящего, большого произведения советского искусства, которое бы не было проникнуто гордостью за свою страну, радостью по поводу ее успехов, в котором не ощущалось бы горячее и искреннее чувство любви к своему социалистическому Отечеству. Мобилизующая и преобразующая работа наших художников, владеющих методом социалистического реализма, и заключается в том, что они воспитывают наших людей в духе коммунизма, в духе преданности партии, в духе любви к Родине; в этом и именно в этом прежде всего облагораживающее человека воздействие советского искусства, проникнутого возвышенными идеями патриотизма. Ярко проявлялось это качество искусства социалистического реализма в живописи эпохи Великой Отечественной войны. Как известно, на второй день после вторжения гитлеровских полчищ в СССР вышел первый боевой плакат, зовущий на защиту социалистического Отечества. Исключительна роль, которую играли «Окна ТАСС»; плакаты, газетные карикатуры в деле мобилизации духовных сил советских людей в борьбе с врагом. Но не только такие виды искусства, как плакат, сатирическая графика, по самой сущности своей искусства агитационные, стали в те дни идейным оружием советского человека в войне. Советская станковая живопись создала ряд замечательных картин, мобилизующее патриотическое значение которых очень велико. Напомним такие произведения, как «Немец пролетел» А. Пластова, «После ухода немцев» Т. Гапоненко, «Таня» Кукрыниксов, «На освобожденной земле» Д. Шмаринова и многие другие. Это были произведения, проникнутые горячим и искренним чувством, исполненные сурового мужества и грозной ненависти, зовущие на борьбу. Это были произведения, говорившие о тех мыслях, чувствах, стремлениях, которыми жил весь народ. Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов). Таня.
Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов). Таня.
В годы войны советское искусство целиком отдало себя делу защиты Родины. В этом факте наглядно обнаружилась крепчайшая связь художника с народом, которая сделала искусство во всех его передовых проявлениях выражением жизненных интересов миллионных масс трудящихся Советского Союза. Об этом художник в буржуазном обществе не смеет даже мечтать. Правящие круги не заинтересованы в том, чтобы он, пользуясь выражением А. М. Горького, стал «чувствилищем души народной», более того, они всячески стремятся оторвать художника от народа. С горечью писал председатель Лиги американских художников Рокуэлл Кент в 1942 году: «В Советском Союзе ваши лучшие художники были призваны дать лучшее, что они могут, а в Америке лучшим художникам предоставляли оставаться праздными». Канадская газета писала: «Все виды искусства имеют глубокое влияние на народ. Поэтому они были призваны Советами для просвещения народа. Советы поняли огромную пропагандистскую силу искусства. Америка не оценила этого фактора». Газета не поняла или сделала вид, что не поняла сути дела. Политики Уолл-стрита великолепно оценили «этот фактор» и как раз поэтому постарались заставить искусство служить делу пропаганды империалистических захватов и мирового «превосходства американского духа», стремясь задушить всякое проявление народных стремлений среди деятелей искусства. Вот почему в американском искусстве даже в период второй мировой войны во множестве появлялись вещи, в которых не было ни грана патриотизма, а лишь служение космополитической пропаганде «не знающего отечества», по выражению В. И. Ленина, империалистического капитала. Еще более уродливый характер приобрело буржуазное космополитическое искусство в Америке послевоенного периода, когда излюбленными его темами стали темы прославления «атомной эры» и прочих лозунгов воинствующего империализма. Картины, подобные «Атомно-меланхолической идиллии» Сальвадора Дали или «Ужасу в Бруклине» Л. Гульельми, призваны внушить мысль о бессилии простых людей перед чудовищной техникой «атомных» разрушений. Это искусство направлено своим острием против СССР и стран народной демократии, против всех народов мира, но оно направлено также и против своего народа, и в этом его антипатриотическая сущность.
 Л. Гульельми. Ужас в Бруклине.
Л. Гульельми. Ужас в Бруклине.
Патриотизм советского искусства — прямое и непосредственное выражение общенародных идей и чувств. В эпоху суровой борьбы с немецким фашизмом он получил очень яркое и наглядное выражение, но было бы глубокой ошибкой полагать, что это качество вызвано в советской художественной культуре какими-либо временными, преходящими обстоятельствами. Советский патриотизм лежит в самой основе советского искусства, он может принимать различные формы в зависимости от конкретных исторических условий, но необходимо подчеркнуть, что он является неотъемлемым внутренним качеством социалистического реализма в искусстве. Если мы возьмем, например, советскую живопись второй половины тридцатых годов, то легко заметим в ней особенную яркость праздничного ощущения жизни. Ликующая радостность «Незабываемой встречи» В. Ефанова, величавая торжественность в картине «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле» А. Герасимова, бурливое чувство жизни в «Колхозном празднике» А. Пластова, счастливое веселье молодости в «Октябринах» А. Бубнова — таковы преобладающие эмоциональные тона искусства этого периода. Оно как бы является воплощением радостных слов вождя, сказанных им на Первом Всесоюзном совещании стахановцев в 1935 году: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живётся, работа спорится».
 А. Бубнов. Октябрины.
А. Бубнов. Октябрины.
Социалистическое общество было в основном построено, и перед художниками развернулись необычайные перспективы раскрытия богатства и красоты новых форм жизни. Действительность ежедневно и ежечасно предлагала художнику все новые и новые увлекательные предметы изображения. Всенародные торжества, в которые выливались различные совещания, подводившие итоги побед и намечавшие перспективы дальнейшего движения вперед, дали материал Ефанову, всемирно-историческое преобразование деревни, навсегда покончившей с «идиотизмом деревенской жизни», вызвало к жизни произведения Пластова, С. Герасимова, Гапоненко, новые формы жизни в эпоху социализма, изменившего духовный облик людей, их бытовой уклад, вдохновили Бубнова, Лукомского, Одинцова, Пименова. Праздничность советской живописи тридцатых годов явилась выражением радости победы, достигнутой советским народом под руководством Коммунистической партии. Отсюда то, что можно было бы назвать историческим оптимизмом искусства социалистического реализма. Выражая чувства и мысли победоносного народа, художники видели в жизни торжество исторических завоеваний социализма. Их искусство логически и закономерно становилось прославлением этих завоеваний, оно становилось художественной формой утверждения новых форм жизни, и в этом утверждении росло и крепло горячее чувство людей к своей социалистической Родине. Это было выражением советского патриотизма. Так, в разных формах, на разных этапах развития советского искусства раскрывается его патриотизм. Он заключается в стремлении к утверждению социалистического общественного строя, как самого замечательного и прекрасного завоевания человечества, в выражении непреклонной решимости отстоять его завоевания от любых посягательств. Социальной основой развития советского патриотизма в искусстве социалистического реализма является коренная общность интересов и стремлений советских людей. Советский патриотизм является прямым выражением общности интересов всех трудящихся в социалистическом обществе, и это раскрывает перед художниками прекрасные перспективы утверждения и прославления завоеваний социализма в своем творчестве. Космополитическая критика боролась против высокого чувства советского патриотизма, против благородных идей укрепления благосостояния и могущества нашей социалистической Родины, воплощенных в лучших произведениях советских художников. Буржуазный космополитизм — злейший враг советского народа и его всемирно-исторического дела. Прикрываясь фразами о единстве мировой культуры, космополиты на деле выступают против национальной самостоятельности народов, хлопочут о духовном, а затем и материальном порабощении миллионов простых людей всего мира империалистической буржуазией: «Холодная война» американского империализма против свободолюбивых народов мира имеет своей важной составной частью широкое распространение таких «достижений» американского антинародного «искусства», как голливудская киностряпня, литературные изделия различных стейнбеков и миллеров, сюрреализм в живописи и т. д. и т. д. Формализм, беззастенчивая и циничная бульварщина, животный натурализм, псевдореалистическая демагогия об «американском образе жизни» — все формы и методы идейного отравления масс, пущенные в ход реакцией и в самих США, в колоссальных масштабах импортируются в другие страны, обладающие порой большой художественной традицией, оскорбляемой и попираемой этой отвратительной макулатурой, — в Италию и в Индию, во Францию и в Иран. Остатки разбитых вражеских классов, отдельные группы людей с враждебной идеологией, различного рода диверсанты пытаются всеми средствами распространить яд космополитизма в странах народной демократии, особенно среди известных слоев политически незрелой интеллигенции. Поучительно, что формализм в искусстве повсюду оказывается той питательной средой, в которой успешно распространяются вражеские космополитические идеи. Пытался и пытается вести свою черную работу буржуазный космополитизм и в Советском Союзе. Несколько лет назад Коммунистическая партия разоблачила группку критиков-космополитов, протаскивавших «идеи» низкопоклонства перед буржуазным Западом, формализм в советскую художественную культуру. Однако то, что космополитизм был разоблачен еще в 1949 году, совсем не означает, что борьба с ним уже не актуальна. Пока существует капиталистическое окружение, пока существует реакционная империалистическая буржуазия, опасность влияния враждебной идеологии, в частности в области искусства, не уничтожается, и самая строгая бдительность по отношению к проявлениям всякого рода антинародных, формалистических и иныхтенденций не может быть ни на минуту ослаблена. Вот почему борьба за культивирование средствами искусства животворного советского патриотизма — главнейшая задача советских художников. Какими бы фразами ни прикрывали свои истинные идеи космополиты всех мастей и оттенков, за ними отчетливо видно стремление подорвать веру в успехи социализма, лишить советского художника того благородного исторического оптимизма, который обеспечен реальными успехами Советской страны, ясным осознанием путей дальнейшего развития. Исторический оптимизм советского искусства — его неотъемлемое качество, воспитанное в суровой борьбе за социалистическую Родину, против всех ее врагов. Наш художник имеет все права на лучезарный оптимизм, и ему чужды пессимистические идеи безысходности, бесперспективности, жертвенности. Оптимизм советского искусства покоится на прочной основе и составляет его живую душу. Это объясняется тем, что наш художник уверен в будущем своей страны и знает силу нашего общества, силу идей коммунизма, потому что он твердо знает правильность пути нашего общества, ибо этот путь указывает Коммунистическая партия, вооруженная бессмертными идеями Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Таким образом, оптимизм нашего искусства — закономерная тенденция его исторического развития. Враждебная советскому искусству космополитическая критика не раз ставила ему в упрек его принципиальный оптимизм, то постоянное и настойчивое «да», которое оно говорит нашей советской жизни. Борясь якобы за глубину нашего искусства, эта критика никак «не признавала» общего радостного, победоносного тона советской живописи. Было бы при этом крайне ошибочно отождествить требования космополитов к нашему искусству с тем, что мы говорим о необходимости критики и сатиры во всех отраслях художественного творчества. Кроме того, разумеется, говоря об оптимизме социалистического реализма, мы отнюдь не имеем в виду утверждать, что каждое и любое произведение советского искусства должно быть во что бы то ни стало оптимистичным. Не надо путать плоское бодрячество с оптимизмом, как идейной основой нашего искусства. Конечно, был бы глубоко ошибочен вывод, что советское искусство не должно изображать горя и страдания людей. Но и тогда, когда оно их изображает, оно не теряет своего оптимизма, опирающегося на несокрушимое патриотическое чувство. Вопрос заключается не в том, изображается или нет страдание советских людей, а в том, какие из этого делаются выводы, то есть правдиво ли изображаются те или иные события. Толкачев в графической серии «Христос на Майданеке», несомненно, искренне изобразил нечеловеческие муки людей, попавших в лапы фашистских извергов. Эти муки наполнили его сердце отчаянием, и его листы — вопли ужаса, истерические рыдания. Слепая покорность неумолимой судьбе — вот тема серии Толкачева, тема, чуждая советскому искусству. Пахомов сделал замечательную серию, посвященную осажденному Ленинграду. И здесь много мук — обессилевшие, изголодавшиеся люди, нечеловеческие усилия, но и нечеловеческий героизм. Здесь нет безнадежности, но высокое восхищение изумительным мужеством, душевной силой советского человека, способного победить любые преграды. Чувство советского патриотизма не изменило Пахомову, но его не сумел выразить в названной серии Толкачев.
 З. Толкачев. Се человек (из серии "Христос в Майданеке").
З. Толкачев. Се человек (из серии "Христос в Майданеке").
 А. Пахомов. Огороды (из серии "Ленинград в дни блокады")
А. Пахомов. Огороды (из серии "Ленинград в дни блокады")
Или другой пример: в «Молодой гвардии» А. Фадеева рассказано о трагической гибели героев Краснодона; но пафос этого повествования — слава бессмертию подвига во имя Родины. Фадеев ничего не скрывает и ничем не может облегчить тяжкой судьбы своих любимых героев, но он прежде всего показывает в них главное — непреклонное мужество людей, беззаветно преданных Родине. И вот — гибель батальона в Сталинградской битве в романе В. Гроссмана «За правое дело». О великом патриотическом подвиге рассказывал писатель, но не это стало поэтическим лейтмотивом повествования, а тема жертвенности, безнадежной покорности судьбе. Эти страницы романа звучат не как слава подвигу героев, а как мрачная мистерия смерти. Вывод отсюда один: для искусства социалистического реализма характерно не отрицание права на изображение страдания и горя, но общая принципиальная позиция исторического оптимизма как выражения патриотического чувства уверенности в непобедимости социализма. Эта общая позиция отнюдь не исключает задач самого всестороннего и последовательного разоблачения недостатков в нашей жизни, показа конфликтов. Критика и самокритика, само собою понятно, возможны и крайне необходимы в советском искусстве. Стремление вперед обуславливает необходимость всемерной борьбы со старым, обветшалым, отжившим. Революционный дух Коммунистической партии требует самокритики, но извращением самой ее сути является попытка подменить самокритику, критику, разоблачение враждебного, обветшалого, отсталого критикой, принижением передовых явлений нашей действительности. Космополитствующая критика настаивает на необходимости раздувать в изображении нашей жизни все печальное, трагическое, безысходное, но она совершенно не терпит в нем ничего радостного, оптимистического. При этом она нередко ссылается на наследие. Если Рембрандт изображал трагические лица и трагические судьбы и при этом достигал величайшей глубины, то именно потому, что эта трагичность лежала в основе того общественного строя, в котором он жил. Это была форма осуждения. Нелепо и глупо проводить аналогии в этом отношении между положением искусства в классовом антагонистическом обществе и положением его в обществе социалистическом. Принципиально различно, как мы указывали выше, отношение реалистического искусства к обществу в обоих этих случаях. Отлично, следовательно, и содержание критики действительности в искусстве буржуазного общества, направленное против основы этого общества, и содержание критики отживших форм действительности в искусстве советском, направленном на укрепление основ социалистического строя. Борьба за укрепление основ социалистического общественного строя — основная патриотическая задача искусства социалистического реализма. Эта борьба может и должна вестись и в форме утверждения и прославления передового, и в форме критики, разоблачения отсталого и враждебного. Но как бы то ни было, эта борьба необходимо рождает оптимизм как художественную форму утверждения ведущих, передовых явлений жизни, как исходный принцип разоблачения или осмеяния всего, что тормозит движение вперед. Уверенность в будущем, бесстрашие перед лицом завтрашнего дня определяют жизнеутверждающий характер нашего искусства. По поводу горьковской сказки «Девушка и Смерть» И. В. Сталин сказал: «Эта штука сильнее, чем Фауст Гете (любовь побеждает смерть)». В этих словах заключена не только глубокая оценка чудесной горьковской сказки, но и указание на одно из существеннейших достоинств передового, социалистического искусства. Неверие в непреоборимость враждебных человеку сил составляет один из краеугольных камней философии искусства социалистического реализма. Иногда полагают, что патриотизм — это только моральное качество художника-творца, которое должно выразиться в его произведении. Конечно, плох тот художник, который не проникнут высокими гражданскими стремлениями, душа которого не горит большой патриотической страстью. Но суть дела глубже. В эпоху борьбы социализма и капитализма, когда империализм готовит новые авантюры с целью подорвать мощь и независимость нашей социалистической Родины, призвание советских художников, поставленных сейчас «на передовой линии огня», становится особенно важным, ответственным, но вместе и почетным. Неотъемлемое качество социалистической художественной культуры — ее патриотизм — связано с самой сутью социалистического общества. Советский патриотизм есть выражение народности нашего искусства, любви художника к своей стране, к своему народу, преданности делу Коммунистической партии. С другой стороны, это — вопрос существа, содержания нашего искусства, раскрывающего любовь народа к своей социалистической Родине. Поэтому советский патриотизм — важнейшая основа нашего художественного развития. Он есть одно из главных проявлений народности нашего искусства. Советский патриотизм глубоко враждебен всем и всяким проявлениям буржуазного национализма, контрреволюционного шовинизма, проповеди неравенства рас и наций. Советский патриотизм неразрывно связан с пролетарским интернационализмом, получившим свое замечательное выражение в братстве наций Советского Союза. В нашей культуре дух интернационализма выражает себя последовательно и четко, в частности в той заботе, которой окружено у нас искусство каждой нации, безразлично, большой или малой. Все народы СССР обогащаются великим опытом искусства русского народа, но это обогащение приводит не к какому бы то ни было умалению национального искусства, а наоборот, способствует его расцвету. Есть полное равенство между художниками всех республик Советской страны. А. Герасимов и М. Абдуллаев, С. Чуйков и Т. Яблонская, У. Тансыкбаев и Л. Фаттахов, О. Скулмэ и И. Кимм — художники всех народов Союза равны между собой и пользуются одинаково отеческой заботой партии. И в содержании советского искусства постоянно проявляется благородное чувство дружбы народов СССР. Вспомним «Фронт» А. Корнейчука, «Падение Берлина» М. Чиаурели и многие, многие другие произведения. Национальная рознь, шовинизм находят в советском искусстве гневное разоблачение. Какие взволнованные произведения создали, например, советские мастера искусства о дискриминации негров в Америке; достаточно назвать фильм «Цирк» Александрова. Интернационализм искусства социалистического реализма раскрывается не только в идеях дружбы народов Советского Союза. Взаимное уважение народов, братство простых людей всего мира воплощается во многих произведениях. Так, в скульптурной группе бригады В. Мухиной «Мы требуем мира!» ярко выражена объединенная воля разных народов отстоять мир, дать отпор преступным поджигателям войны. «Гимн демократической молодежи» Новикова, звучащий во всех концах света, на всех языках, как бы символизирует высокий пафос интернационализма, присущий искусству социалистического реализма.
 Скульптура "Требуем мира!"
Скульптура "Требуем мира!"
Эта благородная идея присуща не только советскому искусству; она все более и более прочно пронизывает искусство стран народной демократии, по мере того как оно вступает на путь социалистического реализма; интернационализм лежит в основе передового искусства в буржуазных странах; он в высокой мере присущ песне Поля Робсона и картинам Фужерона, поэзии Пабло Неруды и Назыма Хюкмета. Ни в чем так ярко не обнаруживается интернационалистическая сущность молодого искусства социалистического реализма в зарубежных странах, как в том, какой яркой симпатией к СССР, к его людям, к его культуре оно пронизано. В передовом искусстве мира отражается тот всемирно-исторический факт, о котором говорил И. В. Сталин в своей речи на XIX съезде партии. «Теперь, — указывал И. В. Сталин, — совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые «Ударные бригады» в лице народно-демократических стран, — теперь нашей партии легче стало бороться, да и работа пошла веселее». Теперь передовое советское искусство в своей благородной борьбе против поджигателей войны, против империализма все шире поддерживается творчеством художников стран народной демократии. Теперь патриотический пафос передового искусства мира неразрывно связывается с великой интернациональной идеей защиты побед социализма, защиты колыбели социализма — Советского Союза. Дело в том, что «...всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира». А если это так, то и искусство, стремящееся к великим целям борьбы за мир и демократию, выполняя свой патриотический долг, одновременно оказывает широкую поддержку Советскому Союзу. Итак, подлинный патриотизм и пролетарский интернационализм неразрывно связаны друг с другом. Но обе эти благородные идеи нельзя рассматривать как идеи, так сказать, извне привносимые в искусство социалистического реализма. Патриотизм и интернационализм — неотъемлемые его внутренние качества, обусловленные определенной ролью искусства в нашу историческую эпоху, новым отношением искусства к действительности. Здесь уместно поставить вопрос о проблеме эстетического идеала в искусстве социалистического реализма. Само собой понятно, что нашей художественной культуре принципиально враждебно классицистическое понимание «идеально прекрасного» как чего-то противопоставленного реальной жизни с ее «тривиальностью» и «несовершенством». Идеальный образ нашего времени берется прямо из жизни; он будет тем более прекрасен, чем глубже художник проникает в правду жизни, в ту правду, в которой раскрывается наше всемирно-историческое движение к коммунизму. В этом смысле условием раскрытия высокой красоты положительного героя является умение создать глубоко типический образ. Советским живописцам-реалистам, для того чтобы создавать образцы, достойные подражания, не нужно противопоставлять их жизни. Многие произведения, такие, как названные выше картины А. Герасимова, В. Ефанова, как «Утро нашей родины» Ф. Шурпина, «Хлеб» Т. Яблонской и «Утро на Куликовом поле» А. Бубнова, замечательны именно тем, что глубокое проникновение в жизнь, правдивое раскрытие образа обуславливает их возвышенную красоту, неотъемлемую от самого реального содержания действительности.
 Ф. Шурпин. Утро нашей Родины.
Ф. Шурпин. Утро нашей Родины.
В этой связи встает вопрос о так называемой идеализации образа. В той мере, в какой советский художник неспособен еще, — а такие практические случаи бывают неоднократно, — понять действительного существа, нового исторического смысла и исторического содержания положительного образа передового советского человека, он часто фиксирует лишь его внешние черты, а потом подвергает буднично прозаический образ лакировке, то есть «прибавляет» к нему некоторые черты отвлеченной ходульной идеализации. Такой путь, наглядным примером которого может служить портрет маршала Жукова работы В. Яковлева, далек от той «идеализации» образа, которую дает социалистический реализм и которая на самом деле состоит в заострении для более яркого выявления типического, характерных, живых черт положительного героя. Полное раскрытие «идеала» начинается там, где в образе положительного героя, со всем богатством его жизненного индивидуального своеобразия, художник умеет почувствовать и показать те прекрасные черты будущего, которые заложены в сегодняшнем дне. Лучшим примером могут служить портреты М. Нестерова, такие документально правдивые и одновременно тонко поэтические. Именно тогда, когда красота образа не навязывается ему извне чисто формальными, внешними средствами, она раскрывается в искусстве в своем настоящем, подлинном, жизненном смысле.
 В. Яковлев. Портрет маршала Георгия Жукова.
В. Яковлев. Портрет маршала Георгия Жукова.
 М. Нестеров. Философы (Портрет П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова).
М. Нестеров. Философы (Портрет П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова).
Эстетический идеал — это художественное понятие о прекрасном и совершенном в жизни. В самой общей форме можно сказать, что это понятие совпадает для нас с общей целью всего исторического творчества советского народа — коммунизмом. Но коммунизм перестал быть для наших людей далекой и недостижимой мечтой, он стал реально творимым будущим Советской страны и, поскольку этот идеал ежедневно и ежечасно практически переносится в жизнь, а советское искусство имеет своим призванием помогать партии в борьбе за коммунизм, оно создает свой «идеал», воспроизводя образы творческой, созидательной деятельности советских людей. «Инженеры человеческих душ» активно созидают новый облик советского человека, воспитывая людей на прекрасных образах, выхваченных из самой жизни, или выжигая огнем сатиры все отсталое и омертвевшее. Заметим, кстати, что вопрос об идеале имеет важнейшее значение и для критических или конфликтных тем советского искусства. Разоблачение как форма эстетического осуждения совершается не беспринципно, в порядке отвлеченного скепсиса. Пафос критики, отрицания в карикатурах Моора, Дени, Кукрыниксов имеет своим животворным источником высокие идеалы коммунизма. Без них сатира была бы лишена подлинной страсти, революционной силы, патриотического пафоса. Но во всех случаях советские художники не отгораживаются от действительности, не творят изолированно от нее «прекрасный» мир искусства, но помогают строить самую прекрасную действительность. Сейчас наша живопись серьезно и настойчиво овладевает образом человека-творца, свободного труженика страны социализма. Показательно, что в образах этого плана художники стараются уловить новые черты передового советского человека. В. Ершов показал знаменитого токаря-скоростника Г. Борткевича даже не в обстановке завода. Глубоко интеллигентный образ стахановца богат духовно вследствие того творческого вдохновения труда, которое сумел передать художник в самом характере изображаемого человека. Еще любопытнее задумал портрет стахановца Дубинина И. Серебряный. Он показал его на кафедре вуза. Далеко позади то время, когда художники изображали схематические, безликие фигуры рабочих с тяжелыми молотами в руках, безыменных и непонятных представителей чужого и неразгаданного «коллектива». Забыты и подчеркнуто богатырские, с преувеличенной мускулатурой и механическими движениями действующие лица производственных картин времени около 1930 года. Тогда труд в его содержании, в его конкретном общественном смысле был для многих художников еще в основном загадкой. Для них это была работа, не более. Перелом наступил тогда, когда победивший социализм заставил по-новому оценить самый свободный труд, а художники окончательно сроднились со своим народом.
 Б. Ершов. Портрет лауреата Сталинской премии, токаря-скоростника Г. С. Борткевича.
Б. Ершов. Портрет лауреата Сталинской премии, токаря-скоростника Г. С. Борткевича.
Взгляды художников на труд человека тоже изменились в корне. Великие художники-реалисты прошлого понимали высокое достоинство и красоту труда. Но они часто вынуждены были изображать этот труд как бремя, тяготеющее над человеком, ибо это был труд подневольный, калечащий и унижающий человека. Таким изобразил труд Репин в своих «Бурлаках», Ярошенко в «Кочегаре», Касаткин в «Углекопах». Они почувствовали могущественную силу труда, но и для них он оставался бременем, сгибающим могучие спины их богатырей-тружеников.
 Н. Ярошенко. Кочегар.
Н. Ярошенко. Кочегар.
 Н. Касаткин. Углекопы. Смена.
Н. Касаткин. Углекопы. Смена.
Искусство социалистического реализма получило впервые в истории возможность вполне и свободно почувствовать и передать радость свободного, творческого труда, показать труд как основу исторического творчества, как созидание нового в жизни. Впервые в истории вся многомиллионная масса «незаметных» прежде тружеников явилась главным и решающим героем искусства. Реакционна и бессмысленна утопия о безделии как принципе социализма. В труде, как в творчестве, находит советское искусство свою высшую поэзию. В деле, практическом созидании, конкретно — в строительстве коммунизма, видит оно свой эстетический идеал. И. В. Сталин дал замечательное определение этой поэзии исторического творчества народа в письме к Горькому: «...если даже взять свою (по социальному положению) молодёжь, не у всякого хватает нервов, силы, характера, понимания воспринять картину грандиозной ломки старого и лихорадочной стройки нового как картину должного и значит желательного, мало похожую к тому же на райскую идиллию «всеобщего благополучия», долженствующую дать возможность «отдохнуть», «насладиться счастьем». В искусстве социалистического реализма нет и не может быть места идеалам «райской идиллии». Оно исполнено духа борьбы и дерзания, оно видит высшее призвание человека в том, чтобы преобразовывать мир, и оно только с этим соразмеряет свою оценку человека как человека». Должное, желательное в жизни советского общества искусство воспринимает как прекрасное. А это значит, что социалистический реализм, развивая свое понимание эстетического идеала, рассматривает его в неразрывной связи с коммунистической идейностью. Конечно, не только должное и желательное изображает советский художник, но, отбирая в жизни это должное и желательное, он представляет их как прекрасное содержание самой жизни в эпоху социализма. Создавая прекрасные образы передового человека, человека-творца, изображая жизнь в ее бесконечном движении вперед, в созидании нового и отмирании старого, беспощадно разоблачая это старое с позиций строительства коммунизма, осуществляет наше искусство свое историческое призвание — воспитывать народ в духе коммунизма. Одна из важнейших задач советского искусства на данном историческом этапе — борьба за окончательное уничтожение пережитков капитализма в сознании людей. В нашем обществе нет и не может быть таких общественных групп, которые не были бы кровно заинтересованы в успехах строительства коммунизма. Но в сознании некоторых советских людей еще не стерлись родимые пятна буржуазного общества, их относительная живучесть обусловлена капиталистическим окружением, в условиях которого развивается молодая социалистическая культура. Вот почему важнейшая задача советского искусства — смело показывать жизненные конфликты, развивать критику, сатиру. «Нам Гоголи и Щедрины нужны», — указывает партия советским художникам. Искусство является одним из могущественных орудий партии в борьбе за воспитание коммунистического сознания, оно может и должно активно бороться против пережитков капитализма в сознании людей. Это — важнейшая задача. Коммунистическая идейность советского искусства выражает себя в последовательной, решительной борьбе против реакционных «идей» капитализма, против империалистической агрессии, против проповеди человеконенавистничества, порабощения народов, военных авантюр, которую ведет империалистическая буржуазия. В настоящее время мир разделился на два лагеря. С одной стороны, силы прогресса, мира, силы демократии и социализма, возглавляемые Советским Союзом, с другой — лагерь империализма и фашизма, «Союз капиталистов всех стран», возглавленный реакционными кругами Соединенных Штатов Америки. В нашу эпоху решается судьба человечества, которое международный империализм стремится ввергнуть в бездну новой мировой бойни. Капиталистическая корысть приняла чудовищно уродливые формы, угрожая людям атомной бомбой, разлагая их сознание всеми средствами идеологического воздействия, в том числе и искусства, купленного деньгами банков и корпораций. Советское искусство призвано на линию огня, чтобы разоблачить этот гнусный, отвратительный мир империализма, чтобы помочь отстоять для народов, для миллионов простых людей мир, независимость и свободу. Агрессивной империалистической идеологии мы противопоставляем наше искусство, высоко поднимающее знамя лучших надежд человечества, высоких принципов подлинного прогресса и гуманизма. И недаром вокруг этого знамени собираются все передовые, прогрессивные силы мира, все те честные художники, которым дороги прогресс, человечность, мир между народами. Вот почему опыт искусства социалистического реализма так внимательно изучают и художники стран народной демократии, и передовые художники буржуазных стран. Знамя социалистического реализма становится надеждой всех, кто хочет, чтобы человечество видело новый расцвет искусства, еще более могучий, чем те, которые знает история искусства. И тем более необходима решительная и суровая борьба со всякими проявлениями реакционно-буржуазной идеологии в искусстве, этого самого глубокого и всеобъемлющего кризиса во всей истории мирового искусства. Здесь не может быть проявлено никакого благодушия, нельзя забывать об огромной ответственности, которую несет сегодня искусство перед человечеством. Долг советского художника перед Родиной — упорная борьба против всевозможных пережитков капитализма внутри страны и против идеологического и политического наступления капитализма извне. В настоящее время реакционное, буржуазное искусство, находящееся в состоянии глубочайшего распада, совершает одно из самых больших преступлений перед человечеством, отрекаясь от всех завоеваний прошлой культуры, разлагая человеческую душу, ведя дикую, разнузданную «работу» по культивированию в человеке зверя. Вдумаемся в то, что делается в современном реакционно-буржуазном искусстве. Все оно основано на одном гнусном принципе — пробудить в человеке худшие животные инстинкты, уничтожить в нем все самое благородное, возвышенное — стремление к свободе, чувство собственного достоинства, разум. Эта адская работа производится самыми утонченными методами. Опыт цивилизации с отвратительным цинизмом используется для того, чтобы найти в человеческой душе малейшую трещину и затем бередить ее, раздувать, доводить до степени тяжелой болезни. Изощренный психологический анализ доводится до клинической патологии, мерзкое смакование темных сторон человеческой натуры, воспитание порочных инстинктов и стремлений призвано, чтобы убить в человеке волю к борьбе, вселить в него преступную мораль капитализма: «Человек человеку — волк». Буржуазное искусство пытается сделать из людей хищников, надеясь превратить народы в слепую толпу, готовую ринуться и растоптать все, что ненавистно хозяевам-империалистам. Но это — безнадежная затея. Можно развратить тех или иных людей, но нельзя разложить народы. Задача прогрессивного искусства во всем мире, — а силы его все крепнут, — смело противостоять этой язве. Первенствующую роль в борьбе против попыток духовно разложить человечество занимает искусство Советского Союза, искусство социалистического реализма. За ним идут ныне новые, молодые силы — силы искусства стран народной демократии, прогрессивных художников буржуазных стран. Все лучшее, что есть в мире в области искусства, все сильнее и сильнее тяготеет к социалистическому реализму. Таков закон жизни. Новое неодолимо. А в искусстве это новое — социалистический реализм. Борьба советского искусства, всего передового реалистического искусства мира, это есть борьба за счастье человечества, за то, чтобы простые люди во всем мире могли жить, трудиться и творить не угнетаемые угрозой новых войн, новых бесчеловечных преступлений, которые несет народам кровавый империализм. Стремлениям буржуазного искусства затемнить сознание человека с целью сделать из него зверя, послушного раба империалистических авантюр, советское искусство во главе прогрессивного искусства всего мира противопоставляет борьбу за человечность, за высокие принципы гуманизма, за то, чтобы развивать в человеке все наиболее благородное, наиболее прекрасное. Это есть борьба за Человека в человеке. Такова конечная цель искусства социалистического реализма, его всемирно-историческая задача, над разрешением которой оно работает, не витая в эмпиреях благих мечтаний, но утвердившись на почве реальной действительности, реальных задач, поставленных перед всем советским народом Коммунистической партией. Этой благородной и возвышенной цели искусство социалистического реализма может достичь только в повседневной борьбе, в неразрывной связи с жизнью, трудом, творчеством советского народа, с политикой Коммунистической партии. Великая цель человечества — коммунистическое общество — перестает быть недосягаемой мечтой передовых людей, она становится плотью и кровью в историческом творчестве масс, направляемом бессмертными идеями Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Служить этому самому прекрасному и благородному в мире делу — великое счастье современного художника.
Последние комментарии
1 день 7 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад