Эйзенштейн для XXI века (epub) читать онлайн
Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Эйзенштейн для XXI века
Сборник статей
Музей современного искусства «Гараж»
Москва
2020
УДК 791.633(082)
ББК 85.373(2)ю14
Э30
Редактор-составитель Н. И. Клейман
Эйзенштейн для XXI века: сборник статей. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020.
ISBN 978-5-9909717-6-9
© РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2020
© Фонд развития и поддержки искусства «Айрис» / IRIS Foundation, 2020
© Анастасия Орлова, дизайн, макет, 2020
Все права защищены
- Наум Клейман. Обновленная слава Сергея Эйзенштейна. (предисловие составителя)
- / Жозе Карлос Авеллар /
- Конь о трех головах
- / Ада Аккерман /
- Незабываемые крики Сергея Эйзенштейна: круговорот образов между живописью и кино
- / Лука Арсенюк /
- «Заметки ко “Всеобщей истории кино”» и диалектика эйзенштейновского образа
- / Оксана Булгакова /
- Эйзенштейн как «куратор»
- / Юлия Васильева /
- Эйзенштейн, Выготский, Лурия: психотехника искусства
- / Дастин Кондрен /
- Субъектив: Эйзенштейн и оживление вещей
- / Майкл Куничика /
- Праистория и Эйзенштейн
- / Хокан Лёвгрен /
- «Октябрь» Эйзенштейна: о кинематографической аллегоризации истории
- / Пьетро Монтани /
- Эйзенштейн и Выготский. Слова и образы во внутренней речи и композиция фильма
- / Пьерлука Нардони /
- Споры об абстракции: Эйзенштейн и Малевич
- / Джоан Ньюбергер /
- Пикассо и другие неудачники: политика погружения в диалектике позднего Эйзенштейна
- / Ана Хедберг-Оленина /
- Преломленное эхо: идеи педологии в кинотеории Сергея Эйзенштейна
- / Карла Олер /
- Шекспир Эйзенштейна
- / Массимо Оливеро /
- Двуглавый экстаз: философские корни творчества позднего Эйзенштейна
- / Наталья Рябчикова /
- Детектив Эйзенштейн
- / Маша Салазкина /
- Эйзенштейн в Латинской Америке
- / Антонио Сомаини /
- «Ursprüngliche Impulse», «urges», «Triebe», «besoin fondamental»: Кракауэр, Эйзенштейн и Базен о медиа-антропологических основах кино
- / Пиа Тикка /
- Simulatorium Eisensteinense: моделирование динамики сознания
- / Ханна Франк /
- «Создание горячечного мозга»: размышление над рисунками Сергея Эйзенштейна к «Макбету»
- / Арун Хопкар /
- Дорога цветов и архимедовы точки опоры
- / Юрий Цивьян /
- Synthèse: двоякость как метод и конструктивный принцип
- / Луис Элберт /
- Встречи с Эйзенштейном в бассейне реки Плата
Наум Клейман
Обновленная слава Сергея Эйзенштейна
(предисловие составителя)
Этот сборник статей, написанных большей частью в 2018–2019 годах в разных странах на разные темы специалистами разных наук и методик, можно счесть очевидным свидетельством обновленной славы Эйзенштейна.
Мировая известность настигла Сергея Михайловича в молодости, в начале 1926 года, сразу после премьеры фильма «Броненосец “Потёмкин”» в Берлине, и не покидала его ни в период безмерных похвал, ни в эпоху репрессий, постигших его творения и едва не стоивших ему самому свободы и жизни.
Она сопровождала имя Эйзенштейна даже во времена, когда стала казаться устаревшей «типажно-монтажная» стилистика его ранних фильмов, и позже, когда со скепсисом воспринимали «оперно-фресковый» строй его поздних постановок. Новые поколения кинематографистов спорили с его режиссерской практикой, с его теоретическими постулатами – но тем самым волей-неволей возвращали их в актуальное поле экранного искусства.
В течение всего ХХ века приливы и отливы внимания были не только индикаторами интереса к наследию Эйзенштейна, но и сейсмограммами социальных процессов в той или иной стране. Удивительным образом, тяга к нему пробуждалась в такие моменты истории, когда в стране начинались сдвиги в общественном сознании, а затем происходили перемены в государственном устройстве – то на Кубе, то в Португалии, то во Франции или Бразилии...
Примечательной стороной возрождавшегося внимания был сознательный отказ от эпигонства – от поверхностного подражания фильмам Эйзенштейна в тематике и стилистике постановок. Его идеи и открытия усваивались на глубинном уровне – и даже в полемике с ними. Так бразилец Глаубер Роша туго переплетает социальную критику с фольклорной мифологией, подхватив основную традицию незавершенного фильма Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!». Так Жан-Люк Годар, вернувшись после гимнов Дзиге Вертову и агиток 1968 года в игровое кино, все более радикально выявляет ресурсы гипотезы об «интеллектуальном кино» и возможности звукозрительной полифонии в цифровую эпоху. Так Фрэнсис Форд Коппола, в поисках «большого стиля» для постановки «Крёстного отца», находит его не в опере-сериа на сцене «Ла Скала», а в экранном «Иване Грозном»...
Как тут не вспомнить давнюю остроту Виктора Шкловского об Эйзенштейне – он-де разошелся в кинематографе, как сахар в чаю.
Во второй половине ХХ века случается еще одна метаморфоза славы Сергея Михайловича: она выходит за пределы кино. После публикации теоретических трудов, при его жизни не издававшихся, ими заинтересовываются психологи и антропологи, лингвисты и семиотики, генетики и кибернетики. Прозвище «Леонардо да Винчи кинематографа», данное Эйзенштейну еще в молодости за разнообразие и мощь дарований, оправдывается тем, что его идеи, казавшиеся современникам странными или ошибочными, осознаются вдруг как прозрения и открытия. А коллеги уже не удивляются тому, что он еще в 1931 году в письме к Эсфири Шуб написал странные для режиссера слова: «Кинематограф занимателен постольку, поскольку он “маленькая экспериментальная Вселенная”, по которой можно изучать законы явлений, гораздо более интересных и значительных, чем бегающие картинки...»
Столетие со дня рождения Сергея Михайловича, отмеченное в 1998 году, было не столько подведением итогов, сколько открытием новых перспектив. В России вышло первое полное издание «Мемуаров». Вслед за ним в начале XXI века вышли без редакторских и цензурных сокращений фундаментальные труды – «Монтаж» и «Неравнодушная природа», удалось впервые опубликовать «Метод». Многие книги, эссе и отдельные статьи активно переводятся на иностранные языки.
Еще в 1980-е годы изучением наследия Эйзенштейна занялись не только в киношколах, но и на гуманитарных факультетах университетов и колледжей. Этот процесс приобретает глобальный характер в XXI веке, как следствие – раскрывается философская, искусствоведческая, культурологическая и антропологическая проблематика его творений.
120-летие Эйзенштейна в 2018 году отмечено даже шире, чем его столетний юбилей: в январе-феврале проходят семинары в Токийском университете и Национальном музее Киото, конференция и ретроспектива в Южно-Калифорнийском университете в Беркли; в июне австралийский Университет Монаша организует в Прато (Италия) международную конференцию «Эйзенштейн для XXI века»; в октябре Киноуниверситет имени Конрада Вольфа (Бабельсберг) и берлинский Свободный университет проводят в Потсдаме семинар с участием ученых разных стран и студентов на тему скромной черновой заметки 1926 года «Игра вещей», которая оказалось ключевой для теории и практики советского киноавангарда. Юбилейный цикл международных конференций завершается в январе 2019 года в Амхерстском колледже (США, штат Массачусетс).
Один из важнейших результатов того года – формальное объединение давно существующего сообщества ученых и педагогов, студентов и художников, которые занимаются изучением и развитием наследия Эйзенштейна. Единая веб-сеть Eisenstein International Network (EIN) должна связать системой взаимных ссылок ресурсы равноправных «Эйзенштейн-центров» разных стран. Эта сеть сделает равнодоступными фильмы, тексты, изобразительные материалы, лекции самого Эйзенштейна и о нем на языке оригинала и в переводах. Реализация этого проекта – осуществление идеи «шарообразной книги», высказанной Сергеем Михайловичем еще в 1929 году, за полвека до компьютерной эры. Разработку электронного обеспечения проекта взял на себя Киноуниверситет имени Конрада Вольфа в Германии. В нескольких странах уже начался процесс накопления информационных ресурсов на национальных языках.
Первая конференция EIN успешно прошла в Париже в октябре 2019 года.
Сборник, который вы держите в руках, составлен в основном из авторских обработок докладов на встречах в Прато, Потсдаме, Амхерсте и Париже.
Составитель должен признаться, что было очень непросто сделать выбор выступлений для перевода на русский язык. Научный уровень всех докладов был очень высок, почти каждый из выступавших предлагал оригинальный подход к наследию Эйзенштейна. Задача состояла не в том, чтобы отобрать лучшие из докладов, а в том, чтобы собрать тексты, наиболее актуальные на 2020 год по материалу или по научной методологии. Но выяснялось, конечно, что даже ретроспективно-биографические темы, неизбежные при освоении классического наследия, содержат в себе разгадки многих, еще не проясненных теоретических и творческих проблем. И у составителя не проходит чувство вины перед теми коллегами, чьи работы не попали в этот сборник просто из-за его ограниченного объема. Поэтому считаю своим долгом прежде всего извиниться перед ними. Меня успокаивает лишь надежда, что вскоре полное собрание замечательных выступлений на этих и других конференциях, семинарах, мастер-классах станет доступным на безразмерном веб-сайте в рамках Eisenstein International Network.
Вместе с тем мне радостно поблагодарить всех авторов этой книги, которые обработали для нас тексты своих речей, а также тех, кто писал статьи для нашего сборника заново. В ходе работы над сборником меня не переставало удивлять, как гармонично звучит в нем многоголосье, – при том что разнородный материал относится к психологии творчества и педологии, антропологии медиа и восточным верованиям, классической философии и традиционному искусствознанию, не говоря уж о различных аспектах биографии, фильмов, проектов и концепций самого Эйзенштейна.
Мы сочли нравственным долгом включить в сборник работы двух наших коллег – крупнейшего бразильского критика Жозе Карлоса Авеллара и молодой, ярко одаренной американской исследовательницы Ханны Франк, жизнь которых оборвалась в процессе подготовки юбилейных конференций. Кроме того, в книге напечатаны три статьи, присланные по нашей просьбе для этого издания: в них намечены малоисследованные аспекты наследия Сергея Михайловича.
Низкий поклон переводчикам, прилагавшим все усилия к тому, чтобы передать не только многоуровневую проблематику статей, но и манеру их авторов излагать свои мысли.
Особая признательность – директору Музея современного искусства «Гараж» Антону Белову, руководителю издательской программы музея Ольге Дубицкой, менеджеру Марине Сидаковой, редактору-корректору Антону Парамонову, дизайнеру-оформителю книги Анастасии Орловой и координатору типографского цикла Даниле Стратовичу. Без их внимательного и сердечного участия было бы невозможно рождение этого сборника.
Наконец, наша общая благодарность – всем вам, кто взял эту книгу в руки с серьезным интересом к личности и творчеству Эйзенштейна. Мы надеемся, что в XXI веке и в нашу страну придет понимание и ощущение ценности его наследия не только как памяти о славном прошлом российской культуры, но и как хлеба насущного, нужного на пути в нормальное будущее страны.
С надеждой на такую – живую и животворящую – славу Эйзенштейна в России мы все работали над этой книгой.
/ Жозе Карлос Авеллар /

Жозе Карлос Авеллар (José Carlos Avellar, 1936–2016) – один из крупнейших бразильских критиков и теоретиков кино, автор шести книг и множества статей о бразильском, латиноамериканском и мировом киноискусстве, которые печатались в основном в журналах «Jornal do Brasil» и «Writing Cinema», а также в каталогах и международных сборниках. В юности принимал участие в движении «Сinema novo» и дружил с Глаубером Роша, о котором в 2002 издал монографию. Одно время возглавлял синематеку Музея современного искусства в Рио де Жанейро, преподавал в университете города Гвадалахара в Мексике, был секретарем по Латинской Америке и в 1986–1995 – вице-президентом ФИПРЕССИ, членом жюри многих международных кинофестивалей, включая Каннский и Венецианский. Творчество Эйзенштейна было одной из постоянных тем его статей, блогов и учебных программ. Незадолго до кончины Жозе Карлос прислал «Эйзенштейн-центру» для перевода и издания в России статью «Конь о трех головах» («O cavalo de três cabeças»), опубликованную в июле 2011 в бразильском журнале «Serrote» (№ 8, p. 207–223) на португальском языке и год спустя напечатанную в английском (немного сокращенном) переводе в журнале «New Left Review» (№ 76, p. 108–118).
Конь о трех головах
В 1937 году, почти в одно и то же время, Пабло Пикассо писал «Гернику» (в мае – июне), Сергей Эйзенштейн начал работу над «Александром Невским» (в июне – июле), а Хосе Клементе Ороско приступил к фреске «Завоевание Мексики» (в сентябре). Во всех трех случаях заказчиком выступало государство. Ороско воспользовался приглашением губернатора штата Халиско создать фрески для университета, Дворца правительства и госпиталя Кабаньяс в Гвадалахаре. Патриотическая тема была предложена Эйзенштейну Государственным управлением кинематографии в Москве. Пикассо получил приглашение правительства Испании создать некое произведение специально для национального павильона на Международной выставке в Париже.
Между этими работами не существует прямой связи, помимо того факта, что все они отзываются на напряжение исторического момента между гражданской войной в Испании, начавшейся в июле 1936 года, и Второй мировой войной, которая разразится в сентябре 1939-го. Прямой связи не существует, но можно было бы взглянуть на них как на части, формирующие единую трилогию: она начинается с Ороско, у которого в «Завоевании Мексики» принимает участие испанская лошадь с головой из железа и туловищем из снарядов, цепей и орудий, проходит через Пикассо, в чьей «Гернике» – вытянутая вверх голова испанской лошади, раскрытая пасть которой испускает вопль во время немецкой бомбардировки, и завершается Эйзенштейном – тевтонской конницей в Ледовом побоище и доспехами рыцарей-всадников на заснеженном поле битвы.
В январе 1937 года Пикассо начал серию гравюр «Мечты и ложь генерала Франко». Всего в нее входят 18 помещенных в рамку листов, по три в высоту и по три в ширину, как кадры комикса, на двух листах 30 Ч 40 см. Первый лист содержит девять сцен и подписан одной датой – 8 января. На втором листе три даты: 8 января, 9 января, 7 июня. Последние четыре гравюры серии, выполненные в отличном от остальных стиле, были сделаны после «Герники», которую Пикассо завершил 4 июня. В каком-то смысле, они – продолжение картины. На них изображено лицо плачущей женщины, еще две женщины, держащие каждая по мертвому ребенку, и четвертая женщина с двумя детьми и мертвым мужчиной перед ней. Стихотворение, которое Пикассо написал к гравюрам, могло бы быть и описанием «Герники»: «Крики детей, крики женщин, крики птиц, крики цветов, крики дерева и камня, крики кирпичей, крики мебели, кроватей, стульев, занавесок, кастрюль, кошек и бумаги, крики запахов».
Истоки «Герники», однако, можно проследить и до периода, предшествующего серии «Мечты и ложь генерала Франко»: в сценах корриды середины 1930-х годов, где пасть раненой лошади разверста в вопле; или в серии 1935 года «Минотавромахия», что уже содержит быка, раненую лошадь, женщину в окне и женщину с протянутой рукой, держащей зажженную свечу. «Герника» начинается здесь и продолжается до лиц плачущих женщин, которые Пикассо рисовал до декабря 1937 года.
В феврале 1937 года Ороско завершил роспись актового зала университета – первый из трех циклов фресок, созданных им в Гвадалахаре. На стенах вокруг подиума находятся три росписи: «Народ и лидеры», «Рабочие и солдаты» и «Отверженные»; внутри купола – четвертая роспись, «Человек». В августе он закончил второй фресковый цикл – на стенах вокруг главной лестницы во Дворце правительства: «Отец Идальго», «Братоубийственная схватка», «Теневые силы», «Современный цирк» и «Жертвы». В сентябре он начал расписывать в госпитале Кабаньяс 54 панели и центральный купол (фреской «Человек огня»), которые в совокупности повествуют об испанском завоевании Мексики.
В марте 1937 года Эйзенштейну не дали закончить «Бежин луг». Запрет объявили, когда властям был показан еще не до конца смонтированный фильм. Замысел картины был вдохновлен одноименным рассказом Тургенева из «Записок охотника» (1852), сюжет сценария основывался на материалах дела тринадцатилетнего Павлика Морозова, убитого своими родителями в 1932 году за то, что он изобличил их как врагов социализма. Съемки начались в мае 1935 года, но первый запрет прервал работу в апреле 1936-го; съемки возобновились в августе, при этом первоначальный сценарий Александра Ржешевского был заменен на другой, написанный Эйзенштейном и Исааком Бабелем. Семнадцатого марта 1937 года, после того как фильм был жестоко раскритикован киноначальством, весь материал был изъят. Девятнадцатого марта об официальном запрете было объявлено в «Правде», начальство рекомендовало, чтобы режиссеру больше не давали права снимать фильмы. Материал «Бежина луга» хранился в студийном киноархиве и, по официальной версии, погиб во время Второй мировой войны1. Эйзенштейн годы спустя упомянет в мемуарах о «двух катастрофах»: гибели картины «Да здравствует Мексика!» и трагедии «Бежина луга»2.
В подготовительных набросках для фресок в госпитале Кабаньяс, сделанных Ороско карандашом и гуашью по бумаге, железный конь имеет имя: «Испания Карлоса V». На фреске эта фигура – боевая машина, не человек и не животное, лошадь и седок, сделанные из снарядов, цепей и орудий, – занимает одну из шести росписей на потолке больницы, в крайней левой части здания. Под «Испанией Карлоса V», на стенах по обе стороны от окна находятся портреты Сервантеса и Эль Греко.
Первая из двух росписей, которая следует за «Карлосом V», изображает сцену боя, названную в этюдах «Воинственность», а вторая – портрет Эрнана Кортеса, чье бородатое лицо венчает металлическое тело, так же как всадник венчает металлического коня. На другом конце здания, справа от центрального купола, потолочные росписи представляют священника и Филиппа II Испанского по обеим сторонам панели, которую подготовительные наброски именуют «Конями завоевания», – вооруженный мечом человек в железных доспехах восседает на двуглавом коне.
Эйзенштейн не мог видеть фрески в Гвадалахаре, потому что они еще не существовали, когда он был в Мексике, между декабрем 1930-го и февралем 1932 года. Не успел он за это время и познакомиться с Ороско лично. Но все же он видел работы художника в США: фреску в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке и «Прометея» в колледже Помона в Калифорнии. Краткий, поэтичный комментарий Эйзенштейна в эссе, озаглавленном «Прометей», упоминающем также Риверу и Сикейроса, может быть прочитан как выражение ощущения, которое охватывает зрителя перед «Завоеванием Мексики»: «Нет ничего более притягательного, чем смотреть на вечный стремительный полет Ороско сквозь стену»; он «свергает Космос. Колеблет олимпийское равновесие», так что оно «взрывается всеохватными языками пламени – в противоположность солнцу, безмятежному, сияющему над Добром и Злом»3.
В своей автобиографии Ороско заметил, что казалось, будто «Кортес и его солдаты завоевали Мексику лишь вчера», а «разрушение Теночтитлана произошло не в XVI в., а в прошлом году» 4. В эпоху испанского завоевания – железо и огонь; сейчас – цепи и пулеметы. Прошлое как нечто, испытываемое в настоящем, или, в тот момент, когда равновесие Вселенной уже нарушено, настоящее как ощущение прошлого. Образы, которые в госпитале Кабаньяс повествуют о прибытии Кортеса и об «Испании Карлоса V», очень напоминают те, что находятся на стенах Дворца правительства. Жертвы под копытами лошадей и конкистадор на потолке госпиталя Кабаньяс напоминают фреску «Народ и его лидеры» на стене актового зала университета. Рисуя завоевание Мексики, Ороско изображает и гражданскую войну в Испании, и войну в Азии, и, может быть, даже Вторую мировую войну, которой предшествовали эти конфликты. Фреска несет в себе слияние событий и смешение времен, подобные тем, что Пикассо осуществил в «Гернике».
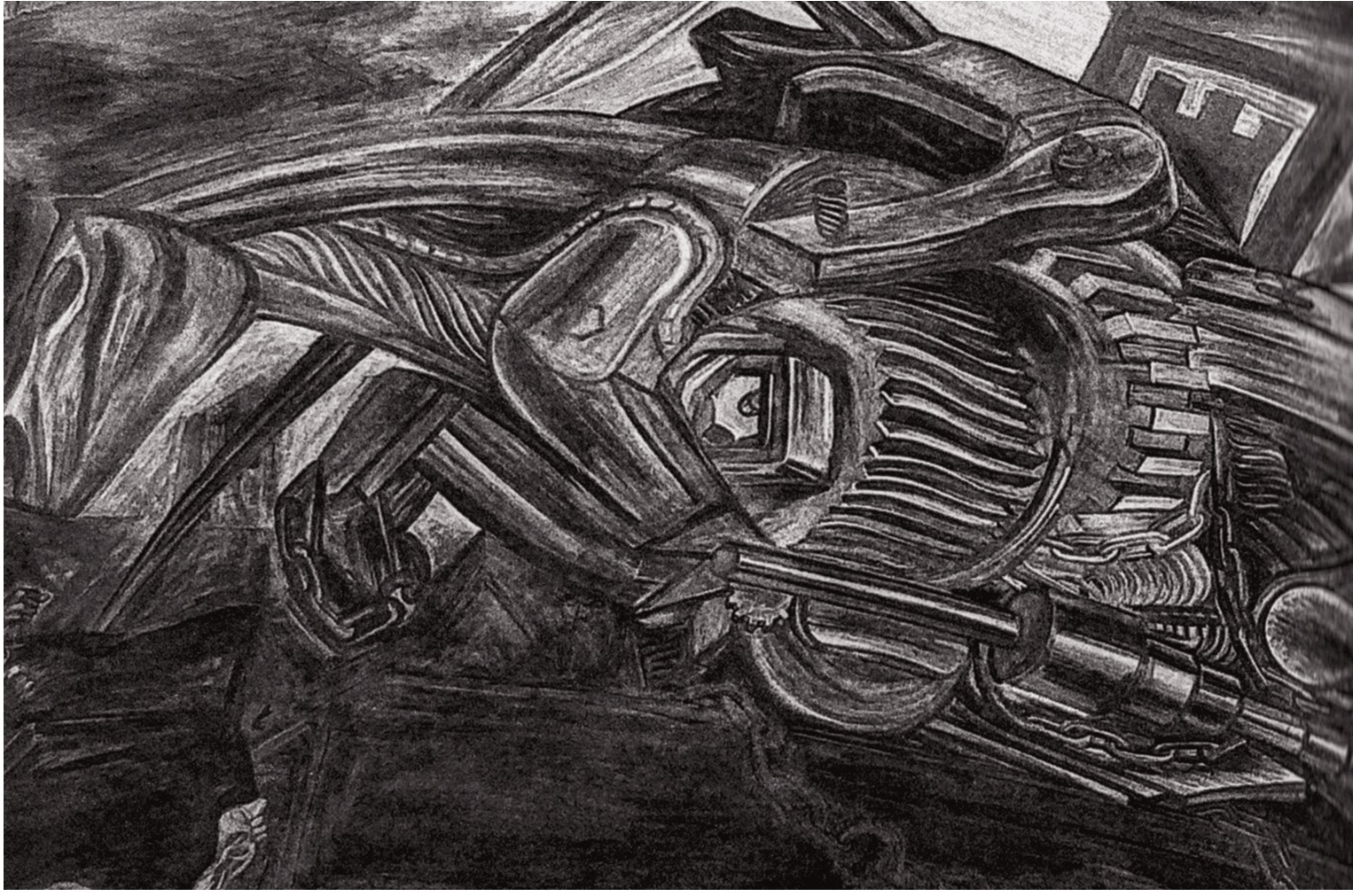
Хосе Клементе Ороско. Испания Карлоса V. 1937. Фреска в госпитале Кабаньяс. Гвадалахара, Мексика

Хосе Клементе Ороско. Кони завоевания. 1937. Фреска в госпитале Кабаньяс. Гвадалахара, Мексика
Газеты еще печатали фотографии разрушения Герники в бомбардировке 26 апреля 1937 года, когда 1 мая Пикассо сделал карандашом на бумаге первый набросок полотна, которое он начнет писать спустя неделю: искривленную фигуру лошади. За ним последовали новые наброски, как карандашные, так и маслом на холсте: деталь лошадиной головы с открытой пастью и выпирающими из нее в крике боли языком и зубами. В «Гернике» фигура лошади будет основной. Фотографии Доры Маар, зафиксировавшие рабочий процесс Пикассо, показывают последовательные изменения, которые претерпевал холст в поисках наиболее точной формы и позиции лошади. Сначала она появляется согнутой вдвое, извивающейся на земле. В окончательном полотне остается голова, которая вырывается из тела, исторгающего свой последний вопль. В «Гернике», таким образом, нет ни оружия, ни солдат, ни самолетов, ни бомбежки: есть лишь голова лошади, заходящейся в крике. Есть мать с мертвым ребенком на коленях, женщина, бегущая с воздетыми в отчаянье руками, но выделяется именно лошадиная голова. Это не война, а ужас войны.
В феврале 1937 года, приближаясь к завершению монтажа «Бежина луга», Сергей Эйзенштейн начал размышлять о следующем фильме при помощи ряда рисунков – серии, посвященной Испании, к тому моменту уже несколько месяцев находившейся в состоянии гражданской войны. Некоторые из этих изображений – самостоятельные зарисовки быта, фигуры, очерченные одним штрихом, на тему «бомбежки и ужаса в Испании»; другие – этюды для отдельных эпизодов фильма, действие которого должно было почти полностью происходить на центральной площади городка, когда его атакуют солдаты Франко. Американский актер и певец Поль Робсон, который в это время давал концерты в Москве, сказал, что будет свободен для работы над фильмом между июлем и октябрем. Робсон тогда находился в центре внимания как в связи с работой в театре и кино (он сыграл Отелло в Лондоне и главную роль в экранизации «Императора Джонса» Юджина О’Нила), так и благодаря политической активности: он участвовал в акциях солидарности с Интернациональными бригадами и выступал против расизма и нацизма. Когда он проезжал через Берлин в Москву, ему угрожали нацистские штурмовики. За несколько лет до этого, в 1932 году, Эйзенштейн пытался сделать с Робсоном фильм «Чёрное величество», но проект не получил официального одобрения. В «Испании» Робсон должен был сыграть роль марокканского солдата; в письме Джею Лейде от 1 февраля 1937 года режиссер писал, что «теперь обе эти вещи могут замечательно сойтись вместе, поднимая расовый и национальный вопрос внутри фильма о революционной Испании»5.

Пабло Пикассо. Голова лошади. 1937. Этюд. Музей королевы Софии, Мадрид

Пабло Пикассо. Герника. 1937. Музей королевы Софии, Мадрид
В то время как эпизоды «Да здравствует Мексика!» были во многом вдохновлены работами Посады, Сикейроса, Риверы и Ороско, фильм об Испании, видимо, до некоторой степени вдохновлялся бы Эль Греко. Уже в феврале Эйзенштейн начал делать заметки для эссе о художнике («Эль Греко и кино»), которое он завершил в сентябре 1937 года. В этом тексте, среди многих других наблюдений, Эйзенштейн пишет, что Эль Греко рисует так, словно он снимает все объективом 28 мм, и что он создает конфликт между вещью и ее внешним видом: человеческая рука, вытянутая «в сторону камеры», выглядит невероятно большой по отношению к телу. Он отмечает, что в кино объектив 28 мм позволяет получать выразительно деформированные изображения, похожие на те, что наполняют полотна Эль Греко. Эйзенштейн также утверждает, что «Вид и план Толедо» – результат рисования не с одной точки зрения, а с точки зрения прогулки вокруг города и его предместий – другими словами, с помощью монтажа различных точек зрения: это, по его мнению, превратило картину в первый пейзаж в истории живописи, который был пейзажем в себе и для себя. Как первый пейзаж без человеческих фигур, он парадоксальным образом содержит сильное человеческое присутствие. И «Гроза над Толедо», на самом деле, является, по мнению Эйзенштейна, автопортретом: грозовая туча над городом – не изображение ненастья, а представление того, что ощущал художник во время живописания.

Сергей Эйзенштейн. Бомбы. Spain. 1937. Москва
Эйзенштейн также отмечает, что и Эль Греко, и Ороско выходят за пределы простой репродукции естественных форм, столь же произвольно используя цвет. Ороско это сравнение наверняка понравилось бы. В описании своего европейского путешествия 1932 года он с энтузиазмом упоминает геометрическую простоту эль-грековского полотна «Христос на кресте и два донатора» в Лувре и с еще большим энтузиазмом – «Погребение графа Оргаса» в церкви Сан-Томе в Толедо. В своей автобиографии Ороско пишет, что в Толедо «по-прежнему хоронят графа Оргаса каждый день», что Эль Греко продолжает там жить, а его апостолы – ежедневно трудиться6.
Если эссе «Эль Греко и кино» имело, хотя и не прямое, отношение к «Испании», мысли Эйзенштейна об этом несостоявшемся проекте более явно видны в рисунках, которые он сделал темным карандашом по бумаге с отдельными деталями, обрисованными красным, между февралем и маем 1937 года – последние в ответ на новости о бомбежке Герники. Они одновременно – и эскизы к будущему фильму, и изобразительный комментарий к новостям с фронтов гражданской войны в Испании, и отсылка к той репрессивной реальности, в которую – по силе воздействия схожую с гражданской войной – погружались в это время жители Советского Союза.
После того, как в ноябре 1937-го Международная выставка в Париже закрылась, с января по апрель 1938 года «Герника» выставлялась в Осло, Копенгагене и Стокгольме. Затем она сразу же вернулась в студию Пикассо; в октябре того же года он послал ее в Англию как часть серии выставок в пользу испанских беженцев. «Герника» была выставлена в Лондоне в ноябре 1938 года, тогда же, когда в Москве состоялась премьера «Александра Невского». В мае 1939 года «Герника», вместе с более чем 60 карандашными и масляными этюдами к ней, прибыла в Нью-Йорк. В сентябре все эти произведения были отправлены на выставку в Лос-Анджелес.
Именно в этот момент Ороско заканчивает фрески в госпитале Кабаньяс, а «Александр Невский» изымается из советского кинопроката вследствие пакта Молотова – Риббентропа, заключенного 24 августа 1939 года. В каком-то смысле Ороско предвосхитил советско-фашистский пакт о ненападении двумя годами ранее, в одной из фресок во Дворце правительства в Гвадалахаре. В «Современном цирке» фасция, свастика, крест, серп и молот – изображены во фронтальном столкновении. Роспись включает в себя фигуру с нарукавной повязкой, на которой нарисована свастика и красная звезда; у еще одной фигуры на спине видны свастика и серп, и эта фигура держит крест.
У Эйзенштейна тоже предчувствие войны: один из шлемов тевтонских рыцарей венчает украшение в форме вытянутой руки как аллюзия на нацистское приветствие; митра епископа, который благословляет рыцарей перед битвой, украшена стилизованной свастикой.
«Герника» оставалась в США, в Нью-Йоркском музее современного искусства, до сентября 1981 года, когда она была отправлена обратно в Испанию навсегда, согласно указанию Пикассо, что это может произойти только после восстановления гражданских свобод в стране.

Хосе Клементе Ороско. Современный цирк. 1937. Фреска во Дворце правительства штата Халиско. Гвадалахара, Мексика
«Александр Невский» вернулся на советские экраны после того, как Германия вторглась в СССР в июне 1941 года.
Нечто в композиции «Герники» напоминает о кинематографе: возможно, черно-белые кадры фильмов того времени, возможно, тот факт, что картина построена с помощью монтажа, подобного кинематографическому. Как кинорежиссер в монтажной, Пикассо располагает на полотне изображения, которые он «снимал» в предыдущие годы, – быка, лошадь, лампу, пламя, чтобы изобразить бомбардировку Герники. Монтаж предполагает перемещение взгляда по картине, подобно сменяющимся на экране кадрам киноленты: открытая дверь, кулак, сжимающий сломанный меч или копье, стрела, цветок, убитая на лету птица, держащая лампу вытянутая рука, отделенная от тела голова на земле, искривленные конечности, смотрящая вниз на голову лошади лампочка, выпрыгивающие из пасти этой лошади в вопле боли зубы и язык, безмолвные крики матери с мертвым ребенком на руках, убегающие женщины и еще одна, высунувшаяся из окна, – все в «Гернике» движется.
Что-то от кинематографического процесса или, по крайней мере, от того, как зритель воспринимает проецируемый на экран фильм, можно найти также во фресках Ороско в Гвадалахаре – вероятно, в расположении росписей и в их отношении к архитектурному пространству.

Хосе Клементе Ороско. Человек огня. 1937. Фреска в госпитале Кабаньяс. Гвадалахара, Мексика
Глаз не может одним взглядом полностью охватить все изображения на стенах вокруг главной лестницы Дворца правительства Халиско. Вместо этого картина как бы постепенно открывается, пока зритель поднимается по лестнице, что заставляет каждый сегмент фрески приобретать различную конфигурацию, с каждым шагом кадрироваться по-новому. Словно движется не зритель, а сама картина.
В госпитале Кабаньяс, здании почти в 200 метров длиной, с изогнутыми крышей и стенами, с большим центральным куполом, невозможно с одной точки зрения и при одном просмотре увидеть больше, чем только часть фресок. Проходя по центру здания или лежа на одной из деревянных скамей, чтобы более внимательно разглядеть крышу, зритель оказывается захвачен ощущением, что мир вот-вот рухнет на него: железная лошадь с ее шестернями и пулеметами парит над его головой, готовая сбросить свои бомбы. Копыта лошадей конкистадоров колют его, словно копья. Воин верхом на двуглавой лошади поднимает меч, чтобы нанести последний удар.
Нечто в конструкции «Александра Невского» напоминает процесс создания живописного произведения. Не только тот факт, что фильм был почти полностью нарисован, до того как был снят, и то, что он разворачивается почти как рисунок, с кадрами, в которых мало движения или ничто не движется, кроме света. Скажем, начальные кадры фильма – это пять пейзажей, в четырех из них доминируют скелеты, непогребенные жертвы давней битвы. Еще одним примером могут служить кадры перед скоком тевтонской конницы в Ледовом побоище: три дальних плана равнины, где линия горизонта прилипла к нижнему краю экрана, а в кадре преобладает небо, заполненное грозовыми облаками, подобно тому небу над Толедо, что было написано Эль Греко. В этом есть что-то от живописи, но не потому, что каждый кадр предъявляет себя зрителю, как если бы это была картина, оставаясь на экране дольше, чем необходимо для того, чтобы опознать снятых людей, объекты и пейзажи. Значение имеют не действия персонажей в каждой сцене или, по крайней мере, не только они. Значение имеет действие изображения в кадре в себе и для себя.
Таким образом, взгляд склонен реагировать так же, как и на отсутствие цвета в «Гернике» Пикассо или на обилие цвета в «Завоевании Мексики» Ороско. В каком-то смысле качество, которое Эйзенштейн находит в Ороско («он свергает Космос»), обнаруживается и в «Александре Невском»: кадры не относятся ни к чему, что существовало прежде, вне фильма или независимо от него. Они создают поэтическую вселенную, перенося в кино опыт формальной школы («Слова в поэзии – не способ выразить мысль, они сами себя выражают и сами своей сущностью определяют ход произведения»7). Каждый кадр словно основан не на динамическом взгляде фотографии, а на пристальном взгляде живописи. Можно даже сказать, что «Александр Невский» был снят так, как если бы имел «Гернику» в качестве сценария, объекта вдохновения или приглашения к творчеству; как будто он был сделан с памятью о бомбардировке Герники. Посреди Руси XIII века, между Псковом и Новгородом, оказывается город басков, разрушенный немецкими самолетами.
«Кости. Черепа. Выжженные поля. Обгорелые обломки человеческого жилья. Люди, уведенные в далекое рабство. Разоренные города. Попранное человеческое достоинство. Такой встает перед нами страшная картина первых десятилетий XIII века в России»8. Текст, который Эйзенштейн написал об «Александре Невском» для сборника об историческом фильме, вышедшем в Москве в январе 1939 года, начинается с этих слов. В этом же тексте Эйзенштейн пишет, что события XIII века близки к событиям нашего времени не буквально, но по своей сути. На самом деле, иногда они настолько близки, что последние новости, кажется, отделяют от истории лишь опечатки: однажды, изучая материалы по русской истории после чтения газетной заметки о бомбардировке Герники, Эйзенштейн наткнулся на описание разрушения крестоносцами в XIII в. города Герсика.
Работа Эйзенштейна с историческими источниками, начатая спустя месяц после запрета «Бежина луга», привела к созданию сценария с условным названием «Русь», посвященного национальному герою XIII века Александру Невскому. Он был написан совместно с Петром Павленко, работа с которым должна была уберечь новый проект от «ошибок» предыдущего фильма. В ноябре 1937 года текст Павленко и Эйзенштейна был отправлен на официальное утверждение, но, ожидая разрешения начать съемку, режиссер продолжал думать о фильме и делать рисунки для него. Он искал способы построения композиции фильма и, в частности, одной из сцен: Ледового побоища. Решение подсказало предложение Виктора Шкловского: сказка о Лисе и Зайце. В сказке Лиса застревает между двумя березами, преследуя Зайца, а затем Заяц атакует ее сзади. «Свинья» тевтонской кавалерии должна была стать эквивалентом Лисы, а замерзшее озеро – березами народной сказки.

Тевтонские рыцари. Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», 1937–1938
В конце марта 1938 года сценарий был одобрен; сроком его завершения было установлено 7 ноября. Эйзенштейн решил снимать Ледовое побоище в середине лета – отчасти под давлением временных ограничений, отчасти же потому, что он представлял себе фильм более в оперном, нежели в реалистическом регистре. Съемки начались в конце июня, с использованием красных и оранжевых фильтров на объективах; тон изображения и движение персонажей слегка искажались относительной неточностью старых камер. Дело было не в том, чтобы создать иллюзию зимы, а в том, чтобы поместить сцену в другую реальность; механические жесты разворачивались на неестественной сцене.

Единоборство князя с магистром. Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», 1937–1938
Премьера «Александра Невского» состоялась в Москве 1 декабря 1938 года, через пять месяцев после начала съемок. В марте 1939 года фильм Эйзенштейна был выпущен на экраны кинотеатров Нью-Йорка. В мае местная галерея «Валентин» выставила «Гернику» Пикассо. В октябре, завершив «Завоевание Мексики», Ороско отправился в Нью-Йорк, чтобы представить публике свои рисунки и картины в галерее Хадсона Д. Уокера.
Через пять лет после создания «Александра Невского» – то ли потому, что Советская армия начала применять стратегию Зайца против Лисы, то ли потому, что вермахт начал применять стратегию тевтонской «свиньи», или же потому, что жизнь в очередной раз подражала искусству, – немцы были окружены и разбиты в другом Ледовом побоище – под Сталинградом, 31 января 1943 года.
Искусство не подражает жизни, говорил Эйзенштейн своим студентам во Всесоюзном институте кинематографии: мы должны не копировать объект для того, чтобы сделать еще один такой же, а изучать структурные принципы объекта для того, чтобы изобретать другой.
Мы придумали живопись не для того, чтобы украшать стены наших квартир, сказал Пикассо вскоре после завершения «Герники». Для него живопись должна была использоваться как оружие для самозащиты или для нападения на врагов.
Картина должна учитывать исторический момент, в который она создается, писал Ороско во время работы над «Завоеванием Мексики». От коллег-муралистов его отличает способность к рефлексии – он, как и его испанский и русский коллеги, осознает взаимоотношение между своим искусством и обществом, в котором он живет.
Можно даже сказать, что Ороско, Пикассо и Эйзенштейн совместно изобрели боевую лошадь о трех головах: одна изрыгает из ноздрей огонь, другая вопит от боли среди падающих бомб, третья оказывается уничтоженной на замерзшем озере: единое творение, созданное одновременно, с мая 1937 года по октябрь 1939-го.
Можно даже утверждать, что они изображали лошадь не для того, чтобы показать ее такой, какая она есть, но для того, чтобы сделать в этой лошади видимым то, что все они чувствовали, вместе с остальным воюющим миром.
Художники призывают изучать структурный принцип явления – для того, чтобы продолжать его изобретение заново.
Перевод Натальи Рябчиковой
/ Ада Аккерман /

Ада Аккерман (Ada Aсkerman) – искусствовед, выпускница École Normale Supérieure, научный исследователь в THALIM («Теория и история современных искусств и литературы») Французского национального центра научных исследований (CNRS). Защитила докторскую диссертацию по теме «Эйзенштейн и Домье. Избирательное сродство» («Eisenstein et Daumier, des affinités électives», издана в 2013). Преподавала историю искусств в Париже, в Нантер / Ла Дефанс и в Высшей школе в Лионе. Автор ряда статей о творчестве Эйзенштейна и об изобразительном искусстве, куратор выставок «Голем! Аватары легенды о глиняном человеке» в Парижском музее искусства и истории иудаизма (2017) и «Экстатический глаз. Сергей Эйзенштейн, кинематографист на перекрестке искусств» («L’Œil extatique. Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts») в Центре Помпиду-Мец (сентябрь 2019 – февраль 2020).
Незабываемые крики СергеяЭйзенштейна: круговорот образов между живописью и кино
Что такое «гуманизм»? Чем его определить, не вгоняя в логос определения? Тем, что отнесет его как можно дальше от какого бы то ни было языка: крик (а значит – шепот), крик нужды или протеста, крик без слов, без пауз, крик истошный или, в крайнем случае, крик написанный, граффити на глухих стенах.
Морис Бланшо,
Атеизм и письмо: гуманизм и крик (1966)
Сергей Эйзенштейн, наделенный огромной визуальной памятью, создавал свои впечатляющие образы из многочисленных и многоуровневых отсылок к истории изобразительных искусств. В свою очередь, его канонические образы вдохновляли многих художников, в том числе живописцев. Изобразительная судьба кричащей Учительницы из «Броненосца “Потёмкин”», одного из самых известных мотивов Эйзенштейна и одного из самых разящих примеров pars pro toto из всего корпуса его произведений, дает нагляднейший пример переосмыслений и переносов из живописи в кино и обратно, из кино в живопись.
Эйзенштейновская поэтика крика
Фильмы Эйзенштейна, в особенности немые, часто анализировались и описывались с точки зрения криков. Близкий друг Эйзенштейна и коммунистический критик Леон Муссинак в своей книге «Советское кино» (1928) отметил: «Фильм Эйзенштейна похож на крик»9. Эйзенштейн с энтузиазмом одобрил это определение своего искусства, о чем свидетельствует его ответ Муссинаку : «Моя самая теплая благодарность за вашу книгу, которую я получил и которая мне очень понравилась. Разница, которую вы устанавливаете между Пудовкиным и мной, между песней и криком, удивительна и блестяще уместна»10.

Караваджо. Медуза. Около 1597. Уффици, Флоренция
Двадцать лет спустя Жорж Садуль, коллега и друг Муссинака, использовал это сравнение по отношению к «Броненосцу “Потёмкин”», в тексте, симптоматично озаглавленном «Крик становится гимном» (1948): «В “Потёмкине” катящаяся по лестнице коляска, кровь из раненого глаза, руки женщины, сжатые поверх раны на животе, – все эти элементы предстают в виде криков»11.
В своей посмертной книге «Рабство и величие кино» (1962) итальянский критик Умберто Барбаро утверждает, что использование Эйзенштейном крика в «Броненосце “Потёмкин”» способствовало глубокому преобразованию истории кино, так же как крики Караваджо радикально изменили историю искусства. Собственно говоря, по мнению Барбаро, пластические достижения «Потёмкина» сравнимы с драматичными и экспрессивными открытыми ртами Караваджо: «Простого крупного плана матроса за работой или интеллигентки, глядящей через пенсне, простого отчаянно кричащего широко раскрытого рта, простого кадрика или непрерывного плана “Потёмкина” оказалось достаточно, чтобы отодвинуть в прошлое все предыдущие кинематографические достижения, даже самые высокие, и объявить пришествие нового времени. Так же как четыреста лет назад рты Караваджо, раскрытые в немом крике [...], оказали сильнейшее влияние на всю последующую живопись»12.
Симптоматично, что Барбаро опирается на живописную модель для описания кинематографических достижений Эйзенштейна. Более того, Барбаро описывает рты Караваджо как парадоксальные объекты, так как они одновременно молчат и кричат, в точности как крики в немых фильмах Эйзенштейна – крики, которые на самом деле не слышны, но которые все же рокочут, и рокочут мощно.
Крик играет ключевую роль в фильмах Эйзенштейна и рассмотрен во всей его многосмысленности, неоднозначности и разнообразии. Крик – это понятие, которое трудно определить, которое все еще нуждается в теоретизировании, по словам Алена Марка в его книге «Написать крик» (2000)13.
С одной стороны, крик может быть просто издаваемым звуком, эмоциональной и физиологической реакцией тела, часто диссонирующим визгом. Как таковой он может быть воспринят как бессознательное, звериное, примитивное выражение эмоций. В связи с этим в «Очерках семиотической поэтики» Греймас рассматривает крик как нечто, находящееся на границе человеческого языка14. Перенос этого звериного, примитивного крика в визуальную сферу в виде открытого рта, согласно знаменитому высказыванию Лессинга в «Лаокооне», переводит его в зрелище отвратительного и бесформенного содержания. Отсюда совет Лессинга не представлять его, чтобы не оскорбить зрителя видом отвратительно искаженного лица. Широко открытый в крике рот, который он называет пятном, выглядит невыносимой и неприличной дырой в изображении, «худшим из возможных эффектов»15. По этим же причинам Батай и члены кружка «Документы», как сторонники «низкого материализма», выразили бы свою заинтересованность в мотиве широко открытого рта, как это воплощено Жаком-Андре Буаффаром в знаменитом фотографическом сверхкрупном плане рта, опубликованном в «Документах» со вступительным текстом Батайя о ртах, в котором говорится: «В особенных случаях человеческая жизнь все еще по-звериному концентрируется на устах: гнев заставляет людей скрежетать зубами, тогда как ужас и жестокая мука обращают рот в орган надрывных воплей. По этому поводу несложно отметить, что потрясенный индивид в исступлении задирает голову как бы в продолжение шеи – таким образом, что рот становится, насколько это возможно, продолжением позвоночного столба, иными словами, занимает место, обычное для строения животных»16.
Маркируя деградацию человеческой речи к животному состоянию, визуальный мотив разверстого рта размывает границы между внутренним и внешним, давая доступ к плоти, к интимному пространству, обычно невидимому, которое Натали Роэленс обозначает как «обратная сторона лица»17. Эти бессознательные, регрессивные измерения делают разинутый рот энергичной, тревожащей формой эксцесса, вызывают мощное состояние привязанности. Крик как таковой не мог не привлечь внимания Эйзенштейна. В его фильмах многочисленные жертвы и невинные люди кричат в момент надругательства или уничтожения: один из самых известных примеров этого – кричащая Учительница18 в «Потёмкине». Действенный инструмент пафоса, широко открытые рты персонажей должны пробуждать негодование зрителя, заражать его желанием в свою очередь кричать.

Реклама фильма «Броненосец “Потёмкин”» в немецкой газете, 1926

Приглашение на сеансы цикла «10 величайших фильмов», 1950-е
Здесь мы переходим к другому аспекту понятия крика.
Действительно, с другой стороны, крик может быть также истолкован как положительное и благородное выражение эмоций, когда он оказывается связан с громко артикулированным содержанием. Тогда крик функционирует как средство для передачи возмущения, как выражение сердца и души. Заявленное слово работает как мощный и заразительный стимул, позволяющий связать некое сообщество воедино. В этом отношении нужно помнить, что слово «крик» (cry, cri) может быть этимологически связано с латинскими восклицанием «Quirites!», которым римские граждане призывались на помощь19. Этот политический аспект крика чрезвычайно важен в эйзенштейновской поэтике бунта и роста влияния масс – так, он прекрасно воплощен, например, в титрах-восклицаниях «Братья!» и «Один за всех, все за одного», которые пронизывают весь «Броненосец “Потёмкин”».

Плакат к фильму «Броненосец “Потёмкин”», художники Владимир и Георгий Стенберги, 1935
Интенсивное использование Эйзенштейном кричащих фигур во всем их разнообразии хорошо отражено в многочисленных рекламных плакатах к его фильмам, которые часто включают широко открытый рот. Особенно это заметно на плакатах к «Броненосцу “Потёмкин”», которые подчеркивают роль этого мотива в общей композиции фильма.
Фильмы Эйзенштейна не только населены многочисленными кричащими персонажами, но и включают в себя различные виды «вопиющего» киноматериала: экспрессивные формы передачи эмоций в кадрах и, прежде всего, сложные и динамичные монтажные приемы, позволяющие превратить весь фильм в гигантский крик. Для создания таких композиций Эйзенштейн обращался к живописным моделям, особенно в своих немых фильмах, где звук должен был подсказываться визуальными средствами. Ему пришлось тщательно изучить то, как художникам удавалось воплощать и выражать такое явление, как голос. Стремясь к теоретическому осмыслению и пост-анализу композиции «Потёмкина», Эйзенштейн, в частности, проводит параллель между этим фильмом и полотном Сурикова «Боярыня Морозова», чья сложная композиция, основанная на золотом сечении, по его словам, может емко и убедительно выразить с помощью визуальных средств то, что выходит за рамки изобразительности, то, что «пластически невыразимо», – то есть голос женщины, прославленной своим красноречием20.

Вакулинчук, старуха на митинге, Аба, мать Абы, студент, мать с коляской, курсистка, казак. Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”», 1925
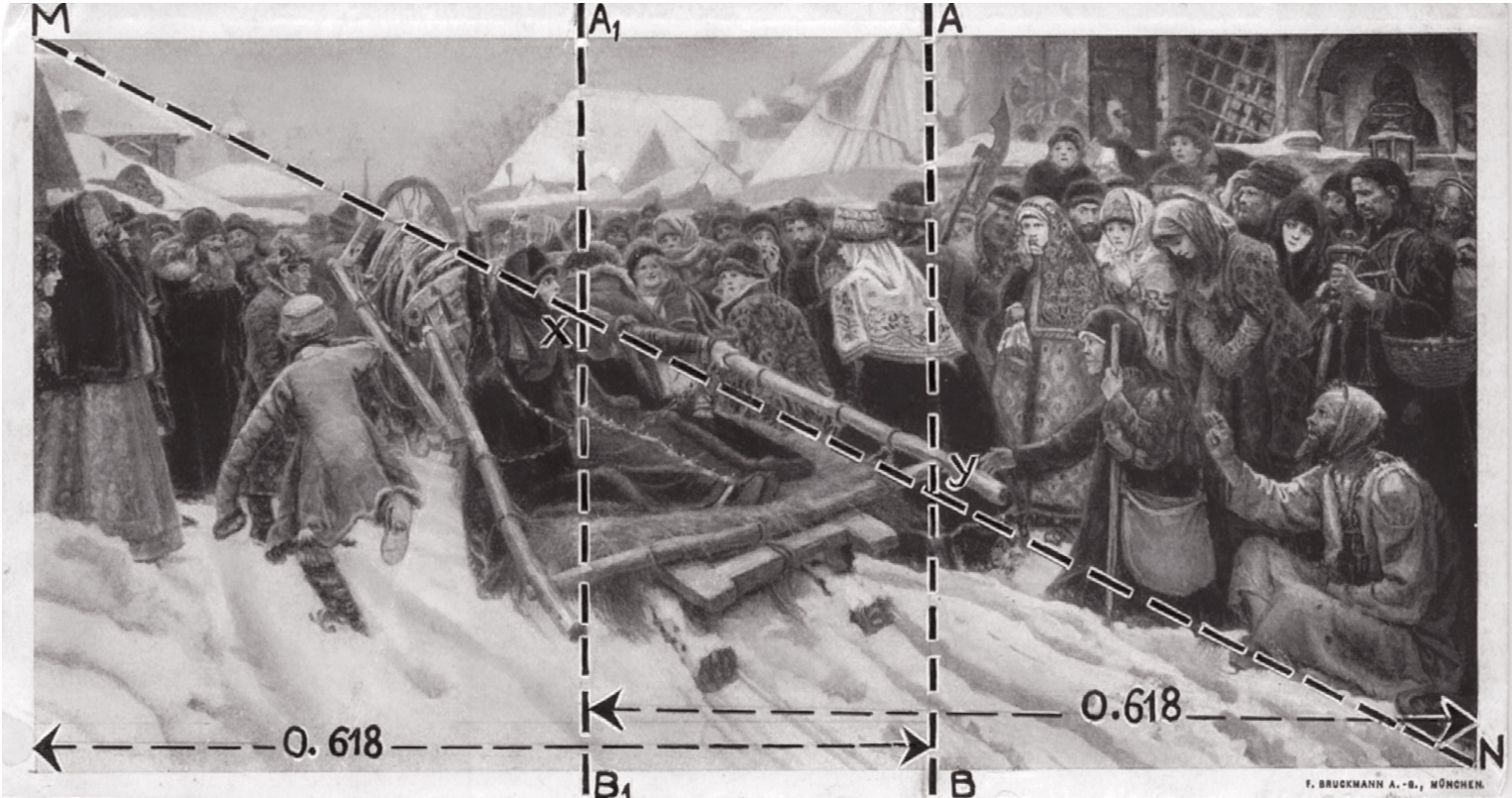
Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1887. Государственная Третьяковская галерея

Василий Суриков. Этюд к картине «Боярыня Морозова». 1887. Государственная Третьяковская галерея
Точно так же, обсуждая воздействие вскакивающих каменных львов в «Потёмкине» (образа «камни взревели»), Эйзенштейн вдохновляется и восхищается «Криком» Эдварда Мунка, в котором крик представлен не только как иконографический мотив, как открытый рот, но пронизывает всю структуру и композицию работы, потому что художник стремился «передать строем картины ощущение крика»21. Подобно тому как картина Мунка кричит на каждом своем уровне, весь «Потёмкин» построен на экстатических скачках из одного качества в другое, где крики играют ключевую роль в качестве диалектических узлов22.
Вдохновлявшиеся пластическими изображениями крика, фильмы Эйзенштейна, в свою очередь, стали вдохновением для художников в своеобразном феномене интермедиального круговорота, который вписывается в подход Жоанн Ламурё к крику как интермедиальному объекту23. В этом отношении кричащая Учительница «Потёмкина», икона революционного пафоса, функционирует как своеобразный навязчивый образ. Перерезанная ножницами монтажа, эта кинематографическая Горгона увлекала и ужасала многих зрителей не столько разбитыми стеклами пенсне и вытекающим глазом, сколько зияющей дырой своего кричащего рта. Здесь мы рассмотрим два примера – картины Фрэнсиса Бэкона и Валерио Адами, которые сохранили разные впечатления от этого образа и переработали его в диаметрально противоположных направлениях.
Встреча с «Броненосцем “Потёмкин”»: рождение «живописца крика»?
Названный французским критиком Гаэтаном Пиконом «живописцем крика»24, Бэкон видел в крике один из высочайших объектов для изображения. В интервью 1963 года, которое он дал историку искусств Дэвиду Сильвестру, Бэкон предложил яркую формулу: «Меня всегда очень трогали движения рта и форма рта и зубов… Можно сказать, что мне нравится цвет и блеск, выходящие изо рта, и я всегда в каком-то смысле надеялся, что смогу написать рот так же, как Моне рисовал закат»25.
«Броненосец “Потёмкин”» сыграл решающую роль в обнаружении чувствительности Бэкона к этому мотиву, который будет пронизывать всю его живопись. Почва для этого было подготовлена, когда в 1927 году Бэкон увидел картину Никола Пуссена «Избиение младенцев», которая произвела на него яркое впечатление, что он также вспоминает в том же интервью Сильвестру: «Я помню, что однажды жил с семьей около трех месяцев недалеко от того места [Шантийи], пытаясь выучить французский, я много раз ездил в Шантийи и помню, что эта картина произвела на меня удивительно сильное впечатление»26. Полотно Пуссена создает сильное слуховое ощущение благодаря своей сложной композиции, ибо, как напоминает нам Натали Роэленс, недостаточно просто изобразить открытый рот для того, чтобы изображение можно было услышать, как если бы оно обрело голос27. В своей картине, названной Луи Мареном «одним из самых выдающихся изображений крика», Пуссен разворачивает тонкую игру соответствий между зрительным образом и звуком – сложно оркестрованные визуальные знаки как будто ждут, что их расшифруют в качестве звуков: «…интенсивность крика, звучание голоса в его крайнем диапазоне визуально “обозначены” острым концом поднятого меча и особенно обелиском на заднем плане, над головой: их точка пересечения пуста, передавая пронзительность крика, в то время как нереалистичное удлинение руки женщины переводит в визуальную форму его невыносимую продолжительность»28.

Никола Пуссен. Избиение младенцев. 1625–1632. Музей Конде. Шантийи, Франция
Марен также подчеркивает, что траектория голоса визуально намечена и воплощена с помощью «петель», образованных руками солдата и женщины, которые в свою очередь отражаются и усиливаются движением красной накидки солдата. Сильное воздействие картины Пуссена на Бэкона снова отозвалось, когда Бэкон посмотрел «Броненосец “Потёмкин”», вероятно, в Париже, во время нелегального показа, организованного коммунистическим киноклубом «Друзья Спартака»29. Он пояснил Сильвестру: «Это был фильм, который я увидел чуть ли не до того, как начал рисовать, и он произвел на меня глубокое впечатление – фильм целиком, равно как сцена на Одесской лестнице и этот кадр. Я надеялся в какой-то момент создать – в этом нет какого-то особого психологического смысла – надеялся однажды создать более сильную картину, изображающую человеческий крик. Я не смог этого сделать, у Эйзенштейна она намного лучше, и это так. Думаю, что в живописи, пожалуй, лучший человеческий крик сделан Пуссеном...»30

Фрэнсис Бэкон. Этюд к картине «Кричащая няня». 1957. Музей Штеделя. Франкфурт-на-Майне, Германия
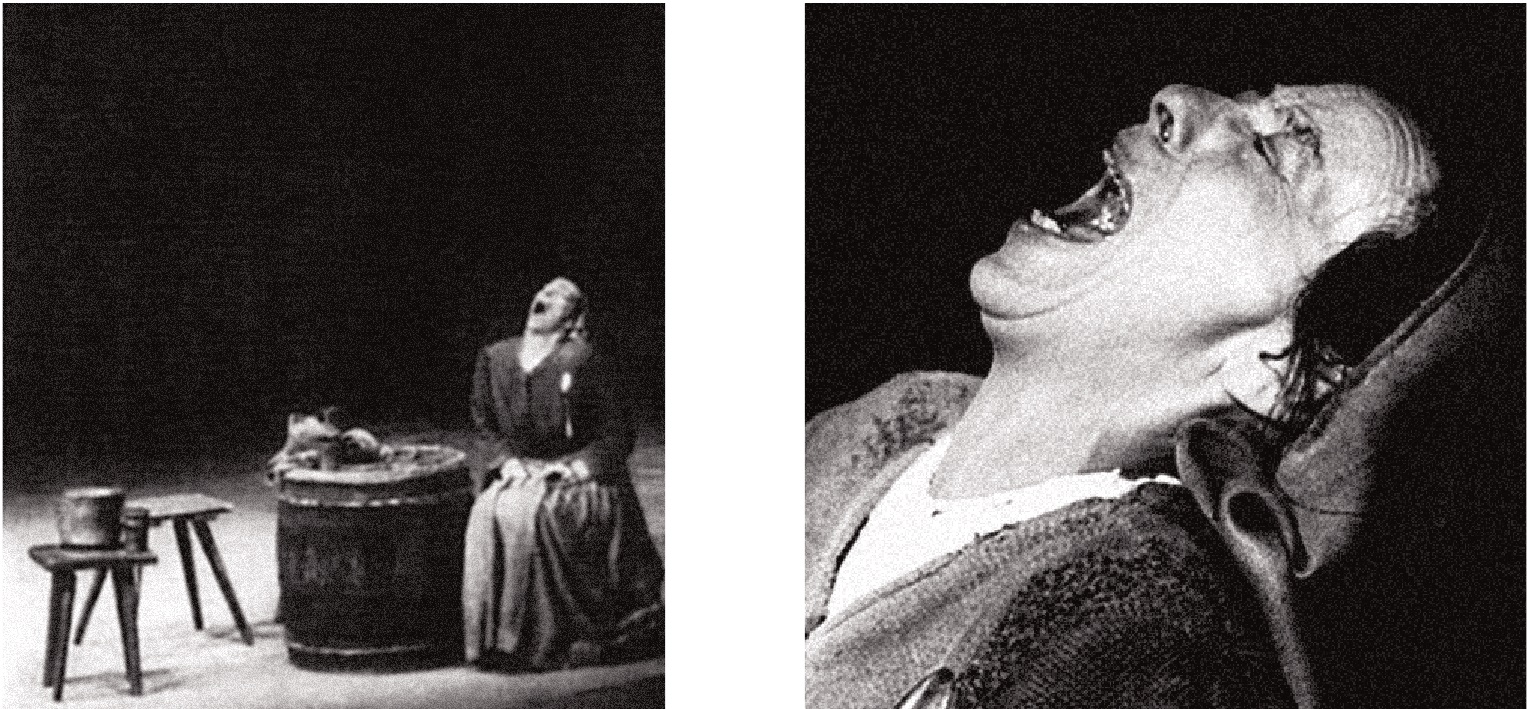
Безмолвный крик мамаши Кураж (Хелене Вайгель) в спектакле «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольта Брехта. Театр «Берлинер ансамбль», 1949
В своих дневниках Бэкон еще больше подчеркивает роль, которую сыграл фильм Эйзенштейна в качестве основного катализатора его деятельности как художника: «В юности меня очень привлекла живопись после того, как я был поражен удивительной образностью фильмов Эйзенштейна – «Стачки» и «Броненосца “Потёмкин”»31. Страстный любитель кино, Бэкон признавался издателю и профессору Мишелю Аршимбо в своем изумлении от «невероятной силы немого периода кино» и от выразительных возможностей кинематографа, он утверждал, что хотел бы стать кинорежиссером, если бы не стал живописцем32. В его студии были обнаружены несколько отдельных листков с черно-белыми кадрами сцены на Одесской лестнице33. Среди них – крупный план Учительницы (Бэкон называет ее Няней), наклеенный на картон, который он зарисовал и свирепо покрыл точками и линиями, нанесенными краской, добавляя слой живописного насилия к насилию, уже содержащемуся в киноизображении. Эта репродукция вскармливала его одержимость криком и открытым ртом: «Я пытался использовать кадр из “Потёмкина” как основу, на которой я мог бы также использовать эти чудесные изображения человеческого рта»34.
Бэкон говорит здесь о медицинском сборнике «Заболевания полости рта» (1894), содержащего впечатляющие и довольно отталкивающие иллюстрации щечных патологий, у него был экземпляр французского издания: «Еще одна вещь, которая заставила меня задуматься о человеческом крике, была книга, которую я купил, когда я был очень молод, в книжном магазине в Париже, подержанная книга, в которой были красивые, раскрашенные вручную иллюстрации заболеваний полости рта, красивые иллюстрации открытого рта и обследований полости рта, и они очаровали меня, я был буквально одержим ими»35. Бэкон также владел экземпляром книги Роджера Мэнвелла «Кино» («Film» by Roger Manvell, 1944), в котором воспроизведен кадр с истекающей кровью кричащей Учительницей36. Спустя много лет после поразившей его встречи с «Потёмкиным» Бэкон приобретет сочинения Эйзенштейна, опубликованные на английском языке в 1973 и 1982 годах, они останутся в его студии37.
Бэкон повторял кричащий рот Няни во многих своих картинах, например, в своих вариациях на «Портрет папы Иннокентия X» Веласкеса (1949, 1953), который в версии Бэкона носит разбитые очки, что, как это предположил в 1949 году критик Роберт Мелвилл, указывает на Эйзенштейна в качестве источника. Он подчеркнул близость фигур Бэкона к утрированным актерским жестам и к мощной выразительности немого кино38. Интересно, что Бэкон сделал первый портрет Иннокентия в 1949 году, когда Хелене Вайгель сыграла свой знаменитый «безмолвный крик» в брехтовской «Мамаше Кураж».
Некоторые наброски Бэкона можно было бы рассматривать как сгущение нескольких мотивов из сцены на Одесской лестнице: кричащего рта, зонтика, лестничной конструкции, с кровавыми ассоциациями, окрашивающими всю сцену красным обертоном. В своем «Этюде для портрета» 1952 года Бэкон снова соединил кричащий рот с мотивом очков как вариации сломанного пенсне Учительницы.
Более откровенно Бэкон посвятил Учительнице картину 1957 года «Этюд для «Броненосца “Потёмкин”». К крупному плану Няни он подставляет все тело целиком, абсолютно голое, как будто ему нужно дать избыток плоти ревущему рту. Как напоминает Жиль Делёз, Бэкон изображает не лица, а головы, поскольку «лицо – это структурированная пространственная организация, покрывающая голову, тогда как голова подчинена телу, даже если она – просто его верхушка»39. В этой операции крик играет ключевую роль: «[открытый] рот обретает ту силу нелокализованности, которая превращает всю плоть в голову без лица»40.
Извлеченная из своего первоначального контекста, помещенная в абстрактное и не локализуемое пространство, кричащая Няня в версии Бэкона появляется как обобщенное воплощение человеческого страдания; кровь на ноге перекликается с кровью в глазу, а также с краснотой рта, как будто сам рот – это рана. Крик Няни выкристаллизован посредством живописи, которая абстрагирует его от фильмического и динамического источника, – и он кажется парадоксально висящим в вечности, нескончаемым звуком. Рот эйзенштейновской Учительницы занимает Бэкона свойством плоти при жутком разрыве становиться мясом, поскольку он полагает, согласно Делёзу, что «любой страдающий человек есть кусок мяса»41. Не случайно подобный знак равенства встречается и у Эйзенштейна, особенно в «Стачке», где не только в финальной сцене забастовщиков буквально забивают, как на бойне, но и в начале фильма рабочий-самоубийца выглядит как висящий кусок мяса, разорванный на куски кинокамерой. Мясо, в эстетике Бэкона, способствует созданию зоны неопределенности между человеком и животным: «Голова-мясо есть некое превращение-человека-в-животное»42. Крик усиливает эту потерю фиксированной идентичности и контура, так как «крик Бэкона – это операция, посредством которой все тело выскальзывает через рот»43. Таким образом, Бэкона интересует в крике этот динамичный процесс трансформации, или, лучше сказать, деформации тела в животное, просто в мясо и плоть. Но на карту поставлена также необходимость запечатлеть энергетическое движение, которое переполняет субъекта, надо высвободить присутствие этой энергии, находящейся за пределами изображения и под ним, выразить невидимые силы, «вызывающие крик и сводящие тело судорогами, чтобы в конце концов дойти до расчищенной зоны рта»44. В изображениях кричащих фигур у Бэкона персонажам «только и остается делать видимыми незримые силы, что заставляют [их] кричать»45. Однако, в то время как у Эйзенштейна люди кричат о чем-то в ответ на что-то, Бэкон смещает это воинствующее измерение крика и превращает его в живописный объект сам по себе, в самодостаточный и абсолютный мотив.
Совершенно другой подход и использование образа кричащей Учительницы можно найти в работе художника Валерио Адами.
«Потёмкин» Валерио Адами: радикализированный политический жест
Родившийся в 1935 году в Болонье Валерио Адами сделал карьеру в Милане, в 1970 году поселился в Париже, где установил тесные контакты с интеллектуальным и художественным авангардом. Его работы комментировали Юбер Дамиш, Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жан-Люк Нанси и другие, а его произведения выставлялись на таких площадках, как парижский Музей современного искусства и Центр Жоржа Помпиду46. В семидесятые годы он становится одной из главных фигур направления «Новая фигуративность», заявляя о необходимости вернуться к нарративному и фигуративному искусству – в противовес как абстракции, так и фигуративности соцреализма. Работы Адами пронизаны отсылками к литературе, музыке, поп-арту и кинематографу; он сам экспериментировал с кино в 1971 году, делая фильмы со своим братом Карло Романи Адами. Когда он переехал в Париж, там активно обсуждались теории и фильмы Эйзенштейна. Журнал «Кайе дю синема» публиковал серьезные исследования его творчества (например, «Третий смысл» Ролана Барта), столь же активно переводились тексты самого Эйзенштейна. Ему посвящались специальные номера других журналов. Кристиан Буржуа в своей коллекции «10/18» запустил цикл переводов его книг («Мемуары», «Неравнодушная природа») и статей. Эйзенштейн был ключевой фигурой в эстетических и художественных дебатах того времени, особенно после нескольких революций, потрясших европейские страны в конце шестидесятых годов. Неудивительно, что среди различных работ семидесятых годов, отсылающих к кинематографу, Валерио Адами решил посвятить одну композицию Эйзенштейну, сделав интертекстуальный жест, типичный для его коллег по «Нарративной фигуративной живописи» – таких, например, как Эрро, который вставлял, перерабатывал и выворачивал наизнанку известные образы в новых повествовательных контекстах.
С 24 сентября 1970 года до 24 февраля 1971 года Адами создавал картину под названием «Броненосец “Потёмкин”»47. Сам факт, что Адами замерил и включил в подпись под картиной время, затраченное на эту работу, подчеркивает его внимание ко времени, как будто он хотел преобразовать временной поток фильма в повествование о процессе живописного творчества, с четким началом и концом48. Кинопроблематика, занимавшая Адами, появляется также в одном из его дневников, где он записывает различные возможные названия для картины, – их перечисление звучит почти как отрывок сценария или как ремарки в пьесе: «Люди, лижущие плевки. Истерия. Бесчеловечное обращение. Мать отчаянно просит новостей от сына»49. В этом перечислении раскрываются ассоциации Адами с «Броненосцем “Потёмкин”». Его особенно интересуют моменты пафоса, которые он сочетает с образами из собственной памяти и воображения.
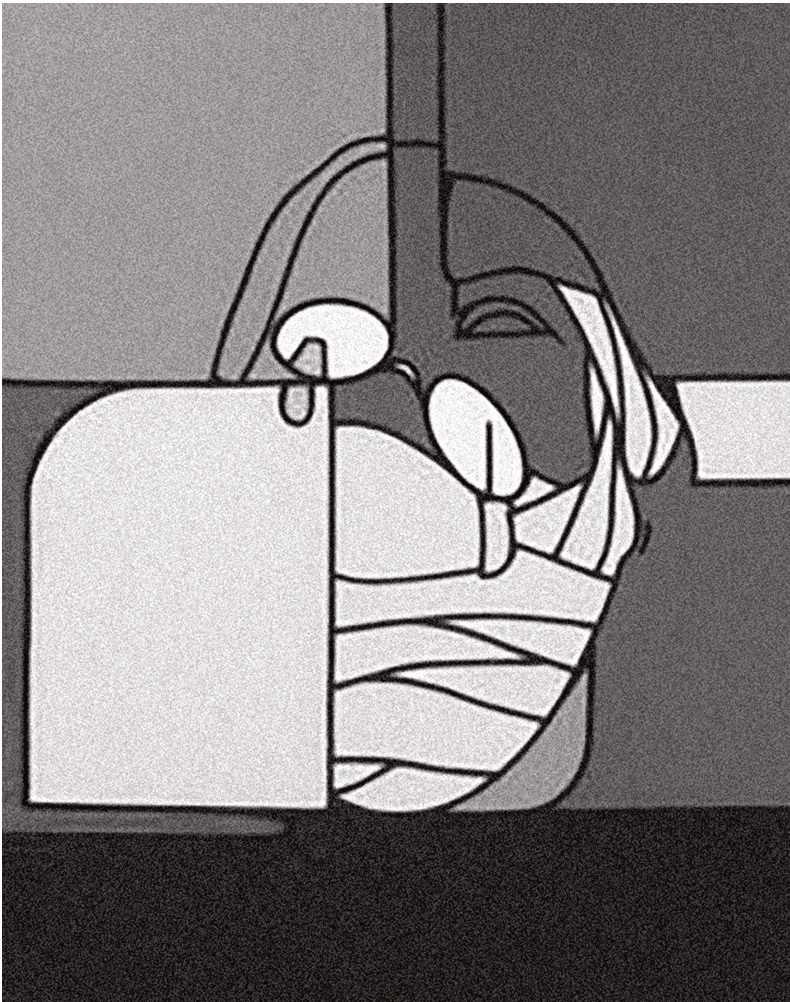
Валерио Адами. «Броненосец “Потёмкин”»: Повязка. 1970–1971. Частная коллекция, Франция
В своем «Броненосце» Адами перерабатывает мотив кричащей Учительницы в совершенно противоположном от Бэкона направлении: там, где Бэкон широко, навечно раскрывает ее рот, Адами закрывает и обтягивает его в кульминации немоты. Там, где Бэкон заинтересован в непристойности и естественности ротового отверстия, Адами усиливает политическое измерение эйзенштейновской сцены. В фильме Эйзенштейна бессильный крик Учительницы символизирует царские репрессии, которые затыкают бунтовщикам рты, чтобы нельзя было услышать никакого протеста. Адами идет дальше: восстанавливая рот няни – дыру-рану – с помощью бинта, мумифицируя ее, он полностью лишает ее голоса и заставляет ее действительно замолкнуть, добавляя новый слой насилия к исходному образу. Там, где эйзенштейновская Горгона ужасала зрителя, Адами горгонизирует само изображение. Буквально представляя гэг, Адами переводит образы Эйзенштейна в обличение цензуры своего времени. Жестокость этого жеста усиливается контрастом серого цвета с другими цветами, как пятно тишины, вторгающееся в композицию, что дает особый акцент на разбитые стекла в кислотно-розовом цвете. Адами утверждал, что в живописи использование цвета равно использованию крупного плана в кино50. В дополнение к этому, бесчеловечность сцены подчеркивается гладкой и холодной текстурой акриловой краски, стилизованными очертаниями, а также ироничным использованием ярких, поп-артовых цветов. Все в этой холодной, плоской, металлической трактовке контрастирует с живой, органической плотью Бэкона. На жестокий киномонтаж Эйзенштейна Адами отвечает «деконструированной» сборкой элементов, фрагментированной поэтикой, которая усиливает потерю речи и зрения персонажем. На самом деле, сам процесс фрагментации жесток, так как он подразумевает принесение в жертву некоторых элементов: «[работы Адами] подобны рассыпанным фрагментам головоломки, отдельные фрагменты которой потеряны, как будто каждое изображение у Адами изначально было разрезано на полоски, а затем склеено с наложениями и утратами фрагментов»51. Эстетика «монтажей-образов»52 Адами опирается на искажение исходного образца или образа и никогда не сохраняет целостность и единство лица. Рисуя, Адами практикует накожные надрезы, произвольные разрезы, которые вторят тому, как взгляд сам разрезает видимую реальность на произвольные фрагменты53. Не случайно в этом смысле, что во многих работах 1970 и 1971 годов Адами обращает своеобразное внимание на мотив очков – не только в своей вариации на образ Учительницы из «Броненосца “Потёмкин”», но и, например, в портретах Фрейда, Ганди, Джойса, где разъятый на части мотив очков воплощает безжалостную работу фрагментирующего взгляда, а также жестокий и безжалостный жест художника.
Воссозданный в живописи, крик эйзенштейновской Учительницы остается, таким образом, по-прежнему живым и резонирует, призывая к новым интерпретациям и переработкам в разные эпохи и в разных видах искусства. Короче говоря, голос Учительницы-Няни требует, чтобы его услышали и на него отзывались, снова и снова.
Перевод Натальи Рябчиковой
/ Лука Арсенюк /

Лука Арсенюк (Luka Arsenjuk) – после окончания университета в Любляне (Словения) защитил в 2010 докторскую диссертацию в университете Дьюка (США) по специальности «теория и практика кино» и стал преподавателем факультета сравнительного литературоведения университета Мэриленда в Колледж-Парке (University of Maryland, College Park). В 2018 вышла его книга «Движение, действие, образ, монтаж: Эйзенштейн и кино в кризисе» («Movement, Action, Image, Montage: Sergei Eisenstein and the Cinema in Crisis», University of Minnesota Press, Minneapolis). С 2019 – директор программ изучения кино университета Мэриленда в Балтиморе (США).
«Заметки ко “Всеобщей истории кино”» и диалектика эйзенштейновского образа
Трудность «Заметок ко “Всеобщей истории кино”» Сергея Эйзенштейна заключается не столько в их фрагментарности и незавершенности, сколько в том, что они представляют собой текст, в котором история кино сама пишется кинематографическими средствами. Кино входит в записях Эйзенштейна и как объект исторического анализа, и как набор операций или средств, составляющих этот анализ. Подвергая свой исторический обзор действию и форме монтажа54, Эйзенштейн стремится к чему-то иному, чем простое производство знаний или суждений об историческом статусе кино: он также хочет создать образ истории кино. Для Эйзенштейна история кино может быть проявлена, только если она сама станет объектом того, что он называл образностью; только если время как нечто историческое пройдено насквозь и позволит затронуть ее темпоральным переживанием образа. Поэтому для текстов заметок ко «Всеобщей истории кино» характерны определенная напряженность и разрыв между двумя конкурирующими временными пластами: один из них основывается на задачах историка кино – стабилизировать время в форме хронологий и периодизаций, установить причинно-следственные связи в форме интерпретации и организовать повествование, в то время как другой пласт принимает форму требования, которое режиссер предъявляет к историческому материалу поразительной широты в поисках образа.
Стало быть, мы можем обозначить нашу позицию в отношении заметок Эйзенштейна, сказав, что образ и история не обязательно понимают время одинаково. Возможно, это утверждение покажется странным по отношению к Эйзенштейну, но он был не одинок среди великих кинематографистов, веривших в то, что с появлением кино история (включая историю самого кино) должна проделать необходимый «объездной путь» по пересеченной местности (кинематографического) образа.
Что же такое образ в специфически эйзенштейновском понимании?
Рисунок баррикады: изображение и остранение
Я предлагаю подойти к вопросу об эйзенштейновском образе с помощью одного примера: рисунка баррикады в его книге 1937 года «Монтаж»55. Этот рисунок появляется через несколько страниц от начала первого раздела – после того, как Эйзенштейн затронул «биографию кадра» в собственных фильмах; напомнил нам еще раз о фундаментальной связи между монтажом и конфликтом; заявил методологическую задачу анализа «стадиальных связей» между композицией единичного кадра, монтажом как последовательностью кадров и звукозрительным монтажом; и начал подходить к вопросу о мизансцене путем анализа эпизода из «Отца Горио», когда-то предложенного студентам в качестве задания. К тому времени, когда мы подходим к баррикаде, ставки проекта книги «Монтаж» оказываются очерчены почти во всей их полноте56.
Выбор Эйзенштейном баррикады в качестве решающего наглядного примера «Монтажа» 1937 года вряд ли является случайным. Нетрудно заметить, как баррикада (образ которой в собственном воображении Эйзенштейна был превзойден лишь гильотиной) могла бы служить особенно эффектной фигурой во всех существенных темах кинематографа Эйзенштейна: жестоком историческом конфликте, революции, движении масс. Действительно, можно поставить баррикаду в ряд вещей-аттракционов, которые в фильмах Эйзенштейна функционируют как воплощенные метафоры внезапного переворота исторических судеб: таковы знаменитая ожившая статуя льва в «Потёмкине», не подчиняющаяся законам логики пуля, которая в «Октябре» внезапно собирается в пулемет, или экстатический молочный сепаратор деревенского кооператива в «Генеральной линии». И все же баррикада в тексте «Монтажа» призвана продемонстрировать нам в первую очередь другой вид переворота или скачка. А именно, она должна показать нам, как конкретно строить образ, а не просто изображение или картинку; как рисунок может внезапно привести нас к ощущению образности вместо простого изображения. Это две стороны фундаментальной эйзенштейновской оппозиции – образ против простой картинки, образность против изображения: тексту Эйзенштейна придется оживлять ее диалектически.

Сергей Эйзенштейн. Баррикада (два варианта решения кадра). Рисунки из книги «Монтаж», 1937
Из-за существования этой основной оппозиции «рисунок баррикады» может означать две совершенно разные вещи, которые Эйзенштейн разыгрывает, включая в текст не один, а два рисунка. На первом рисунке мы видим, по словам Эйзенштейна, воспроизведение баррикады в чисто натуралистических, бытовых деталях. Он является рисунком в смысле простого изображения сцены. Мы можем сказать «рисунок чего-то» в объективном смысле родительного падежа и в отсутствие какого-либо субъективного наделения значением элементов, представленных в этой статической и сбалансированной композиции. Здесь мы имеем дело с изображением, где форма рисунка очерчивает контуры или пределы своего объекта, которые она тем самым содержит в расположении своих линий. Изображение сцены предстает здесь безразличным к течению времени. Оно могло бы быть воспринято как представление о баррикаде в ожидании боя, если бы не тот факт, что напряженность некоего грядущего кровопролитного события кажется в изображении отсутствующей. Его также можно принять за сцену, в которой бой уже закончился, но против этого говорит то, что баррикада и все предметы, что ее окружают, воспринимаются не сильно потревоженными.
Второй рисунок, который Эйзенштейн противопоставляет этому первому, показывает, однако, нечто совершенно иное. Все его элементы – отдельные куски баррикады, почти исчезнувшая поверхность улицы, тротуар, словно превратившийся в рельсы, – становятся взбудораженными. Это беспокойство нигде не проявляется столь явно, как в конвульсии перспективы, где знак кренделя, на первом рисунке нависавший над баррикадой, теперь внезапно оказывается под ней, буквально представляя метафору «переворота», которая была достигнута, по словам Эйзенштейна, «исключительно композиционно»57. Во втором рисунке что-то происходит; и вся сцена, обретая форму события, теперь погружается в неизбежность течения времени. Изменение во втором рисунке свидетельствует об интересе Эйзенштейна к показу вещей в процессе их становления: «Я люблю рассматривать каждое явление как некоторую промежуточную стадию. Как некое “сегодня”, имеющее свое “вчера” и свое “завтра”. Как состоящее в некоем ряде, имеющее свое “до” и свое “после”. То есть предыдущие стадии и последующие»58.
Деформированная и на первый взгляд почти неузнаваемая, баррикада оказывается в водовороте движения, которое разрушает спокойствие пространства в ее изображении. Разрушение этого пространства, возможно, наиболее отчетливо проявляется в паре линий, что, подобно паре натянутых проводов, тянутся от баррикады (объекта, расположенного в пространстве изображения) и оборачиваются вокруг правого верхнего угла рамки рисунка, тем самым предел изображения внезапно втягивается в пространство, которое он должен был отграничивать, в то время как объект, ранее гнездившийся в этом пространстве, выталкивается или даже «взрывается» со своего места. Ощущение изобразительной объективности и натуралистической описательности, которое характеризовало первый рисунок, во втором поглощено сущим субъективным беспорядком. Можно понять этот второй рисунок баррикады так, как будто в нем баррикада, вместо того, чтобы сдерживаться рисунком, внезапно завладела им сама. Как будто не просто созданная актом рисования, баррикада субъективно реорганизовала форму, следуя той логике, какую уже нельзя назвать просто логикой изображения, поскольку роль, которую баррикада играет в этой новой ситуации, также больше не является просто ролью обычного объекта или пассивной вещи.
Итак, образ баррикады (ибо только второй рисунок и является образом, говорит Эйзенштейн) выстраивается не как объект изображения, а скорее как набор сильных эффектов, которые регистрируют на поверхности рисунка «становление» баррикады. И все же элемент изображения (первый рисунок) не просто отсутствует на втором рисунке; Эйзенштейн настаивает на том, что никогда не следует полностью упразднять изобразительную функцию. Вместо этого во втором рисунке изображение подвергается внезапной динамизации, цель которой состоит в том, чтобы дать нам, через движение и через серию выразительных жестов, то, что первый рисунок может показать лишь статически, освобожденным от течения времени. На втором рисунке «плоскость баррикады врезается в плоскость стены домов. <...> …Линия подножия баррикады... врезается в мостовую. <...> Контур баррикады... представлен раздираемой ломаной линией, которая как бы запечатлевает фазы борьбы: кажется, что каждая точка переломов контура является точкой столкновения с переменным успехом двух противоборствующих сил»59.
Образ баррикады появляется на рисунке именно как новый тип динамического единства, которое составляется из этих фрагментированных и быстрых движений.
Динамизация, принимающая во втором рисунке форму набора резких режущих движений – настоящий монтаж линий, – находится в состоянии напряженного соперничества с операцией описания, на которую накладывается. Можно, наверное, сравнить это с операцией остранения в представлении русских формалистов о художественном приеме. Это сравнение оправдано в той степени, в которой динамизация баррикады в рисунке Эйзенштейна разделяет некоторые существенные характеристики с желанием формалистов дезорганизовать автоматизированный и привычный – мы бы сказали, просто изобразительный, или натуралистический – способ восприятия явлений, которые нас окружают. По словам Виктора Шкловского, «[ц]елью образа является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание “виденья” его, а не “узнаванья”»60. «Виденье», становление, а не уже сформулированный и познаваемый результат, имеет значение и в примере Эйзенштейна: «Вне этого условия полноты звучания, ощущения баррикады, Баррикады с большой буквы не получится»61. Однако даже это короткое предложение указывает на то, что динамизация восприятия или его остранение является для Эйзенштейна лишь первым шагом. По сравнению с определением Шкловского, операция остранения играет в эйзенштейновской концепции образа гораздо более ограниченную роль. Говоря несколько схематично, в случае Эйзенштейна цель искусства не исчерпывается идеей остранения. Остраняющая динамизация восприятия функционирует не как самоцель, а скорее как средство для достижения чего-то другого, что я и попытаюсь описать в следующем разделе этого эссе62.
Давайте пока просто определим, начиная с двух рисунков, данных Эйзенштейном, изображение и остранение (понимаемое как динамизация восприятия) как первые операции создания эйзенштейновского образа. Хотя образ никогда полностью не отрицает своюфункцию фигуративного изображения предметов, крайне важно увидеть, что эйзенштейновский образ всегда выполняет операцию возвышения или трансформации изображаемого предмета в новый тип существования, в котором функция изображения поколеблена, и его объективный смысл, не исчезая полностью, уступает место динамической взаимосвязи имманентной игры сил63.
Линии рисунка: обобщение и патетизация
Описанная выше двойная операция описания и остранения – назовем это операцией динамического наследования – это только половина дела. Достижение полностью реализованного восприятия в образе баррикады нельзя отделить от одновременного появления какого-то смысла баррикады, которое это динамическое восприятие поддерживает, но которое, тем не менее, само по себе не относится к восприятию. Эйзенштейн назовет это другое измерение «обобщенным внутренним образом содержания баррикады»64. Следовательно, «Баррикаду с большой буквы» следует понимать как относящуюся не только к полному восприятию («виденью») баррикады, но также к появлению в рисунке понятного значения баррикады. Динамическое оформление играет роль чего-то вроде опоры для – используя формулировку Эйзенштейна – «материализации идеи» баррикады в воспринимаемой ткани образа.
Но как мы можем увидеть этот умопостигаемый элемент, «внутренний образ содержания»? В какой форме сущность проявляется? На этот вопрос несложно ответить, так как термины, которыми Эйзенштейн называет появление существенного значения в образе, разбросаны по всему тексту «Монтажа» 1937 года: «графическая проекция характера действия»65, «след движений» или «линия характера»66, «психологический и драматический рисунок действия»67, «графическое изображение наиболее обобщенного представления о явлении»68, «композиционный росчерк облика кадра»69 и т. д. Содержание проецирует себя в образе графически, как облик или схематичный контур движения.
Мы можем понять теперь, почему динамическое изображение баррикады, которое позволило нам воспринимать ее как игру сил (серию режущих движений), необходимо для появления Баррикады с большой буквы. Движение сил в динамическом расчленении фигуры баррикады раскрывает контур, посредством которого сущность баррикады схематизирует себя в образе. Динамическое движение восприятия, запечатленное теперь в «мгновенном снимке» его графического следа, заставляет в образе проявиться тому, что Михаил Ямпольский назвал феноменом «костяка». Ямпольский дает удивительно емкое описание графической одержимости Эйзенштейна: «Он придает линии совершенно особое значение. Производя ее или “обегая взглядом”, человек удивительным образом приобщается к сути вещей, их смыслу. <...> Эйзенштейн приходит к своего рода панграфизму: обнаруживая во всем многообразии мира за видимой поверхностью вещей смыслонесущую линию. <...> Линию, схему он называет “обобщающим осмыслителем”»70.
Таким образом, Баррикада (с большой буквы) будет одновременно подразумевать две вещи: (1) динамическую конфигурацию баррикады (изображение + остранение), что дает нам восприятие предмета, преображенного в игру сил; и (2) то, что этот преображенный предмет будет одновременно поддерживать процесс создания «графической схемы»71 схематичного контура внутреннего образа содержания баррикады.
Означает ли вышесказанное, однако, что вопрос о «внутреннем содержании» в эйзенштейновском образе должен рассматриваться исключительно как облагороженный вид миметической репрезентации? Проделывает ли Эйзенштейн всю эту работу по динамизации нашего восприятия и остранению логики репрезентации на уровне изображения (то, что он назвал бы «имитацией на уровне формы») только для того, чтобы вновь внедрить эту логику на уровне смысловой интерпретации явлений (что он назвал бы «имитацией принципа»)?72 Вводит ли он весь насильственный динамизм и движение, разрушающее смысл любого простого графического изображения баррикады, только для того, чтобы еще более насильственно вернуться к статичности представления, когда дело доходит до абстрактного графического воспроизведения в образе внутреннего смысла баррикады? Верно ли, наконец, то, что «Эйзенштейн рассуждает всецело в русле платонических идей»73 и что образ, после того как он привел нас к предмету в его сущностном контуре, должен подчиниться смыслу?
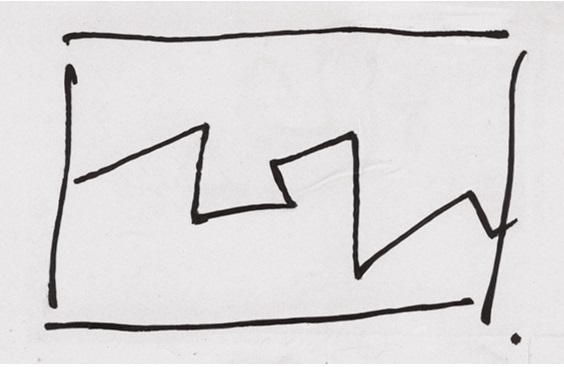
Сергей Эйзенштейн. Зигзаг с неопределенным значением. Схема из книги «Монтаж», 1937
Не совсем. Ибо графическое, контурное, абстрагирующее движение, которое должно представлять внутренний смысл, наталкивается на глубокое противоречие. Описывая третье изображение, где было исключено все, кроме самых общих очертаний баррикады, Эйзенштейн отмечает: «Обобщение, от которого оказалось бы оторванным единично изобразительное, повисло бы в воздухе беспредметной голой абстракцией. <…> Обобщающее, лишенное… не композиционной линии, а самого изображения и сохранившее только один “образно выразительный” линейный зигзаг ее контура. Вся “образность” и “выразительность” мгновенно испарились бы тут же из картинки, а самый зигзаг сможет прочитываться и вовсе даже не как баррикада, а… как что угодно: кривая роста и падения цен, сейсмографическая запись подземных толчков и т. д., и т. д.»74.
Следование «платоническому» пути графической схематизации до его предела полностью дестабилизирует формирование смысла. Мимесис внутреннего смысла феномена в виде графического контура (его «костяка») создает угрозу умножения смыслов, воспринимающегося в то же время как потеря, растворение и полная релятивизация самой сущности, которую он пытался представить («сможет прочитываться… как угодно»). Важно отметить, что в цитируемом отрывке (довольно неплатоническим образом) релятивизирует абстрактный внутренний смысл вещи не чувственная индивидуальность образа, а скорее постепенное избавление композиционного движения ото всей чувственной индивидуальности, что само по себе заставляет смыслы умножаться и тем самым испаряться.
Эйзенштейн, с одной стороны, будет использовать этот довод для того, чтобы настаивать на необходимости сохранения в образе элемента фигурации, изображения. Внутренний смысл Баррикады (видимый в ее схематическом контуре) должен быть реализован через определенный предмет (изображенную баррикаду), но не полностью за счет самого этого предмета. «Костяк» должен быть виден «выпрыгивающим» из динамизированного тела, но форма этого тела должна так или иначе оставаться видимой, чтобы зафиксировать членораздельность смысла, чтобы он не превратился в бессмысленность. Во всех своих образах Эйзенштейн сохраняет определенную напряженность между частным (предмет, изображение) и общим или обобщающим (схематический контур движения, внутренний смысл): «Характеристика баррикады, прочитанной в конкретном сюжете, помимо этой общей идеи о баррикаде каждый раз будет еще нести частный образ этой идеи применительно к ситуации, в которой фигурирует баррикада»75.
С другой стороны, однако, еще что-то чуть более странное и радикальное имеет место в том, как Эйзенштейн натыкается на бессмысленность чистого контура; что-то, что имеет мало общего с напряжением между обобщающим контуром и индивидуальностью изображаемого предмета в образе и что тесным образом связано с внутренним противоречием самого схематического контура. Представленная сама по себе «смыслонесущая линия», или, как ее еще называет Ямпольский, линия как «обобщающий осмыслитель», внезапно превращается в свою противоположность: она становится линией смысловой разрядки и агентом простого умножения/потери значения (опять же, контур может означать «все что угодно», то есть он ничего не значит). Контур – это парадокс. Осмыслитель, который в равной степени является обессмысливателем, красноречивый, понятный контур также является линией в ее болтовне или немоте – что означает одно и то же. То же схематизирующее, обобщающее движение контура, благодаря которому в образе появляется нечто от внутреннего смысла Баррикады, приводит нас, если мы будем следовать за ним до конца, к самоуничтожению этого внутреннего смысла.
В контуре существует некоторый избыток движения, воплощаемый одновременно со смыслом и значением. Абрис контура с его режущими движениями и неровными линиями делает видимым внутренний смысл Баррикады (перипетии «борьбы»), но это также просто движение, немного движения в его избытке, немного горячечного, безумного движения, в котором движение наслаждается самим собой. Здесь мы можем вспомнить излюбленное и часто повторяемое Эйзенштейном изречение Гераклита: «Сначала движение, а затем то, что движется», которое для наших целей может быть прочитано следующим образом: «В контуре всегда немного больше движения, чем необходимо для того, чтобы сделать контур смыслонесущим». Теперь важно отметить, что эту оппозицию контура движения как означающего (смыслового) и неозначающего (умножение/утрата смысла) нельзя воспринимать лишь как чисто внешнее явление. Нельзя исключить безумную часть движения и сохранить только его смыслообразующие намерения. Оба они производятся в одно и то же время, что означает, что избавление от не несущего смысл избытка также избавило бы контур от его смысла. Смысл и безумное разрастание/потеря смысла образуют внутреннее перекручивание движения, которое настигает схематический контур изнутри.

Принимая это во внимание, мы можем добавить к операциям описания и остранения, которые мы определили в предыдущем разделе этого эссе, еще две операции создания эйзенштейновского образа. Во-первых, это операция обобщения, поворачивающая образы – посредством схематического контура движения – к значениям и смыслу, которые они делают видимыми. Но, как обнаружил Эйзенштейн, смысл содержится не просто в контуре самом по себе, он также остается вне себя, горячечно размножаясь и/или исчезая. Воспользовавшись парой любимых слов Эйзенштейна, мы можем сказать, что смысл экс-статичен (буквально «вне себя») и что из-за этого в контуре можно найти не только смысл, но и пафос. Линия не только предназначается и означает, она также подвергается и страдает. Она – смыслонесущая и страстная, патетичная. Следовательно, мы можем добавить к трем уже идентифицированным еще одну операцию, которая заключается в патетизации. Вторая двойная операция (обобщение и патетизация) формирует движение «внутреннего смысла» в образе и вместе с двойной операцией динамического оформления (изображение и остранение) дает нам приведенную выше диаграмму эйзенштейновского образа.
После этого экскурса по эйзенштейновскому образу кратко вернемся к первоначальному вопросу, поставленному во введении к этому эссе, а именно к вопросу о напряжении между временем как историей и временем как изображением, содержащимся в «Заметках ко “Всеобщей истории кино”».
Поразительно, что каждая из четырех операций, работу которых мы обнаружили в эйзенштейновском образе, также может быть связана с определенным типом темпоральности: бытовой или анекдотической (изображение), событием или случайностью (остранение, которое Эйзенштейн часто называл разбытовлением), вечностью (обобщение) и тем, что мы можем назвать чрезмерным или безумным в смысле времени как чистого умножения/потери (патетизация). Возможно, мы могли бы воспринимать эти четыре операции и их различные временные режимы как движущиеся в некоей диалектической синхронности асинхронного, как четыре различных темпа образа, которые работают одновременно и, тем не менее, не сводятся в одно общее время. «Какое-то время в этом [вопросе значений кадра] держится некоторая неопределенность, но в конечном итоге [Эйзенштейн] начинает настаивать на множественности кодифицированных уровней внутри кинообраза и категорически отвергает мечту об однозначности»76. Образ с его монтажом разновременных голосов, стало быть, существенно отличается от ощущения времени, которое достигается благодаря исторической интерпретации, чье достоинство заключается в способности воспроизводить множественность с временной точки зрения, которая является более или менее обобщающей.
Итак, пространственный образ с его монтажом разновременных голосов существенно отличается от восприятия времени, полученного благодаря исторической интерпретации, чье достижение состоит в способности воспроизводить множественность во временной перспективе, которая является более или менее обобщающей.
В своих исторических работах, примером которых являются «Заметки ко “Всеобщей истории кино”», Эйзенштейн стремится создать и поместить в состояние напряженности некое обобщающее повествование об историческом развитии кинематографа. Свой сложный образ кинематографа он творит, монтируя бытовые изображения77, обобщающие абстрактные утверждения, которые основываются на сущностном и вечном78, моменты событийного остранения79, а также определенное чувство бреда, когда возникает ощущение, что такая вместительная история кино может включать в себя и переваривать абсолютно все, что только существует, но с тем же успехом может и внезапно обрушиться вокруг своего пустого центра и испариться на наших глазах (своего рода карикатура или пародия на историческое обобщение).
Один из уроков незавершенного проекта Эйзенштейна заключается в том, что для понимания феномена искусства кино иногда необходимо прервать историческое овладение временем с помощью конструируемой формы, в которой время кинематографа строится не путем его унификации, а, напротив, с помощью преумножения вокруг него несоединяемых уровней.
Перевод Натальи Рябчиковой
/ Оксана Булгакова /

Оксана Булгакова – родилась в Москве, окончила киноведческий факультет ВГИКа. После замужества живет в Берлине. Опубликовала несколько книг о русском и немецком кино, среди которых «Сергей Эйзенштейн: Три утопии. Архитектурные проекты для теории кино» (1996) и «Сергей Эйзенштейн. Биография» (немецкое издание – 1998, английское – 2003, русское – 2017); участвовала в создании телефильма «Разные лица Сергея Эйзенштейна» (вместе с Дитмаром Хохмутом, 1998), курировала выставки и разрабатывала мультимедийные проекты (веб-сайт «Визуальная вселенная Сергея Эйзенштейна», Фонд Даниэля Ланглуа, Монреаль, 2005; «Эйзенштейн: мое искусство в жизни» для Google Arts & Culture, совместно с Дитмаром Хохмутом). Перевела и опубликовала (вместе с Дитмаром Хохмутом) ряд текстов Эйзенштейна на немецкий язык. Преподавала в Университете им. Гумбольдта и Свободном университете в Берлине, Стэнфордском университете и Южно-Калифорнийском университете в Беркли, в также в Международной киношколе в Кёльне. Профессор киноисследований в Университете им. Гутенберга в Майнце.
Эйзенштейн как «куратор»
Уже четверть века мы наблюдаем за устойчивым трендом: фильмы переселяются из черных боксов кинотеатров в белые кубы галерей, режиссеры становятся видеохудожниками и делают инсталляции, а теоретики искусства обсуждают преображения произведений и их восприятие подвижным зрителем в новом пространстве. Этот опыт не так уж стар, но у него есть предшественники. В 1927 году русский кинорежиссер снял фильм в самом большом музее своей страны: я имею в виду Сергея Эйзенштейна и его знаменитый «Октябрь». Что значил для него этот опыт? Чтобы ответить на мой простой вопрос, я бы хотела освободить эпизоды, снятые в петербургских музеях, Эрмитаже и Кунсткамере, от всех симоволических импликаций и постараться посмотреть на них как на попытку организовать музейные объекты. Камера Эйзенштейна препарировала их определенным образом, а монтаж установил между ними некую связь, представив их в определенной последовательности, что близко задачам куратора.
Обращение Эйзенштейна с вещами демонстрирует близость к выставочной практике поздних двадцатых, которая переживала в это время радикальные изменения, и я предполагаю, что кино вообще – и фильм Эйзенштейна в частности – повлияли на это развитие. Прежде всего, я имею в виду выставки Эль Лисицкого «Пресса» (Кёльн, 1928), «Фильм и фотография», обычно называемую просто «ФиФо» («FiFo», Штутгарт, 1929), и « Гигиена» (Дрезден, 1930). Работа Лисицкого была частью нового экспозиционного дизайна, стремительно развивающегося в Веймарской республике, когда архитекторы (Вальтер Гропиус и Мис ван дер Роэ) и графики (Герман Байер и Ласло Мохой-Надь) создавали выставки, включавшие радио и кино в мультимедиальную презентацию, параллельно таким же экспериментам в театре80. В 1928 Эйзенштейн был вовлечен Лисицким в подготовку советской киносекции «ФиФо», первой мультимедиальной инсталляции. Любопытно, что эйзенштейновский «Октябрь» вдохновил британского режиссера Питера Гринуэя создать в 1964 году выставку «Эйзенштейн в Зимнем дворце», работая с имитатами объектов Эйзенштейна, и это была его первая кураторская работа. Композиция Александра Клюге «Известия из идеологической античности. Маркс – Эйзенштейн – Капитал» сначала выпущенная на DVD (2008), а затем превращенная в инсталляцию на Венецианской бьеннале 2015 года, может быть интерпретирована как продолжение этой практики81.
Работа Эйзенштейна с вещами, которые он рассматривал как основных протагонистов своей экспериментальной картины, может быть помещена в разные контексты.
«Октябрь» можно рассматривать как полемический ответ Эйзенштейна на дискуссии вокруг вещи, которые велись в «Новом ЛЕФе», и на теорию «биографии вещи» Сергея Третьякова. Возможно, фильм Эйзенштейна и проект экранизации «Капитала», ставший продолжением работы режиссера с вещами, повлияли на ход мысли Третьякова.
Работа Эйзенштейна может быть сопоставлена с проектом Вальтера Беньямина «Пассажи», начатого в конце 1920-х годов. Беньямин рассматривал мир объектов XIX века как мир овеществленных грез. Пассажи, вокзалы, всемирные выставки, стеклянные дома, панорамы, универмаги, реклама, мода, интерьер, уличное освещение, зеркала, автоматы – были для него «физиогномическими руинами» капитализма, ископаемыми той ментальности, в которых субстанция не отделена от оболочки вещей. Беньямин соотносил свою «археологию» с идеями сюрреалистов, открывших вещь как след новой мифологии. Некоторые из этих проблем стали неожиданно актуальными в связи с поворотом социологии, философии, филологии к социальной истории вещей, к их роли в истории науки, к возникновению теории вещи Билла Брауна в литературоведении, а также с заклинаниями Бруно Латура о важности взаимодействия человеческого с не-человеческим82. Этот повышенный интерес к вещам связан и с антропологическим поворотом в теории искусствознания и с новой ориентацией в этнографии, когда пришло осознание того, как мало осмыслено наполнение музеев огромным собранием вещей, значения которых, определяемого действием и ритуалом, чаще всего тайным, никто не понимает. Этот поворот отражается в недавних кураторских проектах: в презентации этнографической коллекции базельского «Museum der Kulturen» не было ни одного объяснения и указателя, что за экспонаты представлены, а на вдохновленной Нейлом Макгрегором выставке Британского музея «Memories of a Nation» («Воспоминания нации», 16 октября 2014 – 25 января 2015) 500 лет немецкой истории были там представлены в 200 объектах (корона Карла Великого, Библия Гуттенберга, «Фольксваген», ворота Освенцима и др.). Разумеется, это развитие следовало и за искусством двадцатого века, проделавшим долгий путь после русских производственников, европейских конструктивистов, после Баухауза и ready made Марселя Дюшана, после сюрреалистиской поэтики objets trouvés, поп-арта, консервных банок Уорхола, стульев Бойса и гигантских объектов Класа Олденбурга. Современное дигитальное искусство и его интерпретаторы пытаются заново определить, что такое вещь, сенсуальность и авторство по отношению к собирателю «вещей» в инсталляциях и коллажисту, монтирующему из цитат новые теории, а из миллиона клипов YouTube новые «вещи». Переосмыслению этих категорий было посвящено недавно несколько статей. Девин Фор соотнес концепцию вещи Николая Чужака с антропологами (от Андре Леруа-Гурана до Бруно Латура) и психологами (от Льва Выготского до Алексея Леонтьева) и трактовал лефовский «факт» в рамках современного понятия информационного товара83.
Эти дискуссии определяют рамку моего подхода к эйзенштейновскому фильму. Попробуем посмотреть на него как на кураторский проект. Для проверки моей гипотезы я хочу заглянуть в дневники и рабочие записи Эйзенштейна, которые отражают его первые впечатления от Зимнего дворца и Эрмитажа, и проанализировать: 1) объекты и принципы их дисплея, то есть музейной и кинематографической презентации; 2) взгляд зрителя и кинематографическую динамизацию его восприятия; 3) воображаемую целостность, создаваемую нарративом выставки и ненарративным фильмом.
Посетитель музея или универмага?
Для фильма не строили декораций. Эйзенштейну было позволено снимать во всех отсеках Зимнего – в репрезентативной части, в жилых помещениях и в музейной части, и это столкнуло его с принципами мультимедиального дисплея – архитектуры, скульптуры, картин, икон, фарфора и предметов быта, постепенно исчезавших из обихода, тогда как дворец казался складом реквизитов киностудии, музеем прошлого.

Спальня царица Александры Фёдоровны в Зимнем дворце. Документальная фотография

В спальне царицы. Кадр эпизода «Штурм Зимнего» из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», 1928
В первых режиссерских заметках Эйзенштейн записал: «Чем замечателен Зимний?
1) фон – золото имперского зала,
2) буржуазность правительства черных сюртуков,
3) серые шинели и массы восставшего пролетариата. <…>
Штурм! Это что-то мгновенное, неосознаваемое, нерасчлененное. И вот – расчленяем – по-бытовому»84.
Эта «доместикация» вещей, их освобождение от имперской символики, превращение возвышенного в мелкобуржуазное было интерпретирующим жестом. Его увидел Сергей Третьяков, который в своих первых впечатлениях от просмотра снятого материала «Октября» отмечал «иронический обыгрыш» утвари Зимнего дворца: «Зимний дворец должен быть взят дважды. В 1917 году он был разгромлен как цитадель политическая. Очередь за разгромом цитадели эстетической. Иронический, издевательский, уничтожающий показ Эйзенштейном всего этого царско-помещичьего монументального барства – Эрмитаж, ковры, фарфор, картины, статуи – намечает пути эстетического штурма. В этом штурме эйзенштейновская работа – только один участок, ибо “эстетический Зимний” художественным мещанством разлит еще по всей стране, по всем квартирам и привычкам»85. Эйзенштейн, в пандан ему, говорил о казни «его величества Николая Второго бытовыми вещами»86.
В 1932 году в аудитории ГИКа Эйзенштейн, рассказывая о своем опыте работы над фильмом студентам, описывал эпизоды, снятые, но не вошедшие в картину. Среди вырезанных героев был посетитель музея, который попал во дворец случайно (он имел автобиографические черты режиссера), который видит и музей, и хозяйственную часть, и библиотеку, и разные выставки: «Когда дворец уже взят, туда попадает масса народа, которая не имеет никакого отношения ни к той, ни к другой стороне. Целый ряд людей зашел с улицы прежде, чем была поставлена комендатура. И у меня была выведена фигура обывателя в высокой каракулевой шапке, в пенсне. Маленький человек, который вообще случайно попал во дворец и для которого не важна ни революция, ни контрреволюция и которому только интересно посмотреть, как цари жили. И этот человек шляется во время осады по коридорам и смотрит на это, как на музей. На стержень этой фигуры наматывался целый ряд признаков быта Зимнего дворца. Там, например, был такой момент, когда он входит в личную библиотеку Николая, где Керенский подписал декрет о восстановлении смертной казни, и начинает рассматривать книги. Я сам библиофил и пошел смотреть туда книги. Там есть сцена, когда этот человек достает альбом с картинками содержания легкого, что имелось в большом количестве в Зимнем дворце. <…> Уборная с мягкими сиденьями. Крестики рядом, пасхальные яйца. В этих вещах что выражено? Что есть в этих вещах для характеристики царя? Мелко-мещанская струя. С другой стороны, когда показывается большое количество посуды, с чем это связано? Это связано с крупным хозяйственным богатством. Этот дворец есть большое хозяйство, большой кулацкий дом, это большая хозяйственная машина. При Александре II или III какая-то императрица страдала туберкулезом или чем-то вроде этого, так внутри дворца имелась построенная Растрелли или еще кем-то молочная ферма на втором этаже, где содержались голландские коровы. У меня был заснят эпизод, исторически не совсем правильный, что коровы там еще остались. Его сняли, потому что он не влез по метражу. Все это давало ощущение царя как первого помещика страны, как первого кулака страны. Через иронический показ вещей происходило что? Помимо уничтожения Зимнего дворца как крепости, которую штурмуют и берут, происходила тема уничтожения и по другому качеству. Казнился весь этот строй, причем, так как это показывалось в новом качестве, оно показывалось и новым качеством средств выражения. Если в первом случае мы имеем движение людей, штурм и т. д., то уничтожение по линии этого участка шло на новых средствах демонстрации – на вещах»87.
Для знаменитой монтажной фразы «Боги» Эйзенштейн снимал объекты из Музея этнографии и антропологии, бывшей петровской Кунсткамеры – первого русского музея. Многие из этих статуэток были переведены позже в Музей истории религии, основанный в 1930 году. Объекты не узнали, и Крупская писала, про «забавные божки из собора Василия Блаженного»88. Помимо этого, Эйзенштейн широко использовал фарфоровые фигурки, посуду, хрусталь, оловянных солдатиков, эполеты, аксельбанты, механические игрушки, пасхальные яйца. «Для этого мы обыскали, перерыли и поставили вверх дном все исторические и особенно этнографические музеи Ленинграда и Москвы»89. Наряду с этим в картине работали «единицами» вещи, огромные по размеру: дворец, Смольный, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Арсенал и т. д.

Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», 1928
Эйзенштейн вошел в Зимний дворец как любопытный посетитель музея, но обнаружил там огромнейший универсальный магазин, о чем свидетельствуют самые первые записи в дневнике от 13 апреля 1927 года: «Зимний в разрезе – необычайно богатый кинематографический материал. Целый Мюр и Мерилиз. Низы. Подвалы. Отопление. Комнаты прислуги. Электрическая станция. Винные погреба. Парадные приемные помещения. Личные комнаты, затем чердаки и крыши. Но какие крыши! Какие чердаки! Одна спальня чего стоит: 300 икон и 200 фарфоровых пасхальных яиц. Рябит в глазах. Спальня, которую бы современник психически не перенес. Она невыносима»90.
Показ Зимнего как универмага был тут же замечен – и резко раскритикован современниками. «Казалось, что Октябрьскую революцию делали статуи. Статуи мифологические, исторические, бронзовые, статуи на крышах, львы на мостиках, слоны, идолы, статуэтки. Митинг скульптуры. Митинг статуй среди посудного магазина... Эйзенштейн запутался в десяти тысячах комнат Зимнего дворца [в титрах были указаны только 1100 комнат], как утаились в них когда-то осаждающие», – писал Виктор Шкловский91. Фильм напомнил ему роман Золя «Дамское счастье» (1883). Шкловский, назвавший свою рецензию для «Нового ЛЕФа» «Причины неудачи», считал, что Эйзенштейн не лишил вещи их магии, но стал их рабом. Позже он признается, что оценил фильм только в старости, после того как побывал на Западе, увидел универмаги, примерил на себя состояние, когда «человек захлебывается от вещей», и понял фильм Эйзенштейна как фильм о «воле от вещей» и «конце вещей»92.

Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», 1928
Эйзенштейновское понимание вещи было отличным от толкований и старого, и молодого Шкловского.
Статуи открыли для режиссера новый взгляд на основной феномен кино: он больше не нуждался в создании иллюзии движения, поскольку мог создавать движение иным способом. Для этого Эйзенштейн использовал предельно короткие, статичные кадры вещей. Монтаж наделял их динамикой и вызывал движение мысли.
И соотношение между музеем, универмагом и фильмом виделось Эйзенштейном в другой рамке. Он восхищался дисплеем в витринах магазинов, как их запечатлел Эжен Атже, фотограф вещей. Эти витрины приводили в восторг не только французских сюрреалистов, но и друзей Эйзенштейна Григория Козинцева и Леонида Трауберга, снявших в 1929 году революционную версию романа Золя «Новый Вавилон». (Я поняла впервые, почему они выбрали подобное название, побывав в универмаге, бывшем прообразом «Дамского счастья», который находится в Париже у станции метро Севр – Бабилон.)
Параллели между музеем и универмагом были и тогда и позже замечены многими (сотрудники музея уже в то время оформляли витрины универмагов). И музей, и универмаг – хранилища вещей, возбуждающие скопофилию, наслаждение от смотрения. Беньямин исследовал эту связь в «Пассажах». Теоретик архитектуры Зигфрид Гидион сравнивал универмаг с библиотекой, вокзалом, выставочным зданием и рынком – все эти постройки должны были спроектировать ничем не загороженный вид на вещь с четким освещением. Луи Арагон описывал в «Парижском крестьянине» витрины как хранилища современных мифов. Энди Уорхол считал, что универмаг – это что-то вроде музея93. Энн Фридберг, анализировавшая параллели между витринами универмага и музеем («Window Shopping. Cinema and the Postmodern», 1993), включила универмаги в тот же ряд новых визуальных машин, дарящих на переломе веков такое же наслаждение от смотрения, что и латерна магика, панорама, диорама и – кино.

Берлин. Универмаг «Вертхайм», 1900. Фотография

Эрмитаж. Военная галерея 1812 года. Санкт-Петербург. Фотография

Каталог головных уборов в универмаге. США

Эль Лисицкий. Выставка «Пресса». Кёльн, 1928
Правила дисплея и разрушение ауры
Эйзенштейн писал позже в мемуарах, что его самые первые кинематографические впечатления возникли от рассматривания витрин. Он посвятил писчебумажному магазину Августа Лиры на рижской Kaufstrasse (дословно: торговая улица) целых три страницы. Открытки, выставленные в витрине, казались ему бессвязно склеенными сценами, как непригодный для проката фильм с выпавшими кусками94, который он, однако, описывал как начало своего монтажного мышления, зависящего от трех элементов: 1) похожие изображения (сериальные картинки), 2) их аранжировка в некоей последовательности и 3) обязательные провалы – интервалы, которые способствуют развязыванию потока ассоциаций, создавая новую форму распадающегося повествования.
С этим опытом Эйзенштейн начал съемки в Зимнем дворце и Эрмитаже, открывшемся как музей в 1851 году и развившем свои специфические принципы развески. Коллекция была огромной, картины висели в несколько горизонтальных рядов с минимальным расстоянием между рамами, следуя правилам симметрии и пропорций без какой-либо попытки организовать внимание. Этот принцип и сегодня называется петербургской развеской95. Похожесть картин одного размера и типа (пейзаж, натюрморт, портрет) была первым шагом к сериализации – принципу серии мгновенных (instantaneous) фотографий, которая рассматривается как основа кино (повтор почти идентичных кадриков-фотограмм, проецируемых при определенной скорости). Эта сериализация поразила Эйзенштейна во дворце: 300 и более объектов одного типа (оловянных солдат, бокалов, пасхальных яиц, икон), словно взятых из каталога продаж. Эйзенштейн работал с этой вещной сериализацией в «Октябре» на разных уровнях, создавая движение из статичных кадров статичных предметов.
Подобные кинематографические принципы сериализации Эль Лисицкий перенял в дизайн выставки «Пресса». Позже они стали фирменным знаком screen printings со сдвинутыми окрасками Энди Уорхола и гигантских фотографий пилюль, обуви, книг Андреаса Гурски. Эйзенштейн использовал эту вещную сериализацию, раскрывая порочность власти в бессмысленности накопленных ею вещей, в абсурдности мира ненужных предметов: «300 икон и 200 фарфоровых пасхальных яиц»96. Медали, пожалованные за службу Отечеству, превращались в гору бесполезного мусора. Керенский бесконечно долго взбирался по лестнице (власти), но когда двери в тронный зал распахивались, он утыкался – благодаря монтажному стыку – в зад механического павлина, заводной игрушки. Овладение вещами шло через их повторную репродукцию. Снимая в подлинных исторических интерьерах и слушая советников, штурмовавших дворец, Владимира Антонова-Овсеенко и Николая Подвойского, Эйзенштейн снял метафорический фильм, разрушающий всякий символизм как форму нелепого фетишизма. Это стало не только деконструкцией мифа об истории, который создавали предметы, но и освобождением от индексикальной фотографической природы кино-знаков и коммуникации при их помощи.
Позже он сравнивал свою работу по развитию «языка вещей» с опытом героя Джонатана Свифта. Там Гулливер попадает в Лапуту и становится свидетелем дебатов о языке в Академии мудрецов (часть III, глава 5), которые предлагают отказаться от слов и показывать вместо них предметы, таскаемые за собой в мешках. Современники Свифта видели в этой главе сатиру на лингвистические дебаты в Королевском обществе, но Эйзенштейн увидел в этом «предметном языке» новые возможности для развития языка кино97. Он позаимствовал принципы комбинации предметов из африканских языков без синтаксиса. Ряды вещей следовали правилу сгущения – Verdichtung. Этот термин Фрейда использовали немецкие психологи Вильгельм Вундт и Эрнст Кречмер98, объясняя особую логику. Из книг этих немецких психологов (переведенных и вышедших в России в 1912 и 1927 гг.) Эйзенштейн заимствовал примеры монтажных конструкций и монтажных сопоставлений, которые вели от вещи к идее и от идеи к вещи99.

Сергей Эйзенштейн на троне Петра I во время съемок фильма «Октябрь» в Зимнем дворце. 1927.
Шуточное фото Александра Сигаева
Для музея, однако, эта практика означала что-то иное. Эйзенштейн должен был вытащить экспонаты из витрин, трогать и двигать их, как он поступил со статуями божков, нарушая музейное правило номер один: «не прикасаться». Эйзенштейновский подход отрывал эти вещи от культурной памяти, разрушал ауру и представлял экспонат как нечто вещное, как материал. Сам Эйзенштейн вспоминал при этом фразу из новеллы Мопассана, в которой крестьянин отказывался поклоняться придорожному деревянному кресту, ссылаясь на то, что он-де крест этот помнит еще... яблоней100.
Жест был, конечно, дадаистский – экспонат превращался в вещь, которую нужно щупать и использовать, как Эйзенштейн использовал трон как стул, может быть, не совсем удобный. Этот же жест повторил Питер Гринуэй в своей инсталляции «Эйзенштейн в Зимнем дворце», сделав трон стулом и центральным экспонатом. Экспонат стал частью перформативного акта и поменял свое предназначение. Посетитель должен был бы не погрузиться в контемплятивное фетишистское и ностальгическое созерцание, а работать с объектом, вплоть до его разрушения, как часто происходило с унитазом Марселя Дюшана (созданного, кстати, в 1917 г.). Этот антиауратический жест был частью новых взаимоотношений между посетителем и музеем. Михаил Цехановский хотел, возможно, повторить его в своем анимационном фильме «Эрмитаж», но сценарий его, написанный в 1929 году, не был осуществлен.
В 1993 году режиссер Виктор Макаров вывернул наизнанку эту ситуацию в телевизионном фильме «Осечка» (экранизации повести Кира Булычёва): Леонид Брежнев приказывает к юбилею Октября повторить в театрализованном действе штурм Зимнего дворца, однако теперь это не центр власти, а музей, и его молодые сотрудники, искусствоведы, понимают, чем для экспонатов грозит наводнение музея пьяными участниками действа, поэтому они организуют защиту ценностей искусства от плебса – и «переворачивают ход истории». Актер, играющий роль Керенского, защищает дворец от «революционного народа»101.
Подвижный зритель в динамическом пространстве
Не только принципы дисплея были важны для Эйзенштейна, но и формирование особого взгляда, который он инсценировал в «Октябре», противопоставляя две негодные модели зрения – революционных масс, которые бегут и ничего не видят вокруг, и рассеянный взгляд любопытного фланера: «Вместе с лавиной революционных масс во дворец вливается… безучастный зритель. Человек, случайно захваченный водоворотом штурма. Человек, внезапно попадающий во дворец. Человек, во дворце прежде всего видящий музей, где он никогда не был. Кругом все кипит и бушует. А здесь в барашковой шапке и пенсне шагает по залам просто… любопытный»102.
Обе модели обычно оцениваются как кинематографические (в основном благодаря мобильности зрителя), но для Эйзенштейна они были недостаточно кинематографичны. Слепое движение (ставшее основой идеологической и сюжетной конструкции в фильме Александра Сокурова об Эрмитаже «Русский ковчег», 2002) и рассеянное любопытство фланера, подвижного, но пассивного и лишенного исторического сознания героя Вальтера Беньямина и Зигфрида Кракауэра, должны были быть заменены новой моделью восприятия: зрения, которое формировалось внутри нового рода кинематографического движения – эйзенштейновского диалектического монтажа.
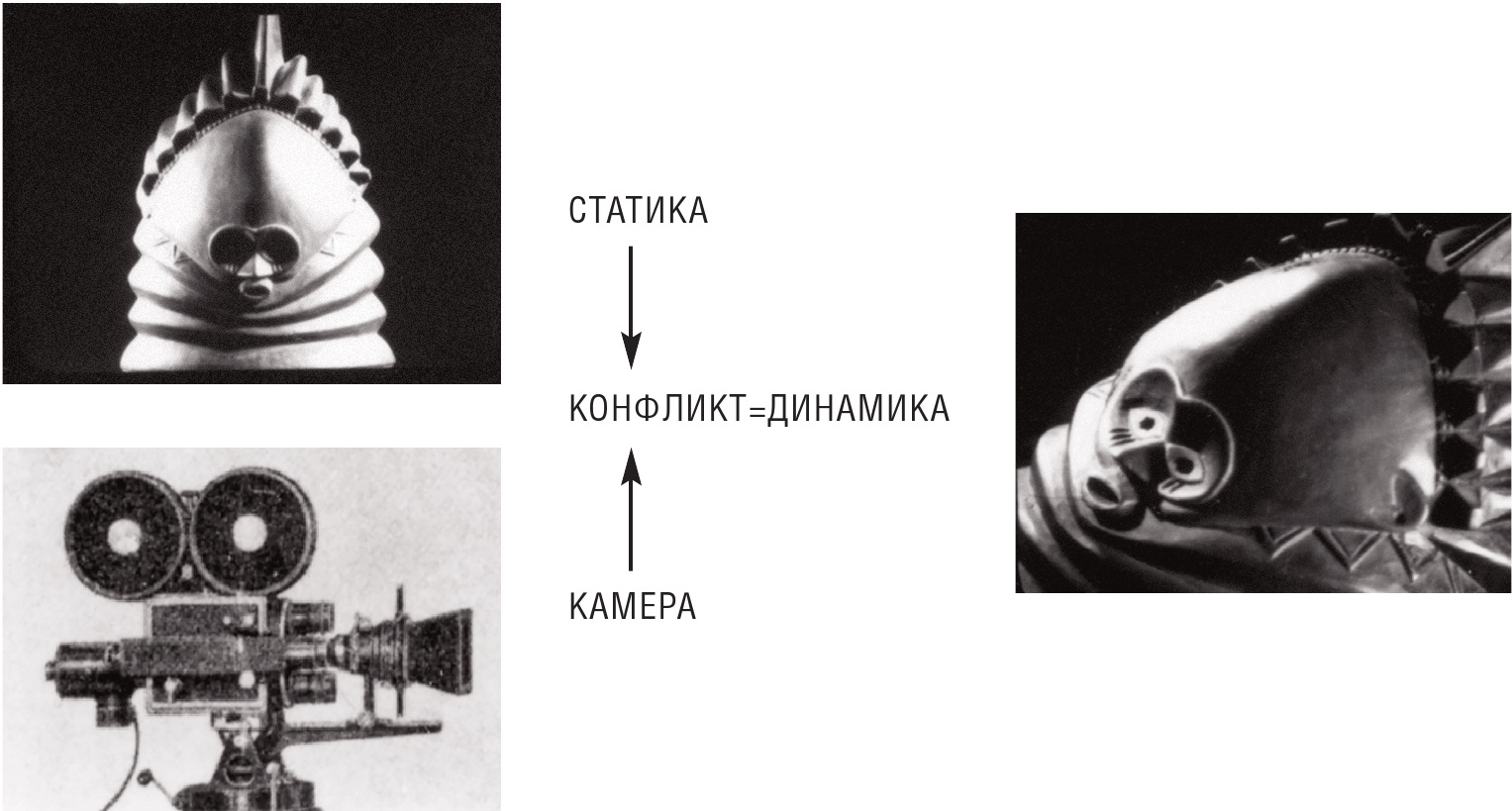
Диаграмма из статьи Сергей Эйзенштейна «Драматургия киноформы», 1929
Слепые массы (зрение которых не обучено) и посетитель музея (снабженный оптическим вспомогательным аппаратом – пенсне) должны были быть преобразованы в зрителя эйзенштейновского фильма, который дал бы им перцептивную динамику и иной способ интеракции с изображениями (вещей). Этот взгляд не был укоренен в машинах зрения, способствующих рассеянному вниманию. Эйзенштейн использовал возможности камеры, чтобы динамизировать взгляд, и монтаж, который означал новый способ активного обращения с вещью, вернее, с ее изображением. Для иллюстрации возможностей кино в этой области Эйзенштейн снабдил свою статью для каталога «ФиФо» особой диаграммой, но статья, написанная по-немецки («Драматургиякино-формы»), напечатана не была103.
Эль Лисицкий перевел эту динамическую модель зрения в трехмерное пространство выставки и инсценировал там – без фильма. Новый тип выставки должен был манипулировать вниманием посетителя с помощью возможностей оптики и мобильности. Если декоратор витрин лишь аранжировал вещи, возбуждая скопофилию, то куратор (такого слова тогда еще не существовало!) должен был не просто расположить объекты в пространстве или повестить их на стены, но создать форму организованного движения и динамического восприятия при помощи новых механических приспособлений, которые ускоряли и разнообразили формы движения (как колеса обозрения и движущиеся тротуары всемирных выставок или лифты Эйфелевой башни). В выставках архитектуры и фотографии конца двадцатых годов роль такого мобилизатора перенимало пространство.

Эль Лисицкий. Оформление советского павильона на выставке «Пресса». Кёльн, 1928
В «Проуне» Эль Лисицкого само пространство становилось экспонатом – без добавленных к нему вещей! Оно уничтожало ренессансную перспективу с одной точки зрения и предлагало множественность перспектив. Пространство инсценировалось для обострения восприятия – с мультипликацией перспективы, что в то время критики проецировали на предложенное футуристами снятие границ между словом и изображением, на новый дизайн книги, на кино104.
В «Прессе» Эль Лисицкий работал с большими форматами (4 Ч 23,5 м), увеличенными «серийными» фотографиями и коллажами. Эта монументальность требовала от зрителя подвижности (чтобы рассмотреть мелкие детали, он должен был приблизиться к экспонатам и отойти, чтобы охватить большие панно). Объемная развеска включала потолок и пол в экспозиционное пространство и создавало панораму в 360 градусов. Герберт Байер, немецкий куратор той же новой школы выставочного дизайна, называл эту практику «расширенным полем видения» (что-то в этом роде русский футурист Михаил Матюшин задумал еще в 1924 году)105. Эйзенштейновский проект нереализованного фильма «Стеклянный дом», над которым он работал в 1926–1929 годы, попытался реализовать в кино взгляд, не знающий ограничений, потому что потолок и пол в особом здании, ставшем протагонистом его замысла, были прозрачны. В этом замысел перекликался с новым типом выставочной развески.
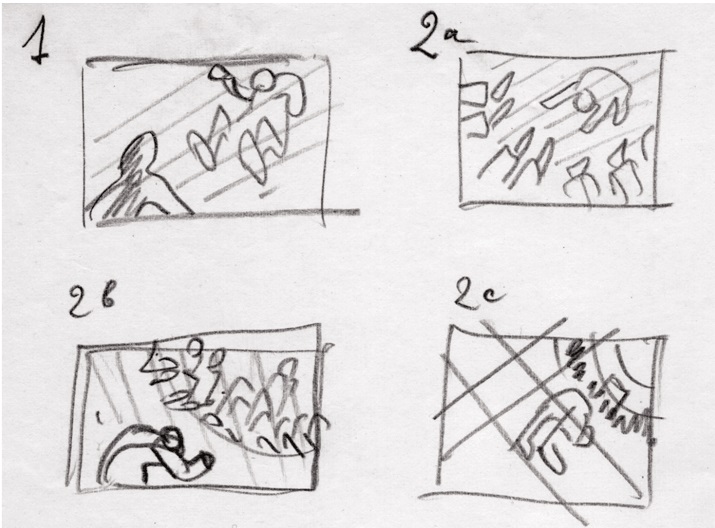
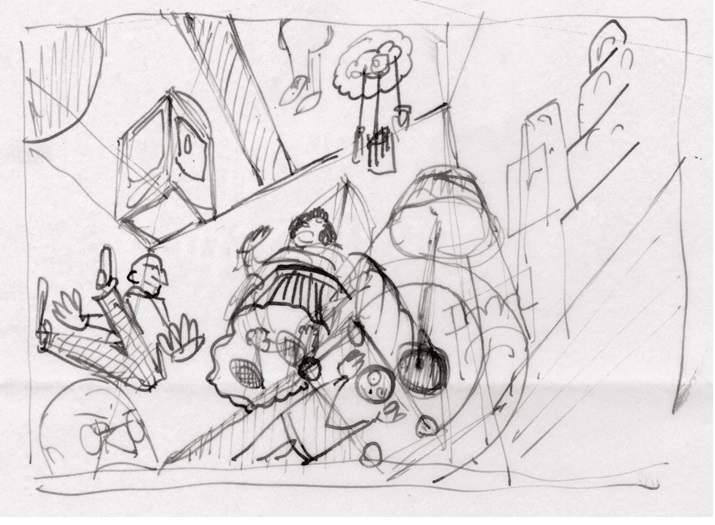
Сергей Эйзенштейн. Эскизы к замыслу фильма «Стеклянный дом», 1926–1930
Зигфрид Кракауэр относил новую практику выставок к влиянию кино, научившему рассматривать объект с разных точек зрения и в разных ракурсах, передвигаясь вокруг него106. Но подобная подвижность восприятия была в это время активно использована в рекламе и ее новых технологиях, распространенных в больших универмагах Веймарской республики107. Там были использованы экраны, на которые можно было проецировать короткие рекламные ролики при дневном свете (первые day light screens). Не только экраны, но и сами проекторы, которые могли показывать закольцованные фильмы, были разработаны в это время Юлиусом Пинчевером. Подобные фильмы демонстрировали и в так называемых «киношкафах» фирмы «Дуоскоп», запатентованных в 1922 году. Аппарат «Антракс» мог проецировать эти фильмы на тротуар перед входом в универмаг и обладал «магнетическими, гипнотическими свойствами»108. Рекламная экспансия, использовавшая принципы, которые мы сегодня называем «expanded film culture», началась в середине 1920-х годов, и Эйзенштейн, проведший в 1926 году месяц в Берлине, мог ее видеть. Практика была окружена дискуссиями о долго сохраняющейся памяти, о манипуляции зрительским вниманием, о гипнотической власти над воображением зрителя, которая продолжалась и после того, как он увидел рекламные картинки и покинул магазин. Эти темы были близки Эйзенштейну, тем более что в то время американские культурологи уже начали обсуждение родственности пропаганды и рекламы, а друзья Эйзенштейна – Козинцев и Трауберг, основатели объединения ФЭКС, – считали, что единственная возможная форма пропаганды – это реклама, и пытались показать это в своей (позже утерянной) агитке «Приключения Октябрины» (1925).

Эль Лисицкий. Оформление советского павильона выставки «Фильм и фотография». Штутгарт, 1929
В марте 1928 года, когда Эйзенштейн закончил монтаж «Октября» и фильм вышел на экраны, Эль Лисицкий предложил ему сотрудничество в создании выставки «Фильм и фотография» (его желаемым партнером номер один был Дзига Вертов, но тот отказался из-за занятости). Выставка стартовала в Штутгарте, потом была показана, в измененной экспозиции, и в других городах. Это была мультимедийная экспозиция. Жена Лисицкого, Софи Лисицкая-Кюпперс, описала начало их сотрудничества в своих воспоминаниях, отмечая, что Эйзенштейн помогал отобрать для экспозиции о своих фильмах фотографии, которые были увеличены109. Но Эйзенштейн не только сделал отбор статичных кадров, но также из отрывков своих фильмов смонтировал ролик, который надлежало закольцевать и показывать на аппарате «Дуоскоп» (на фотографиях советской секции «FiFo» он виден на первом плане). На выставке был показан закольцованный ролик, но неизвестно, был ли он смонтирован Эйзенштейном.
Динамика мысли: интеллектуальный фильм и стратегия новой выставки
Киноведы Ноэль Кэролл и Дэвид Бордуэлл трактуют знаменитую монтажную фразу «Боги» («Во имя Бога и отечества») как недиегитическую вставку в фильм110, но это не совсем верно. Все скульптуры, использованные в этой фразе, – экспонаты одной выставки, объекты одного экспозиционного пространства, «картинки с выставки», в которой Эйзенштейн создал новый способ их презентации и новый нарратив. В этой монтажной фразе Эйзенштейн показал 16 объектов из Кунсткамеры в 25 кадрах, длиной в одну минуту.
Некоторые скульптуры были показаны 2 раза в течение 2–3 секунд под разными ракурсами и смонтированы с архитектурными деталями. Их монтаж провоцировал столкновение визуальных аналогий и контрастов (металлические пронзающие лучи за спиной Христа в комбинации с яйцевидной гладкой головой японского божества производили эффект взрыва бомбы) либо создавал цепочку тактильных ассоциаций, переходящих в абстрактные выводы: движение форм шло на «раздевание» – от барочного пышного Христа к почти необработанному деревянному бруску языческого идола, что подпадало под фразу: «его-то я знал еще яблоней».
Взаимодействие с объектами следовало заменить на взаимодействие с фотоизображениями, которые корректировали процесс динамического восприятия, обеспеченный мобильными ракурсами. Об этом новшестве Эйзенштейн писал в ненапечатанной тогда статье «Монтаж киноаттракционов» (1924) и в начатом и неоконченном тексте «Об игре предметов» (1925–1926): «Под углом зрения тенденциозной выразительности каждый предмет – конгломерат разнороднейших схем, будящих разные сферы ассоциаций, на чем и основана впечатляемость выразительного. Абстрактно выразительный предмет – являющий предельно очищенным принцип структурной организации. Аффективная выразительность предмета состоит в том, что аппарат нашего восприятия настраивается под влиянием соответственного явления на реагирование лишь на определенную серию раздражителей – ритмических, цветовых, фактурных и пр. Эти раздражители способствуют или соответствуют аффективной зарядке»111.
Киновещь была изображением и поэтому аттракционом, импульсом, развязывающим ассоциации и социальные эмоции112. Это ее определение наиболее близко представлениям Третьякова о биографии вещи как новой нарративной установке, которая должна заменить невротическую психику героя, субъективизм и семейную фабулу. Фиктивный нарратив как самый действенный способ передачи опыта окончательно подавлялся, вещь должна была заговорить сама и стать мнемоническим текстом без текста, а эмоция ощущаться не как личное переживание, а как социальное113.

Кадры секвенции «Боги» из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», 1928
Поскольку киновещь объявлялась «конгломератом разнороднейших схем, будящих разные сферы ассоциаций», движение перемещалось из сферы моторики в сферу движения мысли. Эйзенштейн считал, что он изобрел новый язык, который делал мысль видимой, чувственно ощутимой. Теорию, разработанную в эйфорическом, «дионисийском» состоянии при сборке картины, он назвал «интеллектуальным монтажом».
Работа с вещами в пространстве музея привела Эйзенштейна к новой форме монтажа сопоставлений. Позже он будет объяснять эту логику сопоставлений, исходя из теории пралогики Люсьена Леви-Брюля – из особой логики первобытного мышления, в которой пространственные отношения более важны, чем временные и каузальные, а связь между феноменами устанавливается на принципах похожести, контраста и смежности114. В своей статье для каталога «ФиФо» «Драматургия киноформы» он вводит новое понятие – наложение – и осмысляет монтаж не как временнýю и каузативную последовательность, а как симультанную, в которой все кадры фильма присутствуют в воображении зрителя как некий палимпсест. Монтаж в кино обычно трактовался как форма линейной каузальности, размещающая сегменты пространства вдоль временной оси, и постоянные сравнения монтажа с поездом или конвейером поддерживали это понимание. Эйзенштейн, однако, заговорил о симультанном присутствии всех слоев «визуального континуума» в воображении автора и зрителя и определил монтаж как фигуру квазипространственную – то есть как наложение, предполагающее одновременность всех представленных в цепочке кадров в восприятии и памяти.
Выставка нового типа создавала свой нарратив – рассказ из картинок. Немецкий фотограф и критик Франц Рох считал, что выставка соединяет теперь визуальный опыт и абстракцию, поэтому новую выставку нужно читать как книгу115. Герберт Байер, немецкий дизайнер новой выставочной школы, говорил о «динамической мыслительной тропе», которая организует не просто движение посетителей в пространстве, но соединяет выставленные экспонаты в своеобразный рассказ, смысл и развитие которого посетитель должен разгадать, так как рассказ этот не записан. Новый тип выставки представлял не объекты, а идеи через объекты. Посетитель не просто двигался по организованному пространству, он должен был включать в процесс смотрения осмысление, воображение и ассоциации из своего телесного и визуального опыта. Оливье Лугон видел в этой новой дидактике влияние кино и определил идеи Байера о динамической тропе как «кино наоборот», «the cinema in reverse». Впрочем, Байер, размышляя о новом выставочном дизайне, сам говорил о влиянии кино и кинопроекции в экспозиционном пространстве, но гораздо позже, в сороковые годы, когда он уже работал в США116.
Эта «кинематографическая практика» в выставках еще не была развита, когда Эйзенштейн начал съемки «Октября», но к концу двадцатых годов можно говорить о настоящей экспансии кино в экспозиции. Интеллектуальный монтаж и мыслительная тропа как новый нарратив выставки обнаруживают структурную схожесть. Превращение собрания картин на выставке в построенный рассказ было, возможно, развито под воздействием ненарративного фильма, который также должен был организовать ток картин. Мир стал хаотичным, кино и выставки упорядочивали этот визуальный хаос. В то время как Эйзенштейн пробовал новые возможности монтажа, Аби Варбург искал доминанты для рядов изображений в атласе «Мнемозина», снимались так называемые «Cross section films», которые представляли «мир в разрезе», вроде картины «Берлин. Симфония большого города» (1927) Вальтера Руттмана, Август Сэндберг составлял архив лиц людей ХХ века, а каталоги, коллажи, фотожурналы (базы данных, как мы называем их сейчас) превращали визуальное разнообразие мира в своего рода реестр117.
Эйзенштейн вошел в Зимний как посетитель музея, но обнаружил там большой универсальный магазин. Этот склад вещей он сумел превратить в современный кураторский проект – фильм, положивший начало новой теории монтажа. Неслучайно после работы над «Октябрём» родилась его идея шарообразной книги, которая материализовала мыслительный процесс и не умещалась в двумерности печатного листа. Такая книга могла реализоваться только в сфере воображения – четырехмерном пространстве, которое можно представить как некий вариант гипертекста. Работа с разными медиа – архитектура, скульптура, картины – способствовала развитию метамедиальной рефлексии. Движение от скульптуры к картине могло уничтожить ее или открыть иную перспективу. Самым проблематичным моментом был такой тип «эволюции». В лабиринте туманной фантазии и очевидных изображений Эйзенштейн пытался понять этот принцип движения. Кино опосредовало скрытые, невидимые законы ассоциаций, «механизмы» работы сознания. Лексика, в которую Эйзенштейн облекает свои мысли, заимствована из механистичной практики (сборка, монтаж, аппарат), но кино по Эйзенштейну моделировало ход мысли – гибкий, непредсказуемый, лабиринтообразный, зацикленный в индивидуальной памяти и одновременно укорененный в памяти коллективной культурной традиции.
Выставка всегда будет зависеть от случайностей. В отличие от фильма, видеоинсталляция в музее «прозрачна», принципиально «не завершена» и зависит от массы случайностей. Зритель, наедине со своей свободой, должен сам определить временные рамки (начало, конец, длину – то есть время, которое он тратит на созерцание) и смысл объекта. Процесс формирования этого смысла протекает иначе, чем в кино, где связь (временнáя, пространственная, каузальная) между отдельными картинками-изображениями устанавливается автоматически (эффект Кулешова). Футуристы, сюрреалисты и их последователи потратили много энергии, чтобы этот автоматизм разбить.
В своем воображаемом музее Эйзенштейн попытался создать тотальный контроль и понял, что он невозможен (что он и сформулировал в статье «Констанца», осмысляя успех «Потёмкина» у буржуазной берлинской публики). Эйзенштейноведы сосредоточены на проблеме перевода картинки в понятие, но в системе размышлений Эйзенштейна это – лишь первый шаг. В процессе самого перевода нет ничего нового, эта операция была известна и в архаике, когда абстрактные понятия были заменены фетишами-предметами. Поначалу Эйзенштейн понимал кино как аппарат власти над воображением, но позже считал, что психоделическое действие этой машины – эрзаца религии, наркотика и секса – вызывает экстаз, освобождающий воображение. То, что происходит с воображением под действием фильма, – более широкое поле анализа, лежащее за пределами интеллектуального кино. Кинематограф заменил предметы-фетиши картинками, которые еще быстрее действуют на воображение. Эти картинки стандартизируют фантазию, ассоциативные связи, желания, сны, телесные техники, жесты, поведение. Эйзенштейн стоял на пороге слома, когда кино черпало образы из архива картинок, накопленных старыми медиа.
/ Юлия Васильева /

Юлия Васильева – психолог и культуролог. Окончила психологический факультет МГУ. Научный сотрудник Австралийского исследовательского совета, где работает над проектом «Кино и мозг: сотрудничество Эйзенштейна – Выготского – Лурии». Профессор Университета Монаша, где ее исследовательские и педагогические интересы включают кино и философию, кино и нейробиологию, а также киноповествование. Публиковала статьи в журналах «Camera Obscura», «Film Philosophy», «Senses of Cinema», «Rouge», «Continuum: Journal of Media & Cultural Studies», «Screening the Past», «Film Criticism», «Critical Arts», «History of Psychology» и «Киноведческие записки», а также была редактором сборников, в том числе «Кино/Философия» (2017). Является автором книги «Narrative psychology» (2016) и соредактором сборника «After Taste: Cultural Value and the Moving Image» (2013).
Эйзенштейн, Выготский, Лурия: психотехника искусства
Интерес Эйзенштейна к кластеру дисциплин, связанных с человеческой психикой (к психологии, психиатрии и психофизиологии), и многообразным подходам, характеризующим дискурс этих дисциплин в первой половине двадцатого века (психоанализ, гештальтпсихология, рефлексология), хорошо известен. Среди этого разнообразия теоретических перспектив культурно-историческая теория, созданная Львом Выготским и Александром Лурией, занимает особое место. Знакомство Эйзенштейна с этим подходом базировалось не только на многолетнем интенсивном сотрудничестве изначально с Лурией и Выготским, а после смерти Выготского в 1934 году – на контактах с Лурией, но, что более важно, – на их фундаментальной близости в понимании «проблемы человека» и той роли, которую искусство выполняет в формировании и развертывании духовного и экзистенциального потенциала личности.
В отечественных гуманитарных дисциплинах близость культурно-исторической парадигмы и теоретических исканий Эйзенштейна была первоначально продемонстрирована Вяч. Вс. Ивановым в его работе «Очерки по истории семиотики в СССР»118 и подтверждена в его поздних трудах119.
В этой статье я освещаю малоисследованный аспект сотрудничества Эйзенштейна, Выготского и Лурии – их общий интерес к психотехнике, который (вопреки распространенным утверждениям, что их контакты возникли на почве исследования языка кино или выразительного движения) и послужил тем концептуальным полем, где их траектории пересеклись впервые.
Психотехника стала развиваться в России в начале 1920-х годов и включала работу по психологическому тестированию и профотбору, рационализацию труда, психологический анализ в уголовном и юридическим контексте, психотерапию и сотрудничество психологов с образовательными службами. И хотя формально психотехническое движение было разгромлено в середине 1930-х, его теоретические и методологические достижения оказали существенное влияние на российскую психологию двадцатого века.
Вспоминая свою первую встречу с Лурией, Эйзенштейн пишет в своих дневниковых заметках: «Наше знакомство состоялось на споре у Тягая. Спорили о тестах для кинематографистов. Он (Лурия) предложил Lückentest»120.
Будучи популяризатором науки, А. Н. Тягай заведовал отделом научно-популярных картин при студии «Межрабпомфильм», разрабатывая темы для культурфильмов. В частности, именно Тягай посоветовал Пудовкину начать работать над фильмом «Механика головного мозга» и познакомил его с И. Н. Павловым.
В своем программном исследовании взаимоотношений психотехники и советского авангарда Маргарета Фёрингер121 проводит детальный анализ «Механики головного мозга» и сотрудничества Пудовкина с Павловым именно как примера формирования психотехнической парадигмы, определяющей как концептуальные ходы в науках о человеке, так и эстетические методы и приемы искусства авангарда. Ее исследование включает также анализ психотехнической лаборатории Вхутеина, созданной архитектором и лидером рационалистов Николаем Ладовским, и эксперименты по обменному переливанию крови, проводимые Александром Богдановым в целях продления жизни индивида и омоложения нации.
Использование психологических тестов – тема первого спора Эйзенштейна и Лурии – представляло собой один из важнейших аспектов психотехнической работы. Как Фёрингер проницательно замечает, принципиальным значением для пересечения психотехнического подхода и авангарда являлось использование тестов и лабораторных аппаратов в пограничной области между диагностическими и формирующими целями. Именно на стыке психотехники и авангарда порождающая роль инструментов, к которым, в широком смысле, можно отнести и произведение искусства, становится очевидной. В этом смысле психотехнические инструменты Ладовского – «глазометры», например, – одновременно фиксируют и производят зрительные операции, не существующие независимо от этих инструментов, а фильм Пудовкина – не только и не столько «операционализирует» представление о рефлексе Павлова, сколько экспериментирует с новыми методами видения посредством монтажа.
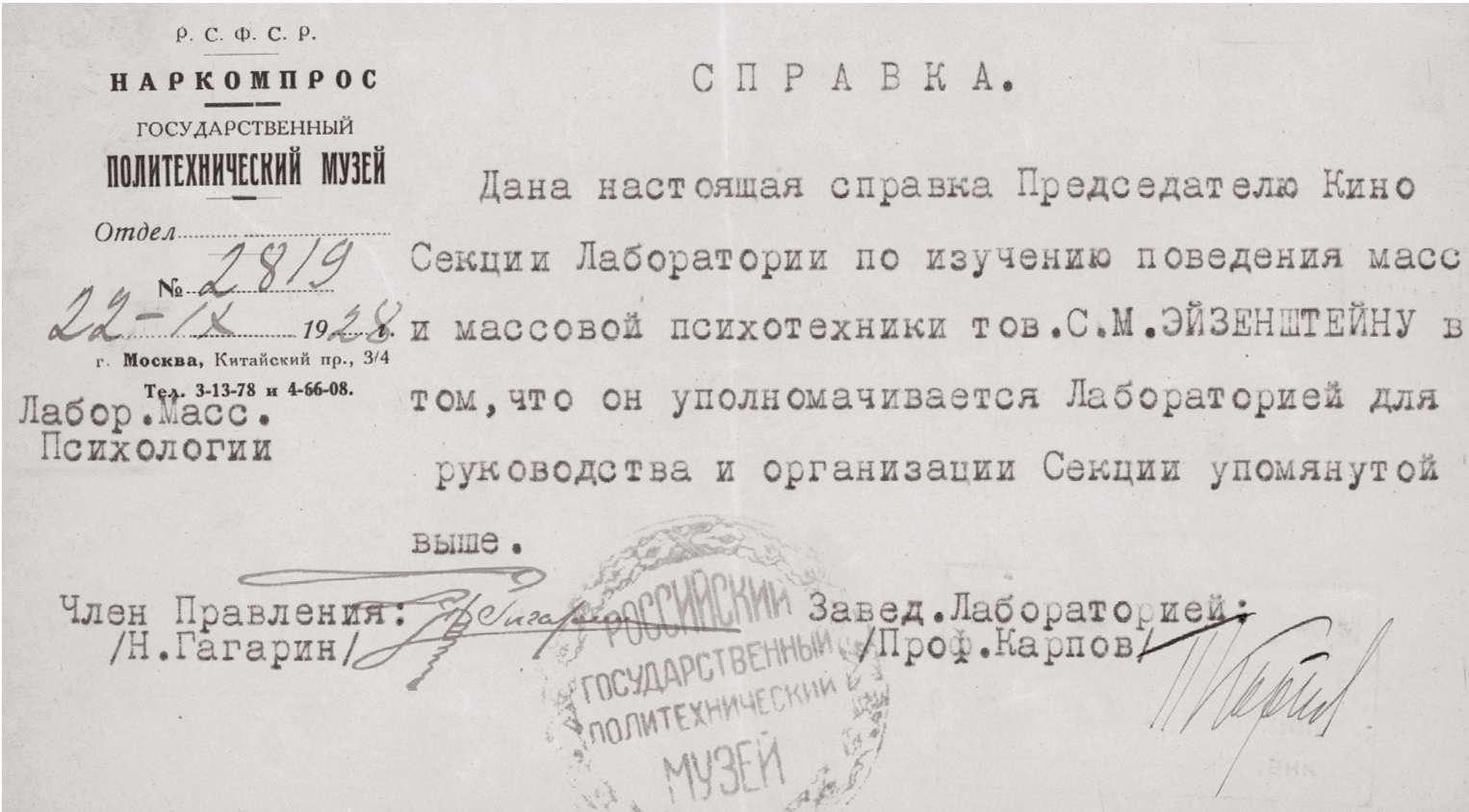
Справка из Политехнического музея. РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 2405. Л. 1
Именно в этом контексте следует понимать интерес Эйзенштейна к психологическому тестированию, именно тут заключено методологическое, более того, философское значение этого интереса. Отраженный в споре с Лурией и прослеживающийся в работах и самоанализе Эйзенштейна на всех этапах его творческой деятельности, этот интерес включал, помимо профессиональных тестов, хиромантию, анализ почерка и проективную методику Роршаха, требующую от испытуемого интерпретации бесформенных чернильных пятен. Неослабевающее, можно сказать, фанатическое внимание Эйзенштейна к тестам выдает не столько его желание констатировать то, что имеется в наличии в настоящем, сколько, используя слова Велимира Хлебникова, его стремление восстанавливать «отпечатки ящеров будущего». Наиболее ярко этот импульс зафиксирован в детальном обсуждении теста Роршаха, которое Эйзенштейн приводит в своем эссе «Роден и Рильке» (1945). Эйзенштейн пишет там, что в то время как большинство людей «зачитывается деталью, игнорируя целое» или же «увлекаются целым в ущерб детали», для него «само целое пятно рисовалось… деталью какого-то более обширного комплекса, который дорисовывало… воображение»122. Видя в пятне только малую часть еще не проявившегося целого, Эйзенштейн работает с Роршаховскими пятнами как со сгустками замысла, который еще только предстоит развить.
Начальные этапы психотехнических интересов Эйзенштейна нашли наиболее наглядное выражение в его программе создания «Кино-Секции в лаборатории по изучению поведения масс и массовой психотехники» при Политехническом музее в Москве в 1928 году123.
Формулируя масштабную программу лабораторных исследований, Эйзенштейн описывает ее центральную задачу следующим образом: «Единицу пропускаемого тока – мы знаем. Единицу светового раздражения – мы знаем. Единицу раздражения кино-картиной – мы не знаем. Следовательно, точная запись реакции есть, по существу, абсолютно эфемерное данное, так как неизвестно, результатом чего оно является. Поэтому в первую голову должен идти анализ кино-раздражителя»124.
Эйзенштейн планирует изучение кино-раздражителя по нескольким параметрам: монтажная организация, включая темп и ритм, соотношение планов, сюжетная линия и характеристики персонажей – от классовой позиции до внешней привлекательности. Сформулированная в терминологии объективного подхода к психологии, как он понимался в 1920-х годах, программа пестрит такими терминами, как индивидуальные и массовые рефлексы, раздражение, реакция, возбуждение и торможение.
Но вот что отличает программу Эйзенштейна от множества психофизиологических исследований в области эстетики, проводимых в то время в РАХНе125, в Научно-исследовательском институте методов внешкольного образования и т. п., вот что делает ее действительно психотехнической: программа изначально вписана в систему креативных действий Эйзенштейна-режиссера. В этом смысле она, так же как и эксперименты Ладовского, перестает быть «исследовательской», т. е. чисто диагностической, и становится программой формирования.
В заключение Эйзенштейн пишет: «Особое внимание на раздражение. Ибо нас не пассивно интересует результат, а наши интересы направлены к максимизации результата, к возможно точнейшему постижению метода конструкций кино-раздражений, т. е. произведений, дающих максимально эффективный результат на аудиторию»126.
Таким образом, несмотря на использование рефлексологической терминологии, Эйзенштейн опрокидывает рамки рефлексологического объяснения, где реакция на уже данное раздражение, пришедшее из прошлого по определению, является альфой и омегой объяснения, и переориентирует свою программу на будущее: эмоционально-когнитивное состояние, которое его интересует, – это проект результата, который только еще предстоит сконструировать через организацию «кино-раздражителя».
Неизвестно, были ли предприняты какие-либо попытки по реализации этой программы, но известно, что в то же самое время Выготский разворачивает свою критику традиционной психотехники, наиболее четко сформулированную в его работе «Исторический смысл психологического кризиса» (1927). Первоначально психотехника в России формировалась, опираясь на работы Хьюго Мюнстерберга, в частности на его труд «Основы психотехники», переведенный в 1922 году советскими психотехниками Б. Северным и В. Экземплярским. Большой вклад в формирование отечественной школы психотехники и организационной структуры дисциплины внесли также И. Н. Шпильрейн и С. Г. Геллерштейн127. Роль Выготского была иной – она заключалась в фундаментальном переосмыслении отношений между прикладной и теоретической психологией.
Мюнстерберг настаивал на различении двух психологий – телеологической и каузальной, психологии духа и психологии сознания, или же психологии понимания и объяснительной психологии. Выготский же был убежден в необходимости единой, монистической психологии, в которой психотехника является основной движущей силой развития. Он утверждал, что логика формулировки психологических законов в теоретическом плане и их последующее приложение к различным аспектам человеческой деятельности неправомерна. Живые сферы практической человеческой деятельности, такие как промышленность, армия, религиозная практика, политика и образование, как раз и являются теми областями, где колоссальный объем знаний о психологической организации и функционировании уже накоплен, и они уже работают с этим знанием в своей повседневной активности. Для Выготского принципиальная разница этого знания от идеала знания, принятого в естественнонаучных дисциплинах, заключается в том, что оно не абстрактно – оно не может быть сформулировано в отрыве от практики, в которой оно выполняет проектно-преобразовательную функцию, в отличие от познавательной функции естественно-научного знания. Как утверждает А. А. Пузырей, Выготский работал не с парадигмой «объяснение – понимание», а с иной, преобразующей парадигмой, которая задается дихотомией «знание – проект». Таким образом, Выготский, постулируя психотехнику как модель психологической науки, переворачивает отношения между онтологическими и гносеологическими основаниями дисциплины. Согласно В. М. Мунипову, психотехника для Выготского является не чем иным, как философией практики, которая изнутри практики вбирает и анализирует раскрывающийся благодаря этой практике мир128.
Разворачивая свое переосмысление психотехники в «Историческом смысле психологического кризиса», Выготский использует как пример свое раннее исследование «Психология искусства» (1925) – работу, которую он передал Эйзенштейну в машинописи вскоре после их знакомства. Опираясь на «Психологию искусства» для демонстрации своей новой психотехнической логики, Выготский постулирует аналогию между произведением искусства и психологическим экспериментом нового типа: экспериментом, в котором генерируется знание, а не просто демонстрируется наличие уже прежде определенной закономерности. С психотехнической точки зрения, произведение искусства, так же как «машина, анекдот, лирика, мнемоника, воинская команда», представляет собой «ловушку для природы, анализ в действии»129. Эти ловушки уникальны – они ловят не то, что уже существовало, но именно тот новый психологический опыт и способ функционирования, который возникает в результате встречи сознания и артефакта. Как утверждает Пузырей в этом контексте, «первой реальностью, с которой должна иметь дело подобного рода психология искусства, является, по существу, как раз реальность трансформации, или преобразования психической и духовной организации человека. Преобразования с помощью особого рода инструментов или органов – вещей искусства, – преобразования, которые можно представлять себе даже как особого рода “действие”, – действие, которое условно можно было бы назвать “психотехническим действием”. Психотехническое действие – в полноте его состава – и оказывается той единицей анализа, с которой должна иметь дело подобного рода психология искусства»130.
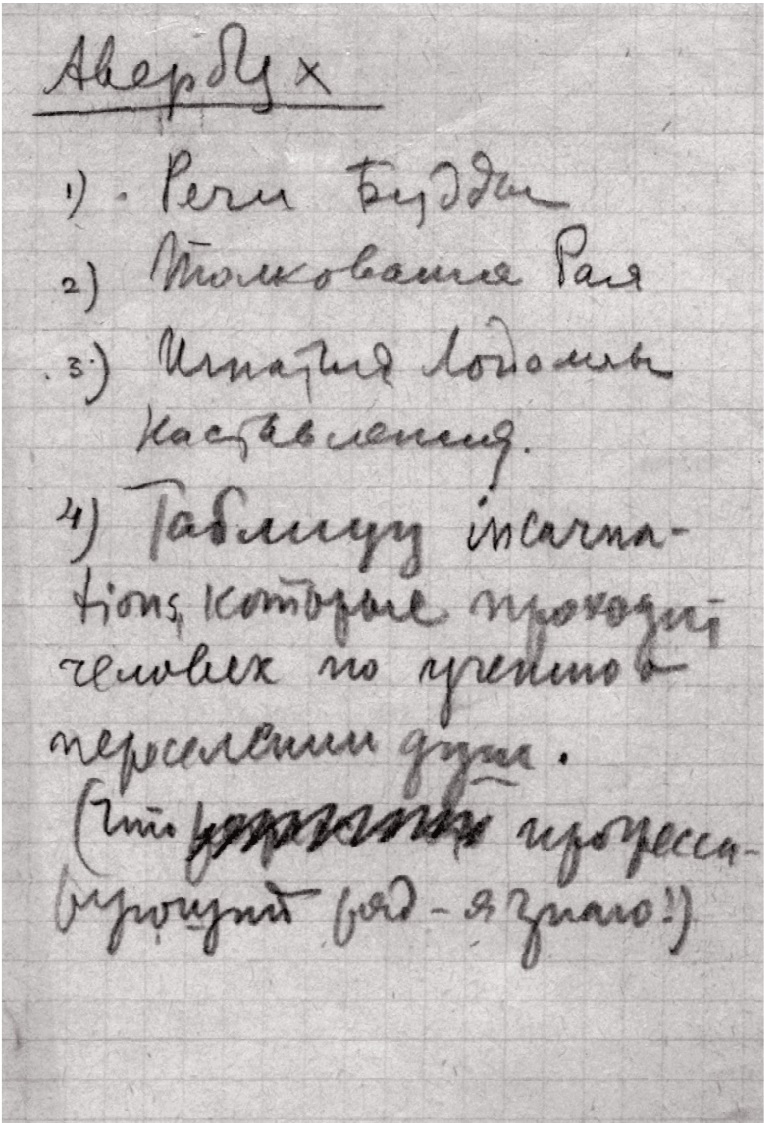
Записка Сергея Эйзенштейна с темами своих вопросов к Розе Авербух
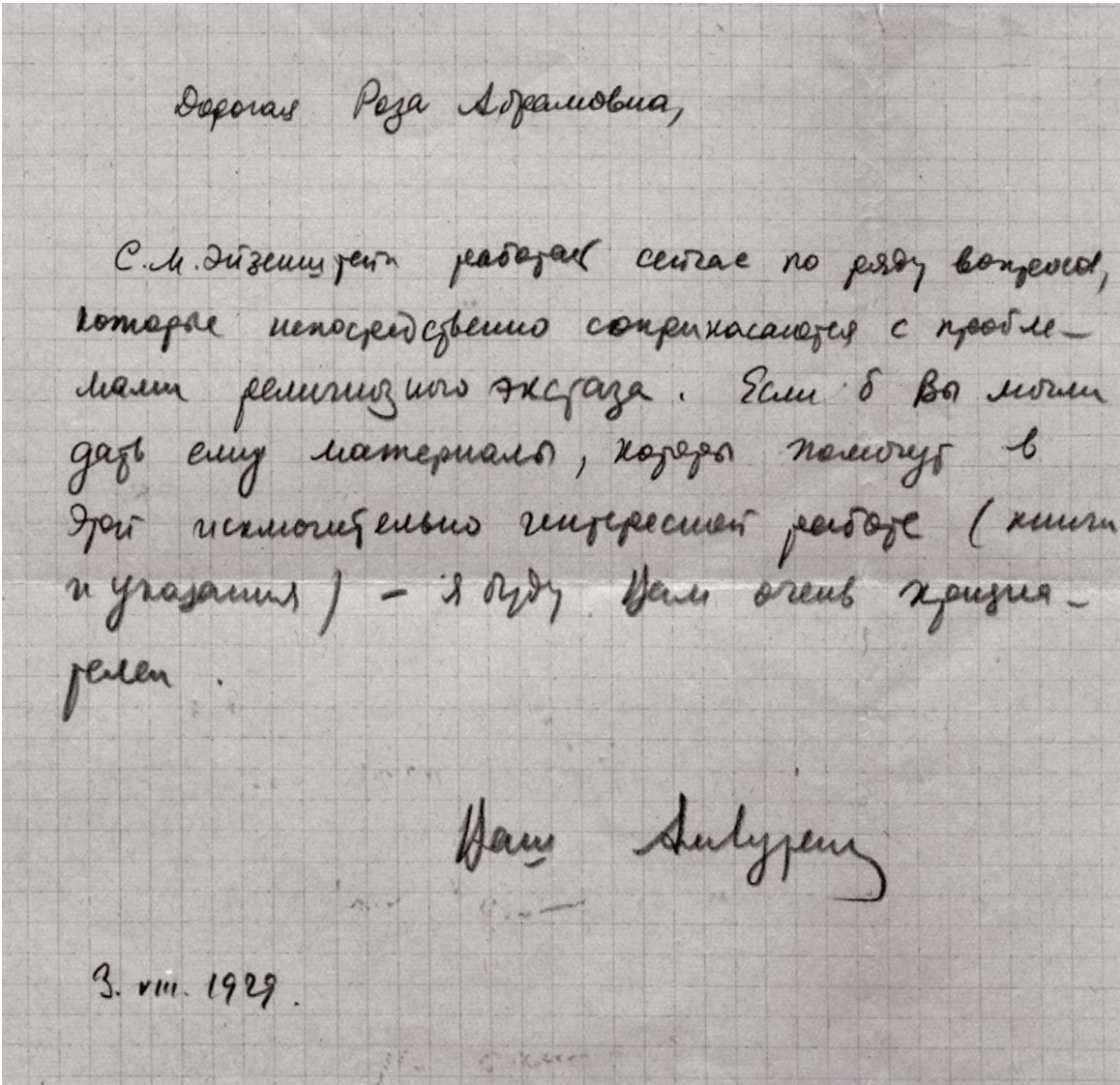
Письмо Александра Лурии с рекомендацией Сергея Эйзенштейна Розе Авербух
«Исторический смысл психологического кризиса» не был опубликован до 1982 года, но Выготский представил схожие идеи как в целом ряде статей, так и через циркуляцию своих манускриптов. Как станет очевидно позднее, именно эти идеи оказали решающее влияние на Эйзенштейна в его освоении концептуального аппарата психотехники. По существу, они позволили ему облечь в теоретическую форму то исследование механизмов порождения психологического опыта – эмоционально-аффективного, экзистенциального и эстетического, которое он начал в середине 1920-х годов.
Так, отбросив попытки экспериментального исследования эстетической реакции в рамках психотехнической лаборатории, описанные выше, Эйзенштейн начинает исследование существующих техник порождения экстатических состояний, развитых наиболее продуктивно в рамках религиозных практик. В августе 1929 года Эйзенштейн просит помощи Лурии в поисках материалов. Тот направляет его в кабинет религиозной идеологии Комакадемии, к Розе Авербух131 с письмом, в котором говорится: «С. М. Эйзенштейн работает сейчас по ряду вопросов, которые непосредственно соприкасаются с проблемой религиозного экстаза. Если бы Вы могли дать ему материалы, которые помогут в этой исключительно интересной работе (книги и указания), – я буду Вам очень признателен». На отдельном листочке Эйзенштейн делает пометки вопросов, которые он был намерен задать Авербух или обсуждал с ней: «1) Речи Будды, 2) Толкования Рая, 3) Игнатия Лойолы наставления, 4) Таблицы incarnations, которые проходит человек по учению о переселении душ…»132
Это важное свидетельство не только того, что Эйзенштейн начинает исследование религиозных практик, включая упражнения Игнатия Лойолы, гораздо раньше, чем часто утверждается в литературе (якобы во время его пребывания в Мексике), но и того, что такой цикл тем являлся продолжением проработки проблем психотехники, начатой Эйзенштейном с Выготским и Лурией. Эйзенштейн немедленно начинает изучать «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы по изданию 1673 года в Антверпене.
Игнатий Лойола, мистик и основатель ордена иезуитов, позже канонизированный как святой, составил «Духовные упражнения» («Exercitia Spiritualia», 1548) в качестве руководства к исповеди, размышлению, созерцанию и молитве. В этом контексте интересно отметить, что Мишель Фуко расценивал подобные процедуры как практики производства самого себя. В частности, производства себя как субъекта, наделенного внутренним миром, феноменология которого и возникает в первую очередь в результате исповеди, являющейся не чем иным, как средством производства рефлексии. Эйзенштейн «прочел» Лойолу схожим образом, но фокусируясь в основном на тех аспектах «Духовных упражнений», которые описывают методы достижения религиозного экстаза. Эйзенштейн незамедлительно интерпретирует эти упражнения как пример психотехники: в своем эссе «Как делается пафос», написанном в том же 1929 году, Эйзенштейн характеризует Лойолу «как великого рационализатора католического культа, Гастева католицизма», а его «духовные упражнения – как своеобразный “сборник ЦИТа” по экстатической практике»133.
Как известно, Алексей Гастев, пролетарский поэт и междисциплинарный мыслитель, был основателем Центрального института труда и одним из зачинателей психотехники в русле научной организации труда. Одновременно с психологическими, физиологическими, художественными и историческими исследованиями, реализующими «техно-био-социальную» концепцию Гастева по механизации человеческого тела, по оптимизации производственных процессов и по синхронизации временных ритмов, в ЦИТе была создана психотехническая лаборатория, в которой непродолжительное время работал Шпильрейн. Шпильрейн покинул лабораторию ЦИТа, будучи не согласен с той жесткой формой, которую психотехнические исследования приняли в институте и которую Эйзенштейн охарактеризовал как «инквизицию ЦИТа». Шпильрейн продолжил работу по психотехнике в секции по прикладной психологии в Московском государственном институте экспериментальной психологии под руководством К. Н. Корнилова, где тогда же работали Геллерштейн, Выготский и Лурия.
В то же время Эйзенштейн и сам начинает экспериментировать с практиками изменений сознания. В дневниковых записях марта 1928-го Эйзенштейн упоминает свои погружения в «полусон» или даже «сон» «во время “ухода” моего “по образцу” Л. Н. Толстого “из дому” – не в Астапово, а в Сокольники, в гости к д-ру Коновалову»134. Как показал Александр Эткинд, историк русских сект Дмитрий Коновалов (1876–1947) сочетал в своих исследованиях сравнительный исторический анализ и знания, почерпнутые в процессе обучения на медицинском факультете Московского университета, где он проходил практику на кафедре психиатрии. В 1908 году Коновалов защитил в Московской духовной академии диссертацию на тему «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве». И хотя его защита вызвала бурные протесты со стороны консервативных теологических кругов, работа Коновалова приобрела широкую известность. Коновалов подошел к анализу экстаза не со стороны идеологической критики, а со стороны изучения психофизиологических механизмов, обеспечивающих переход в экстатическое состояние. Он определил экстаз как «своеобразное душевное волнение, разряд нервно-психического возбуждения, вызываемого искусственными религиозными упражнениями, подготовленное суровым аскетическим режимом и обусловленное… психофизической организацией самих сектантов-экстатиков»135.
Коновалов проанализировал сектантские ритуалы, фокусируясь на «телесных явлениях сектантского экстаза в их последовательном развитии» – двигательных проявлениях (вращение, дрожь, прыгание), возбуждениях кровеносной системы, дыхательных ритмах (пыхтение, фыркание, зевание и икание) и особенностях производства речи – от стонов, криков и воплей до глоссолалии и бессмысленной речи.
Развивая свои аргументы, Коновалов обратился к сравнительному материалу за пределами русских сект, выявляя не своеобразие той или иной религиозной группы, а, наоборот, широкое распространение описываемых им механизмов. Он показал, в частности, что явления экстаза в схожих телесных проявлениях, что и у русских хлыстов, известны у шейкеров, у ранних квакеров, у пятидесятников и в других протестантских сектах, в то время как кружения входят в экстатический ритуал шаманов, дервишей, суфи, присутствуя, таким образом, за пределами христианства. Подытоживая компаративистский пафос Коновалова, Эткинд замечает: «На одной и той же странице он выявлял аналогичные проявления экстаза (судорожные сокращения лицевых мышц) в описаниях южнорусских хлыстов, американских шейкеров, французских истеричек, пророка Магомета и еще Катерины из повести Достоевского “Хозяйка”»136.
Коновалов сформулировал понимание религиозного экстаза в терминах психотехники: в отличие от бытующего понимания внешних проявлений экстаза как результата религиозного опыта, он продемонстрировал, что, следуя детальному алгоритму ритуала, сектанты сами приводят себя в измененное состояние сознания, которое затем интерпретируется как «благодать», единение с Богом или присутствие в их теле Святого Духа. Проводя аналогию с истерией и утверждая, что проявление, которое понимается как истерический симптом, на самом деле является результатом особой психотехнической деятельности, Коновалов более чем на полвека опередил перформативное понимание истерии, которое предложил Жорж Диди-Юберман137.
Работа Коновалова была хорошо известна в русской художественной среде не только благодаря его анализу «техник тела», но также и его богатому материалу по речевым проявлениям сектантов. Так, используя цитаты, взятые из богословской диссертации Коновалова, Алексей Кручёных утверждал в своих манифестах 1913 года, что глоссолалия русских сектантов представляет язык Святого Духа. В 1915 году московский богослов Страхов, используя материалы Коновалова, высказал предположение о родстве глоссолалии русских сектантов и зауми русских футуристов. Эта идея была развита Виктором Шкловским в его статье 1916 года «О поэзии и заумном языке» 138.
Психотехническое объяснение экстаза русских сектантов Коновалова, психотехника духовных упражнений Игнатия Лойолы и психотехнический переворот Выготского в психологии становятся теми блоками, из которых складывается позднее устоявшееся психотехническое понимание искусства и, в частности, монтажного кино, – понимание, которое Эйзенштейн сформулирует наиболее развернуто в своем эссе «Роден и Рильке». В этой работе он подробно анализирует «материально-техническую аппаратуру» и «системы психотехники», выстраивая своеобразную генеалогию психотехники в искусстве, идущую от «духовных экзерциций св. Игнатия», через систему Станиславского, к монтажному кино. Вторя терминологии Выготского, который называл трагедию «машиной чувств», Эйзенштейн говорит: «Здесь дело будет касаться… конструкции психотехнических “станков”, рассчитанных на обработку психики»139.
Эйзенштейн начинает с того, что определяет проблему, поставленную Лойолой: «А именно то, что само переживание, как таковое, насильно никак не может быть вызвано к жизни».
Это ведет к формулировке психотехнической задачи: «И что для того, чтобы оно возникало само и естественно, нужно собрать достаточное количество сопутствующих явлений и обстоятельств, из сопоставления которых само возникает необходимое чувство».
Затем следует формулировка психотехнического механизма в чистом виде: «Так из сопоставления произвольно воссозданных, известных и доступных воссозданию обстоятельств – имеет возникнуть непроизвольное и естественное переживание, которое требовалось вызвать к жизни»140.
Давая оценку метода Лойолы, Эйзенштейн заключает: «Сокрушительность воздействия метода совершенно феноменальна»141.
От анализа религиозной практики Эйзенштейн переходит к анализу театрального действия в терминах психотехники. Он утверждает: «Но она же – эта древняя система психотехники Лойолы – необыкновенно похожа на еще одну хорошо нам известную психотехническую систему самого недавнего прошлого, систему… актерской техники К. С. Станиславского»142
Эйзенштейн поясняет сходство последней с практикой Лойолы: «Основная предпосылка та же самая: путем произвольно создаваемых условий и обстоятельств вызвать к бытию естественно и непроизвольно бытующее и возникающее переживание совершенно определенного содержания»143.
Одновременно он подчеркивает и принципиальное отличие системы Станиславского: необходимость того, чтобы эмоциональное состояние актера стало «объектом восприятия других людей – зрителей»144. Это соображение «приводит нас к третьему образцу психотехнической системы, вырастающей все из тех же предпосылочных истоков… это система воздействия средствами монтажного кино»145. Уточняя и расширяя свое раннее понимание монтажного кино, Эйзенштейн формулирует свое психотехническое определение так: «…здесь наиболее полное, материальное и объективное воплощение все того же принципа, согласно которому из произвольного сопоставления достигнутого само собою непроизвольно возникает то, к чему нет непосредственного доступа!»146
Значение такого понимания для Эйзенштейна огромно и принципиально: он утверждает, что монтажное кино «являясь венцом и завершением, одновременно служит началом и исходным моментом творческих возможностей человека, никогда до сих пор не располагавшим таким чудом потенциальных возможностей для воплощения еще не рожденных бескрайних его замыслов будущего»147. Последнее утверждение – далеко не легковесная дань пропагандистскому пафосу, скорее, это подтверждение понимания функций искусства, выкристаллизовавшегося в процессе диалога с культурно-исторической парадигмой, с позиций которой, как поясняет Пузырей, Выготский настаивал на том, что «Искусство… есть своего рода лаборатория, в которой осуществляется поиск внутри феномена человека – поиск человека возможного и грядущего и, что чрезвычайно важно, – человека, который собственно только через этот поиск и внутри него, благодаря духовному усилию и работе, в этом поиске совершаемым, и может рождаться…»148
Развитие этих идей можно найти в обсуждении актуальности перспектив Выготского и Эйзенштейна в двадцать первом веке такими современными мыслителями, как С. С. Хоружий, О. И. Генисаретский, В. П. Зинченко и другие149. Актуальность эта больше не может выводиться из протоструктуралистского прочтения трудов Выготского и Эйзенштейна – из прочтения, наиболее ярко продемонстрированного Вяч. Вс. Ивановым, со ссылки на работу которого начиналась эта статья. Для современной философии и для наук о человеке структурализм, по словам Хоружего, – это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день.
Специфику задач, стоящих перед философией человека сейчас, Хоружий видит в двух кардинальных аспектах.
Первый состоит в неприменимости «эссенциального», т. е. сущностного дискурса – тенденции описать мир в понятиях данностей: «субстанций, смыслов, ценностей, норм, законов, причинно-следственных связей и т. д. и т. п.» и, соответственно, в необходимости понимания человека в динамических категориях.
Второй – в необходимости переосмысления существования человека как разворачивающегося в рамках равновесия и стабильности, на неадекватность которого указывает «кризисно-катастрофическая антропологическая динамика».
«В итоге, – говорит Хоружий, – нам сегодня желателен такой контекст для рассмотрения антроподицеи, который (а) доставлял бы альтернативу устаревшему эссенциалистскому дискурсу, и (b) помог бы при этом описать человека на краю, человека в области его крайних, предельных проявлений»150. Этим задачам, по мысли Хоружего, и соразмерны теоретические представления Выготского и Эйзенштейна. Соразмерны в первую очередь потому, что они отказываются от модели «готового» человека, эссенциальной модели, предполагаемой классической психологией и философией, а также нормативной эстетикой и этикой. Центральный вектор, который объединяет Выготского и Эйзенштейна, – идея построения человека возможного, трансформации человеческой психики, т. е. работа с ее «динамической формой». В этой работе искусство выполняет роль антропологической практики, экспериментирующей с человеком или, более того, порождающей то, что составляет феномен человека – от его эмоционально-аффективных проявлений до ценностных ориентаций. И именно такое понимание искусства как антропологической практики предполагается психотехнической парадигмой.
Додумывая Эйзенштейна до конца, Хоружий показывает, как импульс Эйзенштейна взять человека в его полной мере через искусство достигает кульминации в его финальном труде «Метод», который и представляет полноценную антропологическую практику – практику реализации человеческого в человеке. Хоружий утверждает: «…для него слово “метод” было знаковым, ключевым, обладало некоей магической нагрузкой. При этом само понятие метода трактовалось им именно так, как оно должно быть понимаемо в антропологических практиках. Метод мыслился и строился им именно как органон, т. е. как полный практико-теоретический канон, который отнюдь не ограничивается техническим, операционно-инструктивным уровнем, а идет до полноты выражения самой природы определенной опытной сферы.
Берется определенная опытная сфера, и метод только тогда метод, когда он совершенен, когда он в полноте выражает ее природу. И по отношению к области динамической формы Эйзенштейн ставил задачу создания именно такого совершенного метода. Эта задача настолько опережает даже сегодняшнюю научную мысль, что до Эйзенштейна еще очень большая дистанция»151.
С этой точки зрения восстановление психотехнической логики работы Эйзенштейна должно принадлежать к центральным направлениям переосмысления его работы в двадцать первом веке. Хочется верить, что данная статья вносит хотя бы небольшой вклад в этот процесс.
/ Дастин Кондрен /
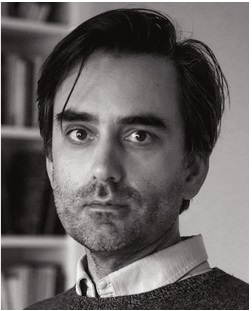
Дастин Кондрен (Dustin Condren) – защитил диссертацию «Кинематографические языки и сценарии незавершенных фильмов Сергея Эйзенштейна» («Cinematic Languages and the Un made Film Scenarios of Sergei Eisenstein») в Стэнфордском университете и получил степень доктора философии летом 2018 года. С 2019 доцент кафедры русской литературы и культуры в Университете Оклахомы. Его исследования сосредоточены прежде всего на эстетической и интеллектуальной культуре раннего советского периода, а также на визуальных и физических формах кино, фотографии, живописи и театра. Книга, над которой он работает, посвящена шести основным четко разработанным, но неосуществленным кинопроектам Сергея Эйзенштейна конца 1920-х – начала 1930-х годов. Он перевел на английский язык некоторые сочинения Эйзенштейна, а также «Краткое изложение Евангелия» Льва Толстого, опубликованное в Нью-Йорке (2011).
Субъектив: Эйзенштейн и оживление вещей
Почти полные два года, с января 1927-го по декабрь 1928 года, Сергей Эйзенштейн заполнял свои дневники и рабочие тетради идеями для фильма, который он назвал «Стеклянный дом» («Glass House»). Действие фильма должно было разыгрываться в небоскребе со стеклянными стенами, полами и потолками; обитатели этого дома вынуждены проживать свою жизнь в условиях полной взаимной видимости – и вместе с тем их может со всех сторон снимать кинокамера.
«Прозрачность», как многозначительно подчеркнуто самой конструкцией сплошь из стекла, должна была стать определяющим фактором визуальной и тематической концепции. И актер, и зритель фильма получили бы возможность смотреть из общественного пространства в личное, из одного личного пространства в другое личное, и – что, возможно, наиболее интригующе – могли бы переживать новый опыт ориентации в пространстве. Тщательное соположение коллизий в сценах (характерных для капиталистического образа жизни), которые одновременно разыгрываются в каждой из стеклянных комнат дома, позволило бы оперировать фильмом как комплексом политико-экономических тезисов; в то же время акцент на ви́дении и прозрачности мог мотивировать сложное взаимодействие между социальным и эстетическим идеализмом, с одной стороны, и, с другой, тщательно развернутым экономическим и материальным реализмом152.
В ходе разработки этой идеи Эйзенштейн нарисовал много эскизов и составил несколько списков возможных эпизодов, и это позволяет нам представить себе основной корпус материала нереализованного фильма – глубокий источник дискретно воображаемых кинематографических «видений», каждое из которых варьирует оптическое взаимодействие стеклянной декорации, человеческого субъекта и съемочной камеры153. В рамках работы над «Стеклянным домом» режиссер записал и несколько убедительных теоретических заметок об оптических процессах в кино, примечательных по своему значению как для проекта, который сам по себе является материальной разработкой оптических эффектов, так и для развития практики мизансцены, которую Эйзенштейн будет применять в своих будущих работах. Эта статья посвящена одной из таких заметок; но прежде чем приступить к ее анализу, совершим краткую и выборочную пробежку по истории оптики – в частности, по той части этой истории, которая имеет самое непосредственное отношение к фотографии.
История эта связана с двумя тенденциями, которые развивались независимо одна от другой, прежде чем они встретились на поворотном этапе. Первая из них относится к камере-обскуре – как к естественному оптическому феномену, так и к искусственному манипулированию этим явлением для расширения оптического восприятия. Она сопряжена с визуальным любопытством, возникающим, когда изображение сцены по одну сторону экрана (или, скажем, стены) проецируется через небольшое отверстие в этом экране (или стене) и превращается в перевернутое изображение на поверхности, противоположной отверстию. В конце XV века этот феномен описал Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи». «…Когда изображения освещенных объектов проходят через маленькое круглое отверстие в очень темную комнату, вы будете видеть на бумаге все те объекты в их естественных формах и цветах…»154
«Пусть a b c d e – объекты, освещаемые солнцем, а o r – передняя стена темной комнаты, в которой имеется сказанное отверстие n m. Пусть s t – лист бумаги, на который падают лучи, несущие образы объектов, перевернутые вверх ногами. Поскольку лучи прямые, a справа дает k слева, а e слева дает f справа» (из «Записных книжек» да Винчи).
Большинство знатоков истории оптики сходятся во мнении, что первое четкое описание камеры-обскуры можно найти в трудах персидского эрудита Ибн аль-Хайсама (Альхазена) около 1021 года н. э., хотя концепции, вытекающие из этого явления, можно найти еще раньше в «Оптике» Евклида (300 г. до н. э.); некоторые даже приводят доводы в пользу следа таких визуальных перспективных искажений в доисторической наскальной живописи155. Однако термин камера-обскура употребляется для описания самого явления со второй половины XVI века, и примерно в это же время камера-обскура стала широко использоваться как инструмент, помогающий в точности искусственного изображения и в передаче линейной перспективы156.
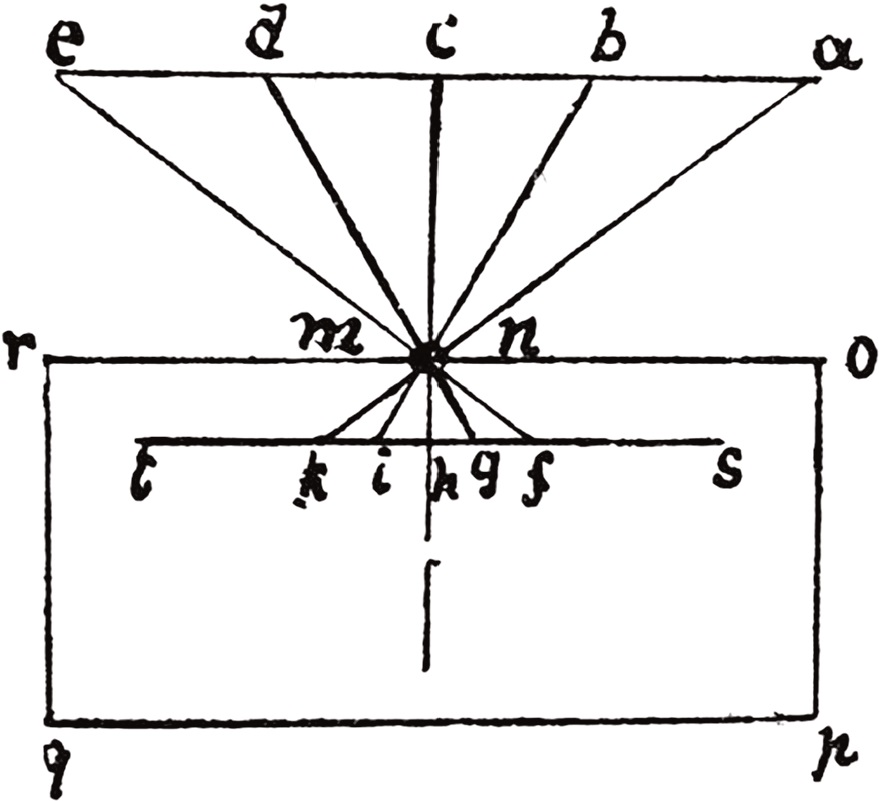
Леонардо да Винчи. Камера-обскура. Схема из «Трактата о живописи»
Наряду с камерой-обскурой, для нашей темы важна линза – кусок стекла или прозрачного камня в форме чечевицы, la lentille; ее история прослеживается до глубокой древности, когда, возможно, фокусировали свет для зажигания огня или для простого увеличения; его использование упоминается у античных авторов (Аристофана, Плиния Старшего, Птолемея). В эпоху средневековья развилось употребление линз для улучшения зрения – в виде рудиментарных «камней для чтения», затем, с конца XIII века, изобрели и постоянно совершенствовали очки157. А в конце XVI века качество стеклянной линзы, как и камеры-обскуры, достигло апогея: появилась составная линза, в которой несколько шлифованных стекол работают сообща, обеспечивая большее увеличение и уменьшая хроматическую аберрацию158.
Примерно в тот же момент истории случается некая коллизия, ключевая для темы этой статьи: встреча камеры-обскуры и стеклянной линзы. Видимо, первым теоретиком оптики, поместившим линзу в небольшое отверстие камеры-обскуры, был итальянец Джероламо Кардано, который в 1550 году описал использование стеклянного диска в своей камере для улучшения проецируемого изображения159. Примерно в то же время коллеги-итальянцы Даниэле Барбаро (в 1567 г.) и Джамбаттиста делла Порта (в 1589 г.) применили аналогичные инновации, в том числе стеклянные двояковыпуклые линзы, в разработках по изготовлению камеры-обскуры160. Несколько позже Иоганн Кеплер, работая над оптикой составных линз телескопов, систематизировал использование линзового стекла и даже сочетаний нескольких линзовых элементов в камере-обскуре161.
По-видимому, развитие сложных линз и необходимость различать и обозначать их многочисленные взаимодействующие части породили термин «объектив» (по-французски l’objectif, по-немецки das Objektiv, по-английски objective lens), возникший потому, что эти линзы были наиболее близки к объекту восприятия (а не к произведенному изображению). В микроскопах, разработанных во времена Кеплера и Галилея, эти линзы приближались к исследуемому образцу, собирая отраженный свет в фокус162. В телескопах линза также находится на самом переднем крае, больше всего определяющем силу увеличения и расстояние, на которое направлено устройство. Обозначение objectif впоследствии переместилось вниз по цепочке терминологии и распространилось на простые одиночные стеклянные линзы в отверстиях камеры-обскуры, поскольку они тоже соответствовали исключительно рассматриваемому объекту. И к тому времени, спустя столетия, когда была изобретена фотографическая камера – сама по себе камера-обскура в миниатюре, устройство для фокусировки изображения, сделанное из одного куска стекла или из нескольких элементов, получило название «объектив», которое сохранилось в большинстве языков (английский является заметным исключением, где «объектив» – это термин, употребляемый в просторечье, а «фотографический объектив» используется лишь в некоторых серьезных технических оптических контекстах). Происхождение термина objective lens подсказывает, что его надо понимать как «объектная линза», но objective в широком восприятии невольно обретает несколько иную семантику: объективная.
После этой исторической преамбулы вернемся к Эйзенштейну, для которого, как мы отметили, значительный интерес представляло стекло – и как технический инструмент, и как конструктивный элемент, а также как вещество, наполненное некоторой степенью изначального потенциала. В конце 1929 года, набрасывая подготовительные заметки для замысла «Glass House», режиссер сделал на одном листе бумаги текстовой набросок, в котором предлагалась полная ревизия истории оптики, изложенной выше. Эта ревизия основана на семантическом значении терминологии, присущей объективному объективу:
«Le Subjectif:
Куску шлифованного стекла перед “камерой обскурой” совершенно ошибочно придали название “объектива”. Это дань киноческому верхоглядству.
Фотографическая объективность объектива – предрассудок.
Как предрассудок – объективность кадра.
Кадр – это процесс конфликта организаторских намерений режиссера и свободной самораскинутости природы»163.
Среди прочего Эйзенштейн тут подчеркивает, что объектив не объективен. Слияние оптически «объектного» и философской «объективности» читается как умышленное и ироничное – ирония усиливается в названии этого краткого документа: в верхней части страницы расположен заголовок «Субъектив». Исходя из этого, мы понимаем, что оптический механизм, который Эйзенштейн намерен описать, и напряженная взаимная игра между объективом и изображением в рамке, являются, по его пониманию, скорее фундаментально субъективными. Если философская категория объективности была привязана к эпитету линзы (ближайшей к объекту), то Эйзенштейн предлагает новый эпитет для линзы – субъектив (линза, ближайшая к наблюдающему субъекту).
Здесь мы имеем взаимное перескальзывание между объективным и субъективным, между тем, что можно считать существующим как реальность и воспринимать как «реальный образ» благодаря механизму расширенного восприятия, и тем, что субъективно, что зависит от разума, от организующей для своего существования субъективности, – образ, выявляющий намерение, отклонение от беспристрастности.
Далее в этой заметке Эйзенштейн пишет: «Воля и намерение режиссера материализованы в четырехугольности (4:5) рамки и кадра и F:x куска шлифованного стекла.
Продукт природного взаимоотношения a:b становится сложной дробью, устанавливая отношения с пропорцией кадра (4:5), удаление от предмета и режиссерской воли»164.
Сложная формула, разработанная здесь, – своеобразная «графическая обработка» (см. ниже), при которой образ субъекта проходит (в виде предписанного количества световых волн) через округлый кусок полированного стекла и проецируется на четырехугольную раму, создавая изображение с очень специфическими пропорциями, – это также процесс, посредством которого субъективный отпечаток воли режиссера запечатлевается в изображении. Пространственное натяжение в этой схеме напоминает некоторые из самых ранних вопросов, касающихся прохождения света через отверстия, например, вопрос Аристотеля: «Почему солнце, проникающее через четырехугольники, образует не прямолинейные формы, а круги, как, например, когда оно проходит через плетеные изделия?»165
Но у Эйзенштейна мы имеет дело с оптикой, в которой воля и намерение того, кто контролирует отверстие устройства с отшлифованным стеклом и рамку кадра (например, режиссер), принимает участие в создании «реального образа» наряду со светом, проходящим через отверстие и фокусирующимся стеклянной линзой. По его мнению, сами по себе точность и регламентированная оптика шлифованного стекла – это то, что делает линзу камеры (риторическую претензию фотографии на объективность) неизбежно субъективным инструментом режиссера. Результатом этого столкновения между природой и субъективностью режиссера является «сложная дробь», говорит он, которую можно почувствовать не только в пропорциях кадра, но и в «удалении от предмета», что создает взаимное влечение этого объекта/субъекта и «воли режиссера».
В этом отрывке Эйзенштейн не только тематизирует оптический потенциал стекла как части аппарата кинотворчества, но и связывает это со своей постоянной полемикой с «киноческим верхоглядством», которую он диагностировал в претензиях Дзиги Вертова и его киноков на правду и объективность. Здесь стекло становится инструментом тенденциозного видения – тем самым, на чем Эйзенштейн основывал свои аргументы в полемике с Вертовым на страницах советской кинопрессы ранних 1920-х годов. Это было выражено однозначно в его статье 1925 года «К вопросу о материалистическом подходе к форме», в которой он, как известно, использует образ «кинокулака» в противоположность «кино-глазу» метода Вертова. Там Эйзенштейн пишет: «…потому что главное – режиссура – организация зрителя организованным материалом – в данном случае, в кино, возможна и не только материальной организацией заснимаемых воздействующих явлении, а оптической – путем засъемки»166.
Более позднее обращение Эйзенштейна в его заметках для «Стеклянного дома» к практике киноков работает как подтверждение своей программы действия, организации, расчета и пристрастности при использовании кинотехники, в отличие от того, что он полагал «пантеистическим» ви́дением, ведущим к бессильной «созерцательности», неизбежной, по его мнению, в методе киноков. Шлифованное стекло линзы киноаппарата включается им в разряд напоминаний о субъективных организационных процессах кинорежиссуры – о четкой ориентации в материале – Эйзенштейн считал это жизненно важным для истинно материалистического понимания произведения искусства. Утверждение Вертова о безотносительной «правдивой» ценности отдельного кадра было анафемой в отношении настояний Эйзенштейна об онтологической недостаточности любого кадра, снятого ради себя самого. Смысл всегда должен быть произведен, в частности, столкновением изображений и знаков; он должен быть создан, а не просто запряжен в череду тщательно организованных интервалов механического наблюдения. Эта риторическая антиномия, на которой настаивает Эйзенштейн, была откликом, как намекала Аннетт Майклсон, одиннадцатого тезиса Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»167.
Серия антивертовских заметок неоднократно связывает полемику с субстанцией стекла, показывая, что в этот период оно является важнейшим материальным элементом концептуального самоопределения режиссера. На фоне ряда идей, записанных в рабочей тетради за декабрь 1927 года на тему задуманного эссе об «Октябре» и его достижениях, Эйзенштейн напоминает себе, что в запланированной статье его подход должен заключаться в том, чтобы сделать сюжетный материал актуальным на текущий день через «точку зрения», которая сама по себе актуальна – и что этой цели может достигнуть современный голос (он же по-старорусски – глас). Ниже провозглашен лукавый афоризм: «Le “Kino-Glaz” est mort – vive le “Kino-Glaß”!»168 Здесь по Вертову прозвенел погребальный колокол: заменой «киноглазу» в кино стали одновременно «голос» и «Glaß», или «Glas» (в звучании этого слова появляется второй смысл – «стекло» по-немецки: Эйзенштейн в своих тетрадях этого периода часто пользуется немецким языком).
В блокноте 1927 года, куда Эйзенштейн записывал идеи для замысла «Glass House», есть заметки о некоторых материальных качествах стекла и несколько страниц расширенной критики «D-Ziege» и «Kinokismus», которые начинаются с заголовка «Zum Kino-Glaß»169. Ясно, что «стеклянное кино» было не просто особой картиной, в которой стекло должно было стать заметным в декорации материалом, – на самом деле, стекло тут рассматривается как один из ключей к пониманию возможностей самого кинематографа.
Для Вертова камера и ее линзы были техническим усовершенствованием, созданным для улучшения глаза человека, они были механическим идеалом для неадекватного органического механизма – безупречно видящим устройством, которое может работать «со своим измерением времени и пространства», избавленное от необходимости «копировать работу нашего глаза»170.
Эйзенштейн, наоборот, охарактеризовал фигуру вертовского «киноглаза» как метафорическую гипертрофию человеческого глаза; он чувствовал, что практическое применение этой теории кинематографической техники станет просто reductio ad absurdum (доведением до абсурда)171. Для Эйзенштейна органический глаз – глаз Михаила Кауфмана, – который так превосходно проявляется в механической линзе Вертова, – не является ни пережитком хрупкой биологии, ни сигналом о том, что линза объектива свергла природные ограничения. Скорее, объектив киноаппарата – это нечто противоположное: его следует понимать как образ организующих функций восприятия, субъективного взгляда и приведения визуального материала в соответствие с волей режиссера – как проявление живучести человеческого пафоса внутри механически опосредованного восприятия.
Можем ли мы также предположить, что Эйзенштейн хотел подчеркнуть метафорическое единство органической линзы человеческого глаза со стеклянными линзами в фотоаппаратах и в камерах-обскурах, каждая из которых должна фокусировать отраженный свет в четкое, неравнодушное изображение? В конце концов, человеческий глаз (а также глаз птиц, рыб, рептилий и т. д.) работает аналогично камере-обскуре: свет проходит через отверстие (называемое зрачком), собирается в двояковыпуклой линзе, и проецируемое изображение формируется на поверхности ретины (сетчатки)172. Анекдот о Рене Декарте, кажется, имеет отношение к органичности киноглаза Эйзенштейна: когда-то Декарт хотел с участием камеры-обскуры провести окулярное исследование, поместив глаз недавно умершего человека в отверстие устройства, а затем выскабливая плоть в задней части глаза, пока спроецированное на него опрокинутое изображение не станет видимым на сетчатке173.
Когда Эйзенштейн писал заметки о субъективной линзе, он был глубоко увлечен замыслом «Стеклянного дома», и визуальный метод, заявленный режиссером, состоял в том, чтобы постоянно «сдвигать», «менять» и вырабатывать «новый угол» зрения. Акцент на движении и развитии ви́дения в этих ключевых терминах имеет решающее значение для понимания перцептивной природы концепции Эйзенштейна. Стекло со своими структурными и оптическими возможностями есть только отправная точка для тематической и риторической кинодеятельности. Работа активируется движением – сквозь пространство и внутри него – как персонажей фильма (когда они движутся, меняется их зрение), так и камерой (когда она движется, меняется зрение аудитории).
В одной из сцен так и не снятого «Стеклянного дома» тени двух тайных любовников проецируются на матовое стекло двери, из-за которой ревнивый муж вынужден смотреть на объятия их силуэтов. Тут сам дом становится своего рода камерой-обскурой174. Или: другая сцена описана (в заметке от 18 сентября 1927 года) как «монтажно [показанное] засвечивание этажей снизу» – дом превращается в волшебный фонарь или камеру кинопроектора – подсвеченная рамка кадра быстро проносится до позиции просмотра175.
Или в другой записке того же дня Эйзенштейн описывает «переходы от этажа к этажу “диафрагмированием” – на сцену, снятую через пол, накатывается коврик, и вступают на него действующие [персонажи] верхнего этажа, etc.»176. В этом случае множественные плоскости стекла от полов до потолков разных этажей имитируют множество линз объектива киноаппарата: эти взаимосвязанные плоскости стекла, пространство между ними, их потенциальное движение и обработка светом определяют способность зрителей увидеть намеченную режиссером тему. Поскольку видение зрителя сфокусировано – изображение поймано и выделено между этими стеклянными панелями, благоразумное использование ковра на одном из (стеклянных) полов работает вместе со стеклянной конструкцией для достижения эффекта диафрагмы, которая «затемняет» преломленный свет – позволяет сцене либо появляться, либо исчезать. В этих случаях Стеклянный дом сам по себе становится киноаппаратом. Все в этих сценах зависит от оптической техники: от глубины резкости, от освещения, угла съемки и, что важно, от фокуса.
Именно в этот момент, когда центральная метафора фильма о бесконечном ви́дении приобретает двойное значение, когда здание, задуманное для бесконечного ви́дения, начинает само создавать видéние – само видеть, – кинематографический дискурс Эйзенштейна о стекле и оптике обретает наибольшую мощь. На рисунке от 16–17 января 1927 года Эйзенштейн представляет непрозрачные двойные кабины лифта, движущиеся вверх и вниз по всей высоте Стеклянного дома, мимо драм повседневной жизни, происходящих в прозрачном пространстве за его пределами. В сентябре того же года, среди списка идей для «Glass House», он записывает: «И как хребет или ключ в кармане при рентгенизации, прозрачный дом пронизывает черный железный с мрачными огнями, как глаза, – всевидящий – лифт»177.
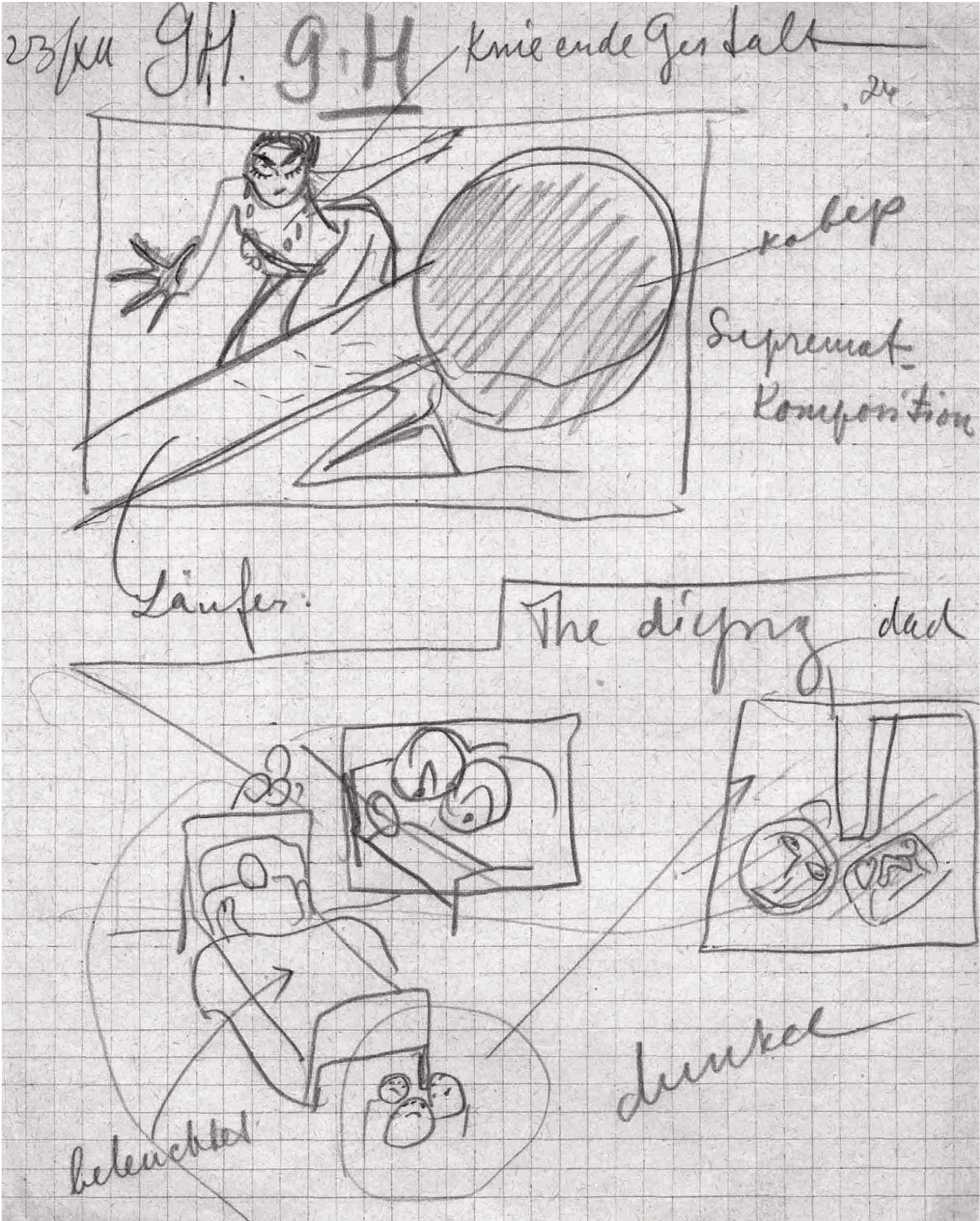
Сергей Эйзенштейн. Особа на коленях. Ковер и дорожка. Умирающий отец. Эскиз к замыслу фильма «Стеклянный дом», 1927

Сергей Эйзенштейн. Отчаяние человека. Поэтажное зажигание света. Эскиз к замыслу фильма «Стеклянный дом», 1927
Движение этих всевидящих лифтов, когда они поднимаются и опускаются мимо каждого индивидуально заселенного стеклянного куба-комнаты, проникая в него «взором» под всеми возможными углами, символизирует то ви́дение, которое было задумано Эйзенштейном для зрителей фильма. Действительно, лифты как составные части структуры здания и как центральная точка паноптикума, им предполагаемого, удваиваются как составные части анатомии зрителя. Здание, где лифты перемещаются в пространстве по вертикали как «всевидящие очи», а стеклянные стены действуют как фокусирующие элементы, направляющие взгляд зрителя, предоставляется нам оптической системой – не тем объективом, над которым Эйзенштейн иронизировал в своих заметках, но неким зрением субъектива, организованного светом и линзой, и дискурсивно ориентированный режиссер может спроецировать его в рамки киносюжета.
В не так давно опубликованном наброске 1925 года «Игра предметов» Эйзенштейн пишет о полной неадекватности простого присутствия предметов перед камерой и недостаточности одного акта «кадрирования». Он настаивает тут на идее «обработки» материала, который находится перед объективом кинокамеры и которому, как простым вещам в пространстве, не хватает ритмов, необходимых для монтажа: «Одной пространственной организацией – кадровой – не сдифференцировать необходимую деталировку и схему: потребных в заснимаемых вещах ритмов здесь не хватает. Только препарировав светом и оптическим трюком чуткого объектива, можно выявить в предмете ту шкалу раздражителей (ритмов), которая обычно бывает в смеси со всеми [другими]»178.
Для Эйзенштейна наличие линзы и продуманное применение света являются необходимыми условиями работы для режиссера, который находит ритмы, соответствующие предмету и становящиеся ключевыми при включении образа этого предмета в монтажные композиции со всеми другими предметами. Следствием становится способность обнажать предметы и находить их максимально неискаженную выразительность179. Эта выразительность является ключом к пониманию субъективной власти кинематографических линз над объектами в поле зрения: согласно Эйзенштейну, при правильном использовании механизм производит выразительный аффект, а аффект всегда раскрывает идейную тенденцию.

Сергей Эйзенштейн. Ревнивый муж и любовники. Эскиз к замыслу фильма «Стеклянный дом», 1927
В том же фрагменте Эйзенштейн предполагает, что «…аппарат нашего восприятия настраивается под влиянием соответственного состояния на реагирование лишь на определенную серию раздражителей – ритмических, цветовых, фактурных и пр.» – по существу это избирательные функции линзы кинокамеры, они позволяют кинематографисту передать в изображении свой замысел. Этот аппарат восприятия, как мы видели, может так же легко настроить киноаппарат, как и человеческий глаз. Более интересно то, что он настраивает взаимодействие органического и неорганического аппарата, когда они сочетаются как при создании, так и при просмотре кинематографического объекта. Сами объекты, по формулировке Эйзенштейна, созданы для того, чтобы «играть», то есть исполнять функцию выразительности за пределами того, что он называет их «натуралистической» сущностью. Хотя может показаться преувеличенным предположение, что объекты здесь анимируются – оживляются, все же в определенном смысле объекты оптически, посредством света и фокуса, передают некую душу (animus), что позволяет в некоторой степени превзойти их материальную реальность. Объект плюс точно установленный оптический аппарат, а также движение глаз зрителя под воздействием различных визуальных стимуляторов, создают своего рода неподвижную анимацию, «игру».
Эти размышления о взаимосвязи между воспринимающей субъективностью и воспринимаемым объектом являются ранней попыткой постичь некоторые проблемы объективной выразительности (в частности, пейзажей), которые так основательно займут Эйзенштейна в «Неравнодушной природе» (1939–1941, 1945–1947), где он прослеживает эмоциональные и ритмические резонансы, возникающие при движении глаза через композицию произведения, «…в том смысле, что не вся картина в целом охватывается глазом сразу, но последовательно…»180
Мысли Эйзенштейна о линзе объектива и ее детерминированности субъективным кинематографическим дискурсом проверяются практически в характерных для него рабочих и теоретических отношениях с объективами камер. Как предполагает Джулия Бекман Чадага, частично увлечение Эйзенштейна стеклом объясняется его пониманием того, что «он не сможет снимать фильмы без этого материала»181. Хотя это может показаться простым ответом на сложный вопрос, тут резко подчеркнута пока едва осмысленная материальная функция стеклянных элементов в любимой линзе Эйзенштейна, 28-миллиметровой – объективе широкоугольном (а не портретном или телеобъективе), который, как он пишет в эссе «Эль Греко и кино», позволил создавать экстатическую образность. Именно в эссе об Эль Греко Эйзенштейн называет 28-миллиметровый объектив «экстатической линзой по преимуществу», подчеркивает ее «выразительные свойства» и отдает несколько страниц описаниям выразительных искажений и глубины пространства, которые доступны этому объективу182.
Короткофокусные объективы также позволили, благодаря техническому мастерству оператора Эдуарда Тиссэ, комплексно работать с глубиной резкости и внутрикадровым монтажом – эти инновации явно привели к амбициозным предложениям по построению глубинных композиций в проекте «Стеклянный дом». Глубина резкости в поле кадра и эффект искривленных тел и интерьеров, изгибающихся вовне по краям рамки, появляются здесь в результате оптического процесса, при котором дуговая широкоугольная линза проецирует изображение на плоскую прямоугольную поверхность кинопленки; создающееся «экстатическое» визуальное явление было воспринято Эйзенштейном как созвучное эластичным формам, которые обнаруживаются, как описывает Дэвид Бордуэлл, в «безумных перспективах Пиранези, в истерическом кручении тел у Эль Греко и в протоплазматических извивах персонажей Диснея»183.
В самом деле, эту проблему наиболее убедительно рассматривает именно эйзенштейновский анализ фильмов Уолта Диснея. В большом эссе 1941 года о Диснее и анимации режиссер делает попытку понять познавательный феномен, при котором происходит «“анимизация” неподвижных объектов природы». Он предлагает такое изначальное понимание процесса: «Глаз наблюдающего (субъекта) “обегает” наблюдаемое (объект). В самом термине – “обегает” – сохранилась предшествующая стадия: […] здесь движется субъект (глаз) по очертаниям объекта (предмет), а не сам объект (предмет), перемещаясь в пространстве.
Но, как известно, на этой стадии развития разграничения между субъективным и объективным еще нет. И движение глаза, бегающего по линии абриса гор, с таким же успехом прочитывается, как бег самого абриса. <…>
По отождествлению субъекта и объекта – вернее, по нераздельности того и другого для этой стадии – все эти действия и поступки приписываются самому пейзажу…»184
Подобно тому, как в стеклянной линзе камеры-обскуры образуется место встречи исходного изображения и его перевернутой проекции, здесь глаз представляет собой место встречи «объективной» реальности и ее «субъективного» восприятия, в котором волевые действия воспринимающего аппарата (глаза) становятся неотделимыми от рассматриваемой вещи; ориентация и намерение субъекта полностью неотделимы от объекта. Для Эйзенштейна как самый непосредственный акт смотрения, так и развивающийся из него более сложный, опосредованный оптикой взгляд всегда должны соответствовать этой модели. По его рассуждениям, кинематографическая перцепция происходит не только вдоль вектора, который перемещается от объекта через беспристрастную стеклянную линзу к воспринимающему субъекту, но двунаправленно: к первому вектору добавляется его противоположность – та, что исходит от воспринимающего субъекта, через линзу его выбора, к объекту, который им выбран или устроен. Эта «неразделимость» или «идентификация», происходящая в первичном восприятии, и есть качество, которое Эйзенштейн приписывает моменту встречи субъекта и объекта в объективе камеры – «субъективе» его кинематографической системы.
И действительно, в такой системе между объектом и субъектом существует неизбежное перескальзыванье друг в друга – объект заменяется субъектом и наоборот, и, следовательно, более целесообразно использовать в терминологии субъективность, нежели объективность.
Авторизованный перевод Наума Клеймана
/ Майкл Куничика /
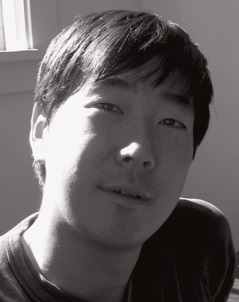
Майкл Куничика (Michael Kunichika) – после окончания Калифорнийского университета в Беркли и защиты там докторской диссертации ведет в Амхерстском колледже (штат Массачусетс) курсы русского языка, современной русской литературы, культуры и общества, а также преподает теорию кино и медиа. Среди его спецкурсов – труды Владимира Набокова, фильмы и концепции Сергея Эйзенштейна, понятие формы, поэтика и политика языка, а также изучение праистории. Научные интересы включают русскую и советскую литературу ХХ века, в частности модернистские тенденции; историю культуры, философию археологии и антропологии; связи культуры с археологией, антропологией и этнографией. Возглавляет Центр русской культуры, член Консультативного совета Центра гуманитарных исследований, Комитета программы по изучению кино и медиа и редакционной коллегии издательства Amherst College Press. Первая книга Майкла Куничики «Наша родная старина: археология и эстетика в культуре русского модернизма» («Our Native Antiquity: Archaeology and Aesthetics in the Culture of Russian Modernism», 2015) получила высокую оценку в прессе. В мае 2019 организовал в колледже международный симпозиум «История искусств по Эйзенштейну».
Праистория и Эйзенштейн
В 1979 году журнал «Советская археология», главный печатный орган в этой области, опубликовал редакционную статьюведущего археолога, Александра Формозова, под названием «О некоторых задачах и спорных проблемах в исследовании памятников первобытного искусства». В качестве введения в эту область Формозов сделал, на первый взгляд, странный выбор. Он начал с истории, связанной с Сергеем Эйзенштейном и произошедшей в начале 1940-х гг. К Эйзенштейну пришел Всеволод Пудовкин, и они начали разговор об искусстве: «“Вы интересуетесь первобытным искусством?” – спросил Эйзенштейн. Пудовкин ответил, что нет, на что Эйзенштейн заметил: “Ничего, придет время – начнете интересоваться”». В этом была полная уверенность, что интерес к первобытному искусству неизбежен, что в будущем Пудовкин обратится к нему (как это когда-то случилось и с Эйзенштейном). «И вот, – говорил Пудовкин, – Эйзенштейн умер, а я в самом деле пришел к этим темам»185.
Почему же в начале большой статьи о задачах, стоящих перед советской археологией и исследованием первобытного искусства, Формозов процитировал эту историю с двумя крупнейшими кинорежиссерами? Он отчасти отвечает на этот вопрос, задав во вступительном разделе статьи свой собственный: «Что же влекло к древнейшим этапам искусства представителей наиболее новой его отрасли? В 1935 году на совещании работников советской кинематографии Эйзенштейн отвечал на это так: художник при создании образа должен опираться как на высшие ступени, достигнутые человеческим сознанием, так и на первичные формы мышления, возникшие на заре истории. В этом докладе цитируются труды Л. Леви-Брюля, Г. Штейненa [von der Steinen] и др.»186.
Этот отрывок объясняет одну из причин, почему Формозов рассказал своим читателям историю с Эйзенштейном и Пудовкиным. Он опирается на их авторитет, чтобы обосновать культурную ценность изучения первобытного искусства, легитимизировать его. Аргумент Формозова можно рассматривать как советский пример более широкого явления в истории искусства, а именно роли, которую в признании ценности первобытного и примитивного искусства сыграли модернисты. С этой точки зрения, Эйзенштейн вписывается в целую плеяду художников начала ХХ века, включая такие фигуры, как Пикассо и Гоген. (Дополнительная причина отсылки к разговору Эйзенштейна и Пудовкина состояла в том, что Формозов хотел доказать: советские археологи на самом деле присоединялись к своим западноевропейским коллегам, на трудах которых Эйзенштейну и Пудовкину пришлось основываться, учитывая недостаток русских и советских исследований о первобытном обществе.)
Ссылки в статье Формозова показывают, что тема первобытного и примитивного искусства у Эйзенштейна весьма занимала его. Историю с Пудовкиным он нашел во вступительной статье И. Вайсфельда ко второму тому «Избранных произведений в шести томах» Эйзенштейна187. Раскопанная Формозовым тема затрагивает целый ряд важных примеров, которые мы продолжаем находить, исследуя творчество Эйзенштейна. Приведенный выше отрывок – это одно из главных заявлений режиссера по поводу ценности примитивного искусства; с этой точки зрения, Формозов справедливо отмечает труды Леви-Брюля и фон дер Штайнена как интеллектуальные и исторические источники размышлений Эйзенштейна на эту тему. Он также сообщает читателю, что Эйзенштейн реально стремился посетить наиболее значимые места исследований.
Формозов узнал об этой увлеченности режиссера из красноречивого отрывка воспоминаний об Эйзенштейне Леона Муссинака, опубликованного в сборнике «Эйзенштейн в воспоминаниях современников» (1974) под названием «Личность гения». Муссинак, один из ближайших друзей Эйзенштейна, вспоминает, как летом 1930 года организовал для него несколько экскурсий по местам стоянок первобытного человека во Франции: «Пожалуй, меньше всего мы говорили о кино, но зато касались всего, что способно породить личные чувства и глубокое проникновение в сущность вещей. Удивительная чуткость и восприимчивость Эйзенштейна поражали и восхищали нас с женой. <...> Могло показаться, будто он уже давно знаком с Францией. <...> Начиная с окрестностей Ноана и долины реки Гартамп, где наши души охватили воспоминания о Жорж Санд, и вплоть до момента, когда мы попали в район Лимузена (где в городе Иссудун жил некогда Бальзак), я непрестанно поражался его начитанности и знанию литературы средневековья. На пути от Буржа до Лиможа, от Перигё до Сарлата (где мы внимательно осмотрели доисторические пещеры в долине реки Везер, – он знал, оказывается, даже труды аббата Брёя) Эйзенштейн зачастую самым неожиданным образом без устали комментировал увиденное, извлекая исторические и литературные воспоминания из сокровищницы своей памяти»188.
Со своей стороны, Эйзенштейн вспоминает это путешествие иначе. В очерке о Муссинаке «Товарищ Леон» он пишет: «[Мы] предприняли однажды поездки на машинах из Парижа в Брюссель. В другой раз – из столицы Франции в Марсель и Ниццу, через Коррез с заездом в Тулон, в Канны к Анри Барбюсу. Всюду Леон показывал себя тонким знатоком культуры прошлого и современности...»189
Ни Муссинак, ни Эйзенштейн не уточняют, какие стоянки первобытного человека они посетили (и только ли эти места). А они находились лишь в полутора часах езды от упоминаемого Эйзенштейном Корреза. По поводу этой поездки один из его биографов написал: «То, что было испытано и прочувствовано во время этих путешествий, было вложено в кладовую идей и эмоций, чтобы проявиться в той или иной форме в его последующих произведениях»190.
Мое эссе отчасти является попыткой разобраться, как эта занитересованность отобразилась в мышлении Эйзенштейна до и после этой поездки, – Муссинак не зря делает акцент на чтении Анри Брёя, выдающегося специалиста наших дней по праистории.
В то время, когда они ехали из Парижа в Марсель через Коррез, долина Везера уже зарекомендовала себя как средоточие вех праистории; в ней такое количество первобытных стоянок, что ее позже окрестили «колыбелью человечества». Брёй и его современники, специалисты по праистории, сыграли кардинальную роль в обнаружении и изучении этих стоянок. Их находки получили столь широкую огласку, что стали привлекать как обычных посетителей, так и значимых представителей поколения модернизма. Считалось, что тут, на берегах реки Везер, можно охватить взглядом самый глубокий временной горизонт истории человечества. Так, у нас есть обширные свидетельства о встречах с доисторической эпохой в течение ХХ века. Например, английский поэт Т. С. Элиот посетил грот Комбарель в 1919 году. Именно на основе этого посещения двумя годами позднее он упоминает палеолит в своем основополагающем эссе «Традиция и творческая индивидуальность» (1921). Напомним, что в нем Элиот сравнивает рисовальщика мадленской культуры (именно к ней относят это искусство) с Гомером и Шекспиром и замечает: «...искусство не становится лучше с течением времени, однако его материал никогда не остается совершенно тем, что прежде»191. Литературный критик Хью Кеннер замечает, что поэт-модернист Эзра Паунд тоже был увлечен палеолитом. Наслушавшись сообщений об обнаружении наскальной живописи, Паунд, согласно Кеннеру, поразился «странной вневременной неизменности вещей в пространстве»192. Спустя десять лет после посещения Эйзенштейна французские археологи сделали одно из самых прославленных открытий долины – пещеру Ласко. Среди крупнейших писателей, посвятивших ей обстоятельные исследования, был Жорж Батай, однако мы не можем здесь подробно рассматривать примечательный контрапункт воззрений его и Эйзенштейна.
Таким образом, интерес Эйзенштейна к пещерам долины означает, что и он разделял эту заметную тенденцию в европейском модернизме, а именно, его внимание притягивали самые ранние примеры человеческой эстетической – или, по крайней мере, образотворческой – деятельности. Хотя мы и не знаем точно, чтó именно Эйзенштейн видел, наиболее вероятными представляются стоянки Комбарель и Фон-де-Гом. Действительно, именно в их обнаружении и изучении Брёй сыграл ведущую роль. Так, он нашел (в самом начале века) около трехсот наскальных изображений в гроте Комбарель. Обе стоянки относятся к важнейшим находкам наскальной живописи, которые Брёй описал сначала в небольших исследованиях, опубликованных до 1930 года, а затем в своем основополагающем труде «Четыреста лет наскальной живописи» (1952). Эйзенштейн не только читал о них, но и видел стоянки, вызывавшие споры о статусе и значимости доисторического периода, а также об их актуальности для современного искусства и культуры, будь то поэзия, живопись или относительно новое искусство кино.
В то время как интерес Эйзенштейна к примитивному искусству уже стал предметом целого ряда великолепных исследований, сосредоточенных в основном на проекте мексиканского фильма, заинтересованность его такими фигурами, как аббат Брёй, факт его поездки для знакомства со стоянками доисторического человека еще недостаточно освещены. Мы считаем, что этот его интерес зародился в период 1920-х годов и после все более точной разработки в трудах 1930-х достиг кульминации в своде набросков 1940-х годов, – сначала предназначавшихся для книги «Метод», а затем послуживших основой для «Заметок ко “Всеобщей истории кино”». Внимание ученых справедливо сосредоточивалось на взаимодействии Эйзенштейна с такими персонами, как Леви-Брюль и Лурия (а также, как указывал выше Формозов, фон дер Штайнен), но его изучению трудов по доисторической эпохе они не придали должного значения. Именно их влиянию на мышление и творчество Эйзенштейна я и решил посвятить это эссе.
Как мы должны понимать роль, которую его встречи с праисторией сыграли в его произведениях? И какие формы они еще могли принять? Эти два вопроса я и хочу разобрать здесь, показывая, как это сформировало основу его собственной истории искусства, а также концепцию самой функции формы в процессе становления человеческого начала.
«Наскальная живопись и рисунки палеолитических пещер» аббата Анри Брёя
Эйзенштейн читал не только труды аббата Брёя и его соавторов – главных специалистов тех дней по доисторическому периоду. Он знал о существовании и таких исследователей, как Герберт Кюн, чье «Искусство первобытных народов» («Die Kunst der Primitiven») вышло в 1922 году, и стремился осознать художественно-исторические последствия открытий в области праистории193. (В сущности, как сообщает И. Вайсфельд, именно эту книгу Пудовкин просил одолжить ему, чтобы начать свое образование в области примитивного искусства!) Эти произведения, вполне вероятно, входили в тот раздел обширной библиотеки Эйзенштейна, где, как замечает Вайсфельд, «особое место занимали издания, посвященные культуре и искусству примитивных народов»194.
Возможно, наиболее значительным среди авторов таких работ (и, соответственно, более других повлиявшим на размышления Эйзенштейна в этой области) был Люсьен Леви-Брюль, который оказал не меньшее влияние и на труды ранних специалистов по доисторической эпохе, в частности, связав доисторическое искусство и магию. Пока нет окончательной ясности, какое из произведений Брёя мог прочесть Эйзенштейн, но можно сделать об этом предположения, исходя из библиографии «Искусства первобытных народов» Кюна, в которой фигурирует несколько важных публикаций аббата195. В их числе – серия «Наскальная живопись и рисунки палеолитических пещер», выходившая с 1906 года и включавшая произведения, написанные вместе с другими авторами. Например, в 1911 году Брёй был соавтором Алькальде дель Рио в написании обстоятельного труда об испанских пещерах, а также в других исследованиях Франко-Кантабрийского региона, отдельные тома которых были посвящены таким стоянкам, как Фон-де-Гом (1910) и Комбарель (1924) в долине Везера.
Когда листаешь том, написанный им вместе с дель Рио, находишь целый ряд доисторических изображений. Видишь часто встречающиеся фигуры палеолитических животных в виде контурных рельефов или узоров, которые сохранялись в глине на протяжении тысячелетий. Рисунки животных в книге перемежаются схемами разнообразных пещер и сопровождаются различными мнениями относительно их значений. Иные из этих форм свидетельствуют о разных доисторических способах начертания знаков. В главе, описывающей пещеру в Кастийо (Испания), приводится общая дискуссия об изображениях рук, обычно окрашенных в красный цвет, которых тут особенно много. И на протяжении примерно сотни страниц с неослабевающим интересом читаешь про изображение руки в первобытном искусстве. Страница за страницей заполнены рисунками руки – иногда она изображена только до кисти, иногда находишь ее расширение до предплечья; на иных страницах руки показаны то по одиночке, то группами. Очарованность доисторическими руками мы находим не только в этом томе – именно рукам уделено центральное место в многотомных исследованиях Брёя и Картайака.
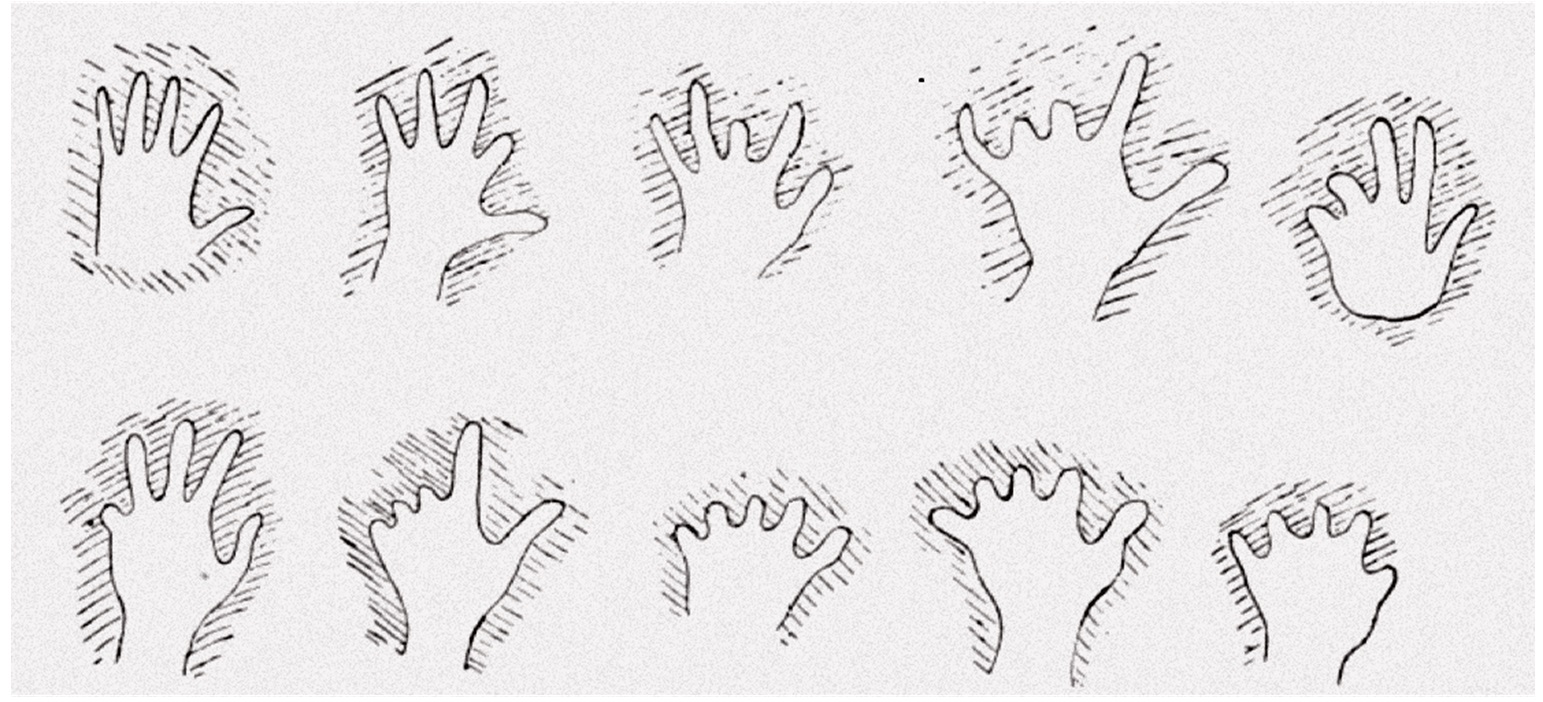
Отпечатки рук в гротах Гаргаса, Верхние Пиренеи, Франция

Изображения рук в пещерах Кастильо, Испания

Кадр эпизода «Бойня» из фильма Сергея Эйзенштейна «Стачка», 1924
Пролистывая труд, который, возможно, читал Эйзенштейн, неизбежно вспоминаешь эпизод бойни из «Стачки», столь плодотворный для его опытов по разработке форм и воздействующих средств монтажа. Если, держа в уме том Брёя, мы пересмотрим кадры кровавой резни пролетариев, чередующиеся с кадрами скотобойни, мы можем заметить, что наиболее заметным элементом в этом эпизоде являются руки – эти яркие синекдохи труда, руки, резко и графически четко воздетые к небу. В кадре возникает и искалеченная рука с отсутствующим средним пальцем. Тут есть и, возможно, слегка покалеченная или, вероятнее, деформированная за счет ракурса рука, снятая так, чтобы выглядеть как челюсть, с каким-то обрубком вместо мизинца.
Этот любопытный кадр в фильме Эйзенштейна может вызывать разные ассоциации, однако примечательно, что изображение покалеченной руки – одна из загадок доисторического периода. Как установил Брёй, примеры таких рук – так называемые mains coupés (отрубленные руки) – были найдены только в гротах у населенного пункта Гаргас в департаменте Верхние Пиренеи. И до 1967 года крупный специалист по доисторической эпохе Андре Леруа-Гуран установил лишь две подобные стоянки: Тибиран – неподалеку от Гаргаса – и грот Мальтравьесо в Эстрамадуре196. Как замечает Леруа-Гуран, обнаружение рук в пещере Гаргаса в 1906 году почти сразу породило ряд исследований по поводу того, что бы это могло означать, и споры продолжаются по сей день.
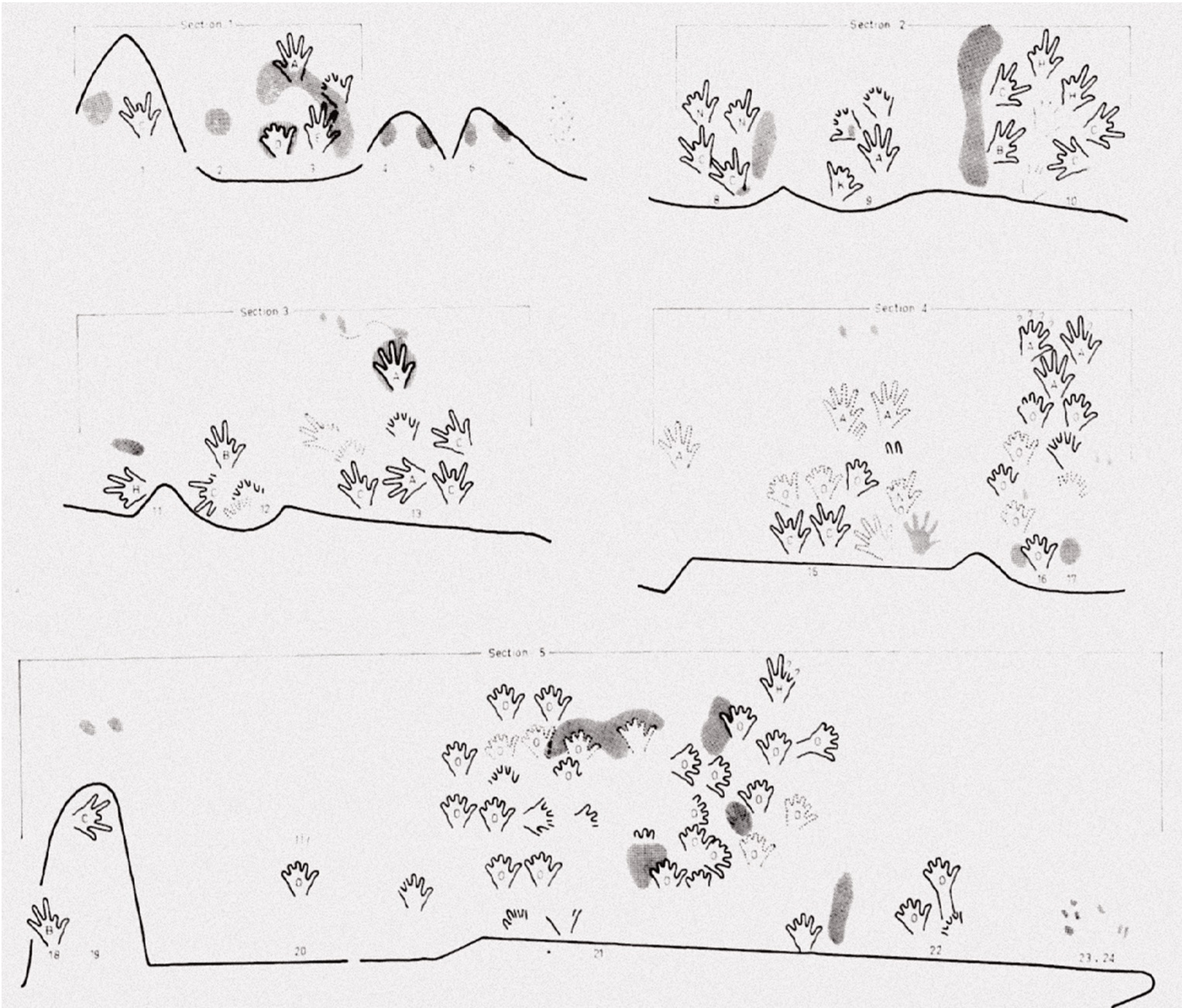
Группы изображений рук в пещере Гаргаса. Схема из статьи Андре Леруа-Гурана «Руки Гаргаса. Опыт изучения ансамбля», 1967

Изображения рук, наложенные на изображения бизонов
В связи с покалеченными руками примечательно (помимо их уникального места в доисторических находках) то, что возможно различить «десять формул» (dix formules). В сущности, Брёй рассмотрел эту особенность Гаргаса в своем исследовании 1907 года «Вторая кампания в расписанных пещерах Ньо (Арьеж) и Гаргаса (Верхние Пиренеи)». Именно там Брёй и Картайак связали увечье как с жертвоприношением, так и с магией. Леруа-Гуран предлагает рассматривать покалеченные руки лишь в свете разрабатываемой им теории магии. Он, правда, отмечает, что еще Ж.-А. Люке в исследовании «Искусство и религия ископаемых людей» (Luquet G.-H. Art et Religion des hommes fossiles, 1926) предполагал, что человек палеолита использовал разбросанные по стенам сгорбленные фигуры со следами увечий по следующим четырем причинам: 1) в связи с жертвоприношениями; 2) как результат патологий, в том числе врожденных; 3) вследствие простого наклона тела; 4) в связи с магией (вот этого мнения с 1960-х годов и придерживается Леруа-Гуран).
Одна из особенно примечательных черт доисторических изображений рук (искалеченных или нет!), которые мы находим в этих публикациях, состоит в том, что они зачастую накладываются на изображения животных, например бизонов.
Позвольте мне предположить здесь, что такое наложение представляет собой либо источник, либо примечательную точку сравнения с монтажной фразой в «Стачке», которая, напоминаем, использует руки и забиваемых животных как отдельные элементы; то есть вы видите на экране вскинутые руки, смонтированные с кадрами бойни. Монтаж здесь выстраивает два компонента доисторических наскальных рисунков во временную последовательность, чтобы добиться кумулятивного эффекта, так как одно изображение вновь накладывается на другое в сознании зрителя. В том-то и состоят смысл и форма монтажа – графическое впечатывание в сознание. Вероятно, мы могли бы сказать, что находим в этих публикациях буквально археологию эпизода из «Стачки» – графические следы трудов Брёя и Картайака, которые донесли до Эйзенштейна открытия в пещерах (возможно, он увидел их позже), а затем образовали нечто вроде почвы, какую мы можем ощутить как часть связанных цепочек образов и жестов.
Эта археология кадра может показаться слишком умозрительной, зависящей от того, повлияли ли и каким образом или же не повлияли труды Брёя на воображение Эйзенштейна в 1920-е годы. Тем не менее, то, что позволяет нам думать так об этой монтажной последовательности кадров, странным образом исходит от самого Эйзенштейна. Правда, он писал о значении рук из палеолитических пещер не в 1920-е годы, но в 1948 году, то есть почти через двадцать лет после рассматриваемого нами периода. В заметке, сделанной в этом году, мы находим список различных элементов, чей организующий принцип, похоже, основан на концепции печати. Эйзенштейн перечисляет примеры отпечатков, отсылающие к самым ранним предшественникам современной прессы. Вот этот список:
«Непосредственный отпечаток.
Отпечаток руки в пещерах.
Оттиск с резной доски в русском печатном прянике.
“Возрождение” непосредственного отпечатка. Автограф и его предел.
“Китайский театр” Сида Граумана в Холливуде и отпечатки рук и ног знаменитостей.
Доски для татуировки.
“Трафареты”»197.
Перечень этот выявляет целую морфологию различных видов отпечатков в широком временном и пространственном диапазоне. Хотя список может показаться немного бессистемным, учитывая его хронологию и географию, он зиждется на базовой последвательности – охватывает период от ископаемых оттисков до отпечатков рук в пещерах, ведет затем к пряникам и «Китайскому кинотеатру» Граумана: траектория объединяет доисторические пещеры и кинотеатры, и везде изобилуют руки.
Однако эту хронологию любопытно рассмотреть и в обратном порядке, поскольку два последних пункта, похоже, отсылают нас назад, к обсуждению татуировок и, наконец, «трафаретов».
Напоминаем, что последняя форма, на которой Эйзенштейн подробно не останавливается, была, как считается, одним из методов, позволивших делать отпечатки в пещерах (напыление охры на руку, чтобы запечатлеть ее на стенах пещеры). В этом отношении «отпечатки рук в пещерах» дают Эйзенштейну глубокий исторический прецедент для мириад подобных феноменов. Но их всех соединяет в его сознании восприятие на основе концепта прафеномена (Urphänomen). Глядя на изображения рук в пещерах и на более ранние ископаемые отпечатки, Эйзенштейн увидел в них свидетельство глубоко человеческой потребности зафиксировать феномен.
Urphänomen искусства: Герберт Кюн и линия
Антонио Сомаини продемонстрировал на основе заметки Эйзенштейна от 1946 года, как в ходе всех его размышлений мы постоянно находим стремление фиксировать или закреплять феномены. Мы различаем это стремление в широком морфологическом массиве. А подкрепляет этот массив, как отмечает Сомаини, концепция прафеномена. Генеалогические корни этой концепции простираются как минимум к Гёте, для которого Urphänomen служил «путеводной нитью в лабиринте различных живых форм». И отслеживая, как эта концепция постоянно пронизывает мышление Эйзенштейна, Сомаини пишет, что Эйзенштейн ищет «изначальное» измерение, способное объяснить череду исторических проявлений: «Пра-стремление (Urtrieb) заменяет здесь пра-феномен (Urphänomen). Немецкое слово Trieb, эквивалент стремления, совершенно очевидно является отсылкой к Фрейду и психоанализу, оно определяет стремление (urge) как бессознательное побуждение или импульс – то, что на протяжении всей истории толкает человека к поискам ответной реакции весьма разнообразными путями: от создания произведений искусства до рождения детей»198.
Я хотел бы попытаться последовать за замечанием Сомаини о том, что «поиски Эйзенштейном urge и Triebe – которые определили, в долговременной ретроспективе (longue durée) истории средств коммуникации, возникновение кинематографа, отвечавшее той же фундаментальной потребности, – можно сравнить с современными попытками выстроить антропологию образов и медиа (средств коммуникации)»199. Более ранним высказыванием о подобной longue durée является пассаж Кюна в «Искусстве первобытных народов» («Die Kunst der Primitiven»), где мы находим описание доисторического искусства как явное доказательство прафеномена искусства.
Древнейшие артефакты показывают происхождение этой способности и этого стремления к фиксации. Кюн обращается к исходной точке прафеномена искусства, сравнивая искусство палеолита и искусство так называемых бушменов. Со смесью восхищения и не всегда скрытого шовинизма, Кюн обращает свое внимание на недавние находки первобытных произведений:
«Они всегда и во все времена будут вызывать изумление мира, их тонкость и завершенность, их колоритность и художественная выразительность будут вечно поднимать великий вопрос о прафеномене искусства. Как стало возможным, чтобы народ, который едва перерос животное состояние, развил такое искусство? Как это мыслимо, чтобы искусство во всей своей силе и красоте предвосхитило культуру? Искусство не есть нечто производное или искусственно образованное – оно само есть Первоэлемент (das Elementarste), такой же извечный, как религия или право, более изначальный, чем язык. Искусство – это начало культуры, начало человеческого бытия вообще»200.
Возможно, это лишь мои предположения, но что потрясает в данном отрывке, так это движение в сторону соображений, которые в своей самобытной манере развивал Эйзенштейн: различные изначальные формы служат прафеноменом для более поздних способов выражения. Кюн же считал, что само искусство было сущностным прафеноменом, вызвавшим более поздние способности, такие как речь.
Если Кюн мог послужить Эйзенштейну одним из источников для осмысления Urphänomen’а, то другим было особое внимание к ценности грота Комбарель; ибо он сам тоже фокусировался на специфике первобытных стоянок и значении запечатленных там изображений. (Вспомним, что Эйзенштейн, возможно, посетил одну из них, и он точно читал о них у Брёя.) Специалисты считали примечательным, что животные в гроте Комбарель были всегда изображены в профиль, что доказывало появление в доисторические времена линии. Поразительно, что Кюн прямо говорит о статусе линии и контура, – оба этих термина окажутся центральными в эйзенштейновской концепции искусства и его истории – и именно в связи с Комбарелем. Размышляя о значимости найденных там наскальных рисунков, Кюн пишет знаменательную фразу: «Линия полностью завоевала жизнь, контур пробудился»201. С линии начинается освоение жизни, она делает это освоение возможным – Кюн понимает потребность в изображении как потребность в освоении, в придании миру вида и формы. Примечательно, что здесь линия и контур – предметы не только искусствоведческие и формальные, за ними совершенно определенно маячат мотивы ритуалов и магии, а также обширный вопрос о человеческой природе и ее устремлениях.
Мне кажется, именно это было важно для Эйзенштейна, и, вероятно, об этом он размышлял в связи с Кюном – а именно о том, как воспринимается своего рода череда отпечатков, которую мы рассматривали ранее. Другими словами, он думал о взаимодействии прафеномена и медиа с категорией времени. Поэтому мы можем рассматривать труд Кюна как одну из моделей для обобщающих размышлений Эйзенштейна об этапах развития медиа.
Здесь мы можем положиться на мнение по этому поводу Юрия Цивьяна. Как он заметил, «согласно теории Эйзенштейна, жест – это прототип выразительности, который находится в распоряжении лишь человеческой культуры. В соответствии с этой теорией постепенного, поэтапного развития, вначале было не слово, а движение; после движения, в качестве его следа, возникает линейный рисунок; и лишь затем, как вербальный слепок движения, – искусство риторики и литература»202. Получается, эта схема похожа на то, как специалисты по доисторической эпохе рассматривают искусство далекого прошлого, которое они аналогичным образом отслеживают как идею простых этапов – от отпечатков руки до линейного рисунка и в итоге до кинематографа.
Эйзенштейн подчеркивает важность линии – или линейного рисунка – во всей литературе того времени о первобытном обществе. Он ссылается на наскальные рисунки, обсуждая произведения широкого круга художников, в частности, вспоминая о Хокусае, «писавшем на площади метлой, а увидеть изображение можно было лишь с крыши пагоды», ссылается на карикатуры Сола Стейнберга и... на норвежские петроглифы, которые, подмечает он, «в большинстве случаев по размеру равны оригиналу – зверю!»203
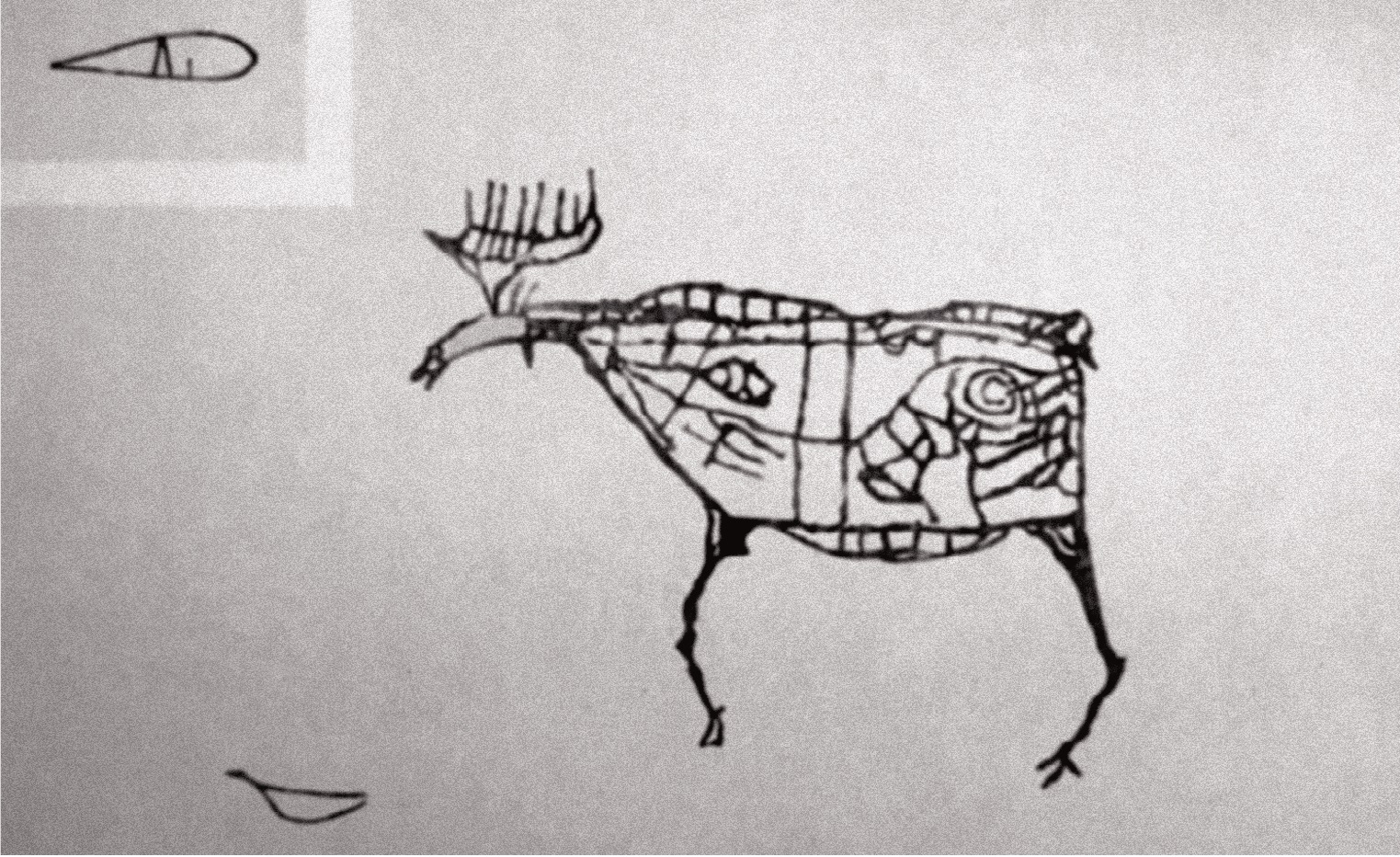
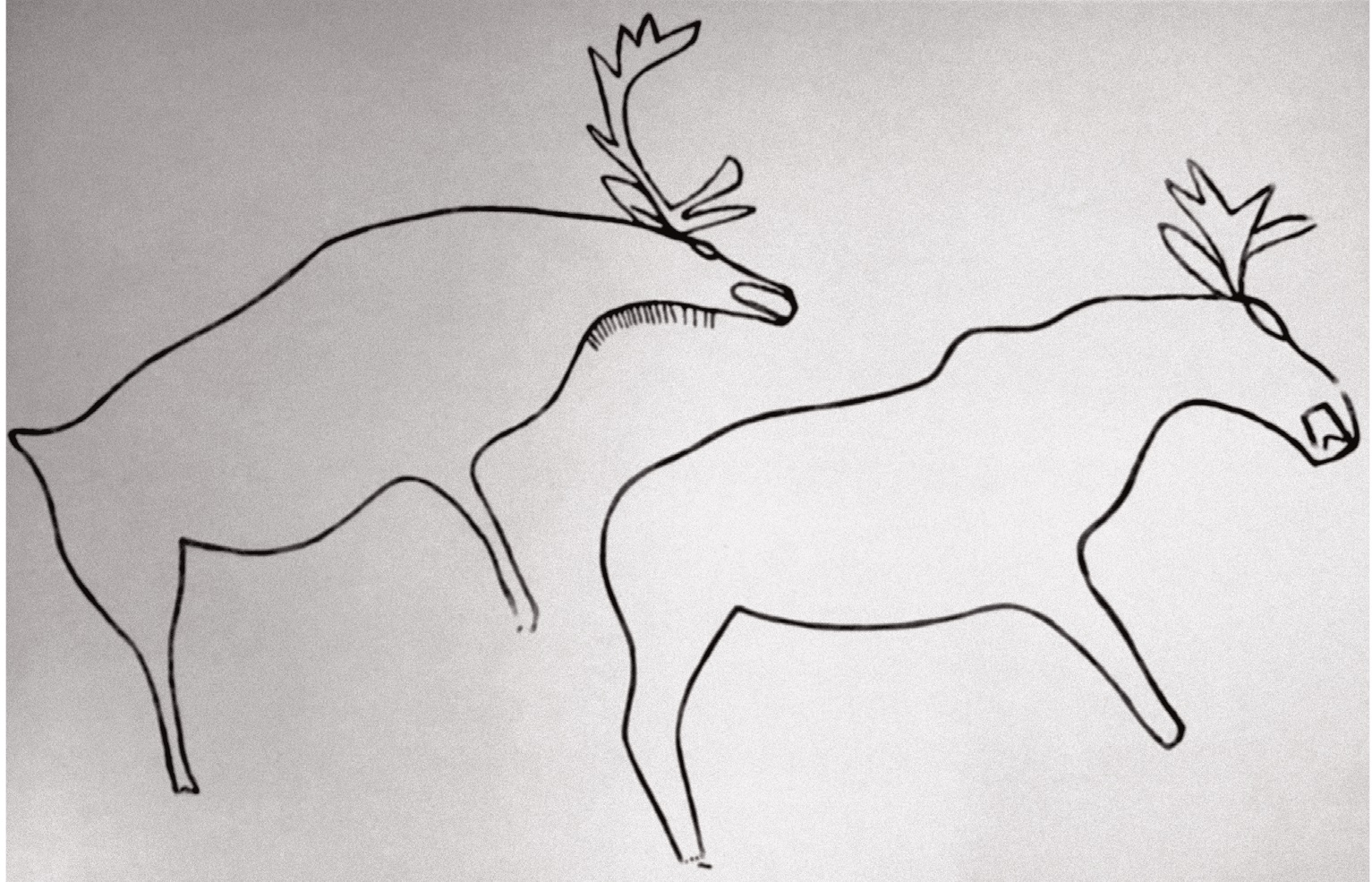
Петроглифы Северной Европы
В сущности, мы могли бы задержаться здесь, чтобы рассмотреть источники понимания Эйзенштейном норвежского искусства, используя замечательное издание Халлстрёма «Монументальное искусство Северной Европы с каменного века», с впечатляющим количеством крупноформатных карт и репродукций рисунков. Интересно, что в этой книге Эйзенштейн должен был найти знакомое имя: Брёй написал к ней предисловие.
Как замечает в нем Брёй, петроглифы демонстрируют «талант к восприятию формы и гений к ее воспроизводству»204.
Нет ничего важнее для Эйзенштейна, чем идея восприятия формы: на ней будет основана его антропология – в сущности, даже его оценка антропогенеза, что мы увидим на оставшихся страницах этого эссе.
Линия Эйзенштейна
Во многом из того, что я пытался сформулировать, можно увидеть разные стороны: источники для размышлений Эйзенштейна; его взгляды на примитивное и первобытное искусство; свидетельство широты его исследований в области искусствоведения. Сейчас я должен отметить, что в 1930 г. его устремление к первобытному искусству достигло наивысшей точки.
Мы знаем это из высказывания, сделанного Эйзенштейном за несколько месяцев до посещения долины Везера. Он сформулировал в нем связь между кино, магией и религией: «В былые времена, во времена господства магии и религии, наука была одновременно эмоциональным элементом и элементом, который духовно целиком поглощал людей. Ныне произошло разделение, и теперь существует умозрительная философия, чистая абстракция и чистая эмоция.
Мы должны вернуться к прошлому, но не к примитивизму, в основе которого была религия, а к синтезу эмоционального и духовного элементов. Думаю, что только кино способно достигнуть этого синтеза»205.
И лишь несколько месяцев спустя Эйзенштейн смог, наконец, лично соприкоснуться с самым ранним этапом творчества древних людей и воочию узреть доисторическую аналогию с кинематографом в пещерах Везера, чарующие стены которых до тех пор он мог наблюдать лишь в трудах Брёя и других специалистов по первобытной эпохе.
1930-е годы представляют собой первый важный период увлеченности Эйзенштейна праисторией. Теперь пора вновь вернуться к тому, что уже многократно появлялось на этих страницах, – к периоду 1940-х, когда он занялся более подробным исследованием доисторических форм. Тут Эйзенштейн выделяет из большого числа первобытных способов обозначения явлений петроглиф, который затем связывается с общей попыткой – это и есть его эстетическая антропология – сгенерировать «плоское изображение». Позвольте мне процитировать одну за другой несколько таких заметок, отображающих глубину и точность наблюдений Эйзенштейна на этот счет: «Обведенный рукой абрис реального предмета или силуэта тени как первая попытка механизировать отражение реального облика. Большая доля механизированной части этого процесса, как во всех мануфактурных (кустарных) стадиях техники. (Наскальное изображение. Профильные портреты XV века типа Доменико Венециано. Силуэты. Портреты конца XVIII – начала XIX века)».206
«Кинематограф как наиболее полный технический автоматоскоп сколка с явления отражения действительности, лежащего в основе формирования и становления человеческого сознания»207.
«Хроника – стадия художественного фильма. Начальная.
Совершенно так же, как наскальное изображение и орнамент – стадия будущего изобразительного искусства»208.
«Обвод явлений (зверь) и одновременно же дифференциация обвода и поверхности: перенос обвода на стену (скала)».
«Обследование себя обводом и зачерчивание контура на себе → магическая пририсовка (мужских элементов к женским и женских к мужским)»209.
Надеюсь, мне удалось, затронув различные источники увлеченности Эйзенштейна праисторией, придать больший резонанс различным пунктам его списка. Каждая из этих категорий – петроглифы, линейные рисунки, феномены очерчивания, контуры от руки – была значимым объектом его размышлений о доисторической эпохе.
В одном из вышеприведенных отрывков я хотел бы подчеркнуть мысль Эйзенштейна о феномене «отражения действительности, лежащего в основе формирования и становления человеческого сознания». Он намекает здесь на функцию формы и передаваемого ею образа в связи с зарождением сознания; и эти идеи можно рассматривать на фоне трудов Брёя (относительно формы) и Кюна (относительно линии). На мой взгляд, примечательно то, что на этой стадии увлеченности он стремится вписать искусство в общее видение человеческого антропогенеза, объяснить, как, например, линейный контур представляет собой основополагающее начало самого процесса познания, который впоследствии приведет к кино.
На страницах своих «Заметок» Эйзенштейн будет стараться не только показать «место кинематографа в общей системе истории искусств», но в то же время наглядно представить глубинную историю искусства и его роль в формировании сознания. Может показаться, что речь идет о поступательном движении от доисторического общества до кинематографа вообще. Но в его размышлениях можно ощутить также встречное движение: кино для него вовсе не является отменой предыдущих форм «за ненадобностью по их старости», скорее оно служит вместилищем прошлого, так же как и посредником, способным спустить с привязи атавистические силы, заключенные в этих формах прошлого.
Какую историю искусства пишет Эйзенштейн? Чем является затеянная им историография, связывающая кино и другие виды искусства, в более широком смысле?
По мере того как мы проникаем в круг его чтения о первобытном искусстве и изучаем его личный опыт встреч с артефактами из глубочайшего прошлого, Эйзенштейн выдвигает перед нами задачу постоянно исследовать собственно архетипы древности, способные говорить сами за себя.
/ Хокан Лёвгрен /

Хокан Лёвгрен (Håkan Lövgren) – независимый исследователь кино, переводчик и фотограф, работающий в Швеции и США. Степень бакалавра по истории искусств и сравнительной филологии получил в Индианском университете, степень магистра по истории и теории кино – в Бостонском университете, степень доктора по философии и по славянским языкам – в Стокгольмском университете. На основе его диссертации была издана книга «Лабиринт Эйзенштейна. Аспекты кинематографического синтеза искусств» («Eisenstein’s Labirinth. Aspects of a Cinematic Synthesis of Arts» (Стокгольм, 1996)). Его исследования, сочинения и переводы сосредоточены в основном на творчестве Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского и Александра Сокурова. Среди переводов – сценарий фильма Тарковского «Жертвоприношение» (на шведский и английский языки) и его книги «Запечатлённое время» и «Мартиролог» (на шведский). Также работал куратором архива Фонда Ингмара Бергмана в Шведском институте кино в Стокгольме.
«Октябрь» Эйзенштейна: о кинематографической аллегоризации истории
...аллегории – естественные отражения идеологии.
Ангус Флетчер, «Аллегория»
«Октябрь» (1927–1928) – это чествование Сергеем Эйзенштейном десятилетней годовщины Октябрьской революции 1917 года или, как некоторые предпочитают называть ее, большевистского переворота, основанное на свидетельстве американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» (1919). С точки зрения замысла, это самый изощренный немой фильм Эйзенштейна, который пытался воплотить на экране теорию интеллектуального монтажа, то есть, в сущности, метод аллегории, предназначенный для того, чтобы страстно и убедительно представить марксистские и революционные идеи. «Октябрь» можно в каком-то смысле рассматривать как крайнее проявление периода «кинематографа многоточечной съемки», как Эйзенштейн называл эру немого монтажного кинематографа двадцатых годов, так как этот фильм, в сущности, ставил своей задачей преодоление обычного повествования в пользу тезисного изложения конфликтующих идеологических понятий210. Конечная цель эйзенштейновской теории интеллектуального монтажа включала полное рациональное объяснение и контроль над реакциями кинозрителей. Хотя сам режиссер настаивал на том, что в этом фильме интеллектуальный монтаж реально применяется в довольно ограниченном числе случаев211, для «Октября» характерна культура, стремящаяся к тому, что Ангус Флетчер называл высшим уровнем аллегории: «символизм, который передает действие рассудка»212. Форма, построенная на тезисе и антитезисе – политическом конфликте между правительством Керенского и его сторонниками с одной стороны и большевиками – с другой, – преобладает в фильме, начиная с массовых сцен и заканчивая поведением отдельных персонажей, изображенных с помощью характерного для Эйзенштейна «типажного» подбора исполнителей.
Подход режиссера к теме с помощью интеллектуального монтажа явно должен был опровергнуть или уничтожить любые сомнения зрителя касаемо логики и цели революционного исторического развития, которое он показывал. «Аллегорическое мышление» в «Октябре» стремилось разработать некую стратегию, направленную к простоте замысла, сродни тому, что описывал Флетчер: «Аллегория не признает сомнений; вместо них ее загадки демонстрируют одержимую борьбу с сомнением. Аллегория не принимает мир опыта и ощущений; она цветет на их свержении, заменяя их идеями. При этом аллегория отталкивается от мимесиса и мифа, и в любом из этих случаев ее задачей представляются четко логически обоснованные “аллегорические уровни значения”. Эти уровни – двойная цель эстетической видимости; они являются ее задачей, а ее ритуализованная форма должна извлечь из читателя некую реакцию истолкования. В то время как простой сюжет может остаться закрытым для образованного читателя, а миф – непостижимым для любого читателя вообще, аллегорические соответствия открыты любому, кто обладает навыками дешифровки. Таким образом, как ни странно, аллегорическое намерение в целом оказывается вполне простым. Но так как внутри фабулы всегда возможно появление мифических и миметических вкраплений, оказывается, что всегда могут возникнуть проблемы истолкования специфики замысла любого конкретного произведения»213.
Другими словами, аллегория – это система понятийного контроля, которая имеет тенденцию к «утечке», она позволяет нарративным и мифическим «примесям» вмешиваться в процесс адекватной интерпретации аллегорического произведения и в конечном итоге побуждает к неоднозначности его прочтения. При интерпретации фильма Эйзенштейна современные ему советские критики признавались в проблемах толкования, которые можно отнести на счет нехватки навыков расшифровки у рабочего зрителя в сочетании с изначально «утекающими» или «неоднозначными» качествами монтажно-интеллектуальных комплексов его революционно-пропагандистского карнавала.
Персонажей и «сцену» «Октября» можно метафорически описать как гигантскую партию социально-политических шахмат, в которой побеждает лучше организованная и наиболее беспощадная сторона214. Ритуальность классовой борьбы в истории по-марксистски, где правила установлены заранее и развязка если и не неизбежна, то, по крайней мере, предугадываема, отражается в фильме в том, как представители социальных классов и политических групп «белых» или «черных» (в данном случае, «красных») одерживают победу над «фигурами» друг друга. Важная тема в художественном воплощении такого классового конфликта – это динамическое взаимодействие между людьми и памятниками (чаще всего в определенной архитектурной обстановке) или статуэтками, нечто вроде метаморфозы живой и неживой материи со сравнением и обменом между этими двумя категориями. Вытеснение устаревшей политической системы новой и жизнеспособной аллегорически отражается в этих любопытных взаимоотношениях между живыми существами и их неживыми, хотя порой и оживающими скульптурными воплощениями.
Для Эйзенштейна развитие искусства в целом и кинематографа в частности было само по себе «аллегоричным», т. е. представляло собой процесс, параллельный или соответствующий историческому процессу, который непреодолимо и совершенно закономерно ведет к коммунизму путем социалистического развития. Задача Эйзенштейна, как он ее себе представлял, состояла в том, чтобы придать художественную форму этому историческому процессу, ведущему к бесклассовому обществу, форму, которая опять же отвечала бы аналогичной «закономерности» в эволюции и развитии искусства, вершиной которого режиссер естественно считал советскую кинематографию. В этом ходе событий Эйзенштейн видел «массовый фильм» как «новую поступательную фазу театра на площади»215. Самым знаменитым примером такого монументального уличного театра была массовая постановка Николая Евреинова на открытом воздухе, состоявшаяся в 1920 году, – «Взятие Зимнего дворца». Хотя Эйзенштейн мог считать представление Евреинова последним вздохом символистских мечтаний, которые полностью утапливали реальность в театральности и создавали ритуальный народный театр, сама структура этого массового зрелища вполне могла повлиять на разработку «Октября». В интервью газете «Жизнь искусства» (30–31 сентября 1920 г.) Евреинов заявлял: «Действие будет проходить не только на сценах, но и на мосту между ними и на площади, через которую будет пробегать Временное правительство в попытке сбежать от преследующего его пролетариата, а также в воздухе, где будут летатьсамолеты и звучать колокола и заводские гудки.
Помимо десяти тысяч исполнителей – актеров и людей, мобилизованных из красноармейских и военно-морских драмкружков, – в постановке примут участие и неживые персонажи.
В действие вовлечен и сам Зимний дворец, как своего рода актер, как грандиозное действующее лицо, которое выражает в мимике свою внутреннюю жизнь. Режиссеру следует позаботиться о том, чтобы и камни заговорили, чтобы зритель почувствовал, что происходит там, за этими холодными, красными стенами. Мы нашли оригинальное решение этой проблемы, воспользовавшись кинематографическим приемом: каждое из пятидесяти окон первого этажа по очереди покажет один из моментов идущего внутри дворца сражения»216.
Мы можем лишь предполагать, какое именно влияние эти драматургические решения оказали на появление и развитие киномонтажа, но в «Октябре» Эйзенштейн действительно дал возможность камням и другим «неживым персонажам» Зимнего дворца и его окрестностей стать живыми – так, как Евреинову сделать не удалось. Однако после завершения периода «военного коммунизма» (1917–1920) массовые действа евреиновского формата стали реже, их сменил более рациональный и прагматичный подход к театру, который переместился обратно на меньшие сцены. Новый подход был методом, направленным к максимизации воздействия зрелища на образцовую и обобщенную аудиторию идеальных зрителей из рабочего класса217. Это составляло контекст эйзенштейновского манифеста 1923 года «Монтаж аттракционов», а также его работ «Монтаж кино-аттракционов», «К вопросу о материалистическом подходе к форме» и «Метод постановки рабочей фильмы», написанных в течение следующих двух лет.
***
В 1927 году акцент снова был сделан на преобразовании человека и массовой культуры. На майском собрании Ленинградского агитпропа театру вновь доверили играть значительную роль во все более утилитарном и агитационно-ориентированном подходе к культуре. Массовые зрелища опять стали считаться воздейственными, и одним из первых таких зрелищ стала юбилейная постановка «Десять лет» под руководством нескольких ветеранов представления 1920 года, включая Сергея Радлова, Адриана Пиотровского и Николая Петрова в качестве режиссеров и сценаристов. Однако на этот раз спектакль был организован на другом берегу Невы, напротив Зимнего дворца, а тон выступлению задавался не количеством участников, а пространственным масштабом и разворотом действа. «Зрители растянулись на полтора километра, – пишет Катерина Кларк. – Уникальной была и “сцена” “Десяти лет”. Если для “Взятия Зимнего дворца” на Дворцовой площади соорудили две платформы и соединили их чем-то вроде моста, то для “Десяти лет” строить ничего не пришлось. Художник-постановщик Валентина Ходасевич превратила в “просцениум” Неву, “основной” сценой стала Петропавловская крепость, “задней сценой” – Монетный двор, а “кулисами” – Кронверкский пролив. В “зрительном зале”, таким образом, оказалось “все население Ленинграда”»218.
Как следствие, пространство для игры значительно расширилось, и театр массового действа претендовал теперь на довольно большую часть города. Сцена и задник уже не были специально сконструированы, а «экспроприированы» из существующего архитектурного и городского пространства Ленинграда. На это пространство так же в значительной степени опирался Эйзенштейн в своей версии революционных событий. Однако большая часть действия «Октября», естественно, сосредоточится в районе Зимнего дворца и Дворцовой площади, где архитектура, архитектурные детали, памятники и статуэтки были сознательно превращены в аллегорических участников битвы за революционную власть, «последний и решительный бой», как заявляет цитата из «Интернационала» в одной из надписей в фильме.
«Благодаря уже одному только своему весу, – пишет Гилель Шварц, – колоссы утверждают, что кто-то состоялся, своим присутствием они поддерживают неискоренимость власти». Этим колоссам Шварц противопоставляет «миниатюры, утонченные, с шутливостью в характере, [которые] выводят нас к иным возможностям, к будущему исправимому времени. Египетские куклы, римские марионетки, манекены на шарнирах в мастерских художников эпохи Возрождения были скорее не массой, а энергией, всегда меняясь местами, подвергаясь изменениям или обмену. Масштаб миниатюры поощряет спонтанные привязанности, обмен шутками, фантазии. <...> Колосс полностью зависит от внешнего сюжета; миниатюра – это та фигура, с помощью которой мы вступаем в сговор со своими приукрашенными двойниками»219.
Замечания Шварца интересны в связи с тем, как Эйзенштейн в своем фильме использует памятники и статуэтки. В нем заметна похожая стратификация «колоссов» и «миниатюр», противостояние мира «активного действия», «мужских» поступков в царствах гигантских статуй, колонн, неподвижных сфинксов и интимной, «женственной», устаревшей сферы царской власти и реформистской политики – заменимым существам, – так что манипуляция статуэтками, механизмами и безделушками императорского внутреннего дворцового пространства говорит о бессилии во всех смыслах этого слова.
В симфонической структуре «Октября» большое значение имеет бравурное начало. Открывающая фильм череда средних и крупных планов, в которых «пешки» идут прямо на «короля», показывают торс императора и знаки имперской власти в руках царя – статуи сидящего Александра III220. Гневные толпы Февральской революции поднимаются по ступеням, ведущим к памятнику, к великодержавному властелину приставляется лестница, и проворные рабочие и крестьяне забираются на туловище, конечности и голову статуи, чтобы прикрепить к ней тяжелые канаты. Многочисленные веревки вокруг царя, который выглядит как плененный Гулливер, натягиваются и затягиваются, словно толпа готова свалить его. Следующий кадр показывает леса поднятых кос, явно символизирующих крестьянство, за которым следуют кадры так же вертикально поднятых винтовок, указывающих на «измученных войной» солдат. Затем мы видим, что памятник загадочным образом начинает распадаться без следов веревок или людей вокруг него. Он разваливается по частям, раскрывая банальные строительные леса, подпирающие его. В последующих кадрах представители буржуазии выражают радость, кадило качается из стороны в сторону, и православный священник служит литургию. То, что мы наблюдаем в этом эпизоде, является, по сути, жестокой атакой на памятник Александру III и его последующее удивительное самоуничтожение221. Форма этого самоуничтожения, в свою очередь, обуславливает метафорическое переворачивание процесса в одной из более поздних частей фильма – чисто «кинематографическую» реконструкцию памятника как символ политической реакции.
«...Интересно, что нас по-прежнему привлекают изображения толп, атакующих гигантские статуи мертвых диктаторов, – замечает Кеннет Гросс, – памятники, которые обретают поразительную, хотя порой и отчаянную живость в самом процессе слома, свержения, повешения, сожжения, уничтожения лица; насилие над такими статуями как бы становится аспектом их необычной жизни»222. Его точка зрения заключается в том, что атака на памятник, попытка демистифицировать «магическую власть» идола над своими подданными приводит к повторному мистифицированию или наделению таинственностью этой самой силы, а также мотивов, которыми руководствуются сами нападающие: «Поскольку иконоборческая позиция зависит от ее собственной снижающей, проецирующей пародии на идолопоклонство, а также от радикального мистифицирования власти, которая отменяет это идолопоклонство, разуверения, которые предлагает текст, по-прежнему сбивают с толку своей неоднозначностью. Одним из результатов этой неоднозначности является то, что “враг”, как правило, изображается как своеобразная смесь идола и демона, как нечто одновременно мертвое и жутко живое»223.
В этом взаимодействии возникает любопытная разновидность «заражения», качества теряются и переносятся; неодушевленные предметы оживают, а живые существа обращаются в камень. «Сон о движущейся статуе» Гросса в первую очередь акцентирует внимание на фантазиях об оживающих памятниках в произведениях литературы. Неудивительно, что он уделяет значительное место в своей книге анализу самого известного вклада Александра Пушкина в этот жанр, «Медного всадника» (1833), а также анализу эссе Романа Якобсона «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» (1937). Любые художественные попытки рассмотрения темы «оживших» памятников русских исторических властителей, такие как «Октябрь» Эйзенштейна, неизбежно должны будут коснуться текста Пушкина224. Такие произведения искусства также должны рассматриваться в свете традиционного спора об иконоборчестве и неоднозначного отношения к идее репрезентации в русском религиозном искусстве – то есть в свете того факта, что, в семиотических терминах, «означаемое» по-прежнему потенциально живо в «означающем», что «объект скульптуры» может оставаться частью «скульптуры», что может сохраняться основа для идолопоклонства. Таким образом, с точки зрения размышлений Гросса, демонтируя памятник, а затем снова его восстанавливая, Эйзенштейн, кажется, парадоксальным образом вкладывает в него больше энергии и жизни, чем он обладал, пока его никто не трогал. Эйзенштейн, так сказать, пробуждает в памятнике спящего демона. Тем не менее, деконструкция и реконструкция Эйзенштейном памятника Александру III в «Октябре» – не просто искусная политическая метафора. То, как памятник показан, то, что он оживает в момент, когда разваливается на куски, окрашивает восприятие всех последующих взаимодействий и сопоставлений образов скульптуры/безделушки/миниатюры и женщины/мужчины/живого существа.
Давайте посмотрим кадры, следующие сразу за пулеметным расстрелом демонстрантов, на этот мастерски смонтированный эпизод, начинающийся с титра «Спасая знамя» и заканчивающийся примерно на аресте Первого пулеметного полка. Этот эпизод был едва намечен в первоначальном сценарии, но его художественная разработка и энергия, которые ему придал Эйзенштейн, подчеркивают, как представляется, его важность в фильме. Молодой знаменосец-большевик пытается сбежать от полиции, преследующей его вдоль набережной Невы. Следует длинная серия средних и крупных планов. Юноша останавливается, озираясь вокруг, между сфинксоподобным гранитным бюстом фараона и большой урной, предположительно, из того же материала – фрагментами убранства набережной. Следующий кадр – демонстранты, разбегающиеся под пулеметным огнем, а затем – снова на экране юноша со знаменем. Потом мы видим кадр с большевиком и закругленным предметом с поверхностью, напоминающей узор урны, – зонтиком; это переход, как выясняется, от гранита к ткани и к людям за ней. Значение этой короткой серии монтажных переходов может заключаться в том, что бесстрастное каменное лицо деспотизма внезапно оживает (гранитный фараон – король в нашей политической шахматной игре), приобретает живого представителя в лице флиртующего кадета, который начинает атаку на знаменосца, вовлекающую в себя других представителей буржуазии, и ведет к мученической смерти юноши. Он умирает, как святой Себастьян, заколотый разгневанными буржуазными дамами, чье кружевное нижнее белье и пышная одежда делают из них маловероятных бойцов. Эпизод с мучеником монтируется параллельно с эпизодом с разводным мостом, в котором погибает другая участница демонстрации и белая лошадь, – при этом лошадь, юноша, а также знамена и номера газеты «Правда» символически поглощаются невскими водами. В конце эпизода Эйзенштейн показывает разведенный мост и скульптуру, равнодушно взирающую на происходящее. Есть также два разных крупных плана одного и того же недвижимого гранитного фараона, которые помещены в начале всей сцены «Реакция победила». Иными словами, весь эпизод «обрамляется» или открывается и закрывается историческими скульптурными предметами, по-видимому, отождествляющими «буржуазию и армию Керенского» с деспотической царской властью, которая была свергнута февральскими событиями225.
Если этот фрагмент показывает взаимодействие с колоссами, неподвижными статуями, которые «состоялись», заняли постоянное (политическое) место, то эпизод с мрачным Керенским в кабинете Александра III, где глава правительства сопоставляется с гипсовой статуэткой Наполеона и армией игрушечных солдатиков, соответствует мысли Шварца о статуэтках или скульптурах, меняющихся местами как друг с другом, так и с людьми и, таким образом, вступающих в некие взаимоотношения. Когда Шварц говорит о статуэтке как о «той фигуре, через которую мы вступаем в сговор со своими приукрашенными двойниками», он, по-видимому, намекает на определенную интимность. В фильме крупные планы Керенского, который возится с состоящим из четырех частей графином и пробкой в форме короны, крупные планы игрушечных солдатиков, серия кадров религиозных статуэток в эпизоде «Во имя Бога и Родины», многочисленных предметов в императорской спальне и т. д. и т. п., имеют ауру интимности, порождающую любопытство, даже, возможно, определенное сопереживание благодаря своей чувственной непосредственности. Возникает ощущение двусмысленности, и признавая, что такое ощущение является в фильме последовательным и повсеместным, приходится считать его неэффективным в попытке Эйзенштейна развенчать эти объекты и образы и все, что с ними ассоциируется.
Снос памятника Александру III в фильме – поразительный визуальный образ русского выражения «свергать с престола». То, что тема престола и свержения с него является важной в построении Эйзенштейном этой сцены, становится ясно из-за того, что памятник на самом деле не стягивается вниз толпой с веревками. Вместо этого, как мы уже указывали, Александр таинственным образом распадается, обнаруживая свое полое кресло-фундамент, а затем опрокидывается путем типичного эйзенштейновского тройного кадра с повторением, частичным перехлестом и резкими монтажными склейками. Таким образом, показываемый позже кадр с обратной съемкой падающего и разваливающегося на куски памятника оказывается свободен от движущихся задом наперед людей и сковывающих движение веревок – они ослабили бы метафорический эффект, который должен иллюстрировать политическую реакцию в момент Корниловского выступления. Тема трона, очевидно, заставила Эйзенштейна выбрать памятник Александра III, находившийся в Москве, а не его конную статую в Петрограде/Ленинграде, которая могла бы привести к нежелательным ассоциациям с памятником работы Фальконе – с агрессивным и, в глазах большевиков, возможно, также прогрессивным царем, Петром Великим.
Символическая серия различных стульев/кресел/тронов, идущая через весь фильм, иногда совпадающая и пересекающаяся с разнообразными увенчанными короной предметами, птицами и людьми, представляет собой мощный аллегорический кластер. Можно сказать, что конкретные объекты для сидения, которые использовались монархами, образуют нисходящую серию как по высоте, так и по статусу, – от приподнятого положения памятника Александра III до ночного горшка на уровне пола в дворцовой спальне Николая II. Более конкретная царственная и религиозная тема трона, т. е. свержение памятника сидящего Александра, пустое кресло, оставленное Керенским в царских покоях, и захват трона Петра маленьким мальчиком в конце фильма, – может быть связана с идеей цареубийства и отцеубийства, а также с образом второго пришествия и с иконическим изображением Троицы. Первые две темы постоянно повторяются в алхимических мифах и широко распространены в теории психоанализа; пустой стул или трон – символ Бога или второго пришествия в византийском искусстве, а Троицу иногда изображают как Отца, Сына и Святого Духа, одновременно сидящих на троне или даже внутри него, поскольку он часто приобретает архитектурные формы и размеры. Дмитрий Попов предположил, что тема кресел или сидений в личных фотографиях Эйзенштейна в период создания «Октября» символизирует различные значения слов «победа» и «завоевание», своего рода «донжуанский список»226. В контексте фильма этот лейтмотив царских кресел, возможно, должен выражать тему мужского самовоспроизводства или оплодотворения. Озабоченность Эйзенштейна винтовками и пулеметами, изначально фаллическими символами, вкупе с женоненавистническим изображением кровожадных представительниц буржуазии и ударниц из так называемого батальона смерти, еще более подчеркивает эту тематику.
Визуальная метафора политической реакции – восстановление памятника Александру III – также является образом с мнемоническими или мнемотехническими отголосками. Это поразительный и оригинальный образ, включающий в себя «магическое» движение, которое обязательно должно произвести устойчивое впечатление на зрителя. Другие комплексы образов в фильме, такие как эпизоды «Два Наполеона» и «Во имя Бога и Родины», явно стремятся к тем же или подобным эффектам. Мнемоника всегда интересовала Эйзенштейна, который утверждал, что правила этой техники основаны на особенностях самых ранних слоев человеческого сознания. Основная идея заключалась в том, чтобы, при использовании этих правил, появление одного-единственного элемента смогло сгенерировать всю образную структуру или комплекс, к которому данный элемент принадлежал. Это была одна из любимых идей Эйзенштейна: «популярнейший художественый прием... pars pro toto». «Никто, получив пуговицу от костюма, не стал бы полагать себя одетым в пиджачную тройку, – иронизирует он. – Но как только мы переходим в сферу, где чувственные и образные построения играют решающую роль, в сферу художественных построений, это же “pars pro toto” немедленно начинает играть громадную роль. Пенсне, поставленное на место целого врача, не только целиком заполняет его роль и место, но делает это с громадной чувственной, эмоциональной прибылью интенсивности воздействия, значительно большей, чем при вторичном показе врача в целом!»227
Отмечая, что «“Pars pro toto” в области литературной формы есть то, что известно там под термином синекдохи», Эйзенштейн продолжает: «...мы здесь имеем дело отнюдь не с частными приемами, свойственными той или иной области искусства, а прежде всего с особым ходом и состоянием оформляющего мышления – с чувственным мышлением, для которого данный строй является одной из закономерностей. По-особому использованный “крупный план”, синекдоха, цветное пятно или линия – суть лишь частные случаи наличия одной и той же закономерности “pars pro toto” (свойственной чувственному мышлению), в зависимости от того, в какой частной области искусства оно служит для воплощения творческого замысла»228.
Ступени и лестницы, особенно восходящие и нисходящие фигуры, имеют большое значение в фильмах Эйзенштейна. Эти лестницы часто служат общей цели – графически обогащать кадр и динамически усиливать действие. На более абстрактном пространственном уровне или в связи с тем, что я назвал бы аллегорическим вертикальным акцентом, который включает в себя преодоление барьеров, движение по лестницам, восхождение и переход пространственных и символических границ, таких как пороги и дверные проемы, для фильма характерен символизм «преодоления порога», важный в связи с тенденциями в советском обществе того времени229. В «Октябре» присутствует чувство лабиринтообразной клаустрофобии, в первую очередь связанной с использованием архитектуры и архитектурного пространства, склонностью к жесткому контролю восприятия и пределов пространства, к «закрытию», «наслоению» кадров и ограничению видимого в целом, что, как представляется, следует из приема pars pro toto, используемого в интеллектуальном монтаже230.
***
Вопрос, который я хотел бы здесь затронуть, заключается в том, насколько взгляд Эйзенштейна на миф, аллегорию и психоаналитический образ лабиринта может быть применен к «Октябрю» и интеллектуальному монтажу, хотя он рассматривает эти понятия в основном в 1930–1940-х годах, то есть через несколько лет после того, как фильм был задуман и снят.
Что касается исторической достоверности, «Октябрь», как этого и следует ожидать, является довольно экстравагантной смесью фактов и вымысла. Первый эпизод уже был упомянут, показ штурма Зимнего дворца в значительной степени является мифологизацией, поскольку исторически атака была полностью неорганизованной, и юнкера во дворце уже сложили оружие к тому времени, когда красногвардейцы и матросы проникли в него231. Но действительно ли Эйзенштейн стремился к мифической или аллегорической форме? Был ли в его работе осознанный процесс мифологизации? В «Перспективах» (1929) (эссе, которое является попыткой суммировать идею интеллектуального кино) Эйзенштейн говорил о том моменте, когда даже самые сухие факты из лекции по математике с энтузиазмом воспринимаются аудиторией благодаря персоне или личному методу лектора: «Сухой интеграл запоминается в лихорадочном блеске глаз. В мнемонике коллективно пережитого восприятия». Ниже Эйзенштейн задается вопросом: «Где разница между совершенным методом оратории и совершенным методом постигания знаний? Дуализму сфер “чувства” и “рассудка” новым искусством должен быть положен предел. <…> Только интеллектуальному кино будет под силу положить конец распре между “языком логики” и “языком образов”...»232
В этом процессе есть только одно препятствие – то, что он называет «живым человеком», который в первую очередь связывается с исполнительской культурой Московского художественного театра, то есть с натурализмом в стиле актерской игры и мышления. Цитируя доклад Молотова о «неподходящем прогрессе» в сельском хозяйстве, Эйзенштейн продолжает: «Полонение экрана “живым человеком” было бы именно таким “неподходящим прогрессом” на путях индустриализации кинокультуры. Кинематография способна, а следственно – должна осязаемо чувственно экранизировать диалектику сущности идеологических дебатов в чистом виде. Не прибегая к посредничеству фабулы, сюжета или живого человека»233.
Это стремление очень похоже на упоминавшийся выше «символизм, который передает действие рассудка», высший уровень аллегории234. Целью Эйзенштейна в «Октябре» было представить исторический процесс, события, предшествовавшие штурму Зимнего дворца в 1917 году, в соответствии с законами исторического и диалектического материализма Маркса. Эйзенштейн не просто предложил собственное толкование революционного подъема, но постарался передать визуально (с минимумом надписей) абстрактные категории и принципы, его определяющие. Результатом стало реалистичное, ритуалистически повторяющееся и абстрагированное поведение со стороны актеров и массовки, которые, как правило, становятся ходячими идеями, фигурами или, по терминологии Эйзенштейна, типажами. Интеллектуальный монтаж, который должен создать наивысший уровень абстракции, состоит из комбинации образов диегетических (буквально, не косвенно представленных) и недиегетических, формирующих некий троп, некое метафорическое взаимоотношение, содержание которого служит для оправдания показа как конкретных исторических персонажей (иронически карикатурно), так и исторического процесса в целом. «Фабула, сюжет или живой человек», очевидно, имеют не самое большое значение в этом построении.
«Октябрь» – это своеобразный эмоционально-интеллектуальный трактат о классовой борьбе. Пространственная стратификация фильма, ярко выраженное использование симметричных конструкций, строится вокруг двух основных символических и противостоящих мест: Зимнего дворца и Смольного. Оба здания представлены через то, что можно было бы назвать знаковыми планами очень схожих длинных пространств с аркадами, где проходят подготовительные действия. Однако эти действия противоположны: солдаты Смольного хорошо организованы и распределены, в то время как юнкера и их высокопарные офицеры в Зимнем дворце лишь симулируют мотивацию. Симметрия пронизывает образы и монтаж фильма. Эйзенштейн доходит до переворачивания кадров на 180 градусов, несмотря на то, что это означает показ текста в зеркальном отображении, для того чтобы создать симметричный, почти гербовый эффект, характеризующий «Октябрь» с самых первых его кадров. Таким образом, когда к городу подходит Дикая дивизия, их поезд показывается в кадрах, которые сочетаются путем контрастных диагональных движений, созданных с помощью зеркального изображения состава, куда включена пушка и загадочное самолетное приспособление – должно быть, ветродуй съемочной группы (он, вероятно, использовался для создания самой настоящей бури, встретившей Ленина на Финляндском вокзале)! Текст на боку вагона читается наоборот. Точно так же в том эпизоде, где восстанавливается памятник Александру III, император держит скипетр в правой руке в одном кадре – и в левой руке в следующем. Такая симметричная модификация характерна для аллегорического жанра в литературе, особенно в том его подвиде, который Эмпсон называл пасторальным и для которого очень характерно удвоение сюжета и персонажей. Это относится и к «Октябрю», где все персонажи действуют либо в качестве революционных активистов в той или иной форме, либо в качестве контрреволюционных буржуазных или архиреакционных бойцов с отдельными перестрелками и нападениями, которые постоянно отражают и предвещают финальную битву в Зимнем дворце и вокруг него.
Зимний дворец и Смольный населяют жалкий Керенский и члены его Временного правительства с одной стороны и большевики и их сторонники-красногвардейцы – с другой. Керенский подвергается осмеянию из-за его предполагаемых царских амбиций – традиционная тема самозванства сразу же превращает его в классового врага, в то время как образ лидера большевиков Ленина – это образ сильного рулевого, удерживающего знамя в революционном урагане, который сметет всех врагов. Обращаясь к рабочим, Ленин выглядит как образ Смерти с косой, Отца-Времени или Сатурна: древко его знамени напоминает косу, а вокзальные часы на заднем плане заменяют песочные.
В наиболее абстрактных формах интеллектуального монтажа трудность, по-видимому, заключается в контроле: как ограничить и направить ассоциации между серийными изображениями предметов, чтобы они работали на предполагаемый эффект, не нарушая весь процесс. Чем более гротескными, например, повествовательно несовместимыми, кажутся сопоставляемые изображения, тем больше «топлива» требуется в процессе построения аналогии, потому что «гротеск заключается в процессе перехода, когда метонимия становится метафорой или граница меняется местами с центром. Он заключается в трансформации дуальности в единство, бессмысленного в осмысленное»235.
Если взять эпизод «богов» или религиозных статуэток, то мы понимаем по изображениям, следующим друг за другом, и по тому факту, что не все они относятся к одному и тому же пространственному континууму, что существует проблема смысла, которую нужно решить, задача, требующая расшифровки. Но где гарантия, что вывод, сделанный зрителем, не будет таким: «Ага, это экзотические предметы из петровской Кунсткамеры, а Керенского и его приспешников скоро ждет та же судьба»? Вывод, не являющийся совершенно неуместным, все же не есть предполагаемое осуждение религии в целом, к которому стремится эпизод «Во имя Бога». С точки зрения пуриста интеллектуальный монтаж в «Октябре» иногда становится с ног на голову, используя надписи для направляющей «помощи», тем самым представляя идею вместо того, чтобы ее порождать.
И все же, работают ли элементы интеллектуального монтажа и символические решения в фильме на его определение в качестве аллегории?
Флетчер считает определенные «экзотические» и гротескные элементы необходимыми в некоторых романтических поджанрах аллегории.
Интересны собственные комментарии Эйзенштейна относительно аллегории, поскольку они также включают в себя понятия мифа и мифологии. В выступлении на Всесоюзном совещании работников кинематографии в 1935 году он указал на то, что определенные теории и перспективы, которые когда-то считались научными, теряли этот статус с течением времени только для того, чтобы быть отодвинутыми в сферу искусства и образности, где они допустимы: «Если мы возьмем мифологию, то мы знаем, что на определенном этапе мифология является, собственно говоря, комплексом науки о явлениях, изложенных преимущественно образным и поэтическим языком. Все те мифологические фигуры, которые мы рассматриваем в лучшем случае как аллегорический материал, на каком-то этапе являются образными сводками познания мира. Затем наука движется дальше от образных изложений к понятийным, а арсенал прежних персонифицированных мифологических существ-обозначений продолжает существовать как ряд сценических образов, ряд литературных метафор, лирических иносказаний и т. д. Затем они и в этом качестве изнашиваются и сдаются в архив»236.
Здесь эволюционизм Эйзенштейна устанавливает свои условия, позволяя искусству копаться в мусоре, оставшемся от науки. Конечно, это писалось в осторожное и осмотрительное время сталинизма тридцатых годов, а не в героические двадцатые, когда был сделан «Октябрь». Между категориями мифа, аллегории и символизма не делается никакого реального различия; все они имеют дело с образным и поэтическим языком, который обречен либо на вымирание, либо на сдачу в архив. Однако в мемуарных заметках Эйзенштейна, написанных во время «постскриптума» после сердечного приступа 1946 года, есть текст под названием «Мертвые души», который содержит более неоднозначную и интересную для нашего разбора дискуссию. Парадигматический жанр здесь – детективный роман, для которого потенциальным предшественником является «Убийство на улице Морг» Эдгара Аллана По. Эйзенштейн указывает на постоянно повторяющиеся у По ситуации ужасных убийств или людей, оказавшихся в запертых комнатах, из которых невозможно выбраться. Он ссылается на то, как Мари Бонапарт и Отто Ранк с точки зрения психоанализа объясняют воспоминания из нашего дородового существования и присущую всем травму, вызванную высвобождением из матки и выходом на свет. Вслед за Ранком он связывает эту Geburtstrauma – травму рождения – с мифом о Минотавре и лабиринте как архетипическом образе этого первичного комплекса.
«[В] более современных деривативах этого мифа, – пишет Эйзенштейн, – роль выхода на свет божий... играет уже не столько ситуация, посредством которой злоумышленнику удалось выйти из невозможной обстановки, сколько путь, которым истину на свет божий выводит сыщик, то есть ситуация как бы работает на двух уровнях.
Непосредственно и переносно-транспонированно из ситуации в принцип.
При этом мы видим, что вторая часть – ситуация, транспонированная в принцип, может свободно существовать и помимо самой первичной “исходной” ситуации. <...>
И таким образом детектив как жанровая разновидность литературы во всяком своем виде исторически примыкает к мифу о Минотавре и через него к тем первичным комплексам, для образного выражения которых этот миф служит»237.
Хотя эти размышления относятся к периоду после завершения «Октября», знакомство Эйзенштейна с работами Отто Ранка восходит к 1920-м годам, и вопросы мифа и аллегории волновали русскую культуру с того момента, как в начале века появились неоромантики и вагнерианцы. Но может ли «Октябрь» рассматриваться как миф в том же смысле, что и миф о Минотавре, – как повествование, которое аллегорически самораскрывается и содержит ключ к собственной расшифровке, свою собственную нить Ариадны? Однако Эйзенштейн настаивает на том, что миф о Минотавре не является аллегорией: «Аллегория состоит в том, что абстрагированное представление умышленно и произвольно одевается в образные формы. Тогда как миф есть образная форма выражения – единственно доступное средство “освоения” и выражения для сознания, которое еще не достигло стадии абстрагирования представлений в формулированные понятия»238.
Тогда принимает ли Эйзенштейн, и в каком именно смысле принимает различие, которое романтизм и неоромантизм проводили между аллегорией и символом? Его придерживались русские символисты (например, Вячеслав Иванов), и оно разграничивало искусственное или выдуманное и, напротив, естественное и органичное использование режима символического языка. Если мы верно его поняли, существует уместное и неуместное употребление мифологического типа языка – языка образов. В древности миф служил полноправной цели передачи абстрактных понятий и идей, так же как использование фресок или изображений на витражах в соборах помогало передать библейские заветы зрителям, не умевшим читать. Но для современного ума систематическое применение языка мифа будет анахронизмом, фальшивой маскировкой (Эйзенштейн не зря употребляет слово «одевается»). Присвоение такого языка было бы приемлемо и оправдываемо только при одном условии: если аудитория, его воспринимающая, состоит преимущественно из неграмотных людей, которых необходимо оградить от идеологической и физической угрозы со стороны более сильного с точки зрения образования врага. Здесь и появляется интеллектуальный монтаж, принципиальный метод, использованный в создании «Октября», образная форма выражения, «единственно доступное средство “освоения” и выражения для сознания, которое еще не достигло стадии абстрагирования представлений в формулированные понятия»239. Таким образом, мы можем допустить, что «Октябрь» был уроком для неискушенного коммунистического ума: как понимать и эффективно добиваться политической и военной организации, которая смогла бы победить по силе превосходящего врага.
Фильм в целом и каждая вторая побочная сюжетная линия, каждое второе событие в нем служат для преподнесения этого урока, который уже был по-своему сформулирован несомненно аллегоричным массовым зрелищем Евреинова «Взятие Зимнего дворца» в Петрограде в 1920 году. Эйзенштейн, вероятно, хотел продемонстрировать «Октябрём», какими кинематографическими методами могла быть достигнута эта задача и таким образом, возможно, доказать эволюционное превосходство кино над «театром площадей». В целом, однако, как памятник Революции, «Октябрь», по-видимому, подтверждает подозрение, озвученное Кеннетом Гроссом, что свержение монументальных изображений деспотов и, соответственно, демистификация их власти над умами масс часто приводит к ремистификации и ремифологизации новой политической власти.
Процесс, который начался с десяти дней, потрясших мир в 1917 году, символически показанный в конце фильма с помощью крутящихся стрелок часов нескольких мировых столиц, привел к разрушению множества статуй, изображающих революционеров-большевиков, и к окончательному развалу Советского Союза в 1991 году, завершив таким образом очередной цикл русской истории.
Перевод Натальи Рябчиковой
/ Пьетро Монтани /
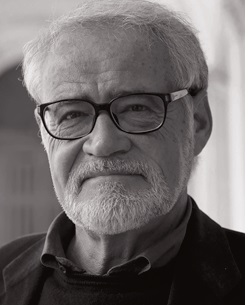
Пьетро Монтани (Pietro Montani) – почётный профессор кафедры философии Сапиенцы – Римского университета. Преподавал эстетику в Римской киношколе Centro Sperimentale di Cinematografia и заведовал связями с общественностью в Высшей школе общественных наук в Париже. В настоящее время – участник международного исследовательского проекта «Будущее человека: новые сценарии воображения» (Вильнюс, 2018–2021). Научный координатор итальянского издания «Избранные произведения С.М. Эйзенштейна» (уже вышли восемь томов в изд. Марсилио, Венеция, 1981–2006 годы, девятый том – «Метод» – увидел свет в июне 2020 года). В последние 15 лет его исследовательские интересы сосредоточены на взаимосвязях искусства и технологии, особенно его интересует влияние новых технологий на процессы воображения и на здравый смысл.
Эйзенштейн и Выготский. Слова и образы во внутренней речи и композиция фильма
В 1935 году на Всесоюзном творческом совещании работников кинематографии Эйзенштейн представил необычную теорию общей эстетики. Процитирую фрагмент из нее, включенный в его важнейший труд под названием «Метод», где она дана в расширенном виде: «...закономерности построений внутренней речи оказываются именно теми закономерностями, которые лежат в основе всего разнообразия закономерностей, согласно которым строится форма и композиция художественных произведений»240.
Теория основывается на концепте «внутренней речи», очевидным образом связанным с «внутренним монологом», на котором Эйзенштейн обстоятельно останавливается не только в связи с предполагавшейся экранизацией «Американской трагедии», но и в комментариях по поводу нарративных экспериментов Джойса, Дюжардена и других. Однако в процитированном пассаже данный концепт дается в более общей формулировке: речь идет не о «монологе», а о «речи». Вместе с тем чуть выше Эйзенштейн писал, что «благодаря методам внутреннего монолога можно строить вещи не только для представления внутреннего монолога как такового»241.
Можно сделать вывод, что «внутреннее» измерение языка имело для Эйзенштейна эстетическую ценность высочайшей важности, поскольку это измерение восходит к арсеналу «форм чувственного мышления»242. Это очень проблематичное словосочетание, которое нелегко перевести на другой язык без соответствующей предварительной переформулировки. Что фактически может означать «мышление», включающее в себя «чувственность» как единственную территорию своего функционирования? Очевидно, Эйзенштейн имеет здесь в виду работу воплощенного сознания в формах чувственной, фантазийной и операциональной организации функций (в широком смысле слова) познавания мира. В некоторых случаях он описывает это явление как «образное мышление», то есть как мышление, возникающее в процессе восприятия или воображения.
В данной работе я предполагаю показать, что этот разброс в терминологии наряду с полным прояснением теории, с которой я начал, приобретает четкий теоретический статус в свете трудов Выготского и особенно последней главы – «Мысль и слово» – его самой важной книги «Мышление и речь», опубликованной посмертно, в 1934 году.
Сотрудничество Эйзенштейна и Выготского хорошо известно, так же как известно, что в 1935 году, через несколько месяцев после публикации «Мышления и речи», вдова психолога Роза Выготская послала Эйзенштейну экземпляр книги с дружеской надписью.
Разумеется, к тому времени Эйзенштейн уже был глубоко знаком с изложенными в ней теориями, буквально потрясающими основы традиционного знания.
Я еще вернусь к теме значимости сотрудничества Эйзенштейна и Выготского.
Однако прежде всего я хотел бы остановиться на том, что эстетическая теория, изложенная Эйзенштейном в 1935 году на Творческом совещании работников советской кинематографии, могла быть не только поверхностно, но даже весьма превратно понята.
Следует добавить, что поверхностность и превратность явились, по крайней мере, частично, следствием того, что Эйзенштейн вынужден был изъясняться в рамках единственно дозволенного философского словаря тех лет, то есть марксистско-ленинского (это прежде всего касалось переформулировки на материалистический лад гегелевской диалектики). Использование того же словаря отразилось и на теоретической аргументации, исказившей эйзенштейновскую мысль. Более того, в своей речи он не мог ссылаться на официально запрещенные теории Выготского. В результате, на страницах «Метода» Эйзенштейн нежно, дружески, но лишь мимолетно вспоминает о нем. А главное – он вполне явственно воздал Выготскому должное в используемой им терминологии, и прежде всего – понятия внутренней речи.
В своем выступлении на совещанииЭйзенштейн изъяснил и другую свою эстетическую теорию. Процитирую в том виде, как она была изложена в «Методе»: «Диалектика произведения искусства строится на любопытнейшей “двуединости”. Воздействие произведения искусства строится на том, что в нем происходит одновременно двойственный процесс: стремительное прогрессивное вознесение по линии высших идейных ступеней сознания и одновременно же проникновение через строение формы в слои самого глубинного чувственного мышления»243.
Почему Эйзенштейн обращается к известному понятию «диалектика»? Проблема, с которой он столкнулся, вполне очевидна. Ему требовалось оправдать тот факт, что в произведении искусства имеется мощное регрессивное движение, какое является следствием работы форм «чувственного мышления», что обеспечивает особую эффективность произведения, его воздействие. Более того, говорит Эйзенштейн, «диалектическая» природа также позволяет произведению сочетать погружение в примитивные формы мышления с высочайшими идеалами сознания; нерасчлененную и мощную эмоциональную природу воплощенной формы с дифференцированной понятийной природой духовного содержания. Это утверждение представляет собой явственный вариант сопряжений аполлонического и дионисийского начал. Однако он не объясняет, как происходит это любопытное единение. Таким образом, обращение к «диалектике» рискованно превращает его концепцию в чистый petitio principia (аргумент, основанный на выводе из положения, которое само по себе еще требует доказательства), а также способствует включению в довольно амбициозную эпистемологическую парадигму.
Идея «диалектичности» произведения искусства связана с теорией философии истории, которую часто упоминает Эйзенштейн, в частности, в привязке к Энгельсу: в ходе своего развития человечество прошло путь от стадии нерасчлененного мышления, глубоко укорененного в чувственности, к стадиям, во все большей степени встраивающимся в дифференцированную и упорядоченную природу современной рациональности.
Эйзенштейн не стремится безоговорочно включить в свою теорию рассмотрение рациональности как результат прогрессирования примитивного мышления. Об этом свидетельствует использование им такого необычного термина, как «пралогическое», с помощью которого он иногда определяет процессы чувственного мышления, отказываясь квалифицировать их как просто «прелогические» процессы. Однако здесь чувствуется определенная теоретическая недоговоренность, не укладывающаяся в последовательную парадигму. Преодолеть эту проблематичность помогает обращение к Выготскому.
Как уже было заявлено, теперь я остановлюсь на последней главе «Мышления и речи» под названием «Мысль и слово». Как соотносятся два эти понятия? Это довольно привычный вопрос, который, однако же, как считал Выготский, ставится под сомнение благодаря тому факту, что оба элемента в своем соотношении рассматриваются как нечто уже данное и ясно определенное: мысль – с одной стороны, язык (подразумеваемый как языковая способность) – с другой. На самом деле акцент должен ставиться на их взаимоотношении, которое не только координирует две неоднородные и генетически разные функции, но к тому же изменяется с течением времени, порождая в ходе онтогенеза разные формы интеграции.
Иначе говоря, познавательная деятельность, производимая воображением, и языковая артикуляция являются двумя совершенно разнородными феноменами. При этом они образуют территорию схода, где порождают интеграционные процессы. Самый очевидный продукт этой интеграции – феномен смысла как одновременно когнитивного феномена чувственной природы (чувственного мышления) и феномена вербального.
Выготский на основе опытной работы переформулировал эту теорию, введя различение внутренней и внешней речи.
Система его доказательств сводится к следующему. Овладение языком имеет, во-первых, прагматический и социальный статус (в детстве мы говорим на языке, который получили от других и используем для общения с другими); только на более поздней стадии язык становится самосоздающимся, самопроизводящимся личным инструментом познания (это наш язык, характеризующий нас, то, чем мы являемся, и то, что мы знаем). Эта вторая фаза маркируется так называемой эгоцентрической речью: направленным не на адресата, а на самого себя монологом ребенка.
В ходе этого речевого употребления возникает обширное экспериментирование с языковыми смыслами в тесной взаимосвязи с практической активностью: ребенок разговаривает сам с собой в основном во время игры, оперируя предметами и инструментами, одновременно пробуя варианты решения технических и операционных проблем. Короче говоря, язык привязывается к сфере деятельности, обычно включаемой в «расширенное сознание», в когнитивную функцию, не полностью контролируемую мозгом, и переплетается с ней. Следовательно, не будет ошибкой уподобить понятие «расширенного сознания» тому «чувственному мышлению», о котором писал Эйзенштейн: это поможет нам избавить данное словосочетание от налипшего мифологического шлака.
Экспериментально доказано, что эгоцентрическая речь исчезает из обихода ребенка примерно к семилетнему возрасту. Что же в этот период происходит? Инновационный вклад Выготского в теорию заключался в том, что он обозначил данный процесс не как исчезновение, а как интернализацию. Исчезает только звуковая форма эгоцентрической речи, но не ее функция переплетения с когнитивной деятельностью и инструментальными практиками. На самом деле функция увязывания мыслительного и практического процессов усиливается – эгоцентрическая речь становится теперь «внутренней речью», которая будет использоваться человеком постоянно и всегда, не только как краеугольный камень семантической компетенции, но и как основа процессов индивидуации на фоне интернализованного социального контекста.
Следовательно, интернализация эгоцентрической речи не ограничивается присвоением социально передаваемого и наследуемого практического содержания, а также поведения, правил и норм, она еще и провоцирует творческую реорганизацию взаимоотношений мысли и слова. Точнее, внутренняя речь придает смыслам внешней речи формоизменяемость, позволяющую присваивать более высокий статус другим, новым семантическим понятиям по отношению к традиционным. Это, в сущности, и составляет бесконечный процесс культурной апроприации.
Теперь в свете идей Выготского теория Эйзенштейна будет выглядеть более отчетливо. Искусство не столько обладает способностью обеспечивать загадочный «синтез» регрессивных аспектов образа и прогрессивных аспектов концептуализации между нерасчлененным и дискретным, сколько располагает качеством показывать и исследовать зону их схода, где в процессе развития когнитивные структуры с помощью воображения могут сливаться с концептуализацией, свойственной разговорной речи. Эта зона характеризуется высокой степенью креативности: зона нашей практической деятельности, в которой феномены, называемые нами «искусством», находят свою наиболее убедительную антропологическую мотивацию. Сюда следует добавить, что, именно благодаря возможности технически координировать сферу слова и сферу образа, фильмы являются художественной формой, которая более других способна показать процесс этой интеграции, а именно процесс ее самопроизводства.
Если данная интерпретация адекватна, теория прохождения стадий (от нерасчлененной к дифференцированной) полностью разрушается вместе с загадочной и слегка магической «диалектичностью» произведения искусства. Регрессия имеет место, но в зоне нашей вербальной и когнитивной практики, где внутренняя речь производит интеграцию образного мышления, мысли, укорененной в работе воображения, и языковой артикуляции. Это зона, где конфигурируется воплощенная семантика, присущая человеку.
В своих теоретических изысканиях (я, разумеется, имею в виду «Метод», но еще и его важные труды – «Монтаж» 1937 года и «Неравнодушная природа») Эйзенштейн постоянно исследовал эти воплощенные семантики. То же самое относится к его педагогической работе (я говорю о книге «Режиссура») и к фильмам.
Можно с уверенностью сказать, что существенным разделом в этих исследованиях мог бы стать «Бежин луг», а их самым сложным итогом стал, фигурально выражаясь, невероятный цветовой эпизод в «Иване Грозном».
Перевод Нины Цыркун
/ Пьерлука Нардони /

Пьерлука Нардони (Pierluca Nardoni) – учился истории искусств в Болонье – в старейшем университете Европы. Областью его научных интересов является европейский авангард начала ХХ века, особенно экспрессионизм и его влияния. Первым самостоятельным проектом стала выставка «Эйзенштейн: революция образов» («Ejzenštejn: la rivoluzione delle immagini», 2017) в Галерее Уффици (Флоренция), композиция рисунков и кадров режиссера была посвящена 100-летию революции в России. Следующей экспозицией под его кураторством стала выставка в Палаццо Маньяни (Реджо-Эмилия, ноябрь 2019 – март 2020) по истории орнамента, охватывающая период от Леонардо и Дюрера до Уорхола и Ширин Нешат.
Споры об абстракции: Эйзенштейн и Малевич
Впервые Малевич и Эйзенштейн встретились в 1925 году, в решающий момент для их видов искусств. С самого начала 1920-х и на протяжении всего десятилетия кинематографисты и художники искали для кино способы, позволяющие совместить стремление к абстракции, исходящее от живописи, с фотографическими (то есть в каком-то смысле реалистическими244) свойствами возникшего киноискусства245.
После краткого описания культурного контекста я опробую тут заново истолковать то, что Аннетт Майклсон определила как «un dialogue de sourds» («разговор глухих»)246. На самом деле в 1925–1930 годах идеи Малевича и Эйзенштейна относительно реализма и особенно абстракции обнаруживают более тесные связи меж собой, чем оба художника были готовы признать.
Наш анализ будет сфокусирован на теоретических результатах этих двух авторов, так как есть, кажется, общая основа, где они могут быть эффективно сопоставлены и где, в конечном счете, их кажущаяся конфронтация может прийти к согласию.
Не стремясь обобщить здесь различные теории на арене так называемого авангардного кинематографа, мы должны все же заметить в общих чертах, что с 1910-го примерно по 1930 год между живописно-литературным авангардом и кинематографом существовал интенсивный теоретический и практический обмен. Если рассматривать эти взаимоотношения с точки зрения кинематографа, мы можем сказать, что провозвестников «абстрактного» киноискусства можно найти в экспериментах футуристов Джинны и Корры (Арнальдо Джинанни Коррадини и Бруно Коррадини) в области «хроматической музыки» (примерно в 1911 г.). Полнее абстракция заявила о себе в кинопроизведениях Ханса Рихтера и Вальтера Руттмана. Затем, продолжая движение к более обширному синтезу, такой художник, как Фернан Леже, осуществляет «переход от абстрактной иконографии к организации реалистического материала в соответствии с абстрактными принципами»247. Своеобразное примирение абстракции и реализма у Леже кажется продуктивным для наших целей.
После «Стачки» Эйзенштейн получил заказ на съемки к 20-й годовщине Первой русской революции фильма «1905 год», который вскоре превратится в легендарный «Броненосец “Потёмкин”». Руководство политикой в области кино осуществлял в это время революционер Кирилл Шутко, старый друг Малевича. Оба они стали членами Юбилейной комиссии, предложившей Эйзенштейну снять эту картину как раз тогда, когда он начинал свою блестящую карьеру кинематографиста и теоретика искусства248. Малевич начал постепенно концентрироваться на своих теоретических результатах, что, соответственно, привело к утрате симпатий к нему советской верхушки. Вскоре это заставило его поспешно прервать путешествие по Европе, и в 1930 году он даже на несколько месяцев попал в тюремную камеру. С 1925 года Малевич опубликовал серию статей о кинематографе, и в 1928-м произошел его разрыв с Эйзенштейном. Как напомнила Оксана Булгакова, Эйзенштейн попросил его «написать некие комментарии об отношениях между театром, кино и живописью», но тот отказался, обвинив Эйзенштейна в принадлежности к реакционному крылу АХРР, противника принципов авангарда249.
Нельзя исключить, что их взаимное недопонимание восходит к этому столкновению; возможно, были и другие – личные причины. Кажется довольно необычным, что Эйзенштейн дважды в 1929 году ответил на замечания Малевича. Его ответы относятся в основном к статье Малевича «И ликуют лики на экранах», написанной в 1925 году и опубликованной в «Киножурнале АРК», – возможно, причина еще и в том, что Эйзенштейна раздражало восхищение Малевича Дзигой Вертовым (в том же тексте).
В статье «И ликуют лики на экранах» Малевич отмечал, что хотя Эйзенштейн и Вертов – «первоклассные художники», им еще далеко до достижений беспредметной живописи. Их искусство по-прежнему кажется превратно понятым реализмом, который показывает «морду жизни», то есть вдохновляется стилем натуралистической живописи XIX века. В конечном счете, он рекомендует обоим кинематографистам следовать принципам авангардной живописи и скульптуры, чтобы понять глубинные основы абстракции: «Искусство в кубизме освободилось от идейного содержания и стало строить свою форму. Идейной барыне оно служило многие века, чистило ее, пудрило, размалевывало щеки, губы, подводило брови. <...> То же и кино, пока другая горничная, которой нужно освободиться и понять, как живописцы-кубисты поняли, что живопись может существовать и без образа, и без быта, и без лика идеи. Тогда кино задумается над своей культурой “как таковой”»250.
Итак, другими словами: не предлагая достижения любой ценой абстрактного киноискусства, Малевич, похоже, в первую очередь упрекает советское кино в том, что оно до сих пор не выработало «специфических», то есть находящих свой собственный языковый регистр, художественных результатов. По словам Малевича, супрематистская живопись уже достигла такой цели благодаря его работе с цветовыми плоскостями, не имеющей никакой связи с реальностью вне живописи.
Три года спустя в статье «Кино, граммофон, радио и художественная культура» Малевич утверждает, что кино «до сих пор не имеет своих методов освобождения. Кино находится во власти живописи и скульптуры – поэтому кино не является чем-то, у которого должно быть свое искусство, своя композиция, своя система и свой материал...»251
Идея, что смысл произведения искусства определяется свойственными ему формальными особенностями, разделяется исследованиями формалистов, которых, возможно, вдохновлял Малевич. Тем не менее, нужно также отметить, что среди первых, кто признал наличие у киноискусства специфического языка, были такие теоретики-формалисты, как Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум и Юрий Тынянов. Они включали в этот специфический язык монтаж, который уже тогда был принципиально важен для Эйзенштейна. Достаточно процитировать Эйхенбаума: «Монтаж – это прежде всего система кадроведéния или кадросцепления, это своего рода синтаксис фильма». Эйхенбаум идет дальше, утверждая: «Кино имеет свой язык, т. е. свою стилистику и свои приемы фразеологии»252.
В статьях формалистов этого периода есть и множество других похожих высказываний, поддерживающих мнение Эйзенштейна, и в этом нет ничего неожиданного.
Помимо странного несогласия с формалистами по этому вопросу, Малевич в своих выступлениях, похоже, неоднократно настаивал на «миметизме» кинообразов, подчеркивая их происхождение от натуралистической живописи.
Но действительно ли Малевич не соглашался с формализмом? Здесь нужно рассмотреть два вопроса. Я считаю, что они являются основополагающими в спорах Малевича и Эйзенштейна, и то, как на них отвечают режиссер и художник, позволяет яснее интерпретировать их мысли.
a) Первый вопрос касается концепта художественной эффективности кинематографа или, по крайней мере, его возможности управлять автономными формальными процессами. Хотя Малевич никогда не признавал значения, которое придавали монтажу Эйзенштейн и формалисты, он, судя по всему, соглашается с Тыняновым в том, что одной из художественных основ кинематографа является динамика. Тынянов говорил, что динамический принцип киноискусства состоит не в видимом движении: «...движение внутри кадра вовсе не необходимо. Его смысловая функция может быть возмещена монтажом как сменой кадров, причем эти кадры могут быть и статичными»253. Как отметила Оксана Булгакова, Малевич – возможно, из-за общего на него и на формалистов влияния произведений Анри Бергсона – тоже ориентируется, похоже, на это «метафизическое ощущение движения» (Булгакова), то есть на возможность наличия в фильме общей динамики за счет идеи движения. «По этой причине, – считает Булгакова, – формалист рассматривает кино как “искусство концептуального движения”»254.
В статье «Художник и кино», напечатанной в «Киножурнале АРК» в 1926 году, Малевич заявлял, что «его [кино]лики движутся только в воображении зрителя, в картине же ему удается установить только призрак намерения этого движения»255, идентифицируя это как негативную особенность кино. В более позднем тексте «Живописные законы в проблемах кино», последнем из написанных им о киноискусстве, Малевич проиллюстрировал это чувство динамики отсылом к картине Джакомо Баллы, созданной в начале 1910-х годов. Он был настолько убежден в этом, что заявил: «Если бы теперь Дзига Вертов был хорошо ознакомлен с футуризмом, то скоро бы сделал бы выборку из той или другой фильмы футур-элементов и создал бы новую динамическую фильму в чистом виде»256.
Хотя Малевич имел в виду динамизм «глубинного смысла» (например, «начала динамических напряжений»257), ссылаясь на работы Баллы – вероятно, на «Динамизм собаки на поводке» («Dinamismo di un cane al guinzaglio», 1912), Булгакова заявляет: «Русское авангардное кино обращается с движением аналитически; его интересует не синтез движения, а реализация разрыва, интервал, момент стазиса между фотограммами»258.
Однако в данном случае Булгакова не принимает во внимание теоретические открытия Эйзенштейна. Возможно, из-за неловкой ссылки Малевича на Баллу, Эйзенштейн позже укажет, что в кино разрыв между «кадриками», наоборот, заполняется «активностью сознания»259, а это отсылает к Бергсону, а также к той модели, которую разделяли Малевич и формалисты. Балла связывал свои художественные исследования 1910-х годов с хронофотографией Этьена-Жюля Маре, что вызвало критику со стороны Эйзенштейна, сделавшего выговор Малевичу за его намерение аналитически «демонтировать» принципы монтажа, вспоминая «футуристические рисунки людей “об осьми ногах”, зарисованных в восьми разных фазах движения ног»260.
Любые упоминания о футуристах, вероятно, более приветствовались, если бы Малевич выбрал в качестве примера Умберто Боччони. Действительно, в тот период Боччони был ближе, чем Балла, к бергсоновским представлениям о времени, длительности и движении261, он также скептически относился к «фотографическому воспроизведению» в картинах своего друга262. Однако, независимо от этих соображений, Малевич открыто утверждал, что, по его мнению, кинематограф производит образ лишь в сознании зрителя. Шаг, который в те годы приблизил бы его к Тынянову (да и к самому Эйзенштейну), кажется совсем коротким.
Именно поэтому первая реакция Эйзенштейна на Малевича в статье «Четвертое измерение в кино», написанной в августе – сентябре 1929 года, была, возможно, чуть более резкой, чем следовало бы. Режиссер обвинил художника в наивности, поскольку тот анализировал отдельные фотограммы его фильма с точки зрения живописца: «Разбирать “кинокадрики” с точки зрения станковой живописи не станет сейчас ни один киномладенец»263. Эйзенштейн утверждал, что визуальная природа фильма должна оцениваться с точки зрения конфликта элементов (например, фигуры относительно фона и т. п.), однако неизменно в рамках монтажных категорий, анализируемых в этом тексте. Этот небольшой отрывок из весьма разностороннего текста, несомненно, фокусируется на том, что Малевичу трудно отказаться от чисто живописных моделей. Однако если мы переместим наше понимание столкновений Малевича и Эйзенштейна с живописной проблемы на их общую почву, находящуюся на теоретической проблеме монтажной динамики, мы получим более плодотворные результаты.
Второй важнейший момент касательно спора между Эйзенштейном и Малевичем можно свести к возможности примирить «реалистичную» и фотографическую (по определению) душу киноискусства со стремлением к абстракции, вытекающим из авангардной живописи. И здесь мы возвращаемся к попыткам экспериментального кино Леже, о котором говорилось в начале этого очерка. Мы должны сразу вспомнить, насколько решающим был этот вопрос для формалистов, как показывает упомянутая статья Эйхенбаума, в которой он обозначил два момента в киноискусстве. Во-первых, это «выразительность», типичная для абстрактного искусства, и ее литературный эквивалент – «транс-рациональный» язык, то есть заумь таких поэтов, как Велимир Хлебников и Алексей Кручёных. Во-вторых, это обычная формальная субстанция, которая вещи, «не связанные с определенно выраженным “смыслом”», преображает из «заумного» состояния в «языковое» (и, по мнению формалистов, полностью художественное), – жесты, предметы и ракурсы связываются и артикулируются с помощью монтажа.
Несмотря на сложность264, эта диалектика выражает острую необходимость разобраться в проблеме, в том числе из-за последствий, которые термины «реализм» и «абстракция» принесли с собой в Советский Союз 1920-х годов. Что касается реализма, мы знаем, например, что Роман Якобсон265, еще один формалист, несколькими годами ранее анализировал идею реализма в искусстве, пытаясь модернизировать смысл этой категории. И, в конечном счете, это было то, чего хотел достичь Малевич в своем фундаментальном труде «От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм» (1916)266.
В сентябре 1929 года Ханс Рихтер пригласил Эйзенштейна принять участие в первом конгрессе европейского независимого кино, организованном в швейцарском городке Ла Сарраз. Как известно, это мероприятие, в котором участвовали, среди прочих, Вальтер Руттман, Леон Муссинак и Энрико Прамполини, предоставило бесценную возможность обсудить вопрос о реализме, имеющем в то время тенденцию развития и в сторону так называемого социалистического реализма (последствий которого мы здесь касаться не будем). К выступлению в Ла Сарразе Эйзенштейн подготовил тезисы «Nachahmung als Beherrschung» («Подражание как овладение»), переведенные на английский язык как «Imitation as Mastery», где он пояснял идею миметико-реалистического воспроизведения реальности в искусстве и по-новому рассматривал идею мимесиса. В этом выступлении сквозит решимость Эйзенштейна преодолеть любую наивную или непродуктивную концепцию реализма в искусстве, «отсылочный» фотографический реализм рассматривается как отправная точка для гораздо более мощного мимесиса, который включает в себя принципы строения вещей267.
Как это часто бывало с Эйзенштейном, формула была не слишком понятной, но весьма привлекательной. Она противопоставляла архитектурные явления, такие как ар-нуво (Art Nouveau), по его словам, слишком привязанные к имитации видимых природных форм, и конструктивизм (Modern Movement), преодолевший отсылки к внешнему облику и предлагающий непосредственно «принципы строения» явлений реальности.
Похоже, что монтаж вновь стал инструментом, способным выявить эти принципы. На встрече, состоявшейся в Сорбонне в 1929 году, Эйзенштейн сказал, что величайшая задача кино состоит в том, чтобы «чисто изобразительными средствами выразить абстрактные идеи, так сказать, конкретизировать их, причем сделать это, не прибегая ни к фабуле, ни к интриге. При помощи комбинаций изобразительных средств нам удалось вызвать реакции, которых мы добивались»268.
Таким образом, упомянутые принципы были идеями под видимой оболочкой вещей – «абстрактными» идеями, ставшими зримыми благодаря монтажу: «...сочетание двух иероглифов простейшего ряда рассматривается не как сумма их, но как произведение, то есть как величина другого измерения, другой степени; если каждый в отдельности соответствует предмету, факту, то сопоставление их оказывается соответствующим понятию. Сочетанием двух “изобразимых” достигается начертание неизобразимого...
Да ведь это же – монтаж! Да. Точно то, что мы делаем в кино, сопоставляя по возможности однозначные, нейтральные в смысловом отношении, изобразительные кадрики в осмысленные контексты и ряды»269.
В дополнение к последствиям сопоставления фотограмм и иероглифов (или, точнее, идеограмматического письма), интересна возможность восприятия «неизобразимого», то есть абстракции, которая сохраняет фотографический аспект вещей, притом что явно ощутимы их соотношения. Если в этот момент мы оставим в стороне личные споры Эйзенштейна и Малевича, станет понятней дистанция, которая их разделяет.
Но вернемся к конференции в Ла Сарразе, исходной точке эйзенштейновского анализа мимесиса и реализма, рассмотренной Михаилом Ямпольским в эссе «Сущностный костяк. Мимесис у Эйзенштейна» («The essential bone structure. Mimesis in Eisenstein»). Прослеживая историю имитации, которую Эйзенштейн определяет как «ключ к овладению формой», он заявляет, что существует: 1) мимесис зеркального образа и 2) более обновленная имитация принципа, скрывающегося за предметом. Как уже говорилось, эта формула действительно достаточно туманна, но правда и то, что контекст Эйзенштейна помогает понять ее смысл. Как напоминает Ямпольский, за мимесисом различима сложная операция, которая начинается с типичного для Эйзенштейна рисунка – контурного наброска, воспроизводимого в тысяче вариаций. Чистая и «абстрактная» линия, как он это определяет, была лучшим способом закрепить неуловимые идеи на бумаге, подобно тому, как так называемые «первобытные» племена фиксировали проявления эмоций и персонифицированных мыслей в жестах и телодвижениях.
Согласно Ямпольскому, цитирующему Вальтера Беньямина, эти жесты являются подражательными, «миметическими» в самом широком смысле слова, имитируя «некое изначальное действие, которое по своему характеру было имитативным... Графема, которая фиксирует жест или движение как генератор “ручной концепции”, – это линия». Далее Ямпольский утверждает: «Эйзенштейн рассматривал линию и схему как обобщающий осмыслитель, фактор, придавший феномену его значение в контексте». У них есть «способность сочетать абстрактный характер геометрии и математики (сферы чистой идеи) с эмоциональной видимостью (наглядностью)»270.
Так мы приходим к эйзенштейновскому пониманию мимесиса, полагающему, что линейный рисунок является глубинной оболочкой любого изображения и основной опорой для осуществления монтажа. Именно рисунок оголяет до основы видимый мир, освещает его и в этом смысле должен рассматриваться как абстракция, от латинского abs-trahere, то есть «снимать», получать часть чего-либо. В этом эйзенштейновская абстракция действительно кажется весьма далекой от того же понятия у Малевича, поскольку последний, как видно, больше воссоздает новые явления, начиная с полностью автономных форм и цветов, нежели синтезирует их из внешнего мира. В этом смысле Малевич идет к той абстракции, которую художники 30-х годов обозначали как «конкретное искусство».
Однако, согласно мнению обоих – и Эйзенштейна, и Малевича, – абстракция, а также связанные с ней понятия реализм и даже мимесис, стремятся выявить энергетическое состояние идей и ощущений в их наиболее чистом проявлении, тем самым изображая то, что представляется неизобразимым271.
Диалог между Малевичем и Эйзенштейном о кино, несомненно, был «спором глухих», однако, как только начинаешь сегодня сопоставлять различия их методов и установок, тут же обнаруживаются и примечательные подспудные «симпатии», которые представляют более «компактной» общую атмосферу советского авангарда на его излете.
Перевод Сергея Костина
/ Джоан Ньюбергер /

Джоан Ньюбергер (Joan Neuberger) – профессор истории в Техасском университете (Остин, США), автор многочисленных работ по истории и политике искусств, в том числе «Иван Грозный: путеводитель по фильму» («Ivan the Terrible: The Film Companion», 2003) и «Это воплощенье тьмы: Иван Грозный Эйзенштейна в России Сталина» («This Thing of Darkness: Eisenstein’s Ivan the Terrible in Stalin’s Russia», 2018). Соредактор с Антонио Сомаини сборника «Ковёр-самолёт: эссе об Эйзенштейне и российском кино» («The Flying Carpet: Essays on Eisenstein and Russian Cinema in Honor of Naum Kleiman», 2017). Работает над книгой «Песни о тёмных временах: социализм Эйзенштейна в эпоху Сталина и в наше время» («Singing about the Dark Times: Eisenstein’s Socialism in Stalin’s Time and Ours»).
Пикассо и другие неудачники: политика погружения в диалектике позднего Эйзенштейна
На протяжении всей своей творческой деятельности Эйзенштейн полагал, что в кино и в других искусствах важнейшую роль играет политика. Для тех, чье представление об Эйзенштейне сформировано главным образом его ранними фильмами – «Стачка», «Броненосец “Потёмкин”» и «Октябрь», или же его великими открытиями в области монтажа, или, может быть, статьями и очерками о монтаже 1920-х годов, в этом утверждении нет ничего удивительного. Однако если вы принадлежите к кругу тех, кто считает, будто в последующие 1930-е и 1940-е годы его карьера была окрашена конформизмом, апатией, вынужденным смирением перед Сталиным, то вы будете удивлены: поздние теоретические работы Эйзенштейна о творчестве и о восприятии искусства – о вопросах, составляющих их центр, – тоже были насквозь пропитаны политикой.
В «Методе» и «Неравнодушной природе» (то и другое было написано в конце 1930-х – начале 1940-х) Эйзенштейн снова и снова обращается к политическому контексту анализируемых им произведений искусства или методов их творцов. Этот политический фон совершенно исчез из обсуждения позднего творчества Эйзенштейна. Цель данной статьи – показать, что чистое искусство для Эйзенштейна всегда недостаточно. Иначе говоря, он полагал, что художественный опыт и эстетические категории, используемые в том или ином аналитическом подходе, недостаточны для понимания творческого процесса, построения самих художественных творений и их восприятия. Однако и одностороннее рассмотрение искусства лишь в политическом и историческом контексте было для Эйзенштейна неполноценным. Стать действительно великим произведение искусства может только в том случае, если оно, ко всему прочему, слито с политикой своего времени, погружено в нее. И заметно преобразить своих зрителей искусство может лишь тогда, когда это политика социалистического, коллективистского толка.
Я сосредоточусь на эссе Эйзенштейна, написанном им весной и летом 1945 года, когда он вплотную подошел к окончанию работы над второй серией «Ивана Грозного». Оно называется «Неравнодушная природа», имеет подзаголовок «Музыка пейзажа и судьба монтажного контрапункта на новом этапе» и стало второй половиной книги, которую Эйзенштейн озаглавил тоже «Неравнодушная природа» (в первой половине основное место занимает исследование «Пафос»).
При том что само произведение стало широко известным, его ключевая для понимания творчества Эйзенштейна тема остается недооцененной. Труд остался незавершенным, некоторые главы представляют собой первый и даже черновой вариант, а потому не всегда бывает просто разобраться в авторской стратегии. Тем не менее, можно утверждать, что «Неравнодушная природа» – это попытка ответить на вопрос: что именно делает произведение искусства великим?
Писавшийся примерно в то же время «Метод» был вопрошанием о том, что является искусством и что искусство должно знать о себе, чтобы быть человечным? «Неравнодушная природа» задает вопрос: как надо создавать великое искусство, или, по любимому выражению Эйзенштейна, «как делать» его272. Из этого эссе становится ясно, что Эйзенштейн никогда не переставал думать об искусстве в терминах политики, но, как это было характерно для его мышления вообще, идеи находились в постоянном движении и развитии, и тогда, летом 1945 года, в «Музыке пейзажа» они вышли на «новый этап».
Одна из тем, разрабатывавшихся во всей книге «Неравнодушная природа», и особенно в «Музыке пейзажа...», – исследование нового типа монтажной диалектики. Эта диалектика не являлась радикальным отходом от диалектики противоборства, синтеза и экстаза, диалектики трансценденции и откровения или диалектики обобщенного монтажного образа. В диалектике Эйзенштейна на ее «новом этапе» напряженность между оппозициями, создающая качественно новый синтез, – это не столкновение или конфликт, усиление которого со временем приводит к взрыву в экстазе синтеза. Вместо этого тут две независимые формы, такие как человек и природа или люди и раскрашенный холст, индивид и коллектив, которые становятся взаимосвязанными и взаимопроникающими настолько, что в результате возникает их преображение или метаморфоза. В написанных годом позже мемуарах Эйзенштейн укажет на свое «почти болезненное пристрастие к проблемам видоизменения форм, “эволюции, развития”»273, и он связывает это пристрастие с диалектическим производством новых форм.
Намеки на его интерес к погружению возникли гораздо раньше. В 1935 году, когда советское правительство вознамерилось установить контроль над всеми видами искусств, Эйзенштейн выступил на совещании кинематографистов с речью о погружении и метаморфозе, которая вызвала неприятие со стороны аудитории, состоявшей из коллег и аппаратчиков, коих созвали для присяги на верность новому курсу в кинопроизводстве. Прежде чем другие ораторы получили возможность выразить одобрение методу социалистического реализма в кинематографе, самый знаменитый режиссер страны, всему миру известный своими революционными фильмами, взял слово, чтобы поговорить о... красных попугаях. Эйзенштейн объяснял ошарашенной публике, что индейцы племени бороро в джунглях Бразилии утверждают, что они, будучи людьми, в то же самое время являются и особым видом распространенных в Бразилии красных попугаев. Это была не метафора, не сон, не вера в потустороннюю жизнь, а реальность погружения, взаимоналожения и преображения идентичности274. Итогом насмешек, которым он подвергся в последующие дни, стало то, что Эйзенштейн более никогда публично не рассказывал о племени бороро, но для него самого красные попугаи оставались знаковыми, они воплощали проблему «изменчивости форм», о которой он много писал. Для Эйзенштейна эти процессы погружения в природу и сопровождающие их метаморфозы были фундаментальными характеристиками нашей человеческой связи с природой, но на этом он не остановился. В позднейших работах погружение и метаморфоза стали ключевыми понятиями для истолкования основных структур кино, для процессов создания и восприятия всех искусств и для взаимодействия индивида и коллектива, которое формирует основу альтернативной социалистической политики.
Рассуждая в «Неравнодушной природе» о живописи, Эйзенштейн утверждал, что искусство – не выражение внутреннего состояния, мышления или чувствования; это погружение художника в свою работу. Например, Ван Гог изобразил пламенеющее желтым цветом дерево не для того, чтобы выразить собственное страдание, а чтобы погрузиться в свой предмет и таким образом преобразить себя в цвет, штрих, мазок кисти – чтобы претворить воплощение своих чувств в живопись. Он смог это сделать, потому что был способен погрузиться в пейзаж. Это перевод выразительного движения в пространство живописи, актуализация рефлекторной деятельности и расширение идей Эйзенштейна о монтажном образе. Через самопогружение в творение визуального описания – в изображение – художник вовлекается в физический процесс переноса формы. Это в свою очередь позволяет зрителям пережить тот же самый опыт погружения в произведение искусства, что в результате помогает им ощутить и прочувствовать то, что ощущает и чувствует Ван Гог, – углубиться в его образ. Поскольку Ван Гог так основательно погружается в пейзаж, он может с головой уйти и в саму живопись и ее формы – Эйзенштейн называет это «пламенным саморастворением», – а мы сближаемся с Ван Гогом, который стал картиной, можем соприкоснуться с ним через его творение275. Точно как погруженные и преображенные индейцы племени бороро, которые являются красными попугаями. Подобная «видоизменяемость формы» и есть основа всех искусств. Политика этих метаморфоз требует более детального объяснения, которое начинается с довольно неожиданных контрпримеров.
Для начала вернемся в прошлое. В ранний период революционной эпохи, в начале своей карьеры Эйзенштейн совершил два революционных открытия в области искусства и политики. Первое открытие, хорошо известное, состояло в том, что кино может изменять людей. Правильно сделанные фильмы смогут пробуждать классовое сознание, помогут строить социализм в Советском Союзе и пропагандировать революцию во всем мире. При точном построении кино может в прямом смысле, фундаментально изменять и внутренний мир людей, и их поведение.
Второе открытие заключалось в том, что онрадикально развел политику и искусство во времени. Общества, экономические уклады, государственные устройства могут меняться; революции могут изменять общественные и политические формации, но искусство прошлого, каким бы оно ни было, сохраняется неизменным. Эйзенштейн всегда отказывался сбрасывать Пушкина, Толстого и Достоевского с парохода современности, к чему призывали футуристы276. Он оставался приверженцем базовой марксистской идеи, что искусство обусловливается социальными, политическими и экономическими реалиями, в которых оно производится, но вместе с тем его формирует наследие прошлого. Позже в картине «Да здравствует Мексика!», а затем в «Иване Грозном» он преподнес эту идею (то, как прошлое и настоящее совместно формируют нас и наше искусство) в динамике, в виде спирали. Эйзенштейн представлял себе историю как винтовую лестницу: каждый шаг вперед для индивида или общества, как бы ни определялась суть самого движения, требует обращения к прошлому, обращения к памяти, событиям и образам, составляющим исторический опыт.
С политической точки зрения, рождение искусства и наше восприятие его полностью определяются политическими условиями, в которых оно создается и созерцается, это касается и тех произведений, которые вспоминаются и заново обретаются. Чтобы понимать искусство, требуется знать социально-политический контекст; однако искусство тоже может использоваться для осмысления как настоящего, так и прошедшего времени. Как выразился Эйзенштейн, «Искусство – тончайший сейсмограф»277. Но чтобы исполнять эти функции, художник должен быть глубоко погружен в свою работу, а работа должна соответствовать своему времени и месту таким образом, чтобы не стереть следы прошлого, но создать условия для взаимопроникновения прошлого и настоящего.
Разумеется, виды искусства прошлого и отдельные произведения не равноценны – Эйзенштейн не был в этом смысле релятивистом. Фактически целью его эссе и было проведение различий между ними. Эйзенштейн стремился узнать, что делает одно произведение искусства малозначительным, а другое – величайшим; иначе говоря, что позволяет произведению искусства проникнуться духом своего времени и остаться в истории, говорить что-то людям других эпох и стран? Как может художник использовать эти следы прошлого, чтобы создавать шедевры, способные говорить с современностью? Он хотел понять основные структуры искусства и исторические процессы, которые позволяют разрешить противоречие во времени.
Хорошо известно, что Эйзенштейн считал кино высшим из искусств, но кино обрело свою форму, аккумулируя процесс построения на основе синтеза различных искусств прошлого. Заметки ко «Всеобщей истории кино», над которыми он работал в 1947–1948 годах, показывают, как Эйзенштейн концептуализировал этот процесс наращения, усматривая через тексты, музейные экспонаты или случайные встречи в темных закоулках истории, каким образом кино перехватывает функции и возможности разных искусств278. И желая сохранить Пушкина, Толстого и Достоевского (как наследие прошлого), он пишет в «Неравнодушной природе», что мог бы отказаться от, например, экспрессионизма, супрематизма, дадаизма и сюрреализма279.
Как производился этот отсев? Мы знаем, что «Метод» основывался на установке, что искусство обращается одновременно к разуму, телу и чувствам. Однако «Неравнодушная природа» указывает, что искусство говорит нечто нашему сознанию, нашему телу и чувствам, но только в определенное время и в определенном месте: «В такие мгновения ощущаешь живую поступь исторического движения Вселенной»280.
Фрагмент об искусстве как сейсмографе и о «неудачах» модернизма был написан раньше, в октябре 1942 года, в Алма-Ате, через год и один день после эвакуации Эйзенштейна из Москвы вместе с двумя миллионами других жителей, за два месяца до окончания Сталинградской битвы. Он предназначал этот текст в качестве предисловия к сборнику переводов своих статей, который под названием «The Film Sense» подготовил к изданию Джей Лейда, книга к тому времени уже вышла в Нью-Йорке и должна была выйти в Лондоне. В этот сборник фрагмент не попал, и в 1945 году Эйзенштейн включил его в «Неравнодушную природу». Он представляет собой переход от начала «Музыки пейзажа» – рассуждений об эмоциональных функциях, которые исполняют в искусстве визуальные формы пейзажа и природы, – к рассказу о способах, какими великое произведение должно так укорениться или возникнуть в определенное время и в определенном месте, чтобы превзойти то и другое и стать чем-то настолько мощным и грандиозным, что могло бы преобразить нас и изменить наш мир.
Если в первой половине «Музыки пейзажа» рассматривается способность ландшафта, природы и материального контекста передавать чувства и переживания, то во второй части эссе речь идет о роли погружения в этот процесс и о месте истории и политики в этом погружении. В данном рассуждении ландшафт – уже не проводник проецируемых на него чувств, это «внутренний монолог, ставший видимым»281. Пейзаж – одновременно и среда, и изображение некой ауры для человеческого чувства погружения в природу282. Эйзенштейн усмотрел в этой возможности погружения в стихию, саморастворения в природе параллель к способности художника самому погружаться в свое творение, а также к способности индивида растворяться в коллективе, что, говорит Эйзенштейн, является чувством, знакомым всем нам. Погружение – ключ к его пониманию искусства и связей искусства с политикой.
Именно анализы творчества отдельных художников и произведений искусства в «Неравнодушной природе» позволяют увидеть, как Эйзенштейн понимает взаимосвязь между искусством и политикой – как произведение воплощает в себе социальное и политическое устройство своего времени, обретая вместе с тем индивидуальные формы. Например, он видит «отсутствие всякой “субъективности” в пейзаже Альбрехта Дюрера», так как у художника нет признаков погружения ни в изображаемый им ландшафт, ни в свое изображение природы. Дюрер дистанцируется от своего пейзажа, отсутствует в нем, демонстрируя «прохладную объективность» художника, – в отличие от Ван Гога с его «пламенным саморастворением» или Гойи, для которого характерна «та же пылающая субъективность», что и для Ван Гога283.
Любимые Эйзенштейном китайские и японские пейзажи обладают теми же качествами формы, которые чрезвычайно важны для его теории погружения и метаморфозы: «Везде это было эмоциональным пейзажем, растворившем в себе человека. Или, точнее, везде эмоциональный пейзаж оказывался образом взаимного погружения друг в друга человека и природы»284. Однако пейзажи будут несовершенны как искусство, если останутся тем, что он называл примитивным, застрявшим в архаичном мире и не поднимающимся до высот древних пейзажей эпохи Сун или Тан285.
Взаимопогружение художника и его творения, столь привлекавшее Эйзенштейна в китайской и японской пейзажной живописи, особенно ясно предстает для него в творчестве Эль Греко. «Буря над Толедо» – «один из самых первых “чистых” пейзажей, то есть такой, откуда впервые ускользает реально изображенная видимость человека, оказывается из всех дошедших до нас образцов, пожалуй, наиболее пламенным автопортретом “души” человека – его создателя»286. К тому времени Эйзенштейн уже много писал об Эль Греко, и здесь он приходит к выводу: «Три с лишним века спустя та же жестокая и, казалось бы, бесплодная, аскетическая испанская земля вновь порождает исступленного живописца, с неменьшей яростью расшибающего видимый мир и снова сплавляющего его по образу и подобию своих представлений, согласно законам, управляющим его собственным внутренним мироощущением. Пикассо!»287
Испанская земля, рождающая художников, – не штамп и не метафора. Эйзенштейн использует это словосочетание в буквальном смысле. Однако для Пикассо этого по крайней мере недостаточно.
Можно сказать, что изображенные Пикассо бои быков демонстрируют тот же тип погружения или взаимопроникновения, который так нравился Эйзенштейну у Эль Греко, Ван Гога, Гойи, а также у Жорж Санд, Ги де Мопассана и Толстого. В боях быков Пикассо можно найти все, что для Эйзенштейна значимо в искусстве. Они визуально экспрессивны, передают телесное слияние «Человека и Зверя», их взаимную яростную агрессию и взаимопроникновение «через смерть»288. Они также изображают взаимопроникновение через то, что Эйзенштейн называет любовью в гегелевском понимании, – через чувство, в котором «обособленность подвергается отрицанию» «в великом мгновении взаимного слияния жизни и смерти, скота и человека, инстинкта и мастерства: животной природы и искусства человека!»289
Однако, хотя живопись Пикассо показывает, как отдельный художник сливается со своим искусством, а форма и предмет живописи изображают человека, сливающегося со зверями, здесь не видно растворения индивида в коллективе; в данном случае индивид сливается только со смертью. Даже общий рев толпы в момент, когда матадор вонзает эспаду в быка, момент слияния тореадора и быка, когда коллектив един, кровь служит расплатой за «миг свободы, грохочущей в многотысячном реве восторженной толпы, в кровавом мгновении этой жертвы, переживающей миг освобожденности от извечного гнета противоречивости»290, не дает ощущения коллективного единения.
Теперь «смерть, которая ведет к жизни», становится одним из важнейших тропов Эйзенштейна; но в «Неравнодушной природе» смерть, даже смерть, открывающая путь жизни, если это только акт искусства, то как бы артистично он ни свершался, это конец, тупик. Кратковременная свобода, какую переживают зрители боя быков, мимолетна, потому что «свобода истинная» вырастает «на другой жертвенной крови», свобода возможна «через реальное снятие противоречий классовых»291. В попытке Пикассо передать слияние человека и зверя, а еще и «тысячные толпы», свобода оказывается «трагичной», мимолетной и «хуже того – мнимой». В отсутствие «реальной свободы от гнета противоречий» человечество ищет духовной свободы «в паллиативных формах иного пафоса», в пафосе «произведений и образов искусства». Это трагично, потому что «воплощение идеала разбивается об утесы исторической преждевременности»292. В результате в состоянии исторической преждевременности «эта фиктивная и воображаемая гармония возможна лишь в формах самоуничтожения. Лишь через самоуничтожение возможны саморастворение в природе и возвращение в единую, неразрывную цельность с ней. Через самоуничтожение. Через смерть»293. И это не то, что в других местах Эйзенштейн называл «смертью, дающей жизнь» или «печалью, дарующей радость», – это смерть, которую он называет трагической.
Историческая преждевременность обрекла на провал и более ранние попытки достичь коллективной свободы, к которой так долго стремились люди. И здесь Эйзенштейн делает вывод о том, что современные попытки политических активистов и революционеров, «материалистических последователей Гегеля», успешны не в большей степени, чем попытки художников, то есть идеалистических последователей Гегеля. Толстой с его обостренным вниманием к смерти, которая рождает жизнь, тем не менее, тоже в этом не преуспел. Почему? Потому что все они жили «в обстановке жандармской России Победоносцева и Николая Кровавого. ...В стране изнывающего в цепях русского народа»294.
Возникает соблазн подумать, что Эйзенштейн был вынужден включить эти идеологические пассажи об освобождении от классового гнета и стремлении к коллективизму, чтобы получить возможность опубликовать свой текст. Однако его отсылки к бесклассовому обществу и коллективу последовательно встроены в его аргументацию по поводу погружения и метаморфозы. Художник, погруженный в свое творение, равно как само изображение взаимослияния и погружения в природу, – структурно соответствует тому же процессу погружения индивида в коллектив: проявление «возрастающей слиянности в гармонии монтажной полифонии. ...Тип нового “гармоничного” контрапункта – вне парадоксов и эксцессов – мне кажется наиболее полно отражающим картину деятельности отдельного индивида внутри коллектива»295.
То, что Эйзенштейн называет неизбежной социальной трагедией позиции Пикассо, наиболее отчетливо проявляется в метаниях художника между крайним материализмом и крайним идеализмом. Попытки разрешить это противоречие в абстрактных пространственных эскизах через коллаж, через использование таких материалов, как вклеенная бумага, буквы, дерево и жемчужины, тоже не работают. «Методом Пикассо достигается отнюдь не единство обеих областей – абстрагированного и предметного, – но как раз подчеркивается обратное – фактическая раздвоенность, лишь еще больше подчеркнутая этим насильственным сведением до парадокса отточенных “противоположностей”»296. Эйзенштейн акцентирует внимание на этом моменте, заканчивая данный фрагмент своего эссе цитатой из беседы, где Пикассо говорит, что для него важно разделять свою роль художника и роль политического активиста.
Эйзенштейн делает вывод: «И мы видим, что вместо достижения внутренней гармонии и единства мы имеем перед собой такой же образец трагического пафоса, внутренней раздвоенности, которая в разные периоды истории пронизывает темпераменты великих творцов, обреченных жить в социальных условиях и эпохах, не допускающих единства и гармонии». Эта внутренняя, неразрешимая раздвоенность была присуща также Микеланджело, Вагнеру и Виктору Гюго297.
Последний пассаж очень существен: взаимослияние необходимо не только искусству и политике; необходима также особая форма прогрессивной социалистической политики, а именно: устранение классовых противоречий, возможность единства и гармонии, возможность коллективизма. Здесь мы видим в действии свойственное Эйзенштейну чувство структурной симметрии: художник погружается в произведение искусства, как следы прошлого погружаются в настоящее, как люди погружаются в природу и, наконец, как индивид может погрузиться в коллектив.
Можно взглянуть на этот набор симметричных структур с другой точки зрения – если поместить анализ боя быков Пикассо Эйзенштейном в контекст его собственного опыта наблюдения за этим зрелищем в 1931 году в Мексике. Сравните его описание боя быков у Пикассо с тем, что содержится в письме Максиму Штрауху и Леониду Траубергу: «Первое “убийственное” впечатление – бой быков. Абсолютно невероятное зрелище! Работа исключительно “элегантная”. Все 30 тысяч поднимаются и ревут в ответ на блестящий выпад “тореадора”. Море крови, на которую всегда интересно смотреть. ...Петушиные бои тоже ужасно увлекательны. В основном из-за игроков. Они делают тысячные ставки и ужасно возбуждены. К ногам петухов привязывают ножи, которые наносят им жуткие раны. За время боя быки (8) до смерти затерзали 3 лошадей»298.
Маша Салазкина пишет, что в фильме «Да здравствует Мексика!» Эйзенштейн связал ритуальную жестокость боя быков – «жестокость на грани садизма и мазохизма» – с ритуальными религиозными церемониями, с жестоким отношением к пеонам и с гомоэротизмом в изображении мужского тела. «И жестокость, и гомоэротизм связаны с переживанием экстаза: религиозного, сексуального и художественного»299. Эта сеть структурно сопряженных форм экстаза напрямую связана с тем, как Эйзенштейн изображает классовые противоречия в Мексике и политическую ситуацию того времени. Как показывает Салазкина, Эйзенштейн считал переплетенными две срединные новеллы в сценарии «Да здравствует Мексика!»: «Фиесту» с боем быков и «Магей», где рассказывается история, как в день праздника Тела и Крови Христовых, в год празднования 400-летия Девы Марии Гваделупской на хасиенде разыгралась трагедия изнасилования невесты пеона, бунта батраков и их зверской казни. Обе новеллы исторически соответствуют эпохе предреволюционной Мексики – периоду правления Порфирио Диаса, мексиканского Николая Кровавого, который длился до революции 1911 года.
Я полагаю, что бой быков в традициях XIX века, снятый для фильма «Да здравствует Мексика!», и бой быков, описанный Эйзенштейном в 1931 году, создают своего рода рамку его анализу боя быков у Пикассо и дают ключ к пониманию важности структурных симметрий. Коррида, как она увидена и снята Эйзенштейном в Мексике, была визуально насыщена и кинематографически прослоена образами классового неравенства. Как он пишет в «Неравнодушной природе», монтаж этих образов – «трагедия новой противоречивости между устремлением и возможностью»300. Ритуальный бой быков (как религиозный ритуал) обретает полноту смысла только тогда, когда он погружен в политические конфликты своего времени, а художник погружен не просто в политический ландшафт своего времени, но в тот политический ландшафт, где возможны «отмена классовых противоречий» и рождение коллективизма. Здесь прошлое оживает в настоящем, а настоящее переплетается с будущим. Пикассо, живущий в фашистской Испании или капиталистической Франции, Пикассо, отказывающийся соединить свое искусство и политику, Пикассо, создающий образы корриды, которые сформированы неравенством, царившим в его время в тех местах, – этот Пикассо недостаточен, поскольку художник отделил себя от материального и политического измерений, а следовательно, оказался неспособен к тому саморастворению, погружению и освобождению, к которому, по словам Эйзенштейна, мы все стремимся.

Кадры корриды из новеллы «Фиеста» фильма Сергея Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!», 1930–1932

Здесь важно, что Эйзенштейн постоянно возвращается к неотторжимости внутренних конфликтов от конфликтов внешних, социальных или классовых: искусство – идеальный сейсмограф. Неразрешенный внутренний конфликт Пикассо, его разделение искусства и политики – воплощение исторической преждевременности: «заложенные в народах стремления к созданию такой же гармонии реальной действительности их социального бытия и окружения»301 не достигают искомой коллективной гармонии.
Такие великие художники, как Пикассо, а также Толстой, Шекспир, Мопассан, Эль Греко или Хуэй-цзун, который был в эпоху Сун (1082–1135) не только императором, но утонченным каллиграфом и художником, могут возвысить наш дух и тронуть нашу душу уникальным видением, отражающим социальные структуры своего времени и места, но, поскольку они не сумели погрузиться в такую единую политическую среду, – они способны лишь пролагать пути к «реальному осуществлению в будущем этих основополагающих всечеловеческих чаяний о Единстве и Гармонии»302. В итоге они остаются незавершившимися, их преображение остается воображаемым, фиктивным, ограниченным, однобоким – только искусством: это «переходный образ воплощения в искусстве идеи того, что только в социальном пересоздании действительности может быть осуществлено реально раз и навсегда»303.
Почему же Эйзенштейн описывает изображения корриды у Пикассо как достигшие погружения, взаимопроникновения и изменяемости форм – свойств, которые он считает существеннейшим и мощно действующим средством в искусстве, и тут же обозначает их как идеалистические, трагические, недостаточные, как искусство, которому не хватает подлинного преображающего потенциала?
Кульминационный пассаж в «Неравнодушной природе» посвящен собственному опыту Эйзенштейна существовать в трех разных политических контекстах; его цель – выявить возможности для превращения искусства в действительно преображающую силу. В 1945 году только три страны предоставляли такую возможность: СССР, Соединенные Штаты и Мексика. Только эти три страны, пишет он, «дают как бы в трех фазах ощутить и пережить великий принцип динамики свершения – становления»304. Он быстро расправляется с США и СССР, пользуясь в каждом случае идеологическими клише. Модернизация и коллективизация в Советском Союзе освободили-де кочевника и крестьянина «через становление социальное». В Соединенных Штатах модернизация и индустриализация, невероятные небоскребы (описанные с экстатическим восторгом), воплощают победоносное индустриальное становление. Но, хотя Эйзенштейн и не говорит прямо, та и другая страна обращены только в будущее – как материалисты-гегельянцы, – оставляя за спиной прошлое, пытаясь (недальновидно) искоренить следы прошлого в неизбежном восхождении по спирали305.
А вот Мексика с ее «постоянным смешением жизни и смерти, возникновения и исчезновения, умирания и зарождения – на каждом шагу» как раз и предоставляет собой то, чего он взыскует. В творчестве Эйзенштейна, в его научных текстах, рисунках и кинорежиссуре Мексика играет множество ролей, но здесь, в «Неравнодушной природе», Мексика предстает как место, где он лично наблюдал прошлое в настоящем, испытал погружение в природный и в созданный человеком урбанистический мир. Его фильм «Да здравствует Мексика!» должен был показать диалектику природы и культуры, прошлого и настоящего, жизни и смерти, политической власти и традиционных практик. Начиная с 1931 года, он постоянно оттачивал свою концептуализацию этих форм диалектики, стремился структурировать вокруг них свои последующие фильмы: «Бежин луг», «Александр Невский» и «Иван Грозный», а также нереализованные замыслы, среди них – «Большой Ферганский канал» и пушкинский проект.
Заключительная часть последней главы «Неравнодушной природы» возвращает нас в Мексику, где искусство никогда не бывает независимым от условий, в которых оно родится, как и не бывает оторванным от прошлого, в котором возникли эти условия. В Мексике Эйзенштейна сосуществуют первобытное и современно-индустриальное, исконное и привнесенное колонизаторами, мертвое и живое. Это, в свою очередь, обеспечило условия, необходимые для того, чтобы индивидуальное погрузилось в природу и стало преображенным природою; чтобы индивидуальное могло погрузиться в коллективное и преобразиться в коллективном. Только в постреволюционной Мексике Эйзенштейн увидел разносторонний, структурно симметричный опыт. Там он испытал глубочайшее погружение в природу и в культуру; как никогда раньше, он погрузился в кинотворчество; такое же погружение он испытал в рисовании – в искусстве, к которому вернулся, опять же, в Мексике; наконец, он узрел в настоящем прошлое и в том же настоящем – будущее. Даже то, как он стал писать, превратилось в своеобразный галлюциногенный поток сознания: « ...в те утренние или закатные минуты, когда воздух так прозрачен, что кажется, будто кто-то его украл, а дальние склоны красноватых гор с ослепительной отчетливостью повисают в безвоздушном пространстве между ультрамарином неба и фиолетовой тенью собственного подножия – и вдруг наглядно ощущаешь, что глаз наш вовсе не видит, а осязает и ощупывает предметы совсем так же, как ослепший делает это руками.
А может быть, ощущение этого жизнеутверждения и становления идет от жадности, с которой в тропиках буйная зелень в своей безудержной жажде жизни поглощает все, что попадется не ее пути, – и достаточно нескольких дней невнимания со стороны железнодорожного сторожа, чтобы лианы вплели в себя рельсы и виадуки, водокачки и семафоры и, как змеи, увлекли бы в свои кольца растерянный паровоз, попавший в их мертвые петли»306.
Только в Мексике – или в ее образе, который был ретроспективно создан Эйзенштейном, – присутствие всех этих диалектических переживаний погружения и преображения, встроенных друг в друга и поддерживающих друг друга, стало возможным, чтобы погружение приводило к глубоко значимой метаморфозе, что для художника означает обретение способности творить преображающее искусство.
***
Теперь попробуем суммировать вышесказанное и понять, почему весной и летом 1945 года Эйзенштейн пришел к такому сочетанию размышлений о потустороннем и мирском: что это значило лично для него?
Во-первых, этот ракурс позволил Эйзенштейну по-новому взглянуть на идею, что искусство действительно может изменять людей, даже после того, как революционные надежды его молодости на радикальные возможности монтажа, вероятно, разбились о скалу «исторической преждевременности».
Во-вторых, при всех удивительных возможностях искусства, которое он изучал, о котором писал и которым занимался вплоть до этого периода, оно могло лишь доставлять мимолетные удовольствия в условиях диктаторских и фашистских режимов или при капиталистическом строе, в СССР и в США (отсюда его довольно осторожные замечания по поводу успехов модернизации в Советском Союзе).
В-третьих, Эйзенштейн постоянно возвращался к роли политики и истории в культуре, потому что никогда не переставал рассматривать искусство с марксистских позиций. При Сталине он, вопреки широко распространенному мнению, не отказался от политической ангажированности, продолжал заботиться о политически трансформирующей деятельности, о таком коллективе, в котором личности хотелось бы раствориться. В «Неравнодушной природе» погружение индивида в коллектив рассматривалось как важная предпосылка погружения в природу; в обоих случаях искусство могло бы реализовать свой преобразующий потенциал.
Наконец, в середине 1945 года Эйзенштейн готовился к совершению самого радикального художественного акта в своей жизни. К моменту начала работы над эссе «Музыка пейзажа и судьбы монтажного контрапункта на новом этапе» Эйзенштейн еще не снял ключевые эпизоды второй серии «Ивана Грозного». Еще не были сняты ни экстатическая, устрашающая пляска опричников или еще более ужасающий эпилог, где Иван заявляет о «свободе рук». Не снял он еще окрашенную гомоэротизмом сцену во дворце польского короля и литовского князя Сигизмунда, которой начинается вторая серия «Ивана Грозного». Но летом 1945 года, размышляя о миссии искусства и о власти, об искусстве и истории, о политике и морали, о человеке и коллективе, Эйзенштейн сделал для себя однозначный вывод: «искусства для искусства» никогда не бывает достаточно.
Перевод Нины Цыркун
/ Ана Хедберг-Оленина /

Ана Хедберг-Оленина (Ana Hedberg Olenina) – защитила кандидатскую диссертацию в Гарвардском университете и магистерскую в Кембриджском университете. Доцент кафедры сравнительной филологии и медиаисследований Университета штата Аризона. Специалист по русскому и советскому авангарду, Хедберг-Оленина разрабатывает вопросы на стыке ранней истории кино и теории медиа, с упором на исторические конфигурации сенсорного и эмоционального опыта, а также теории выразительного движения и зрительского восприятия. Автор книги «Психомоторная эстетика: движение и аффект в русской и американской современности». Ее статьи печатались в журналах «Film History», «Discourse», «Киноведческие записки», а также в нескольких сборниках в России и США.
Преломленное эхо: идеи педологии в кинотеории Сергея Эйзенштейна307
Введение
Педология (от греч. о παιδός – дитя и Λόγος – наука) возникла в конце XIX века как дисциплина для комплексного изучения детства, стремящаяся интегрировать достижения нейрофизиологии, психологии развития, социологии, педагогики и других наук, чтобы понять специфику детского сознания и разработать более целостные стратегии воспитания. Эти междисциплинарные изыскания по вопросам детства, начавшиеся в Соединенных Штатах, были с энтузиазмом подхвачены последователями в предреволюционной России308. После 1917 года педология получила новый толчок благодаря утопическому стремлению государства взрастить «нового советского человека», первое поколение строителей социализма. На первой Всесоюзной педологической конференции в 1927 году нарком просвещения Анатолий Луначарский предсказывал, что «педология, изучив, что такое ребенок, по каким законам он развивается… тем самым осветит перед нами самый важный… процесс производства нового человека параллельно с производством нового оборудования, которое идет по хозяйственной линии»309.
При столь высоких политических ставках многие психологические лаборатории стали соревноваться друг с другом, чтобы найти убедительный и всеохватывающий материалистический подход к сознанию ребенка. Среди лидирующих тенденций были рефлексология и ее ответвление, «реактология», – эти две дисциплины делали акцент на нейрофизиологических функциях; фрейдистский психоанализ; подходы «биогенетики» Павла Блонского и «социогенетики» Александра Залужного, сочетавшие рефлексологию и социологию, а также культурно-историческая теория личностного развития Льва Выготского и Александра Лурии, которая утверждала, что сознание ребенка формируется в его взаимодействии с инструментарием и идеями, имеющимися в его культурном окружении310.
Этим разнообразным перспективам внезапно пришел конец в 1936 году, когда педология была запрещена в связи с ужесточением сталинизма. Исследования, предпринятые в рамках этой дисциплины до ее разгрома, представляют собой ценнейший источник, отображающий различные концепции детства в раннем советском искусстве. Ожидания, возлагаемые на детство и обсуждаемые в научно-исследовательских институтах, отвечали идеологической атмосфере того времени и, в свою очередь, впитывались политиками и работниками народного просвещения. Идеи психологов воздействовали на культурную сферу, которая, со своей стороны, ставила перед учеными актуальные вопросы для исследования и предлагала средства для их изучения.
Новые подходы к детству нашли свое отражение в советском кино и подготовке кинематографистов в 1920–1930-е годы. Советские кинематографисты первой волны, с готовностью впитывавшие культурно-политические инновации своего времени, изображали исследовательские лаборатории и педагогические тенденции как в документальных, так и в игровых фильмах311. Влияние кино на молодую аудиторию стало предметом изучения психологов, учитывалось деятелями образования и чиновниками киноиндустрии312. Теоретики и кинокритики усваивали идеи, проистекающие из психологических исследований детей и взрослых, особенно в областях, относящихся к чувственному восприятию, эмоциям и эстетическому переживанию.
Наиболее ярко педологические идеи отразились в кинотеории Эйзенштейна, режиссера, заявившего, что «синтез искусства и науки» должен стать «подлинно новым словом нашей эпохи в области искусства»313. Тем не менее, заимствуя идеи из различных психологических и педологических тенденций, режиссер трансформировал, изымал из привычного научного контекста как сами эти идеи, так и их идеологически заряженные, популярные версии, созданные политиками. Ниже я рассмотрю напряженность отношений между видением большевистскими лидерами педологии как научной программы для воспитания будущих коллективов рабочих и неортодоксальным применением детской психологии Эйзенштейном для развития своего киноязыка.
Эйзенштейн и детская психология
Среди кинематографистов советского авангарда Сергей Эйзенштейн выделяется как человек, чей интерес к психологии вообще и к детской психологии в частности достигал почти профессионального уровня. Не случайно в 1929 году знаменитый немецкий представитель гештальтпсихологии Курт Левин пригласил Эйзенштейна прочитать лекцию в Берлинском психологическом обществе, что, по выражению Александра Лурии, «было беспрецедентной честью для русского ученого»314. Левин был впечатлен глубиной анализа Эйзенштейна в одном из его конкретных исследований, в котором кинематографист применил принципы биомеханики Всеволода Мейерхольда для описания конфликтующих движений полуторагодовалой девочки, пытавшейся достигнуть одновременно двух противоположных целей315. На протяжении всей своей карьеры Эйзенштейн с жадностью изучал психологические труды, видя в этом способ обогатить собственные размышления о взаимодействии кино с чувственным восприятием, эмоциями, познанием, речью и выразительными движениями. Включая эти идеи в собственные теоретические труды, он подкреплял их понятиями, заимствованными из театра, истории искусства, антропологии, марксистской философии и множества других источников. Как и многие модернистские интеллектуалы, Эйзенштейн искал истоки глубинных психологических тенденций человечества в мифах, ритуалах и обычаях древних культур.
Эйзенштейн обратился к детской психологии, чтобы лучше понять ранние стадии развивающегося сознания, – он видел их как образование архаичных, универсальных слоев на пересечении биологического и социокультурного факторов. Он считал, что эти страты сознания постепенно оттесняются по мере того, как ребенок взрослеет и усваивает сложные культурные условности и паттерны поведения, но тем не менее они по-прежнему остаются в активной зоне сознания, образуя универсальную платформу, к которой может апеллировать искусство. В конце 1920-х годах поиски фундаментальных основ привели его, среди многих других источников, к двум самым значимым тенденциям в советской педологии: детской рефлексологии, выработанной школой Владимира Бехтерева, и культурно-историческим подходом Льва Выготского и Александра Лурии316.
Обстоятельная, но незаконченная и до сих пор не опубликованная работа Эйзенштейна 1929 года «Как делается пафос?» опирается на трактат «Рефлексологический подход в педагогике», который написала в 1925 году последовательница Бехтерева Августа Дернова-Ярмоленко317. Базовая предпосылка ее труда состоит в следующем: «Рефлекс, как нервно-психическая единица, дает возможность рассматривать поведения животного и человека без подразделения на процессы различной ценности и особой природы, как: воля, чувство, ум и т. п.»318. Она пишет также: «ценность рефлексологии в том, что «подводится фундамент под понятие воли, памяти, чувства: понятия эти просто, ясно и точно расшифровываются, им дается физиолого-механическое освещение, они могут сопоставляться, как нечто однородное – рефлекс»319.
Для ее проекта такая нейрофизиологическая гомогенизация старых категорий была важна как возможность перевести в понятия рефлексологии ее опыт психолога детских домов. В отрывке, процитированном Эйзенштейном, Дернова-Ярмоленко рассматривает травму тяжелой утраты как разрушение привычных «ассоциативных рефлексов», сформированных в человеческом мозге по отношению к умершему: «Каждая начальная активность вашей нервной системы останавливается, тотчас же тормозится пустым местом [...]: “Не для кого работать”. “Не с кем поделиться”»320. В этом довольно простом, основанном на здравом смысле изложении траура бехтеревская терминология представляется почти избыточной. Рефлексологическое описание скорби предваряет рекомендацию Дерновой-Ярмоленко, что сирот не следует переводить из одного детского дома в другой, и, похоже, акцентирует очевидный момент321.
И все же, читая это упрощенное рефлексологическое изложение, Эйзенштейн находит нечто ценное для его теории пафоса и катарсиса: понимание психологического механизма, лежащего за сильным эмоциональным потрясением. В своей рукописи он подчеркивает вывод Дерновой-Ярмоленко о том, что «неудовольствие, страдание, горе есть разрыв привычных связей», и утверждает, что облегчение столь негативных аффектов – разрядка с кульминацией в катарсическом экстазе – должно аналогичным образом происходить в результате разрыва322. Как художник, он буквализует метафору разрыва, рассматривая тип движения, свойственного выражению крайнего психологического состояния. Экстаз для него – это «экс-стасис», выход из равновесия: «В основном же нас интересует то, что моторно-динамическая характеристика пафоса совпадает с основной динамической характеристикой экстаза с признаком – разрывности, разрядности (“выход из ряда”). Эта разрывность и определяет экстаз как выход из состояния, то есть разрыв привычности и предначертанности обычной формы»323.
Эта формула взрыва, радикальной трансформации и трансценденции имеет последствия для структурирования кульминационных сцен и визуализации игры актеров на пике драматического действия, а также для понимания того, что происходит в психике зрителя, когда драма захватывает его. Эйзенштейн сравнивает завороженность аудитории с религиозным сопереживанием при совершении жертвенных ритуалов324. Размышляя над радикальным физическим и психологическим преображением, которое должно сопровождать крайнее страдание и последующую бурную радость, он рассматривает трактаты о катарсисе Аристотеля, а также толкования этого понятия Бехтеревым, Фрейдом и филологами Николаем Новосадским и Якобом Бернайсом325. Таким образом, помещая специфический пример детской рефлексологии Дерновой-Ярмоленко в различные контексты, Эйзенштейн приходит к универсальной теории влияния искусства на эмоциональное переживание зрителя.
В период 1928–1929 годов, примерно во время исследований физической и психологической природы пафоса, Эйзенштейн работает над теорией кино как языка, исследуя его смыслообразующую и коммуникативную логику326. Он планирует совместную работу с Лурией и Выготским, создателями культурно-исторической модели в экспериментальной психологии, знаменитой благодаря их исследованию детской речи и познавательной способности. Еще одним потенциальным сотрудником предполагался лингвист Николай Марр, изучающий вопросы происхождения речи, протоязыков и невербальной коммуникации327. В 1930 году Марр должен был продолжать работу над предисловием к русскому изданию трактата по антропологии Леви-Брюля «Первобытное мышление», который повлиял на веру Эйзенштейна в то, что для перехода в состояние экстаза необходимо погрузиться в «пралогическое», чувственное мышление, действующее по своим собственным законам328. С помощью такого сотрудничества режиссер надеялся обнаружить основополагающие механизмы восприятия и познания, которые можно было бы использовать в структурировании максимально действенных сцен в кино329. Этот проект совместного исследования так и не состоялся: он был прерван поездкой Эйзенштейна за границу, которая длилась почти три года, а по его возвращении – смертью Выготского и Марра в 1934 году. В результате сталинского преследования педологии двумя годами позже Лурия был вынужден оставить психологию и начал новую карьеру в неврологии330.
Некоторые следы теоретического диалога Эйзенштейна с педологией Лурии и Выготского можно, впрочем, найти в том, как кинематографист рассматривает детские рисунки, служившие ключевым предметом исследования в культурно-историческом подходе этих ученых к психологии развития. Один такой пример появляется в эссе Эйзенштейна «За кадром»: «А. Р. Лурия показывал мне детский рисунок на тему “топить печку”. Все изображено в сносных взаимоотношениях и с большой добросовестностью. Дрова. Печка. Труба. Но посреди площади комнаты громадный испещренный зигзагами прямоугольник. Что это? Оказывается – “спички”. Учитывая осевое значение для изображаемого процесса именно спичек, ребенок по заслугам отводит им и масштаб»331.
Для Эйзенштейна детское пренебрежение пропорциями демонстрируетизобразительную логику, не запятнанную диктатом реалистического мимесиса, преподаваемого в западных художественных институтах. Увеличение ключевых предметов отражает понимание ситуации ребенком. «Можно проследить эту особую тенденцию от ее древнего, почти доисторического источника», – пишет Эйзенштейн, полагая, что ребенок естественным образом следует иерархическому принципу, управляющему структурой икон и религиозных изображений в Древнем Китае332. Аналогичным образом, утверждает Эйзенштейн, крупный план выделяет и гиперболизирует деталь, на которой режиссер хочет сконцентрировать внимание аудитории. Согласно этой теории, детский рисунок выполняет двойную функцию: он и обозначает предметы, и выражает точку зрения художника.
Эйзенштейновская дискуссия по поводу мыслительного процесса, закодированного в детском рисунке, была подсказана аргументом Лурии и Выготского, что этот рисунок является предвестником письма и должен трактоваться как способ мышления или как инструмент, формирующий умственное развитие333. Вырабатывающаяся способность передавать мысли графическими средствами меняет сознание ребенка так же, как и его навык овладения устной речью. В процессе рисования развивающийся мозг учится управлять понятиями, взаимоотношениями и категориями, выстраивая активный, преображающий подход к миру334. Для Выготского рисующий ребенок не стремится к похожести: он – скорее символист, чем реалист, и изображает «не то, что он видит, а то, что он знает»335. Процесс рисования уподобляется, таким образом, творческому акту называния, а не копирования предмета336.
Чтобы продемонстрировать связь между рисованием и письмом как речевой формой, Лурия руководил экспериментами, целью которых было заставить детей обнаружить мнемоническую функцию записи заметок. Совсем маленьких детей, еще не умеющих писать, просили запомнить ряд устных фраз и давали им карандаш и чистый лист бумаги. В ходе серии таких занятий дети начали использовать линии и закорючки для обозначения слов, которые они хотели запомнить. Вначале они рисовали одинаковые линии для разных слов; затем они научились создавать уникальные формы, впоследствии уступившие место изображениям и фигуркам (Лурия и Выготский называли их «пиктограммами»). На этом этапе дети были способны записать целую фразу, комбинируя пиктограммы в своего рода ребусы. В конечном счете, пиктограммы были заменены более продвинутыми «идеограммами», то есть более абстрактными, усеченными символами337.
«Идеограмма» в понимании Лурии и Выготского стала ключевым термином в эйзенштейновской статье. Он напоминал, что идеограммы используются в китайской письменности, где абстрактные элементы, едва напоминающие пиктограммы, соединяются, создавая новые понятия. Напротив, западное искусство, стремящееся к реализму, застыло на уровне пиктограмм, т. е. менее совершенном этапе изобразительного мышления. Отсюда следует, что кинематографисты должны стремиться выйти за пределы реалистического изображения и использовать отснятый материал для формирования новых понятийных структур, как это когда-то сделали изобретатели китайской письменности, отказавшиеся от первоначального фигуративного изображения букв. Затем Эйзенштейн сравнивает киномонтаж с попытками ребенка передать фразу с помощью обособленных картинок или, на более поздней стадии развития, абстрактных символов, возникших из пиктограмм. Таким образом, можно провести параллель между идеограмматической коммуникацией и «интеллектуальным монтажом». Эйзенштейн стал первопроходцем такого экспериментального принципа соединения кадров в фильме «Октябрь» (1928), где, например, один эпизод состоит из планов, обособленных от ситуационного контекста действия. Этот монтажный ряд начинается с христианских, индуистских и буддистских скульптур, а затем показывает идолов и маски африканских и эскимосских аборигенов. Цель режиссера – задать риторический вопрос «Что есть бог?» в момент фильма, когда генерал Корнилов поднимает антиреволюционный мятеж под лозунгом «Во имя Бога...».
Для Эйзенштейна детские рисунки похожи на кино не только комбинацией элементов, но и тем, что они включают в себя принцип развертывания или постепенного раскрытия смысла. Его эссе «Монтаж и архитектура» (1937) использует детский рисунок для представления идеи визуального пути как композиционного принципа: «Изображение является типичным детским рисунком. Оно кажется бессмысленным для изображения пруда с деревьями на берегу до тех пор, пока мы не поймем его внутренней динамики. Здесь деревья изображены не с одной точки, как мы привыкли изображать их в картине или показывать в одном кадре. Здесь рисунок вбирает в себя последовательный ряд изображенных деревьев так, как они обнаруживаются по пути следования наблюдателя между ними»338.
Для Эйзенштейна детский рисунок воплощает собой физическое движение по тропе и отражает функционирование детского воображения, перемещающегося от одной сцены у пруда к другой. Такое толкование близко утверждению Выготского, что рисунки детей «рассказывают истории» – они не столь изображают предметы, сколь повествуют339. Связь между детскими рисунками и речью, пишет Выготский, может наблюдаться в тенденции у молодых художников произнести слово, прежде чем нарисовать его. Эйзенштейн следует тому же принципу: детский рисунок пруда он использует для анализа структуры пути вокруг греческого Акрополя и других архитектурных объектов, во время которого открываются их различные, иногда противоположные виды. Он сравнивает эти сопоставления в архитектуре с процессом, когда в кино мысль зрителя следует за целенаправленно организованным соединением кадров.
Какая модель детской психологии вытекает из сочинений Эйзенштейна? В поиске психологических универсалий режиссер без особых усилий переходит от детских рисунков к архаичному и не-западному искусству. Добавьте к этому его интерес к рефлексологическому исследованию «протоязыка» шимпанзе зоологом Сергеем Доброгаевым, и это сочетание начнет настораживать из-за подборки примеров, которые так или иначе «выбиваются из нормы», т. е. не дотягивают до мышления взрослого человека западного образца340.
Однако обвинения в расизме были бы несправедливы в случае Эйзенштейна. Так же как Выготский и Лурия, написавшие книгу «Этюды по истории поведения: обезьяна, примитив, ребёнок» (1930), в которой они, в сущности, раскрывают уникальную творческую логику детей и неграмотных взрослых в Средней Азии, Эйзенштейн не верил в превосходство Запада над Востоком, цивилизованных культур над архаичными, взрослых над детьми или людей над животными341. Хотя в его мышлении (как и у многих других модернистских художников начала ХХ века), несомненно, присутствует некая доля экзотичности и культурного эссенциализма, он был далек от проявлений нетерпимости. Как подчеркивает теоретик кино Хомей Кинг, восхищение Эйзенштейна китайской и японской каллиграфией в эссе об идеограммах «За кадром», в сущности, отвергает бинарные оппозиции ориенталистов, которые традиционно связывают Запад с разумом и языком, а Восток – с чувствами и изображениями342.
«Бежин луг» как детский фильм
Представления Эйзенштейна по поводу детской психологии, полные ученых сравнений и неожиданных реконтекстуализаций, не совпадали с утопическими надеждами большевистских идеологов на четкие и ясные манипулятивные схемы. Свидетельством этого расхождения служит официальный запрет его фильма «Бежин луг» (1937), источником сюжета которого была история Павлика Морозова (его играл 11-летний мальчик)343. В сталинской культуре мальчик был героем-мучеником: он выдал своего отца, «кулацкого заводилу», и погиб от рук своих родственников. Событие, произошедшее на Урале в 1932 году в разгар коллективизации, было подхвачено прессой и приобрело статус легенды, поскольку совпадало с партийными лозунгами, призывающими граждан отринуть сыновнюю привязанность и влиться в ряды новой социалистической семьи в масштабе всего государства344. Образ грубого отца Павлика Морозова, пособника кулаков, был порожден компанией нагнетания страха перед саботажниками и врагами Революции, окопавшимися на селе. Киновед Наталия Нусинова подчеркивает, что прославление Павлика Морозова в прессе предвосхищалось популярным фильмом «Танька-трактирщица» (1929), где избиваемая девочка-подросток восстает против своего жестокого отчима-кулака и в финале становится пионеркой345. Другие рассказы о героях-пионерах, включая газетные истории о подвигах подростков, а также поэтические и прозаические произведения, которые начали появляться в середине 1920-х годов, также способствовали формированию подобного мифа.
Идея символического бунта детей против старого режима находится и в центре сценария «Бежина луга», написанного драматургом Александром Ржешевским. Он позаимствовал название из рассказа Ивана Тургенева, в котором дети из бедной деревни собрались ночью вокруг костра, чтобы поделиться своими мыслями по поводу ежедневных тягот и страха перед потусторонним. В произведении Тургенева подросток Павлуша выступает как яркий и находчивый лидер, но в конце рассказа читатели узнают, что через несколько лет он погибнет в результате несчастного случая. Ржешевский перенес героя Тургенева в современный мир, назвав Степком и направив его решительный, свободолюбивый дух в послереволюционный бунт против угнетающего и отсталого социального порядка, все еще сохраняющегося в советской глубинке346. Ожидалось, что Эйзенштейн восславит зарождающееся революционное сознание мальчика. В какой-то момент в период производства Борис Шумяцкий, руководитель Главного управления кинофотопромышленности, настаивал, чтобы режиссер сделал две версии фильма: одну для взрослых и другую для детей347.
Однако «Бежин луг» не стал незамысловатой сталинской агиографией, а оказался потрясающим анализом травматического периода истории. Согласно Эйзенштейну, старый деревенский общественный уклад глубоко прогнил, но и утопическое коммунистическое будущее нигде не просматривается. Еще больше усложняет миф о Павлике Морозове то, что Эйзенштейн представляет убитого мальчика не как сакральную жертву, принесенную во имя социализма, а как бессмысленную жертву стихийного крестьянского суеверия и хтонической дикости. Более того, он насытил, как отметил Наум Клейман, кинематографическую версию истории отсылками на литературные и мифологические сюжеты трагических конфронтаций Отца и Сына: Лай и Эдип, Исаак и Авраам, Рустам и Сухраб из эпоса «Шахнаме» поэта Х века Фирдоуси и др348. Пробуждая эти мотивы, режиссер встраивает случай Павлика Морозова в культурную перспективу, превращая свой фильм в размышление над архетипом, который веками тревожит воображение человечества, зачастую прорываясь на поверхность во времена гражданских войн349.
Вторжение Эйзенштейна в древние мифы о конфликтах отцов и детей было его способом достичь в фильме «Бежин луг» потаенных глубин коллективного бессознательного, местопребывания общечеловеческих комплексов и архетипов. Показательно, что фильм был задуман во время его увлеченности педологическими идеями и антропологией Леви-Брюля, на волне проекта по разработке – в сотрудничестве с Выготским, Лурией и Марром – невербального кинематографического языка.
Эйзенштейн заявлял: «...Метод моего интеллектуального кино состоит в том, чтобы от форм выражения сознания более развитого двигаться (вспять) к формам сознания более раннего» и добавлял, что эта регрессия может проходить «по линии ли умственного развития народов или в развитии детской психологии (книжек по этому вопросу тоже начитался немало!)»350. Моделируя предполагаемую реакцию зрителя, Эйзенштейн делал ставку на такое повествование о самых драматических моментах истории того времени, чтобы оно было нацелено на первозданные, универсальные, повсеместно распространенные формы восприятия, свойственные детям и архаичным культурам. Не будет преувеличением предположение, что экспериментальный стиль «Бежина луга» отражал его понимание внутренней динамики детского чувственного и эмоционального освоения реальности.
Показательно, что режиссер планировал применить принцип обратной перспективы, которую он ассоциировал с детскими рисунками, в дерзкой мизансцене, где Степок должен был сниматься на фоне рирпроекции с гигантской фигурой его отца, чтобы создавалось впечатление, будто кулак нависает над мальчиком, хотя и стоит далеко позади него351. Это творческое решение было, похоже, подсказано убеждением Выготского и Лурии, что маленькие дети имеют тенденцию смешивать пространственные соотношения, воспринимая отдаленные предметы, как если бы они были досягаемы, доступны для тактильного изучения352. Психологи заявляли, что юное сознание часто неспособно отличить фантазию от действительности настолько, что живые образы, порожденные эйдетической памятью ребенка, накладываются на его восприятие реальных предметов и пространственных соотношений353. Здесь можно предположить, что эйзенштейновское изображение отца Степка было нацелено на то, чтобы вызвать в восприятии зрителя его угрожающее присутствие в ментальном мире мальчика.
Судя по сохранившимся кадрам картины в фотофильме-реконструкции 1967 года (в 1937-м власти конфисковали и уничтожили оригинал Эйзенштейна), «Бежин луг» отличала слегка искаженная, маньеристская визуальная атмосфера, возникавшая из-за частого применения нижних точек съемки и спорадических бликов на отдельных предметах при общем кьяроскуро (светотеневой контрастности) осветительной схемы354. Специальные фильтры на объективах усиливали контрастность изображения, наполняя мир Степка таинственностью и чудесами. Стилизованный видеоряд обострял эмоциональную насыщенность сцен. Оставаясь верным монтажному принципу, Эйзенштейн создавал атмосферу обширного пространства и жутких событий, проводя зрителя сквозь значимые, часто сталкивающиеся детали – точно так же, как в детских рисунках, которые анализировал Лурия.
Предпочтение, отданное пошаговому раскрытию темы, действующему через переключение сознания, видно в режиссерской тенденции представлять мозаику эмоциональных реакций на события – лица одно за другим – при каждом важном сюжетном повороте. Американец – студент Эйзенштейна (впоследствии переводчик его трудов) Джей Лейда, наблюдавший работу режиссера на площадке, вспоминал, что тот выделял отдельные элементы мизансцены – будто отдавал дань японскому искусству укиё-э, сосредоточиваясь «на изоляции частностей, на целостности кажущихся случайными деталей»355. Согласно Эйзенштейну, «импрессионистский» эстетический принцип резонировал с поэтикой Тургенева356. Но прежде всего, «Бежин луг» делал ставку на пафос и катарсис, в нем не могли не использоваться психологические исследования Эйзенштейна по этим темам, в том числе идеи, которые он почерпнул из педологии. Все кульминационные моменты сюжета, светлые или темные, структурированы прорывами на передний план. В одной такой сцене разрушение церковного алтаря деревенским силачом, напоминающим библейского Самсона, кладет начало экстатическому братанию крестьян, освобожденных от угнетающих религиозных догм357. После выстрела в Степка обезумевший отец прижимает окровавленного мальчика к своей груди, а затем отталкивает его и исчезает в темноте358. Степку удается встать и сделать несколько шагов ему вслед – в свободной белой рубахе, с распростертыми, как у Христа, руками...
Не удивительно, что партийные чиновники сочли, что произведение Эйзенштейна перегружено мистицизмом и не способно послужить идеологическим руководством для советской молодежи359.
В 1927 году педология приветствовалась большевистскими руководителями культуры как всеобъемлющая научная программа воспитания будущих строителей социализма: «Именно в СССР, где в растущей социалистической среде начинает создаваться новый, социалистический человек, педология впервые консолидируется как материалистически-диалектическая, марксистская научная дисциплина, впитывая в себя и синтезируя наиболее ценный научный материал о взаимоотношениях растущей человеческой личности с окружающей средой. Материал этот педология почерпает из социологии, из клиники, гигиены, педагогики»360.
Это грандиозное заявление имело мало общего с настоящим положением вещей на местах, где борьба разных психологических школ, их методологические недостатки и несовместимость различных дисциплин разрушали возможность создания общей платформы, которая могла бы дать значимые результаты для реальной педагогики.
Несоответствие представлениям о педологии как инструменте социального контроля, свойственное идеологам, и неортодоксальное применение в теории кино различных педологических идей дает яркий образ Эйзенштейна как художника, подрывающего авторитарное начинание самим актом доведения идей психологов до их логического завершения. Рассматривая способы, с помощью которых фильмы могут включать в себя изначальные структуры восприятия и познания, Эйзенштейн находит необычный ракурс касательно рефлексологии и присоединяется в качестве соисследователя к вскоре объявленному вне закона культурно-историческому подходу к личностному развитию. Вытекающая из этого теория кино переосмысливает и перенацеливает идеи педологов, сочетая их неожиданными способами с другими источниками и усложняя таким образом идеологические принципы, которые навязывали педологии Бухарин и Луначарский.
Перевод Сергея Костина
/ Карла Олер /

Карла Олер (Karla Oeler) – преподает историю и теорию кино и медиа на факультете искусств и искусствознания Стэнфордского университета (США). Карла является автором книги «Грамматика убийства: сцены насилия и киноформа» («A Grammar of Murder: Violent Scenes and Film Form», University of Chicago Press, 2009). Ее статьи печатались в различных журналах США и Европы, в том числе в Cinema Journal, The Journal of Visual Culture, and Slavic Review. Сейчас работает над монографией «Поверхность вещей: кино и устройства интерьера» (The Surface of Things: Cinema and the Devices of Interiority).
Шекспир Эйзенштейна
Этой статье предшествовала работа Никиты Лари «Эйзенштейн и Шекспир» (1993)361. Лари анализирует, как влияние елизаветинской драмы ощущается в творчестве Эйзенштейна, перечисляет его юношеские эскизы декораций для воображаемых постановок Шекспира, изучает рисунки Эйзенштейна на шекспировские темы, определяет черты, делающие «Ивана Грозного» трагедией и, наконец, рассматривает некоторые из поздних работ Эйзенштейна о Шекспире.
Моя статья посвящена вниманию, которое Эйзенштейн уделил Шекспиру в своей незаконченной книге «Метод», опубликованной впервые в 2002 году, через девять лет после публикации работы Лари.
В «Методе» Эйзенштейн часто обращается к произведениям Шекспира, особенно к «Гамлету», чтобы показать то, что он называет «чувственным мышлением». В своем выступлении на Всесоюзной творческой конференции советских кинематографистов 1935 года, которое включено в «Метод», Эйзенштейн дал определение такого мышления как «“регресса” к ранним формам пралогики, предшествующей логике»362. Он находит проявления таких «форм» в устаревших верованиях, ритуалах, социальных системах, загадках, орнаментах и даже в процессах восприятия на ранних стадиях жизни. Среди его ключевых примеров разнообразно рассматриваются метафоры, метонимии, синекдохи и ритм. Эйзенштейн заявляет: «Диалектика произведения искусства строится на любопытнейшей “двуединости”. Воздействие произведения искусства строится на том, что в нем происходит одновременно двойственный процесс: стремительное прогрессивное вознесение по линии высших идейных ступеней сознания и одновременно же проникновение через строение формы в слои самого глубинного чувственного мышления»363.
«Метод» фокусируется на смысле двойственного обращения к инстинкту и к разуму в процессах создания и восприятия искусства.
Для Эйзенштейна напряжение между разумом и инстинктом, или тем, что он различает как активацию передней и затылочной частей мозга, помогает объяснить неослабевающую культурную важность «Гамлета». (Эйзенштейн в целом ознакомился, благодаря советскому нейропсихологу Александру Лурии, с функциями мозжечковых миндалин и лобных долей мозга364.) На последующих страницах я рассмотрю его основные утверждения, касающиеся активации чувственного мышления у Шекспира, и опишу некоторые пути, которыми Эйзенштейн следует в таком прочтении Шекспира при постановке двух серий «Ивана Грозного».
Согласно Эйзенштейну, неизменная значимость «Гамлета» заключается в колебаниях пьесы между «разными слоями сознания: более атавистическими и более передовыми»365. Как и Т.С. Элиот в книге «Священный лес» (которая в «Методе» тоже цитируется), Эйзенштейн подчеркивает разницу между «Гамлетом» и одним из его источников, «Испанской трагедией» Томаса Кида. Эйзенштейн относится более благоприятно, чем Элиот, к шекспировской пьесе и не соглашается с мнением Элиота по поводу негодования Гамлета из-за поведения матери, склоняясь к психоаналитическому прочтению пьесы Отто Ранком, который считал ее вариантом истории Эдипа. Однако, хотя Эйзенштейн и предпочитал описание сюжета Ранком изложению Элиота и восхищался обобщениями Ранка, даже вдохновлялся его трудами при работе над «Иваном Грозным», он критиковал психоанализ за то, что называл «задержкой на полустанке эротики»366.
Эйзенштейн считал так: для того чтобы действительно понять человеческие ощущения и эмоции, требуется идти дальше эротизма ребенка и изучать сенсорное наследие наших эволюционных предшественников, вплоть до одноклеточных организмов. Он утверждал, например, что поскольку зрение развилось из осязания, смотрение сохраняет синестетическую связь с прикосновением. Иными словами, Эйзенштейн не был особенно заинтересован в прочтении пьесы через эдипов комплекс: его интерес к атавистическим сенсорным и эмоциональным реакциям, которые искусство провоцирует и выражает, выходит далеко за пределы эротики и даже за пределы исключительно человеческого существа.
Эта рамочная структура объясняет его более благосклонное сравнение сюжета «Гамлета» с предшествующей ему «Испанской трагедией» Кида. У Кида кровная месть – это общепринятая традиция, служащая защите семейного права наследования. В «Гамлете» мышление переходит «от стадии обязательности вендетты в сторону каких-то иных моральных принципов»367. Эйзенштейна интересует это «движение» мышления368. Мысль то отклоняется, отступает от старой, укоренившейся реакции (кровная месть), то возвращается к ней. Смысл пьесы раскрывается, утверждает Эйзенштейн, в тот момент, когда понимание справедливости приближается к парадигме, делающей акцент не на возмездии и мести, а на защите граждан общества. Пьеса фиксирует напряженность между инстинктом отмщения и более современным чувством справедливости, что и обеспечивает, по Эйзенштейну, ее неослабевающее признание в качестве важнейшего произведения искусства. По его мнению, атавистическое никогда полностью не исчезает, оно продолжает существовать в психике, всегда доступное для эстетической (и другой) активации, готовое деформировать, но также оживить или вдохновить цели сознательного разума. Эйзенштейн знал, что его размышления о «Гамлете», записанные в 1943 году во время работы над «Иваном Грозным», адресованы и современности. И вряд ли случайно Сталин, который мстительно и без колебаний прибегал к насилию, чтобы избавиться от своих политических оппонентов, в 1946 году критиковал Эйзенштейна за то, что тот изобразил Ивана Грозного слишком похожим на Гамлета, то есть недостаточно решительным при свершении убийств «ради Русского царства великого».
Хотя Эйзенштейн в связи с «Гамлетом» не упоминает «Психологию искусства» Льва Выготского, он обсуждал с психологом функцию искусства и хранил в своей библиотеке авторизированную машинописную копию этой книги, написанной в 1925 году. Его понимание «Гамлета» как борьбы между двумя подходами к справедливости, один из которых только зарождался, в общем и целом соответствует анализу пьесы Выготским, выделявшим в ней три силы: силу истории как таковой, заключающейся в относительно стандартном нарративе отмщения, унаследованном Шекспиром; силу сюжета, где Гамлет сопротивляется жажде мести, откладывая ее так долго, что когда он, наконец, убивает короля, «то это выходит вовсе не из мести»369; и силу героя, чей характер (как облик в реалистичном портрете, где губы и глаза выражают разные чувства) становится живым как раз благодаря тому, что он пытается удержать вместе противоборствующие силы истории и сюжета.

Облако (верблюд – хорек – кит). Рисунок Сергея Эйзенштейна к «Гамлету» Шекспира, 1940
Эйзенштейн усматривает подобное динамическое взаимодействие чувственного мышления и разума на уровне отдельных сцен и даже предложений. Например, в июле 1940 года он пишет о контурном рисунке и утверждает, что в 1927 году он испытал внезапное озарение по поводу второй сцены третьего акта «Гамлета». Работая по переводу Бориса Пастернака, Эйзенштейн цитирует момент, когда Полоний вызывает Гамлета к королеве, и тот втягивает его в разговор об облаке:
Полоний. Милорд, королева желает поговорить с вами, и немедленно.
Гамлет. Видите вы вон то облако в форме верблюда?
Полоний. Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять верблюд.
Гамлет. По-моему, оно смахивает на хорька.
Полоний. Правильно: спинка хорьковая.
Гамлет. Или как у кита.
Полоний. Совершенно как у кита.
Гамлет. Ну, так я приду сейчас к матушке370.
Эйзенштейн приступает к подробной интерпретации сцены: «Это – не бред и в известной степени вовсе не издевка. Бредом и насмешкой оно кажется Полонию. По существу же это – показатель длительности сцены: кучевое облако трижды успевает видоизменить свой контур, пока лихорадочно концентрированно Гамлет обдумывает, как быть, и выигрывает время. (Королева ждет его... “немедленно” – обстановка во дворце уже нервная и повышенного темпа, сцена [2 идет] сразу после “мышеловки” и перед молитвой короля и сценой с матерью и смертью Полония.)»371
Конкретизируя свое изначальное понимание того, что сцена отображает течение времени, Эйзенштейн пишет, что Гамлет, выигрывая время, чтобы обдумать свой следующий ход, «вслух и совершенно естественно» размышляет «до-интеллектуализированно: обегая взглядом контуры предметов...» Эйзенштейн определяет это как мышление «ранней формой, целиком связывающейся с... пещерным рисунком – линейным! – наскальных изображений» и повторяет свою трактовку, разрабатывая ее: «Таким образом, Гамлет здесь целиком раздвоен – расщеплено сознание: внутри он лихорадочно обдумывает [ситуацию], внешне мыслит (под давлением аффекта) как “дикарь” и использует непременную заразительность этого, особенно для простаков типа “хитрого” Полония [...] для оттяжки времени».
И Эйзенштейн заключает: «Куда это дать? Пожалуй, в пример регресса к этапу процесса создавания наскальных изображений»372.
Более медленный («пешеходный») ритм вроде бы рассеянного, неторопливого внимания Гамлета к фигурам, которые он усматривает в меняющем форму облаке, взаимодействует с ритмом его скачущих мыслей так, что взаимодействие этих двух ритмов придает сцене характер паузы или передышки; это микрокосмический вариант колебаний Гамлета в ходе всей пьесы. По мнению Эйзенштейна, сама пьеса в свою очередь является неким балансированием между быстрым ритмом кровной мести («око за око») и более медленным ритмом современного правосудия, направленного на защиту граждан, а не на совершение возмездия.
В начале своего осмысления гамлетова облака Эйзенштейн делает для себя заметку в одно слово: «Наташа?». В комментарии составитель «Метода» Наум Клейман поясняет, что Эйзенштейн имеет в виду знаменитую сцену в опере Наташи Ростовой, ключевую для обоснования «остранения» Виктора Шкловского. Эта запись свидетельствует о том, что обсуждение трансформирующегося облака Гамлета не только отражает проблему рисунка, но и проявляет то, что Эйзенштейн называет «предметным мышлением». На ином уровне, Эйзенштейн прочитывает «Гамлета» так, как Шкловский читает восприятие Наташей оперной постановки. Вместе того, чтобы принять условности оперы и понимать сцену, как полагается театралу, Наташа видит лишь материальность декораций и искусственность исполнительской манеры, которые кажутся странными вне их смысловой наполненности. Вместо того, чтобы ухватиться, как это делают другие читатели пьесы, за толкование, согласно которому рассуждения Гамлета об облаке свидетельствуют о его безумии и/или о легковерности либо подобострастии Полония, Эйзенштейн обращает внимание на сценическое время, в течение которого герои довольно правдоподобно делают вид, что различают разнообразные формы животных в постепенно изменяющихся контурах воображаемого облака. Однако, в отличие от Наташи, Эйзенштейн использует этот взгляд на объективный, основанный на опыте компонент сцены – ее временнóе измерение, чтобы найти новое и иное значение: этот разговор означает, что Гамлет тянет время. От общепринятого осмысления этой сцены, будто бы символизирующей безумие или двуличие, мы проходим через буквальное восприятие – через время, которое буквально занимает созерцание меняющего форму облака, – и теперь уже через обновленное фигуральное осмысление переходим к иному регистру: эта сцена о выигрыше времени.
Именно это стремление пойти дальше буквализации или перенести внимание на кажущийся малозначимым и все же необходимый элемент сцены – ее временну́ю составляющую, а затем вернуться к фигуральному смыслу, как раз и отличает обоснование Эйзенштейна от трактовки Шкловского. Шкловский делает акцент на раскрытии приема; Эйзенштейн же выводит на первый план колебания ума между непосредственным физическим восприятием вещей и видением вещей как знаков чего-то иного. Это различие и делает «предметное мышление» в качестве компонента чувственного мышления независимо значимой категорией.
Для Эйзенштейна быстрое взаимопревращение значений – переносного и буквального (в обоих направлениях) – воплощает игру между различными уровнями сознания. Описывая хитрость, благодаря которой Порция побеждает на суде Шейлока, Эйзенштейн замечает, что она переворачивает переносное понимание «фунта плоти» в сторону убийства. Она возвращает его к буквальному значению как единице веса, требуя, чтобы там был ровно фунт и ни на йоту больше или меньше. Как и с гамлетовским облаком, меняющим свои очертания, Эйзенштейн снова сравнивает этот момент из «Венецианского купца» с Наташей в опере. В обоих шекспировских примерах мы видим вибрацию между абстрактным и чувственным способами восприятия.
Эйзенштейн находит чувственно-эмоциональное мышление и на более детальном, чем целая сцена, уровне – в шекспировском акценте на движении. Он часто цитирует в «Методе» книгу 1935 года Кэролайн Сперджен «Образный мир Шекспира и что он говорит нам» (Caroline Spurgeon, «Shakespeare’s Imagery and What It Tells Us»). Сперджен цитирует в качестве эпиграфа к четвертой главе «Субъектный материал для образов Шекспира» реплику из «Троила и Крессиды»: «Поскольку движущееся скорее привлекает взор, / Чем то, что неподвижно» (3.3.183). Эпиграф созвучен мысли Энгельса, которую часто цитирует Эйзенштейн: «Мы больше обращаем внимание на движение, на переходы и связи, чем на то, что именно движется, переходит, находится в связи»373. В этой главе Сперджен пишет: «Чем подробнее мы изучаем образный строй Шекспира, тем яснее становится, что есть одно качество, или характеристика, среди его образов, которое подавляющим образом всегда и всюду привлекает его, и это качество есть движение: природа и явления природы в движении»374.
Для Эйзенштейна акцент на движении и особенно на «словоразмещении, где описание движения и действия (глагол) предшествует описанию того, кто движется или действует (существительное), ближе отвечает той структуре, которая первоначальнее»375. Этим умозаключением Эйзенштейн предлагает нам способ осмысления запоминающихся движений в его фильмах. Совсем несложно вспомнить кадры и сцены, где он показывает движение раньше, чем поясняет, кто или что движется, откладывает осознание причины и следствия, движущегося и движения. Мы можем вспомнить стремительно сменяющие друг друга кадры чего-то мелькающего в небе, чего-то не раз падающего со всплеском в море, прежде чем гибель судового врача проясняется в символическом кадре его пенсне, болтающегося на тросе. «Вдруг» начинается бег по ступеням Одесской лестницы, прежде чем мы увидим стреляющих карателей. Или, если обратиться к последнему фильму Эйзенштейна, шапка Мономаха таинственным образом поднимается в собор, прежде чем в нижней части кадра, как будто запаздывая, появляется голова несчастного князя Владимира. Эйзенштейн, как Шекспир, умеет разнообразить способы, которыми он отдает предпочтение движению.
Сперджен продолжает: «Вводя глаголы движения относительно неподвижных или, скорее, абстрактных, не способных к физическому движению вещей… [Шекспир] наделяет жизнью неодушевленные и неподвижные предметы. <...> Такое “оживление безжизненных вещей”, как это сформулировал Аристотель, является, можно сказать, обычным методом поэзии, но ни один поэт ни до, ни после не использовал его так постоянно и разнообразно, как Шекспир»376.
В раннем кино многие зрители замечали, что это новое средство коммуникации, похоже, наделяет жизнью неодушевленные предметы, но, как и Шекспир, Эйзенштейн отдавал «оживлению безжизненных вещей» особое предпочтение, подчеркивая их движение. Критики не замедлили отметить это свойство: в 1926 году в рецензии на «Броненосец “Потёмкин”» Алексей Гвоздев пишет: «В фильме Эйзенштейна играют вещи, а не актеры»377. Виктор Шкловский острит, что «Октябрь» – это барочный фильм по поводу «восстания посуды»378. А Роберт Уоршо замечает о «взревевшем льве», смонтированном в «Потёмкине» из трех мраморных скульптур: «В связи со львами важно, что все “искусство” их использования зависит от того, что они – не живые»379.
Один из главных примеров, приведенных Сперджен из «Антония и Клеопатры», об использовании Шекспиром движения, созвучен массовым сценам у Эйзенштейна, особенно эпизоду из первой серии «Ивана Грозного», где толпа просит царя вернуться в Москву. Сперджен пишет: «Цезарь размышляет о непостоянстве народной славы и поддержки, о том, что властелин желанен, лишь пока он не добился власти, в то время как утративший популярность общественный идол вновь обретает вес, когда он умер. Шекспир передает эту мысль образом морских водорослей и их движения, наталкивая на нее двумя строками во второй половине своего высказывания:
А тот, кто был при жизни нелюбим,
Становится кумиром после смерти.
Он продолжает:
Толпа на водоросль блуждающий похожа,
Что по воде плывет вперед, назад,
Куда его теченье увлекает,
Сгнивая от движенья своего.
Что за картину вызывает это особого вида движение, в точности аналогичное переменчивости действий несведущих простолюдинов, и какая сила заключена в словах “блуждающий”, “увлекает”, “вперед-назад”, несущих идею беспричинной покорности, водорослей, меняющих направление под натиском волн и влекомых в никуда – к самоуничтожению»380.

Шествие одесситов к палатке Вакулинчука. Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”», 1925
Огромна разница между шекспировским Цезарем, эйзенштейновским Иваном и толпами, текущими к ним и от них.
Но можно найти преемственность в самом образе извечного течения прилива и отлива – образе, который простирается от риторики Цезаря у Шекспира до буквализации метафоры у Эйзенштейна. В «Броненосце» толпы одесситов стекаются на похороны Вакулинчука, а в «Грозном» поток москвичей молит Ивана о возвращении на царство.
Экранное воплощение той же шекспировской метафоры прибоя в отношении народных масс ведет в конечном счете к образному финалу (задуманному, но не снятому) саги об Иване Грозном: в финале 3-й серии царь должен был стоять у завоеванной Балтики, бурные волны которой Иван поначалу как будто укрощает, но в последнем кадре сам остается опавшим (по выражению Эйзенштейна) на пустынном берегу отхлынувшего моря.
Я не настаиваю на сознательном влиянии, но лишь обращаю внимание на прочно укоренившуюся, широко распространенную тенденцию выводить на передний план движение и в переносном, и в буквальном смысле (и, что принципиально для Эйзенштейна, имею в виду непрестанные сдвиги от образного к буквальному и обратно).
Сперджен заключает свое рассмотрение важности движения у Шекспира: «Похоже, что Шекспир находит в движении сущность самой жизни, и если бы он вообще формулировал подобные мысли, то, полагаю, согласился бы с Вордсвортом, что высший принцип, который мы можем придумать, таков:
Движение и дух, что направляет
Всё мыслящее, все предметы мыслей,
И все пронизывает»381.

Крестный ход в Александрову слободу. Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1-я серия), 1944
Сперджен ассоциирует Шекспира с вордсвортовским сплавом мышления и движения в стихотворении «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства». Поражает, что и Сперджен, и Эйзенштейн одобрительно отмечают взаимосвязь между мышлением и движением – в противоположность созерцательной неподвижности или фиксации на ясной и четкой, но статичной идее. У Сперджен Шекспир разделяет с Эйзенштейном приверженность акценту на мышление как на движение и никогда как на покой.
Это эссе выявило следующие качества в эйзенштейновском восприятии Шекспира: акцент на движение в широком смысле и, в частности, на движение между регрессивной и прогрессивной тенденциями, такими как кровная месть и современное правосудие, и в «Гамлете», и в «Иване Грозном»; а также упор на глубинное движение между буквальным и образным смыслами, что для Эйзенштейна включает «остранение» Шкловского.
В заключение я хотела бы уточнить это утверждение и указать, какими способами подобные виды движения наполняют «Ивана Грозного», создание которого совпало с написанием некоторых соответствующих глав «Метода».
Эйзенштейн видит в «Гамлете» неустанное движение между традицией отмщения и современным правосудием, целью которого является безопасность общества. Аналогичным образом, царь Иван ввязывается в борьбу за власть с боярами, поскольку мечтает о сильном русском государстве, способномзащитить своих подданых, но его мстительная ярость по отношению к боярам уводит от этой цели. Поглощенный своим возвышенным идеалом России, он не видит своих врагов. Увидев своих врагов, он упускает из вида свой идеал. И счастливой середины не существует.
Мы видим пугающий сдвиг между переносным и буквальным смыслами, когда царь Иван сравнивает голову Малюты с «пустым» колоколом и затем намекает, что головы, как и колокола, можно отрубать.
Другой пример: сдвиг смысла (по Шкловскому или по Наташе Ростовой) между переносным и буквальным возникает, когда прикованная к постели Анастасия лишается чувств, услышав о возможной измене Курбского, и царь Иван пытается дать ей попить. Он спешит выйти из ее опочивальни, где на первом плане стоит на страже Малюта. На заднем плане (в мягкофокусном изображении) Иван бросается то влево, то вправо с протянутыми руками в поисках чаши. Далее возникают кадры Анастасии, Ефросиньи и ее руки, ставящей чашу с ядом на уступ над лестницей. Иван идет к чаше и, хватая ее, немного наклоняется над уступом. Теперь он легко может увидеть Ефросинью, стоящую ниже, хоть краем глаз. Но он берет чашу, не показывая, что видел ее.
Я хочу подчеркнуть момент кажущейся преднамеренной и маловероятной слепоты по отношению к тому, что находится прямо перед глазами Ивана (чуть ниже). Это выглядит как ошибка мизансцены: Ефросинью следовало бы немного больше скрыть от Ивана и Малюты. Или она оказалась там как будто для того, чтобы создать выразительный двухмерный кадр, но никак не убедительное трехмерное пространство, где Ивану, чтобы увидеть ее, достаточно посмотреть вниз. Как мы знаем, слепота Ивана здесь готовит сцену с его запоздалым «видением» Ефросиньи внутренним взором: когда (во второй серии фильма) Фёдор Басманов говорит царю, что его жена была отравлена, и Иван вспоминает, что сам протянул Анастасии чашу с ядом, которую (опосредованно) получил от Ефросиньи, – он осознает, что эта она, должно быть, поставила ее на уступ. Так что в сцене отравления Иван некоторым образом видит Ефросинью, даже если мизансцена ясно демонстрирует, что он не сумел понять то, что он увидел. Эта его игра слепоты странным образом противоречит мизансцене, согласно которой он должен был ее увидеть, и мы сами оказываемся в странной расщелине между смысловым миром сюжета и конкретным пространственным решением его постановки, в некоторой степени как Наташа в опере. Эйзенштейн позволяет царю Ивану не заметить Ефросинью – действовать так, будто она полностью вне поля зрения, а потом, запоздало, узреть ее вероломство – вспомнить, что она находилась буквально под ним, интригуя против него все это время. Тем самым Эйзенштейн наделяет своего царя Ивана способностью двигаться между переносным и буквальным пластами, используя этот прием для усиления сюжета. Сначала Иван вроде бы не заметил Ефросинью, а затем, во вспышке предметного мышления, он отчасти воспроизводит мысленно момент отравления и осознает, что, вероятно, видел ее.
Наконец, в дополнение к шапке Мономаха, которая в ключевых моментах (венчание на царство, убийство Владимира Старицкого) как бы движется сама по себе, без человеческой головы под ней, нам стоит помнить, что предпочтение, отдаваемое движению, а не тому, что движется, происходит на уровне деталей, – мы часто видим движение теней, прежде чем появляются люди, которые их отбрасывают. (Это и намек на «Белоснежку и семь гномов» Уолта Диснея.) И буквальное видение движения до того, как мы видим, что именно движется, подчеркивает сам сюжет: цареубийца видит одинокое движение среди теней собора и убивает Владимира вместо Ивана.
По таким примерам мы можем проследить, как эйзенштейновский Шекспир ведет нас к шекспировскому Эйзенштейну.
Перевод Сергея Костина
/ Массимо Оливеро /

Массимо Оливеро (Massimo Olivero) – читает лекции по истории и эстетике кино в Университете Поля Валери (Монпелье, Франция). Защитил докторскую степень по истории и теории кино в университете Sorbonne Nouvelle (Париж), где в течение шести лет преподавал историю классического голливудского кино и эстетику советского авангарда. Его диссертация «Фигуры экстаза. Эйзенштейн и эстетика пафоса в кино» опубликована во Франции издательством Mimesis в 2017 году.
Двуглавый экстаз: философские корни творчества позднего Эйзенштейна
Концепция экстаза разрабатывалась Сергеем Эйзенштейном в 1940-х годах, в частности, в его незавершенном труде «Неравнодушная природа». «Принцип изобразительного экстаза» выдвигался для разработки формулы проявления пафоса, способного расширить границы изобразительности и представить неизобразимое. Фильмические формы, используемые для достижения экстаза, должны взаимодействовать при сотворении художественного произведения, одновременно органического и патетического, где все элементы с предельной пафосной интенсивностью принимают участие в воплощении главенствующей темы.
Экстаз порождается визуальными средствами, такими как наплывы или крупные планы, ритм монтажа, глубина кадра или оптическое искажение перспективы, а также, как в поздних звуковых фильмах Эйзенштейна, через звукозрительный монтаж. Цель Эйзенштейна – выйти к предельно высоким уровням сознания после нисхождения к примитивным слоям пралогического мышления, в соответствии с методом, основанным на диалектике регрессивно-прогрессивного движения. Эйзенштейн преобразует патетически неоформленный материал, где каждый элемент находится в непосредственной взаимосвязи со всеми другими, на новом, качественно более высоком уровне, где все обретает форму через посредство всех соучаствующих сторон. Однако часто это оформление не обретает совершенства, поскольку невидимые силы пафоса ускользают от воли и намерений автора; таким образом, Патетический Материал образа выходит за пределы, устанавливаемые Идеей.
Вот почему так важно по возможности четче разграничить две полярные силы в теории и практике творческого экстаза. Древнегреческое божество Дионис воплощает биполярную модель теории экстаза Эйзенштейна. Дионисийский миф допускает сосуществование двух противоположных и непримиримых инстанций, жизнеутверждающей и деструктивной, порождающее две противоборствующие философские позиции, одновременно проявляющие себя в искусстве Эйзенштейна.
С одной стороны, есть Дионис как разодранное тело, способное воскресать, некая метафора негативного, интегрируемого в позитивное. С другой – есть некто, не отказывающийся от отрицания и получающий удовольствие от травмы. Следовательно, воскресение Диониса напоминает воскрешение Христа, как результат победы над негативным, но в то же время оно как будто манифестирует свою радикальную противоположность распятию Христа, и тогда Дионис воплощает «нечто, превосходящее все возникшие, разрешенные и подавленные противоречия, – их переоценку»382. В первом случае это наталкивает на «гегельянского Диониса», а вот во втором – приближает к мифической фигуре Заратустры.
Миф о Дионисе, растерзанном организме, который перевоплощается в новом, преображенном теле, воспроизводится Эйзенштейном как политическая и одновременно художественная модель. На ее основе репрезентируется некая старая общность, расщепляемая и преображаемая в новое, качественно более совершенное единство. Как экстатическая форма, «в Дионисиях разрывался земной и примитивный Вакх с тем, чтобы, воссоединяясь из своих частей, вновь возродиться в обогащенной высшей “божественной” форме»383. Его прочтение очень близко, если не сказать эквивалентно, диалектической концепции Гегеля: Дионис – это метафора общности или произведения искусства, отрицающих отрицание. Однако вместе с тем Эйзенштейн интерпретирует дифирамб «как момент глубинной, синтетической общности, не только между средствами выразительности (пением и танцем, музыкой и движением), но также между актерами и зрителями, сценой и аудиторией»384.
Таким образом, благодаря непрямой отсылке к Ницше через прочтение мифа психоаналитиком Альфредом Винтерштейном, Эйзенштейн возвращается к идее синтетического единства произведения искусства как непосредственного, непроявленного слияния составляющих его элементов, в соответствии с действующим в примитивных обществах законом партиципации, по Леви-Брюлю. Следовательно, регрессивное измерение в дискурсе Эйзенштейна об экстазе не исчерпывается диалектическим процессом и требует независимого и «параллельного» толкования относительно основной версии.
Экстаз как диалектическое движение
Говорить о неравнодушии природы для Эйзенштейна означает конструировать диалектическую эстетику, в которой произведение сначала проходит фазу отрицания-отчуждения, самопроизвольно возникающую как растерзание Диониса, затем возвращается к себе и снова проходит через отрицание, отрицающее первое как отчуждение отчуждения. В итоге произведение становится второй природой, качественно более совершенной, которая сначала производит патетические фигуры, изменяющие и деформирующие ее формальные структуры и изобразительные элементы, а затем генерирует из себя более высокий смысл, придающий ее отчужденным частям форму и единство. Эта вторая природа включает в себя достижение экстаза, сравнимого с самосознанием гегелевского Духа в его художественной форме, выражающего одновременно правду природы и путь к самопознанию, который выбирает субъект, становящийся теперь уже субъектом в себе и для себя. Это гегелевское выражение «an und für sich» используется Эйзенштейном, когда он говорит об огне как метафоре экстаза: «Огонь... как зрелище эстетического an und für sich [...] как бы “скомпонован” по диалектической “прописи” (подобно композициям экстатическим!)»385.
Эйзенштейн обращается к диалектике Гераклита и ее метафизической манифестации в огне как патетической фигуре, рождающей вечно меняющиеся образы, одновременно воплощая в себе логос, меру и предел как основополагающие принципы общественного единства. Для Эйзенштейна деструктивный патетический импульс всегда ассоциируется с конструктивной силой логоса. «Золотое правило» Кинга Джиллетта гласит, что совершенство работы изобретенной им безопасной бритвы обеспечивает «легкий полуоборот, который надо сделать в обратную сторону сразу же после того, как она завинчена до отказа»386. Это правило помогает не выпасть в пустоту бесформенности или заржаветь в неподвижном синтезе: «В практическом приложении... следует придерживаться того же “золотого правила” Кинга К. Джиллетта – держаться на пол-оборота от предельной точки»387. Решение проблемы заключается именно в этом воздержании, потому что нельзя терять напряжение из-за взрыва, нельзя разрывать экран и позволять угаснуть образу. Пользуясь этим «золотым правилом», Эйзенштейн избегает попадания «в сферу “чистого” аффекта, чувства, ощущения, “состояния”»388, придерживается эстетического и этического принципа пропорциональности, восходящего к нормам греческой трагедии, к катехону («удерживающему» – греч.) – запрету, осуждающему любую дурную бесконечность, любой эксцесс, неизбежно приводящий к саморазрушению или самодовольству. Этот жест, который помогает предотвратить какое бы то ни было разрушение художественной формы, в то же время обеспечивает эффективность на политическом уровне, уважает логос как некий расчет пределов и сохранения равновесия в обществе. Это означает, что две противоречивые силы, работающие в кинематографе Эйзенштейна, должны соединиться на экране, не позволяя ни одной из них разрушить другую. Экстатический образ, результат процесса, в котором вызревает смысл, напоминает воздушный шар, который готов лопнуть, но все же сохраняется, увеличиваясь в объеме (как экстатический образ эксцесса), или же «лопается», сразу же воссоздавая себя (образ превращается в другой, более богатый и мощный, чем предыдущий).
Экстатическая форма Эйзенштейна, подобно гегелевскому Истинному, есть «вакхический восторг, все участники которого упоены»389, где, иначе говоря, каждый выразительный элемент (изображение, цвет, звук) пропитывается пафосом, манифестируя себя лирично, избыточно, возбуждающе, в то же время пользуясь «словами» (миметическими формами) – эксплицитными, «прозрачными и простыми», эффективными. Идеальный пример для такого определения экстаза можно найти в эпизоде, олицетворяющем процесс выявления отрицания-пафоса для создания новой плодотворной конфигурации, из диснеевского фильма «Белоснежка и семь гномов» (1937), где Королева перевоплощается в Колдунью. Этот эпизод в точности воспроизводит диалектический процесс, в котором качественно трансформируются составляющие элементы: Королева облекается в новый, более эффективный образ, чтобы обмануть и убить Белоснежку. Обращаясь к верному ворону, Королева объясняет свой «диалектический» замысел, находит волшебную формулу для превращения в свою противоположность (ведьму) и затем превращает обыкновенное яблоко в смертельное оружие; примерно ту же самую операцию совершает Эйзенштейн с кинематографическими приемами. После того как Королева выпивает волшебное зелье, все начинает изменяться, смешиваться с окружающим, растворяться в бесформенной магматической материи. А затем и тело Королевы претерпевает метаморфозы, впадая в экстатическое состояние. В полном органическом соответствии с патетической трансформацией объекты этого пространства меняются, утрачивая свое привычное состояние: экран заполняет водоворот абстрактных цветных линий, движущихся своим путем. Превращение Королевы сопровождается образами бури, туч и молний, второй экспозицией весь экран покрывает зеленая жидкость, означающая всемогущее действие волшебного зелья, насыщающего пространство, тем самым создается почти абстрактное изображение. Завершение ее мутации в ведьму приводит к патетическому финалу эпизода, после чего изображение возвращается к прежней конфигурации. Эта регрессия на уровне формы устанавливает на уровне нарратива достижение Королевой ее подлинного статуса. Поэтому она – фигура, способная справиться с нарастанием отрицательной силы, преобразовать ее для своих целей и передать свою идею в пластических формах.
Это первое и принципиальное формулирование эйдетического экстаза полностью соответствует тому состоянию, что было описано Эйзенштейном в 1932 году в Мексике в «Конспекте для статьи Аниты Бреннер...», где он определил его целевое, визуальное и теоретическое измерения, глубоко связанные со временем и зрителем. Это – формулировка экстаза, в котором по возможности достигается «maximum приближения (по крайней мере, в намерениях и установках) к объективно-диалектическим принципам»390.
Экстаз как регрессия: падение, избыточность, греза
Другой полюс экстаза близок идее избыточности, регрессивного импульса, направленного к неопределенности, расплывчатому смешению элементов, чувственно воспринимаемой непосредственности пафоса. Это антидиалектическое измерение отсылает к плеяде таких мыслителей, как Ницше, Фрейд, Батай. Второе «субъективно-личностное» измерение экстаза находит свое наиболее очевидное воплощение в мексиканских рисунках Эйзенштейна с их экстремальной жесткостью и семантической двусмысленностью.
Особый интерес представляет рисунок в письме, адресованном Леону Муссинаку. На нем изображен полуобнаженный лежащий мужчина с выпирающим животом и вставшими дыбом волосами. Раскинутые руки и ноги привязаны к четырем коням, которые тащат его в разные стороны и вот-вот разорвут на части. Рисунок озаглавлен «Эйзенштейн, четвертованный своими увлечениями». Это ироничный автопортрет, где автор в виде известной средневековой пытки визуализирует свою неизбывную способность разрываться между разными сферами деятельности и культурных интересов. Эйзенштейн часто ссылается на муки от своей эрудиции и от ненасытной любознательности, которую он не может укротить и поставить себе на службу. Более того, он ясно осознавал, что у него набралось гораздо больше проектов в набросках и черновиках, чем законченных работ, как будто некая сила инерции тормозила их реализацию. Эта деструктивная сила, видимо, эквивалентна центробежной тенденции, она заставляет его двигаться сразу во всех направлениях, и он ее визуализирует в таком образе боли и смерти, как будто осознавая утрату цели. Этот образ граничит с риском разрушения органичности структуры произведения. Он выявляет жертвенное и жестокое измерение, в котором Эйзенштейн отдавал себе отчет: «Жестокость, не нашедшая своего приложения к мухам, стрекозам и лягушкам, резко окрасила подбор тематики, методики и кредо моей режиссерской работы.
Действительно, в моих фильмах расстреливают толпы людей, дробят копытами черепа батраков, закопанных по горло в землю, после того как их изловили в лассо (“Мексика”), давят детей на Одесской лестнице, бросают с крыши (“Стачка”), дают убивать их своим же родителям (“Бежин луг”), бросают в пылающие костры (“Александр Невский”); на экране истекают настоящей кровью быки (“Стачка”) или кровяным суррогатом артисты (“Потёмкин”); в одних фильмах отравляют быков (“Старое и новое”), в других – цариц (“Иван Грозный”); расстрелянная лошадь повисает на разведенном мосту (“Октябрь”) и стрелы вонзаются в людей, распластанных вдоль тына под осажденной Казанью»391.
Все описанные выше образы пафоса, если рассматривать их вне контекста, вне их служебной роли в постановке, легко могут восприниматься как своего рода анатомия насилия, самооправдывающаяся жестокость, чистое удовольствие шокировать и очаровывать публику ужасающими образами разрываемой плоти. Эти варварские акты, если они взяты в их симптоматичной независимости, не позволяют воссоздать тела после уничтожения, достичь окончательности, надеяться на воскрешение. Здесь возникает риск небытия, сдирания кожи, чего Эйзенштейн, вспоминая совет Джиллетта, хотел избежать полуоборотом бритвы назад. Экстаз вне представляемого им содержания создает угрозу собственной смысловой функциональности. В подобных случаях его результат ограничивается областью чистого визуального эффекта, чистого «зрелищного события», чья функция состоит не в том, чтобы нечто репрезентировать или обозначать, а чтобы легализировать лишь собственное присутствие.
Примерно так происходит в эпизоде из «Генеральной линии», где молоко огнеметной очередью выплескивается из жерла сепаратора в лицо Марфы, ассоциируясь с актом эякуляции (воспринимаемом как чистая избыточность/удовольствие). В итоге идея плодородия подрывается бесполезным рассеиванием спермы, отсылая к оргиастическому удовольствию, получаемому не через «каналы “нормальной” генитальной сексуальности», а, вместо этого, «переходя точку невозврата, распыляя силы либидо вне целого, в ущерб целому»392, или, другими словами, во вред органичности происходящего на экране.
Здесь мы можем обнаружить «“второго” Эйзенштейна, того, кто [иначе разрешает] тупиковую ситуацию, создаваемую противоречием между чувственным и рациональным»393. Описанные выше фигуры экстаза являются образом одновременно органичным и открытым (обнажающим, растравляющим) – образом отверзающего разрыва, который смертельно ранит тело без надежды на воскрешение. Эйзенштейн принимает это регрессивное измерение, когда утверждает, ссылаясь на Фрейда, что достижение гармонии, мира и единства с Природой возможно лишь через саморазрушение и смерть тела.
Эйзенштейн признает, что его творчеству присущ и этот регрессивный характер экстаза. Экстаз во втором измерении можно также обнаружить у Диснея, например, в «Дамбо» (1941), в эпизоде, где у слегка подвыпивших слона и мыши возникает видение «плазменных толстокожих». Персонажи представлены здесь в предельно патетическом состоянии, объединенные общим стремлением к некоему превращению. Размеры, телосложение и способность сопротивляемости, как и цвет каждого из них, постоянно изменяются: все подчинено принципу текучести и плазматической эластичности. Нестабильность, охватившая каждую фигуру, доходит до формирования бессвязного, непостижимого пространства, где все может вывернуться в противоположность.
Общая образная картина многократно разламывается из-за присутствия в кадре множества слонов: еще одно пластическое проявление идеи экстаза как взрыва вследствие количественного увеличения. Персонажи деформируются, достигая той степени интенсивности, которая необходима для создания «степеней сплавления», где все очертания, составляющие наполнение кадра, исчезают полностью и навсегда. Это экстатическое видение не имеет какой-либо диегетической направленности; его можно скорее интерпретировать как серию чистых образов-аттракционов. Таким образом, сам эпизод работает на чистое удовольствие от лицезрения хаотичного, бессвязного, горячечного изображения: он свидетельствует о «плазматической привлекательности», непосредственной воз-действенности плазматичных фигур в постоянном состоянии нестабильности: «Можно было бы назвать это протеевским элементом, ибо миф о Протее [...] точнее, the appeal [привлекательность – англ.] этого мифа базируется, конечно, на omni-potence (омнипотентности) плазмы, в “жидком” виде содержащей все возможности будущих видов и форм»394.
Диалектика или антиномия? Хиазм как способ осмысления экстаза
Эйзенштейн писал, что «Экстазис [sic] затрагивает (одновременно) оба полюса»395, логос и пафос. В «Конспекте для статьи Аниты Бреннер» он предлагает воссоединить две предыдущие стадии, чтобы рассмотреть «концепцию искусства в его целостности»: в единстве теории и практики искусства, которое рождается из экстаза «так же, как, согласно Ницше, трагедия родится из духа музыки», и разума, который использует «анатомический скальпель материализма, направленный в самые, казалось бы, эзотерические области человеческого переживания и “духа”»396.
Итак, Эйзенштейн говорит о единстве, о включении двух противоречащих друг другу тенденций, тех же самых, которые в этом тексте описываются как экстаз «регрессивный» и экстаз «эйдетический». Похоже, обе эти позиции сосуществуют и оппонируют одна другой в его теории и в его практике, но, на мой взгляд, они не соединяются в истинном синтезе: точнее было бы говорить о парадоксальном «дуальном единстве», союзе логоса и пафоса, где чувственная составляющая никогда не оказывается полностью подавленной.
Здесь можно говорить о сотрудничестве/конфликте, что должно быть рассмотрено и как интенсивная форма рационального познания, и как тревожное загадочное видение, выраженное в двусмысленности экстатических фигур, таких как мать на ступенях Одесской лестницы или лицо Марфы, обрызганное молоком. Такая двойственность не может быть полностью разрешена или разграничена, подобно тому, как в описании Вальтера Беньямина парижские аркады являются одновременно «улицей и домом», а проститутка – «продавцом и товаром в одном лице»397.
Сотрудничество и противоборство этих двух позиций следует рассматривать не в плане однозначного выбора между диалектикой или антиномией, но скорее как хиазм, как образ, где «мы сохраняем отринутое нами»398, как стилистическую фигуру, которая позволяет яснее понять Эйзенштейна. Хиазм – это риторическая фигура, выражающая одновременно как реверсирование, используемое диалектической мыслью, так и сохранение противоречия, свойственное антиномическому мышлению, то есть хиазм «не предлагает решения путем преодоления»399.
У Эйзенштейна происходит переход от диалектического синтеза, где каждый элемент находится в рациональном соотношении со всеми другими, к иной типологии синтеза, на этот раз регрессивного, который состоит скорее в непосредственном слиянии частей, где противоречия сосуществуют, не нуждаясь в каком-либо посредничестве.
Эйдетический экстаз, развивающийся на основе идеалистической субъект-объектной диалектики отрицания отрицания, выходит за рамки пассивно воссозданного отражения реальности и навязывает глобальное, рациональное видение действительности, потому что оно трансформировано сознательным человеческим действием.
Напротив, регрессивный экстаз предъявляет радикальное обвинение материалистическому мифу о неограниченном прогрессе, о безусловности разрушения любой предшествующей формации истории и человеческой культуры, о продуктивности утилитаризма.
Итак, теория экстаза Эйзенштейна двулика; она совпадает то с образом Чародея из «Фантазии», владеющего всеми способами провоцирования пафоса, то с образом его Ученика/Микки, испытывающего на себе силу его воздействия.
Наконец, образ экстаза – это формальная проработка синтеза открытий и открытий синтезов, точка максимального напряжения произведения, где Дионис говорит голосом Аполлона.
Перевод Нины Цыркун
/ Наталья Рябчикова /

Наталья Рябчикова – окончила киноведческий факультет ВГИКа и защитила докторскую диссертацию по кино в Питтсбургском университете (США), где преподавала русский язык, историю литературы, культуры и кино. Преподает в Американской студии Школы-студии МХАТ и в Школе дизайна Высшей школы экономики. Ее статьи публиковались в научных сборниках, а также в журналах «Киноведческие записки» и «Studies in Russian and Soviet Cinema». Была редактором специального номера ежеквартальника «Critical Quarterly», посвященного Сергею Эйзенштейну и модернизму. Работает над подготовкой к изданию лекций С.М. Эйзенштейна по кинорежиссуре.
Детектив Эйзенштейн
1.
Вопрос о жанре последнего фильма Сергея Эйзенштейна никогда не вызывал особых споров, но все же служил причиной для разногласий. Юрий Цивьян скупо перечислил варианты: «биографический фильм», «историческая драма», «барочная драма», «опера без пения», «эксцентрическая трагедия»400. Однако, как говорил такой знаток жанровой литературы, как Хорхе Луис Борхес, «может быть, жанр связан не столько с самим текстом, сколько со способом его прочтения»401. В таком случае почему бы не высказать предположение, что «Иван Грозный» – детектив? Представим себе, что преступление свершилось, виновник – детектив, и приступим к расследованию. Такой «способ прочтения» будет плодотворнее, если ориентироваться в большей степени на замысел фильма, чем на его фактическое воплощение, перипетии которого были не раз изложены Р. Юреневым, Л. Козловым, Н. Клейманом и др.
Для начала, как это принято в детективных романах, следует произвести осмотр «места преступления» и собрать «улики».
2.
Что есть, собственно говоря, детектив? Суммируя многочисленных теоретиков и практиков жанра, можно сказать, что важнейший элемент детектива – это тайна и процесс ее разгадки. При этом тайна вовсе не обязательно должна быть связана с преступлением, хотя преступление (желательно, убийство и, желательно, «кровавое») входит в традиционную детективную схему.
Что касается преступлений, то, несомненно, «Иван Грозный» является рекордсменом среди фильмов Эйзенштейна (речь идет именно об умышленных преступлениях, а не, к примеру, о массовых убийствах, выразительными образами которых полны картины режиссера, начиная со «Стачки»). Убийства, совершенные опричниной, также носили массовый характер, однако в замысле «Ивана Грозного» они решены, так сказать, «индивидуально».
Узловыми моментами фильма и являются убийства, в которых – заметим на будущее – Иван каждый раз исполняет новую функцию.
«Иван Грозный» должен был начинаться со сцены убийства Елены Глинской и князя Овчины-Телепнева, свидетелем которого становится подросток Иван (Эйзенштейн сместил здесь время, чтобы дать два убийства одновременно, – кроме того, нет исторических сведений о том, что Иван мог при этом находиться). Второе убийство – отравление царицы Анастасии, задуманное «боярской оппозицией» во главе с Ефросиньей Старицкой и содеянное руками самого Ивана.
Существующий вариант фильма заканчивается сценой убийства князя Владимира Старицкого, заколотого по ошибке вместо самого Ивана. В начале работы над сценарием Эйзенштейн предполагал включить туда знаменитую сцену убийства Иваном своего старшего сына, «политическое самоубийство», но отказался от нее в пользу более сложной схемы: Фёдор Басманов по приказу царя («названного отца») убивает собственного отца, а затем по его же приказу гибнет сам.
Царь в сценарии и фильме не только свидетель, жертва, преступник, но и сыщик. В сцене Пещного действа Грозный «находит» убийцу Анастасии, утверждаясь в мысли, что это – его тетка Старицкая, а затем посылает ей пустую чашу из опочивальни царицы как знак того, что преступление раскрыто. В сцене пира в Александровой слободе Иван «добывает» у Владимира сведения о заговоре и готовящемся покушении на его жизнь («с задачей детектива и методом психотерапевта»402). В сцене с духовником Евстафием из третьей серии царь мгновенно перевоплощается из кающегося преступника – в жестокого «следователя».
Таковы чисто сюжетные признаки классического, традиционного детектива в «Иване Грозном», однако сам Эйзенштейн называл детектив «романом с загадкой» и неоднократно говорил о его происхождении от приключенческих романов Фенимора Купера и романов-фельетонов Эжена Сю, Виктора Гюго, не говоря уже о Гастоне Леру и Поле Февале. Это позволяет нам основываться не только на жесткой структуре традиционного детектива, но и прослеживать более общие типовые ситуации и схемы, связанные с ним и с родственным ему авантюрным романом.
3.
Чтобы обратиться к возможным причинам введения черт «низкого жанра» в высокий жанр трагедии «Иван Грозный», сделаем небольшое отступление во времени (именно таково и поведение детектива, чья задача – идти от момента события назад, к побудившим его мотивам).
Распространение детективных (или, как тогда говорили, «сыщицких») романов в конце XIX – начале XX века было столь велико (особенно в их «бульварной», серийной разновидности), что увлечение ими и влияние их на поколение, чье детство пришлось на это время, было само собой разумеющимся, и о нем почти не упоминали. Тем не менее, Виктор Шкловский в своей биографии Эйзенштейна вводит «сыщицкий роман» в контекст их одновременного детства уже на второй странице и сразу связывает его с кинематографом: «...мальчиком я узнал из иллюстрированного журнала, что в Париже на Всемирной выставке (в 1900 году) показывали живую фотографию: пленка загорелась, был большой пожар. Позднее из “Приключений Арсена Люпена – вора-джентльмена” я узнал подробности.
Легенда говорила, что Арсен Люпен спасал людей из огня, спас почти всех и всех обокрал. Кража действительно произошла.
Книги о сыщиках продавались на углах; они висели за газетчиком на стене...»403
Сам Эйзенштейн в мемуарной главе также объединяет книги и фильмы «тайн»: «Еще в самых юных годах я увлекался бесконечной серией уголовно-детективных романов, имевших героем неуловимого “Фантомаса”.
Киноровесник серии фильмов об Ирме Вамп – “Вампиры” – он увлекал воображение и заставлял стынуть в жилах кровь в моменты, когда через отверстие калорифера в наглухо забаррикадированную комнату проникал колоссальный черный удав, раздавливая в своих объятиях беспомощную жертву; или когда таинственный любовник леди Бельтам – Фантомас уходил сквозь стенку в тот именно момент, когда неутомимый сыщик Жюв в крепком рукопожатии схватывает его за руку: от руки отделялась перчатка из кожи убитого человека, а рука Фантомаса свободно из нее выскальзывала...»404
Уже к середине тридцатых увлечение детективами вошло в актив теоретических размышлений Эйзенштейна о форме. При этом, например, в выступлении на Творческом совещании кинематографистов 1935 года он уже разделял увлекательное содержание и увлекательную форму, в которую оно укладывается. В сороковые годы Эйзенштейн говорил студентам на лекции: «На протяжении истории кинематографа неоднократно пробовали уложить в традиционные детективные формы материал большевистского подполья. Ничего не выходит. Это пробовали делать и в 1920-х, и в 1930-х годах, но получилось не смыкание рядов, а почти голый конструктивизм, ибо в несерьезную форму втискивалось глубокое, серьезное содержание»405.
В Алма-Ату, где Эйзенштейн одновременно работал над «Иваном Грозным» и книгой «Метод», он, по собственным словам, из всей своей богатейшей библиотеки взял всего пять книг: «Как всегда – отправляясь в путь – детективные романы. Ничего более»406. Даже если счесть этот рассказ преувеличением, в Алма-Ате Эйзенштейн, видимо, действительно читал (и перечитывал) много детективов – к примеру, из книжных собраний иностранцев, покинувших Москву в 1941 году. В «Методе» он приходит к мысли о том, что «сюжет как материал и сюжет как строй – конечно, такие же стадии воплощения идеи через форму...»407.
На уровне «сюжета как материала» Эйзенштейн мог бы воспользоваться элементами детектива в своих замыслах, начиная с «Американской трагедии» Драйзера, часть экранизации которой занимало описание американской судебной системы, чей автоматически-безупречный ход разрушает жизнь невиновного – имевшего преступные намерения, но не убившего – юноши Клайда (позднее эти размышления перекликнутся у Эйзенштейна с разбором «Братьев Карамазовых»). Среди его проектов был также фильм о деле Дрейфуса, а перед самой войной он работал над сценарием о деле Бейлиса.
Что касается «структуры жанра», то вполне распространенным является мнение о том, что к концу тридцатых годов Эйзенштейн в своем творчестве стал опираться на традиционные сюжетные структуры, в отличие от «бесфабульных» ранних фильмов. Наиболее заметно это именно в «Иване Грозном». Виктор Шкловский, один из первых читателей сценария, отметил в нем мотивы романов Дюма и Гюго: «Мне Сергей Михайлович говорил, что он использовал сюжетное построение Виктора Гюго. Построение это мы лучше всего знаем по опере “Риголетто”. Король соблазнил дочку шута. Шут решил убить короля. Но любовница короля – дочка шута – надевает королевскую одежду. Шут хочет убить короля, но убивает шута. Это старый ход. Еще Аристотель говорил, что дух трагедии состоит не в том, что враг убивает врага, а в том, что друг убивает друга»408.
Вот его же свидетельство о влиянии одного эпизода из романа Дюма на сцену смерти Малюты (в третьей серии фильма): «Это сознательно взято Эйзенштейном, который хотел работать на проверенном материале сюжетного аттракциона, из Дюма. Дюма в “Трёх мушкетёрах” показал силача-простака Портоса, комического любовника жены скупца-нотариуса. <...> Но вот нотариус умер. Портос стал богачом. Теперь он мечтает о титуле. К нему приходит Арамис, ставший главой иезуитов и главой заговора против короля. Все это происходит в романе “Десять лет спустя”. Заговор не удался. Ждут ареста. Портос бежит через пещеру, но происходит преждевременный взрыв.
Глава носит название “Смерть титана”. По ходу романа нужен уже Портос-полубог, наивный герой. Свод пещерного прохода падает на Портоса.
Даю цитату:
“Портос ощущал, как под его ногами дрожит раздираемая на части земля. Он выбросил вправо и влево свои могучие руки, чтобы удержать падающие на него скалы. Гигантские глыбы уперлись в его ладони; он пригнул голову, и на его спину навалилась третья гранитная глыба…”
Малюта погибает как титан, но и как герой фельетонного романа, как герой сюжетного аттракциона»409.
Хотя сами французы порой отрицали прямое влияние романа-фельетона на развитие детективного жанра, писательница Дороти Сэйерс в 1929 году утверждает обратное: «В 1848 году Дюма-отец, всегда готовый заняться чем-либо новым и увлекательным, внезапно вставил в романтический сюжет своего “Виконта де Бражелона” пассаж чисто детективного свойства. Ничего подобного во всем цикле о мушкетерах не случалось, и похоже, что появление такого отрывка – результат немалого интереса Дюма к криминальной жизни (сам он опубликовал большую книгу о знаменитых уголовных делах)»410. Именно «Де Бражелона» вспоминает и Шкловский.
Что касается отсылки к «Риголетто», то в своих текстах Эйзенштейн указывает другие источники этой схемы, разыгранной в эпизоде «Пир в Александровой слободе». При этом не так важно, говорил ли Шкловскому об этом сам режиссер, важно, что отсылки к такого рода литературе – романам тайн, романам-фельетонам – явно сознательно включались Эйзенштейном в текст «Грозного». При этом в процессе создания сценария и в подготовительных материалах к съемкам Эйзенштейн занимается психологией героев, обоснованием их поведения, и ничего не пишет о сюжетных принципах построения сцен.
4.
Эйзенштейн был чуток к жанровым ходам, которые вычленял не только в Бальзаке («Об одном пристрастии господина Бальзака») или в Диккенсе («Диккенс, Гриффит и мы»), но и в Достоевском, относительно поздно начавшем входить в киноведческий оборот как один из источников, повлиявших на создание «Ивана Грозного»411. Сам Достоевский испытывал влияние не только исторических и современных ему судебных процессов – например, материалов процесса Ласенера412, – но и Эдгара По: «Вспомним хотя бы роль “Сердца-обличителя” в истории замысла “Преступления и наказания” Достоевского»413. К переводам материалов процесса Ласенера и трех рассказов По, в том числе «Сердца-обличителя», в редактировавшемся им журнале «Время» Достоевский написал предисловия в 1861 году.
Про «Ивана Грозного» можно сказать словами самого Эйзенштейна о Достоевском: «Почти каждая вещь Достоевского – типичный уголовный роман с сыском, с чем хотите.
“Преступление и наказание”, “Братья Карамазовы” – по схеме типичные уголовные романы. По сюжетному ходу, по сюжетным заданиям здесь взяты максимально действенные схемы, причем очень глубинного порядка – в “Карамазовых” – убийство родителей, – и посажены на абсолютно верно воздействующий материал»414. Этого же мнения придерживались такие исследователи творчества Достоевского, как Л. Гроссман, В. Шкловский, М. Бахтин.
Если, держа в уме все вышесказанное, перечитать самый первый эпизод сценария, то окажется, что он, опираясь на романтизированный стиль «романов тайн» в духе Гюго или Эжена Сю, задает вполне недвусмысленный режим чтения:
«В глубине светлой точкой выделяется
восьмилетний мальчик, пугливо прижавшийся в угол.
Аппарат быстро наезжает на него.
Крупно – испуганное лицо мальчика.
За кадром – исступленный женский вопль.
Мальчик подался в сторону.
Мальчик на полу. По нему проносятся тени людей,
пробегающих со светильниками.
Внезапноотворяется низкая дверка.
Резкий луч света падает в палату.
В луче вбегает и падает около мальчика
женщина в облачении княгини.
Княгиня около мальчика. Лихорадочно говорит:
“Умираю... Отравили... Берегись яду!.. Берегись бояр!..”
Вбежали девушки, подхватили княгиню,
увели ее обратно в горницу. Захлопнули дверь»415.
В духе романтической традиции «романов тайн», а вслед за ними – классических детективов, в сценарии «Ивана Грозного» (пародийно?) намечены и пейзажи – со снежной бурей, в какую мчатся опричники во главе с Малютой, с тенями, в которых прячется Ефросинья, с упоминавшейся выше сценой смерти «героя фельетонного романа» Малюты и происходящей незадолго до нее гибели Курбского, тонущего в болоте, как типичный злодей Конана Дойля.
Пролог же в этом смысле занимает особое место, так как через Эдгара По Эйзенштейн связывается не только с детективной традицией, но и со всем кругом волновавших его в период работы над «Грозным» тем. Однако для того чтобы верно оценить эту связь, необходим еще один экскурс в историю – вслед за режиссером нужно пройти еще глубже, к предшественникам и Достоевского, и Гюго, и По.
5.
В выступлении на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии 1935 года Эйзенштейн называет одним из предшественников всех детективов Фенимора Купера, ссылаясь на Бальзака, Гюго и Эжена Сю416.
Ту же генеалогию жанра прослеживает Дороти Сэйерс: «С 1820 по 1850 год были опубликованы романы Купера, которые не только пользовались огромной популярностью в Америке и Англии, но и были переведены на многие европейские языки. В “Следопыте”, “Зверобое”, “Последнем из могикан” и других романах этого цикла Купер познакомил восхищенных юных читателей обоих полушарий с тем, как индейцы выслеживают свою добычу, читая следы, обращая внимание на сломанный прутик, упавший лист, поросший мохом ствол. Это подстегивало детское воображение, мальчишки подражали Ункасу или Чингачгуку. Романисты, не желая подражать Куперу “на его территории”, нашли способ получше: они перенесли романтику лесной глуши в родное окружение своей собственной страны»417.
Эйзенштейн почти дословно неоднократно повторяет последнюю фразу418 в исследовании «Неравнодушная природа»: «...всесокрушающий успех детективных романов, построенных на погоне и преследовании, конечно, взывает к тем же пережиткам охотничьего инстинкта… Это подтверждается еще и тем, может быть, недостаточно широко известным фактом, что романы об охоте сыщиков за преступниками во многом обязаны своим возникновением и жанровым оформлением романам о подлинных следопытах, преследующих диких зверей в девственных лесах, романам, принадлежащим перу величайшего мастера этого рода литературы – Фенимору Куперу.
На Купера ссылается Бальзак в “Блеске и нищете куртизанок”, где тема погони полиции за Карлосом Херрерой занимает центральное место.
О Купере пишет на первых же страницах “Парижских тайн” Эжен Сю. <...>
Об этом же пишет Виктор Гюго.
А Поль Феваль и Дюма продолжают эту линию перенесения нравов девственных лесов в обстановку преступности лабиринтов больших городов»419.
Если для Сэйерс подобная генеалогия детектива была лишь историческим фактом и давала возможность элегантно перевести действие из «романтики лесной глуши» в «романтику трущоб», то для Эйзенштейна эта связь была особенно важна, так как возводила сей «низший сорт» литературы прямиком к первобытному мышлению, которым он активно начал интересоваться в конце 1920-х годов: «Почти каждый элемент детектива неизбежно связан с самыми глубинными темами раннего мышления и сознания.
Тут и охотничий инстинкт, уходящий даже за низшие пределы начал собственно человеческой стадии живых существ.
И фазы охоты-погони сдерживают каркас динамического хода развивающихся событий»420.
Рассуждения об охотничьем инстинкте Эйзенштейну нужны для прояснения мысли, которую он иллюстрирует высказыванием Уильяма Хогарта – одного «из самых горячих энтузиастов и последовательных теоретиков... принципа многолинейного единства композиции»: «...Активный разум всегда склонен к тому, чтобы быть чем-либо занятым. Преследование – неустанное дело нашей жизни, и даже освобожденное от всяческих практических целей, оно доставляет нам удовольствие.
Всякое возникающее затруднение, которое на время прерывает или тормозит такое преследование, дает новый импульс мысли, увеличивает удовольствие, и в результате то, что иначе было бы трудом и трудностью, становится спортом и развлечением.
На чем бы иначе держалась прелесть охоты, стрельбы, рыбной ловли и многих других излюбленных занятий, если бы не было постоянных нагромождений трудностей и разочарований, с которыми ежедневно сталкиваешься при преследовании? <...>
Уму приятно трудиться над решением самых сложных проблем; аллегории и загадки – как бы малосерьезны они ни были – всегда развлекают его: и с каким наслаждением готов он следить за хорошо сплетенным ходом нити действия пьесы или романа, усложняющимся с разворотом интриги; и какое удовольствие испытывает он, когда к концу все наиболее отчетливо распутывается!»421
Эту цитату из «Анализа красоты» Хогарта Эйзенштейн развивает так: «Однако самое интересное в высказывании Хогарта – это, конечно, то, что он видит проявление того же охотничьего инстинкта не столько в сюжетных ходах интриги, сколько в ходах самого построения формы в тех случаях, когда ни тема, ни сюжет ничего общего по содержанию с охотой или преследованием не имеют. Это кажется как бы второй, высшей ступенью использования инстинктивных предпосылок в целях воздействия формой произведения»422.
Именно «вторая ступень использования инстинктивных предпосылок» интересовала Эйзенштейна в детективе, у По, Диккенса, Бальзака, Достоевского – «не столько через построение ситуации, сколько через самый метод построения, которым развернута ситуация»423.
Так, «именно ситуационно Бальзак соприкасается с самыми первичными слоями образности, связанной с первобытным мышлением... [и] орудует средствами безусловного и абсолютного воздействия – от самых глубинных слоев, вроде доисторического понимания “сверхчеловека”, вплоть до ситуаций (тайных обществ)...»424.
6.
Со структурной точки зрения, с позиции построения формы, действия героя-сыщика по сбору улик подобны действиям читателя, пробирающегося через любой роман. Детектив, по мнению Эйзенштейна, «построен на неизменной от века основе, по которой строится механизм мифа.
Ибо он в механизме своем подобен мистическому Фениксу – Вакху – Озирису, расчленяющемуся в куски с тем, чтобы вновь сбираться в сияющее единство целого на новой стадии.
Совершенно так же, как из картины преступления и личности преступника, рассыпанных в куски, в набор случайных улик, он воссоздает целостный образ драмы и изобличает ее злодея.
На этом пути он обходит безбрежное море простого романа...»425
Детектив и привлекал Эйзенштейна тем, что в нем этот процесс был выражен, во-первых, яснее и четче: «Детектив – самое сильнодействующее средство, самое очищенное, отточенное построение в ряде прочих литератур. Это тот жанр, где средства воздействия обнажены до предела»426.
Во-вторых, он отлично соответствовал идее о том, что один и тот же процесс проходит одновременно на нескольких уровнях («сюжетные ходы» и «ходы построения формы», к примеру): «Вполне последовательно и эволюционно очень красив тот факт, что исторически первый чистый образец жанра (наравне с “Похищенным письмом” того же автора) – “Убийство на улице Морг” дает одновременно как принцип, так и его непосредственное предметное (ситуационное) воплощение»427.
В «Методе» Эйзенштейн подчеркивает: «...воздейственность неминуема при соблюдении обоих двух (как писали при Иване Грозном) условий: и алгебраического, и арифметического. То есть при соблюдении: а) условия точного соответствия сквозной формуле типового конфликта и б) при подстановке в нее наиболее остро-современной проблемы – исторически актуального, частного на сей день вида конфликта»428.
Говоря о связи детектива с инстинктами охоты и плетения, о пралогическом мышлении, в которое погружают читателя и книги Бальзака, Эйзенштейн также замечает: «Романтизм, конечно, – одна из эпох наиболее пышного расцвета чувственной стороны мышления. ...И по характерным элементам своего метода и эстетики письма именно романтики особенно отчетливы в использовании наиболее полного и обстоятельного набора черт первобытного мышления как основных средств своих форм воздействия»429.
Здесь снова будет уместно вспомнить о прологе к «Ивану Грозному», ведь именно в нем воссоздано то, что Эйзенштейн отмечал в детективе: «Шаг за шагом производится в читателе сдвиг в сторону чтения явлений по образу предметов и представлениям, сопутствующим их форме, их виду, а не их содержанию или назначению. То есть перестройка на так называемое “физиогномическое”, непосредственно-чувственное восприятие.
Этот этап развертывания действия в лучших детективах делается всегда очень внимательно. Дело не только в том, чтобы создать “атмосферу таинственности”, а в том, чтобы целиком погрузить читателя в разряд образного и чувственного мышления, без чего он не сможет пережить острой прелести перехода в сияющее здание высших мыслительных форм, куда его за ручку проведет лучезарный детектив, обладающий мудростью высших слоев сознания.
Эта часть романов является для главной темы романа или рассказа – отказной его частью»430.
«Погружение» читателя (и зрителя) опирается у Эйзенштейна, в частности, на психоаналитическую трактовку традиционных сюжетных схем, особенно же классической для детектива ситуации «запертой комнаты»: «Дверь заперта. Ключ в замке с внутренней стороны. Шпингалеты окон не тронуты. Других выходов нет. В комнате лежит зарезанный человек, а убийца исчез. Это тип ситуации “Двойного убийства на улице Морг” Эдгара По (или “улице Трианон”, как обозначен первый вариант в черновой рукописи).
На этом же держится “Тайна жёлтой комнаты” Гастона Леру. И в более позднее время – “Дело об убийстве Канарейки” (“The Canary Murder Case”) C.C. Ван-Дайна.
Психоаналитики возводят корни этой ситуации к “воспоминаниям” об “утробной” стадии нашего бытия.<...>
Отто Ранк видит такой же образ “заключенности в утробе” и “выхода на свет” в древнейшем мифе о Минотавре (Otto Rank, “Das Trauma der Geburt”).
Роль выхода на свет божий в более современных деривативах этого мифа играет уже не столько ситуация, посредством которой злоумышленнику удалось выйти из невозможной обстановки, сколько путь, которым истину на свет божий выводит сыщик, то есть ситуация как бы работает на двух уровнях.
Непосредственно и переносно-транспонированно из ситуации в принцип.
При этом мы видим, что вторая часть – ситуация, транспонированная в принцип, может свободно существовать и помимо самой первичной “исходной” ситуации.
Больше того, в таком виде – в качестве принципа – она имеет место во всяком детективном романе, ибо всякий детектив сводится к тому, что из “лабиринта” заблуждений, ложных истолкований и тупиков, наконец, “на свет божий” выводится истинная картина преступления»431.
Атмосфера таинственности, погружение в чувственное мышление в прологе одновременно связана и с атмосферой «внутриутробности» и, как таковая, отзывается в сцене пира в Александровой слободе, с долгим (лабиринтом!) проходом Владимира по собору (от одного убийства – к другому убийству), пространство которого решено как утроба. И путь этот, с одной стороны, – путь к истине (по мере своего движения Владимир прозревает будущую смерть), но с другой – прочь от луча света. Кроме того, долгое блуждание Владимира по лабиринту собора – тоже своего рода «отказное движение», «обязательный для детективной новеллы момент “торможения”, предшествующий разгадке»432.
Такое затягивание действия, предшествующее разгадке, – и в сценах между рассказом Фёдора о том, что Ефросинья – убийца Анастасии, разгадки (во время Пещного действа) и посылки ей чаши – знака разгадки. То же самое с признанием Волынца в том, кто стоял за покушением на Ивана, – в сценарии этот эпизод вынесен в начало третьей серии, то есть вообще отделен от сцены собственно покушения в финале второй серии433.
Уже несколько раз было нами вслед за Эйзенштейном повторено слово «лабиринт». Тут стоит снова вернуться к фразе, которую Эйзенштейн, возможно, заимствует у Режиса Мессака, – о перенесении «нравов девственных лесов в обстановку преступности лабиринтов больших городов». Сравнение ее с различными вариантами показывает, что режиссер внес в нее именно образ лабиринта, какой, согласно Ранку, напрямую связывается им с путем, «которым истину на свет божий выводит сыщик»: «И таким образом детектив как жанровая разновидность литературы во всяком своем виде исторически примыкает к мифу о Минотавре и через него к тем первичным комплексам, для образного выражения которых этот миф служит»434.
Кроме того, и этот случай интересует Эйзенштейна больше всего именно тем, как «выводится истинная картина преступления»435. Если же встать на еще более высокий уровень и рассматривать «ходы самого построения формы», то «здесь роль улик, прочитываемых, разгадываемых сыщиком, играют смены фаз творческого процесса, а объектом разоблачения тайн служат отдельные закоулки его лабиринта, которые последовательно пронизываются блеском слепящих лучей логики»436.
7.
Владение и загадкой и разгадкой, и чувственным и логическим мышлением – черта мага, жреца, вождя, разгадывание ритуальных загадок входит в обряд их посвящения: «Почему же жрецу следует уметь разгадывать загадки?
Дело совсем не в самих загадках.
А в том, чтобы убедиться, что посвященному в великие таинства, как “посвященному” в равной и одинаковой степени дано владеть
и речью понятий,
и речью образных представлений –
и языком логики,
и языком чувств.
Степень охвата обоих в приближении их к единству и взаимному проникновению – есть показатель того, в какой степени “посвященный” уже охватывает совершенное диалектическое мышление. Еще не материалистическое, пока еще исторически невозможное на столь древних условиях. Однако уже рудиментарно диалектическое и в Индии, совершенно так же, как в Китае или Греции»437.
Таким «посвященным» позже становится сыщик, а на одновременном владении двумя слоями сознания строится «магия» детектива: «Детективный роман весь построен на двойном чтении.
И если все многообразие перипетий всего мирового эпоса детективной литературы (и чем это менее фольклор мирового размаха, способный спорить с “Одиссеей”, “Божественной комедией” или Библией?) свести к основному ядру, то ядром этим окажется всегда и неизменно двойное чтение улики: ложное и истинное.
Первое окажется поверхностным, второе – по существу.
Или, говоря более специальными терминами, первое будет восприятием непосредственным, второе – опосредованным.
Или, вдаваясь в механику того и другого, первое будет чтением “физиогномическим”, то есть образно воспринятым, а второе – понятным, то есть понятийно раскрытым.
Но это двоякое чтение принадлежит не только к разным методам.
Оно есть разные этапы, разные стадии восприятия и понятия явлений вообще.
Оно есть именно те две стадии, через которые проходит в своем paзвитии человечество и, в своей частной биографии, каждый человек, двигаясь от поэтического, эмоционального, образного освоения природы к овладению ее знанием, понятием и наукой.
С тем чтобы на конечных вершинах своих взаимоотношений со вселенной владеть и общаться с ней через синтез научной и поэтической взаимосвязи.
В этом смысле каждый роман “тайны” (mystery-story) есть произведение мистериальное, трактующее о вечной и неизменной “драме” становления личного сознания, через которую проходит каждый человек без скидок на расу, класс или нацию.
И в этом, конечно, основная подоплека неизменной фасцинации детективного романа.
Через это он апеллирует неизменно, непосредственно и прямо к деликатнейшему процессу в становлении личности, прогрессивно движущейся от стадии образно-чувственного мышления к зрелости осознания и синтезу обоих в совершеннейших образцах внутренней жизни личностей созидательных и творческих!»438
Если же говорить о выводе «к сияющим высотам высших психических форм» (из лабиринта), то в этом, по Эйзенштейну, состоит задача всего искусства, также объединяющего логическое и пралогическое мышление: «Загадка есть по существу проверка на цельность мышления, владеющего всеми слоями и как бы изжитыми “глубинными” в основном и в первую очередь. <...>
Художник в области формы работает совершенно так же, но свою загадку решает прямо противоположным образом.
Художнику “дается” отгадка – понятийно сформулированная теза, и его работа состоит в том, чтобы сделать из нее... “загадку”, то есть переложить ее в образную форму.
По “разгадке” придумать – отгадать “загадку”! Эта замена точного определения пышным, образным описанием признаков сохраняется как метод в литературе»439.
Между тем, с владением «и языком логики, и языком чувств» связан образ наиболее полноценного, по поверьям древних, существа – андрогина. Сочетание черт мужских и женских приписывалось как всезнающим богам, так и героям классических детективов. Эту черту широко понимаемой бисексуальности Эйзенштейн находил и в героях Бальзака (Вотрен, Серафита), и в персонажах своего «Ивана Грозного»440.
У Бальзака Карлос Херрера, погоня полиции за которым упоминалась выше, был, оказывается, «темной ипостасью» Вотрена, героя-андрогина. Однако в этой модели героя андрогин – не сыщик, а преступник! В видении Эйзенштейна персонажи-антиподы в детективе оказываются изоморфны, так как осуществляют один и тот же процесс: «...увлекательной оказывается “охота” с обоих концов! Если есть романтика охотника, то, как оказывается, есть и романтика удирающего от охотника! Если есть романтика преследования по изломам линии оставленного следа, то есть и романтика в том, чтобы прочерчивать подобные изломы и, удирая, заметать следы»441.
Хотя, говоря о «романтике удирающего от охоты», Эйзенштейн цитирует Крестовского, упирая на национальный компонент («Об этом красноречиво говорит, в отличие от французов, герой одного из наших русских романистов – В.В. Крестовского»)442; здесь присутствует «перевернутая схема», которая вообще интересовала его в детективе (например, в рассказах Остина Фримена и романах Эллери Квина), когда главной загадкой становится не вопрос «кто убийца?», а вопрос «кто жертва?»: «Метод такого перевернутого решения тоже гнездится достаточно глубоко – прямо в первичной “амбивалентности”.
А она оседает плотным источником таких приемов формы, как двусмысленность и игра слов, или в рудиментах литературы от простого детского “перевертыша” до специфических форм романа: [таков] приводимый случай с Эллери Квином или, напр[имер,] рассказы того типа, которые объединяет сборник “The Singing Bone” Austin Freeman’а.
Если здесь перевернута традиционная схема в отношении привычного носителя тайны (убитый – вместо убийцы), то там перевернута последовательность процесса обнаружения тайны»443.
Грозный столь же амбивалентен, его роли на протяжении фильма (и сценария) меняются от свидетеля преступления (отравления матери) – к невольному помощнику убийцы (убийству боярами князя Телепнева-Оболенского в полном варианте пролога), далее – к сыщику (в связи с отравлением Анастасии) и к убийце (князя Владимира Старицкого) – вплоть до косвенного самоубийства (ранняя идея о включении в картину сцены «политического самоубийства» Грозного – убийства царевича Ивана).
Из детективов с «нестандартным решением» приходит и одно из кредо Эйзенштейна: «лучший способ спрятать – открыть все». Как разъясняла это на примере классической детективной литературы Дороти Сэйерс: «Здесь мы имеем дело с... методом психологической дедукции и решением загадки с помощью формулы “самого очевидного места”. Этот трюк – предшественник попытки спрятать бриллиант в рюмке с водой, убийства человека в гуще сражения, он же лежит в основе сюжета рассказа Г. К. Честертона “Человек-невидимка” (почтальон – фигура столь привычная, что на него никто не обращает внимания) и еще целого ряда подобных уловок»444.
Назвать фильм «Иван Грозный» детективом (или даже, что заманчиво, детективом, профильтрованным через Достоевского) – значит не пройти дальше поверхностного, «физиогномического» прочтения, остановиться на первой – как правило, ложной – разгадке. Однако глубинные схемы сюжетного построения и его восприятия, которые затрагивает Эйзенштейн и на которых основаны все композиционные слои произведения, во многом связаны с «загадкой» детектива как mystery story.
При этом сам Эйзенштейн, неоднократно примерявший на себя роль Детектива, по скрытым и явным приметам расследующего «истинные пути изобретения» Автора, снова и снова избегает однозначной разгадки и ускользает от исследователей (или преследователей?), желающих разгадать тайну его последнего фильма.
/ Маша Салазкина /

Маша Салазкина (Masha Salazkina) – преподает киноведение и руководит транснациональными исследованиями в области медиа, искусств и культур в Университете Конкордия (Монреаль, Канада). Автор книги «В избытке: Мексика Сергея Эйзенштейна» («In Excess: Sergei Eisenstein’s Mexico», University of Chicago Press, 2009) и соредактор сборника «Звук, речь, музыка в советском и постсоветском кино» («Sound, Speech, Music in Soviet and Post Soviet Cinema», Indiana University Press, 2014). Работает над очередным томом «Мировая история любительского кино» («Global History of Amateur Cinema»).
Эйзенштейн в Латинской Америке445
В этой статье дается краткий обзор места наследия Эйзенштейна в странах Латинской Америки и той роли, которую его фильмы и теоретические работы сыграли в развитии кинематографических культур этих стран в 1920–1970-х годах. Хотя его фильмы никогда не демонстрировались там в широком коммерческом прокате, Эйзенштейн приобрел культовый статус среди культурных элит и политических активистов, а его картины стали основополагающей частью репертуара в альтернативных формах кинопоказа. Наряду с очень небольшим числом других деятелей кино (первым, наверное, на ум приходит Чаплин), вошедших в историю, Эйзенштейн стал культурным символом. Его художественная и интеллектуальная деятельность служила постоянным ориентиром, подчеркивая и отражая многие ключевые проблемы, стоявшие перед киноманами, художниками, активистами и интеллектуалами как на местном уровне, так и в масштабах целого региона. Символический вес, которым Эйзенштейн обладал на протяжении большей части XX века в кинокультуре Латинской Америки (как, впрочем, и в других частях света), нельзя переоценить. И его фильмы, и его личность были не только значительным источником вдохновения, но и мощным оружием политической и эстетической борьбы в различных исторических контекстах на протяжении всей его жизни и после его смерти – сам Мастер мог бы этим гордиться.
Это утверждение можно проиллюстрировать эпизодом из истории кино Бразилии, касающимся легендарного фильма 1930 года «Предел» режиссера Марио Пейшоту. Фильм в течение недолгого времени прокатывался в Бразилии и в Европе в начале 1930-х годов, но редко попадал на экраны в последующие десятилетия; Жорж Садуль справедливо назвал его «неизвестным шедевром».
Квази-мифическому статусу фильма с 1960-х годов в значительной степени способствовала щедрая похвала, которая якобы досталась ему от Эйзенштейна. Пейшоту утверждал, что у него есть французский перевод англоязычной статьи Эйзенштейна, предположительно опубликованной в журнале «Татлер» в 1931 году. Текст обзора был даже включен в опубликованные досье на фильм и широко упоминался как свидетельство его международной репутации («Рецензия Эйзенштейна» до сих пор упоминается на странице фильма в Википедии446). После обширных поисков, проведенных многими латиноамериканскими исследователями, в 1990-х годах стало очевидно, что рецензия была написана самим бразильским режиссером в попытке повысить международный авторитет своего фильма447. Как отметила Сара Энн Уэллс в прекрасной статье о рецепции советского кино в Латинской Америке в 1920-х годах: «Интеллектуалы и кинематографисты, таким образом, использовали Эйзенштейна как знак, чтобы подтвердить здоровье их национальных киноиндустрий»448.
Связь между «Пределом» и Эйзенштейном в Бразилии – и, соответственно, между латиноамериканским и советским авангардом – оказалась стойкой, что проявлялось самым неожиданным образом. В 1966 году во время военной диктатуры единственная сохранившаяся копия «Предела» была конфискована полицией вместе с копией «Броненосца “Потёмкин”»449. Позднее в том же году бразильский фильм был возвращен из полиции, «Потёмкин» же оставался запрещенным в стране большую часть 1960-х годов, когда его показ представлял собой (впервые в истории Бразилии) политическое преступление. В течение 1970-х годов, на протяжении всего срока военной диктатуры, проходили лишь закрытые сеансы его в сети подпольных киноклубов и на боевых собраниях с просмотром фильмов450.
Точно так же первыми фильмами, официально запрещенными к показу в Аргентине правительственной цензурой в 1967 году, были эйзенштейновские «Стачка» и «Октябрь»451. В Перу прокатной компании «Либертад» потребовалось семнадцать лет, чтобы получить разрешение от цензурного бюро правительства на показ «Потёмкина», – лишь в 1968 году фильм, наконец, был впервые увиден в этой стране452. Запрет на фильмы Эйзенштейна многочисленными военными диктатурами в Латинской Америке в 1950–1970-е годы может показаться анахроничным по сравнению с рецепцией Эйзенштейна в Европе и Северной Америке, где в течение того же периода его фильмы и сочинения, безусловно, играли определенную роль в дальнейшей радикализации поколений художников и теоретиков, но едва ли их можно было счесть там опасными.
И все же в большинстве стран Латинской Америки в это время творчество Эйзенштейна воспринималось как актуальное и потенциально действительно подрывное. Именно в этом контексте мы должны понимать утверждение Жозе Карлоса Авеллара, одного из самых важных бразильских кинокритиков и историков кино, о том, что в 1970-х годах в Бразилии «фильмы Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова действуют как живые силы. Как живые силы, как воздействующее влияние на современное кино, а не как примеры классической культуры, которые нужно исследовать в киноархивах»453. Так в регионе подтверждалась жизнеспособность, проявлялась сила эстетики и идей Эйзенштейна.
В одной статье, разумеется, невозможно дать исчерпывающую информацию о столь богатой части истории на просторах всего континента. Здесь я хотела бы выделить некоторых из ее главных действующих лиц и рассмотреть факторы, которые сформировали особенности культурного восприятия личности и творчества Эйзенштейна в Латинской Америке. Я буду опираться на примеры Кубы, Бразилии и Аргентины, но при этом надеюсь продемонстрировать некие общие закономерности внутри всего региона, по крайней мере, в определенные моменты конкретного отрезка кинематографической истории. Этот период простирается от создания журналистского кинодискурса в Латинской Америке в 1920-х годах, через институциональное развитие некоммерческих структур кинокультуры, включая критику и образование, до появления в конце 1970-х годов так называемого «Нового кино Латинской Америки».
Ранний период восприятия: Эйзенштейн как космополитичный модернист
Советский авангард и Эйзенштейн в частности служили важными ориентирами для латиноамериканской культуры с конца 1920-х на протяжении всех 1930-х годов – они были основным поводом для дискуссий об альтернативном осовременивании и национальной идентичности. Из-за «запоздалой» модернизации и, как следствие, разговоров о неразвитости, представление о кинематографе как об искусстве, которое одновременно олицетворяет и продвигает современность и модернизацию, имело особую силу в Латинской Америке454. Хотя и кино, и модернизация были связаны с Голливудом и США, большую привлекательность для либеральных культурных элит имели возможности, какие предоставляла советская киноиндустрия для создания культурных и политических альтернатив, а многие более левые художники и интеллектуалы были открыто привержены созданию общей интернациональной и космополитической модернистской культуры.
В дополнение к значительному международному влиянию и авторитету фильмов Эйзенштейна (и, в конечном итоге, его теоретических текстов), личность режиссера как космополита также повлияла на превращение его в особо важный ориентир. Знание языков и широкая эрудиция, связи с уважаемыми художниками и писателями во всем мире, а также опыт работы в Мексике способствовали развитию ощущения близости Эйзенштейна с Латинской Америкой и вызывали постоянный интерес к нему на всем континенте. Некоторые из наиболее крупных латиноамериканских писателей, художников и деятелей культуры, порой представляющих совершенно разные позиции в политическом спектре, будут стремиться к контакту с Эйзенштейном и продвигать его как образец современного космополитического художника.
Одним из первых латиноамериканских собеседников Эйзенштейна оказался Алехо Карпентьер, которому суждено было стать в будущем одним из величайших кубинских писателей-модернистов. В 1920-х годах Карпентьер был членом «Группы меньшинства» (The Minorista), объединившей молодых левых кубинских интеллектуалов, стремившихся к художественному, литературному и общественному обновлению. Они считали кинокритику важной частью этой миссии – она должна была поднять кино до уровня «высокого» искусства, обладающего исключительными выразительными способностями. Их критическая и мировоззренческая позиция была близка к французским сюрреалистическим и импрессионистским теориям «чистого кино»455. Карпентьер познакомился с Эйзенштейном в Париже в 1930 году благодаря общим знакомым в парижских сюрреалистических кругах. Карпентьер описал прогулки по Парижу с Эйзенштейном и писателем-сюрреалистом Робером Десносом, попутно рассказав о творческой биографии Эйзенштейна. Ман Рэя попросили сфотографировать их на память456. Публикация интервью Карпентьера подчеркивала космополитические связи и амбиции «минористов», но также устанавливала открытый диалог между латиноамериканским модернизмом, чьим влиятельным представителем Карпентьер был уже тогда, и советским режиссером – это декларировало художественную и культурную преемственность (в данном случае, в частности, через общую близость к концепции французского сюрреализма).
В том же году, уже по другую сторону Атлантики, Эйзенштейн встретил еще одну ключевую фигуру латиноамериканского модернизма – аргентинку Викторию Окампо. Окампо была крупным культурным деятелем, основателем одного из важнейших литературных журналов Аргентины и, возможно, Латинской Америки в целом – «El Sur». В Нью-Йорке Виктория со своим другом и сотрудником Уолдо Франком встретила Эйзенштейна на вечеринке миллионера Отто Кана, у которого и Окампо, и Эйзенштейн пытались найти финансовую поддержку для своих проектов. Эта встреча послужила началом сердечной переписки между ними, длившейся десятилетия, и к серии провалившихся планов привезти советского режиссера в Аргентину для съемок фильма457. Эйзенштейн действительно был гораздо лучше известен в Аргентине, чем в Мексике. Аргентина была первой страной Латинской Америки, которая показала советские фильмы и где они прокатывались чаще всего. Советский Союз открыл прокатную контору «URSS Films» в Буэнос-Айресе, и «Потёмкин» был ее первым успешным выпуском. Вызвавший ожесточенные дебаты, «Потёмкин» получил широкий прокат и демонстрировался во всех видах кинотеатров (особенно в столице), а «Октябрь» был показан в Буэнос-Айресе «практически без вырезок», в отличие от многих других мест. Все фильмы Эйзенштейна того периода стали частью регулярного репертуара одного из самых первых киноклубов Латинской Америки – «Amigos del Arte» («Друзья искусства»)458.
Упорные попытки Окампо привезти Эйзенштейна в Буэнос-Айрес свидетельствуют не только о ее «глобальном» ощущении национального духа Аргентины, но и о ее проницательности и понимании необходимости международных связей для укрепления репутации ее новой культурной империи и той роли, которую кино могло бы сыграть в этой зарождавшейся космополитической культуре.
В результате ее усилия значительно подняли репутацию Эйзенштейна по всей Латинской Америке благодаря статьям о его мексиканском проекте, включая кадры из фильма, которые Эйзенштейн регулярно отправлял ей из Мексики. Несколько лет спустя она была готова энергично продвигать «Александра Невского», считая его одним из величайших художественных достижений Эйзенштейна (в отличие от «Ивана Грозного», в котором видела политическую пропаганду)459. То, как Окампо превозносила Эйзенштейна в начале 1930-х годов, было типичным для образа режиссера в качестве участника международного авангарда и великого художника, что, несмотря на его политическую идеологию, способствовало его признанию широким кругом интеллектуалов в Латинской Америке. Более того, как подчеркивает Уэллс, акцент на достижениях советской киноиндустрии в качестве альтернативной модели для новых национальных кинематографий континента был значительной движущей силой, объединявшей представителей всего политического спектра.
Карпентьер отражает то же чувство в своих самых ранних текстах, посвященных Эйзенштейну. В 1928 году он написал о первых показах «Потёмкина»: «Было удивительно видеть, что кинопромышленность новой России – промышленность без традиций, которая столкнулась со всеми мыслимыми трудностями, – произвела столь совершенную работу, фильм, в одно мгновение занявший место среди двадцати основных произведений, которые искусство движущихся теней дало нам с начала века»460.
Судьба картины «Да здравствует Мексика!» привела к усилению широких симпатий к советскому режиссеру, что еще больше укрепило антипатию к США среди латиноамериканских культурных элит, так как история создания этого фильма в буквальном смысле продемонстрировала, каким образом Голливуд поглощает и уничтожает художественные произведения. Многих деятелей культуры разных политических взглядов объединило возмущение тем, что материал мексиканского фильма не был возвращен Эйзенштейну.
Однако к концу десятилетия и, безусловно, в 1940-е годы461 Эйзенштейна в Латинской Америке защищали лишь те, кто открыто поддерживал левое направление в политике, – а в 1950-е, в частности, политику коммунистической партии. Таким образом, если в более ранний период можно говорить о равной степени приятия Эйзенштейна как в либеральных, так и в левых кругах, то с усилением «холодной войны» Эйзенштейн постепенно стал ассоциироваться в основном с «воинствующей» кинокритикой, с «левой» позицией, с независимым кинопроизводством и политическим активизмом. Однако разделение между либеральными культурными и воинствующими политическими кругами в Латинской Америке еще в 1950–1960-е годы оставалось довольно условным, и в области кино марксизм был языком общения для самых влиятельных международных критиков и историков, от Жоржа Садуля и Леона Муссинака до Умберто Барбаро и Гуидо Аристарко.
Раннее политизированное восприятие Эйзенштейна на Кубе
Воспевание Эйзенштейна и его фильмов коммунистическим левым фронтом в Латинской Америке – особенно в тех местах, где их политические усилия натолкнулись на массовые государственные репрессии, – безусловно, способствовало его известности. В этом смысле Куба представляет собой наиболее убедительный пример с долгосрочными последствиями.
Первым показом советского фильма на Кубе был просмотр «Потёмкина» в Национальном театре (ныне Театр имени Федерико Гарсиа Лорки) в 1927 году. Ведущая кубинская газета «Diario de la Marina» рекламировала его как «леденящую кровь фотодраму из времен царской России: “Потёмкин”, признанный Дугласом Фэрбенксом, Эмилем Яннингсом, Максом Рейнхардтом и другими знаменитостями самым грандиозным зрелищем, созданным на сегодняшний день в кинематографе»462. Такое рассчитанное на сенсацию представление и упор на международный престиж и зрелищность полностью соответствовали кинорекламе того времени, но мало что смогли сделать для подготовки аудитории, включая критиков, к тому, что за этим последовало.
Как утверждает Смит Меза, показ «Потёмкина» ознаменовал водораздел в истории кубинской кинокультуры463. Он породил новый дискурс о политическом потенциале кино и его способности вызывать «опасные страсти» (как утверждала статья в «Diario») не только в частной жизни зрителя, что нередко вызывало беспокойство в отношении экранных мелодрам, но и в коллективе464. Поэтому подрывную силу «Потёмкина» признали и официальные власти (что привело к его немедленному запрету), и политические радикалы (которые сразу же взяли фильм на вооружение).
Одна из самых первых кубинских рецензий на картины Эйзенштейна была написана Хулио Антонио Мельей, одним из основателей Коммунистической партии на Кубе, лидером студенческого движения и фанатом Октябрьской революции465. В 1928 году, находясь в изгнании в Мексике, где он познакомился со многими из тех, кого Эйзенштейн встретит через несколько лет, Мелья написал рецензию на «Октябрь» в троцкистской газете «Tren blindado». Его статья повторяла традиционное по тем временам противопоставление эйзенштейновского стиля голливудскому. Как и другие комментаторы, одержимые откровенно политическим пониманием фильма, Мелья подчеркивал противостояние «кино коллективного героя – революционных масс» и «кино янки» («cine yanqui») с его условными лицами и разобщенными персонажами: «“Октябрь” – это фильм революции... В этом фильме нет героев. Это жизнь, это народ»466. Он также подчеркнул проблему, которая будет преследовать революционное кино на протяжении десятилетий, – проблему зрителя: «Публика, привыкшая к буржуазному стилю “кино янки”, не сможет в полной мере оценить значимость этого произведения “Совкино”... Было бы чрезмерным ожидать от зрителей понимания пролетарской революции после всего, что они услышали о ней по сообщениямтелеграфного агентства “United Press”, или требовать от них понимания революционного движения нашей страны и наших национальных особенностей через интерпретацию, данную им Голливудом. Тем не менее, в этом фильме представители идеологических авангардных групп имеют возможность насладиться одним из самых сильных впечатлений, которые может предложить наша эпоха в области искусства, благодаря самому молодому и самому выразительному из современных искусств: движущейся фотографии»467.
Потенциал советского кино – и, в частности, фильмов Эйзенштейна – незаменимое средство для создания нового зрителя и нового рода кинообразования, понимаемого в культурном и политическом плане; такой кинематограф во многом сформирует эстетическое восприятие в последующие десятилетия, когда киноактивисты, кинокритики и практики кино предпримут усилия в осуществлении широкого проекта институционализации кинокультуры.
Развитие кинообразования и роль Эйзенштейна в формировании нового канона, 1940–1950-е годы
Период 1940–1950-х годов чрезвычайно важен для истории восприятия творчества Эйзенштейна по всей Латинской Америке по двум различным, но взаимосвязанным причинам. Во-первых, во многих странах (в Уругвае, Перу, Чили и, в некоторой степени, в Бразилии и Мексике) ранние советские фильмы начали показываться значительно позже их первоначального выхода на экран. Таким образом, в большей части Латинской Америки отставание восприятия публикой фильмов Эйзенштейна означало, что многие критические и политические споры вокруг его картин продолжались в тот период, когда в Европе и Северной Америке они уже потеряли свою актуальность, по крайней мере, для широкой публики. В разных частях Латинской Америки зрители открыли для себя Эйзенштейна после того, как на протяжении десятилетий слышали о его известности и значимости. Вторым фактором, сформировавшим в это время восприятие Эйзенштейна кинокритикой, стала доступность его теоретических работ. Если фильмы Эйзенштейна не были так легкодоступны, то его тексты, наряду с работами других ранних советских кинематографистов, таких как Лев Кулешов и Всеволод Пудовкин, начали переводиться и регулярно публиковаться в журналах по всей Латинской Америке еще в 1920-е годы, а с начала 1950-х годов стали выходить в виде сборников468.
Эти материалы путешествовали по континенту от одного киномана к другому, играя ключевую роль в формирование нескольких поколений кинематографистов и критиков. Данный момент не раз подчеркивается в интервью. Практически все латиноамериканские деятели кино, когда их спрашивали о влиянии советского кино, подчеркивали ключевую роль текстов Эйзенштейна в формировании их понимания экранного искусства, в их становлении как профессионалов в целом и как политически ориентированных кинематографистов в частности469.
Уругвай представляет собой особенно интересный случай: показы советских картин были там крайне редки, но в 1950-х годах вышло несколько сборников работ Эйзенштейна. Они распространялись по всему региону, способствуя формированию канонического кинообразования в самом широком смысле и играя роль в институционализации кино.
Стоит отметить, что восприятие Эйзенштейна кинокритикой в Латинской Америке проходило опосредовано через европейскую и американскую критику и через академические исследования – как в самый ранний период, так и позже. Особенно важными были разборы фильмов и концепций Эйзенштейна в работах Леона Муссинака, Жоржа Садуля, Умберто Барбаро, а позже Гуидо Аристарко.
Другими очевидными источниками, конечно, были книги Джея Лейды, Мари Ситон и Айвора Монтегю. За исключением книг, изданных в самом Советском Союзе, практически все переводы Эйзенштейна на испанский язык, которые распространялись в Латинской Америке, были сделаны с английского или французского (а не напрямую с русского), что, с одной стороны, упрощало сложность теоретического корпуса Эйзенштейна, но, с другой стороны, создавало общий канон для диалога между Европой и Латинской Америкой, где преобладали одни и те же (в основном ранние) тексты.
Благодаря кинокритикам, коллекции фильмов, которые демонстрировались в художественных музеях и в киносекциях различных культурных обществ, обрели популярность в 1950-е годах и помогали поднять престиж кинообразования и кинокультуры в Латинской Америке470. Решающим фактором этого процесса было наличие как буржуазных, так и воинственно-альтернативных форм кинокультуры, там и там был очень высок статус Эйзенштейна – одновременно космополита-модерниста и коммунистического борца. Бразилия и Куба в конце 1950-х и начале 1960-х годов стали хрестоматийными примерами такого процесса. Достижения как в художественной сфере, так и в технике производства фильмов в двух странах выделяются масштабом и важностью, предвещая более существенные перемены в других частях континента, где перспективы радикальной политической реорганизации чередовались с усилением тоталитаризма.
Бразилия: Винисиус ди Морайс, Алекс Виани и Пауло Эмилио Саллес Гомес
Фигурой, которая представляет собой некий своеобразный мост между восприятием «модернистского» и «радикального» Эйзенштейна, был известный бразильский писатель, поэт и музыкант Винисиус ди Морайс. Он знаменит как основоположник бразильского стиля босанова и представитель космополитичной богемы, но менее известен своей политической активностью и текстами о кино, что идеально фокусировалось на Эйзенштейне.
Фильмы Эйзенштейна были запрещены в Бразилии в 1920-е – начале 1930-х годов, и по новой в 1960–1970-х годах, но, несмотря на их недоступность, идеи Эйзенштейна о монтаже и звуке широко обсуждались в кинематографических кругах. В 1940–1950-х годах, когда его фильмы демонстрировались в различных культурных обществах и университетах, наиболее важные публицисты Бразилии сделали фильмы Эйзенштейна частью канона для новой школы бразильской кинокритики и теории, кульминацией которой в 1960-х годах стал триумф «Cinema Novo» как целого направления в кинопроизводстве и нового способа думать о кино. Хотя ди Морайс и не получил широкого признания, он способствовал этому процессу благодаря своим обзорам и статьям471. Восхищение ди Морайса Эйзенштейном основывалось в равной степени на эстетике и теории советского режиссера и на политической позиции, лежащей в основе его работ. Ди Морайс полностью разделял эту позицию как активный член Коммунистической партии. В 1946 году, во время длительного пребывания в Лос-Анджелесе, где он занимал должность вице-консула, ди Морайс организовал новый киножурнал «Фильм» вместе с Алексом Виани, в то время начинающим кинокритиком и коммунистическим активистом (к фигуре которого мы вскоре обратимся). Хотя вышло лишь два номера, идея журнала с явно политической концепцией кино стала важной отправной точкой для развития бразильской кинокультуры472. Самый известный вклад Винисиуса ди Морайса в международное восприятие наследия Эйзенштейна – триптих сонетов, который он написал на смерть Эйзенштейна и датировал следующим днем после прихода трагической новости: «Триптих на смерть Сергея Михайловича Эйзенштейна»473. Триптих – трогательная дань таланту советского мастера, а также размышление о его кинематографических и теоретических трудах и меланхолическое созерцание бессмертия кино.
Как и везде, в Бразилии в 1940–1950-х годах советское кино и, в частности, Эйзенштейн сыграли важную роль как в институционализации, так и в последующей радикализации киноиндустрии. Алекс Виани и Пауло Эмилио Саллес Гомес, в то время два самых важных кинокритика и активиста в стране, сыграли особо серьезную роль на этом этапе формирования кинематографической культуры в Бразилии, что, в свою очередь, привело к настоящему взрыву новых форм кино, начиная с начала 1960-х годов.
Постоянный интерес Алекса Виани к Эйзенштейну восходит к его пребыванию в Лос-Анджелесе с Винисиусом ди Морайсом в 1946–1948 годах. Первоначально он был большим поклонником голливудского кино, но опыт, приобретенный в Калифорнии, и растущая политическая осведомленность привели его к предпочтению фильмов класса Б, документалистики, картин итальянского неореализма и советского кино. Виани и ди Морайс готовили специальный номер журнала «Film», посвященный Эйзенштейну, выход которого планировался на 1949 год. Хотя он не был осуществлен, подготовка к этому номеру как Виани, так и ди Морайса включала обширные изыскания, связавшие их с широкой международной сетью друзей, сторонников и поклонников Эйзенштейна.
Активно участвуя в бразильской культурной политике прокоммунистических левых и в мероприятиях, которые станут известны как «Cinema Novo», Виани продолжал продвигать фильмы и сочинения Эйзенштейна в Бразилии. В 1960-х годах, помимо написания кинорецензий для «Jornal do Cinema» и «Shopping News»474, Виани переписывался с Айвором Монтегю и Джеем Лейдой, консультируясь с ними по поводу еще одного оставшегося нереализованным проекта – книги об Эйзенштейне в серии «Biblioteca Básica de Cinema», которую он редактировал. Он также сделал заметки для книг о «Потёмкине» и об истории постановки «Да здравствует Мексика!», надеялся опубликовать серию переводов, включавших «Кино» Лейды (историю русского и советского кино, которая только сейчас переводится на испанский язык в Аргентине), а также сочинения Эйзенштейна. Большинство этих планов так и не удалось осуществить. Он также пытался найти источник приписываемой Эйзенштейну рецензии на «Предел» Пейшоту, упоминавшуюся в начале этой статьи475.
В то время как Виани на протяжении всей своей жизни был активным коммунистом, Пауло Эмилио Саллес Гомес отличался более умеренными взглядами. К 1950-м годам, несмотря на свою связь с коммунистической партией в ранние годы, продолжая в целом разделять марксистские взгляды, Саллес Гомес начал враждебно относиться к идеологической и интеллектуальной негибкости таких коммунистических активистов, как Виани. И все же этот самый крупный бразильский критик тоже был большим сторонником Эйзенштейна. Фильмы и идеи Эйзенштейна повлияли на его собственные первые попытки создания кинолент476. Еще важнее, что в течение 1940-х годов Пауло Эмилио стал ведущим кинокритиком в Бразилии, сначала работая во влиятельном журнале о культуре «Clima», а в 1950-х и 1960-х годах в «Suplemento Literário do jornal O Estado de S. Paulo». Эйзенштейн является одним из главных героев его текстов, наряду с Орсоном Уэллсом и Джоном Фордом.
Его работы, включая серию статей об Эйзенштейне, опубликованных в 1956–1965 гг., знаменуют собой явный качественный сдвиг в бразильской кинокритике. Хотя его анализ фильмов Эйзенштейна был поначалу опосредован предшествующими французскими критиками – Садулем, Муссинаком, Жаном Митри и Андре Базеном, стоит отметить, как это делает Мендес, что влияние Базена больше связано с его требованиями к критике и с традицией «воинствующего синефильства», чем со знаменитой базеновской критикой Эйзенштейна. И в отличие от Митри и Мари Ситон, чьи тексты об Эйзенштейне в какой-то степени повлияли на Саллеса Гомеса, его подход к идеям и творчеству советского режиссера основан на серьезном интеллектуальном вкладе в понимание социального и политического контекста советских реалий, которое было пропущено через его собственный опыт общения с бразильскими коммунистическими активистами, а затем сквозь его тяготение к левым антисталинистам477.
Тексты Саллеса Гомеса послужили основой университетской школы кинокритики и киноведения в Бразилии, а обсуждения творчества Эйзенштейна стали трамплином для дискуссий об обновлении и трансформации национального кинематографа, политической активности и ответственности художника и критика. Эти обсуждения обеспечили взаимодействие с советским кино для нового поколения бразильских художников и интеллектуалов, включая Глаубера Рошу и других режиссеров и критиков «Cinema Novo».
Саллес Гомес также очень эффективно рекламировал кино и был ключевой фигурой в вузовских кругах. В 1940-х годах он основал киноклуб в Сан-Паулу, который в 1950-х годах превратился в Бразильскую Синематеку. Глаубер Роша подчеркивает его влияние, говоря (с некоторой горечью), что для своего поколения «Синематека Сан-Паулу была кафедральным собором, Пауло Эмилио Саллес Гомес – Папой, а кардиналы и священники выступали в провинциальных барах и киноклубах»478. Открытие музеев современного искусства в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро способствовали развитию собирания фильмов и составления кинопрограмм. Эта работа сделала возможным масштабный кинопоказ раннего советского кино. Когда VI биеннале искусств в Сан-Паулу включил в свою программу советский авангард, в рамках сотрудничества между Бразилиской Синематекой и Госфильмофондом прошла первая ретроспектива российского и советского кино, где был показан 41 фильм, в том числе «Эйзенштейновский цикл», включавший пять его фильмов. В целом эту программу посмотрели 35 000 зрителей, «Броненосец “Потёмкин”» был самым популярным фильмом – на его показе присутствовали 2350 человек, на «Стачке» – 1800, «Октябрь» собрал 1700 зрителей, «Александр Невский» – 1100 зрителей479.
Еще одна ретроспектива российского и советского кино состоялась в том же году в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро, который открылся 24 ноября 1961 года в театре Карузо-Копакабана показом «Броненосца “Потёмкин”». Остальные 50 показов прошли в синематеке Музея современного искусства, что стало крупнейшей демонстрацией советского кино в Латинской Америке на тот момент и настоящим событием в сфере культуры480. Особенно запоминающимся его сделал запрет на показ «Потёмкина» спустя буквально несколько лет – с приходом диктатуры.
Куба: Хосе Мануэль Вальдес-Родригес
Единственное, что сопоставимо по масштабам с тем, как воспринимали Эйзенштейна и раннее советское кино в Бразилии 1960-х годов, происходило, конечно, на постреволюционной Кубе. В наибольшей степени ответственным за постоянный интерес к Эйзенштейну был кубинский историк кино и педагог Хосе Мануэль Вальдес-Родригес, чьи старания повлияли не только на восприятие советского кино, но и на формирование большей части кинокультуры острова. Возможно, ни один другой деятель в истории культуры Латинской Америки не приложил столько усилий для распространения идей Эйзенштейна; его деятельность охватывала многие десятилетия – с 1920-х по 1960-е годы. В конце 1920-х годов он начал работать кинокритиком в газетах и, подобно Карпентьеру, был близок к «Группе меньшинства», разделяя, помимо прочего, их увлечение кинематографом. В тот же период он организовал у себя дома киноклуб, разыскивая фильмы, которые не имели коммерческого проката и все же были доступны через другие каналы. В связи с этим он превратился в пропагандиста советского кино в целом и Эйзенштейна в частности. В 1929 году в «Revista de avance» он опубликовал рецензию на книгу «Россия через 12 лет» испанского писателя Хулио Альвареса дель Вайо, включавшую главу о кино и ставшую, наряду с монографией Муссинака «Советское кино», важным источником информации о советском киноискусстве в Латинской Америке в этот период. Вальдес-Родригес сразу проявил большой энтузиазм по отношению к работам Эйзенштейна481.
В 1932 году он начал регулярно публиковать статьи в американском журнале «Experimental Cinema» и впоследствии активно участвовал в организованной журналом кампании по спасению мексиканской картины Эйзенштейна. В том же году в статье, опубликованной в кубинском журнале «Social», Вальдес-Родригес сделал свою первую попытку обобщить идеи Эйзенштейна о диалектическом монтаже, который он назвал «кино-диалектика»482.
Два года спустя он отправился в Советский Союз в качестве корреспондента изданий «Bohemia» и «Ahora» для освещения съезда советских писателей 1934 года. Там он несколько раз встречался с Эйзенштейном и имел возможность обсудить учебные планы, которые Эйзенштейн разрабатывал для ГИКа (позже ВГИКа)483.
Начиная с 1942 года, Вальдес-Родригес смог воплотить то, чему научился у Эйзенштейна и других, когда приступил к преподаванию курса «Кино: индустрия и искусство нашего времени» в Летней школе Гаванского университета484. Как и Эйзенштейн, Вальдес-Родригес основывал свое учение на идее о том, что кино является высшим проявлением художественной деятельности человека, уникальным образом объединяя методы других искусств и медиа, что оно способно более полно, чем любое другое искусство, раскрывать сложные социологические и психологические процессы. Свои доводы Вальдес-Родригес обосновывал с помощью обширных отсылок к литературе и театру, начиная от модернистской литературы Джеймса Джойса и Марселя Пруста и доходя до классических авторов; и так как он настаивал на неисчерпаемом потенциале кино как вида искусства, Эйзенштейн служил исключительным примером того, чем кино могло быть. Фильмы Эйзенштейна (наряду с кинолентами Чаплина) в течение многих лет показывались наиболее часто и стали краеугольными камнями созданного незадолго до того университетского киноархива. На декоративных панелях в кинозале университета цитировались Гораций, Данте, Бодлер и Эйзенштейн485.
Курс Вальдеса-Родригеса и университетские киносеансы создали атмосферу, в которой зародились многие дружеские отношения и плодотворные сотрудничества. Герман Пуиг, Рикардо Вигон, Нестор Альмендрос и Гильермо Кабрера Инфанте, учредившие влиятельный «Киноклуб Гаваны» в 1948 году, а затем вошедшие в число самых известных либеральных критиков и кинематографистов Кубы (все они были изгнаны с острова в 60-х годах), встретились благодаря курсу Вальдеса-Родригеса. Аналогичным образом, киносекция культурного общества «Nuestro Tiempo», которая позднее станет ядром «Института киноискусства и кинопромышленности» («ICAIC»), самого важного культурного учреждения послереволюционной Кубы, также была сформирована под прямым влиянием Вальдеса-Родригеса. Его бывшие ученики Альфредо Гевара и Хулио Гарсиа Эспиноса составляли ядро студии «ICAIC» и отвечали за ее идеологическую и эстетическую программу. По сути, кинематографический канон с Эйзенштейном в центре, который пропагандировался Вальдесом-Родригесом, определил культурную повестку дня постреволюционной Кубы. Хотя сам Вальдес-Родригес не занимал никакой официальной должности в «ICAIC» после революции, он сотрудничал со своими бывшими учениками, входившими в число руководителей кинематографии, участвовал в их публикациях и образовательных инициативах, а также представлял Кубу на фестивалях за рубежом.
Важно отметить, что коллекция фильмов, которую он собрал в университете, была использована в качестве основы для первой официальной кубинской синематеки в рамках «ICAIC», что позволило начать показы советского кино и, в частности, фильмов Эйзенштейна раньше, в первые послереволюционные годы486.
Вместо заключения: 1960–1970-е годы, Эйзенштейн и Новое кино Латинской Америки
В течение десятилетия после кубинской революции 1959 года влияние Эйзенштейна помогло сформировать то, что стало известно как Новое кино Латинской Америки, – откровенно политическое и часто экспериментальное движение, чьи самые известные представители – Нельсон Перейра, Глаубер Роша, Фернандо Бирри, Фернандо Соланас и Октавио Гетино, Томас Гутьеррес Алеа, Сантьяго Альварес, Патрисио Гусман и Хорхе Санхинес. Хотя и в разной степени, их фильмы, а также тексты были обязаны эйзенштейновской теории и практике диалектического монтажа. Эти кинематографисты и принимали, и отвергали это влияние.
В 1970-е это особенно явственно выразил Глаубер Роша: «“Фокс”, “Парамаунт” и “Метро” – наши враги. Но Эйзенштейн, Росселлини и Годар – тоже наши враги. Они давят на нас»487. Эйзенштейн стал важным ориентиром в радикальной кинокультуре 1960-х годов в Латинской Америке во многом по тем же причинам, что и в Европе и США, но оказался там более актуальным из-за взрывоопасной политической ситуации и близости кубинской революции в качестве потенциальной возможности развития для остальной части континента. В поисках нового – политического – латиноамериканского кинематографа, который бы отвечал этому революционному освободительному духу, многие кинематографисты обращались к авангардам 1920-х годов, как в своих странах, так и на международном уровне, чтобы обрести корни и почерпнуть вдохновение.
Как и в более ранний момент, это стремление опиралось на сильные антиголливудские, антиимпериалистические настроения. А раннее советское кино давало альтернативу, которую можно было рассматривать как революционную и противостоящую господствующей тенденции. К концу 1960-х и началу 1970-х годов поиск новых кинематографических моделей стал особенно актуальным. Итальянский неореализм, служивший ранее мощным источником вдохновения, утратил политический радикализм и в основном воспринимался как консервативный. Даже европейские «новые волны», хотя и предлагали важные эстетические и формальные ориентиры, считались политически конформистскими и не соотносящимися с конкретными условиями Латинской Америки. Монтаж, однако, по-прежнему казался мощным эстетическим и политическим средством, и хотя в это время Эйзенштейн был уже далеко не единственным практиком искусства монтажа, он оставался его главным теоретиком.
Специальный выпуск журнала «Cine Cubano» 1977 года, посвященный русской революции, включал вопросы к группе латиноамериканских кинематографистов о влиянии на них советского кино. Практически все (от Фернандо Бирри до Хорхе Санхинеса) подтвердили, что узнали о советском кино благодаря письменным работам Эйзенштейна и именно его теории и анализ диалектического монтажа повлияли на их собственные идеи488. Акцент на текстах Эйзенштейна был не просто результатом недоступности самих фильмов. Напротив, это – отражение особого взгляда на кинематографиста как теоретика, которого придерживалось поколение латиноамериканских политических художников 1960-х годов. Конечно, активное переосмысление теории и художественного производства было существенной чертой мировой кинокультуры 1960-х годов, но, возможно, это нигде не было столь заметно, как в Латинской Америке, и нигде она не имела таких долговременных эффектов. Большинство ключевых теоретиков кино Латинской Америки в этот период были также режиссерами, и наоборот, практически все режиссеры, которые составляли ядро Нового латиноамериканского кино, писали о своем искусстве.
Фернандо Бирри, Глаубер Роша, Фернандо Соланас и Октавио Гетино, Хулио Гарсиа Эспиноса, Хорхе Санхинес и Томас Гутьеррес Алеа, подобно Эйзенштейну, были и постановщиками, и теоретиками489. Их работы служат единственным вкладом латиноамериканских деятелей культуры, вошедшим в канон англо- и франкоязычного академического киноведения. И все же их собственное общее неприятие излишней профессионализации и академизации теории кино было чем-то большим, чем легкомысленный риторический жест (столь типичный для радикальных манифестов того времени). Оно было основано на приверженности большей политической и социальной активности и на признании кинообразования – в самом широком смысле, включая критику и теорию, – в качестве неотъемлемой части практики. Такая критика и теория, в свою очередь, сами были более приспособлены к исследованию материальных условий кинопроизводства и кинопоказа, а также художественного и интеллектуального труда. Изучение этих проблем способствовало тому, что латиноамериканские интеллектуалы отвергали англоязычную и франкоязычную кинотеорию как интересующуюся исключительно анализом текста.
Такое отношение способствовало сравнительно медленной академической институционализации латиноамериканского киноведения (за исключением Бразилии), отделенного как от учреждений кинообразования, которые были нацелены на обучение практиков кино, так и от киноархивной работы. При этом большое внимание уделялось кинопедагогике в целом.
Собственные тексты Эйзенштейна редко касаются вопросов практического труда, а формалистические элементы его теории способствовали – или, по крайней мере, соответствовали – семиотическим и структуралистским течениям европейской теории кино. Тем не менее фигура Эйзенштейна как режиссера-теоретика и педагога всегда оставалась центральной в рамках его влияния в Латинской Америке. Плодотворная работа Эйзенштейна в ГИКе/ВГИКе в 1930-х и 1940-х годах вдохновила многих, кто также был вовлечен в политическую и культурную деятельность, понимаемую как «кинематографическое образование» в самом широком смысле и как собственно обучение будущих режиссеров.
Таким образом, теории Эйзенштейна в Латинской Америке – так, как они изучались режиссерами и критиками и использовались в качестве моделей в собственном художественном и интеллектуальном производстве, – фактически участвовали в самом осмыслении соотношения искусства и теории, а также искусства и политики, что теоретически обосновывал сам советский мастер. Этим его интеллектуальное наследие и отличается от европейской и североамериканской кинокультуры и выделяется в ней своей ролью, показывая интересный пример не только долголетия, но и тех неожиданных форм, в которых Эйзенштейн продолжает жить в кинокультуре разных стран, все больше демонстрируя ценность изучения и сохранения его трудов.
Перевод Натальи Рябчиковой
/ Антонио Сомаини /

Антонио Сомаини (Antonio Somaini) – изучал философию в Миланском университете, защитил докторскую диссертацию во Флорентийском университете в 2002, с 2006 по 2011 преподавал в университетах Генуи и Венеции, в 2013 стажировался в Центре исследований литературы и культуры в Берлине. С 2012 – профессор теории кино, медиа и визуальной культуры в Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Его книга «Эйзенштейн: кино, история искусств, монтаж» («Eisenstein. Cinema, Art History, Montage», 2011) получила премию «Лучшая книга о кино в Италии». Среди его публикаций – сборник «Сергей Эйзенштейн. Заметки ко “Всеобщей истории кино”» («Sergei M. Eisenstein. Notes for a General History of Cinema», совм. с Н. Клейманом, изд. Амстердамского университета, 2016), к которой он также написал вступительную статью. Редактор изданий работ Вальтера Беньямина, Ласло Мохой-Надя и Дзиги Вертова, а также антологии по теории медиа и визуальной культуры на итальянском и французском языках.
«Ursprüngliche Impulse», «urges», «Triebe», «besoin fondamental»: Кракауэр, Эйзенштейн и Базен о медиа-антропологических основах кино
В 1940-е годы Зигфрид Кракауэр, Андре Базен и Сергей Эйзенштейн с трех разных сторон подошли к одной общей проблеме. В их текстах она получила определение на трех языках – немецком, английском и французском: «ursprüngliche Impulse» [первобытные импульсы] (у Кракауэра), «urges» [побуждения] и «Triebe» [стремления] (у Эйзенштейна) и «besoin fondamental» [исконная потребность] (у Базена). Все трое стремились определить феномен, который мог бы объяснить появление кинематографа в конце XIX века и его основные качества и тенденции как медиа.
Как мы увидим далее, подготовительные тексты Кракауэра, написанные в 1940-е годы для книги, вышедшей в 1960 году под названием «Theory of Film. The Redemption of Physical Realaty» («Теория кино. Спасение физической реальности»), эссе Базена «Ontologie de l’image photographique» («Онтология фотографического изображения»,1945) и «Mort tous les après-midi» («Смерть после каждого полудня», 1951), а также заметки Эйзенштейна к незавершенному проекту под названием «Всеобщая истории кино» (1946–1948)490 питались общим убеждением: для того чтобы понять истоки, историю и будущие возможности кино, необходимо поместить его в longue durée [время большой длительности] того, что сейчас мы называем антропологией медиа, – чтобы обнаружить там глубоко укорененные инстинкты и потребности, ответом на которые кино и явилось. Подробный анализ этих текстов позволяет нам не только глубже понять важную фазу развития теории кино – фазу, в которой драматизм политических событий, окружавший всех трех авторов, привел их к рассуждениям, в частности, об отношениях между кино и смертью. Их рассмотрение помогает также объяснить, что мы можем понимать как антропологию медиа сегодня, в период, когда продолжающееся существование старых форм и появление новых видов медиа-опыта заново высвечивают важность такой точки зрения.
1. «Urspru¨ngliche Impulse»
Кракауэр работал над книгой по теории и эстетике кино в течение более 20 лет. Инка Мюлдер-Бах в своих «Заметках редактора», которые сопровождают том собрания сочинений Кракауэра, содержащий «Теорию кино», показала, что самый ранний план книги может быть датирован 1937–1938 годами, а самые ясно сформулированные разработки проекта находятся в так называемом «Марсельском наброске к теории кино» («Marseiller Entwurf zu einer Theorie des Films»), написанном в Марселе на стыке 1940 и 1941 годов, пока Кракауэр с нетерпением ожидал визы, чтобы покинуть Францию и добраться до Соединенных Штатов491, а также в серии текстов, включающей «Кино и театр» (1941), «Предварительный документ об изучении эстетики кино» (1948) и «Черновой план книги по кино-эстетике» (1949).
Уже в раннем тексте, «Наброске идей к моей книге по кино» («Ideenskizze zu meinem Buch über den Film», 1938), Кракауэр подчеркнул тот факт, что в своей книге он хочет проанализировать феномен кино «в отношении к его эпохе» и к определенному культурному окружению (milieu), в котором оно зародилось и развивалось492. Другими словами, к кинематографу необходимо было подойти как к «исторически развившейся структуре», входящей в более широкую «историю культуры», так как лишь с этой точки зрения можно было выделить его «важнейшие мотивы».
Два года спустя эти предварительные идеи будут всесторонне развиты в «Марсельском наброске» (1940–1941). Написанный в форме кратких заметок, разбитых на шесть колонок (озаглавленных «Куда?», «Комментарии», «Примеры», «Ключевые слова», «Состав, «Сделать»), этот черновик является первой четко оформленной попыткой объяснить то, что Кракауэр называет «феноменом кино»: «Дело здесь о том, чтобы определить феномен кино. Как объясняется его появление около 1885 года, его развитие, его сегодняшнее чудовищное господство? В чем состоят его особенности? Какое значение они обретают?»493 Кракауэр ищет ответ на эти вопросы путем выявления «инстинктов» и «первобытных импульсов», которые привели к появлению кино: тех «инстинктов» и «импульсов», в каких можно было бы распознать в «нефильтрованном» виде основополагающие признаки кино, находящиеся на его «первичном уровне». На этом уровне, который Кракауэр понимает в археологических терминах как слой, достичь коего можно с помощью «проникновения» сквозь тот этап, на каком «разворачиваются политические и социальные феномены», – кино как медиа соответствует целому ряду устремлений и сил, сущность которых остается в «Марсельском наброске» неопределенной: с одной стороны, они кажутся человечными и психологическими, так как являются выражением «тяги к расширению нашего знания о материальном аспекте реальности», в то время как с другой стороны, они, кажется, принадлежат самому кино как «равнодушному», «неантропоцентричному» виду медиа, который отворачивается от человека, «фиксирует то, чего не может воспринять глаз», и проникает в «динамичный, материальный мир»494.
Близкая связь между кино и материальным измерением реальности особенно очевидна в том, что Кракауэр называет «архаичными фильмами», которые с самого появления обнаруживают свою по существу документальную природу: «Архаичные фильмы... подчиняются лишь верному, непрерывному инстинкту, когда фиксируют материальные явления и процессы, не преследуя никакого другого намерения, кроме как показывать существа в движении. Эти фильмы составляют первичный уровень кино. Кино находится на своем первичном уровне, когда показывает материальные вещи ради них самих.
Но: этот уровень открывается тогда, когда смысл подвергается сомнению при демонстрации материала, и игра существ не подчиняется привнесенным конструкциям. На первичном уровне (движущееся) существо должно выделяться как таковое.
Ключевой вопрос кино в первичном уровне касается “что” и “как” материальных явлений. Это означает, что кино на этом уровне должно документировать функцию. Оно документально в самом широком смысле этого слова – или репортажно»495.
Непреднамеренная, равнодушная, документальная запись быстрых движений, которыми характеризуется материальная реальность, находит свое парадигматическое выражение в том, что Кракауэр называет «галопом коня» (Pferdegalopp): скрытая отсылка к первым хронофотографиям Эдварда Майбриджа, определяющая запись быстрых движений как «пра-мотив кино» – «прамотив», который отзвуком пройдет через всю последующую историю кинематографа: «Определение настоящего кино. Галоп должен грохотать в каждом настоящем фильме».
Вместе с техникой книгопечатания, волшебным фонарем, живописной панорамой, акробатическими и ярмарочными представлениями, хронофотография представляется Кракауэром принадлежащей к многочисленным, переплетающимся генеалогиям кино496. Это утверждение еще больше подчеркивает сходство между подходами Кракауэра, Базена и Эйзенштейна к истории и теории кино в 1940-е годы, так как в этот период все они верили, что кино необходимо изучать с помощью того, что сегодня мы определяем как медиа-археологический подход497.
Вместо того чтобы стремиться вверх, к намеренно вложенным смыслам и четко сформулированным сюжетам, подобно тем, к примеру, что обнаруживаются в театре (Кракауэр считал его по преимуществу «антропоцентричной» формой репрезентации, так как истоки театра лежат в сфере культовых церемоний), – кино, благодаря своим специфическим операциям и своим нестандартным техническим средствам, открывается сфере «внечеловеческого» и проникает вниз, к феноменам, которые находятся «в темной глубине материального измерения... где правят давленье и удар и куда не проникает никакой смысл»498. Это царство «осадков» и «ошметок» фактической, случайной, фрагментарной материи, где «нагая сущность» (das Bloßseiende), запечатленная «равнодушной» камерой, все еще «лишена намерений». Это область, близкая к сфере смерти, как мы читаем в одном из самых важных абзацев «Марсельского наброска»: «Предуведомление: кино вовлекает в игру весь материальный мир. Впервые – за пределами театра и живописи – оно приводит Сущее в движение. Оно не стремится вверх, к смыслу, но толкает вниз, к осадкам, чтобы включить и их. Его интересуют сами отбросы, то, что есть в самих людях и вне людей. Лицо ничего не значит для кино, если за ним не просматривается череп: “Danse macabre”. Для чего? Увидим»499.
На своем «фундаментальном уровне» кино осуществляет «специфическое представление», «открытие материального измерения» и управляется «импульсом»500, но этот «импульс» оборачивается чем-то весьма близким к фрейдовскому инстинкту смерти, так как ведет напрямую от живого «лица» к мертвому «черепу» за ним.
Эта идея врожденной, с самого начала существующей близости между кино как медиа и сферой внечеловеческой, материальной реальности – и, в конечном итоге, смерти – может быть обнаружена неоднократно в разных подготовительных текстах к «Теории кино», которые Кракауэр писал в 1940-е годы.
Текст «Кино и театр» (1941), например, повторяет идею о том, что кино является «неантропоцентрическим» видом медиа, чье основное техническое средство, «равнодушная» камера, находится под воздействием серии инстинктивных сил, направляющих ее к материальному миру: «страсти к материальному движению», «спонтанного хода к материальному», «склонности к материальным данностям, чувственно осязаемым веществам». Кино, другими словами, принадлежит к «области, в которой рука хватает что-то раньше, чем это доходит до сознания»501.
«Предварительный документ об изучении эстетики кино» (1948) и «Черновой план книги по киноэстетике» (1949) заново формулируют эти же идеи, но по-английски, так как за это время Кракауэр добрался до США и обосновался в Нью-Йорке. «Grundschicht» становится «первичным уровнем» (basic level), а ursprüngliche Impulse (первобытные импульсы) становятся «изначальными импульсами» (original impulses), и их необходимо идентифицировать и анализировать, так как они «дают ключи к врожденным склонностям медиа», в то время как материальный мир, запечатленный «бесчувственной камерой», описывается с помощью прилагательных, которые снова вернутся в «Теории кино»: «неинсценированный», «бесконечный», «случайный». Теперь Кракауэр, в частности, подчеркивает природную сущность феноменов, запечатленных кинематографом: «Любой фильм использует малейшую возможность показать максимум феноменов окружающей среды, среди них – массу простых аксессуаров и деталей... Во многих случаях дело обстоит так, словно сюжет является всего лишь поводом для фильмов раскрыть материальные обстоятельства и условия, при которых происходит действие. И так как все связано со всем, фильмы имеют тенденцию представлять фрагмент за фрагментом окружающей среды практически бесконечным образом. Исследование материального существования кажется одной из их главных задач... Фильмы находятся на своем основополагающем фундаментальном уровне каждый раз, когда они запечатлевают феномены окружающей среды ради них самих»502.
В «Теории кино» все темы, до сего момента выделенные нами, входят в общую структуру книги, и в то же самое время заново формулируются в терминах, кои отличаются от тех, что мы находим в подготовительных текстах 1940-х годов. Например, фотография, которая в «Марсельском наброске» затрагивалась косвенно, через идею «галопа коня», то есть через неявную отсылку к хронофотографическим исследованиям лошадиного бега Майбриджа, – теперь становится видом медиа, который дает кино исторические, онтологические и эстетические основания, так как именно путем изучения «основных законов эстетики» (basic aesthetic principle) фотографии можно определить «фотографический подход», на какой опирается «кинематографичный подход». Последний же состоит в «реалистической тенденции»503, и ей должны следовать все фильмы, стремящиеся соответствовать «особой сущности» кинематографа, согласно нормативному взгляду, характерному для позиции Кракауэра в 1960 году: «фильмы могут претендовать на эстетическую полноценность тогда, когда они создаются на базе основных свойств кинематографа; то есть фильмы, как и фотографии, должны регистрировать и раскрывать физическую реальность»504.
Так же, как в «Марсельском наброске», Кракауэр в «Теории кино» упоминает «явно два разных элемента» (distinctly separate components), которые привели к историческому появлению кинематографа: помимо хронофотографии Майбриджа и Марея, это волшебный фонарь, фенакистископ и т. д., но он дает фотографии «главенство и приоритет, так как она бесспорно была и остается решающим фактором, определяющим содержание фильма». «Природа фотографии продолжает жить в природе кинематографа», утверждает Кракауэр, поскольку именно фотография впервые вызвала желание «получить аппарат, который запечатлевал бы самые пустячные события окружающего нас мира»: этот инструмент способен зафиксировать «движения, невоспринимаемые в нормальных условиях или не воспроизводимые иными средствами», такие как «мгновенные трансформации материи»505.
«Импульсы», ведущие кино к материальной реальности – теперь представленной как «физическая реальность» или «физическое существование», – описываются в «Теории кино» как «природные склонности», которые также действуют как нечто вроде силы гравитации: «...кино... приспособлено для запечатления и раскрытия физической реальности и поэтому... тяготеет к ней». С помощью своих «регистрирующих» и «исследовательских» (recording and revealing) функций кино фиксирует целую серию явлений, недоступных, или, вернее, не доступных тем же образом обыкновенному человеческому зрению: широкий спектр материальных «движений», «обычно невидимое», «явления, потрясающие сознание», «субъективное восприятие реальности» (special modes of reality), которые включают «неинсценированное», «случайное», «бесконечное», «неопределенное» и «поток жизни». Собранные вместе, эти запечатленные аспекты указывают на «физическую реальность в том нетронутом виде, в каком она существует помимо [нас]», «жизнь в ее наименее контролируемых и наиболее неосознанных моментах, беспорядочное смешение преходящих, непрерывно рассеивающихся картин, доступных только глазу камеры»506. Неантропоцентрическая природа кино снова оказывается выделенной, ибо Кракауэр подчеркивает врожденную тенденцию кино к исследованию «всего физического существования, человеческого или нечеловеческого»...
2. «Urges», «Triebe»
В одном из абзацев «Марсельского наброска», касающемся «основных терминов» планируемой книги, Кракауэр пишет подряд: «Danse Macabre. KERMESSE FUNÈBRE. Pferdegalopp» («Пляски смерти. ТРАУРНАЯ КЕРМЕССА. Галоп коня»)507. «Kermesse funèbre» относится к французскому названию короткометражного фильма «Death Day» («День мёртвых», 1934), смонтированного продюсером Солом Лессером из кадров, снятых Эйзенштейном для эпилога фильма «Да здравствует Мексика!» (1930–1932). Впечатления от «Дня мёртвых», увиденного Кракауэром в Париже весной 1940 года, отразились в его дневниках в заметках и рисунках508, а также в «Марсельском наброске». Они становятся отправной точкой для серии заметок к возможному «Заключению» в книге по теории и эстетике кино, которую Кракауэр тогда планировал. Как мы уже видели в предыдущей главе, «первобытные импульсы», спускающие кино вниз по направлению к уровню физической реальности и «нагого бытия», являются также «импульсами», ведущими его в сферу смерти. Этот пункт повторяется в конце «Чернового наброска» («Tentative Outline», 1949), завершающегося коротким параграфом под заглавием «Голова смерти»: «Построенная вокруг анализа “Дня смерти”, короткометражного фильма, собранного из мексиканского материала Эйзенштейна, эта финальная глава не только обобщает всю книгу, но и формулирует некоторые окончательные выводы»509.
Проблема отношения кино к смерти также играет центральную роль в текстах 1940-х годов, написанных вторым героем моего эссе – Сергеем Эйзенштейном, в частности, в его заметках к незаконченному проекту «Всеобщая история кино». Он начал писать эту серию более или менее фрагментарных текстов в октябре 1946 года и разрабатывал данную тему до самой своей смерти в феврале 1948 года.
«Всеобщая история кино» – это заглавие явно обязано работе Жоржа Садуля с тем же названием, ее первые два тома («Изобретение кино, 1832–1897» и «Пионеры кино, 1897–1909») вышли в 1945 и 1947 годах – была поначалу запланирована как вступительный том к коллективной многотомной «Истории советского кино», созданием которой Эйзенштейн должен был руководить после назначения его главой сектора кино Института истории искусств Академии наук СССР. Проект быстро вышел за рамки вступительного тома и стал вырастать в самостоятельное произведение, для которого характерны те же тяготения к бесконечному развитию, колебания между центробежными и центростремительными тенденциями, типичными для большинства теоретических работ Эйзенштейна и способными объяснить, почему он не завершил ни одну из своих книг.
С конца 1920-х годов Эйзенштейн исследовал взаимоотношения между кинематографом и историей искусств. В этих заметках он попытался установить обширную двойную генеалогию, организованную по различным извилистым «линиям»510. С одной стороны, его интересовала генеалогия «выразительных средств кино», то есть их связь со всеми видами медиа и всеми формами репрезентации, использовавшими до появления кинематографа те же самые «выразительные средства», которые позже будут применяться в кино. Среди них – запечатление изображений на светочувствительную поверхность, композиция внутри рамки, проекция изображений на экран и прочее, так же как всевозможные формы визуального, звукозрительного и цветового монтажа. С другой стороны, Эйзенштейн обратился к генеалогии самих этих медиа и форм репрезентации, изобретенных до кино, для того чтобы найти ответ на те же самые «urges» [стремления] (Эйзенштейн чередует этот английский термин с немецким «Trieb»), на которые ответило и кино: в частности, «the urge фиксировать явление»511, то есть регистрировать, сохранять и воспроизводить различные явления, коим иначе с течением времени суждено было бы исчезнуть.
Так же как Кракауэр, Эйзенштейн верил: чтобы объяснить изобретение кинематографа, его основополагающие свойства как медиа и некоторые из основных тенденций первых десятилетий его истории, необходимо было поместить кино в longue durée истории медиа, которые предшествовали появлению кинематографа. Причем, если Кракауэр в основном обращается к истории фотографии, с особым акцентом на хронофотографию, то «Всеобщая история кино» Эйзенштейна блуждает по мировой истории во всех направлениях. Он ищет «предшественников» кино в истории искусств (графики, живописи, скульптуры, архитектуры, литературы, театра, музыки), в истории популярных форм развлечений (в ярмарочных представлениях и театре «Гран-Гиньоль», кабаре и цирке), в истории экспонирования и выставок (кунсткамерах и кабинетах редкостей, музеях восковых фигур и всемирных выставках), а также в истории похоронных практик и религиозных ритуалов, упоминая дионисийские мистерии, египетские мумии, римские похоронные маски, христианские процессии и советские празднества.
Поскольку в отдельных абзацах заметок ко «Всеобщей истории кино» Эйзенштейн рассматривает кино как «наследника всех художественных культур» и как «синтез искусств», наследие, синтезируемое киноискусством, необыкновенно широко и сложно, так как включает в себя серию различных, переплетающихся генеалогий. Одна из них, как мы видели, – это генеалогия всех приемов, форм репрезентации и видов медиа, которые были изобретены для кино, чтобы ответить на «the urge фиксировать явление». Это стремление явно присутствует в главке заметок ко «Всеобщей истории кино», именуемой «Наследник» и написанной Эйзенштейном в его типичном многоязычном стиле:
«ФОТОГРАФИЯ
Фото and the urge фиксировать явление.
Primaerer эйдетизм – lost paradise эйдетики с пробуждением сознания – urge к замене утраченного through a mechanical device (great!!!) <через механическое устройство (здорово!!!)>.
Фотоаппарат и ретина глаза: фотоаппарат – портрет глаза (“The Clansmen”!),
Фото как craft <ремесло> начинается с мумии – Египет.
Слепок – Рим (натурализм слепка).
Пирамида и идея противления преходящему – бессмертие. Тоска. <...>
Кино and the urge фиксировать процесс.
Все киноигрушки.
Подоплека кукол-автоматов (увековеченный актер),
механических театриков etc.,
заводных игрушек.
Звук[овое] кино and the urge фиксировать звукопроцессы.
Balloons <кружки со словами> в комич[еских] рисунках.
Они же в средние века:
Justicia <Справедливость>.
Они же у древних Maya:
иероглифы, но еще графически деформированные для передачи интонации (мое толкование из наблюдений).
Фотоэлемент как Nux <ядро> эстетики.
ХРОНИКА
Если пойти по линии urge’а закреплять явления (хроника, фотография, документ), впечатления (travelog[ue]).
“Объективно”: Гомер.
Далее: тенденциозно (p. ex., уже в диспропорции фигуры фараона и простых смертных).
Далее: эмоционально.
“Слово о Полку Игореве”.
“Les désastres de la guerre” Callot <“Ужасы войны” Калло>
(как последовательная кинохроника)
Далее: патетизированно.
“Los desastres de la guerra”, Goya <“Ужасы войны”, Гойя>
(как непоследовательные патетизированные импрессии).
Далее: драматизированно, т. е. инсценированной передачей, держась буквы факта.
Мистерии.
Поэтизируя – хроники Шекспира.
(“Подтасовка” – напр., “Ужасы Калиша”, снятые во дворе дома Нирензее,
1914 г.)»512
В этом фрагменте фотография, кино, звуковое кино и традиция «хроники» – со всеми их разнообразными предшественниками («forerunners», по Эйзенштейну) – представлены как различные формы репрезентации или медиа, отвечающие на одно и то же стремление «фиксировать явление». Каждый вид искусства или медиа отвечает на это стремление (urge или Trieb) согласно своим собственным возможностям: фотография фиксирует статичные явления, немое кино передает процессы, которые в звуковом кино становятся аудиовизуальными, а «хроника» увековечивает целые исторические события. Именно отсылкой к идее «хроники» Эйзенштейн надеялся объяснить одну из задач кино и в особенности своих собственных фильмов, если мы вспомним его ключевые картины – и ранние «Броненосец “Потёмкин”» (1925), «Октябрь» (1927–1928), и даже позднейшие «Александр Невский» (1938) и «Иван Грозный» (1942–1946). Эта задача – действовать как бы в качестве кинохроники, способной фиксировать, документировать, увековечивать, прославлять – часто в форме реконструкции – события прошлого.
Указанные Эйзенштейном в его заметках различные медиа, взятые вместе, стремятся «фиксировать явление», что, как ему казалось, отвечает на повторяющееся «противление преходящему» и на тоску по «бессмертию»513. Такая тоска представлена обращением к одной из самых знаменитых строк из «Фауста» Гёте – к строке, в которой Фауст выражает свое желание остановить течение времени возгласом «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»:
«”Verweile doch, du bist so schön!”514
Можно рассматривать всю художеств[енную] деятельность als Auswuchs dieses Triebes <как произрастание этого стремления>.
Начинаясь еще за пределами собственно искусства. Woher dieser Urtrieb?
<Откуда это пра-стремление>?
Человек вечно во власти становления и разрушения, как и природа, история, общество.
Его устремление – toujours inassouvie <всегда неудовлетворенное> – стабильность – вечность.
Все равно, физическое ли бессмертие (ВИЭМ) – бессмертие в детях – вечность бытия через метемпсихозис – в раю ли – в созданных непреходящих ценностях – в сердцах народов, etc. (Тоска американца о “security” <безопасности>)»515.
Согласно этому фрагменту, «вся художественная деятельность» может считаться Auswuchs – произрастанием, некой формой роста или развития изначального Trieb (стремления) или Urtrieb (пра-стремления) к «стабильности» и «вечности». Немецкий термин Trieb, эквивалент предыдущему английскому urge, несомненно, является неявной отсылкой к Фрейду и психоанализу и определяет urge как бессознательную тягу или импульс, проходящий через историю различными путями: в произведениях искусства, но также и в рождении детей, «создании непреходящих ценностей», в вере в рай или в переселение душ, или в научных исследованиях болезней ради возможности физического бессмертия, которые проводились во Всесоюзном институте экспериментальной медицины (ВИЭМ).
В той же серии заметок, датированных 2 декабря 1946 года, Эйзенштейн пытается обобщить основные формы «фиксации» или «закрепления» явлений и различает три основные формы:
«[Закрепление] возможно двояко:
1) воспроизведением события или человека (динамически) или
2) мумификацией человека или события,
и, пожалуй, третье:
3) закрепление знаком (от пирамиды до надгробия, надписи на кресте на кладбище)»516.
Вторая форма закрепления, «мумификация человека или события», ведет к генеалогической линии, включающей в себя египетские мумии, римские портреты предков, основанные на посмертных масках, которые Плиний Старший в своей «Естественной истории» называет «imagines», «гигантские Будды в пещерных храмах и нишах утесов в Тибете» и портреты американских президентов, высеченные в горе Рашмор517. Эйзенштейн снова связывает фотографию с посмертными слепками, ссылаясь на идеи Бальзака о фотографии как спектральном слое, который снимается с тела и закрепляется эмульсией – «Снятие (с трупа) маски. <...> Фото-снимок (Бальзак)», и заканчивает определением кино как «динамической мумификации», т. е. как формы мумификации, соединяющейся в других заметках ко «Всеобщей истории кино» с реликвиями во всех их исторических воплощениях: христианские «реликварии», Домик Петра I, Комната Рузвельта в Белом доме, сувениры, собрания автографов знаменитостей и т. д.
Эта идея «динамической мумификации» ведет нас к сочинениям третьей фигуры, которую мы рассматриваем в данной статье: к Андре Базену и его эссе «Онтология фотографического изображения» (1945) и «Смерть после каждого полудня» (1951). В первом из них кино, как известно, представлено как «momie du changement» – «мумия [происходящих с вещами] перемен». Сходство между «динамической мумификацией» Эйзенштейна и «мумией перемен» Базена призывает нас пересмотреть часто представляемое как оппозиция друг другу соотношение между советским кинорежиссером-теоретиком, который всю жизнь пытался понять сущность и силу монтажа, – и французским кинокритиком, который пришел к выводу, что этика реализма, провозглашенная им в кино, может привести к знаменитому принципу «montage interdit» («монтаж запрещен»)518.
3. «Besoin fondamental», «besoin primitif»
Эссе «Онтология фотографического образа», впервые опубликованное в сборнике под редакцией французского историка искусств и критика Гастона Диля под заглавием «Проблемы живописи» (1945), позднее было выбрано Базеном в качестве начального в первом томе антологии «Что такое кино?» – единственной книги, составленной им самим перед смертью в 1958 году. Этот текст вполне мог быть прочитан Эйзенштейном, который через Жоржа Садуля и Леона Муссинака находился в тесной связи с французскими интеллектуалами, занимавшимися теорией и историей кино, но никаких свидетельств этого чтения пока не обнаружено.
С самого начала эссе Базен представляет свои размышления об онтологии фотографического образа как часть «психоанализа пластических искусств»519, который выявляет следующие свойства египетских практик бальзамирования и мумификации: «Психоанализ пластических искусств мог бы рассматривать практику мумифицирования как основополагающий факт их генезиса. В основе живописи и скульптуры можно было бы обнаружить “комплекс мумии”. Египетская религия, целиком направленная на преодоление смерти, ставила посмертную жизнь в прямую зависимость от материальной сохранности тела. Таким путем она удовлетворяла одну из исконных потребностей человеческой психологии – потребность защитить себя от времени. Смерть – это всего лишь победа времени. Искусственно закрепить телесную видимость существа – значит вырвать его из потока времени, “прикрепить” его к жизни. Отсюда естественное стремление – в самой реальности смерти сохранить телесную видимость жизни».
Такие «исконные потребности человеческой психологии», которые Базен в другом абзаце описывает как «исконное желание [besoin primitif] победить время посредством сохранения нетленности формы», проходят сквозь историю и играют здесь ту же роль, что играет в заметках Эйзенштейна ко «Всеобщей истории кино» urge или Trieb, то есть «стремление фиксировать явление». Базен тоже связывает фотографию и кинематограф с целым генеалогическим рядом форм, включающим в себя «практику мумифицирования», «снятие посмертных масок... [в которых] присутствует автоматизм репродуцирования», и ставит вопрос о «психологии реликвий и “сувениров”, которая также использует механизм перенесения реальности, связанный с “комплексом мумии”»520. Благодаря «бесстрастности объектива» – это выражение напоминает «бесчувственную камеру» Кракауэра и повторяется в теориях кино и фотографии 1920, 1930 и 1940-х годов, как мы увидим в последнем разделе этого эссе, – фотографии, с их «механическим репродуцированием» и с их прямым, непосредственным «перемещением реальности от вещи к ее воспроизведению», должны интерпретироваться, по словам Базена, с одной стороны, в плане христианских теологических понятий, таких как воплощение и пресуществление521, и, с другой стороны, в плане психоанализа, поскольку фотография способна «освобождать» – в противоположность глаголу «подавлять» – «из глубин нашего подсознания» потребность, которую разум склонен сублимировать: «Только объектив может дать нам такое изображение предмета, которое способно освободить из глубин нашего подсознания вытесненную потребность заменить предмет даже не копией, а самим этим предметом...»522
Кино, как и фотографию, Базен считает субстанцией, связанной исключительно с тем же «комплексом мумии», так как они оба «мумифицируют» время, «предохраняя его от самоуничтожения». Говоря об исторической связи между живописью барокко и кино, которую провозгласил Андре Мальро в своем очерке 1940 года «Заметки о психологии кино» и мысль о которой затем развил в трех томах своей «Психологии искусства» (1949)523, Базен представляет кино как упомянутую «мумию происходящих [с вещами] перемен»: «В этой связи кино предстает перед нами как завершение фотографической объективности во временном измерении. Фильм не ограничивается тем, что сохраняет предмет, погружая его в застывшее время, подобно тому как насекомые сохраняются в застывших каплях янтаря; он освобождает барочное искусство от его судорожной неподвижности. Впервые изображение вещей становится также изображением их существования во времени и как бы мумией происходящих с ними перемен»524.
В эссе «Смерть после каждого полудня» (1951), написанном несколько лет спустя, упоминается еще одна древняя погребальная техника в качестве объяснения особого отношения кино ко времени и смерти: техника муляжа, слепка всего тела. Начав с критики фильма о бое быков, поставленного Пьером Бронберже и смонтированного Мириам Борсутски («Бой быков» / «La Course de Taureaux», 1951), Базен пишет о специфичном отношении кино ко времени и к смерти, основанном на двух обязательных операциях – снятии слепка и повторении: «Реальность, которую в любом объеме воспроизводит и организует кино, – это реальность мира, в который мы включены, это чувственная непрерывность, запечатлеваемая на пленке и в пространственном, и во временном выражении»525.
Когда «слепок» завершен и события зафиксированы на кинопленку, разворачивание событий может бесконечно воспроизводиться с помощью повторной проекции и повторных просмотров, и именно это определяет уникальное взаимоотношение кино и смерти: «...смерть – это одно из тех редких событий, которые оправдывают применение милого Клоду Мориаку термина “кинематографическая специфика”. Будучи искусством временным, кино обладает чрезвычайной способностью повторять мгновение. Эта способность вообще присуща механическим искусствам, но кино может пользоваться ею с бесконечно большей эффективностью, чем радио или грамзапись. <...>
Я не могу повторить ни одного мгновения своей жизни, но какое-нибудь из этих мгновений кино способно повторять передо мной до бесконечности. И хотя для нашего сознания каждое мгновение не тождественно другому, есть такой момент, в отношении которого это основополагающее неравенство имеет особую силу: я имею в виду момент смерти. Для любого существа смерть – момент единственный par excellence. По отношению к нему определяется ретроспективно качественное время жизни. Он обозначает границу между сознательной длительностью и объективным временем вещей. Смерть – всего лишь одно из мгновений, следующих друг за другом, но это – последнее мгновение. Конечно, ни одно мгновение не идентично другому, но они могут быть похожи, как листья на дереве; вот почему их кинематографическое повторение более парадоксально в теории, чем на практике; и мы допускаем его, несмотря на онтологическое противоречие, как некое объективное соответствие памяти»526.
Как мы сейчас увидим, Эйзенштейн и Базен не были первыми, кто связал фотографию и кино с практиками бальзамирования, мумификации и снятия слепка с тела. Жан Эпштейн в книге 1921 года «Здравствуй, кино» уже определил кинематограф как форму «подвижного бальзамирования»527. Еще раньше историк искусства Юлиус фон Шлоссер в книге «Восковой портрет» (1911) реконструировал длинную генеалогию этой фигуративной практики, которой часто пренебрегают и начало которой лежит в римской портретной живописи и в погребальных традициях. Это было дальнейшим развитием идей, сформулированных Аби Варбургом в тексте 1902 года «Искусство портрета и флорентийская буржуазия», где подчеркивалась важность изучения традиции восковых ex-voto, таких как boti, которые десятилетиями висели в базилике Сантиссима-Аннунциата во Флоренции528. Шлоссер пришел к выводу, что восковая портретная живопись «выжила» на протяжении веков и нашла свое последнее воплощение в восковых скульптурах, выставленных в музеях восковых фигур, таких как гамбургский Паноптикум (тот же музей упоминает Эйзенштейн), а также в фотографическом изображении. Шлоссер считал своеобразный «реализм» и «натурализм» восковых портретов формой современного «выживания»529: «В свете всего прошедшего исторического развития не может быть никаких сомнений в том, что портретная живопись в воске с постоянной присущей ей тягой к натурализму выполняла функцию, которая в новое время стала осуществляться подлинно современным искусством среднего класса, а именно фотографией – хотя с той разницей, что фотография работала более понятным образом, менее чувственно, с большей научной объективностью – как бы более абстрактно – и, главное, гораздо более экономно: фотография выполняла функцию обеспечения максимально “верного”, “живого”, “истинного” образа портретируемого человека»530.
У Варбурга и Шлоссера изучение традиции восковой портретной живописи и разнообразия верований, окружающих ее, ознаменовало решительный поворот от истории искусства, понимаемой как история произведений искусства и художественных стилей, к антропологии изображений, сосредоточенной на явлениях анахроничного «выживания» и «пережитков» часто анонимных практик, которые ранее были отодвинуты за пределы истории искусства. Подобный антропологический подход к изучению изображений присутствует и у Базена, и у Эйзенштейна, и мы можем задаться вопросом, можно ли считать также идеи Кракауэра об «импульсах» и «инстинктах», которые привели к появлению кино, попыткой рассмотреть кино в перспективе того, что мы назвали бы сегодня медиа-антропологией. Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам нужно обратиться к другой ключевой концепции в теории фотографии и кино у Кракауэра: концепции «отчуждения».
4. «Отчужденные явления»
Как мы видели в первом разделе нашего эссе, природа «первоначальных импульсов», упомянутых в «Марсельском наброске» и в других подготовительных текстах 1940-х годов к «Теории кино», остается неопределенной: с одной стороны, кажется, что эти импульсы человеческие и психологические, так как они отвечают на «стремление [Drang] к расширению наших знаний о материальном измерении реальности», с другой же стороны, они, похоже, относятся к самому кинематографу как к «равнодушному», «неантропоцентричному» виду медиа, который влечется к материальной реальности некоей неудержимой гравитационной силой.
Тем не менее, даже при всем его «равнодушии» и «неантропоцентричных» свойствах, кино играет для Кракауэра важнейшую эпистемологическую роль в качестве культурно-исторической формы. И эта эпистемологическая роль имеет существенное антропологическое измерение. Во-первых, поскольку кинематограф вступает в контакт с глубокими слоями физической реальности, он буквально «атакует» человеческий «сенсориум» со всех сторон, вызывая целый ряд «бессознательных телесных реакций», как мы читаем в отрывке из «Марсельского наброска»: «Что касается кинематографа, то зритель ничем не отличается от человека, передвигающегося в реальном мире, который натыкается на вещи, сущности, фрагменты – как человеческие, так и внечеловеческие, – его сенсориум атакуется ими напрямую, а не окольно через сознание. Материальные элементы, которые появляются в кино, возбуждают непосредственно материальные слои человека: его нервы, его чувства, всё его физиологическое существо. Кино привлекательно там, где представляется материальное, а вовсе не толкование смыслов, которые затем пробуждали бы чувства, оно в гораздо большей степени вызывает бессознательные телесные реакции, к которым затем могут прирастать смыслы»531.
Во-вторых, сама внечеловеческая природа «импульсов» и «инстинктов» кино создает «отчужденное» видение реальности, позволяющее человеку встречаться лицом к лицу с явлениями, в противном случае невидимыми, а в некоторых случаях невыносимыми.
Кракауэр в эссе «Фотография» (1927) уже настаивал на принципиальном различии между живыми образами памяти и техническими изображениями, создаваемыми фотографией, а затем в «Предварительном наброске книги по эстетике кино» (1949) писал о способности памяти показывать «условный статус всех данных конфигураций» и «приостановку всех привычных взаимоотношений между элементами природы» – о способности, какую кино развивает далее «всякий раз, когда комбинирует части и сегменты, чтобы создать странные конструкции»532. И после этого Кракауэр упоминает отрывок из романа Пруста «В поисках утраченного времени», который подчеркивает отчуждающее измерение фотографии: «Цитата из Пруста: Рассказчик неожиданно входит в гостиную своей бабушки и, на мимолетное мгновение, видит ее такой, какой он никогда раньше ее не видел. У него пропадает закрепленный образ ее, построенный из детских воспоминаний и нежных мыслей; теперь он видит больную старуху, совершенно незнакомую ему, в незнакомой комнате. Пруст сравнивает это впечатление с фотоснимком, сделанным бесчувственной камерой.
Мгновенная фотография имеет тенденцию к удалению (разложению) субъективных систем отсчета, обнажая видимые комплексы ради них самих. Эти комплексы, будучи продуктами отчуждения, относительно мало структурированы; они открывают то, что уклоняется от полного восприятия или видимо лишь частично. Фотография изолирует то, что существует независимо, подчеркивая его фрагментарный характер»533.
Здесь мы находим не только дальнейшее переформулирование того, что Кракауэр писал в эссе о фотографии, но также вариацию лейтмотива, проходящего через несколько теорий фотографии и кино 1920, 1930 и 1940-х годов. Среди наиболее существенных проявлений этого лейтмотива – комментарии Мохой-Надя о «беспристрастной оптике» («unvoreingenommene Optik»), которую обеспечивает фотокамера534, а также отрывки Беньямина об «оптическом бессознательном» (Optisch-Unbewußte) в «Краткой истории фотографии»535 и в различных версиях эссе «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости» (1935–1939)536. Хотя формулировали они это по-разному, Мохой-Надь, Беньямин и Кракауэр разделяли идею о том, что один из наиболее важных аспектов исторического и культурного значения как фотографии, так и кино основывался на их способности показывать явления с непреднамеренной и, в конечном счете, нечеловеческой точки зрения.
В случае с Кракауэром такой способ видения описывается как «отчуждение»: «кино, – как мы снова читаем в “Предварительном наброске”, – обнажает отчужденные явления», и именно по этой причине «кино как искусство, рожденное в нашу технологическую эру, имеет, возможно, своей задачей – познакомить нас, телом и душой, с окружающей нас средой, чтобы мы могли взять ее с собой и, приняв ее, косвенно искупить даже насилие и ужас»537.
Хорошо известно, как эти идеи «искупления» и «ужаса» вновь появятся в «Теории кино» в эпилоге, озаглавленном «Реабилитация физической реальности», и в параграфе «Голова Медузы»538.
Здесь мы хотим подчеркнуть, что Кракауэр пришел к этим выводам в 1960 году, пройдя в 1940-х годах через фазу, в которой его тексты сходились с текстами Эйзенштейна и Базена в попытке обнаружить те «первобытные импульсы», те «стремления» и те «исконные потребности», какие могли бы объяснить основы кинематографа внутри longue durée антропологической истории медиа539.
Перевод Натальи Рябчиковой
/ Пиа Тикка /

Пиа Тикка (Pia Tikka) – начала свою деятельность в кино как сценарист и режиссер в Финляндии. В Университете Аалто (Хельсинки) учредила программы NeuroCine для исследований в области психофизиологии и эмоциональных основ систем творчества и восприятия кино. В 2006–2007 преподавала теорию кино и анализ фильмов в Таллинском университете, в 2009–2011 участвовала в программах по мультимедийной грамотности и нейроэстетике Южно-Калифорнийского университета (Беркли) и в Институте творческих технологий Университета Де Монфор (Великобритания). В настоящее время – профессор-исследователь Балтийской школы кино, медиа, искусств и коммуникаций Таллинского университета. Автор книги «Enactive Cinema: Simulatorium Eisensteinense» (LAP Lambert Academic Publishing 2010, http://www.enactivecinema.net/).
Simulatorium Eisensteinense: моделирование динамики сознания
Сергей Эйзенштейн как режиссер и теоретик кино был увлечен идеей органично-динамичного синтеза искусств и наук. В своих многоаспектных теоретических исследованиях он рассматривал кино как универсальную лабораторию для изучения сознания. В данной статье я возвращаюсь к концепции «симулятория Эйзенштейна», впервые введенной мною в книге «Enactive Cinema»540.
Это понятие относится одновременно
1) к гипотетическому моделированию метафорического рабочего пространства, встроенного в сознание создателя фильма, и
2) к функции произведения искусства как практического результата процесса интеллектуального моделирования, в ходе которого оно возникло.
Понятие симулятория Эйзенштейна, артикулированное в упомянутой книге, на этот раз будет рассматриваться в соотнесении с моей VR-инсталляцией «Обитель тьмы» («The State of Darkness», 2018)541, которая может выступить как новейшее свидетельство в пользу данной концепции.
В кругу множества идей Эйзенштейна рассмотрение кинематографа как психологической лаборатории для моделирования динамики сознания является сегодня, видимо, наиболее актуальным и перспективным. Его исследование сознания включало психологию искусства и физиологического гомеостаза выразительности. Эйзенштейн привлекал в качестве одного из самых фундаментальных источников собственный авторский опыт кинотворчества, основываясь на стержневой идее воплощения эмоционального замысла542.
Франциско Варела и его коллеги разработали программу энактивизма, базирующуюся на теории энактивного сознания (1991), согласно которой можно лишь условно разделить познающего и познаваемое, а структура познания отображает структуру познающего. С помощью моей концепции энактивного кино я обращусь к рассмотрению сеттинга (набора правил и внутренней истории некоего окружения), где кинематографическая система адаптируется к невербальным, эмоциональным и воплощенным аспектам поведения участника, отслеживаемого средствами психофизиологических измерений, таких как электроэнцефалография или электромиография. Вполне в духе Эйзенштейна инсталляция «Обитель тьмы» ставит энактивный VR-опыт, вовлекающий участника в эмоциональное соприсутствие с «политическим заключенным», который представлен искусственным человекоподобным персонажем. При этом распространение обсуждения «симулятория Эйзенштейна» на область активного взаимодействия людей и человекоподобных агентов в виртуальной реальности служит двум целям. Первая – научное наблюдение над биосенсорным взаимодействием, формируемым сеттингом. Вторая – художественная цель, направленная на расширение авторского опыта участника за пределы экранной территории до иммерсивного (то есть создающего эффект присутствия, погружения) виртуального окружения.
Уникальное разнородное мышление Эйзенштейна было ориентировано на междисциплинарный синтез, интегрирующий компоненты широкого горизонта современных научных идей, в контексте которых осмыслялись его собственные научные разработки проблем взаимодействия человеческого сознания и экранного монтажа. С энтузиазмом восприняв социо-эмоциональную основу познания через имитацию, разработанную Львом Выготским в его психологии индивидуального развития543, а также идеи Александра Лурии о феномене синэстезии, Эйзенштейн не сомневался в том, что интеллектуальное мышление и нейрогуморальная регуляция гомеостаза неразрывно связаны и взаимозависимы544. Для Эйзенштейна нерасторжимая двунаправленная причинно-следственная связь между сенсомоторными функциями тела и эмоционально-выразительным поведением, которая направляется авторским видением, позволяет зрителю достичь наивысшего уровня целостного понимания темы, представленной в кинематографической композиции.
Эйзенштейн, видимо, рассматривал мультисенсорные аспекты кинематографического мышления и чувствования тем же образом, каким их позже описали Варела и его коллеги545 в энактивной динамической системности воплощенного ума. В частности, концептуальный аппарат Эйзенштейна – понятие «монтаж» – соотносится с методом авторского смыслообразования и структурирования, корреспондирующего, на мой взгляд, с энактивным кинематографическим опытом.
Эйзенштейн систематически использовал термин «монтаж» вместо того, чтобы говорить о нарративе, полагая его, очевидно, устаревшим. Даже анализируя литературные произведения, он подчеркивал роль автора как компоновщика произведения искусства, а не «рассказчика». Здесь можно увидеть расхождение Эйзенштейна с общепринятым мнением о кино как о развитии «основанной на сюжете» литературы, натуралистичного театра или других устоявшихся художественных форм. Интересно заметить, что в XXI веке разработчики видеоигр тоже декларировали отрыв от повествовательного кино. И так же, как у сегодняшних геймеров, в идее Эйзенштейна о новом синематическом искусстве подразумевались сложные нелинейные, симультанные, многоярусные, паутинообразные «сферические» формы. В словарь его ключевых слов для описания монтажа как метода входили такие понятия, как холизм546, органическое единство и чувственное мышление.
Множественность кинематографических элементов, стилистические решения, движение камеры, освещение и т. д. обеспечивают эмоциональное равновесие монтажной композиции. У Эйзенштейна монтаж, как любая образотворческая или описательная когнитивная модель, базируется на изначально встроенных динамических гештальтах, таких как восприятие крупностей, компоновок, сходств, секвенций и т. д. Эйзенштейна особенно занимала проблема установления контроля над этой системной сложностью – бессознательная динамика сознания в процессе монтажного конструирования.
В эссе 1939 года «О строении вещей» Эйзенштейн писал, что эта проблема касается не только того, что показывается в фильме, но также и авторского отношения к изображаемому547. Последнее состоит в сосредоточении на вопросах о том, зачем и как показывается нечто. Уже на самой первой стадии творческого процесса автор должен изучить собственные эмоции и выявить свое отношение к теме, предназначенной к воплощению. Обращенное на себя восприятие, или интроспекция собственного адекватного «чувствования» явления, которое субъект желает изобразить, в дальнейшем поможет ему вычленить из самого этого явления исходную эмоциональную тему. Согласно Эйзенштейну, строй ментальности автора должен определить эмоциональную тему, чтобы та могла затем воплотиться в структуру фильма: «И всюду и везде оказывается основой та же самая человечность, человеческая психология, питающая сложнейшие композиционные элементы формы совершенно так же, как она питает и определяет собой содержание произведения»548.
Эмоциональная тема – ключ к пониманию сути интеллектуальной миссии Эйзенштейна на протяжении всего творческого пути вплоть до последних эссе, в частности, исследования «Психология композиции» (1947)549. К сожалению, жизнь Эйзенштейна оказалась слишком короткой, чтобы исчерпать эту тему. Тем не менее, концепции Эйзенштейна предвосхитили такие ключевые современные понятия, как партиципация, динамические системы и радикальный холизм; его теоретические разработки соотносятся со многими сегодняшними научными взглядами, касающимися воплощения. И все же прошло полвека после смерти Эйзенштейна, прежде чем продвинутые функциональные технологии нейровизуализации подошли к имитационному моделированию нейронных систем человеческого мозга, о чем, в сущности, писал Эйзенштейн в своих теоретических трудах.
С точки зрения кинематографа XXI века, инклюзивная дополненная и виртуальная реальность, с одной стороны, и теоретические концепции Эйзенштейна, связанные с образным мышлением, – с другой, образуют единую линию, настойчиво требующую продолжения и развития. Отсюда следует, что труды Эйзенштейна, посвященные воплощению эмоциональной темы и динамике творческого процесса, будут служить путеводной нитью в осмыслении идеи кино как психологической лаборатории моделирования сознания.
Simulatorium Eisensteinense
В данном эссе понятие симулятория Эйзенштейна будет означать
(1) воплощение авторской творческой выразительности, которая строится на обоих измерениях мышления – сознательном и бессознательном, и
(2) авторскую имитационную модель эмпирического мира, которая частично воссоздается автором в искусственной кинематографической композиции на основе собственных избирательных решений.
Исследование кино у Эйзенштейна определилось как ветвь психологии, направленной на изучение творческих процессов – того, что он обозначал как образное мышление550. Сегодня для нас актуальны в культурном наследии Эйзенштейна следующие ключевые вопросы: каким образом автор использует такое «чувствование» в своем творчестве? Как понимание динамики системы«мозг-тело человека» можно интегрировать в практику кино?
Чтобы вникнуть в эти вопросы, которые касаются в основном динамики человеческого разума, я вернусь к теоретическим разработкам энактивных концепций познания551. Опираясь на современную нейронауку, надо описать взаимодействие всецелой поглощенности с фильмическим окружением. Я остановлюсь тут на двух взаимодополнительных подходах к человеческому разуму. Это, во-первых, теория телесно воплощенного моделирования, предполагающего бессознательное отражение поведения или экспрессии других людей552, и, во-вторых, теория сознания553, которая относится к тому, какой вывод делает каждый о причинах событий, интерпретирует поведение других и предвидит их намерения и будущие действия.
Вышеупомянутые теории обеспечивают базу для обсуждения творческих процессов в кино с точки зрения бессознательного воплощения, тем самым расширяя эти процессы за пределы осознанных решений автора.
Кроме того, они позволяют описать третий уровень, а именно кино как интерсубъектное переживание, которое возникает благодаря воплощенному пониманию инакости – изнутри определенной поглощенности или в ее контексте. Действительно, в то время как люди стремятся подчеркивать индивидуальность как характер «сознательного личностного уровня», на биофизиологическом уровне поведение людей очень похоже. Дело не только в том, что человеческие существа очень похожи друг на друга физиологически, но и в том, что они находятся в схожих ситуациях окружающей среды и культуры. Достаточно, например, сравнить опыт разных людей, складывающийся в одинаковых образовательных, религиозных, гендерных или исторических условиях.
Анализируя эту трехчастную структуру, я начну с обсуждения
(1) суб-субъективной динамики процесса авторской разработки, после чего обращусь к более практическим темам, а именно:
(2) к субъективному «чувствованию» ментальной образности, и далее
(3) к кино как межсубъектному переживанию.
Понятие суб-субъективного подчеркивает доминирующую роль воплощенной динамики в повседневном бытии в мире. Все врожденные виды динамики напрямую связаны с субъективностью и, что в данном случае особенно актуально, с межсубъектными процессами познания и взаимодействия.
Суб-субъективный уровень: обоснование эйзенштейновской «эмоциональной темы»
В «Обители тьмы» обоснования эйзенштейновской «эмоциональной темы» в переживании зрителя выявляются посредством физиометрических данных – сердечного ритма и электропроводности кожного покрова. Эти показатели хорошо изучены в науке и широко используются в художественных инсталляциях, когда речь идет о расширении границ переживания участника. В случае «Обители тьмы» данные, собранные в режиме реального времени с использованием физиологических датчиков, интерпретируются и направляются обратной связью в энактивную нарративную систему таким образом, чтобы воздействовать на выражение лица виртуального экранного персонажа и на отдельные элементы фильмического пространства554.
Суб-субъективная (бессознательная) динамика, измеряемая биосенсорами, соотносится с идеей Эйзенштейна о «чувствовании» эмоциональной темы. Собранные приборами данные можно рассматривать как отражение активности базовой самости. Это понятие, введенное в научный oбиход Антонио Дамасио, относится к лежащей ниже порога восприятия сущности постоянно меняющегося потока, взаимодействующего со средой и идентифицируемого в ощущении телесных изменений555. Опираясь на идеи Уильяма Джеймса, чьи теоретические взгляды были известны также и Эйзенштейну, Дамасио пишет, что «чувство» возникает из бессознательной эмоциональной ориентации на выживание после физиологических реакций, которые ему предшествуют в теле. Телесные проявления, отражающие физиологические состояния, можно, к примеру, отследить по изменению сердечного ритма или дыхания, а также по характеру непроизвольных движений. Интерпретирование этих физиологических данных в режиме реального времени позволяет, хотя и в очень ограниченных пределах, получить доступ к личному опыту зрителя.
Эйзенштейн утверждал, что в поведении зрителя и в когнитивном поведении самого автора доминируют похожие бессознательные механизмы. Эта идея согласуется с открытием зеркальных нейронов Дэвидом Фридбергом и Витторио Галлезе. Зеркальные нейроны активизируются, когда кто-то подражает чужим действиям, либо когда человек, наблюдая за работой художника, пишущего картину, «чувствует» движение его руки556. Я со своей стороны, в русле идей Эйзенштейна, полагаю, что автор способен моделировать «чувства» зрителя, порожденные кинематографической образностью, уже в воображаемых процессах ее создания.
Эйзенштейн пытался выявить инструменты обнаружения этих процессов в современной ему психофизиологии, рефлексологии, синэстезии и психоанализе. Сегодняшний научный инструментарий предоставляет гораздо более детальный доступ к внутренней нейронной активности. Однако последствия действий бессознательной суб-субъективной динамики творческого процесса продолжают оставаться недостижимыми для прямого авторского контроля. На самом деле самоанализ собственных эмоциональных переживаний и отношений к разным темам остается столь же туманным, как и во времена Эйзенштейна.
Субъективный уровень: эйзенштейновское «чувство» в творческом смыслопорождении
В «Обители тьмы» зрительница надевает VR-шлем. Это означает, что она связана с окружающей средой и погружена в авторский киномир. Фрейминг субъективного переживания возникает в сознательном принятии «ощущения» момента. Зрительница понимает, что находится в мрачном застенке. Слышимые звуки свидетельствуют, что это не очень приятное место. Эхо от каменных стен разносит чей-то болезненный крик. В сознании зрительницы активные познавательные процессы воображения, смыслопорождения, ментального конструирования берут на себя функцию проводников в исследовании тюремного пространства. Следуя за мыслью Эйзенштейна, можно сказать, что очень похожие операции были характерны для когнитивных процессов, происходивших в сознании автора, в его воображении, обдумывании и реализации чаемого переживания. И это не случайно, потому что образы базируются на общем знании о внешнем мире, медиа и кино, а также на нажитом личном опыте [автора и зрителя]. Однако, возникая из суб-субъективных причин, которые мы обсуждали ранее, они имеют совершенно разную природу. Вот почему автор изначально не может их идентифицировать без того, чтобы не исследовать собственные воплощенные основы данной эмоциональной темы. В предисловии к своим мемуарам Эйзенштейн вспоминает, что при их описании в личном опыте обнаруживается «целая область вовсе не предусмотренного и не предвиденного, много совершенно нового»557, о существовании которого он никогда не подозревал.

Неизвестный. Персонаж VR-инсталляции «Обитель тьмы»
Увы, в мрачной тюрьме зрительница «Обители тьмы» оказывается сидящей за столом напротив незнакомого человека. Оба обвиняются в совершении некоего неизвестного преступления.
Громкоговоритель транслирует голос невидимого анонимного обвинителя. Незнакомец, глядя прямо в лицо зрительнице, никак не обнаруживает своего статуса – друг он, коллега или враг. Зрительница не знает, что выражения лица незнакомца алгоритмически адаптируются к ее собственным физиологическим сигналам. На этом субъективном уровне самые активные когнитивные процессы в зрительском сознании – попытки понять смысл происходящего.
Размышляя о том, что связывает ее с заключенным, она может чувствовать себя чрезвычайно дискомфортно, ее ладони потеют, сердце бьется чаще, сигнализируя о том, что автоматически заработала суб-субъективная динамика, пытаясь выяснить ситуативность зрительницы. Действительно, такие суб-субъективные аспекты переживания, согласно Эйзенштейну, могут быть постигнуты не иначе, как через динамику гештальт-поведения и на субъективном уровне выразительности зрителя. Как может автор вообразить и смоделировать подобное переживание зрительницы в «Обители тьмы» уже во время создания своего произведения? Эйзенштейн ответил бы: через исследование собственного воплощения развития эмоциональной темы. Выготский утверждал, что психологический процесс художественного творчества систематизирует совсем особенную сферу психики общественного человека – именно сферу его чувства558.
В продолжение линии Выготского можно сказать, что индивидуальные отличия, как правило, акцентируются на субъективном уровне, а на межсубъектных уровнях более важную роль, нежели различия, начинают играть сходства, поскольку индивиды обусловлены социально.
Увы, суммируя обсуждавшееся ранее, я испытываю соблазн предположить, что субъективность следует рассматривать как своего рода концептуальную поверхность или интерфейс между очень интимной суб-субъективно воплощенной системой моделирования и интерсубъективно разделяемой социо-эмоциональной системой.
Таким образом, – вопреки общепринятому пониманию индивидуальности и личностных переживаний индивида – субъективное растворяется во взаимодействии телесной основы «ощущений» состояния вещей и соответствующих социально обусловленных форм их выразительности. Перенося это наблюдение на креативный, по Эйзенштейну, процесс восприятия, можно сказать, что субъективный интерфейс автора воспринимается зрительницей как ее собственное «чувствование» по отношению к явлению, которые она желает изобразить, как в приведенном примере с «Обителью тьмы».
Межсубъектный уровень: эйзенштейновское «отношение» к возникающей теме
Продолжая в том же русле рассуждений, я готова утверждать, что основание интерсубъектности базируется на воплощенном нейронном моделировании, точнее, на системе зеркальных нейронов, позволяющей индивиду прочувствовать эмоции другого, которые тот испытывает в определенной ситуации. Способность имитировать другого на нейронном уровне конвергируется двусторонне направленным образом с познавательными умозаключениями, основанными на культурно освоенных способах решения определенных ситуаций. Даже не имея личного опыта допроса в темнице в неизвестной стране, зрительница обладает в памяти культурно опосредованным набором таких ситуаций благодаря кинофильмам, новостным программам и книгам. Большинство хранящихся в личной памяти образов, которые мы считаем своими, на самом деле разделяются на межличностном уровне с опытом других людей. Как указывает нейронаука, активация коры головного мозга происходит одинаковым образом у разных людей, даже когда тот или иной фильм просматривается в одиночестве, и чем более логично и последовательно выстроен сюжет, тем более отчетливо обнаруживается межличностная корреляция между разными людьми559. Стало быть, создание когнитивной согласованности при восприятии одних и тех же аспектов действительности поддерживает также межличностно разделяемые мозговые паттерны. Что касается «Обители тьмы», то исследование опыта приводит к выводу о возникновении межличностной корреляции, относящейся к определенным аудио-визуальным элементам, которые автор создал в VR-опыте. В этом смысле «Обитель тьмы» опирается на порожденную автором композицию эмоциональной темы – вполне в духе Эйзенштейна.
В основе эйзенштейновского моделирования – в монтаже – лежит то, что автор предоставляет зрителю межличностную раму (интерсубъектный фрейм) смыслопорождения. Этот вопрос я рассматривала в связи с VR-инсталляцией «Обитель тьмы» как примера энактивной динамики взаимодействия зрителя и фильмической системы. В процессе просмотра «Обители тьмы» в качестве эйзенштейновской системной модели зрительского участия мониторится бессознательный зрительский эмоциональный опыт. Данные, регистрируемые психофизиологическим инструментарием во время взаимодействия с киноповествованием, можно рассматривать как отражение воплощенной динамики моделирования зрителя, или, в терминах Эйзенштейна, воплощенной эмоциональной темы. Будучи автором, я не смогу воспроизвести субъективную вовлеченность зрительницы при восприятии моей инсталляции. Вместо этого, следуя сути эйзенштейновской идеи, я могу «ощутить» вовлеченность другой личности посредством моделируемого исполнения, которое я осуществляю через собственное воплощение. Следовательно, с точки зрения автора, мое погружение в собственные реакции отражает мое всматривание вовне, в межличностное пространство.
Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что размышления Эйзенштейна продолжают служить вдохновляющим навигатором в исследовании того, как воплощенные допонятийные схемы восприятия повседневности стимулируют креативное мышление и воображение в освоении новых территорий иммерсивной виртуальной среды560.
Перевод Нины Цыркун
/ Ханна Франк /

Ханна Франк (Hannah Frank, 1984–2017) – была одной из самых больших надежд нового американского киноведения, когда быстротечный менингит внезапно прервал ее жизнь. Ее вышедшая в 2019 году книга «Кадр за кадром. Материалистическая эстетика анимации» («Frame by Frame: A Materialist Aesthetics of Animated Cartoons»), посвященная «золотому веку» мультипликации США, получила самые высокие оценки в прессе. Ханна училась у Юрия Цивьяна и Тома Ганнинга в Чикагском университете, затем преподавала киноведение в Университете штата Северная Каролина в Уилмингтоне. Анимация была основным, но не единственным предметом ее увлечений и исследований. Она посвятила много исследовательского внимания наследию Эйзенштейна. Ее перу принадлежит глава в сборнике «A World Redrawn: Eisenstein and Brecht in Hollywood» («Перерисовка мира. Эйзенштейн и Брехт в Голливуде»). Графике режиссера посвящена публикуемая нами статья, впервые напечатанная в журнале «Critical Quarterly» (Vol. 59, № 1б, р. 70–84). Некоторые ее работы об Эйзенштейне еще ждут публикации.
«Создание горячечного мозга»: размышление над рисунками Сергея Эйзенштейна к «Макбету»
Иль ты неосязаем, грозный призрак,
Хотя и видим? Или ты всего лишь
Кинжал воображенья, лживый облик,
Создание горячечного мозга?
Тебя я вижу столь же ощутимым,
Как этот мой клинок.
Уильям Шекспир
Макбет. Акт II, сцена 1
Перевод М. Лозинского
Неделя дождей в конце весны 1931 года не давала Эйзенштейну продолжать съемки фильма «Да здравствует Мексика!». Оказавшись «взаперти», он вынужден был искать другие способы развлечь себя и потому обратился к рисованию – к этому хобби своего детства он вернулся во время пребывания в Мексике.
Графический стиль, который предпочитал Эйзенштейн, был обманчиво прост: резкие линии, прочерченные ручкой или карандашом на любой бумаге, очутившейся под рукой, – но то, что из этого вышло в этот раз, оказалось далеко не праздным бумагомаранием. Акт рисования практически в состоянии одержимости, особенно в такой сжатый период времени, стал для Эйзенштейна поводом исследовать творческий процесс как таковой и проследить его ход на основе серии рисунков. Плодами этого эксперимента стали более ста вариаций на тему одной-единственной сцены из шекспировского «Макбета»: убийство Макбетом и его женой короля Дункана.
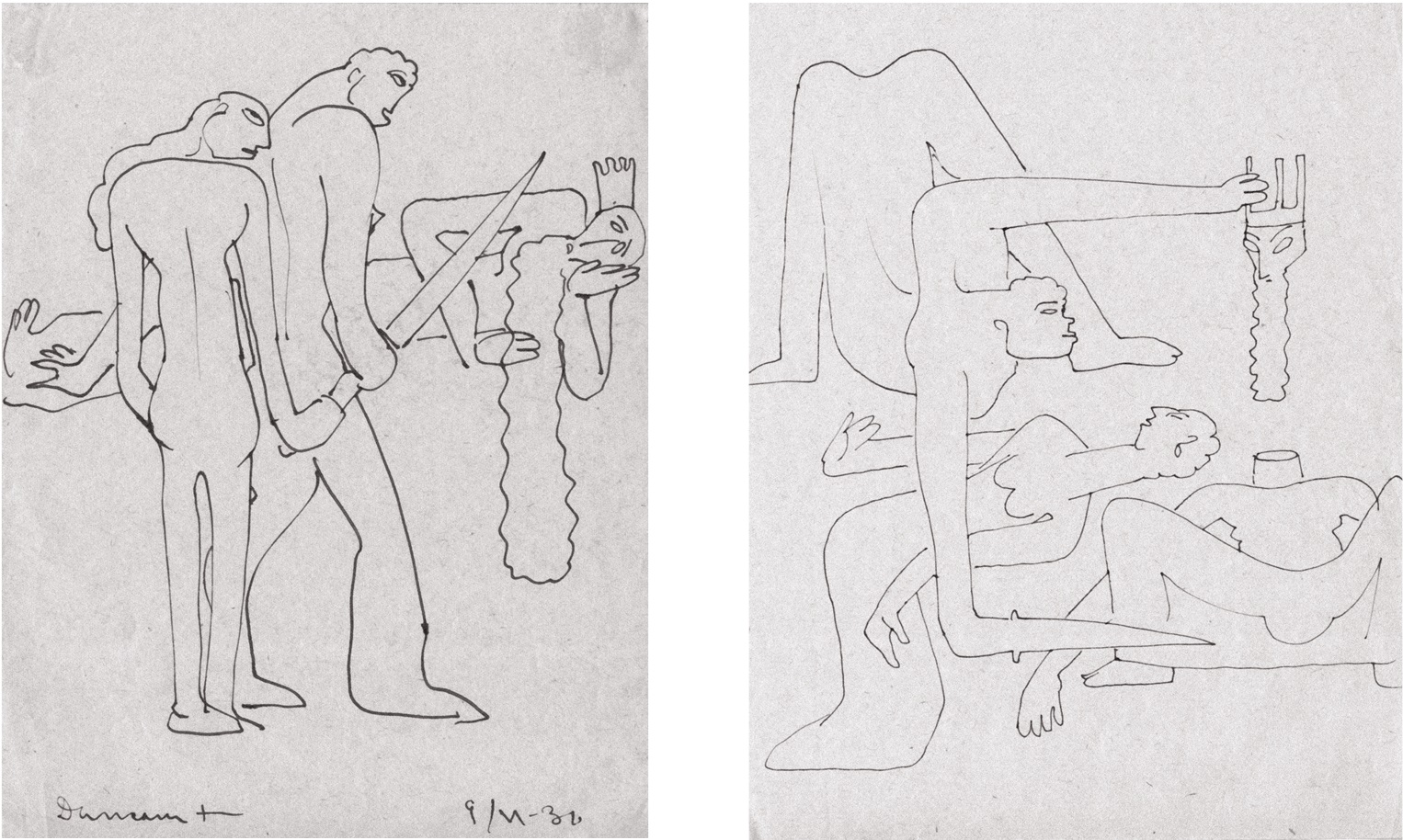
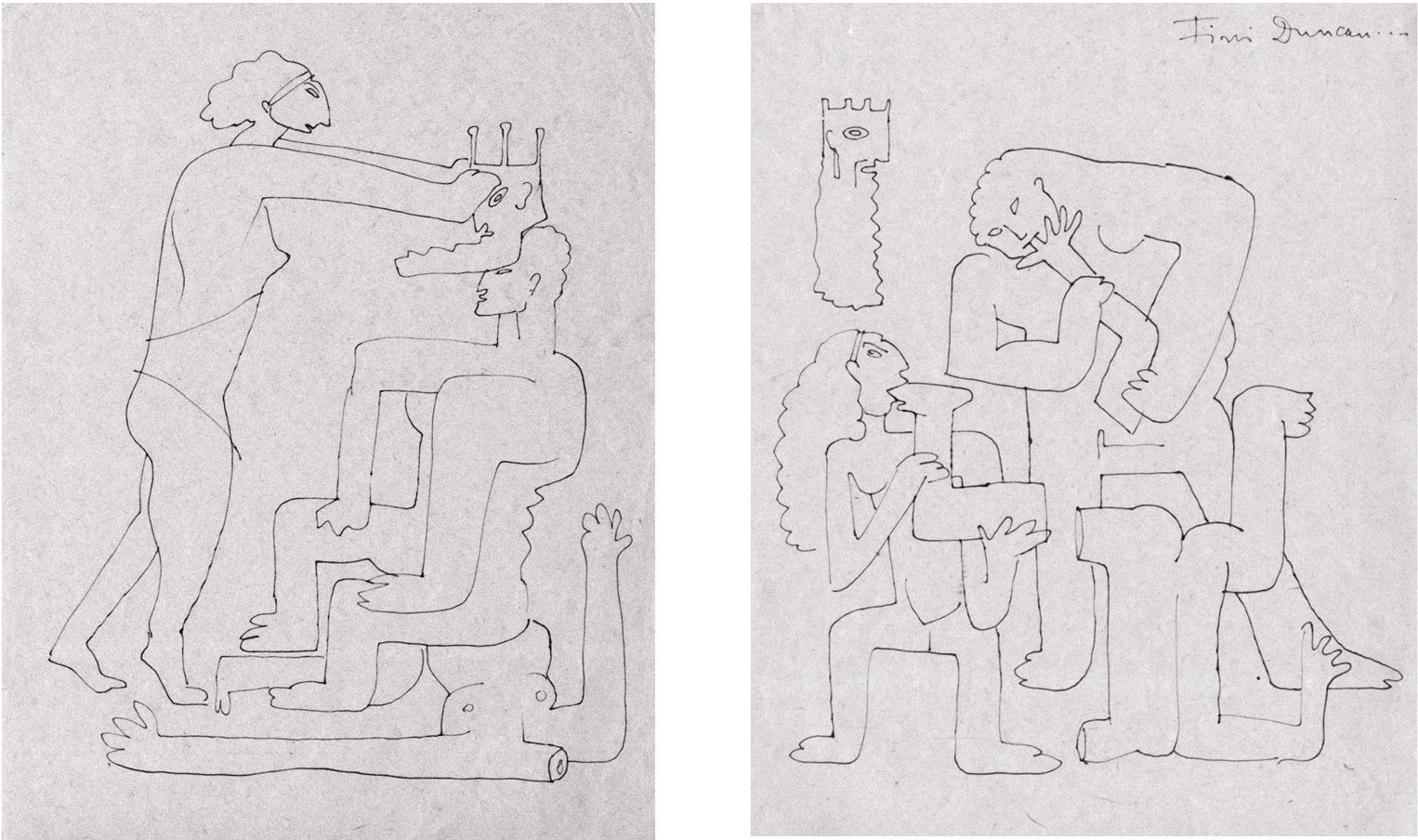
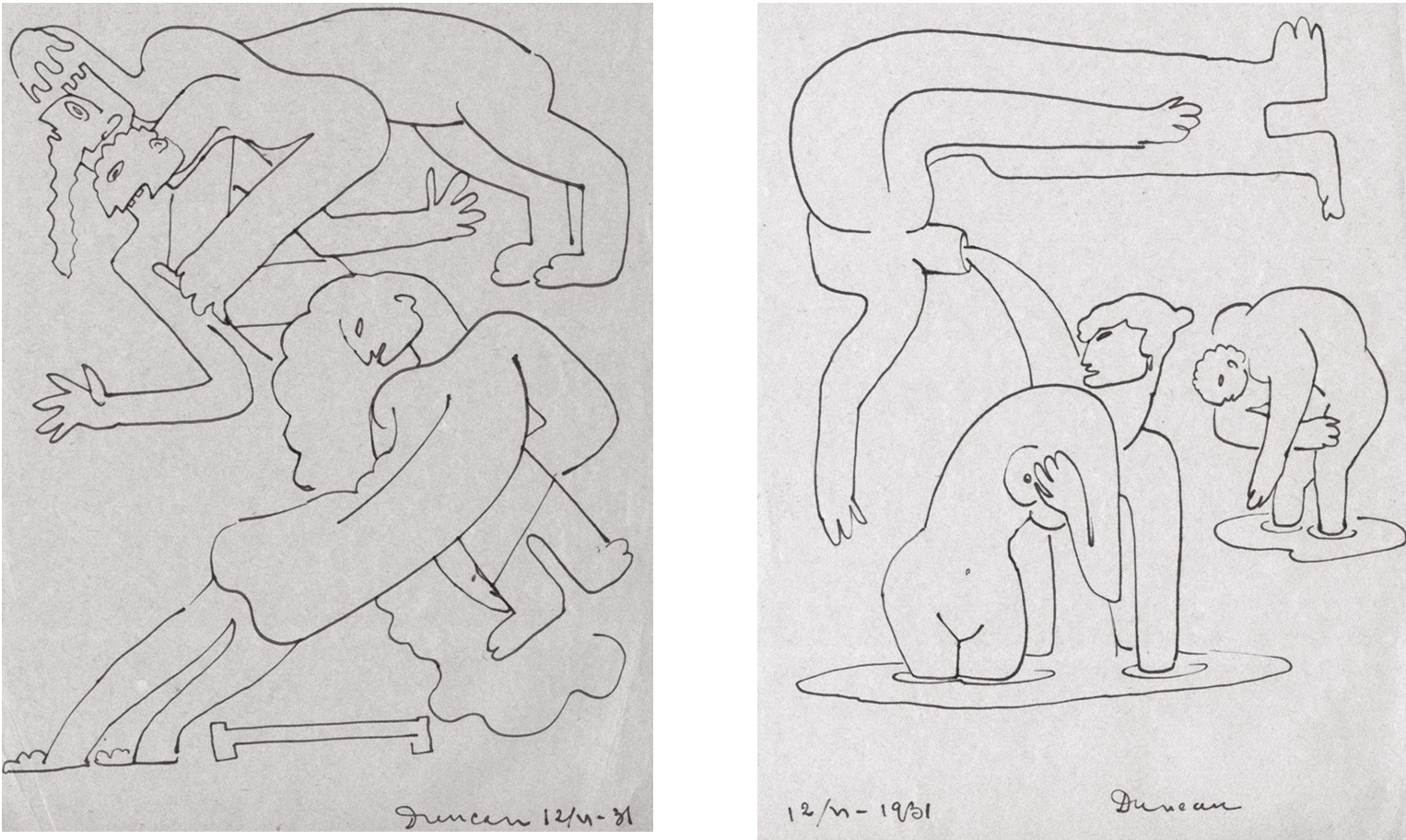
Сергей Эйзенштейн. Графический цикл «Убийство короля Дункана». Из серии 09.VI.1931. Мексика
Важно отметить, что в трагедии это событие происходит за сценой. Шекспир сообщает нам только, что убийство совершилось в то время, как «сыч прокричал, и стрекотал сверчок»561. Таким образом, мы сами должны себе представить, как именно погибает Дункан. Рисунки Эйзенштейна – это плодотворнейшее результат работы воображения, это его ответ на фразу, которой леди Макбет подстрекает мужа:
«– Чего не сможем сделать ты и я / С беспомощным Дунканом... [?]»562.
– Ничего, – отвечает на это Эйзенштейн; каждый рисунок серии показывает, как Макбет и леди Макбет обращаются с телом Дункана еще и еще одним новым (и необычным) образом. Дункан погибает путем обезглавливания, удушения и сажания на кол; его внутренности выпускаются наружу; его плоть становится пиршественным столом, а в его крови купаются; чета Макбетов вступает в сексуальные отношения на его трупе – и с ним.
Как потом вспоминал Эйзенштейн, он рисовал эти сцены как бы «в трансе»563, «слепо и автоматически»564. За исключением все время сохранявшейся основной темы – убийство короля Дункана, он подходил к каждому чистому листу бумаги без какого бы то ни было представления о том, что собирается рисовать. Он предоставлял руке действовать самостоятельно и часто не давал ручке отрываться от бумаги, пока идея не исчерпывала себя. В этих рисунках локти сгибаются в руки, которые сворачивают в плечи, из которых выпрыгивают головы – все нарисованные одной непрерывной линией. При этом линии горизонта, которая бы привязывала эти тела к земле, не существует. Получившиеся изображения кажутся спонтанными, даже когда в них повторяются отдельные стилистические виньетки – как, например, волнистая линия, обозначающая вьющиеся по воздуху волосы Дункана, или отдельные композиционные приемы, такие как кадрирование Леди Макбет крупным планом, а также определенные визуальные гэги, такие как Макбет или леди Макбет, надевающие на себя голову мертвого Дункана вместо короны.

Сергей Эйзенштейн. Новая Леди Макбет. Петроград, 1916

Сергей Эйзенштейн. Леди Макбет. Эскиз костюма к постановке трагедии Шекспира в Центральном просветительском театре. Москва, 20.XI.1921
Иногда рука Эйзенштейна запинается, его штрих колеблется. Когда бумага слишком мягкая, а чернила слишком густые, линия может варьироваться по толщине, уплотняясь на пути вверх и истончаясь, когда ее тянет вниз; когда кривая ноги или плеча балансирует слишком близко к краю бумаги, линия поворачивает назад как раз в нужный момент, но успевает чуть потерять былую уверенность.
Любопытным образом (и это не бесполезная информация), почерк Эйзенштейна имеет схожие взаимоотношения с листом бумаги. Во многих своих письмах он заполняет всю страницу целиком, пишет без полей (как скупой, говорит он в одном из своих эссе) и с обеих сторон листа. В его линии, будь она написанной или нарисованной, есть некая вольность, соответствующая головокружительности его образов и его воображения. Она раскована и ничем не сдержана.
Те дни в Мексике не были первым случаем, когда Эйзенштейн изображал персонажей и сцены из «Макбета». В годы Первой мировой войны, еще подростком, он рисовал многочисленные политические карикатуры на кайзера Вильгельма II. Среди них есть небольшой черно-белый набросок 1916 года с надписью на английском: «Новая леди Макбет» – женственный Кайзер (с тевтонскими усами и подвеской – Железным крестом, свисающим над пышной грудью) отчаянно моет руки в тазу с надписью «германская пресса». Линии эйзенштейновского рисунка здесь колеблющиеся и избыточные, а получившаяся карикатура гораздо более детальна, чем любой из рисунков мексиканской серии. Мы видим оборки на платье леди Кайзер и драгоценности в ее короне. Более того, штриховка придает объемность ее голове и телу, а лишь слегка обозначенный фон создает в композиции ощущение глубины, которого совершенно лишена серия 1931 года.
Через пять лет после этой карикатуры Эйзенштейн разработал дизайн костюмов для театральной постановки шекспировской пьесы. В этой версии леди Макбет обретает почти архитектурный облик – тут словно предугаданы яркие геометрические формы и цветовая палитра стиля ар-деко. Ее платье представляет собой равнобедренный треугольник, разделенный на неравные секции черного, синего, серого и золотого цвета. Один рукав – это жесткая серебряная перегородка, выступающая из плеча под каким-то невероятным углом, а другой рукав заслонен большим полуовалом – может быть, вздымающейся накидкой. Ее головной убор между тем решительно кубистический. Каждая часть костюма окрашена и затенена, но, тем не менее, композиция откровенно плоскостна, как если бы леди Макбет была собрана из клиньев и яйцевидных фигур одного из плакатов Эль Лисицкого. Хотя с точки зрения формы оба эти рисунка интересны сам по себе, ничто ни в политической карикатуре 1916 года, ни в эскизе костюма 1921-го не предвещает стиль рисунков 1931 года.
За те месяцы и годы, что последовали за пребыванием в Мексике, Эйзенштейн периодически анализировал то, чего ему удалось достичь в ту судьбоносную неделю. Например, в дневниковой записи конца 1931 года он рассказывает, как использовал процесс рисования, чтобы проверить свои теории, изучить в миниатюре то, что было бы слишком громоздким для запечатления на пленку, воспроизвести идеи, которые сопротивляются словесному выражению565. Как часто бывает в его заметках, эта дневниковая запись быстро переключается с одного языка на другой – с французского на русский, с русского на английский – и от первого лица ко второму и третьему. Мысли проходят через него так быстро, что слова за ними не поспевают. Одним языком или одной точкой зрения обойтись оказывается невозможно.
Рисунки, которые он пытается описать, наполнены той же маниакальной энергией. Отчасти это объясняется самим количеством рисунков и отчасти головокружительной скоростью, с какой Эйзенштейн работал. Ему удавалось делать до пятидесяти двух рисунков за день; если бы он работал с такой же скоростью в течение одного года, кадриков хватило бы на получастёвый мультфильм.
Если добавить к серии по Макбету все остальные рисунки Эйзенштейна, сделанные за время пребывания в Мексике, – изображения Саломеи, пьющей кровь из головы Иоанна Крестителя через соломинку; Иисуса, раздающего автографы по дороге на Голгофу; распятого Иисуса в качестве сосуда для вина; матадоров, совокупляющихся с быками, которые совокупляются с матадорами, совокупляющимися с быками; Далилы, подрезающей лобковые волосы Самсона, – очень скоро само их количество начинает подавлять, не говоря уже об их непристойной, богохульной и часто невероятно смешной тематике. Производительность Эйзенштейна одним лишь своим количеством может сравниться со скоростью Виктора Гюго, который написал (как Эйзенштейн с восхищением передает) «“Марион де Лорм” – в двадцать три дня, “Король веселится” – в двадцать дней, “Лукрецию Борджиа” – в одиннадцать дней, “Анджело” – в девятнадцать дней, “Марию Тюдор” – в девятнадцать дней, “Рюи Блаза” – в тридцать четыре дня»566. Эйзенштейн работал со схожим остервенением, направляя свой «бурный поток творческой потенции»567 на решение одной задачи. Его искомой целью, даже если он не знал точно, как ее достичь, являлась имитация процесса мышления568.
Таким образом, не случайно, что серия по Макбету берет в качестве темы сцену, которую Шекспир оставляет за пределами своего рассказа. Макбет убивает Дункана между первой и второй сценами второго акта пьесы. Ночь погрузила все во тьму. Остался лишь шум, обычный шум сычей и сверчков. Поэтому здесь появляется лакуна, в рамках которой может произойти что угодно. Эйзенштейн воспринимает этот пробел в сюжете «Макбета» как нечто бездонное; он снова и снова заполняет его, но ни один рисунок не может утолить его ненасытное воображение.
Между прочим, это был не первый случай, когда Эйзенштейн занялся визуализацией пространств, лежащих в промежутках между строками вербального текста. До приезда в Мексику он попытался экранизировать для студии «Парамаунт» «Американскую трагедию» Теодора Драйзера (1925). Примечания на полях, сделанные Эйзенштейном в своем экземпляре книги, обнаруживают его интерес не только к сюжету, который излагает Драйзер, но и к тому, как он его излагает. Роман привлек Эйзенштейна в значительной степени потому, что он продемонстрировал прием внутреннего монолога: экспансивная пунктуация и фрагментарный синтаксис Драйзера озвучивают мысли его центрального персонажа, Клайда Гриффитса. Одна из заметок Эйзенштейна, карандашный набросок на странице 76, особенно показательна. Режиссер нарисовал здесь длинный узкий прямоугольник, состоящий из пяти квадратов, поставленных один на другой. Он заштриховал верхний, средний и нижний квадраты; в каждом из двух оставшихся нарисовал круг – первый пустой, за исключением точки в центре, а второй закрашенный. Рисунок этот маленький, поспешный, условный; линии его несовершенны. Справа от него повис вопросительный знак. На этой странице 76 мы видим Клайда размышляющим о том, когда и как он должен убить свою беременную любовницу Роберту, которую он повез кататься на лодке. «Странный, зловещий крик неведомой птицы» вдруг лишает его мужества: «Кыт-кыт-кыт... кра-а-а-а! Кыт-кыт-кыт... кра-а-а-а! Кыт-кыт-кыт... кра-а-а-а!» Он подводит лодку к берегу, а потом отплывает обратно. Он прокручивает туда-сюда в голове возможные варианты. Он настраивает себя. А потом начинает нервничать. Лодка накреняется, фотоаппарат Клайда, висящий на ремешке, раскачивается и бьет Роберту по лицу, она падает и тонет569. Термин «кинокулак», придуманный Эйзенштейном как ответ на «киноглаз» Дзиги Вертова, здесь буквализуется.
«Одолжайтесь!», статья 1932 года, где режиссер рассказывает, как именно он надеялся экранизировать «Американскую трагедию», дает важную подсказку о том, что означали его наброски на страницах книги Драйзера. В этой сцене Эйзенштейн увидел возможность применять кинематографические приемы для устранения различия между субъектом и объектом, для того чтобы зритель почувствовал себя именно так, как чувствует себя персонаж. Что сделало экранизацию «Американской трагедии» таким непростым делом, это то чувство неопределенности, какое испытывает персонаж романа, – он полон противоречивыми мыслями и эмоциями. В «Одолжайтесь!» Эйзенштейн объясняет, как он намеревался использовать набор различных кинематографических приемов, включая быстрый монтаж, абстрактную анимацию, контрапунктный звук и бестелесный закадровый голос для того, чтобы очертить разбегающиеся мысли Клайда. Он разрабатывал эти идеи в предварительных эскизах, которые принимали целый ряд форм: «Как мысль, они то шли зрительными образами, со звуком, синхронным или асинхронным,
то как звучания, бесформенные или звукообразные: предметно-изобразительными звуками...
то вдруг чеканкой интеллектуально формулируемых слов – “интеллектуально” и бесстрастно так и произносимых, с черной пленкой, бегущей безобразной зрительности...
то страстной бессвязной речью, одними существительными или одними глаголами; то междометиями, с зигзагами беспредметных фигур, синхронно мчащихся с ними...
то бежали зрительные образы при полной тишине...»570
Это головокружительное, какофоническое наслоение звуков и изображений и есть то, на что намекала эйзенштейновская диаграмма на полях страницы 76. Длинный узкий прямоугольник – это кинопленка. Две стрелочки, выходящие каждая из своего черного квадрата и указывающие на отступ абзаца в тексте, – означает, что черные квадраты будут представлять моменты «безóбразной зрительности», – это черные кадрики, которые стробоскопически будут перемежать изображение. При этом круги намекают на эти «мчащиеся» и «бегущие» крещендо «беспредметных фигур». Эйзенштейн нашел способ преобразовать текст Драйзера – его восклицательные знаки, его усеченные предложения и, что важно, его разделения текста на абзацы – в движущиеся изображения и звуковые всплески, для того чтобы дезориентировать и ошеломить аудиторию. Его зрители не увидят и не услышат то, как Клайд пытается разобраться в собственных мыслях, – они увидят, надеялся Эйзенштейн, так, как видит Клайд, услышат, как слышит Клайд, и будут думать так, как думает Клайд.
У рисунков Эйзенштейна к «Макбету» практически идентичная функция. Как и в проекте экранизации «Американской трагедии», Эйзенштейн стремится нарисовать то, что не написано. Но тут есть принципиальное различие. В случае с макбетовской серией Эйзенштейн сам становится Клайдом. Он рисовал, когда слишком уставал выражать свои мысли словами. Он рисовал в экстатическом состоянии, низшем состоянии человеческой сущности, в состоянии пьяниц, зародышей и пещерных людей, состоянии, в котором мысли и действия едины: он «думал штрихом»571. Таким образом, его линии, понятые как следы его движения (кстати, именно этот оборот Эйзенштейн в своей теории кино и педагогике использовал для определения мизансцены), разыгрывают его мысль. Рисование придало телесность эйзенштейновским идеям; оно уловило, запечатлело и структурировало то, что иначе было ускользающим.
В незаконченном эссе 1934 года о макбетовской серии Эйзенштейн настаивает на том, что любой зритель, который посмотрит на его рисунки в том порядке, в каком они были созданы, может наблюдать ту «динамику становления концепции», что ими руководит572. Другими словами, изучить их в хронологической последовательности, от шестнадцати рисунков, сделанных 8 июня, до последних двадцати, нарисованных 16 июня, означает увидеть сам процесс их воплощения в жизнь. Они несут на себе следы собственного производства, следы, которые можно прочитать двумя способами: как рисунок, понимаемый окончательным продуктом, и как рисование, то есть процесс. Более того, зритель, следя глазами за путем руки Эйзенштейна, возвращается не только к дождливой неделе 1931 года, но и к более раннему периоду в истории человечества; ко времени, когда наши чувственные и когнитивные способности еще не были закрепощены; ко времени, когда мысль и действие, субъект и объект были едины. Задача искусства, по Эйзенштейну, заключается в том, чтобы пробудить в зрителе это давно дремлющее единство. Он утверждал, что совершенное произведение искусства должно заставить зрителя «проделать тот же созидательный путь, которым прошел автор, создавая образ» и, следовательно, пережить «становление образа так, как переживал его автор»573. Его идеальный зритель видит так, как видели художники пещеры Ласко, так, как видят дети – и так, как видел Эйзенштейн, когда его мысли текли свободно, а его запястье не отрывалось от бумаги до тех пор, пока поток не утихал.
Одновременно зритель воспринимает уже завершенную картину: леди Макбет грызет шею Дункана, пока Макбет укачивает его голову; леди Макбет скармливает Макбету ногу Дункана; леди Макбет носит конечности Дункана в качестве украшений. Линии Эйзенштейна могут лететь вверх и вниз, делать крутые повороты или выворачиваться наизнанку, не рискуя стать абстракцией. Его рисунки могут играть с системами перспективы или представлять невозможные изгибы тела, но их формы всегда разборчивы. Результаты, какими бы извращенными они ни были, имеют смысл – независимо от того, кормит ли леди Макбет грудью отделенный от тела пенис («Я кормила грудью / И знаю, как сладка любовь к младенцу...»)574, делят ли Макбет и леди Макбет одно на двоих тело гермафродита, является ли утроба леди Макбет могилой Дункана. Они не становятся жертвой бессмысленности, в которой Эйзенштейн обвинял сюрреалистов. В то время как автоматические упражнения Андре Бретона и C° были нацелены на то, чтобы «единство и цельность растворить»575, практика Эйзенштейна создавала полноценные, целостные произведения искусства, по крайней мере, в том смысле, в каком он понимал этот термин.
В этом отношении серия рисунков к «Макбету» оказывается pars pro toto; она символизирует главный эйзенштейновский проект. Ведь основной принцип монтажа, термин, с которым наиболее тесно связывается имя Эйзенштейна, заключался в том, чтобы закоротить мысль, мобилизуя зрителя. «Нам же нужно не созерцать, а действовать», – провозгласил он в 1925 году в качестве противопоставления визуально насыщенным документальным фильмам Вертова. Это то, что заставило его заявить: «Не “Киноглаз” нам нужен, а “Кинокулак”»576. У Всеволода Мейерхольда Эйзенштейн научился биомеханике – методу актерской игры, в котором студенты выполняют стереотипные жесты, чтобы добраться до внутренней жизни своих персонажей, – они действуют для того, чтобы думать. Опираясь на фундамент, заложенный учебой у Мейерхольда, Эйзенштейн извлекал уроки из таких разнообразных источников, как мультфильмы Уолта Диснея, исследования Александра Лурии о развития зародышей и «Улисс» Джеймса Джойса. Куда бы он ни посмотрел, он видел одну и ту же идею: чтобы зритель был тронут, искусство само должно трогаться с места. Действие рождает мысль. Этот ответ присутствовал во всем – от китайской философии (Ван Би: «Что такое линия? Линия говорит о движении») до марксистской теории (Георгий Плеханов: «Всякое явление в конечном счете сводится к движению»)577, от телесных изгибов политических карикатур Оноре Домье до психологических течений, которые вскрывал Оноре де Бальзак.
Возможно, самая простая формулировка этой идеи появилась благодаря английскому художнику и критику XVIII века Уильяму Хогарту, определившему то, что лежит в основе прекрасного: так называемая «линия красоты», извивающаяся загогулина, более или менее похожая на букву «S». Эта «S» – застывшая, но не статичная. Она протягивается сразу в двух направлениях. Она движется. Она действует. Это сразу и текст, и образ, изображение и абстракция, и она содержит в себе потенциал для объяснения всех искусств: архитектуры (силуэт колонны), скульптуры (поза тела), живописи (траектория линии по холсту), музыки (движение мелодии), поэзии (извив рифм), танца (сплетение тел), сценического действа (взаимодействие между mise en scène и «mise en jeu») и, в конечном итоге, кино (в котором есть все вышесказанное и более того)578. И, разумеется, эта S-образная линия появляется по всей макбетовской серии, определяя положение фигур относительно друг друга, их расположение на листе бумаги, разброс их конечностей и скольжение штрихов пера Эйзенштейна. Более того, серия в целом, если понимать ее как след мышления, следует S-образной схеме. Эйзенштейн утверждал, что развитие недельной работы, тот путь, которым он шел, разрабатывая идею, воплощая свою мысль, – тоже поднимается и опускается как синусоида. Она пульсирует не механически, комично, словно разбитые часы, а ямбическими ударами сердца. Она движется от частного (единичная визуализация момента смерти Дункана) к общему (бесконечное пространство, открываемое Шекспиром) и обратно.
Но есть одна проблема. То, что я сейчас описала, – это серия в ее идеальном состоянии. Реальность, однако, заключается в том, что эйзенштейновский процесс рисования невозможно реконструировать, нельзя проследить взлеты и падения поступательного рождения серии. У нас просто нет доступа ко всем его рисункам, а те, что были опубликованы, не были напечатаны в хронологическом порядке. И даже самый старательный архивный исследователь был бы вынужден считаться с технической проблемой репродукции. Хотя Эйзенштейн стремился в своих рисунках достичь почти «математической, абстрагированной, чистой линии»579, что предполагает потенциальную возможность вообще отказаться от его руки, ввести формулу и вычертить его фигуры геометрически, его рисунки имеют своеобразную материальность. Он рисовал на салфетках, страницах календарей и концертных программках, а также на лицевой и оборотной сторонах листов бумаги. Некоторые репродукции рисунков, обрезанные и напечатанные с высокой контрастностью, практически стирают материальность поверхности бумаги, устраняя пятна и разрывы, а другие сохраняют ее разлиновку и текстуру. Конечно, неподражаемый стиль Эйзенштейна присутствует во всех этих репродукциях – он остается и когда они напечатаны крошечными, и когда почти в натуральную величину, он остается, когда его синий карандаш напечатан серым, он остается, когда коричневая бумага исчезает. Но что же при этом теряется? Если мы действительно хотим видеть так, как видел он, тогда, конечно, важно не только то, что он нарисовал, но и то, на чем и чем.

Сергей Эйзенштейн. Графический цикл «Убийство короля Дункана». Из серии 16.VI.1931. Мексика. Рисунок на бланке отеля «Империал»
Как можем мы игнорировать размеры бумаги, тиснение листов, призрак рисунка с оборотной стороны? Фирменный бланк отеля «Империал», где жил Эйзенштейн, служит случайным фоном для многих смертей Дункана, а также для многих посланий, которые Эйзенштейн отсылал из Мексики. В одном из таких писем, адресованном Эптону Синклеру и датированном 20 июня 1931 года – через несколько дней после кульминации макбетовской серии, – Эйзенштейн сообщает: «В дождливые часы я довольно много работаю над разработкой вопросов для своей книги о выразительности человека – и история словообразования является одной из очень важных частей в ней»580. Это вкуснейшая подробность. Мы знаем, что на десятках листов, подобных этому, Эйзенштейн действительно упорно трудился, чтобы разрешить эти вопросы, и прибегал к формам человеческого выражения, которые, по сути, предшествуют письменности. На следующей странице, также написанной на листе с фирменной эмблемой отеля, Эйзенштейн просит Синклера прислать ему книгу о китайской хиромантии, искусстве чтения линий руки. Чуть более месяца спустя, снова на бумаге отеля «Империал», Эйзенштейн написал письмо Масару Кобаяcи, автору исследования о гриме Кабуки, чтобы узнать о японской хиромантии, которую он называет «наукой о линиях на руке». Эта практика, объясняет он, кажется ему «иероглифами выразительных движений, сделанных рукой»581. Присутствие фирменного бланка отеля как в макбетовской серии рисунков, так и в посланиях Эйзенштейна служит напоминанием о близком родстве его графической и текстуальной практики, и эти два письма, в частности, приглашают относиться к этим рисункам как к выразительным следам руки Эйзенштейна.
Проблема также заключается в масштабе, то есть в обилии рисунков. Как книга может воздать им должное? Организованные страница за страницей, последовательно, они никак не смогут соответствовать динамической разнонаправленности хогартовской линии «S». Можно было бы представить себе книгу, в которой каждый рисунок в макбетовской серии воспроизводится в хронологическом порядке, но это затруднило бы идентификацию мотивов и аномалий в серии. В качестве альтернативы, они могли бы быть классифицированы по использованным материалам (чернила или карандаш, коричневая или белая бумага), по содержанию (фелляция или ласки, тела склоненные или в вертикальном положении) или по стилю (карикатурный, кубистический или «детский»), но тогда каждое новое ихрасположение будет существовать за счет исключения другого. Возможно, предпочтительнее будет коробка с карточками, каждая из которых содержит факсимиле одного из рисунков. Эти карты можно было бы тасовать, перебирать, сдавать по одной, вытаскивать наугад. Вальтер Беньямин, например, думал, что форма книги умирает; напротив, «с картотекой», пишет он в «Улице с односторонним движением» (1928), «происходит завоевание трехмерного письма»582. Эйзенштейн в дневниковой записи, сделанной через год после публикации «Улицы с односторонним движением», приходит к аналогичному выводу: «Очень трудно писать книгу. И потому, что всякая книга – двухмерная». Таким образом, книга должна быть трехмерной: «в форме... шара»583.
Есть и другие варианты. Самое очевидное решение, конечно, представляет собой цифровую базу данных, которая предлагает зрителю сканы рисунков в высоком разрешении – сродни коллекции материалов Эмили Дикинсон в Гарвардском университете: онлайн-архив, обеспечивающий невозможный прежде доступ к рукописям поэтессы, от стихов, набросанных на оборотах телеграфных конвертов и конфетных фантиков, до засушенных листков щавеля и увулярии, которые она сохраняла в своем гербарии. Или можно взять более старый, даже, может быть, устаревший подход: каждый рисунок может быть запечатлен в кинокадре. При проекции они пролетели бы всего за четыре-пять секунд, но то, что появилось бы на экране, стало бы метаморфическим, а не просто движущимся изображением, плазматической картиной, а не просто кинофильмом; Макбет превращался бы в леди Макбет, а леди Макбет в Дункана, и все это в мгновение ока. И всегда можно было бы изучать этот фильм кадр за кадром, в стиле заметок Ролана Барта о «третьем смысле», или сделанного Дэвидом Майером покадрового воспроизведения «Броненосца “Потёмкина”» (1925), или исследования Леи Джейкобс о ритме и темпе первой части «Ивана Грозного» (1944) – даже в стиле собственного анализа Эйзенштейном взаимосвязи между звуком и изображением в «Александре Невском» (1937). Кинопленка может быть линейной последовательностью (один кадрик за другим, и еще одним, и еще одним), но эйзенштейновская теория кино активно противостоит этой линейности: «кинокулак» врезается в аудиторию; появление синхронизированной звуковой дорожки приносит с собой возможность звукозрительного контрапункта; широкоугольный объектив оператора Эдуарда Тиссэ заставляет двигаться статичное изображение с помощью неистовых контрастов в масштабе; «динамический квадрат», экран, способный изменять форму, предлагает рамки кадра, превосходящие размеры, доступные обычной пленке. И сам монтаж, конечно, воспринимается различно: как многократное экспонирование, в котором одно изображение накладывается поверх другого, или как сопоставление, в котором две идеи не просто соседствуют, но и сталкиваются друг с другом в конфликте. Это и есть имитация процесса мышления: многомерного, противоречивого, одновременного, контрапунктического и стереоскопического.
Но даже фотографии в самом высоком разрешении по определению не хватает материальности оригинала – не только ауры, но и статуса вещи, которую можно держать в руках, нюхать, ощущать. Еще одно, последнее экспозиционное решение, таким образом, приходит в виде другого проекта Эйзенштейна: «Стеклянный дом». Впервые описанный в его заметках в 1927 году, «стеклянный дом» должен был стать декорацией для одноименного фильма. Эта структура овеществляет мечту о трехмерном монтаже. Если мы понимаем каждый из его этажей как соответствующий кадрику, то здание, по сути, представляет собой последовательно идущую кинопленку, которая была сложена в многоярусную коробку, рождая сопоставления, невозможные иным способом. Так как составляющие стеклянный дом этажи (или кадрики) прозрачны, можно посмотреть сквозь них и таким образом увидеть кадры одновременно, как в многократной экспозиции. Стеклянный дом, как и широкоугольный объектив Тиссэ, уничтожает системы перспективы. А затем, представьте себе, что вы выключаете обтюратор кинопроектора и беспрепятственно тянете киноленту через рамку: эта процедура создает головокружительно смазанное изображение, которое каждую долю секунды перемежается горизонтальной полосой, летящей вверх. Это ощущение напоминает то, что видит пассажир через окна быстро спускающегося стеклянного лифта.
Что, если бы многочисленные убийства короля Дункана были организованы в «Бумажный дом»? «Уничтожение светом стекла как материала, – писал Эйзенштейн в своих заметках к “Стеклянному дому”, – и сохранение одних непрозрачных предметов»584. Прозрачные полы и потолки этого здания делают их обитателей как бы плавающими. Это тоже влияние графических композиций Эйзенштейна, свободных от линий горизонта, на его персонажей: Макбет и леди Макбет словно «“парят” в пространстве»585. При достаточном освещении рисунки с обеих сторон листа бумаги будут видны одновременно. Разные версии одной и той же драмы будут происходить на разных этажах. В одной комнате Макбет вытирал бы бедро леди Макбет бородой Дункана, в то время как прямо под ними леди Макбет испражнялась бы на отрубленную голову Дункана. Мы бы увидели S-образные кривые, очерчивающие ее ягодицы, застывшие спины, которые идут параллельно краю бумаги, колющие ножи и летящие линии; листы бумаги, имеющие собственную телесность как совершенно отдельно, так и из-за привязки к телам на их поверхности. Станут очевидны новые связи: подобия в композиции, фактуре, жесте, почерке. Дункан будет умирать много раз одновременно.
Возможно, однако, «Бумажный дом» кажется комичным и неуместным. Разве он не обрушится сам на себя? Действительно, если «Стеклянный дом» – это овеществленный трехмерный монтаж, то «Бумажный дом» – это само определение комического. По словам Эйзенштейна, комическое – это то, что кажется диалектическим по форме, но является не-диалектическим по сути. В своих трудах Эйзенштейн приводит бесчисленное множество примеров. Скажем, кто-то может исполнить красивый танец с раскинутыми ногами; в то время как ее движение через пространство соответствует «линии красоты», ее телесные жесты тому не соответствуют. Такое отклонение оказывается комичным. Или, если бы кинорежиссер взял траурную процессию из «Потёмкина» и перемонтировал бы ее под ритм сцены на Одесской лестнице – несочетаемость стала бы смешной. Эйзенштейн любит каламбуры еще и по этой причине: они диалектичны по форме, поскольку объединяют две разные идеи, но не по существу, почему и вызывают смех, а не служат действию. «Бумажный дом», по сути, – это визуальный каламбур, который опирается на сходства между листом бумаги, стеклянной стеной и кинокадром (например, все три являются плоскими, прямоугольными и прозрачными), но также намеренно игнорирует фундаментальные различия между этими материалами.
Это моя собственная шутка, моя собственная мечта. Я представляю себе то, чего нет и чего не может быть. Отчасти меня вдохновляет безумная игривость самих рисунков, отчасти – один из монологов Макбета, в котором «горячечный мозг» Макбета видит галлюцинацию парящего в пространстве перед ним кинжала. «Ты настоящий?» – спрашивает он. Нет, это всего лишь изображение, хотя он «столь же ощутим»586, как клинок на его поясе. Вот он – настоящий. Макбет его ощущает. Он может нарисовать его. Это мгновение перед тем, как Макбет отправляется на убийство короля Дункана, момент, предшествующий буквально каждому из множества рисунков Эйзенштейна. Рисунки из серии «Макбет» делают макбетовский – и эйзенштейновский – «грозный призрак» и осязаемым, и видимым. Как и Шекспир, Эйзенштейн воспринимает пространство воображения своих зрителей всерьез. Думать – значит действовать.
Перевод Натальи Рябчиковой
/ Арун Хопкар /

Арун Хопкар (Arun Khopkar) – режиссер, киновед и преподаватель теории и практики кино в различных киноинститутах Индии. Получив диплом режиссера в Институте кино и телевидения (Пуна), снял множество короткометражных фильмов о танце, музыке, поэзии, живописи и архитектуре, создавших ему славу одного из лидеров индийского документального кино (получил 15 национальных и международных премий). Его игровой фильм «A Tale of Two Ganpatraos» основан на «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя. Издал ряд трудов по истории и эстетике кино, его книга об индийском режиссере Гуру Датте получила Национальную премию как лучшая книга года о кино, а сборник эссе об искусстве и художниках был отмечен высшей литературной премией страны – Sahitya Akademy Award.
Дорога цветов и архимедовы точки опоры
Мои интенсивные штудии Эйзенштейна в Москве, длившиеся пять недель в течение 1985 года, проходили в основном в небольшой квартире Перы Аташевой на Смоленской587.
Каждый день мы с Наумом Клейманом (иногда присоединяется Леонид Козлов) начинаем обсуждение разных вопросов рано утром и работаем до 4 с небольшим перерывом на обед. У меня до сих пор хранятся пожелтевшие от времени страницы с записями наших бесконечных разговоров, и кажется, что это сотрудничество заняло не пять недель, а пять месяцев.
Перед моими глазами начинает вырисовываться Эйзенштейн. Будто смотришь росписи обширной пещеры Аджанты при мерцающем свете единственной свечи, изображения проступают и ускользают во тьму, вот возникает и исчезает образ сострадающего Будды...
Именно тогда я ощутил в сочинениях Эйзенштейна присутствие «архимедовой точки опоры», центра отсчета за пределами мира наблюдателя, который помог перевернуть устоявшиеся представления о нем. Смутное ощущение выросло теперь в убеждение: таких точек опоры здесь не одна, а множество.
Данное эссе – flânerie, прогулка по пути, прочерченному этими точками.
Первой архимедовой точкой опоры у Эйзенштейна был японский язык.
Он сам писал: «Язык необычайно труден. <...> Труднейшее – не запомнить слова, труднейшее – это постигнуть тот необычайный для нас ход мышления, которым выстраиваются восточные обороты речи, построения предложений, словосочетания, словоначертания и т. д. Как я был в дальнейшем благодарен судьбе, что она провела меня через искус и приобщила к этому необычайному ходу мышления древних восточных языков и словесной пиктографии! Именно этот “необычайный” ход мышления помог мне впоследствии разобраться в природе монтажа. А когда этот “ход” осознался позже как закономерность хода внутреннего чувственного мышления, отличного от нашего общепринятого “логического”, то именно он помог мне разобраться в наиболее сокровенных слоях метода искусства. <...> Так первое увлечение стало первой любовью...»588
Эйзенштейн погрузился в японскую культуру. Быстро, одна за другой, появляются его работы «Нежданный стык», «За кадром» и «Четвертое измерение в кино».
В этих исследованиях вырабатываются три фундаментальные концепции – монтажа, кадра как монтажной ячейки и монистического ансамбля. На их основе Эйзенштейн выстроил чувственно-концептуальный ханамити, или «дорогу цветов»589 между Японией и его собственным миром.
Подобные цветочные тропы достигли и берегов Индии590 – для нас Эйзенштейн стал наиболее почитаемым художником и мыслителем.
Из истории колониальной Индии известно, что наши самые изысканные произведения искусства были для европейцев не более чем «злобными монстрами»591. Эйзенштейн был готов к откровению из любой культуры. Хотя индийская культура не сыграла в его мировоззрении важной роли, любая его отсылка к ней является прорывным откровением. Он заставил нас по-новому взглянуть и на нашу культуру.
Он изучил многие неевропейские цивилизации и в каждой из них нашел свою архимедову точку опоры, чтобы перевернуть часть евроцентричного мира.
Сочинения Эйзенштейна о японской культуре были написаны до его долгой отлучки из СССР. С 1929 года он путешествовал по Европе, США и Мексике, вернулся домой только в 1932-м. Этот опыт предоставил ему физическое и духовное пространство, позволившее взглянуть вовнутрь извне. К тому же он познакомился со своими великими современниками и обменялся с ними различными идеями. Все это открыло ему многие немаловажные перспективы для осмысления искусства, его источников и процессов творчества.
Трагедия, пережитая Эйзенштейном в связи с его мексиканским фильмом, была не только личной, это была трагедия всего мирового кино. Его эпический проект в шести новеллах был грандиозным и в стилистическом замысле, ибо шесть эпизодов посвящались шести типам художественного видения592.
Хотя мексиканский фильм не состоялся, мексиканский опыт не пропал. Эйзенштейн пережил величие и масштабность доколумбовой пейзажной архитектуры и изваянного (скульптурного) пространства.
В «Стачке», «Генеральной линии» и даже в «Октябре» он использовал широкоугольные линзы, чтобы расширить пространство, но то, что он сделал в мексиканском материале, а впоследствии в «Иване Грозном», было качественным сдвигом. Здесь последовательно использованы широкоугольные и пан-фокусные объективы593 для конструирования онейрического, даже галлюцинаторного видения, доселе в кино не встречавшегося.
С точки зрения кинестетического переживания монументальности, европейская скульптура по масштабам проигрывает многим культурам: ассирийской, месопотамской, египетской, доколумбовой, буддистской (в том числе варварски разрушенным буддам в Бамиане), персидской (Персеполис), кхмерской (Ангкор Ват). Проигрывает и монолитным индийским пещерным храмам – Эле-фанта и Эллора. Видения Эйзенштейна, снятые за короткое время в эмоционально бурный период истории, по духу и по замыслу сравнимы с этими монументальными памятниками, созданными много веков назад.
Эйзенштейн не только черпал опыт других цивилизаций, но и щедро им отдавал свой. Его встречи и обмен мнениями с мексиканскими муралистами взаимно обогащали обе стороны, повышали уровень понимания новых выразительных возможностей искусства. Исследователи подтверждают: «Дружба Сикейроса с Эйзенштейном... имела фундаментальное значение для его подхода к анализу и использованию живописной формы. <...> [Сикейрос] полагал, что технологически инновационный характер современного индустриального мира требует глубокой трансформации в методологии и эстетической практике. ...Свои новаторские принципы он применил в росписи фасада школы Шуинар, в некоторых фресках виден след общения с Эйзенштейном. <...> “Сделав первые наброски, мы использовали кинокамеру для съемки движущегося изображения, что помогало нам доработать первоначальные эскизы, в частности, натурщиков. <...> Чтобы заменить медленный и довольно дорогой способ карандашной обводки и проекции точечного шаблона, мы использовали фотопроектор, с помощью которого увеличивали и проецировали рисунок прямо на стену”»594.
Эйзенштейновские архимедовы точки опоры служили для других людей точками входа в его мир. Очерк Эйзенштейна «Прометей»595, посвященный Ороско, знаменует качественное изменение в его подходе к крупному плану. Если к исследованию «Диккенс, Гриффит и мы» добавить эссе об Ороско, идея крупного плана совершит скачок от крупных планов у Гриффита, врезанных в изображение или вырезанных из него, к крупному плану как объему, как на фресках Ороско.

Трехликий Шива (Тримурти). Скульптура в пещерном храме Элефанта. Индия, V–VII вв.
Эйзенштейн оказал глубокое влияние на великого индийского режиссера Ритвика Гхатака. Семена эйзенштейновских идей Гхатак пересадил на плодородную почву индийского эпоса и оросил своим благодатным воображением. Во всех своих фильмах он использовал широкоугольные объективы. От фильма к фильму они становились все более широкоугольными. В одном из последних фильмов «Teetash Ekti Nadir Naam» («Титаш – это имя реки», 1973), где река меняет свое русло, с легкостью принося или отнимая жизнь, он использовал объектив с фокусным расстоянием 9,8 мм. Монументальные композиции, созданные благодаря применению сверхкороткофокусного объектива, стали совершенным средством эпического повествования о силах стихии, неподвластных воле человека, и о его героической борьбе за выживание.
В одном из кадров Гхатак соединил три головы – фронтальный план лица мальчика и два женских профиля по бокам, – отсылая к знаменитой трехликой скульптуре бога Шивы в храме пещеры Элефанта под Бомбеем.
Вот что писал об этом образе Шивы Андре Мальро: «Фотография и даже кино не передают его масштабности. Эти головы... высотой в двадцать футов, меньше тех, что находятся в храме Байон в Ангкор-Тхоме; но, колоссальные по сравнению с окружающими их фигурами, они заполняют пещеру, как Пантократор заполняет собой византийские храмы Сицилии. Как и христианский Вседержитель, этот Шива ограничен уровнем плеч, не превращаясь в бюст. Отсюда тревожащее ощущение отсеченной головы и божественного видения. Это не просто “одна из прекраснейших статуй Индии”, какое значение мы ни придавали бы понятию “прекрасное”. Тут с первого взгляда узнаешь в ней скульптурный шедевр. Лицо анфас и два монументальных профиля... по уровню высочайшее произведение искусства. <...> Эта фигура принадлежит... сфере великих символов, и то, что этот символ выражает, выразить может только он один»596.
Эйзенштейн был одержим опытом переживания экстаза. В эссе «Эль Греко и кино»597 он проявляет равный интерес к психологическим и физиологическим аспектам пафосной композиции – к вытянутым вверх фигурам, к измененным пропорциям, к изогнутым эллиптическим формам.
Еще одна страсть, сопутствовавшая Эйзенштейну всю его жизнь, – цвет. В эссе «Эль Греко и кино» обе страсти сходятся в анализе использования цвета как мощного средства выражения экстаза598. Детальным анализом картины «Гроза над Толедо» Эйзенштейн обнаруживает ее двуликий характер: это и пейзаж, и автопортрет в состоянии исступления. Позже анализ этой картины вписывается в более широкую раму музыки пейзажа в «Неравнодушной природе».
Мексика – ее история и памятники, ее целебные, с психоделическими свойствами растения – была идеальным местом для размышлений об эксцессах экстатического состояния599. Эссе Эйзенштейна об Эль Греко было закончено значительно позже, но Мексика создала благотворную почву для его зарождения. Провоцируемый наркотиками или сексом, возникающий органически либо в результате экспериментального, научного или мыслительного процесса, экстаз – архимедова точка опоры, на которой находишься одновременно внутри и вне себя, как на ленте Мёбиуса. Эйзенштейн, по счастью, оказался вне пределов СССР сталинской эпохи и дал себе волю, как о том свидетельствуют его галлюцинаторные, сверхизбыточные рисунки и отснятые в Мексике кадры.
Огромное влияние оказала на Эйзенштейна китайская цивилизация. Четырнадцатого апреля 1935 года Мэй Ланьфан впервые показал свой спектакль в Москве. В 1930 году доктор Мэй гастролировал в Соединенных Штатах, где познакомился с Чарльзом Чаплином, который рассказал о нем Эйзенштейну600. Мэй Ланьфан оказал огромное влияние на авангардистское искусство XX века. О самых значительных межкультурных связях западного и китайского театра рассказывает в своих сочинениях Мин Тьян601. Они помогают лучше понять эти связи на примере творчества не только Эйзенштейна, но и Брехта, Третьякова и Мейерхольда – четырех гигантов искусства минувшего столетия.
Эйзенштейн посвятил восторженное эссе «Чародею Грушевого Сада» Мэю и его мастерству в исполнении женских ролей. Его наблюдения значимы и для понимания индийского театра. В замечательной индийской танцевальной драме Катхакали602 мужчины и по сей день исполняют женские роли – стилизованным языком жестов они самым изысканным образом передают исключительно женские эмоции и поступки, в том числе кормление грудью, и вместе с тем не притворяются женщинами. В штате Махараштра актер-певец Бал Гандхарва (1888–1967) являл собой образец исполнительства женских ролей, начиная с речи, жестов, походки и до причесок в стиле первых десятилетий XX века. Индийский танец Бхаратнатьям, исполнявшийся храмовыми танцовщицами девадаси, считается одной из самых чувственных танцевальных форм. Его величайшими наставниками-гуру были почти исключительно мужчины.
Эссе Эйзенштейна можно понимать как зарождение его размышлений об андрогинности – тут оно фокусируется на кодифицированном языке пекинской оперы603 и на образности в противовес изобразительности. Как и синематизм, образность для Эйзенштейна – ключевое понятие, о котором он не перестает размышлять. Оба эти понятия сыграли важную роль в его исследовании «Метод (Grundproblem)».
Эйзенштейн, разумеется, знал, что пекинской оперой китайская культура далеко не исчерпывается. Известно было ему и то, что цивилизация Древнего Китая в значительной мере послужила культурным источником для Японии. Поэтому он погрузился в изучение древней китайской культуры, в том числе книг Марселя Гране604, автобиографии Линь Юйтана «Китайцы: моя страна и мой народ», и начал работать над серией статей о синематизме китайской культуры.
Как и другие важные термины, понятие синематизма не получило у Эйзенштейна строгого определения, не стало логически точной формулировкой в качестве необходимого и достаточного критерия для суждения о том, что является кинематографичным. Оно служит скорее предварительной гипотезой, а может быть, догадкой или чем-то вроде дебюта в шахматном этюде, и с каждым новым этюдом получает все более точное измерение. Одновременно с синематизмом605 и образностью Эйзенштейн говорит о полисемичности пекинской оперы, где простой предмет, например, стол, в зависимости от контекста становится лестницей, горой, стулом, кроватью и т. д. Мне представляется, что ключевые концепты Эйзенштейна, такие как синематизм или образность, сродни «столу» в пекинской опере, принимающему разные значения в разных контекстах; вне чувственных сфер восприятия они всего лишь пустое вместилище.
Двойное эссе «Чет – Нечет» и «Раздвоение Единого»606 – это об андрогине и вообще о целостности, которая расщепляется на инь и ян, женское и мужское. Эйзенштейн показывает, как два эти принципа, их взаимодействие и взаимопроникновение пронизывали всю жизнь Древнего Китая, будь то пять стихий, образующих вселенную, времена года и их празднования, бездейственная зима или бурная весна, день и ночь, труд и праздность или любовь и смерть. Цитируя Энгельса, Эйзенштейн указывает, что первое разделение на эгалитарные группы выглядело как разделение труда между полами, возможно, благодаря длительному периоду вынашивания ребенка и послеродового ухода за ним. Тут и социальное единство, расщепляющееся на инь и ян. Но если причиной разделения труда было различие полов, почему только в Древнем Китае стало оно столь значимым? Ответ Эйзенштейна заключается в следующем: китайская цивилизация – может быть, благодаря образному языку? – была ближе к нерасчлененному образному мышлению и в течение длительного времени не проходила стадию поляризации мышлений логического и чувственного.

Шива Ардханаришвара. Скульптура в пещерном храме Элефанта. Индия, V–VII в.
Чтение трудов Эйзенштейна, посвященных китайской цивилизации, вызывало у меня чувство déjà vu. Упоминавшийся выше Шива – андрогин. Он символически изображается в союзе со своей супругой Шакти (женской силой). Их союз изображается проникновением эрегированного лингама (фаллоса) в йони (вагину). В другой иконографии они представляются как андрогинное божество Ардханаришвара, полумужчина-полуженщина.
Все классические индийские художественные произведения, будь то театр, танец, живопись или скульптура, колеблются между женской ипостасью ласья – соблазнительной, изящной, нежной и женственной, и маскулинной тандава – сильной, мощной, мускулистой и агрессивной607. Даже в наши дни каждое театральное представление начинается восхвалением этого андрогинного бога, покровителя всех искусств.
Одна из тропинок, ведущих к этому богу, называется тантра. Не вдаваясь в детали, достаточно сказать, что высочайшей целью на этом пути является экстаз. Анандавардхана (IX век) и Абхинавагупта (приблизительно 950–1020 гг.), два утонченнейших индийских эстетика, исповедовали тантризм608. Название главного трактата Анандавардханы по эстетике – «Дхваньялока» – буквально смонтировано из двух слов: «дхвани», то есть звук, и «алок», то есть свет. В этом понятии эстетическое наслаждение определяется как внутриутробное блаженство безграничного абсолюта, радость ощущения себя единым со Вселенной. А это прямо соотносится с идеей Эйзенштейна о связи гармонии в искусстве с дремлющим в нас ощущением Mutterleibsversenkung (погружения в материнское лоно)609.
От «раздвоения Единого» мы подходим к его особой применимости к числам – нечетным (ян) и четным (инь). Эйзенштейн, используя их взаимодействие в качестве концептуального инструмента, анализирует несколько различных конструкций: от геометрических фигур, мужских и женских рифм, просодических форм до триптиха Утамаро, карикатур и книжных иллюстраций Гульбранссона, групповых портретов кисти Е. Ф. Крендовского, «Троицы» Андрея Рублёва и даже наземного здания станции метро! В этом подлинная красота сочинений Эйзенштейна. В них всегда открывается нечто конкретное, новое и ценное о том, как произведение искусства творится и переживается.
Одно из наиболее разноплановых и глубоких исследований Эйзенштейна – эссе «Дисней». Исследуя взаимоотношения пралогического и логического мышления в анимации, он задумывается о магическом мышлении, об анимизме, о чувственности и рациональности и даже об истории философии и литературы.
Анализируя квазиэволюционистские и квазирегрессивные метаморфозы ранней мультипликации Диснея, Эйзенштейн очерчивает важные постулаты своей эстетики: развитие происходит не по прямой, а по спирали. Фигуры, которые на одной стадии воспринимаются как функциональные, воспроизводятся на другой как экспрессивные. Передвижение псевдоподии, прикрепление амебы к частице пищи превращается в человеческом общении в любовное объятие. Парение в пренатальной жидкости, свобода от желаний в замкнутом пространстве материнской утробы становится картиной божественной сферы, где тело не испытывает материальных нужд и где не существует силы гравитации.
Цивилизация Древнего Китая с присущим ей пантеистичным мировоззрением стала первой, где веками развивалась пейзажная живопись. Концепция дао в живописи610 содержит инструкции по живописному изображению явлений природы – от скал до насекомых. Каждый элемент произведения воспринимался художниками через призму взаимодействия инь и ян, что придавало удивительную визуальную целостность их творениям. Они были картинами природы и вместе с тем экспрессивными образцами ритмизованной гармонии.
Линь Юйтан пишет: «Китайцы... рассматривают живопись и каллиграфию как родственные искусства. <...> Каллиграфия и живопись образуют почти единое понятие. <...> Если задаться вопросом, что обращает на себя большее внимание, то ответ несомненно будет в пользу каллиграфии. <...> В основе живописи заложены “восемь принципов иероглифа “юн”. <...> В оценке китайской каллиграфии смысл полностью игнорируется, оцениваются линии и формы сами по себе и в своем взаимодействии. Следовательно, в совершенствовании и умении высоко оценивать чистое волшебство линии и красоты композиции китайцы достигли абсолютной свободы и благоговейной привязанности к чистой форме как таковой, независимо от содержания. Живописное произведение должно нечто передавать, но хорошо выписанный знак передает только собственную красоту линии и структуры. На этом поле абсолютной свободы было опробовано все богатство рифм и все виды структур»611.
Эта цитата многое проясняет в рисунках Эйзенштейна612. В китайской живописи и каллиграфии Эйзенштейн видел безграничный потенциал использования природы – не как ее изображение, а как вольное ритмическое выразительное средство вызывать у зрителя в кино определенные настроения и эмоции, как в музыке, не связанной с изобразительностью. Всякий, кто видит исполненные каллиграфических чудес стены Альгамбры в Гранаде, великие мечети Персии, Турции и Индии, манускрипты в стамбульском дворце Топкапы, в Библиотеке Ирана или в Национальном музее Мальдив в городе Мале, каллиграфические свитки в музеях Пекина и Тайбэя, поймет, чего человек может достичь, освободившись от оков подражательности предметному миру: он способен вызвать все мыслимые формы, содержащиеся во Вселенной, с помощью каллиграфической линии.
Несколько десятилетий назад я имел довольно смутное представление об Эйзенштейне. И вот теперь передо мной бесценный подарок – пять томов его сочинений на русском языке: два тома «Неравнодушной природы», два тома «Метода» и том «Монтажа». Весь мир видит, как мыслитель-художник вырастает, подобно колоссу, из вод своих творений. Его страсть, его сострадание и мудрость преодолевают барьеры между разными укладами жизни, между расами, культурами, континентами, видами искусств, между этикой и эстетикой. Роль неантропоцентристского мировоззрения, присущего Эйзенштейну, как и Будде, трудно переоценить в сегодняшнем мире, пребывающем под угрозой эскалации насилия, саморазрушения, глобального потепления и Судного дня. В такие времена художники становятся проводниками вселенской совести. Только любовь и красота могут спасти природу и культуру.
Завершаю статью трогательной историей безумной любви. Однажды я показывал в Москве фильм Ритвика Гхатака «Немеханическое» («Ajantrik»). Это случилось сразу после чернобыльской катастрофы, ставшей роковым примером последствий потребительского отношения к природным ресурсам. Фильм этот – история о таксисте и его стареньком такси. Он живет в горной деревушке, рядом с анимистичным племенем ораонов. Человек и его машина изображаются как связанная глубоким взаимным чувством пара. Гхатак показывает их счастье, их кокетливые игры, ревность, ссоры двух любящих через удивительно выразительный саундтрек – «конкретную музыку», смонтированную из механических звуков. Фары, мерцающие сквозь туман долины, превращаются в многоговорящие глаза. Когда таксист решил броситься на помощь попавшей в беду прекрасной девушке, машина отказывается тронуться с места и яростно светит огнями. А когда старая машина испускает дух, ее предсмертный механический хрип исполнен бесконечной печали. Но потом следует воскрешение: продав машину в утиль, хозяин слышит звук ее резинового клаксона. Где-то далеко в утреннем тумане улыбающийся мальчуган нажимает на старомодный автомобильный гудок, который звучит как первый крик новорожденного ребенка.
Совсем как в Книге Екклесиаста: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит».
Когда фильм закончился, кое-кто из русских зрителей, чьи сердца жгла боль Чернобыля, утирал глаза.
* * *
Эйзенштейн оставил нам не какую-то замкнутую систему, а метод. Каждый художник, как и каждый зритель, волен взять у него то, что ему нужно, что-то в его идеях отвергнуть, а что-то дополнить, руководствоваться ими как проводником в сфере собственного опыта или искусства. Это, думаю, и привлекает к Эйзенштейну людей по всему миру. Они прислушиваются к нему, потому что он слышал голоса их цивилизаций. Его слова, если будет на то воля Аллаха613, возродятся с новыми жизнями, на новой земле и на новых языках.
...Теперь он весь рассеян
Среди бессчетных городов, чужих пристрастий;
Он в новом сумрачном лесу блуждает
По следу снежному и ради казни новой.
Слова покойника претерпевают ряд
Метаморфоз среди желёз живущих...
Уистен Хью Оден, «Памяти У. Б. Йейтса»
(перевод Иосифа Бродского)
Перевод Нины Цыркун
/ Юрий Цивьян /

Юрий Цивьян (Yuri Tsivian) – один из самых авторитетных в мире киноведов и один из ведущих специалистов по творчеству Эйзенштейна. Выпускник филологического факультета Латвийского государственного университета в Риге, он стал кандидатом искусствоведения в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Репутацию серьезного исследователя кино принесла ему изданная в Риге книга «Историческая рецепция кино: кино в России, 1895–1930» (1991). Сблизился со школой семиотики Тартуского университета под руководством Ю. М. Лотмана, в соавторстве с которым написал книгу «Диалог с экраном» (1994). Преподавал историю и теорию кино в Университете Южной Калифорнии (USC, Лос-Анджелес), до 2019 был профессором факультета киноведения в Чикагском университете. В его книгах, статьях, лекциях в разных университетах мира и на международных конференциях значительное место занимает анализ фильмов и теоретических взглядов С. М. Эйзенштейна. В частности, Ю. Цивьян глубоко анализирует образный строй последнего фильма режиссера в монографии «Ivan the Terrible» (Лондон, 2002) и его теорию выразительного движения в книге «На подступах к карпалистике. Движение и жест в литературе, искусстве и кино» (Москва, 2010). Публикуемая статья является обработкой доклада на Эйзенштейновской научной конференции в Париже (2019).
Synthèse: двоякость как метод и конструктивный принцип
У этой статьи сразу две цели – частная историческая и общая теоретическая. Первая – проанализировать источники Пещного действа, ключевой сцены из второй серии «Ивана Грозного»; вторая – нащупать, говоря языком формалистов, конструктивный принцип эйзенштейновских мысленных построений, неважно, в чем они воплощались: на экране, в его печатных публикациях или непечатных рисунках.
Начну с одного из последних, озаглавленного Эйзенштейном по-французски: Synthèse614.
Бык на кресте был нарисован в Мексике в 1931 году в составе цикла рисунков на тему корриды. На быке, в свою очередь, распята обнаженная женщина с раной в левом боку. Эта композиция отражает интерес Эйзенштейна к антропологическим штудиям его времени, в которых первобытный культ животных (особенно быков) связывался с главными мировыми религиями, с одной стороны, и зрелищными формами вроде цирка и корриды – с другой. Лаконичная подпись под рисунком перечисляет трех персонажей из трех религий – Еву (Ветхий Завет), Иисуса (Новый Завет) и мифологическую Европу (похищаемую Зевсом в виде быка). Четвертым в списке действующих лиц проставлен Torero (в мифопоэтическом мире Эйзенштейна тореадор и бык взаимозаместимы – оба попеременно играют роль жертвы в квазирелигиозном обряде по имени «коррида»).

Сергей Эйзенштейн. Синтез. Рисунок из цикла «Коррида». Тетлапайак, Мексика, 12.V.1931

Кадр эпизода «Клятва опричников», вырезанного цензурой из первой серии фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», 1941–1945

Кадр секвенции «Боги» эпизода «Наступление Корнилова» из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», 1928
На первый взгляд может показаться, что Эйзенштейн здесь просто суммирует образы и символы разных культур, беспорядочно добавляя их друг к другу. Между тем синтез, по Эйзенштейну, действует не как энциклопедия, в которой имена и явления разведены по рубрикам, а скорее как толковый словарь, где любое мало-мальски употребимое слово будет иметь не один смысл, а целый рой значений, актуальных для разных речевых ситуаций и контекстов. Назовем этот принцип «двоякостью»: смысл его в том, что любой мотив (в нашем случае внутри визуальной композиции) несет как минимум двойную смысловую нагрузку и может прочитываться по-разному в зависимости от контекста – античного, иудейского, христианского, театрального или эротического. У мотива нет одного, «собственного» значения; он означает разные вещи внутри разных сюжетов.
Речь идет о двояком прочитывании визуальных сочетаний в буквальном смысле: так, пики, воткнутые в бычью шею (бандерильос) и отсылающие к корриде, всплывут кинжалами в клятве опричников из «Ивана Грозного», но поскольку наш бык еще и Христос, пригвожденный к кресту, диагональные лучи вокруг его головы выглядят как барочный нимб, вроде того, что Эйзенштейн снял для «Октября».
Бык, судя по пару из ноздрей, еще жив, но уже смертельно ранен: эфес шпаги торчит у него прямо изо рта. Логике корриды это противоречит: обычно быка убивают ударом в грудь или спину. Зато шпага во рту – привычная часть циркового или балаганного зрелища. Бык, таким образом, не только Спаситель и жертва корриды, но и шпагоглотатель.
Взглянем теперь на раны, кровоточащие на рисунке Эйзенштейна. Две из них – от гвоздей, которыми распяли Еву: одна ее рука прибита к кресту, вторая – к адамову яблоку уже распятого быка. Если приглядеться внимательнее, читатель книги Эйзенштейна «Метод» увидит в них два других телесных органа: глаз и вагину.

Траура по Вакулинчуку. Кадры из фильма Cергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”», 1925

Кадр эпизода «Болезнь Ивана» из первой серии фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», 1944
Рана в правом боку у быка тоже двояка: та, что была нанесена римским легионером распятому Христу, и вынутое ребро Адама, из которого на свет появилась Ева. Рана в левом боку у Евы, в свою очередь, делает ее женским вариантом прободаемого на кресте Христа.
Наконец, детородный органраспятого быка, на который не без опаски смотрит сверху вниз Ева, тоже имеет второе значение – горящей свечи, напоминающей зрителю Эйзенштейна о свече в руках усопшего Вакулинчука и о свече мнимо умирающего Ивана.
Вспомним еще раз, что у рисунка есть заголовок – крупно выведенное на перекладине креста слово Synthèse. Синтез в понимании Эйзенштейна и есть двоякость, приданная каждому отдельному мотиву.
Проследим теперь, как этот принцип работает у Эйзенштейна-режиссера и сценариста, на примере Пещного действа. Мистерии на сюжет из книги пророка Даниила о трех отроках, подвергнутых огню за отказ молиться языческому идолу по приказу царя Навуходоносора, действительно разыгрывались в русских церквях, начиная как минимум с XVI века, хотя неизвестно, был ли исторический Иван Грозный их зрителем. В подготовительных заметках к фильму Эйзенштейн указывает источник – «Историю русского театра» под редакцией В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса, изданную в 1914 году и содержащую репродукцию изображения Пещного действа середины XVII века – с тремя мальчиками на огне, злобными халдеями и спасающим детей ангелом. Набросок мизансцены рукой Эйзенштейна615 по композиции довольно близок приведенному Каллашем и Эфросом.
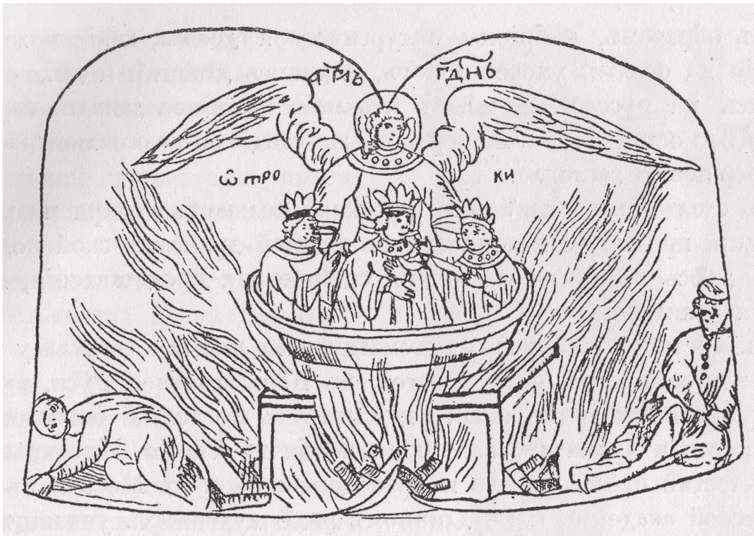
Пещное действо. Изображение на церковной двери, Псков, 1659. Иллюстрация из «Истории русского театра», 1914
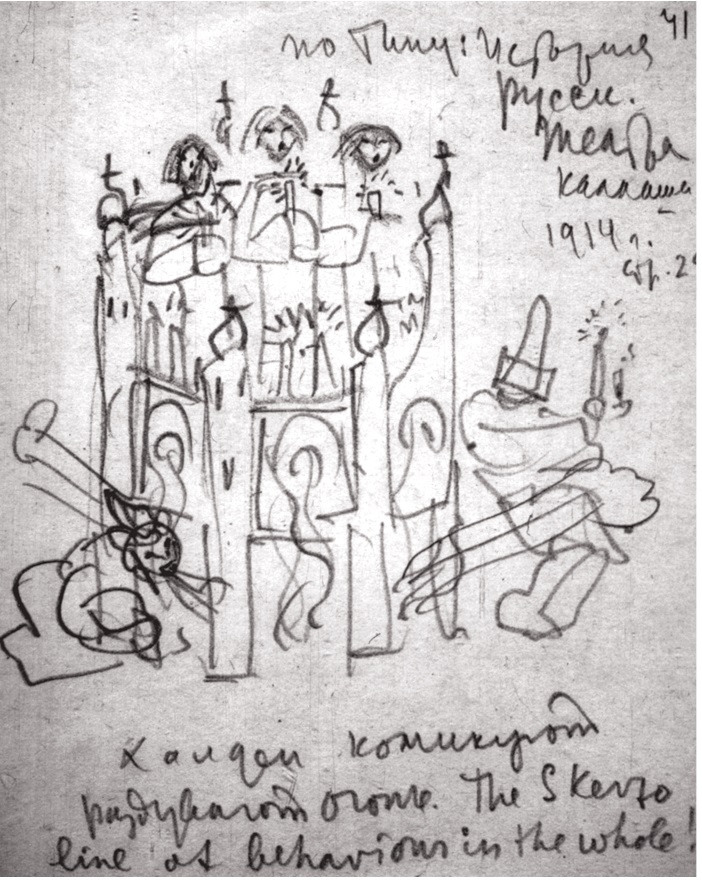
Эскиз Сергея Эйзенштейна к эпизоду «Пещное действо» во второй серии фильма «Иван Грозный», 1946
Столь же исторически достоверны комические реплики, подаваемые в фильме халдеями. Эйзенштейн сравнительно аккуратно следует диалогу, процитированному в других научных источниках – например, в специальной работе М. П. Савинова, посвященной чину Пещному действа в Софийском соборе в Вологде616.
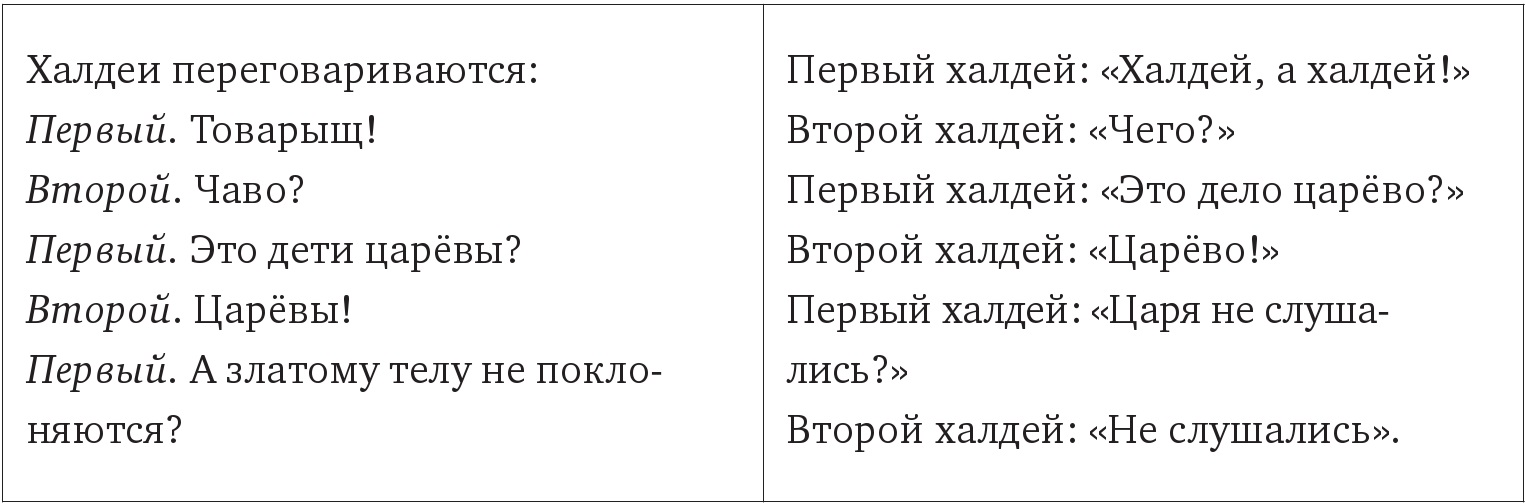

Икона «Три отрока в пещи огненной». Новгород, рубеж XVI–XVII вв.
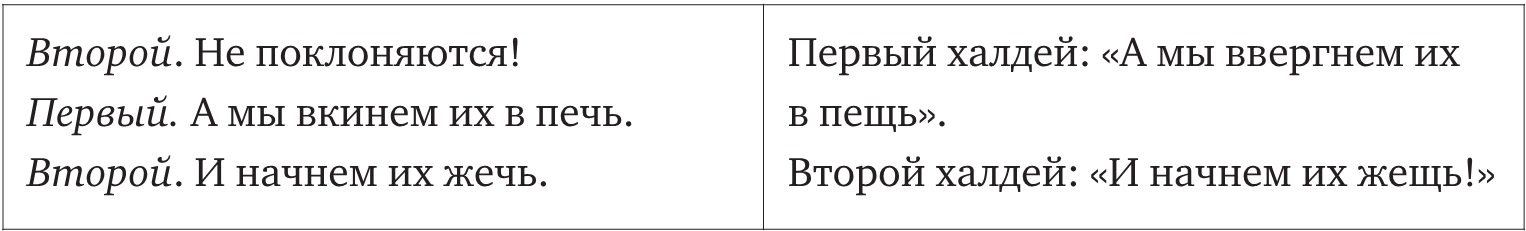
Из смысловых поправок со стороны Эйзенштейна («дети царёвы» – «дело царёво»; «телу не поклоняются» – «царя не слушали») легче всего объяснить изъятие слова «товарыщ» из обращения одного халдея к другому. В Советском Союзе 40-х годов за такую двоякость могло не поздоровиться.
Итак, фильм дотошно воспроизводит древний церковный чин – тем не менее из многочисленных подготовительных материалов ясно, что эйзенштейновский принцип синтеза работает здесь не хуже, чем в рисунке с распятым быком. Каждый элемент Пещного действа Эйзенштейн заставляет работать двояко – исторически и не только. Так, например, в мае 1942 года он пишет памятку себе же: «Дурак! Костюмы халдеев – пародия на костюмы опричников же! Использовать песью голову, абрис костюма etc.»617. В жестоких халдеях, действующих по наущению ветхозаветного царя, должны были угадываться безжалостные опричники царя Ивана; это неудивительно, учитывая, что по сюжету второй серии Пещное действо – мышеловка, заговор бояр и духовенства с расчетом на чистосердечное признание в убийствах невинных жертв и последующее покаяние Ивана.

Иван просит благословения у митрополита Филиппа. Кадры эпизода «Пещное действо» из второй серии фильма «Иван Грозный», 1946
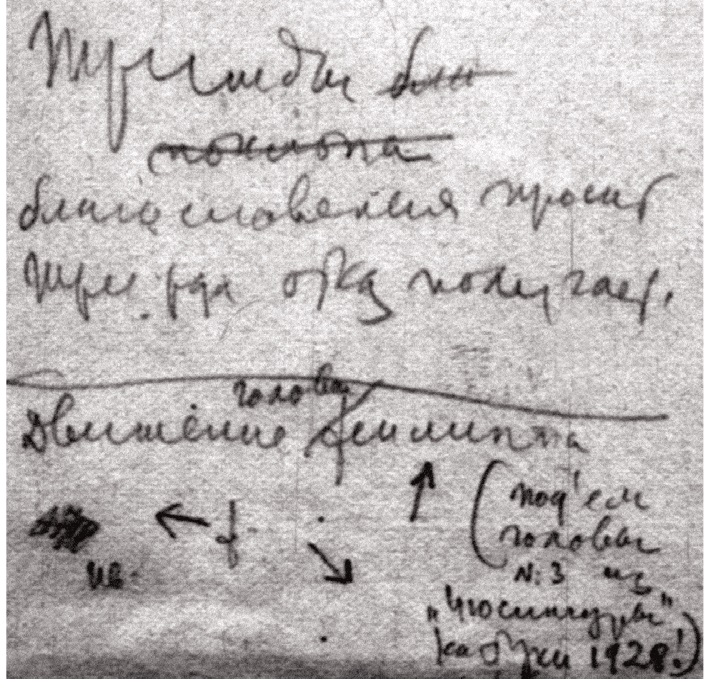
Режиссерская заметка Сергея Эйзенштейна к эпизоду «Пещное действо». Алма-Ата, 1942
Более удивителен (как минимум на первый взгляд) другой источник Пещного действа, о котором Эйзенштейн упоминает в своих заметках, – спектакль на сюжет «47 верных самураев», увиденный Эйзенштейном во время гастролей театра кабуки в Москве в 1928 году. Напряженный – хотя и почти немой – диалог царя Ивана и митрополита Филиппа, трижды отказывающего царю в благословении, строится на телодвижениях: Иван глубоко склоняет голову – Филипп резко отворачивает свою.
Этот поворот головы и должен, по замыслу Эйзенштейна, воспроизводить движение из пластического лексикона кабуки: «Трижды благословления просит – три раза отказ получает. Движения головы Филиппа (указаны в заметке тремя разнонаправленными стрелками. – Ю. Ц.) (подъем головы № 3 из “Цюсингуры” кабуки 1928!)»618.
В дневниковой заметке, сделанной весной 1942 года, Эйзенштейн этот же диалог связывает с кабуки и по принципу, который он называет «двойным плетением»: «Плетения двойные: отроки (“умалены мы ныне”) с разговором в алтаре о казни Турунтая-Пронского. <…> [Б]есстрастный текст отроков (о халдеях, злейшем царе etc.) – как “акварельный” фон той же темы, которую “скульптурной” страстью играют пантомимой Иван и Филипп перед ними. <...>
Интересно в наметках “Грозного” выныривает “в новом качестве” традиция японского театра: разделение на чтеца и мимиста. Так Фома и Ерёма куплетами называют мысли, которые мимически и гулом играет толпа. Отказ (мимический) в благословлении Ивану – смыслово оттачивается содержанием песнопения отроков»619.
В фильме прием двойного плетения подчеркнут еще и кинетическим контрастом: пантомима Ивана и Филиппа разыграна стаккатными движениями, а голоса ни о чем не подозревающих отроков звучат по-церковному монотонно.
Сообразив, наконец, что происходит, отроки один за другим в ужасе умолкают. Чин Пещного действа на этом обрывается – в фильме, но не в сценарии. Как было известно Эйзенштейну, несмотря на пугающее начало, исторические Пещные действа имели счастливый конец: ангел сходит с неба, спасает детей, превращая огонь в «дух росы шумящей» (Дан. 3:49, в церковнославянском переводе), и поджигает халдеев. Так же, как делалось в русских церквях XVI века, Эйзенштейн планировал подвесить под куполом на веревке пергаментного ангела, которого в нужный момент опускают для спасения отроков. Появление ангела должно было – по замыслу митрополита Филиппа, «режиссера» сюжетной мышеловки, – стать кульминацией всего действа и заставить Ивана одуматься и упразднить опричнину.
Момент этот в фильм не вошел, хотя фигура ангела была приготовлена. Но еще за год до съемки Эйзенштейн подарил костюмеру Лидии Наумовой «озорной» рисунок с комментарием, обращенным к ней. Женщина, чей костюм ограничился кокошником, растянулась по диагонали листа. В ее вагине, как в «пещи огненной», взывают к богу три отрока, а в левой руке – веревка, на другом конце которой – ангел в форме мужского полового органа. Этот рисунок – как и другие заветные рисунки на тему Ивана, коими Эйзенштейн развлекал и эпатировал членов съемочной группы, говорит о принципе синтеза не менее красноречиво, чем теории и заметки.
Во-первых, «похабный» характер рисунка объясняет другие физические элементы Пещного действа – такие, например, как недвусмысленные движения бедер халдеев, когда они подбрасывают дрова в огонь под отроками. Сексуальный характер этого движения был бы только догадкой, если бы в наброске к этой сцене Эйзенштейн не обозначил поверх фигурок халдеев два крупных мужских органа. Во-вторых, сексуальность интересовала Эйзенштейна еще и теоретически, и в «озорном» рисунке наверняка сказалось его увлечение психоаналитическим понятием Mutterleibsversenkung – погружения в материнское лоно: это понятие разрабатывалось Эйзенштейном вслед за Фрейдом и Отто Ранком. Наконец, у Эйзенштейна был и личный опыт переживания, связывавшего религиозную и эротическую сферы. Если верить биографии Мари Ситон, Эйзенштейн признавался, что, входя в Нотр-Дам, почувствовал, будто проникает в женское лоно620.

Сергей Эйзенштейн. «Озорной» рисунок «Пещное действо». Алма-Ата, 07.VIII.1942. Коллекция Лидии Наумовой
Все перечисленное – узнаваемые ходы эйзенштейновской мысли. Тем не менее, главный источник «похабного» рисунка – не воображение Эйзенштейна, а православное богословие. Пещное действо представлялось в русских церквях строго по календарю – раз в год, незадолго до Рождества, и, несмотря на ветхозаветное происхождение, с Рождеством ассоциировалось. Вот, например, как объясняет эту связь протоиерей Константин Никольский в книге 1885 года «О службах русской церкви, бывших в прежних печатных богослужебных книгах»: «Воспоминаемое в Пещном действе событие – чудесное спасение отроков в пещи – прообразовало великую тайну воплощения Сына Божия от Приснодевы Марии... Именно, как чрез вавилонскую пещь отроки не погибли, а получили жизнь, обновление; так чрез Святую Деву мир обновился»621. Сравнение могло бы остановиться на двух чудесных обновлениях, но тут протоиерей Никольский пускается в таинства богословской гинекологии: «Пещь, приняв отроков, не опалила их; так и Дева, заченши Зиждителя, не опалилась утробою. Огнь пещи, не опаливший юных детей, явил тем бессеменное от Девы божественное рождество».
Яркий образ неопаленной утробы, переосмысленный в рисунке Эйзенштейна, Никольский придумал не сам; в примечании он приводит стихи из Ирмологиона, канонического сборника церковных песнопений: «Яко пещь древле приемшая отроки не опали, тако и Дева заченши Зиждителя, не опалися утробою»; «Вавилонская пещь отроки не опали, ниже Божества огнь Деву растли»622 и т. д. Прагматика теологической мысли здесь проясняется: как не сгорели в печи отроки, так, несмотря на последующие роды, не пострадало и целомудрие будущей Богоматери, утроба которой осталась холодной. Метафора огня, кажется, прямо указывает здесь на сексуальное возбуждение – отсюда в эйзенштейновском рисунке пылающая печь в женской утробе и возбужденный ангел, спешащий на помощь. При всей непристойности, этот рисунок не что иное, как иллюстрация к каноническому экзегезису.
Вернемся к эйзенштейновскому понятию синтеза, как он предстает в рисунке с распятым быком. Проследив прихотливый ход мысли протоиерея Никольского и его предшественников, усмотревших печь в женской утробе и судьбу трех ветхозаветных отроков в истории «бессеменного» рождения, трудно удержаться от сопоставления приемов Эйзенштейна с традиционным христианским экзегезисом. Взглянем еще раз на рисунок: из раны в боку появляется на свет дева. Эта рана – одновременно и Адамово ребро, и результат удара копьем по распятому Иисусу.
Казалось бы, надо быть Эйзенштейном, чтоб придумать такую мизансцену. На самом деле, она восходит к блаженному Августину: «А что в начале человеческого рода жена была сотворена из кости, взятой из ребер спящего мужа, то это событие должно было служить пророчеством о Христе и Церкви. Ибо оный сон мужа (Быт. 2:21) означал смерть Христа, ребра которого, когда Он висел бездыханным на кресте, были пронзены копьем и из них излились кровь и вода (Ин. 19:34); что мы считаем таинствами, которыми созидается Церковь»623.
Иными словами, согласно Августину, сотворение Евы из ребра Адама служит прообразом сотворения церкви из межреберной раны распятого Иисуса. Если так, то эйзенштейновская Ева-Европа, вышедшая из раны в боку Адама-Христа-Быка, является, ко всему прочему, еще и церковью – невестой Христовой, что заставляет по-новому взглянуть и на даму в кокошнике на изо-комментарии к Пещному действу из «Ивана».
Семиотика прообразов, предзнаменований и предтеч – вклад христианского экзегезиса в интеллектуальную историю человечества. В плане двоякости как метода рассуждение Августина из книги «О Граде Божием» предвосхищает (а то и предзнаменует) мексиканский рисунок Эйзенштейна.
Перевод Дарьи Хитровой
/ Луис Элберт /
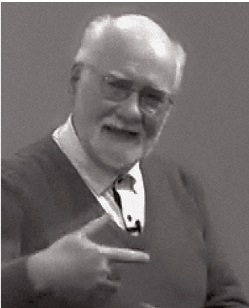
Луис Элберт (Luis Elbert) – ведущий уругвайский киновед и писатель, профессор Университета ORT в Монтевидео, активный участник движения киноклубов (1959–1968) и акций в поддержку Нового кино Латинской Америки в прессе. Между 1967 и 2007 несколько раз был членом исполнительного совета Уругвайской синематеки. С 1964 преподает историю и теорию кино в высших учебных заведениях, в 1992–2005 – главный редактор изданий факультета наук Государственного университета в Монтевидео. Один из кураторов Международного кинофестиваля в Вальпараисо (Чили). Автор статей и книг о киноискусстве и его классиках, в том числе биографий Эйзенштейна и Пудовкина, изданных на испанском языке в 1985.
Встречи с Эйзенштейном в бассейне реки Плата624
В большинстве латиноамериканских стран еще не проведены тщательные или хотя бы скромные исследования на тему рецепции и влияния Сергея Эйзенштейна.
Конечно, то же самое можно сказать и о других великих художниках из области кино. Нельзя забывать об общей ситуации низкого развития нашего региона во всех сферах политики, экономики, социальных, образовательных и культурных структур в целом и во многих аспектах. Только в нескольких из наших стран развивались, начиная с конца 1920-х или с 1930-х годов, полноценные формы кинематографической культуры: кинокритика, киноклубы, киноархивы. Во многих странах, особенно в тех, что расположены в Южном конусе, память о становлении и развитии культуры кино регулярно стиралась, большая часть документов, свидетельствующих об этой деятельности, были утрачены. Только в конце XX века начались исследования реальных процессов в разных сферах истории кино. Обзор, сделанный Машей Салазкиной, показывает, что к нынешнему времени удалось восстановить лишь отдельные ее части, – более полную картину предстоит воссоздать в XXI веке.
В местах близ бассейна реки Плата (río de la Plata), где расположен Уругвай, фильмы Эйзенштейна начали показывать достаточно рано, их высоко оценил интеллектуальный слой общества. В Монтевидео «Броненосец “Потёмкин”» вышел в прокат уже в 1927 году, сразу после коммерческого показа в Буэнос-Айресе (1926). В 1931-м уругвайцы увидели «Октябрь» – сначала под названием «Красный Октябрь», через несколько недель его показ возобновили, окрестив фильм «Октябрь, или Конец империи». В том же году киноклуб показал «Генеральную линию» под авторским названием. Показательно, что еще в апреле 1930 года модернистский журнал искусств «La Pluma», издававшийся в Монтевидео, с радостью сообщил о том, что в Москве с успехом у публики и критики состоялся показ фильма «До и ныне» (так перевели название «Старое и новое»). Восторженная заметка журнала, видимо, не основывалась на фактах, а просто была выражением высокой оценки автора «Потёмкина». В 1940 году на экранах Уругвая идет «Александр Невский», и журнал «Cine Radio Actualidad» называет его лучшим фильмом года. В 1947 году в коммерческий прокат Монтевидео выходит первая серия «Ивана Грозного», визуальный стиль которого поразил и одновременно смутил критиков. Затем, в 1958-м – озвученный «Потёмкин» (версия 1950 года), в 1959-м – вторая серия «Ивана Грозного» (вместе с повторно выпущенной первой), и многие из ведущих критиков сочли это выдающимся кинематографическим событием года; в 1960-м прокатывается новая копия «Невского». С большим запозданием – в 1967 году – в Уругвае показали «Стачку», зато уже в 1968-м до нас дошли только что сделанная реконструкция «Бежина луга» и «Октябрь» в версии Г. В. Александрова (1967), а в 1980 году – им же смонтированный материал незавершенного фильма «Que viva Mexico!».
Список премьерных кинопоказов можно было пополнить некоторыми повторными выпусками копий, еще находившихся в прокатных конторах. Так, в 1953 году в одном из центральных кинотеатров Монтевидео организовали сдвоенные сеансы «Невского» и «Грозного». Кроме того, надо не забывать, что Уругвайский киноархив регулярно демонстрировал в своем кинотеатре хорошие 16-миллиметровые копии (с английскими титрами) «Потёмкина», «Октября» и «Генеральной линии». С 1953-го стало возможным включать в его репертуар картины, смонтированные из снятых в Мексике материалов: «Время под солнцем» Мари Ситон и «Мексиканский проект Эйзенштейна» Джея Лейды. Все это показывалось также многими киноклубами по всей территории Уругвая в 1950–1960-е годы (позднее они исчезли у нас, как и во всем мире).
В это же время одно из подобных обществ любителей киноискусства стало публиковать серию монографических буклетов и книг. Симптоматично, что серия началась в 1953 году со сценария «Que viva Mеxico!», приложением к которому было эссе Мари Ситон, взятое из французского журнала «La Révue du Cinéma». Дело, начатое этим изданием, продолжил Гастон Бланко-Понгибове (Gastón Blanco-Pongibove), молодой кинокритик и преподаватель литературы. Он проявлял особый интерес к фильмам Эйзенштейна, к его личности и нескольким доступным тогда его текстам (прежде всего, это были сборники статей «The Film Sense» и «Film Form» в переводе Джея Лейды). Еще в 1952 году Бланко-Понгибове написал для издававшегося в Монтевидео журнала «Film» первый в Уругвае обзор теоретических работ Эйзенштейна. В 1953 году Бланко раздобыл экземпляр книги Мари Ситон «Эйзенштейн» и написал рецензию на эту впервые созданную на Западе биографию художника. В конце 1950-х годов он совершил поездку в Европу, чтобы взять интервью у Айвора Монтегю и Джона Грирсона об Эйзенштейне, там же он купил и первый советский сборник «Избранные статьи». Гастон Бланко-Понгибове также прочитал много лекций об Эйзенштейне, в частности, о теории монтажа. Вообще, среди уругвайских любителей кино Эйзенштейн и раньше занимал, безусловно, видное место; но верно и то, что Бланко был единственным в своем поколении преданным «эйзенштейновцем». Растущий с середины 1960-х годов процесс экономической, политической и социальной напряженности привел к устойчивому снижению уровня уругвайской культуры; из нового поколения критиков, выступивших в прессе и в области кинопросвещения примерно в 1960 году, только один – автор этого текста – последовал за Бланко.
Несомненно, серьезное влияние на Уругвай в изучении теории и практики Эйзенштейна оказывало положение дел в соседних странах – Аргентине и Бразилии.
В Буэнос-Айресе развивался подобный, в некоторых отношениях даже более глубокий интерес к изучению кино как искусства и к Эйзенштейну как одному из его крупнейших творцов. Подробности аргентинского кинопроцесса все еще требуют исследования, но кое-какие детали могут быть акцентированы уже сейчас. Одной из них является деятельность, которую в конце 1920-х годов начал молодой дантист Леон Климовский (León Klimovsky). Она была посвящена в основном развитию киноклубов, показу в них важнейших немых и лучших современных фильмов, в том числе картин Эйзенштейна и Пудовкина (чей «конструктивизм», помимо прочего, благосклонно воспринимался тогда в Аргентине некоторыми интеллектуалами высших слоев общества). В ряду просветительских акций Климовского было создание в 1943 году копии «Потёмкина» со звуковой дорожкой – вместе с ним озвучанием занимался испанский эмигрант, сценарист и критик Мануэль Вильегас Лопес (Manuel Villegas López). Эта уникальная версия фильма показывалась в коммерческих кинотеатрах Буэнос-Айреса, а затем в Монтевидео.
Уровень интереса в то время к искусству кино и особенно к Эйзенштейну можно оценить по тому факту, что в 1944-м, всего через два года после издания в США сборника «The Film Sense», в Буэнос-Айресе появился его перевод на испанский язык («El sentido del cine»). Вместе с текстами статей Эйзенштейна в аргентинское издание вошли все приложения, которые американский переводчик и редактор Джей Лейда включил книгу, чтобы представить режиссера-теоретика. Конечно, должно было существовать достаточное число читателей, чтобы выпуск этого сборника финансово себя оправдал. Эйзенштейн знал об этом «пиратском издании», как он называет его в своих мемуарах. Трудно переоценить мощь импульсов, которые аргентинское издание дало впоследствии, в 1940–1950-е годы, при создании важных клубов, культурных сообществ и журналов, увлекавшихся серьезным кино.
Изданием сборника статей Эйзенштейна открылась и другая немаловажная тенденция: за ним последовал ряд книг по теории кино. В их числе были и переводы с русского: в 1947-м вышел по-испански учебник Льва Кулешова «Основы кинорежиссуры» («Tratado de la realización cinematográfica») с предисловием Эйзенштейна; в 1955 году переиздали «Чувство кино» и выпустили книгу Всеволода Пудовкина «Актёр в фильме» (1934); в 1956-м появился сборник «Сюжет и монтаж: основы фильма» («Argumento y montaje, bases de un film»), включавший статьи Пудовкина, Эйзенштейна и Семёна Тимошенко; в 1957-м – «Искусство Чарли Чаплина» (на основе вышедшей в СССР в 1945 году книги) со статьями Эйзенштейна, Григория Козинцева и Михаила Блеймана; в 1958-м – «La forma en el cine» (перевод сборника ранних теоретических статей Эйзенштейна «The Film Form», изданного в США в 1949 году) и 510-страничный «Cinematismo» (1982) – перевод многих сочинений Эйзенштейна, который непосредственно с русского сделал выпускник ВГИКа аргентинец Луис Сепульведа.
Это были тогда единственные книги на испанском языке по вопросам теории кино, которые широко читались в других латиноамериканских странах, включая португалоязычную Бразилию.
Бразильская кинокультура первой начала консолидироваться, тоже с конца 1920-х годов, благодаря активному киноклубу «Чаплин» (Chaplin Club), где демонстрировались и обсуждались фильмы, и журналу «O fan» («Вентилятор»), печатавшему некоторые дискуссионные материалы. «O fan» опубликовал в 1930 году отрывки из «Заявки» Эйзенштейна, Пудовкина и Александрова. В том же году другой журнал, «Cinearte», печатает голливудское интервью с Эйзенштейном. Первый коммерческий показ фильма Эйзенштейна – конечно, «Потёмкина» – происходит в 1931 году. Но знакомство бразильской публики с другими его картинами осуществилось только в 1961 году, когда на VI биеннале в Сан-Паулу состоялось грандиозное шоу под названием «История российского и советского кино». Присланная Госфильмофондом коллекция для ретроспективы включала все фильмы Эйзенштейна. Мероприятие было связано с активной деятельностью влиятельных киноклубов и киноархивов, в основном в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, но также и в других городах Бразилии, таких как Куритиба и Порту-Алегри.
Публикация текстов Эйзенштейна по-португальски началась, видимо, в 1969 году со сборника популярных статей «Reflexões de um cineasta» («Размышления кинематографиста»), изданного в СССР на английском и французском языках и предоставленного Бразилии издательством «Прогресс». И только в 1990 году появились сборники «O sentido do filme» и «A forma do filme» – португалоязычная версия английского перевода Джея Лейды под редакцией кинокритика-ветерана Жосе Карлоса Авеллара. Совсем недавно к ним прибавились несколько других книг Эйзенштейна, изданных стараниями киноведов нового поколения.
Возродившийся в XXI веке интерес к Эйзенштейну как к теоретику искусства, а не только постановщику фильмов, в Бразилии проявился особенно интенсивно. Так, в 2008 году Ванесса Тейшейра де Оливейра (Vanessa Teixeira de Oliveira), киновед и преподаватель Федерального университета Рио-де-Жанейро, выпустила в свет книгу «Эйзенштейн сверхтеатральный: выразительное движение и монтаж аттракционов в теории зрелища» («Eisenstein ultrateatral: movimento expressivo e montagem de atrações na teoria do espetáculo de Serguei Eisenstein»). Именно ей принадлежит инициатива проведения ежегодных семинаров об Эйзенштейне. На первом семинаре в 2014 году обсуждались изданные на португальском «Заметки ко “Всеобщей истории кино”» («Notas para uma História geral do cinema») Эйзенштейна, впервые напечатанные в 2012 году в «Киноведческих записках» и сразу переведенные на французский и английский язык. Семинар проходил еще четыре раза и был прерван в 2018 году в силу внешних причин. Но он представил миру многих бразильских ученых, исследующих постановки и теории Эйзенштейна на самом высоком академического уровне.
Скудость информации позволяет пока получать только очень разрозненные данные о других странах Южной Америки. В качестве некоторой компенсации можно вспомнить, что в 1998 году директор кинофестиваля в Вальпараисо (Чили) решил отметить столетие Эйзенштейна демонстрацией его фильмов и лекциями об Эйзенштейне, с которыми выступили восемь ученых: один немец и семь латиноамериканцев – из Аргентины, Боливии, Чили, Кубы, Перу и Уругвая. Этот единственный на континенте крупный праздник, посвященный юбилею художника, состоялся в канун нового, XXI века. Будем надеяться, что это был пролог к новым открытиям в теме «Эйзенштейн и Латинская Америка».
Перевод Наума Клеймана
Эйзенштейн для XXI века
/ Cборник статей /
Составитель Наум Клейман
Менеджер издания Марина Сидакова
Редакторы Наум Клейман, Антон Парамонов
Переводчики Наум Клейман, Сергей Костин, Наталья Рябчикова, Дарья Хитрова, Нина Цыркун
Корректор Антон Парамонов
Дизайн и макет Анастасия Орлова
Тексты и иллюстрации предоставлены фондом «Эйзенштейновский центр развития культуры»
1
По свидетельству Э. В. Тобак, ассистента Эйзенштейна по монтажу, единственная, не полностью смонтированная копия фильма «Бежин луг» была уничтожена по распоряжению тогдашнего руководителя кинематографии Б. З. Шумяцкого. Судя по воспоминаниям М. И. Ромма, на киностудии «Мосфильм» оставались негативные материалы «Бежина луга», которые погибли во время бомбежек Москвы нацистами осенью 1941 года.
2
Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1998. Т. 1. С. 304.
3
Там же. Т. 2. С. 340, 344.
4
Orozco J. C. An Autobiography [1945]. Mineola, 2001. P. 107.
5
Письмо, хранящееся в коллекции Джея Лейды в Нью-Йорке; цит. по: Bergan R. Eisenstein: A Life in Conflict. London, 1997. P. 294.
6
Orozco. An Autobiography. P. 157.
7
Шкловский В. Б. Литература и кинематограф. Берлин, 1923.
8
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 1. С. 165.
9
Цит. по: Муссинак Л. Избранное. М.: Искусство, 1981. С. 120.
10
Сергей Эйзенштейн – Леону Муссинаку, 15 октября 1928 года (Bibliothèque Nationale de France. Arts du Spectacle. Fonds Léon Moussinac. 4° COLIO. 35 (1)). В русском издании переписки Эйзенштейна и Муссинака в сборнике Муссинака «Избранное» это письмо не приведено. – Прим. пер.
11
Sadoul G. Le Cri devenu hymne / Les Lettres Françaises, 19th February 1948 (цит. по: Moussinac L. Serge Eisenstein. Paris: Seghers, 1964. P. 173).
12
Barbaro U. Serghei Eisenstein maestro d’arte /Servitù e grandezza del cinema. Roma: Editori Riuniti, 1962. P. 35.
13
Marc A. Écrire le cri. Sade, Bataille, Maïakovski. Paris: L’Ecarlate, 2000. P. 16.
14
Greimas A. J. Pour une théorie du discours poétique /Essais de sémiotique poétique. Paris: Larousse, 1972. P. 23.
15
Lessing G. E. Laocoon: An Essay upon the Limits of Painting and Poetry. London: Dent, 1930. P. 13.
16
Bataille G. Bouche [1930] / Documents. II. Paris: JeanMichel Place, 1991. P. 299 (цит. по: Зыгмонт А. Святая негативность: Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая. М.: Новое литературное обозрение, 2018).
17
Roelens N. «La bouche ouverte en peinture comme objet sémiotique: du cri au geste» / Parouty-David F., Zilberberg C. (eds.). Sémiotique et esthétique. Limoges: Presses Universitaires de Limoges, 2003. P. 381.
18
В русскоязычной киноведческой литературе с 1926 года Женщину-в-пенсне на Одесской лестнице (в исполнении актрисы Н. Полтавцевой) именуют Учительницей. Британский художник Фрэнсис Бэкон назвал персонаж живописной картины, навеянный этим образом, Няней (Nurse). Сопоставляя фильм с полотном Бэкона, Ада Аккерман в данной статье называет «няней» также типаж самого фильма. В переводе мы с согласия автора везде вернули персонажу фильма Эйзенштейна традиционное обозначение – Учительница, оставив «Няню» за персонажем картины Бэкона. – Прим. ред.
19
Quirito / Riddle J. E. A Complete Latin-English Dictionary. 4th edition. London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1844. P. 562.
20
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2006. Т. 2. C. 34–35.
21
Эйзенштейн С. М. Заметки ко «Всеобщей истории кино» / Киноведческие записки. 2012. № 100/101. C. 65.
22
«Доходил до крика и Эйзенштейн, но он делал это как диалектик, то есть совершал качественный скачок, вызывающий эволюцию целого» (Делёз Ж. Кино. М.: Ad Marginem, 2004. С. 104).
23
Lamoureux J. Cris et médiations entre les arts: de Lessing à Bacon / Protée. 2000. Vol. 28, № 3. P. 13–21.
24
Picon G. Le Cercle et le Cri /Sylvester D. (ed.). Francis Bacon. Paris: Centre Georges Pompidou, 1996. P. 274–275.
25
Sylvester D. Interviews with Francis Bacon. London: Thames and Hudson, 2016 [1975]. P. 57.
26
Sylvester. Interviews with Francis Bacon. P. 40.
27
Roelens. «La bouche ouverte en peinture comme objet sémiotique». P. 378.
28
Marin L. «Aux marges de la peinture: voir la voix». L’Écrit du Temps. 1988, № 17. P. 69.
29
Bouvard E. «Pablo Picasso. Francis Bacon. Eléments de chronologie» / Rosenberg P. (ed.). Poussin, Le Massacre des Innocents, Picasso, Bacon. Paris: Flammarion, 2017. P. 126. Бувар пишет, что Бэкон увидел «Броненосец “Потёмкин”» в Париже в 1927–1928 году, тогда как другие авторы утверждают, что это произошло позднее – в 1935-м (см., напр.: Sylvester D. Interviews with Francis Bacon. London: Thames and Hudson, 2016 [1975]. P. 288).
30
Sylvester. Interviews with Francis Bacon. P. 40.
31
Автограф Бэкона от 4 июня 1988 года (цит. по: Фрэнсис Бэкон. Живопись. Каталог выставки ЦДХ 23.09–05.11.1988 г. М.: 1988. С. 5).
32
Archimbaud M. Francis Bacon in conversation with Michel Archimbaud. London: Phaidon, 1993. P. 16.
33
Cappock M. Francis Bacon’s Studio. London, New York: 2005. P. 119.
34
Sylvester. Interviews with Francis Bacon. P. 40.
35
Ibid.
36
Bouvard É. «Poussin, Picasso, Bacon. Sur-réalité du Massacres des Innocents» /Poussin, Le Massacre des Innocents, Picasso, Bacon. P. 143.
37
Cappock. Francis Bacon’s Studio. P. 119.
38
Melville R. Francis Bacon /Horizon. December 1949 – January 1950. Vol. XX. № 120–121. P. 419–423.
39
Делёз Ж. Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения. СПб.: Machina, 2011. C. 37.
40
Там же. С. 42.
41
Там же. С. 4.
42
Там же. С. 43.
43
Там же. С. 34.
44
Там же. С. 72.
45
Там же. С. 73.
46
О жизни и карьере Адами см: Jacques Derrida J. «Extase, Crise» / Penser à ne pas voir, Écrits sur le visible, 1979–2004. Paris: La Différence, 2015. P. 204–205.
47
Adami V. Œuvres récentes et portraits, exh. cat. Marseille: Musée Cantini, 1977. P. 47.
48
Païni D., Adami V. «Le Cuirassé Potemkine» [1970–1971] / Art Press 2. Figuration Narrative. February/March/April 2009. P. 82.
49
Damisch H., Martin H. Adami. Paris: Maeght, 1974. P. 121.
50
Adami V. Dessiner: la gomme et les crayons. Paris: Galilée, 2002. P. 32.
51
Le Bot M. «La Découpe et le Vide» / Valerio Adami: Essai sur le formalisme critique. Paris: Gallilée. P. 97.
52
Mourey J.-P. Philosophies et pratiques du détail: Hegel, Ingres, Sade et quelques autres. Paris: Champ Vallon, 1996. P. 104.
53
Ibid. P. 89.
54
В своей статье о заметках ко «Всеобщей истории кино» Антонио Сомаини настаивает, что принцип, согласно которому они организованы, является не чем иным, как принципом монтажа. См.: Somaini A. Cinema as “Dynamic Mummification”, History as Montage: Eisenstein’s Media Archaeology / Kleiman N., Somaini A. (eds.). Sergei M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016. P. 19–105. (См. также: Сомаини А. Возможности кино: история как монтаж в заметках Сергея Эйзенштейна ко «Всеобщей истории кино» / Киноведческие записки. 2011/2012. № 100/101. C. 108–129. – Прим. пер.)
55
Неполный текст книги был впервые напечатан в: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 2. На него и даны ссылки в этой статье. Полный текст вышел в свет гораздо позднее: Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. См. также основополагающее исследование Жака Омона «Монтаж Эйзенштейна»: Aumont J. Montage Eisenstein. Bloomington: Indiana University Press, 1987. P. 170–184. Омон описывает работы Эйзенштейна между 1937 и 1940 годами как «одну из самых мощных и концентрированных стадий мышления» (p. 170) и называет «Монтаж» (1937) «возможно, самым чисто теоретическим текстом, когда-либо написанным Эйзенштейном… самым основополагающим» (p. 184). Мое эссе в значительной степени обязано исследованию Омона – в сущности, оно может быть понято как повторение его утверждения о том, что «оппозиция, которую [Эйзенштейн] поддерживал между “изображением” и “абстракцией”, не лишена собственной диалектической силы» (p. 175).
56
В дальнейшем я остановлюсь на обсуждении Эйзенштейном баррикады только на первом уровне, а именно однокадровой композиции. Стоит, однако, отметить, что этот пример также используется позже в главке под названием «Ритм», где композиция сцены на баррикаде обсуждается на трех уровнях: одиночный кадр, последовательность кадров и звукозрительная композиция.
57
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 347.
58
Там же. С. 343.
59
Там же. С. 347. «Врезается» в цитируемом отрывке выделено Эйзенштейном.
60
Шкловский В. Б. Искусство как прием. URL: http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html.
61
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 349.
62
См., однако, обсуждение динамизации вещей и связи между Эйзенштейном и формализмом в: Tafuri M. The Historicity of the Avant-Garde, in The Sphere and the Labyrinth: Avant-Gardes and Architecture from Piranesi to the 1970s. Cambridge, MA: MIT Press, 1987. P. 55–64. Юмористический пример собственного высказывания Эйзенштейна о Шкловском и формализме см. в разделе «Комическое» от 2 июля 1947 года в: Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002. Т. 2. С. 387–389.
63
Чтобы продолжить сравнение с формалистами, мы можем вспомнить, что Юрий Тынянов описал метаморфозу, которой подвергаются изображаемые предметы в этом типе динамической имманентности изображения в статье «Об основах кино», опубликованной в сборнике 1927 года «Поэтика кино»: «Выделение материала на фото ведет к единству каждого фото, к особой тесноте соотношения всех предметов или элементов одного предмета внутри фото. В результате этого внутреннего единства соотношение между предметами или внутри предмета – между его элементами – перераспределяется. Предметы деформируются» (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 335).
64
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 348.
65
Там же. С. 338.
66
Там же. С. 338, 339.
67
Там же. С. 342.
68
Там же.
69
Там же. С. 343, 344.
70
Ямпольский М. Б. Память Тиресия. М.: 1993. С. 378.
71
«Изображение изначально определяется как “графическая схема”, где “схема”, как отмечает Эйзенштейн, понимается в смысле “изображения”, а не “схематизма”; независимо от своей материальной формы, изображение своей композицией и конструкцией должно создавать схему, в дополнение к воспроизведению реального. Схему чего? Того, что “определяет психологическое содержание сцены и взаимодействия действующих лиц; другими словами, толкование этого содержания”» (Aumont. Montage Eisenstein. P. 176). См.: Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 342.
72
Эйзенштейн делает различие между двумя видами мимесиса, подражания в своем выступлении в замке Ла Сарраз, «Подражание как овладение» (1929). Русский перевод с оригинала, написанного по-немецки: Эйзенштейн С. М. Мысли к конгрессу в Сарразе / Киноведческие записки, 1998/1999, № 36/37. С. 49–53.
73
Ямпольский. Память Тиресия. C. 380.
74
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 387.
75
Там же. С. 354. (Выделено Эйзенштейном.)
76
Aumont. Montage Eisenstein. P. 158.
77
См., например, его использование вырезки из газеты Newsweek в заметках под заголовком «Динамическая мумификация»: Kleiman, Somaini. Sergei M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema. P. 124. (Эта вырезка не включена в русскоязычную публикацию этих заметок: Эйзенштейн. Заметки ко «Всеобщей истории кино». – Прим. пер.)
78
Так, он выводит необходимость кинематографа из общей гипотезы антропологической конечности, то есть вечным является стремление человека к вечности (Эйзенштейн. Заметки ко «Всеобщей истории кино». C. 75).
79
См. утверждение типа «С нуля начинается кино» в заметке «Наследник» (Эйзенштейн С. М. Материалы к «Истории кино» / Киноведческие записки. 1995. № 28. С. 115). Остранение можно также найти, например, в странном подзаголовке одного из разделов в записи от 28 декабря 1947 года, где Эйзенштейн делает прыжок «От дионисий к телевидению» (Там же. С. 80). Эта идея, которая устанавливает преемственность – если не прямое совпадение – между культовой общностью и восприятием телевидения, связывая в одном тексте два исторически отдаленных явления, вновь появляется в разделе «Übergang zum Television» [«Переход к телевидению»] в заметках под общим заголовком «Похвала кинохронике» (Эйзенштейн С. М. Похвала кинохронике / Киноведческие записки. 1997/1998. № 36/37. С. 104).
80
Оливье Лугон исследовал недавно это развитие и отмечал, что новый тип выставки стал одним из видов масс медиа модернизма наряду с радио и газетой (Lugon O. Dynamic Path of Thought. Exhibition Design, Photography and Circulation in the Work of Herbert Bayer. Cinema Beyond Film /Albera F., Tortjada M. (eds.). Media Epistemology in the Modern Era. Amsterdam: Amsterdam University Press 2010. P. 117–144).
81
Любопытно, что Фредрик Джемисон описал его работу при помощи метафоры археологического музея, позволяющего зрителям свободно перемещаться в пространстве Клюге (Jameson F. Marx and Montage / New Left Review. July–August 2009. № 58. URL: http://www.newleftreview.org/?page=article&view=2793).
82
См.: Appadurai A. (ed.). The Social Life of Things. Cambridge:Cambridge University Press, 2011; Brown B. A Sense of Things: The Object Matter of American Literature. Chicago: University of Chicago Press, 2003; Latour B. Reassembling the social: an introduction to actor-networktheory. Oxford: Oxford University Press, 2005; Stiegler B. Technics and Time. 2 vol. Stanford: Stanford University Press, 1998; Trentmann F. Empire of Things. How we became a world of consumers from the fifteenth century to the twentyfirst. London: Allen Lane, 2015.
83
Devin F. Operative Word in Soviet Factography / October. 2006. № 118. P. 95–131.
84
Эйзенштейн С. М. Режиссерские заметки к работе над фильмом / РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 2.
85
Третьяков С. М. Кино к Юбилею / Новый ЛЕФ. 10 (1927). С. 29.
86
Эйзенштейн С. М. Дневник / РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1105. Л. 75.
87
Стенограммы лекции в ГИКе, 25 октября 1933 г. / Государственный архив искусства Грузии, Тифлис. Частный архив Константина Пипинашвили. Ф. 218. Оп. 1. Ед. хр. 9. Лл. 7–10.
88
Стенограммы лекции в ГИКе, 25 октября 1933 г. Л. 1.
89
Эйзенштейн С. М. В боях за Октябрь / Красный Эйзенштейн. Статьи о политике. М.: Common place, 2017. С. 45.
90
Отрывки из дневника напечатаны в статье: Красовский Ю. Как создавался фильм «Октябрь» / Из истории кино. Вып. 6. М.: Искусство, 1965. С. 40–62, С. 47. «Мюр и Мерилиз» – самый большой универмаг Москвы, основанный шотландцами Арчибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром. В 1892 году он переехал в здание рядом с Большим театром и в 1922 году был переименован в ЦУМ.
91
Шкловский В. Б. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985. С. 115–116. (Курсив мой.)
92
Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1973. C. 152–155. Однако Шкловский вернулся к вещам «Октября» гораздо раньше. В рецензии на фильм учеников Эйзенштейна, Сергея и Георгия Васильевых, «Чапаев» Шкловский обнаруживает следы эйзенштейновского обращения с вещами в сцене демонстрации тактики боя при помощи картофелин, яблок и трубки: «В “Чапаеве” есть вещи. И “Чапаев” во многом происходит от “Октября” Эйзенштейна, ленты, которая оказалась художественно гораздо более плодотворной, чем “Броненосец “Потёмкин”. Но в “Чапаеве” вещи передают отношения между людьми, а не заменяют людей. “Октябрь” была бальзаковской лентой. Зимний дворец оказался заселенным не столько юнкерами, сколько статуями и слонами. Революция была направлена как будто против вещей. <…> То, что в эйзенштейновской кинематографии было презрением к сюжету, а следовательно, только пародированием сюжета, стало новым сюжетом». «Литературная газета», № 23 (514) от 24 апреля 1935 г., перепечатана с дополнениями под названием «О “Чапаеве” еще раз». – Шкловский. За 60 лет. C. 162–176.
93
Friedberg А. Window Shopping. Cinema and the Postmodern. Berkeley: University of California Press, 1993. P. 77.
94
Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1998. Т. 1. С. 75.
95
Подобную развеску можно увидеть и в интерьере футуристической выставки 1915 года, и в интерьере традиционной выставки АХХР 1926 года, и даже в частном пространстве – квартире Малевича.
96
Красовский. Как создавался фильм «Октябрь». С. 47.
97
Eisenstein S. Die Methode. Berlin: PotemkinPress, 2009. Vol. 2. S. 595.
98
Wundt W. Elemente der Völkerpsychologie. Leipzig, Alfred Kröner Verlag, 1912. Издание было переведено Н. Самсоновым в том же году на русский язык как «Проблемы психологии народов»; книга была переиздана в 1926 году, но на экземпляре в библиотеке Эйзенштейна стоит пометка о покупке книги: «21.02.1933». В личной библиотеке Эйзенштейна находилась и книга Эрнста Кречмера (Kretschmer E. Die medizinische Psychologie. Leipzig, Alfred Kröner Verlag, 1922) русского издания 1927 года: Кречмер Э. Медицинская психология. М.: Жизнь и знание, 1927.
99
Для демонстрации, что такое сгущение, Кречмер пользовался примером, который приводил в своей книге Вундт, и именно этим примером пользовался Эйзенштейн: «В. Вундт приводит в Elemente der Volkerpsychologie образцы того, как в ранних формах речевого строя излагаются привычные для нас обороты речи и изложения (нас здесь нe интересуют воззрения самого Вундта, а лишь приводимый им достаточно достоверный, документальный образец). Мысль: “Бушмен был сначала дружески принят белым, чтобы он пас его овцу: затем белый избил бушмена, и тот убежал от него”. Эта простая мысль (и ситуация слишком простая в условиях колониальных нравов!) на бушменском языке получает приблизительно следующую форму. “Бушмен – там – идти; здесь – бежать – к белому; белый – давать – табак; бушмен – идти – курить; идти – наполнять – табак – мешок; белый – давать – мясо – бушмен; бушмен – идти – есть – мясо; встать – идти – домой; идти – весело, идти – стать; пасти – овца – белого; белый – идти – бить – бушмена; бушмен – кричать – очень – боль; бушмен – идти – бежать – прочь белого; белый – бежать – за бушменом…” Нас поражает этот длинный ряд наглядных единичных образов, близких к асинтаксическому ряду. Но если только мы вздумаем представить в действии на сцене или на экране те две строчки ситуации, которую заключила исходная мысль, мы, к своему удивлению, увидим, что мы начнем строчить нечто очень близкое к тому, что дано как образец бушменского построения. И это нечто, столь же асинтаксическое, но лишь снабженное… порядковыми номерами, окажется всем нам хорошо известным… монтажным листом». Eisenstein. Die Methode. Vol. 2. S. 363.
100
Eisenstein. Die Methode. Vol. 2. S. 573.
101
Фильм воспринимали в 1993 году как пародию на провалившуюся попытку Московского путча.
102
Эйзенштейн С. М. Об игре предметов [1925] / Киноведческие записки. 1997/1998. № 37/38. С. 34–36.
103
Ее русский перевод под названием «Драматургия киноформы» опубликован в: Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. С. 517–533. Илл. на с. 526.
104
Bulgakowa O. Schrift als Bild: Vasilij Kamenskij’s Konstantinopel (1914) / MuenzKoenen I., Fetscher J. (eds.). Pictogrammatica. Die visuelle Organisation der Sinne in den Medienavantgarden (1900–1938). Bielefeld: Aisthesis, 2006. P. 89–112.
105
Lugon. Dynamic Path of Thought. P. 126. Бауэр также использовал потолок и пол для экспозиции и работал с большими и малыми форматами для немецкого павильона на Выставке декоративных искусств в Париже в 1930 году.
106
Kracauer S. Photographisches Berlin / Schriften. 1990. Vol. 5.4. P. 169.
107
Эту практику недавно проанализировал Майкл Коэн. Cowan M. Walter Ruttmann and the Cinema of Multiplicity: Avant-Garde – Advertising – Modernity. Amsterdam: Amsterdam University Press, Film Cultures in Transition Series, 2014.
108
Cowan M. Taking it to the street / Screen 54:4. Winter 2013. P. 466.
109
Lissitzky-Küppers S. El Lissitzky, Maler, Architekt, Typograf, Fotograf; Erinnerungen, Briefe, Schriften. Dresden: VEB Verlag der Kunst 1976. P. 85.
110
Carroll N. Interpreting the Moving Image. Cambridge: Cambridge University Press 1998. P. 80–91; Bordwell D. The Cinema of Eisenstein. Cambridge: Harvard University Press, 1993. P. 92, 93.
111
Эйзенштейн. Об игре предметов. С. 35.
112
Современная «теория вещи» (Билл Браун) опять исследует, как неодушевленные объекты определяют одушевленные и формируют/деформируют их отношения, что может быть рассмотрено как реакция на развитие культуры и ее теорий, переводящих материальный мир в знак, символ, дискурс или – аффект. См. сноску 3.
113
Третьяков С. М. Биография вещи // Чужак Н. (ред.). Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: 1929, Федерация (репринт – М.: Захаров, 2000). С. 72.
114
Это является одной и отправных точке позднего теоретического проекта Эйзенштейна «Метод». См.: Булгакова О. Теория как утопический проект / Новое литературное обозрение. 2008. № 88. С. 39–79.
115
Roh F. Die Ausstellung von heute / Das neue Frankfurt. 1930. № 4. Эти идеи были высказаны в то время многими современниками. Ср.: Petry W. Die Ausstellungspraxis / Das Kunstblatt. 1929. Nr. 13 (reprinted in Eskildsen U., Horak J.-C. (eds.). “Film und Foto” der zwanziger Jahre. Eine Betrachtung der Internationalen Werkbundausstellung. Stuttgart: Württembergischer Kunstverein, 1979. S. 102.
116
Lugon. Dynamic Path of Thought. P. 128, 133, 134.
117
Cowan. Walter Ruttmann and the Cinema of Multiplicity. P. 55–108.
118
Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука, 1976.
119
Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Знак, 2009. Т. 4.
120
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1143. Лл. 75, 76. Эйзенштейн, к сожалению, не указывает, когда эта встреча произошла, но, по сопоставлению с другими архивными данными, не позднее 1925 года.
121
Фёрингер М. Авангард и психотехника. Наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
122
Эйзенштейн С. М. Роден и Рильке / Неравнодушная природа. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2006. Т. 2. С. 535.
123
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 2405. Л. 1.
124
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 2405. Лл. 20, 21.
125
Toropova A. Probing the Heart and Mind of the Viewer: Scientific Studies of Film and Theater Spectators in the Soviet Union, 1917–1936 / Slavic Review. 2017. № 76 (4). P. 931–58; Zhdan A. Art history and psychology at RAKhN: an experiment in collaboration / Experiment. Vol. 3 (1). P. 69–75.
126
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 2405. Лл. 24, 25.
127
Мунипов В. М., Шпильрейн И. Н. Выготский Л. С. и Геллерштейн С. Г. – создатели научной школы психотехники в СССР / Культурно-историческая психология. 2006. № 4. Т. 2. С. 85–109.
128
Мунипов В. М. Основатель психотехники Г. Мюнстерберг — предтеча Л. С. Выготского в методологии психологического познания / Культурно-историческая психология. 2005. № 2. Т. 1. С. 48–62.
129
Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса / Собрание сочинений. В 6 т. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 406.
130
Пузырей А. А. Психология. Психотехника. Психагогика. М.: Смысл, 2005. С. 87.
131
Роза Абрамовна Авербух была коллегой Лурии по психоаналитическому обществу, начиная с их совместной работы в Казани.
132
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 1456.
133
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 793. Л. 27.
134
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1107. Л. 4. Эйзенштейн имеет в виду станцию Астапово, на которой Л. Н. Толстой провел последние дни своей жизни, борясь с пневмонией. Этому предшествовал уход Толстого из дома и посещение монастыря Оптина пустынь, места его регулярного паломничества.
135
Коновалов Д. Г. Психология сектантского экстаза / Богословский вестник. 1908. Т. 3, декабрь. С. 628.
136
Эткинд А. Толкование путешествий. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 89.
137
Didi-Huberman G., Invention de l’hystérie. Charcot et l’Iconographie photographique de la Salpêtrière (1982).
138
Шкловский В. Б. О поэзии и заумном языке / Гамбургский счет. Статьи – воспоминания – эссе. М.: Советский писатель, 1990. С. 45–58.
139
Эйзенштейн. Роден и Рильке. С. 525.
140
Там же. С. 526.
141
Там же. С. 528.
142
Там же.
143
Там же. С. 529.
144
Там же.
145
Там же. С. 530.
146
Там же.
147
Там же.
148
Пузырей. Психология. Психотехника. Психагогика. С. 87.
149
Хоружий С. С. Выготский, Флоренский и исихазм в проблеме формирования современной антропологической модели / Антропологические матрицы ХХ века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог. Приглашение к диалогу. М.: Прогресс Традиция, 2007. С. 115.
150
Там же. С. 117.
151
Там же. С. 134, 135.
152
Джулия Бекман Чадага охарактеризовала «Стеклянный дом» как «мечту (сон?) и кошмар», в котором утопические надежды на строительство из стекла и на прозрачные социальные образования наполнены антиутопическим содержанием. См.: Bekman Chadaga J. Optical Play: Glass, Vision, and Spectacle in Russian Culture. Evanston: Northwestern University Press, 2014. P. 154. Михаил Ямпольский также прокомментировал мифологическую ценность стекла как материала – как, в частности, для Эйзенштейна, так и в рамках современной европейской культурной традиции, из которой вытекает его эстетика. См.: Ямпольский М. Мифология стекла в новоевропейской культуре / Советское искусство. 1988. Вып. 24. С. 314–348.
153
Бо́льшая часть этих заметок находится в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), в рабочей тетради Эйзенштейна, посвященной «Стеклянному дому»: Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 162. Однако многие дополнительные заметки о замысле находятся в дневниках Эйзенштейна того же времени (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1103–1115). Впервые материалы этого замысла были напечатаны в журнале «Искусство кино» (1979. № 3. С. 94–113).
154
Цит. по изданию: Eder J. M. History of Photography. New York: Columbia University Press, 1945.
155
См.: Eder. History of Photography. P. 37; а также изд.: Nicholas J., Finger W., Finger S. The Eye as an Optical Instrument: From Camera Obscura to Helmholtz’s Perspective, Perception / October. 2001. Vol. 30 (10). P. 1159. Гипотезы о предках камеры-обскуры в контексте археоптики см.: First Light: Inside the Palaeolithic camera obscura / Kanaire A., Wallace M. Acts of Seeing: Artists, Scientists and the History of the Visual. London: Zidane, 2009.
156
См.: Wade N. A Natural History of Vision. Boston: Massachusets Institute of Technology, 1998. P. 25 и Wade N. Perception and Illusion. Dordrecht, Holland: Springer Science & Business Media, 2005. P. 9.
157
Ilardi V. Renaissance Vision from Spectacles to Telescopes. Philadelphia: American Philosophical Society, 2007. P. 5, 8, 66.
158
Eder. History of Photography. P. 50.
159
Ilardi. Renaissance Vision from Spectacles to Telescopes. P. 220; Eder. History of Photography. P. 40.
160
См.: C. Lindberg D. C. Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. Chicago: University of Chicago Press, 1976. P. 185. Уэйд цитирует рекомендацию Барбаро для такого включения стекла в камеру: «…сделайте отверстие в оконной створке и установите в нем толстую линзу от очков старика (не тонкую линзу, предназначенную для молодого человека)…» См.: Wade. A Natural History of Vision. P. 27.
161
См.: Lindberg. Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. P. 203–206. Никлас Уэйд пишет, что с теорией Кеплера о световых эффектах на сетчатке «может быть полностью использована аналогия глаза и камеры (с линзой)». См.: Wade. Perception and Illusion. P. 14.
162
Задача такой «цели» состоит в том, чтобы создать реальное изображение (в котором «реальный» происходит от классического латинского rēs, или «вещь, материал») – изображение объекта.
163
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1114. Л. 55.
164
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1114. Л. 55. F:x означает «число f», или диафрагму, количество света, попадающего в объектив.
165
Высказывание Аристотеля цит. по: The Works of Aristotle. v. VII (Problemata). Oxford: The Clarendon Press, 1927. P. 911.
166
Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1998. Т. 1. С. 115.
167
Статья Аннетт Майклсон «Читая Эйзенштейна, читая “Капитал”» (Michelson А. Reading Eisenstein Reading Capital) была напечатана в нью-йоркском журнале October, № 2 (1976) и № 3 (1977), русский перевод см. в журнале «Киноведческие записки» (2020. № 112). Майклсон проводит данную аналогию в отношении реакции Эйзенштейна на работу Жана Эпштейна, но в автокомментарии к этому месту своей статьи указывает на его полемику с Вертовым.
168
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1104. Л. 41.
169
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 162. Лл. 11–18.
170
Из манифеста Дзиги Вертова «Киноки. Переворот» (1923). См.: Дзига Вертов. Из наследия. М.: Эйзенштейн-центр, 2008. С. 39.
171
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 1. С. 62.
172
Дэвид С. Линдберг отмечает, что да Винчи сыграл важную роль в проведении этой аналогии между физиологией глаза и камерой-обскурой. В отличие от Декарта, «Леонардо ни в коем случае не утверждает и не подразумевает, что сетчатка (или задняя поверхность глаза) является экраном, аналогичным задней части камеры, на которую проецируются изображения». См: Lindberg. Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. P. 164.
173
Цит. по: Crary J. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1992. P. 47. Можно спросить себя, что Эйзенштейн думал о почти идеально названном советском фильме 1928 года «Стеклянный глаз», созданном Лилей Брик и Виталием Жемчужным; фильм сам колебался в концептуальной трещине между Эйзенштейном и Вертовым, будучи по содержанию остроумной смесью тщательно смонтированных документальных кадров и сатирической мелодрамы, высмеивающей буржуазию. См. о фильме: Heftberger А. Stekliannyi Glaz (The Glass Eye) and Karmen: The Actress, Editor and Director Lilia Brik /Apparatus. Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe. 2018. № 6.
174
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1104. Л. 96.
175
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1104. Л. 24.
176
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1104. Л. 25.
177
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 162. Л. 20.
178
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 763. Лл. 37, 38. По-русски набросок впервые напечатан в журнале «Киноведческие записки» (1997/1998. № 36/37. C. 34–38).
179
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 763. Лл. 37, 38.
180
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2006. Т. 2. С. 328.
181
Chadaga. Optical Play. P. 154.
182
См. «Эль Греко и кино» в: Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. С. 450–452. См. также исследование «Пафос» (1946–1947) в указанном выше издании книги «Неравнодушная природа», где Эйзенштейн описывает, как объектив с фокусным расстоянием 28 мм позволил снимать «в манере Мантеньи» с подчеркнутой перспективой. Интересно сравнить это описание Эйзенштейна с его эскизом к «Стеклянному дому» (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1104. Л. 24), который показывает, как он рассчитывал построить некоторые кадры для низкой точки съемки, используя аналогичную перспективу в картине Андреа Мантеньи «Оплакивание Христа» (1480).
183
Bordwell. The Cinema of Eisenstein. P. 195.
184
Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 2. С. 288, 289.
185
Формозов А.А. О некоторых задачах и спорных проблемах в исследовании памятников первобытного искусства / Советская археология. 1979. № 3. С. 5.
186
Там же.
187
Вайсфельд И. Художник исследует законы искусства / Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 2. С. 24. Формозов анализировал то, как археология возникает в мышлении и произведениях деятелей русской культуры, не только в связи с Эйзенштейном. Он продолжал подобные исследования на примере Пушкина (Формозов А. А. Пушкин и древности: наблюдения археолога. М.: Языки славянской культуры, 2000).
188
Муссинак Л. Личность гения / Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М.: Искусство, 1974. С. 213. Этот текст цитирует также Формозов в вышеупомянутой статье.
189
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 1. С. 391.
190
Barna Y. The Growth of a Cinematic Genius. Boston: Little Brown and Co., 1973. P. 148.
191
Статья Tradition and Individual Talent цитируется по переводу А. Зверева (Томас Элиот. Избранное. М.: Терра – Книжный клуб, 2002. С. 208).
192
Kenner H. The Pound Era. Berkeley, Los Angeles: The University of California Press, 1971. P. 30.
193
Kühn H. Die Kunst der Primitiven. München: DelphinVerlag, 1923 (рус. изд.: Кюн Г. Искусство первобытных народов. Л.: ОГИЗ-ЛЕНИЗОГИЗ, 1933).
194
Вайсфельд. Художник исследует законы искусства. С. 24.
195
Kühn. Die Kunst der Primitiven. P. 182.
196
Leroi-Gourhan A. Les mains de Gargas. Essai pour une étude d’ensemble / Bulletin de la Société préhistorique francaise. 1967. Позднее эта статья в переводе Аннетт Майклсон появилась в журнале October. Стоит отметить, что Майклсон вместе с Розалиндой Краусс посещала доисторические пещеры.
197
Из наброска «Место кинематографа в общей системе истории искусств» от 03.01.1948, сделанного для проекта «Всеобщей истории кино». Впервые напечатан в журнале «Киноведческие записки» (1997/1998. № 36/37. С. 103). Английский перевод вошел в состав сборника: Sergei M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema. P. 245. (Курсив автора статьи.)
198
Somaini A. Cinema as “Dynamic Mummification”, History as Montage: Eisenstein’s Media Archaeology / Kleiman N., Somaini A. (eds.). Sergei M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016. P. 76. См. также в этом сборнике статью Антонио Сомаини на схожую тему.
199
Somaini. Cinema as “Dynamic Mummification”. P. 26.
200
Kühn. Die Kunst der Primitiven. P. 39. (Курсив мой.)
201
Kühn. Die Kunst der Primitiven. P. 34.
202
Цивьян Ю. На подступах к карпалистике. Движение и жест в литературе, искусстве и кино / М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 12.
203
Заметка от 7 ноября 1947 «Похвала кинохронике». Впервые напечатана в журнале «Киноведческие записки» (1997/1998. № 36/37. С. 104–112). См.: Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 2. С. 449, 450 (англ. издание: Sergei M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema. P. 225–236).
204
Breuil H. Monumental Art of Northern Europe from the Stone Age: I. The Norwegian Localities. Stockholm, 1938. P. 9.
205
Из выступления в Сорбонне 17.02.1930, запись которого была опубликована в журнале La Revue du cinema в апреле 1930-го (Eisenstein S. Les Principes du nouveau cinéma russe). Русский перевод приведенной цитаты см.: Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 1. С. 552.
206
Эйзенштейн С. М. Место кинематографа в общей системе истории искусств / Киноведческие записки. 1997/1998. № 36/37. С. 101.
207
Эйзенштейн. Место кинематографа в общей системе истории искусств. С. 100.
208
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 449.
209
Там же. С. 451.
210
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 2. С. 376.
211
В 1935 году Эйзенштейн писал: «Между тем в действительной практике есть всего лишь отдельные места в картине “Октябрь”, в которых имеются практические наметки на те возможности интеллектуального построения путем кино, которые тогда выявились как некоторая теоретически возможная разновидность». – Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 97.
212
Fletcher А. Allegory, The Theory of a Symbolic Mode. London: Ithaca, 1964. P. 278. В этом же издании на с. 368 находится высказывание Флетчера, приведенное тут в качестве эпиграфа.
213
Fletcher. Allegory, The Theory of a Symbolic Mode. P. 322, 323.
214
В своем экземпляре книги Флоренс Беккер Леннон «Жизнь Льюиса Кэрролла: Виктория в Зазеркалье» (The Life of Lewis Carroll, Victoria Through the Looking Glass. New York, 1945; на книге стоит дата приобретения: 11 июня 1946 г.) Эйзенштейн записал на полях: «Жизнь как шахматная доска в “Алисе”. Я использовал это, не зная “Алисы”, в гофманианской пьеске в 1920 году. Повторил в “МММ” и построил по этой схеме “Ивана”».
215
Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 1. С. 126.
216
Цит. по: Tolstoy V., Bibikova I., Cooke C. (eds.). Street Art of the Revolution. Festivals and Celebrations In Russia, 1918–1933. London, 1990. P. 137, 138.
217
См.: Kleberg L. Theater as Action: Soviet Russian Avant-Garde Aesthetics. London, 1993. P. 64, 65.
218
Кларк К. Петербург, горнило культурной революции. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 370.
219
Schwartz H. The Culture of the Copy. Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles. New York, 1996. P. 90.
220
Может показаться, что эти кадры с памятником как бы предвещают кадры эпизода венчания на царство в «Иване Грозном», на этот раз показывающие царя вполне живым и активным.
221
Этот памятник находился не в Петрограде, а рядом с храмом Христа Спасителя в Москве, таким образом его показ создает впечатление, словно революционные события в Москве предшествовали событиям, которые привели к свержению правительства Керенского в Петрограде. Этот начальный эпизод можно в какой-то мере рассматривать как внутренний диалог, ответ на сцены из предыдущих фильмов Эйзенштейна. Взять, например, рабочий класс и поражения и откаты народного движения в «Стачке» и «Броненосце “Потёмкине”». В обоих фильмах толпу уничтожают: в «Потёмкине» жители Одессы, симпатизирующие бунтовщикам на борту броненосца, попадают под стрельбу и знаменитые сапоги солдат, которые в одном из кадров сняты на фоне статуи, венчающей лестницу (она изображает губернатора Одессы по имени Ришелье). В «Октябре» толпа триумфально поднимается по лестнице, чтобы сместить «кумира» Александра III, что можно рассматривать как победоносное опровержение печальной судьбы толпы на Одесской лестнице. См. об этом в уже упоминавшейся книге Катерины Кларк.
222
Gross K. The Dream of the Moving Statue. London: Ithaca, 1992. P. 13.
223
Ibid. P. 50.
224
Владимир Нильсен, работавший ассистентом оператора на «Октябре», уделил целую главу своей книги «Изобразительное построение фильма» (1936), посвященной Эйзенштейну, экранизации эпизода с оживающей статуей в пушкинском «Медном всаднике».
225
Мари-Клод Ропар-Вюйемьер отмечала «реакционную» функцию статуй в фильме. См.: Tsivian Y. Eisenstein and Russian Symbolist Culture /Christie I., Taylor R. (eds.). Eisenstein Rediscovered. London – New York, 1993. P. 81.
226
См.: Попов Д. Фотоиконография С. М. Эйзенштейна как материал исследования творческой индивидуальности режиссера. [Дипломная работа]. М.: [ВГИК], 1985. С. 49–58.
227
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 111.
228
Там же. С. 111, 112.
229
Катерина Кларк в цитированной выше книге утверждает, что в конце 1920-х произошел переход от темпоральных предпочтений к пространственным, и вытекающая из этого перемена состояла в том, как пространство воспринималось и изображалось. Появляются новые культурные и художественные метафоры отчетливо горизонтального характера, которые найдут воплощение в массовых действах, а также в разработке архитектурно-пространственных решений.
230
Tsivian. Eisenstein and Russian Symbolist Culture. P. 85.
231
Read С. From Tsar to the Soviets: The Russian People and Their Revolution, 1917–1921. London, 1996. P. 174.
232
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 42, 43.
233
Там же. C. 44. Первый абзац в этой цитате и предшествующая ему цитата из доклада В. Молотова опущены при републикации статьи «Перспективы» во втором томе «Избранных произведений». См.: Эйзенштейн С. М. Перспективы / Искусство. 1929. № 1–2, С. 122. – Прим. пер.
234
См. сноску 3.
235
Harpham G. G. On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature. Princeton, 1982. P. 47.
236
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 106.
237
Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1998. Т. 1. С. 98, 99.
238
Там же. С. 99.
239
Там же.
240
Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. T. 1. С. 144.
241
Там же. С. 143.
242
Там же. С. 123.
243
Там же. С. 167.
244
Здесь под реалистическим понимается категория индексируемости, введенная Чарльзом Сандерсом Пирсом и представленная им как «знак реакции (a reactional sign), который таков в силу реальной связи с его объектом» (Peirce C. S. The Categories Defended / The Essential Peirce. Selected Philosophycal Writings. Vol. 2 (1893–1913). Bloomington. P. 160–178). О фотографичности см. также: Dubois P. L’Acte photographique. Paris–Bruxelles, 1983.
245
Подробнее о сложных взаимоотношениях абстрактного искусства и киноавангарда см: Costa A. Il cinema e le arti visive. Torino, 2002. P. 157–210.
246
См.: Michelson A. Reading Eisenstein. Reading Capital (part 2) / October. 1977. № 3. P. 82–89. Русский перевод статьи – в журнале «Киноведческие записки» (2020. № 112).
247
Costa A. Il cinema e le arti visive. Turin: Einaudi, 2002. P. 193.
248
Его первый теоретический манифест «Монтаж аттракционов» был напечатан в журнале «ЛЕФ» (1923. № 3. С. 70–75), написанная в 1924-м статья «Монтаж киноаттракционов» была подробно изложена в книге: Беленсон А. Кино сегодня. М.: 1925.
249
Вступительная статья О. Булгаковой – Bulgakowa O. Malevich in the Movies: Rubbery Kisses and Dynamic Sensation / Kazimir Malevich, The White Rectangle. Writes on Film. Berlin – San Francisco, 2002. P. 13, 14.
250
Малевич К. С. И ликуют лики на экране / Киножурнал АРК. 1925. № 10. С. 6–8 (цит. по: Казимир Малевич. Собрание сочинений. В 5 т. М.: Гилея. 1995. Т. 1. С. 293).
251
Эта статья, написанная Малевичем в 1928 году, вероятно, для журнала «Кино-фронт», была отвергнута как «совершенно неприемлемая» из-за «формального отношения к искусству». Ныне она опубликована в: Казимир Малевич. Собрание сочинений. Т. 5. С. 317–327.
252
Эйхенбаум Б. М. Проблемы киностилистики / Поэтика кино. Л.; М.: Кино-печать, 1927. С. 33.
253
Тынянов Ю. Н. Об основах кино / Поэтика кино. С. 65.
254
Например, Тынянов, объясняя свое понимание движения в кино, прибегает к понятию длительности, что сразу заставляет вспомнить понятие Бергсона durée.
255
Цит. по: Казимир Малевич. Собрание сочинений. Т. 1. С. 297. При первой публикации статьи редакция журнала дистанцировалась от позиции автора, особенно в вопросах абстрактного искусства.
256
Малевич К. С. Живописные законы в проблемах кино / Кино и культура. 1929. № 7–8. С. 22–26 (цит. по: Казимир Малевич. Собрание сочинений. Т. 1. С. 303). Еще один пример того, как журнал заявлял о несогласии со взглядами художника, несмотря на признание важности публикации его статьи.
257
Малевич. Живописные законы в проблемах кино.
258
Bulgakowa. Malevich in the Movies. P. 27.
259
«…наше сознание обнаруживает при этом способность два разобщенных явления сводить в обобщенный образ: две неподвижные фазы сводить в образ движения» (Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. С. 168). В этой цитате подчеркнута разница между изображением и образом – понятиями, которые часто используются Эйзенштейном: кадр на пленке представляет собой простое изображение, а монтажное взаимодействие кадров обусловливает образ, раскрывающий смысл сцены, и он рождается в восприятии зрителей.
260
Эйзенштейн. Монтаж. С. 158. См. комментарий к этому положению в статье: Somaini A. Cinématique, Cinématisme and “the Urphänomen of Cinema” / Beyer А., Cassegrain G. (eds.). Mouvement. Bewegung. Über die dynamischen Potenziale der Kunst. München, 2015. P. 203–216.
261
На эту тему см.: Petrie B. Boccioni and Bergson / The Burlington Magazine. 1974. № 852. P. 140–147.
262
Боччони поделился мыслями об этом с Джино Северини в письме от 11 января 1913. См.: Crispolti E. Storia e critica del Futurismo. Bari, 1986. P. 168.
263
Статья «Четвертое измерение в кино» (1929) цит. по: Эйзенштейн. Монтаж. С. 514.
264
Линия мышления Эйхенбаума несколько замысловата, она связывает «заумный» язык, определяемый как «биологическая основа» искусства, с этапом, когда отсутствует точное «значение», что будет представлять специфическую особенность фотографии. См.: Эйхенбаум. Проблемы киностилистики. С. 16–17.
265
См. статью «О художественном реализме» (1921) в: Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 387–391.
266
См. статью «От кубизма и футуризма к супрематизму» (1915) в: Казимир Малевич. Собрание сочинений. Т. 1. С. 35–55.
267
«Мысли к конгрессу в Сарразе» Эйзенштейна были впервые опубликованы в журнале «Киноведческие записки» (1997. № 36/37. С. 49–54).
268
Стенограмма выступления Эйзенштейна в Сорбонне была впервые напечатана в: Eisenstein S. Le principes du nouveau cinéma russe / La Revue du cinema. 1930. № 9. P. 16–27. Русский перевод см.: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 1. С. 552.
269
Статья Эйзенштейна «За кадром», написанная в феврале 1929-го, была впервые напечатана как послесловие к брошюре Н. Кауфмана «Японское кино» (М.: Теакинопечать, 1929) и неоднократно переиздавалась. Цит. по: Эйзенштейн. Монтаж. С. 493.
270
Yampolsky M. The essential bone structure. Mimesis in Eisenstein / Eisenstein Rediscovered. P. 177–188.
271
В связи с этой темой очень важен основополагающий текст «Мир как беспредметность», написанный Малевичем во время пребывания в Германии в 1927 году, на пике его расхождений с Эйзенштейном, и напечатанный Баухаузом по-немецки под названием Die Gegenstandslose Welt. В нем в частности Малевич подчеркивает, что супрематизм породил не новый мир чувств, а скорее совершенно новую форму представления о мире чувств. См.: Казимир Малевич. Собрание сочинений. Т. 2. С. 55–123.
272
Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1998. Т. 2. С. 60.
273
Там же. Т. 1. С. 336.
274
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 2. С. 113.
275
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2006. Т. 2. С. 472.
276
См.: Бурлюк Д., Кручёных А., Маяковский В., Хлебников В. Пощечина общественному вкусу. Декабрь 1912.
277
Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Т. 2. С. 400, 403.
278
См.: Эйзенштейн. Заметки ко «Всеобщей истории кино». С. 53–107. Более полный текст: Sergei M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema.
279
Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Т. 2. С. 400.
280
Там же. С. 401.
281
Nesbet А. Gogol, Belyi, Eisenstein / Russian Review. № 498; автограф: РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 250. Л. 1.
282
В диалектике, противопоставляющей части и целое, Михаил Ямпольский усматривает солипсистское автопроецирование Эйзейнштейна на действительность. «Я вижу в повороте, совершенном Эйзенштейном в “Неравнодушное природе” от диалектики противоположностей к диалектике погружения, способ уйти от решения проблемы pars pro toto в разработке теории художественного творчества и восприятия произведений искусства». См.: Iampolski M. Point – Pathos – Totality / Sergei M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema. P. 357–371.
283
Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Т. 2. С. 471, 472.
284
Там же. С. 470.
285
Высокая оценка древнекитайской живописи Эйзенштейном отразилась в главе «Пейзаж – воплощение космических концепций». См.: Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Т. 2. С. 459–470.
286
Там же. С. 470.
287
Там же. С. 473.
288
Там же. С. 474.
289
Там же.
290
Там же. С. 474, 475.
291
Там же. С. 475.
292
Там же.
293
Там же. С. 485.
294
Там же.
295
Там же. С. 394.
296
Там же. С. 477.
297
Там же. С. 478.
298
Цит. по: Masha Salazkina / Excess: Sergei Eisenstein’s Mexico. Chicago: University of Chicago Press, 2009. P. 98.
299
Ibid. P. 91.
300
Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Т. 2. С. 475.
301
Там же. С. 480.
302
Там же. С. 376.
303
Там же. С. 487.
304
Там же. С. 490.
305
Там же. С. 490, 491.
306
Там же. С. 492.
307
Этот текст является частью большого эссе: Olenina Н. А. The Junctures of Children’s Psychology and Soviet Avant-garde Film: Representations, Influences, Applications / Voronina O. (ed.). The Brill Companion to Soviet Children’s Literature and Film. Leiden: Brill Press, 2019. P. 73–99. Благодарим Brill Press за разрешение издать его перевод.
308
Балашов Е. М. Педология в России в первой трети XX века. СПб.: 2012. С. 7, 43, 44.
309
Цит. по: Эткинд А. М. Общественная атмосфера и индивидуальный путь ученого: опыт прикладной психологии 20-х годов / Вопросы психологии. 1990. № 5. С. 15.
310
Балашов. Педология в России в первой трети XX века. С. 20, 21; Valsiner J. Developmental Psychology in the Soviet Union. Bloomington, 1988; Эткинд А. М. Эрос невозможного: история психоанализа в России. СПб.: 1993; Pietikäinen P. The New Soviet Man: Psychoanalysis andthe Conquest of the Unconscious in the Early Days of the Soviet Union / Alchemists of Human Nature: Psychological Utopianism in Gross, Jung, Reich, and Fromm. New York, 2016. P. 31–45.
311
О показе педологической лаборатории в фильме Всеволода Пудовкина «Механика головного мозга» см.: Olenina. The Junctures of Children’s Psychology and Soviet Avant-garde Film.
312
См.: Гельмонт A. M. Изучение влияния кино на детей / Кино и культура. 1929. № 4. С. 38–46. Некоторые педологические статьи о детской аудитории 1920–1930-х, в том числе «Изучение детского отношения к кинематографической картине» Н. И. Жинкина, «Изучение детского кинозрителя» А. М. Гельмонта, «Кино и наша молодежь: на основе данных педологии» В. А. Правдолюбова, включены Ю.У. Фохт-Бабушкиным в антологию «Публика кино в России: социологические свидетельства 1910–1930-х гг.» (М.: Канон-Плюс, 2013). Последовательный анализ подходов к изучению зрителей см.: Toropova A. Probing the Heart and Mind of the Viewer. P. 76.
313
Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. С. 533.
314
Bulgakowa O. From Expressive Movement to the «Basic Problem» / Yasnitsky A., Veer R., Ferrari M. (eds.). The Cambridge Handbook of Cultural-Historical Psychology. Cambridge, 2014. P. 431. Булгакова проводит подробный анализ взглядов Эйзенштейна на исследования Левина.
315
Bulgakowa. From Expressive Movement to the «Basic Problem». P. 431.
316
О причастности Эйзенштейна к идеям Выготского и Лурии см. исследования Юлии Васильевой, в том числе ее статью в этом сборнике.
317
Эйзенштейн С. М. Как делается пафос? (1929) / РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 793.
318
Дернова-Ярмоленко А. Рефлексологический подход в педагогике. Л.: 1925. С. 6. О Бехтеровской школе детской психологии см.: Byford A. V. M. Bekhterev In Russian Child Science, 1900s–1920s: “Objective Psychology”/”Reflexology” As A Scientific Movement /Journal of the History of the Behavioral Sciences. 2016, № 52.2. P. 99–123.
319
Byford. V. M. Bekhterev In Russian Child Science. С. 7.
320
Цит. по: Эйзенштейн. Как делается пафос? Л. 35.
321
Дернова-Ярмоленко А. Рефлексологический подход в педагогике. Л.:, 1925. P. 134.
322
Эйзенштейн. Как делается пафос? Л. 36.
323
Там же. Л. 34.
324
Там же. Л. 41.
325
Там же. Лл. 37–51.
326
Bulgakowa O. Sergei Eisenstein: a biography. Berlin, 2001. P. 86.
327
Ibid. P. 168. Спорная теория языка Марра постулировала сходство между так называемыми «яфетическими» языками, которые предположительно использовали культурно угнетенные этнические меньшинства, такие как баски, и низшие социальные классы, такие как римский плебс. «Учение Марра» было поначалу официально одобрено партией и, подобно рефлексологии Павлова, стало догмой, критика которой вела к судебному преследованию. В 1950-е годы оно был ликвидировано как «лженаука» (Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и Марризм. М.: 1991).
328
Bulgakowa. Sergei Eisenstein. P. 170.
329
Ibid.
330
Bulgakowa. From Expressive Movement to the «Basic Problem». P. 426.
331
Эйзенштейн. Монтаж. С. 495.
332
Там же. С. 495. Вячеслав Всеволодович Иванов рассматривал интерпретацию Эйзенштейном непропорциональных объектов в этом детском рисунке со ссылкой на теорию «обратной перспективы» (Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1. С. 212).
333
Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 3 «История развития высших психических функций». М.: Педагогика, 1983. С. 186.
334
Там же. С. 187.
335
Там же. С. 186.
336
Там же.
337
Там же. С. 188, 190.
338
Эйзенштейн. Монтаж. С. 115.
339
Выготский. Собрание сочинений. Т. 3. С. 186.
340
Эйзенштейн С. М., Доброгаев С. М. Переписка 1928 года / Архив РАН. Ф. 829. Оп. 2. Ед. хр. 41.
341
Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: обезьяна, примитив, ребёнок. М.: Педагогика-Пресс, 1993.
342
King H. Lost in Translation: Orientalism, Cinema, and the Enigmatic Signifier. Durham: 2010. P. 37.
343
Seton M. Sergei M. Eisenstein: A Biography. New York, 1952. P. 353.
344
Клейман Н. Эйзенштейн, «Бежин луг» (первый вариант): культурно-мифологические аспекты / Киноведческие записки. 1999. № 41. С. 93.
345
Нусинова Н. «Теперь ты наша»: ребенок в советском кино 1920–1930-х годов / Искусство кино. 2003. № 12. Наталья Нусинова отмечает, что тема бунта детей против родителей определяла сюжет многочисленных постановок в этот период, в частности, таких как «В город входить нельзя» (1929) и «Дочь партизана» (1934).
346
Seton. Sergei M. Eisenstein: A Biography. P. 353.
347
Забродин В. К истории постановки «Бежина луга»: монтаж документов / Киноведческие записки. 2008. № 87. С. 270. По другой версии, сам Эйзенштейн решил сделать «второй вариант» фильма на «более простом, менее трагическом уровне, специально рассчитанном для детей». См.: Seton. Sergei M. Eisenstein: A Biography. P. 358.
348
Клейман. Эйзенштейн «Бежин луг» (первый вариант). С. 96. См. также: Bulgakowa. From Expressive Movement to the «Basic Problem». P. 445.
349
Клейман. Эйзенштейн, «Бежин луг» (первый вариант). С. 99.
350
Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 1. С. 88.
351
Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т.1. С. 212.
352
Выготский, Лурия. Этюды по истории поведения: обезьяна, примитив, ребёнок. С. 133.
353
Там же. С. 136. Понятие «эйдетической» памяти относится к недифференцированному восприятию мира маленьким ребенком до того, как он овладеет визуальным анализом, — это своеобразное восприятие, в котором доминируют первичные сенсорные модальности прикосновения и вкуса, которые смешиваются, создавая текучий сенсорный опыт. Пример влияния «эйдетической» памяти виден в детских играх, где изображения (картинки, игрушки и т. п.), которыми они пользовались в какой-то момент жизни, кажутся им «реальными», как физические объекты.
354
Об истории киноматериалов «Бежина луга» см.: Клейман. Эйзенштейн, «Бежин луг» (первый вариант). С. 88.
355
Цит. по: Seton. Sergei M. Eisenstein: A Biography. P. 354. Размышления Эйзенштейна об использовании детали французскими импрессионистами и японскими художниками укиё-э для «лаконичной передачи» атмосферы см.: Эйзенштейн С.М. Литература и кино, раздел «Об образности». Публикация в журнале «Вопросы литературы», 1968, № 1. С. 93–98.
356
Seton. Sergei M. Eisenstein: A Biography. P. 354.
357
Это сравнение использовал Виктор Шкловский, который смотрел первый (авторский) вариант фильма. См.: Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1976. С. 107.
358
В фильме Эйзенштейна отец стреляет в своего сына, хотя официальной версией убийства Павлика была его смерть от порезов, нанесенных его дедом и двоюродным братом. См.: Kelly С. Comrade Pavlik: The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero. London, 2005.
359
Забродин. К истории постановки «Бежина луга»: монтаж документов. С. 243.
360
Залкинд А. Б. Педология в СССР. М.: Работник просвещения», 1929. С. 14.
361
Lary N. M., Eisenstein and Shakespeare / Eisenstein Rediscovered. P. 140–150.
362
Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 1. С. 130.
363
Там же. С. 167.
364
Там же. С. 323.
365
Там же. С. 87.
366
Там же. С. 275.
367
Там же. С. 87.
368
Там же. С. 82.
369
Выготский Л.С. Психология искусства. Издание второе. М: Искусство, 1968. С. 238.
370
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 432, 433.
371
Там же. С. 433.
372
Там же. Т. 2.
373
Там же. Т. 1. С. 160. Цитата из брошюры Фридриха Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» (часть II).
374
Там же. С. 168. См. оригинальный текст К. Сперджен в новом изд.: Spurgeon C. Shakespeare’s Imagery and What It Tells Us. Boston: Beacon Press, 1958. P. 59.
375
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. С. 160.
376
Spurgeon. Shakespeare’s Imagery and What It Tells Us. P. 51, 52.
377
Гвоздев А. Новая победа советского кино («Броненосец “Потёмкин”» и «Театральный “Октябрь”») / Жизнь искусства. 1926. № 4. С. 7, 8.
378
Виктор Шкловский в статье «Конец барокко. Письмо Эйзенштейну» писал, обращаясь к Эйзенштейну: «А Ваше восстание посуды в “Октябре”?! Изумительнейшая война с вещами в Зимнем дворце. Трудно было воевать с посудой, с вещами». Цит. по: Шкловский В. Б. За сорок лет. М.: Искусство, 1965. С. 119.
379
Warshow R. The Immediate Experience: Movies, Comics, Theater, and Other Aspects of Popular Culture. Cambridge: Harvard University Press, 2002. Р. 242, 243.
380
Spurgeon. Shakespeare’s Imagery and What It Tells Us. P. 53, 54. (Цитаты из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» даны в переводе с английского Д. Л. Михаловского. – Прим. пер.)
381
Ibid. P. 56. (Цитата из стихотворения Уильяма Водсворта «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства» приведена в переводе В. Рогова по изд.: Водсворт У. Избранная лирика. М.: Радуга, 2001. – Прим. пер.)
382
Deleuze G. Nietzsche and Philosophy. London, Continuum, 1983. P. 16.
383
Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 2. С. 53.
384
Somaini A. Cinema as “Dynamic Mummification”, History as Montage: Eisenstein’s Media Archaeology / Kleiman N., Somaini A. (eds.). Sergei M. Eisenstein, Notes for a General History of Cinema. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016. P. 46.
385
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 509.
386
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2006. Т. 2. С. 495.
387
Там же. С. 496.
388
Там же. Т. 1. С. 253.
389
Гегель Ф. Предисловие. III. Философское познание. 3. Познание в понятиях. / Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992.
390
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 495.
391
Эйзенштейн С. М. YO. Мемуары. В 2 т. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. Т. 2. С. 10–12.
392
Lyotard J.-F. Des dispositifs pulsionnels. Paris: UGE, 1973. P. 56.
393
Aumont J. Rileggere Eisenstein / Eisenstein S. Il montaggio. Venice: Marsilio, 1986. P. 21.
394
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 523.
395
Заметка Эйзенштейна к книге «Метод» цитируется по выступлению Н. Клеймана «Grundproblem и перипетии метода» на Эйзенштейновской конференции в Венеции в 1988 году,, перевод которого на итальянский язык см.: Montiani P. (dir.). Sergej Ejzenstejn: oltre il cinema. Venice: La Biennale di Venezia, 1991. P. 289.
396
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 496.
397
См.: Benjamin W. The Arcades Project. Cambridge: Harvard University Press, 1999. P. 10.
398
Chateau D. Dialectique ou antinomie? Commentpenser. Paris: L’Harmattan, 2012. P. 104.
399
Leutrat J.-L. Echos d’lvan le Terrible. L’eclair de l’art, les foudres du pouvoir. Bruxelles: De Boeck Universite, 2006. P. 124.
400
Tsivian Y. Ivan the Terrible. London, BFIPublishing, 2002. P. 47.
401
Как сделать детектив. М.: Радуга, 1990. C. 263.
402
Tsivian Y., Ivan the Terrible. London, BFIPublishing, 2002. P. 76.
403
Шкловский В. Б. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1973. С. 6.
404
Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 1. C. 346–347.
405
Эйзенштейн С. М. Литература и кино / Вопросы литературы. 1968, № 1. С. 107.
406
Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1998. Т. 1. С. 306.
407
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. С. 251.
408
Шкловский. Эйзенштейн. С. 252.
409
Там же. С. 268, 269.
410
Как сделать детектив. С. 54.
411
См.: Киноведческие записки. 1998. № 38. Специальный номер, посвященный «Ивану Грозному».
412
Этот самопровозглашенный «поэт-революционер» и мститель обществу стал одним из героев фильма Марселя Карне «Дети райка» (1945), который разочаровал Эйзенштейна мелодраматической трактовкой судьбы и личности восхищавшего его мима Жана-Батиста Дебюро.
413
Эйзенштейн. Мемуары. Т. 1. С. 98.
414
Эйзенштейн. Литература и кино. С. 108.
415
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 6. С. 203.
416
Там же. Т. 2. С. 107.
417
Как сделать детектив. С. 54. Утверждение Э. основано на книге Режиса Мессака «Детективный роман и влияние научной мысли» (Messac R. Le Detective Novel et l’influence de la pensée scientifique. Paris, 1929). Не исключено, что он читал цитируемое здесь вступление Дороти Сэйерс к детективной антологии, также вышедшей в 1929 г.
418
И Эйзенштейн, и Сэйерс могли позаимствовать ее из Мессака, книга которого указана и в обзорной статье о «сыщицком романе» в восьмом томе Литературной энциклопедии, вышедшем в 1934 году. В статье, идущей под заголовком «Пинкертоновщина» и подписанной П. Калецким, пассаж повторяется с минимальными вариациями: «Романтика прерий заменилась в связи с падением интереса к завоеванным и вымирающим индейцам романтикой городских трущоб» – Литературная энциклопедия. Т. 8. М., 1934. Cтлб. 645–649 (цит. по: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le8/le8–6451.htm).
419
Эйзенштейн. Избранные произведения. С. 305, 306.
420
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. С. 307.
421
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 3. С. 303–305.
422
Там же. С. 306.
423
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. С. 293.
424
Там же. С. 302, 303.
425
Там же. С. 308.
426
Эйзенштейн. Литература и кино. С. 107.
427
Эйзенштейн. Мемуары. Т. 1. С. 99.
428
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. С. 279.
429
Там же. С. 301.
430
Там же. С. 376.
431
Эйзенштейн. Мемуары. Т. 1. С. 98, 99.
432
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 3. С. 309.
433
См.: Там же. Т. 6. С. 364, 365.
434
Эйзенштейн. Мемуары. Т. 1. С. 99. Ср.: более поздняя концепция Умберто Эко в «Заметках на полях “Имени розы”» о «пространстве догадки» как особом виде лабиринта – ризоме. – Эко У. Имя розы. М.: Книжная палата, 1989. С. 425–467.
435
Эйзенштейн. Мемуары. Т. 1. С. 99.
436
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2006. Т. 1. С. 310.
437
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. C. 352.
438
Эйзенштейн С. М. О детективе / Приключенческий фильм: пути и поиски. М.: ВНИИК, 1980. С. 132.
439
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. С. 353, 371.
440
Cвязь образов Вотрена и Серафиты с замыслом образа Грозного и самоощущением Эйзенштейна хорошо показана Юрием Цивьяном (Tsivian Y. Ivan the Terrible. P. 63–65).
441
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 3. С. 306. Такой изоморфностью была отмечена личность исторического персонажа, интересовавшего Эйзенштейна, – Видока, «знаменитого французского сыщика, он в прошлом был главой шайки. Был французским Ванькой Каином, сам написал о своих приключениях» (Шкловский. Эйзенштейн. C. 291).
442
Не такая ли «романтика бегства» в самом ядре «Преступления и наказания»?
443
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. C. 381. (Выделено Эйзенштейном.)
444
Как сделать детектив. С. 51.
445
См. также post scriptum к статье на с. 330–335: Луис Элберт «Встречи с Эйзенштейном в бассейне реки Плата».
446
Limite (film). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Limite_ (film).
447
de Mello S. P. Peixoto escreveu artigo que atribuiu a Eisenstein / Folha de São Paulo. May 17, 1993. № 3. См. также: de Mello S. P. Introducção / de Mello S. P. (ed.). Mário Peixoto: Escritos sobre cinema. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2000. P. 11–41; de Mello S. P. Um filme da América do Sul / Mário Peixoto: Escritos sobre cinema. P. 155–203; цит. в статье: Wells S. A. Parallel Modernities? The First Reception of Soviet Cinema in Latin America / Navitski R., Poppe N. (eds.). Cosmopolitan Film Cultures in Latin America, 1896–1960. Bloomington: Indiana University Press, 2017. P. 175.
448
Wells. Parallel Modernities? P. 168, 169.
449
Andrade F. Limite: Memory in the Present Tense. URL: https://www.criterion.com/current/posts/4627-limite-memory-in-the-present-tense.
450
В то же время, необъяснимым образом, в разгар диктатуры в Бразилии состоялась выставка рисунков Эйзенштейна, в рамках которой прошли также показы «Александра Невского» и «Ивана Грозного». См.: Notari F. B. A Recepção do cinema de Serguêi M. Eisenstein no Brasil: um estudo de caso, os 115 desenhos de Serguêi M. Eisenstein (1973– 1974). URL: http://www.encontro2016.pr.anpuh.org/resources/anais/45/1468842077_ARQUIVO_NOTARI,Fabiola.115desenhosdeSME(XVANPUHPR).pdf.
451
Cine Cubano. 1977. № 93. P. 63.
452
Ibid. P. 58.
453
Avellar J. C. Le cinema sovietique muet et le novaue cinema brasilien / Influence du Cinema Sovietique, FIAF Symposium. Varna, 1977.
454
Wells. Parallel Modernities?; López A. Early Cinema and Modernity in Latin America /Cinema Journal. 2000. № 40 (1). P. 48–78.
455
Declaración del Grupo Minorista / Carteles. May 22, 1927. P.16, 25 (URL: http://www.cubaliteraria.com/monografia/grupo_minorista/declaracion.html). См. также: Ballester A. C. El Grupo Minorista y su tiempo. Havana: Editorial de Ciencias Sociales, 1978; Borges J. High Anxiety: Guillermo Cabrera Infante and Prerevolutionary Film Criticism in Cuba / Revista de Estudios Hispanicos. 2006. № 40. P. 341–360.
456
Carpentier A. Con el creador de “El Acorozado Potemkin” /Cine cubano. 1969. № 9. P. 92–95.
457
Ocampo V. Autobiografia III. Buenos Aires: Ediciones Fundación Victoria Ocampo, 2006. P. 191–198; Sur: Testimonios, 1920–1934. Buenos Aires: Ediciones Fundación Sur, 1981.
458
Wells. Parallel Modernities? P. 151–153.
459
Oubiña D. El noble experiment / Estudios Curatoriales. 2015. Año 3. № 4. URL: http://untref.edu.ar/rec/num4_ dossier_3.php.
460
Carpentier А. Carteles /Havana. October 7, 1928; вошло в сборник: Carpentier A. El cine, décima musa / Arias. 2011. P. 22, 23, цит. в: Wells. Parallel Modernities? P. 163.
461
Подробнее см.: Oubiña. El noble experiment.
462
Diario de la Marina. September 1, 1927. P. 9.
463
Smith Mesa V. A. Kinocuban: The Significance of Soviet and Eastern European Cinemas for the Cuban Moving Image [PhD thesis]. London: University College London, 2011. P. 54.
464
Diario de la Marina. P. 14.
465
Cruz F. P. Mella y la Revolución de Octubre, La Habana: Editorial Gente Nueva, 1980.
466
Mella J. A. «Octubre» / Cine cubano. 1969. № 9. P. 111, 112.
467
Ibid.
468
Pudovkin V. El actor en el film. Buenos Aires: Losange, 1955; Argumento y montaje: bases de un film. Buenos Aires: Editorial Futuro, 1956; Eisenstein S., Kosintsev G., Bleiman M. El arte de Charles Chaplin. Buenos Aires: Losange, 1956; Eisenstein S. et al.: El Oficio Cinematográfico. Buenos Aires: Futuro, 1957; Eisenstein S. La forma en el cine. Buenos Aires: Ediciones Losange, 1958; Pudovkin V. El actor de cine y el sistema de Stanislavsky. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 1957; Eisenstein S. Problemas de la composició ncinematográ fica. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 1957; Pudovkin V. La té cnica del cine y el actor en el film. Mé xico: Centro Universitario de Estudios Cinematográ ficos, 1960; важную роль сыграла также изданная в Испании книга: Nizhny V. Lecciones de cine de Eisenstein, Barcelona: Seix Barral, 1964.
469
См. интервью в Cine Cubano (1977, № 93. P. 44–65) или выступления латиноамериканских участников в сб.: Influence du Cinema Sovietique.
470
Xavier I. Sétima arte:Um culto modern. Rio de Janeiro: Editora Perspectiva, 1978. P. 125–130, 207.
471
См.: Cortes de Cámara /A Manhã. July 14, 1945. P. 6; Cortes de Cámara. July 18, 1946. P. 9; Cortes de Cámara. November 24, 1946. P. 6; Cortes de Cámara. July 27, 1947. P. 6; а также: Eisenstein e a teoria do cinema. URL: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/cinema/eisenstein-e-teoriado-cinema.
472
Bueno A. Vinicius de moraes e cinema / Cadernos de literatura comparada. 2015. № 6. P. 34, 35.
473
Tríptico na morte de Sergei Mikhailovitch Eisenstein. URL: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesiasavulsas/triptico-na-morte-desergei-mikhailovitch-eisenstein.
474
Тексты хранятся в личном архиве Алекса Виани в Музее современного искусства Рио-де-Жанейро (Acervo Pessoal Alex Viany / MAM-RJ, a6gdi18.17).
475
См. переписку Виани, собранную в его архиве, особенно ед. хр. cx004-0187. Подробнее о Виани см.: Arthur Autran A. Alex Viany: crítico e historiador. São Paulo: Perspectiva, 2003.
476
de Moraes V. Em sua crônica de hoje Vinicius de Morais comenta uma exibição privada a que assistiu na sala de projeção do Serviço de Divulgação da Prefeitura / A Manhã. March 25, 1943. P. 5. Цит. в: Mendes A. I. A crítica viva de Paulo Emilio [PhD thesis]. São Paolo: University of Sao Paolo, 2012. P. 63.
477
Mendes. A crítica viva de Paulo Emilio. P. 88.
478
Escorel E. O silêncio de Paulo Emílio, questões cinematográficas / Folha de S. Paulo. March 24, 2014. URL: http://piaui.folha.uol.com.br/questoescinematograficas/o-silenciode-paulo-emilio.
479
O Estado de São Paulo. January 2, 1962. Цит. по: Notari F. B. A recepção do cinema de Serguei M. Eisenstein no Brasil: um estudo de caso, a VI Bienal de São Paulo [1961] / VII Simpósio Nacional de História Cultural “história cultural: escritas, circulação, leituras e recepções”. P. 8.
480
O Estado de São Paulo. P. 10, 11.
481
Valdés-Rodríguez J. M. Letras: Rusia a los doce años / Revista de Avance. January 15, 1929. P. 152. Цит. в: Wells. Parallel Modernities? P. 155.
482
Valdés-Rodríguez J. M. El montaje cinematográfico y Eisenstein / Social. May 1932. Републикация: Avances de Hollywood: Crítica cinematográfica en América Latina, 1915–1945. Argentina: Beatriz Viterbo, 2005.
483
Valdés-Rodríguez J. M. El hombre, el creador, el técnico: Sergei Mijkhailovich Eisenstein / Lunes de Revolución. February 6, 1961. P. 24–26.
484
Rozsa I. Film Culture and Education in Republican Cuba: The Legacy of José Manuel Valdés-Rodríguez /Cosmopolitan Film Cultures in Latin America, 1896–1960. P. 298–323.
485
Rozsa. Film Culture and Education in Republican Cuba. P. 309, 312, 313; Valdés-Rodríguez J. M. El cine en la Universidad de La Habana (1942–1965). La Habana: Empresa de Publicaciones Mined, 1966. P. 372–380, 393–429, 456–485.
486
Rozsa I. Film Culture and Education in Republican Cuba. P. 314–317.
487
Stam R., Porton R., Goldsmith L. Keywords in Subversive Film/Media Aesthetics. Оxford: Wiley-Blackwell, 2015. P. 88.
488
Cine Cubano. P. 44–65.
489
Вот названия их книг, наиболее важных для теории кино: Birri F. Brevísima teoría del documental social en Latinoamérica. (1962); Rocha G. Estética da fome (1965), Estética do sonho (1971); Neves D. Poética do Cinema Novo (1965); Solanas F., Getino O. Hacia un tercer cine (1969); Espinosa J. G. Por un cine imperfect (1970); Sanjinés J. Teoría y práctica de un cine junto al pueblo (1979); Alea T. G. Dialéctica del espectador (1982).
490
Книга Зигфрида Кракауэра в сокращенном русском переводе Д. Ф. Соколовой вышла под названием «Природа фильма. Реабилитация физической реальности». М.: Искусство, 1974. Далее в тексте статьи используется оригинальное название книги, в комментариях – ссылка на русский перевод либо на ее новое немецкое издание. Статья Андре Базена «Онтология фотографического изображения» в русском переводе В. Божовича вошла в сб: Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972. C. 40–47. Его статья «Смерть после каждого полудня», напечатанная в том же сборнике (с. 59–65), на русском языке была названа «Смерть после полудня и каждый день». «Заметки ко “Всеобщей истории кино”» С. М. Эйзенштейна были впервые напечатаны в журнале «Киноведческие записки»: № 15 (1992), № 28 (1995), № 36/37 (1997/1998), № 100/101 (2012). – Прим. пер.
491
Mülder-Bach I. Nachbemerkung und editorische Notiz. В изд.: Siegfried Kracauer, Werke, Band 3. Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit mil einem Anhang “Marseiller Entwurf” zu einer Theorie des Films, Frankfurt a.M: Suhrkamp, 2005. S. 847–874.
492
Ibid. S. 808.
493
Ibid. S. 527.
494
Ibid. S. 522, 529, 533, 543, 545. Идею того, что кино предоставляет некую форму «проникновения» в «глубокие слои» материальной реальности, также можно найти в эпилоге к «Теории кино». Кракауэр пишет: «Нельзя надеяться, что нам удастся “обнять” реальность, если мы при этом не проникнем глубоко в ее самые нижние пласты. <…> Но как получить доступ к этим нижним пластам? Одно несомненно – установлению контакта с ними значительно способствуют фотография и кино» (см.: Кракауэр З. Природа фильма. С. 379). Я беру идею о «не-человеческом» измерении кино из неопубликованного доклада «Любопытный гуманист классической теории кино», прочитанного Йоханнесом фон Мольтке на Международном симпозиуме «Теория кино в истории медиа: “полюса” и “грани”», организованном 4–5 июня 2016 года в Шанхае Центром по исследованию кино и медиа «Шанхай – Беркли». См. также: von Moltke J. Curious Humanist: Siegfried Kracauer in America. Oakland: University of California Press, 2016, которая была опубликована после того, как я завершил эту статью.
495
Ibid. S. 591–593.
496
Ibid. S. 524, 529, 533, 537, 539, 579.
497
Несколько частей данного эссе являются развитием моего вступительного текста Cinema as “Dynamic Mummification”, History as Montage: Eisenstein’s Media Archaeology («Кино как динамическая мумификация, история как монтаж: медиа-археология Эйзенштейна») к «Заметкам ко “Всеобщей истории кино”» Эйзенштейна, которые были изданы отдельной книгой в 2016: Eisenstein Sergei M. Notes for a General History of Cinema, ed. Naum Kleiman and Antonio Somaini. Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 19–105. (См. также: Сомаини А. Возможности кино: история как монтаж / Киноведческие записки. 2012. 100/101. C. 108–129. – Прим. пер.)
498
Kracauer S. Werke, Band 3. S. 549, 605.
499
Ibid. S. 531, 534, 541, 591.
500
Ibid. S. 561, 593.
501
Ibid. S. 812, 813.
502
Kracauer S. Tentative Outline of a Book on Film Aesthetics (1949). В изд.: Breidecker V. Siegfried Kracauer-Erwin Panofsky, Briefwechsel 1941–1966. Berlin: Akademie-Verlag, 1996. S. 83, 84.
503
Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974. С. 67.
504
Там же. С. 65.
505
Там же. С. 28, 52, 53.
506
Там же. С. 41, 46, 54, 57, 71, 76, 90, 92, 94.
507
Kracauer S. Werke, Band 3. S. 531.
508
Ibid. S. 515.
509
Breidecker V. Siegfried Kracauer-Erwin Panofsky, Briefwechsel 1941–1966. Berlin: Akademie-Verlag, 1996. S. 92
510
Термин «линия» используется в нескольких абзацах «Заметок».
511
Выражение «the urge фиксировать явление» впервые появляется в главе «Заметок», названной «Наследник» (Киноведческие записки. 1995. № 28. С. 116).
512
Киноведческие записки. 1995. № 28. С. 116–118. К сожалению, невозможно включить сюда все комментарии, которые были бы необходимы для разъяснения часто неявных отсылок, существующих в «Заметках ко “Всеобщей истории кино”» Эйзенштейна. Мы отсылаем читателя к изданному в 2016 г. англоязычному их изданию (см. прим. 8), а также к публикациям в журнале «Киноведческие записки» (прим. 1).
513
Там же. С. 117
514
Цитата из «Фауста» Гёте, которую Эйзенштейн порой в этих заметках приводит неверно – как Verbleibe doch, du bist so schön! (Faust. Der Tragoedie zweiter Teil. V. 11 582).
515
Киноведческие записки. 2012. №100/1001. С. 53. ВИЭМ – Всесоюзный институт экспериментальной медицины, наследник научно-исследовательского медико-биологического центра – Императорского Института экспериментальной медицины, основателем которого в 1890 году был принц А. П. Ольденбургский. Основной задачей ВИЭМ было «всестороннее изучение причин болезней» и «практическое применение способов борьбы с заболеваниями и последствиями оных». В советское время она привела к утопическим поискам достижения физического бессмертия.
516
Там же.
517
Там же. С. 54. Плиний Старший в Naturalis Historia (XXXV, 4) говорит о «imaginum pictura», описывая практику раскрашивания посмертных слепков, для того чтобы сохранить максимальное сходство с оригиналом, лицом умершего предка. См. также: Didi-Huberman G. Imaginum piclura… in totum exoleuit. Début de l’histoire de l’art et fin de l’époque de l’image /Critique. 1996. LII (586). P. 138–150.
518
Bazin A. Qu’est-ce que le cinema? Paris, 7-me art. Vol. 1: Ontologie et langage. Вот как Базен представляет то, что он считает «принципом» или «законом эстетики»: «Когда сущность сцены требует одновременного присутствия одного или более факторов в действии, монтаж исключается» (Dudley A., Joubert-Laurencin H. (eds.). Ouvrir Bazin. Montreuil: Editions de I’Oeil, 2014. S. 49). Новое прочтение кинотеории и кинокритики Базена можно найти в издании: Dudley A., Joubert-Laurencin H. (eds.). Opening Bazin: Postwar Film Theory and Its Afterlife. Oxford: Oxford University Press, 2011. См. также частично отличающееся французское издание той же антологии: Dudley, Joubert-Laurencin (eds.). Ouvrir Bazin. Montreuil: Editions de l’Œil, 2014.
519
См.: Базен. Что такое кино? C. 40.
520
Там же. С. 41–44.
521
О присутствии этих теологических отсылок в базеновской идее реализма см.: Hediger V. Das Wunder des Realismus. Transsubstantiation als medientheoretische Kalegorie bei André Bazin / montage AV, 2009. № 18 (1). P. 75–107.
522
Базен. Что такое кино? C. 45.
523
Вот как Мальро показывает связь между живописью барокко и кино в своих «Заметках о психологии кино»: «То, что называется жестами мира барокко, – это не модификация образа, это последовательность образов; неудивительно, что это искусство жестов и чувств, одержимость театром, заканчивается кинематографом...» (Malraux A. Esquisse d’une psychologie du cinéma (1939). Paris: Nouveau Monde, 2003. P. 45. См. также: Malraux A. Psychologie de l’art. Genève: Albert Skira, 1949.
524
Базен. Что такое кино? C. 45. О Базене и взгляде на кино как на «слепок изменения» см.: Rosen Ph. Change Mummified: Cinema, Historicity, Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.
525
Там же. С. 63.
526
Там же.
527
Epstein J. Bonjour cinéma /Écrits sur le cinéma. 1921–1953. Vol. 1: 1921–1947. Paris: Cinéma club, Seghers, 1974. См. также: Joubert-Laurencin H. Embaumement. В изд.: Dictionnaire de la pensée du cinéma, eds. Antoine de Baecque und Philippe Chevallier, Paris: Presses Universitaires de France, 2012. P. 270–272.
528
Warburg A. The Art of Portraiture and the Florentine Bourgeoisie (1902). В изд.: The Renewal of Pagan Antiquity. Los Angeles: The Getty Research Institute for the History of Arl and the Humanities, 1999. P. 435–450.
529
О понятии «выживание» как исторической и культурологической категории см.: Tylor E. On the Survival of Savage Thought in Modern Civilization. В изд.: Proceedings of the Royal Institution of Great Britain, V. 1866–1869. P. 522–535.
Как показал Жорж Диди-Юберман (Didi-Huberman G. L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon. Paris: Minuit, Paradoxe, 2002. S. 51–60), тайлоровское понятие «выживания» было важным ориентиром для Варбурга при разработке понятия «Nachleben», одновременно означающего «выживание» и «жизнь после жизни».
530
von Schlosser J. History of Portraiture in Wax [Geschichte der Portraitbildnerei in Wachs] (1910–1911). В изд.: Ephemeral Bodies: Wax Sculpture and the Human Figure, ed. Roberta Panzanelli, Los Angeles: Getty Research Institute, 2008. P. 171–314.
531
Kracauer S. Werke. Band 3. S. 543, 577.
532
Эссе «Фотография» см. в изд.: Кракауэр З. Орнамент массы. Веймарские эссе. Перевод Владислава Агафонова, Анны Кацура и Александра Филиппова-Чехова. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. С. 16–32.
533
Kracauer S. Tentative Outline of a Book on Film Aesthetics (1949). В изд.: Breidecker V. Siegfried Kracauer-Erwin Panofsky, Briefwechsel 1941–1966. Berlin: AkademieVerlag, 1996. S. 84
534
Moholy-Nagy L. Malerei Folografie Film (1925–1927). Berlin: Gebr. Mann, 2000. S. 9.
535
Benjamin W. Kleine Geschichle der Photographie (1931). В изд. Gesamrnelte Schriften, Band I, lI: Aufsätze, Vorträge, Essays, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhauser. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977. S. 371.
536
В эссе «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости» вопрос об «оптическом бессознательном» формулируется по-разному в разных версиях текста, которые мы теперь имеем возможность изучить в новейшем критическом издании, разграничивающем пять различных «редакций»: Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2012. Относительно «оптического бессознательного» в «третьей редакции» (которая ранее была известна как «вторая редакция»), см.: Benjamin W. Das Kunstwerk. S. 130–133; эта же тема в «пятой редакции» (ранее известной как «третья редакция»), см.: Benjamin W. Das Kunstwerk. S. 240–241.
537
См. в изд.: Breidecker V. Siegfried Kracauer-Erwin Panofsky, Briefwechsel 1941–1966. S. 89–91.
538
Kracauer S. Theory of Film. The Redemption of Physical Reahty. 1997. P. 285–311. См. также предисловия Инки Мюльдер-Бах к немецкому изданию «Теории кино» 2005 года и Мириам БратуХансен к американскому изданию 1997 года.
539
Считаю своим долгом указать также на исследование Хедигера Винценца «Чудо реализма. Пресуществление как категория медиа-теории у Андре Базена», где содержательно рассматриваются затронутые выше проблемы: Vinzenz H. Das Wunder des Realismus. Transsubstantiation als medientheoretische Kategorie bei André Bazin / montage AV, 2009, Heft. 1. S. 75–107.
540
Tikka P. Enactive Cinema: Simulatorium Eisensteinense. University of Art and Design Helsinki, 2008. Позволю себе сразу сослаться и на статьи, где развивались мои наблюдения и концепции: Tikka P. Cinema as externalization of consciousness / Punt M., Pepperell R. (eds.). Screen Consciousness: Mind, Cinema and World. Rodopi Press, 2006. P. 139–162; Tikka P. Enactive media – generalizing from enactive cinema / Digital Creativity. 2011. Vol. 21, № 4. P. 205–214.
541
Tikka P. (dir.). The State of Darkness. Oblomovies Oy, Aalto Univercity & Tallinn University, 2018. Опыт инсталляции изложен в работе: Tikka P., Bastamow T., Gerolin I. et al. The State of Darkness: Nonhuman narratives embedded in the encounters with artificial agents. / Holloway-Attaway L., O’Dwyer N. (eds.). Non-Human Narratives. Carnegie: Mellon Press, 2019.
542
См. в частности статью Эйзенштейна «Четвертое измерение в кино» (1929): Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. С. 503–516.
543
Монография Льва Семёновича Выготского «История высших психических функций» была написана в 1931 г., впервые полностью опубликована в: Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 3.
544
Vassilieva J. The EisensteinVygotsky-Luria Collaboration: Triangulation and Third Culture Debates / Projections: The Journal for Movies and Mind. 2019. № 13 (1). P. 23–44.
545
Varela F., Thompson E., Rosch E. Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: MIT Press, 1991.
546
Холизм – в широком смысле позиция в философии и науке по проблеме соотношения части и целого, исходящая из качественного своеобразия целого по отношению к его частям. В онтологии холизм опирается на принцип: целое всегда есть нечто большее, чем простая сумма его частей (прим. пер.).
547
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2006. Т. 2. С. 17.
548
Там же. С. 21.
549
Эссе вошло в состав исследования «Цвет». См.: Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Т. 1. С. 307–322.
550
Эта проблематика занимает центральное место в незавершенной книге Эйзенштейна «Метод», над которой он работал в 1940–1948 годы и которая была впервые напечатана Эйзенштейн-центром в двух томах в 2002 году. Она развивается в его книге «Неравнодушная природа» (1945–1947).
551
См.: Varela, Thompson, Rosch. Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience.
552
Gallese V. The Roots of Empathy: The Shared Manifold Hypothesis and the Neural Basis of Intersubjectivity / Psychopathology. July–August 2003. № 36 (4). P. 171–180.
553
Frith U., Frith C. D.
554
Tikka, Bastamow, Gerolin et al. The State of Darkness: Non-human narratives embedded in the encounters with artificial agents.
555
См.: Damasio A. The Feeling of What Happens: Body, Emotion and the Making of Consciousness. Vintage. 2000. P. 134–143.
556
Freedberg D., Gallese V. Motion, Emotion and Empathy in Aesthetic experience / Trends in Cognitive Sciences. 2007. № 11 (5). P. 197–203.
557
Эйзенштейн С. М. YO. Мемуары. В 2 т. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019. Т. 1. С. 52.
558
Выготский Л.С. Психология искусства. Издание третье. М.: Искусство, 1986.
559
См.: Hasson U, Landesman O., Knappmeyer B. et al. Neurocinematics: The Neuroscience of Film / Projections: The Journal for Movies and Mind. 2008. Vol. 2. P. 1–26. Kauttonen J., Hlushchuk Y., Jääskeläinen I. P. et al. Brain mechanisms underlying cuebased memorizing during free viewing of movie “Memento” /NeuroImage. 2018. Vol. 172. P. 313–325.
560
Приношу свою благодарность Маури Кайпайнен за конструктивные комментарии к моей работе. Благодарю также моих коллег и сотрудников, принявших участие в создании VR-инсталляции «Обитель тьмы». Работа была осуществлена при поддержке EU Mobilitas Top Researcher Grant MOBTT90 и Эстонского исследовательского института (ERI).
561
Шекспир У. Макбет / Перевод М. Лозинского. Акт II, сцена 2. URL: http://lib.ru/SHAKESPEARE/mcbeth4.txt.
562
Шекспир. Макбет. Акт I, сцена 7.
563
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2006. Т. 1. С. 484.
564
Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 2. С. 496.
565
Заметка из дневника от 25 декабря 1931 года, цит. по: Клейман Н. Правила игры (на подступах к графике С.М. Эйзенштейна) / Киноведческие записки. 2003. № 64. С. 18, 19. В этой записи Эйзенштейн утверждает, что сделал более 200 рисунков в этой серии.
566
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 2. С. 63.
567
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 64.
568
Цит. по: Michelson А. Reading Eisenstein Reading “Ulysses”: Montage and the Claims of Subjectivity / Art & Text. 1989. № 34. P. 75.
569
Драйзер Т. Американская трагедия / Перевод Н. Галь и З. Вершининой. Баку: Олимп, 1995. Книга вторая. Глава 47. URL: http://lib.ru/INPROZ/DRAJZER/tragedy.txt. Экземпляр с заметками С. М. Эйзенштейна хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке (Sergei Mikhailovich Eisenstein Collection, E.6, Special Collections 88.2/D814. New York: The Museum of Modern Art Archives).
570
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 78.
571
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 501.
572
Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Т. 1. С. 480.
573
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 2. С. 170.
574
Шекспир. Макбет. Акт I, сцена 7.
575
Эйзенштейн. Метод. Т. 1. С. 255.
576
Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 1. С. 115.
577
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 431.
578
См.: Эйзенштейн. Избранные произведения. Т. 4. С. 652–672.
579
Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1998. Т. 2. С. 124.
580
Письмо Эптону Синклеру от 20 июня 1931 года. Sinclair Mss. Correspondence, Box 16. Bloomington: Lilly Library, Indiana University.
581
Письмо господину Кобаяси от 14 июля 1931 года в сборнике: Eisenstein 2: A Premature Celebration of Eisenstein’s Centenary. Calcutta: Seagull Books. 1985. P. 10, 11.
582
Беньямин В. Улица с односторонним движением. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. С. 41.
583
Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. С. 475.
584
«Стеклянный дом» С. М. Эйзенштейна / Искусство кино. 1979. № 3. С. 96.
585
Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 500.
586
Шекспир. Макбет. Акт II, сцена 1.
587
Этот текст – часть статьи, напечатанной в сборнике: The Flying Carpet. Paris: Edition Mimesis, 2017. P. 163–178. URL: http://www.editionsmimesis.fr/wp-content/uploads/The-Flying-Carpet-web.pdf.
588
Цитата из текста, который долго считался отдельной статьей и печатался под названием «Как я стал режиссером» (см.: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 1. С. 98, 99). Однако оказалось, что это начало раздела «Предмет неистощимый» (Эйзенштейн С. М. Метод. В 2 т. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2002. Т. 1. С. 50, 51).
589
Ханамити («дорога цветов») – особый помост в театре кабуки, длинная возвышенная платформа слева от центра, ведущая от сцены через зрительный зал, по которой обычно входят и выходят актеры и где разворачиваются некоторые эпизоды, выделенные из общего действия.
590
Некоторые наши знаменитые кинематографисты, такие как Мани Каул и Кумар Шахани, во время обучения у Ритвика Гхатака в ведущей азиатской киношколе – индийском Институте кино и телевидения в Пуне – не только смотрели фильмы Эйзенштейна, но и изучали его труды на английском языке. Сборники Film Form и Film Sense помогли нам обрести смысл существования – не столько через сами тексты, сколько благодаря той духоподъемной силе, которая исходила от этих книг и этих фильмов. Поскольку в те времена отношения между Индией и СССР были очень дружественными, в нашем распоряжении оказались копии всех фильмов Эйзенштейна, в том числе три ролика второй серии «Ивана Грозного» в цвете в прекрасном состоянии.
591
Mitter P. Much Maligned Monsters: A History of European Reactions to Indian Art. Chicago: University of Chicago Press, 1992. Название книги Партхи Миттер «Оклеветанные монстры: история реакции европейцев на индийское искусство» отсылает к восприятию европейцами многоголовых индийских божеств как чудовищ. Прошло не одно столетие, прежде чем эти произведения искусства получили оценку, соответствующую их подлинной значимости и величию; хотя справедливости ради следует отметить, что некоторые британские чиновники внесли свой вклад в открытие и сохранение этих сокровищ культуры. (В названии книги – игра слова: maligned означает и «злобный», и «оклеветанный». – Прим. ред.)
592
Пролог посвящался Сикейросу, «Сандунга» – Жану Шарло, «Фиеста» – Гойе, «Магей» – Диего Ривере, «Солдадера» – Хосе Клементе Ороско и эпилог – Посаде. См.: The Making and Unmaking of Que Viva Mexico. London: Thames and Hudson, 1971. P. 149.
593
В пан-фокусный объектив установлена фиксированная диафрагма, делающая картинку резкой в диапазоне от двух футов до бесконечности.
594
Rochfort D. Mexican Muralists. Orozco, Rivera, Siqueiros. San Francisco: Chronicle Press, 1998. P. 145, 146.
595
Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2 т. М.: Редакция газеты «Труд»; Музей кино, 1998. Т. 2. С. 338–346.
596
Malraux A. Anti-memoirs. Paris: Gallimard, 1967. Также опубликовано в: Bombay, meri jaan, writings on Mumbai. New Delhi: Penguin Books, 2003. P. 194.
597
Эссе «Эль Греко и кино» опубликовано в: Эйзенштейн С. М. Монтаж. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000.
598
Этой проблеме посвящена моя статья, напечатанная в Италии: Khopkar A. Riflessioni e rifrazioni. Una visione rifratta delle riflessioni sul colore di S. M. Ejzenštejn / Montani P. (cura). Riflessioni Sergej Ejzenštejn: Oltre il cinema. La Biennale de Venezia: Edizioni Biblioteca dell’immagine, 1991. P. 391.
599
См. об этом в книге: Masha Salazkina / Excess: Sergei Eisenstein’s Mexico.
600
В статье «Чародею Грушевого Сада» Эйзенштейн пишет: «О Мэй Ланьфане впервые я услышал восторженнейшие отзывы от Чарли Чаплина, вводившего меня своими рассказами в замечательное мастерство китайского артиста». Цит. по: Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 133.
601
См. об этом в книгах: Min Tian. Mei Lanfang and the Twentieth-Century International Stage. New York: Palgrave MacMillan, 2012; The Poetics of Difference and Displacement: Twentieth-Century Chinese-Western Intercultural Theatre. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2008.
602
Рекомендую блестящие эссе, посвященные танцевальной драме: Bowers F. The Dance in India. New York.: AMS Press, 1967; de Zoete B. The Other Mind: A Study of Dance in South India. London: Victor Gollancz, 1953. Еще одно эссе: Bharatha K. I. Kathakali. The Sacred Dance Drama of Malabar. London: Luzac & Co., 1955 – не только великолепное введение к пониманию этой формы театра, но и вообще одна из лучших книг о танце, которую мне довелось прочитать.
603
Похожими кодифицированными языками обладают и другие восточные театры. Многие индийские театральные формы, например, Бхаратнатьям и Катхакали, а также балийский театр вдохновили Антонена Арто на создание его «театра жестокости».
604
Марсель Гране был одним из величайших синологов своего времени и учеником Эмиля Дюркгейма, благодаря которому в его исследованиях появилось немало открытий антропологического свойства. См. его книги: Chinese Civilisation. New York: Meridian Books Ltd., 1958; Festivals and Songs of Ancient China. Eastford: Martino Fine Books, 2015; Religion of the Chinese People. Harper Collins College Div., 1977. Эйзенштейн особо ценил его книгу La Pensée Chinoise (рус. перевод: Гране М. Китайская мысль: от Конфуция до Лаоцзы. М.: Алгоритм, 2008).
605
Синематизм – слово, придуманное Эйзенштейном для обозначения потенциально кинематографических свойств в разных искусствах различных эпох и культур. Оно было использовано как название сборника статей Эйзенштейна о соотношениях изобразительного искусства и кино: Eisenstein S. Cinématisme: peinture et cinema. Brussels: Editions Complexe, 1980.
606
Текст эссе см.: Эйзенштейн. Метод. Т. 2. С. 150– 191.
607
Диада тандава – ласья напоминает дионисийское и аполлоническое начала в искусстве. Но индийское женское начало Шакти – буквально: мощь, сила или энергия – имеет еще и свой разрушительный и ужасный аспект в образе Кали, темной богини, напоминающей греческих фурий. См.: Coomaraswamy A. K. The Dance of Shiva. New York: The Sunwise Turn, Inc., 1918.
608
Мне уже приходилось писать о некоторых из этих тем у Эйзенштейна в статье «Перезвон» (Киноведческие записки. 2012. № 100/101).
609
См. соответствующий раздел в: Эйзенштейн. Метод. Т. 2.
610
См.: Mai-Mai Sze. The Tao of Painting: A Study of the Ritual Disposition of Chinese Painting With a Translation of the Chieh Tzu Yuan Hua Chuan or Mustard Seed Garden Manual of Painting 1679–1701. 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1956.
611
Yutang Lin. My Country and My People. London and Toronto: William Heinemann Ltd., 1936. P. 275, 276.
612
Рабиндранат Тагор, первый из неевропейцев лауреат Нобелевской премии по литературе, великий поэт, писатель и музыкант, возглавил в колониальной Индии индийский Ренессанс. Тагор начал рисовать в возрасте шестидесяти семи лет, вычеркивая слова в своих стихах и соединяя их линиями спонтанных форм и типов.
613
«Слава Богу, я атеист» (Луис Бунюэль).
614
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1273. Л. 14.
615
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 557. Л. 41.
616
Савинов М. П. Чин Пещного действа в Вологодском Софийском соборе: Историко-литературно-археологический этюд / Русский филологический вестник. 1890. № 1. C. 47, 48.
617
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 565. Л. 70.
618
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 557. Л. 46.
619
РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 2. Ед. хр. 1169. Лл. 44, 46.
620
Seton M. Sergei M. Eisenstein: A Biography. New York, 1952. P. 140.
621
Никольский К. Т. О службах Русской церкви, бывших в прежних печатных богослужебных книгах. СПб.: 1885. С. 169, 170.
622
Там же. C. 170.
623
Августин Аврелий (Блаженный Августин). О Граде Божием. Книга тринадцатая, глава XVII. URL: http://az.lib.ru/a/awgustin_a/text_0427_de_civitate_dei-2.shtml.
624
Мой post scriptum к статье М. Салазкиной «Эйзенштейн в Латинской Америке» частично основан на информации из исследований Нельсона Пита (Монтевидео) и сообщений, полученных от Эдуардо Руссо (Буэнос-Айрес). Мне оказал также помощь Фабиан Нуньез (Рио-де-Жанейро). Всем им – моя благодарность.
Эйзенштейн для XXI века. Сборник статей
Эйзенштейн для XXI века. Сборник статей
Сведения о книге
***
Наум Клейман. Обновленная слава Сергея Эйзенштейна. (предисловие составителя)
/ Жозе Карлос Авеллар /
Конь о трех головах
/ Ада Аккерман /
Незабываемые крики Сергея Эйзенштейна: круговорот образов между живописью и кино
/ Лука Арсенюк /
«Заметки ко “Всеобщей истории кино”» и диалектика эйзенштейновского образа
/ Оксана Булгакова /
Эйзенштейн как «куратор»
/ Юлия Васильева /
Эйзенштейн, Выготский, Лурия: психотехника искусства
/ Дастин Кондрен /
Субъектив: Эйзенштейн и оживление вещей
/ Майкл Куничика /
Праистория и Эйзенштейн
/ Хокан Лёвгрен /
«Октябрь» Эйзенштейна: о кинематографической аллегоризации истории
/ Пьетро Монтани /
Эйзенштейн и Выготский. Слова и образы во внутренней речи и композиция фильма
/ Пьерлука Нардони /
Споры об абстракции: Эйзенштейн и Малевич
/ Джоан Ньюбергер /
Пикассо и другие неудачники: политика погружения в диалектике позднего Эйзенштейна
/ Ана Хедберг-Оленина /
Преломленное эхо: идеи педологии в кинотеории Сергея Эйзенштейна
/ Карла Олер /
Шекспир Эйзенштейна
/ Массимо Оливеро /
Двуглавый экстаз: философские корни творчества позднего Эйзенштейна
/ Наталья Рябчикова /
Детектив Эйзенштейн
/ Маша Салазкина /
Эйзенштейн в Латинской Америке
/ Антонио Сомаини /
«Ursprüngliche Impulse», «urges», «Triebe», «besoin fondamental»: Кракауэр, Эйзенштейн и Базен о медиа-антропологических основах кино
/ Пиа Тикка /
Simulatorium Eisensteinense: моделирование динамики сознания
/ Ханна Франк /
«Создание горячечного мозга»: размышление над рисунками Сергея Эйзенштейна к «Макбету»
/ Арун Хопкар /
Дорога цветов и архимедовы точки опоры
/ Юрий Цивьян /
Synthèse: двоякость как метод и конструктивный принцип
/ Луис Элберт /
Встречи с Эйзенштейном в бассейне реки Плата
Последние комментарии
15 часов 15 минут назад
16 часов 44 минут назад
17 часов 40 минут назад
1 день 15 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 17 часов назад