Источники социальной власти: в 4 т. Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н. э. [Майкл Манн] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Источники социальной власти: в 4 т. Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н. э. Майкл Манн
Michael Mann The Sources of Social Power Volume i A HISTORY OF POWER FROM THE BEGINNING TO AD 1760
ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ
В этой книге представлена объяснительная модель развития отношений власти в человеческих обществах, а также опыт применения этой модели к доисторическим временам и к большей части письменной истории. Для авторов XIX в. подобный проект не был таким уж выдающимся, однако в современной академической среде он выглядит абсурдно амбициозным. В начале моей карьеры эта задача и мне казалась абсурдной. Мои ранние работы не давали и намека на то, что позднее я с головой погружусь в подобное предприятие. Моя докторская диссертация представляла собой эмпирическое исследование того, как в Англии корпорации переводили свои фабрики из одного места в другое. Оно включало интервьюирование 300 рабочих, проведенное дважды. Затем (в соавторстве с Робертом Блэкберном) я исследовал рынок труда в английском городе Питерборо. Эта работа предполагала более широкий круг интервьюируемых — более 900 рабочих, а также конструирование разрядов квалификаций рабочих на основе наблюдения за их работой. Оба проекта были эмпирическими и количественными, посвященными современности. Затем я расширил сферу моего научного интереса, написав небольшую книгу по классовому сознанию, результатом чего стало большое эмпирическое исследование трудовых отношений в четырех странах, объединенных в одну группу, противопоставленную трем другим. Однако это исследование так и не было завершено, поскольку исследовательские фонды не оказали мне материальной поддержки. Преподавание социологической теории в Университете Эссекса радикально изменило мою интеллектуальную траекторию. Внимательное прочтение Маркса и Вебера за неделю или две до студентов привело меня к идее сравнения и критики их «трехмерных» моделей социальной стратификации — класса, статуса и партийности Вебера и экономического, идеологического и политического уровней Маркса (как их представляли структурные марксисты того времени). В то же время мои политические взгляды не совпадали с левыми взглядами, широко распространенными среди моих друзей, о том, что гонка ядерного вооружения так или иначе была результатом борьбы между капитализмом и коммунизмом. Я, напротив, полагал, что существовало больше параллелей с другими великими историческими битвами за власть. Эти размышления привели меня к мысли о необходимости отделения военной власти от политической. Таким образом я и пришел к модели четырех основных источников социальной власти (идеологических, экономических, военных и политических), которую впоследствии использовал во всех моих работах. Книга, которую я изначально предполагал написать, планировалась как преимущественно теоретическая, хотя и подкрепленная тремя эмпирическими кейс-стади — Римской империей, феодальной Европой и современными обществами. Предполагалась, что в основе одной из глав будет опубликованная мной в 1977 г. статья «Античные и современные государства», в которой большая часть теоретического материала подкреплялась лишь незначительным количеством исторического. Боюсь даже подумать, насколько текст отличался бы от намерений, если бы запланированная книга все же была написана. Едва я приступил к сравнению примеров, как они начали бесконечно умножаться и расширяться во времени и пространстве. Тогда-то мне и стало ясно, что я все еще глубоко эмпирический социолог, который любит читать книги по истории. Собранного материала было слишком много для одной книги, и я решил разделить его на два тома, водоразделом между которыми могла быть эпоха промышленной революции. Так я и поступил и вскоре закончил первый том того, что впоследствии превратилось в четырехтомник «Источники социальной власти». Том 2, озаглавленный «Становление классов и наций-государств», был опубликован в 1993 г., том 3 «Мировые империи и революции: 1890–1945» — в 2012 г., том 4 «Глобализации, 1945–2011» вышел в 2013-м. Так эта книга стала работой всей моей жизни. Даже «Фашисты» (2004) и «Темная сторона демократии: объясняя этнические чистки» (2004) были лишь расширенными вариантами глав, первоначально разработанных для «Источников…». Поглощенный работой над «Источниками…», я получал огромное удовольствие, хотя иногда мне даже было интересно, чего бы я достиг, сложись все иначе. Конкретный метод, который я разработал для четырех томов, был довольно прост. Во-первых, я сокращал ряд исследуемых стран и регионов, фокусируясь на том, что я назвал «передовым фронтом власти», то есть наиболее развитой цивилизацией в каждый конкретный момент времени. Во-вторых, я прочитывал всю литературу в рамках своих лингвистических возможностей, до тех пор пока новое чтение могло добавить лишь деталь или незначительное уточнение к моему повествованию. Желаемое достигалось гораздо быстрее для ранних, чем для поздних периодов, поскольку в ранней истории практически все, что я мог прочесть, было посвящено «передовым фронтам власти». Я не утверждаю, что всегда придерживался указанного метода — ряд разделов этой книги представляют собой связки в повествовании между более подробно разработанными разделами. Это, к примеру, особенно касается глав по истории Греции и Финикии, но я также надеюсь, что это компенсируется с помощью основного теоретического понятия «цивилизация с множеством акторов власти», используемого в них. В-третьих, я сознательно петляю между теорией и эмпирическими данными, развивая основную идею, затем совершенствую и детализирую ее на исторических данных, потом возвращаюсь обратно к теории, затем снова к эмпирическим данным и так далее и тому подобное. Цель в том, чтобы достичь исключительно социологического видения истории, которое больше концентрируется на теоретических вопросах, чем делают историки в подобном случае, однако более связанном с историей, чем принято у социологов. Мой метод вызывал у меня опасения, что после публикации первый том мог угодить в пропасть междисциплинных границ и пройти незамеченным, поэтому я связался с коллегами в Соединенных Штатах и договорился организовать серию лекций в разных университетах. К тому времени, когда я стал читать эти лекции, они уже не служили своей первоначальной цели, поскольку книга получила горячие отзывы. Однако лекции сослужили мне другую службу. Мои гостеприимные американские коллеги подумали, что я ищу работу, и два университета сделали мне и моей жене привлекательные предложения. В Лондоне — февраль, а в Лос-Анджелесе — тепло, спокойно и неожиданно прекрасно. Тогда мы с женой подумали, что могли бы остаться на год, чего вполне хватило бы, чтобы насладиться прелестью Южной Калифорнии, но в итоге мы задержались в UCLA[1] на двадцать пять лет. Так «Источники…» снова изменили мою жизнь. Но увы, мои первоначальные опасения отчасти оправдались, потому что тома были встречены критикой с обеих сторон: со стороны историков — того, что теория встала на пути хорошего нарратива, а со стороны позитивистски настроенных социологов — того, что мне следовало бы более тщательно проверять гипотезы, выведенные из общих теорий, а также что мой метод препятствует формулировке универсальных законов и объяснений. Я не принял критику ни одной из сторон. Проблема состоит в том, что, с одной стороны, эмпирические данные сами по себе не имеют смысла. Необходимо привнести теорию, чтобы придать им смысл. Историки обычно делают это имплицитно — я предпочитаю делать это эксплицитно. С другой стороны, позитивистские теории всегда оказываются намного проще социальной реальности — факт, который демонстрирует не только мое, но и прочие исторические исследования. Не существует постулатов, верных для всех обществ, за исключением полных банальностей. Социальная реальность достаточно комплексна, чтобы нанести поражение всем человеческим попыткам полностью постичь их положение: это особенно верно применительно к теории рационального выбора, отстаиваемой некоторыми позитивистами. Вот почему я предлагаю в большей мере модель, а не жесткую теорию — способ видения мира, запрещающий уверенность в том, что мы учли все четыре источника социальной власти, осознали опасности холистских универсализирующих теорий, теории рационального выбора, а также обобщений, которые иногда появляются. (Брайант 2ооба полностью защитил мою методологию.) Меня часто называют неовеберианцем, предполагая, что я черпаю вдохновение от Макса Вебера. Наибольшая честь, которой я когда-либо был удостоен, — это комментарий Джона Холла (Hall 2011: 1) о том, что я — «Макс Вебер нашего поколения». Но в шутку я готов признать свое превосходство над Вебером только в одном отношении: меня гораздо легче читать! После долгого и иногда критического анализа этой книги Перри Андерсон заключил: «Не меньше чем „Хозяйство и общество" по аналитической структуре и превосходит в литературной форме» (Anderson, 1992: 86). С его стороны это либо большая похвала, либо ироничная издевка (разве моя книга художественная?). Я допускаю, что у нас с Вебером есть масса общих моментов. Вебер пытался разработать методологию, которая могла бы маневрировать между номотетическими (законообразными) и идеографическими (признающими уникальность всех ситуаций) аспектами социальной жизни, посредством таких понятий, как идеальный тип, verstehen (интерпретативное понимание) и принципиальная пол и каузальность. Он рассматривал общество как порождаемое взаимодействием, а не действиями отдельных людей или детерминирующими социальными структурами. Я также стараюсь маневрировать где-то посередине, хотя и зигзагообразными движениями. У Вебера, как и у меня, были оговорки по поводу понятия «общество». Он редко использовал его, предпочитая множественный термин «социальные сферы» (хотя я и не понимал этого, пока не прочел Каль-берга (Kalberg 1994)). Вебер отчетливо мыслил множество сфер, хотя никогда их не перечислял, и он, вероятно, нашел бы мои четыре типа власти слишком ограниченными (его собственные три типа были разработаны всего лишь как идеальные типы для определенных контекстов, а не как универсалии). Вебер также обнаружил, что социальная комплексность требует от него введения новых понятий, и мои критики утверждают, что я делаю то же самое. Джекоби (Jacoby 2004) также отмечает, что я чрезмерно все усложняю, умножая понятия, которые на самом деле дуальны, как, например, трансцендентные и имманентные идеологии или две организационные формы военной власти (строгая иерархия и товарищество в вооруженных силах, широко распространенные среди отношений власти и за пределами армии). Вебер предлагает нам инструменты для работы с обществами, которые всегда более комплексные, чем наши теории, и я стараюсь делать то же самое. Похожего подхода придерживается Уильям Сьюэлл. Он утверждает, что социологическое объяснение должно концентрироваться на том, что он называет «событийной темпораль-ностью». «Общественная жизнь, — пишет он, — может быть концептуализирована как собранная из бесконечных происшествий или неожиданных встреч, в которые индивиды или группы вовлечены в рамках социального действия. Базовые структуры их обществ ограничивают и дают возможность для их социальных действий… События могут быть определены как относительно редкий подкласс происшествий, которые значительно трансформируют структуры. Таким образом, понятие событийной темпоральности выступает понятием, принимающим во внимание трансформации структур событиями». Он проанализировал мою «смелую и влиятельную книгу» и определил ее в качестве образцового примера «событийной темпоральности» (Sewell 2005: 100, 114–123). Разумеется, факт, что мы единственно должны «принимать во внимание» направляемые событиями трансформации, не является противоречивым, однако, полагаю, Сьюэлл имел в виду нечто большее. В очевидно сходной манере на третьей странице этой книги я называю мое объяснение социального изменения «неоэпизодическим», подразумевая, что изменения происходят в виде периодических, прерывистых вспышек трансформаций основной структуры. Как и Сьюэлл, я против структурного детерминизма, поскольку рассматриваю структуры как результаты того, каким образом коллективные акторы, группы оформляют распределение ресурсов власти вокруг себя. Я рассматриваю неоэпизодические изменения как вызванные часто непреднамеренными последствиями действий, как результат неожиданных внешних событий и изредка как действительно случайные. Сьюэлл также прав в том, что я против телеологических и эволюционных теорий: не существует ни необходимого направления развития человеческих обществ, ни недоразвитых эволюционных форм, предшествующих высокоразвитым. Тем не менее я допускаю неустойчивый рост коллективных возможностей людей на протяжении истории, который не является необратимым, хотя различные части мира представляли собой «передовой фронт» развития в различное время. Это происходило потому, что однажды изобретенные и получившие распространение инновации, расширявшие коллективные возможности человека, такие как литература, чеканка монет или использование ископаемого топлива, никогда уже не исчезали. И теперь я рассматриваю «эпизоды» («событийные трансформации» Сьюэлла) в совершенно другом свете. Что происходит в основных точках изменения, так это ряд совпадений между причинно-следственными цепями, одни из которых новые и «интерстициальные»[2] (возникающие между существующими властными структурами), а другие ведут свое начало от глубоко укорененных институтов, которые сами претерпевают изменение, хотя и в более медленном темпе. Типичным примером последнего может служить капитализм, который постоянно находится в состоянии изменения. Это похоже на то, что большинство социологов называют «структурой», и в нашей теории полностью ее действительно не избежать. Название, которое я дал своей модели - структурно-символический интеракционизм, — остается приемлемым для обозначения комбинации креативного действия групп и институционального развития. Хотя одни совпадения между интерстициальным возникновением и существующими институтами выглядят вполне случайными, другие — более устойчивыми и предсказуемыми, они являются последствием действий огромного количества людей в течение долгого времени. Я объясню это подробнее позднее, когда обращусь к основному примеру изменения в этом томе — «европейскому чуду». Необходимо отметить, что экономические и в меньшей степени политические отношения власти обычно ближе к структурным, чем военные и идеологические отношения власти. В этой книге я отойду от конвенциональных социологических представлений, поскольку начну с критики фундаментального социологического понятия «общество». И я не единственный, кто это делает. Иммануил Валлерстайн также отрицает общепринятое отождествление общества и национального государства. Он утверждает, что в Новое время национальные государства вплетены в более широкие сети взаимодействия, установленные «мир-системой», которую он отождествляет с капитализмом. Моя критика более радикальная. Я утверждаю, что социальные группы, внешние по отношению к социальным сетям, происходят из четырех источников власти, даже если эти сети редко совмещались друг с другом на протяжении истории. Таким образом, человеческое общество состоит из множества частично совпадающих и пересекающихся сетей взаимодействия. И не существует такой вещи, как отдельно взятое общество, обособленное от других. Я отклоняю все теории систем, весь холизм, все попытки оправдать общества. Не существует отдельно взятого французского или американского общества (имеют место только одноименные национальные государства), индустриального или постиндустриального общества, «мир-системы», одного-единственного процесса глобализации, мультигосударственной системы, где доминировала бы одна логика политического реализма, не существует логики патриархата. История не знает фундаментальных сражающихся единиц, как то история классовой борьбы или борьбы способов производства, или «эпистем», или «дискурсивных формаций», культурных кодов, или фундаментальных структур мышления, управляющих языком, ценностями, наукой и практиками эпохи, и все это не обусловлено единственным процессом власти, пронизывающим человеческую деятельность. Это только примеры сетей с относительно четкими границам. Возможно обозначить «логику» капитализма или патриархальность мульти-государственных отношений, рассматривать их как идеально типические, и, поскольку они находятся во взаимодействии, это взаимодействие изменяет их природу, зачастую непредсказуемым образом. Тем не менее эта модель дает нам возможность определить источник социального изменения, поскольку организации власти никогда не могут быть полностью институционализированы или изолированы от воздействий, которые «периодически» появляются из трещин внутри них и между ними [то есть интерстициально]. Социальное изменение — это итог взаимодействия между институционализацией старых сетей власти и интерстициальным возникновением новых. С тех пор как я впервые разработал свою IEMP[3] — модель власти в первой главе этого тома, я довольно последовательно ее придерживаюсь. На простейшем уровне модель подразумевает, что, работая с макропроблемами в рамках социальной или исторической науки, необходимо эксплицитно учитывать каузальный вклад в общий результат всех четырех источников власти: идеологических, экономических, политических и военных отношений. Ни один из указанных источников не следует игнорировать, хотя один или два могут оказаться относительно несущественными в конкретных случаях. В рамках определенного исторического периода я пытался учесть относительный причинно-следственный вклад каждого источника в итоговые важные результаты. Иногда один источник власти был решающим, иногда — другой, но зачастую присутствовала конфигурация из более чем одного наиболее значимого источника. Это с необходимостью подразумевало мультидисциплинарный подход к социальному развитию, который использовали классические теоретики XVIII–XIX вв. Однако в настоящее время я, увы, должен бороться против экстраординарной силы дисциплинарных границ в академическом сообществе, а также против застенчивости социологии и истории, которые должны быть амбициозными и мультидисциплинарными, но часто не являются таковыми. Несмотря на это, в области сравнительно-исторической социологии моя модель и мои широкие обобщения получили достаточное влияние (Anderson 1992: Chap. 4; Smith 1991: 121–130; Crow 1997: Chap. 1). Экономические отношения власти редко остаются без внимания как истории, так и социологии. В нашу скорее материалистическую эпоху они затерты до дыр огромным количеством школ, хотя «культурный поворот», имевший место в последние годы, выдвинул на передний план идеологическую власть, к тому же мы всегда можем положиться на политологов в том, что касается придания особого значения политической власти. Военная власть была оставлена на откуп двум маленьким и полузабытым субгруппам: военным историкам и социологам войны. Поэтому важной частью моей работы стала демонстрация того, насколько важную роль военная организация и войны сыграли в развитии человеческого общества. Нам необходимо оглянуться менее чем на столетие назад, чтобы увидеть, возможно, самые разрушительные войны по всему миру (следует отбросить как абсурдное сравнение с «миллионами» катастроф, иногда встречающихся в анналах ранней истории). Современные войны все еще рассматриваются как исключения из общего правила, как интерлюдии в процессе глобализации и капиталистического развития, хотя и обладают некоторым воздействием на идеологии. Как же это неправильно! Как продемонстрировано в томе 3, ни коммунизм, ни фашизм не стали бы настолько влиятельными в мировом масштабе без Первой и Второй мировых войн. Я сделал несколько корректировок моей модели, указывая на квалификацию ее «неоэпизодического» характера. Другая важная модификация касается военной власти. Меня иногда критикуют за отделение военной власти от политической, поскольку это идет вразрез с социологической ортодоксией (Poggi 2001; Anderson 1997: 77). Хотя я отвергаю эту критику, постараюсь сделать различие более очевидным, немного иначе определив военную власть. В этом томе я определяю военную власть как «социальную организацию физической силы в форме концентрированного принуждения». Позднее я понял, что «принуждение» — это недостаточно веско. Вебстеровский словарь считает принуждением ситуацию, когда человек «вынужден действовать или выбирать» либо «убежден силой или угрозой». Так можно сказать о рабочих, которым угрожают увольнением, и о священниках, принявших обет молчания по воле епископов, хотя ни один из примеров не подразумевает использования военной власти. Поэтому я определил военную власть как социальную организацию концентрированного летального насилия. «Концентрированное» означает мобилизованное и сфокусированное, «летальное» означает смертоносное. Вебстер определяет насилие как «проявление физической силы с целью ранить или оскорбить» или «интенсивное, турбулентное или яростное и часто деструктивное действие или силу». Именно такую смысловую нагрузку я и хочу передать: вооруженные силы — это фокусированное, физическое, яростное, летальное насилие. Мы избегаем любой угрозы испытать боль, увечье или смерть, вот почему военные силы вызывают психологические эмоции и физиологические симптомы страха. Обладающие военной властью говорят: «Неподчинение означает смерть». Военная власть не ограничивается армией. Организованное, летальное насилие также исходит от террористических организаций, военизированных формирований или преступников. Это делает очевидным различие между военной и политической властью, которое я хочу провести. Я продолжаю придерживаться определения политической власти как централизованной, территориальной регуляции общественной жизни. Только государство обладает территориально-централизованной пространственной формой (здесь я резко расхожусь с Вебером, который выделял политическую власть или «партии» в любой организации, а не только в государстве). Рутинная регуляция и координация, осуществляемая из центра через территории, а не через легитимность (идеологию) или насилие (военные силы), выступает ключевой функцией государства, осуществляемой через право и регулируемые нормами политические конфликты в централизованных судах, советах, ассамблеях и министерствах. Поэтому в некоторых отношениях политическая власть противоположна военной. Она ограничена в пространственном отношении, а не расширяется, является институционализированной, а не деспотичной. Существует три основных возражения против отделения политической власти от военной. Во-первых, как утверждает Пери Андерсон (Anderson 1992:77), государство не обладает отдельной формой власти от той, которой является само: его власть покоится на смеси силы и веры. И то же самое можно сказать о власти землевладельцев или капиталистов над крестьянами и рабочими. Если ответ состоит в том, что землевладельцы и капиталисты контролируют или владеют средствами производства, можно сказать, что суверенитет, подкрепленный законом (которого, как верно отмечает Андерсон, я не касаюсь в этом томе), принадлежит тем, кто контролирует государственную «собственность» на социальные отношения на этой территории. В другой работе он добавляет третье условие государственной власти, утверждая, что «политическое регулирование немыслимо без ресурсов военного принуждения, налогообложения и идейной легитимации» (Anderson 1990: 61). Это так. В этом томе мы увидим, что в человеческом обществе не всегда существовало государство. Оно было создано посредством конкретных конфигураций идеологической, экономической и военной власти. Но важный момент заключается в том, что, как только оно было создано, в нем возникли его собственные, эмерджентные качества, которые затем принудительно организовали общественную жизнь определенным образом. В этом томе, как и в томе 2, наиболее значимая власть государства проистекала из запирания большей части социальной жизни в «клетку» его собственных суверенных территорий. Этот процесс невозможно редуцировать к идеологическим, экономическим и военным отношениям власти. Это эмерджентное свойство политической власти (ср. Bryant 2006а: 77~7&). Во-вторых, можно утверждать, что закону и регуляции предшествует физическое принуждение (сила). Именно через указание на смертоносный характер, страх и террор, а не на военные силы определяет государство Поджи (Poggi 2001: 30–31). (Я нахожу это странным.) Кроме того, большинство физических сил государства редко мобилизуется для летального воздействия, а когда государство все же прибегает к более насильственным формам действия, это обычно происходит в результате постепенной эскалации. Полиция может начать с применения несмертоносной тактики против повстанцев, результатом которой становятся травмы и лишь изредка смерть. Затем смешанные полицейские, военизированные и военные расчеты могут прибегнуть к демонстрации силы, стреляя в воздух и применяя легкое оружие: дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули, незаточенные кавалерийские сабли, ружья, а не автоматическое оружие и т. д. Если и это не срабатывает, за дело берутся военные и, демонстрируя наиболее жестокую форму репрессии, безжалостно убивают до тех пор, пока это, по их мнению, необходимо. Такой исход включает эскалацию и отход от политических отношений власти путем смешения их с военными. Однако большинство насильственных государств стирали всякое различие между политической и военной властью. Нацисты, сталинисты, маоисты и католическая инквизиция убили огромное количество людей, единственная вина которых состояла в том, что они были определены как «враги» (как еврей, кулак, землевладелец, еретик и т. д.). Легальные формы были фальшивкой. Эти примеры слияния политической и военной власти могут выглядеть как оправдывающие Поджи. Но все источники власти иногда перетекают друг в друга. Например, экономические и политические источники слились и перемешались в советском государстве. Однако эти примеры не отрицают целесообразности различения политической и экономической власти, как и существование очень немногих насильственных государств не отрицает различия между политической и военной властью. В-третьих, государства сами увеличивают численность войск, которые обычно являются самыми мощными вооруженными силами. Это справедливо для большинства случаев. Тем не менее даже в этих случаях гражданские и военные власти обычно разделены, военные касты и военные перевороты добиваются некоторой автономии власти, а многие вооруженные силы не организованы государствами. Большинство военных племен не имели гражданства, тогда как большинство феодальных дружин, рыцарских орденов, частных купеческих армий (например, британская Ост-Индская компания), а также повстанческих и партизанских сил были полностью независимы от государства (Jacoby 2004: 408). Сегодня террористы не имеют гражданства, так же как и бандитские, криминальные и молодежные группировки. Такие военные формирования широко распространены по всему миру в наши дни и весьма успешны в борьбе с армиями государств. Однако начиная со Второй мировой войны партизанам редко удавалось нанести поражение регулярным армиям государств. Разумеется, в этот период количество войн между государствами сократилось практически до нуля, а большинство войн и катастроф представляли собой гражданские войны. Наконец, военная власть завоевывает новые территории, где политическая власть может править только извне. Поэтому целесообразно отделять военную власть от политической. Еще одна моя поправка касается места и роли геополитической власти. Я следую конвенциональному различию между жесткой и мягкой геополитикой, принятому в политической науке. Жесткая геополитика предполагает войны, дипломатию угроз и заключение военных союзов. Все это в первую очередь является расширением военной власти, которой обладает государство. Мягкая геополитика предполагает мирную дипломатию по вопросам соглашений в экономике, праве, образовании, то есть в первую очередь является расширением политических отношений власти. Разумеется, во всех томах я отмечаю, что геополитика не единственная форма сетей власти, которые выходят за границы государств. В надгосударственных отношениях международные отношения соседствуют с транснациональными (зачастую идеологическими и экономическими, но иногда и военными), которые переплетаются прямо за границами государств. Это важно отметить, поскольку современные исследователи международных отношений ошибочно считают меня приверженцем классического политического реализма. Они утверждают, что, выходя за рамки национальных государств, я акцентирую внимание на геополитических отношениях, особенно на их жестком измерении, где доминируют военные отношения власти. Это не так, поскольку геополитическая компонента является одной из многих в надгосударственном пространстве. Когда Джон Гобсон отмечает, что у моей теории есть «потенциал» избежать этой ловушки благодаря моему понятию идеологической власти, он, вероятно, игнорирует тот факт, что я часто использую идеологическую власть именно в этом смысле. Наиболее могущественные «трансцендентные» идеологии распространены поверх политических границ, как и, разумеется, масса экономических отношений, которые он также игнорирует (Hobson 2006; подобная ошибочная дискуссия имеет место в теории международных отношений, см. Lapointe and Dufour 2011). Я по-прежнему горжусь масштабами этого тома. Мне нравится инсайд о том, что более 90 % времени своего существования на земле человеческие группы стремились предотвратить возникновение государств. Мне нравится мой аргумент о том, что люди осуществляли «прорыв» к государствам и цивилизациям исключительно редко и благодаря определенным обстоятельствам. Диалектика имперского господства и цивилизаций с множеством акторов власти, которую я обозначил, обладает огромной объяснительной силой, как и моя переработка веберианской диалектики феодальных и патримониальных режимов. Я по-прежнему горжусь моими логическими расчетами, относящимися к военным кампаниям первых в истории империй, и моими финансовыми подсчетами расходов английского государства не менее чем за семь столетий, несмотря на то что эти первые попытки могут быть улучшены благодаря дальнейшим эмпирическим исследованиям. Я сохраняю верность своей концепции «легионерской экономики» Рима, в соответствии с которой военная власть внесла свой вклад в его экономическое развитие (хотя и признаю, что так бывает весьма редко). Я продолжаю подчеркивать существование базового уровня нормативного консенсуса в средневековой Европе, который обеспечивался включенностью множества феодальных государств в единую христианскую ойкумену. Я полагаю, что предложил очень хорошее объяснение «европейского чуда»: бум капиталистического сельского хозяйства и промышленных революций, которые привели Европу к экономическому изобилию и глобальному господству. Более подробно я остановлюсь на этом в финальных главах. Разумеется, не обошлось и без ошибок. Я окончил работу над этим томом почти тридцать лет назад и теперь намереваюсь скорректировать некоторые детали моих аргументов в свете последних научных открытий. Я понял, что ошибался, когда постоянно использовал рост производительности земель (а не производительности труда) в качестве основного индикатора экономического развития, хотя у нас и нет такого рода данных за большинство исторических периодов, но за те периоды, за которые данные есть, они, очевидно, приводят к одним и тем же выводам. Но более общей проблемой было то, что я не всегда следовал требованиям собственной модели. В противном случае мне пришлось бы постоянно обсуждать все четыре источника социальной власти по отношению к различным регионам и эпохам. Но жонглировать четырьмя шариками одновременно на протяжении всей мировой истории довольно сложно, поэтому я периодически выпускал один из них. Большинство моих критиков утверждают, что я упускал из виду идеологическую власть, которая в этом томе была в основном религиозной. Они утверждают, что я минимизировал ее значение или рассматривал ее как слишком рационалистическую, оставляя без внимания тяжелые эмоциональные обязательства, которые она предполагает (Bryant 2006а; Gorski 2006). Я полагаю, что у них есть все основания так утверждать, поэтому я скорректировал этот промах в томе 3, когда работал с современными идеологиями. Некоторые также утверждают, что я подобным образом не дал идеологиям адекватной трактовки (Hobson 2006). Я принимаю тот факт, что даю им не вполне единообразную трактовку, но это сознательный шаг, поскольку я утверждаю, что идеологии играют весьма переменчивую роль в развитии человечества. В этом томе я исследую их роль в приобретении определенной степени цивилизационного единства множеством городов-государств в античной Месопотамии и затем в Греции. Я снова подчеркиваю роль религии в падении Римской империи и затем в средневековой Европе. В этих контекстах религия выступала в роли так называемой трансцендентной идеологии. В Средние века религия обычно воспроизводила существующие структуры власти и поэтому обладала меньшей автономией власти. Причина непостоянства моего обращения к идеологической власти заключается в непостоянстве ее проявлений. Верно и то, что, описывая средневековую Европу, я склонен рассматривать «христианский мир» как цивилизацию, в некоторой степени обособленную от остальных. Я демонстрирую, что западное христианство было действительно сетью взаимодействия, однако я недооцениваю степени его связей с исламом и Азией, к тому же ничего не говорю о восточном ортодоксальном христианстве (как отмечает Андерсон). Гобсон (Hobson 2004) представил впечатляющий список раннесовременных европейских научных и технологических открытий, которые были импортированы из Китая или адаптированы по образцу китайских прототипов. Он пытается продемонстрировать ошибочный европоцентризм большинства исследований европейского прорыва к современности, и здесь я ощущаю, что он отчасти присущ и мне. Я также чувствую вину за то, что недооценил арабскую науку, торговлю и способы ведения войны. Этот пробел в книге я, вероятнее всего, восполню. В остальном я намерен защищать свой анализ становления Европы от обвинения в том, что он чересчур «европоцентричный». Блаут (Blaut 2000) назвал меня одним из восьми «европоцентричных историков», что дважды ошибочно. Разумеется, рассуждая о ранних периодах, я рассматриваю Европу лишь по той простой причине, что к концу исследуемого в этом томе периода европейцы покорили Восток. Это одна из причин «европоцентризма» в исследовании данного периода. Я усматриваю истоки европейской динамики глубоко в контексте социальных структур и истории всего континента, что является второй причиной «европоцентризма». Тем не менее, с тех пор как я закончил работу над томом, разгорелся ожесточенный спор вокруг того, было ли «европейское чудо» настолько глубоко укоренено, как полагали многие авторы (начиная еще с Вебера). Ученые-ревизионисты утверждают, что европейская экономика (в частности, британская) в действительности обогнала азиатскую экономику (особенно наиболее развитые регионы Китая, дельту Янцзы) только в XIX в. Они считают, что «Великая дивергенция» началась в XIX в., поскольку в XVIII в. эти две страны и два региона были на одном уровне. До этого Азия и Китай были более развиты, однако в XVIII в. они угодили в смитианскую ловушку «высокосбалансированной» аграрной экономики. Смитианское развитие могло расширять разделение труда и рынок, однако без крупного технологического или промышленного прорыва дальнейшее развитие было невозможно. Ревизионисты утверждают, что только технология и институты промышленной революции, впервые возникшие в Англии в 1800 г., дали ей, а затем и всей Европе возможность вырваться вперед к глобальному доминированию. Затем они объясняли это в терминах двух «счастливых случайностей». Во-первых, в Британии (в отличие от Китая) был уголь, залегавший неподалеку от ее промышленных центров, что сокращало издержки индустриализации и делало возможным развитие эффективных технологических циклов между отраслями промышленности. Во-вторых, Британия захватила колонии в Новом Свете, которые смогли обеспечить ее сахаром, деревом, хлопком и серебром, что способствовало росту ее внутренней экономики и уровня жизни, а также дало возможность торговать с Азией [возможность оплачивать импорт азиатских товаров]. В чем Европа действительно преуспела, так это в военном насилии, а не в экономическом/технологическом мастерстве, и именно оно обусловило ее безусловное господство в мире. Ревизионисты отрицают положение о том, что Европа и Британия обладали глубоко укорененной динамикой, которая неуклонно вела к прорыву (Pomerantz 2000; Frank 1998; Wong 1998). Ниже я собираюсь кратко обосновать свой аргумент «глубокой укорененности» (я делаю это более подробно в Mann 2006). Как продемонстрировал Брайант (Bryant 2006b), большинство социологов (и историков) считают аргумент ревизионистов неубедительным. Основные социальные изменения являются результатом целого комплекса причин, а не двух случайных совпадений. Разумеется, многие аргументы ревизионистов ошибочны. Я начну с демографии и «момента обгона». Ревизионисты утверждают, что китайские данные демонстрируют, что Китай был с Англией примерно на одном и том же уровне на протяжении XVIII и в начале XIX в. За два предыдущих века в Китае огромными темпами росло население без сопоставимого роста уровня смертности. Китай практиковал такие меры контроля населения, как инфантицид, увеличение возраста вступления в брак, сокращение количества браков, а также уменьшение размера семей. Английские источники также демонстрируют огромный рост населения, которое удвоилось в более короткий промежуток времени — между 1740 и 1820 гг., однако в отличие от Китая растущее население не голодало. Действительно, к 1700 г. связи между продовольственными ценами и уровнем смертности были слабыми, а затем полностью исчезли. Напротив, Ли и Фенг (Lee and Feng 1999: 45,110–113) отмечают вспышки голода и тесную связь между ценами на продовольствие и уровнем смертности в Китае XVIII в. То есть мальтузианские кризисы к тому времени были уже преодолены в Англии, но не в Китае. Кент Ден (Deng 2003) заключает, что именно Китай, а вовсе не Англия завяз в нормальных аграрных циклах Смита. Он датирует «великую дивергенцию» между Европой и Китаем как произошедшую до 1700 г. по демографическим причинам. Ревизионисты отвечают на это, утверждая, что без последующей индустриализации Англия достигла бы наивысшей точки аграрного цикла Смита и затем по причине истощения земель и инвайронментальной деградации скатилась бы обратно к падению уровня жизни, стандартов питания и воспроизводства. Однако это оспаривается Бреннером и Исеттом (Brenner and Isett 2002), которые показывают, что в начале XVIII в. в Англии все еще наблюдался рост производительности труда, что привело к росту городского населения в два раза без падения общественного здоровья. Этот уникальный первый выход за пределы циклов Смита был плодом капиталистической революции в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство Британии могло расти, высвобождая труд. А сельское хозяйство Китая нет. Промышленность также возникла, абсорбируя высвобожденный труд. Переработка угля в паровую тягу стала энергетическим ядром промышленной революции, и ревизионисты утверждают, что уголь, залегающий вблизи растущих английских промышленных центров, был счастливой случайностью, тогда как Китай также располагал углем, но этот уголь залегал далеко от областей, которые могли бы стать промышленными центрами. Вокруг того, насколько такое сравнение правомерно, идут споры, и пока не ясно, чья позиция одержит верх. Уже к 1700 г. Англия производила угля в пять раз больше, чем остальные страны мира, вместе взятые, и в пятьдесят раз больше, чем Китай; уголь питал всю английскую промышленность. Европейские рынки капитала также были намного более развитыми по сравнению с их китайскими аналогами. В то время китайские ставки обычно составляли 8-ю%, европейские ставки были на этом уровне уже в XIV в., а к середине XVIII в. и вовсе опустились до 3–4% (Epstein 2000). Это означает, что Европа обладала более надежным финансовым регулированием и правами собственности к 1700 г. Второй «счастливой случайностью», на которую полагаются ревизионисты, является захват европейцами колоний, что давало им ценные ресурсы, особенно серебро, дерево и продовольствие. Колонии действительно принесли определенные экономические преимущества. Серебро позволило Европе торговать с Китаем, а новые крупы расширили рацион питания и увеличили количество потребляемых калорий. Однако, по оценке О’Брайана (O’Brien 2003), торговля с Новым Светом повысила ВВП на душу населения Британии лишь примерно на 1 %, что, конечно, значимо, но не сильно. Это тоже было причиной, но далеко не основной. И как мы увидим, колониализм был далек от того, чтобы быть случайным. Следовательно, как такового одного-единственного «момента обгона» не было, поскольку различные источники власти обладают различными ритмами. Например, протестантизм и милитаризм появились раньше, чем начался прорыв к промышленности. В этой книге я настаиваю на различии ритмов, но в то же время и на долгосрочном развитии идеологической, экономической, военной и политической власти. Однако я вовсе не ассоциирую себя с концепцией европейского/британского «превосходства», которую отстаивают такие ученые, как Дэвид Ландее (Landes 1998) и Эрик Джонс (Jones 2002). В этом обгоне эффективность была подчинена власти, а европейские добродетели не играли никакой роли. Как я продемонстрировал в томе 3, местному населению большинства стран жилось бы лучше без Британской империи. Я также согласен с ревизионистами в том, что глобальное господство было достигнуто не благодаря превосходству во всех источниках власти, а благодаря «передовомуфронту» лишь в военной власти. Тем не менее это превосходство также было глубоко укоренено, закалено веками войн в Европе, которые сейчас я вслед за Бартлеттом (Bartlett 1993) рассматриваю как процесс империализма и колониализма, в ходе которого более крупные и лучше организованные в военном отношении государства поглотили мелкие. Победители развили и применили «усовершенствованные» формы ведения войны, основанные на концентрированной летальной огневой мощи, которую они использовали как во благо, так и во зло в ходе заморской экспансии. Впервые это произошло благодаря пушкам на военных кораблях, а позднее в сухопутных войсках, которые были вооружены огнестрельным оружием и имели артиллерийские батареи. Концентрированная мощь огнестрельного оружия европейцев наносила поражение азиатским армиям, несмотря на их превосходящую численность. Европейцы стали «лучшими» в том, что касалось убийства людей, а следовательно, в опережении других цивилизаций. Я более подробно объясню этот процесс во второй главе тома 3. Победа европейского оружия изменила параметры экономической эффективности, как когда-то в древние времена их уже изменял милитаризм. На этот раз милитаризм создал международную экономику, но это была не экономика свободной торговли, а экономика монополий на торговлю и землю, которые приобретались при помощи летального насилия. Милитаризм способствовал достижению мирового господства, с его помощью перестроив и саму международную экономику. Милитаризм способствовал истреблению коренного населения колоний с умеренным климатом и замене его белыми поселенцами, которые «привезли» с собой экономические институты и увеличили ВВП на душу населения, — так утверждают современные экономисты (весьма мрачные подсчеты, подразумевающие, что выражение «на душу населения» означает на каждого выжившего, исключая погибших коренных жителей). Таким образом, Померанц, Франк и Гобсон правы, настаивая на важности вклада военной власти в европейское господство, но это также означает, что им следует признать, что милитаризм не был ни случайным, ни поздним, но глубоко укорененным в европейской социальной структуре явлением, периодически применявшимся сначала против других европейцев, а затем и по всему миру. Какие бы заокеанские территории ни захватывали европейские страны, это было случайным (иногда даже несущественным), но то, что некоторые или практически все европейские страны становились империями, было более или менее неизбежным. Чтобы европейские экономические отношения производства стали полностью капиталистическими, потребовались целые века. Для того чтобы европейские формы ведения войны стали настолько превосходящими остальные, также потребовались столетия. Оба процесса могли застопориться в различных точках своего развития. Но экономические и военные институты предполагали продолжительную предшествующую динамику, посредством которой социальные акторы постепенно совершенствовали свои практические навыки, чтобы получить возможный результат (по сравнению с «событийными моментами», случайно способствовавшими этим процессам), например принятие закона об огораживании, португальская навигационная революция или битва при Нанси в 1477 г. Но институты сами по себе также переплетаются друг с другом, часто непредсказуемым образом. Каждый из четырех источников власти отличается собственным ритмом развития, влияющим на ритмы других. Между 1660 и 1760 гг. эти колебания кумулятивно вытолкнули Британию из циклов Смита, характерных для каждого высоко сбалансированного аграрного общества. Это не был такой уж непредсказуемый «взлет» (как в теории промышленной революции Ростоу, которая в настоящий момент полностью дискредитирована), а скорее кумулятивный процесс устойчивого медленного роста вначале на 1 % в год до 3 % (но не больше) в середине XIX в. Период обгона наступил до глобального доминирования. Только во второй половине XIX в. западные державы действительно стали доминировать в Восточной Азии, хотя, разумеется, Япония успешно этому сопротивлялась. Западное доминирование продлилось по меньшей мере два века. Но это был единственный период истории, когда какой-либо регион мира глобально доминировал. Возможно, объяснение этого обстоятельства следовало бы начать с более раннего периода. Но никто не упрекает меня в том, что объяснение датируется гораздо более поздним периодом, или в том, что точное объяснение должно игнорировать какой-либо из четырех источников социальной власти. Тем не менее мое объяснение «европейского чуда» не идеально. Я фокусировался на воздействии милитаризма на отдельные государства и был склонен недооценивать его роль в уничтожении многих из них, а также возможностей, создаваемых при этом для европейской заморской экспансии. Я также недооценил вклад европейской научной революции в «европейское чудо», хотя это и не является основным недостатком, поскольку развитие науки зависит от поддержки со стороны рыночного спроса, от государственной и военной гонки за технологическое превосходство, а также от религиозной нагруженности мысли, которая рассматривала науку как раскрывающую божественные законы (я объясняю это в статье 2006 г.). Важнее то, что сейчас я дал два действительно различных общих объяснения «европейского чуда». Как отмечает Андерсон (Anderson 1992: 83), после того как я суммирую вклад всех четырех источников власти, я утверждаю (на с. 704–705): «Один фактор — христианский мир я выделяю как необходимый для всего, что последовало. Остальные факторы также внесли значимый вклад в результат, однако были ли они необходимыми — это другой вопрос». Андерсон комментирует с некоторой иронией, что «неожиданно героем всего романа оказывается католическая церковь». Мне казалось, что я достаточно смягчил этот акцент, но оказывается нет. Пожалуй, я действительно погорячился с выводом, процитированным выше. Он вступает в противоречие с другими корректными объяснениями, предложенными мной в этой книге. То есть, утверждая, что «европейское чудо» объяснялось большей ролью конкуренции в Европе, чем где бы то ни было еще, я не имею в виду исключительно экономическую конкуренцию. Как я уже отмечал, средневековая Европа располагала большим количеством конкурирующих коллективных акторов, прежде всего классов, а также коллективных акторов иного рода: деревня против поместья и монастырской экономической единицы, феодалы против городской буржуазии и гильдий, государства, сражающиеся с другими государствами и церковью. Но все это не было результатом Гоббсовой войны всех против всех, поскольку интенсивность конкуренции в основном регулировалась нормативной солидарностью, предоставляемой христианским миром (или более точно — западным христианским миром). Солидарность была на более низком уровне, но если бы христианство было более напористым, оно могло бы полностью задушить эту конкуренцию. Все эффективные рынки (общества) нуждаются в нормативной регуляции, о которой социологам известно начиная с Дюркгейма. В современных экономиках и государствах она обеспечивается в основном посредством права. В силу своего происхождения большинство европейских государств, а также католическая церковь обладали различными комбинациями основанного на обычае (германского) права и статутного[4] (романского) права, которые также играли определенную регулирующую роль. Однако законное право постоянно оспаривалось, и именно церковь доминировала в поддержании нормативной регуляции, по крайней мере до протестантского раскола. Как известно, по вопросу религии я больше заимствую у Дюркгейма, чем у Вебера, поэтому утверждаю, что регуляция в большей степени осуществлялась через ритуал, чем через догмат. Мой заключительный аргумент в последних главах этой книги сводится к тому, что имели место две необходимые общие причины «европейского чуда», а не только интенсивная конкуренция в европейском обществе, в которой были задействованы все источники власти, однако она регулировалась нормативной солидарностью христианства. Я осознаю, что мне следовало четче продемонстрировать это раньше. Мне также не следовало создавать впечатление, что «все шло своим чередом» в период Средневековья. Например, в главе 12 в разделе, посвященном резюме моего аргумента о «европейском чуде», я утверждаю, что все необходимые для него условия уже существовали к 800 г. н. э. Как только критики заметили это и подняли меня на смех, я понял, что это был как раз один из тех моментов, в которых энтузиазм притупляет рассудок автора. Я действительно демонстрировал, что развитие условий было растянутым на века и кумулятивным процессом, который неравномерно распространялся по Европе по мере сдвига власти на северо-запад континента. Он мог сбиваться с курса дальнейшими завоеваниями с востока или экономическими и демографическими кризисами. Если бы Непобедимая армада одержала победу, Англия, вероятно, никогда не стала бы передовым фронтом власти, и кто знает, какую форму приняла бы в этом случае промышленная революция. Но поражение Армаде нанесло не столько английское военно-морское искусство, сколько шторм — это была чистая случайность. Институты капитализма, усовершенствованного милитаризма и современного государства имели в своей основе не ровное, а упорное развитие. Они могут быть представлены как структурные, но их нельзя рассматривать как всего лишь статичные, институционализированные декорации, которые могут быть разрушены взрывом интерстициальной власти. Иногда структурные изменения являются результатом мириады меньших изменений. Первая паровая машина Ньюкомена появилась уже в 1713 г., хотя Джеймс Ватт начал эффективно ее использовать в 1763 г., а сотни инженеров продолжали совершенствовать еще на протяжении 150 лет после Ньюкомена. В последней главе я поясняю, что постфактум европейская динамика выглядит систематичной, и она действительно была довольно устойчивой, но если приглядеться к ней поближе, то можно обнаружить, что многие причинно-следственные связи были сложены вместе и иногда это происходило довольно случайно. Я начал свой проект с того, что задал себе «вопрос Энгельса»: был ли один из четырех источников власти решающей причинно-следственной силой в структурировании общественных отношений (он утверждал, что экономическая власть в конечном счете является решающей). Мой ответ, скорее, веберианское «нет», хотя я и не начинал с этого как с исходной предпосылки работы, и концу тома проделаю лишь одну четвертую часть на пути к попытке ответить на этот вопрос эмпирически. Но экономика, государство не представляют собой структуры, существующие статично и оказывающие перманентное воздействие на социальное развитие. Они, напротив, имеют эмерджентные свойства, поскольку возникающие из их частиц и элементов новые композиты неожиданно оказываются релевантными для более общего социального развития и становятся частью новой институциональной силы. Представляется, что у этих процессов нет общей и единственной оформляющей их силы. Таким образом, все, чего мне удалось достичь на настоящий момент, — это обобщения для отдельных периодов, большинство из которых многослойны, как пробные, противоречивые и уязвимые для эмпирических исследований следующих десятилетий обобщения. Однако я сделал три обобщения о причинности. Первое: причины развития одного источника власти (при прочих равных), вероятнее всего, лежат в его предшествующих условиях, поскольку его организация обладает определенной степенью автономии. Если мы хотим объяснить промышленную революцию, мы должны в большей степени обращаться к экономике, чем к религиозным или научным дискурсам либо к военным практикам или государству, хотя для полного объяснения необходимы все. Если мы хотим объяснить появление современного государства, нам прежде всего следует обратить внимание на предшествующие политические практики, которые в большей мере проистекали из борьбы за налогово-военную эксплуатацию, чем из эксплуатации, берущей начало непосредственно в способе производства. Очевидно, что новые военные организации и стратегии возникли в первую очередь для борьбы с предшествующими, а также что Лютер развил свою теологию прежде всего в ответ на разногласия в католической церкви, и его доктрины приобрели всемирно-историческое значение, только когда оказались связанными с капитализмом (как утверждал Вебер) и привели к сдвигам в геополитической власти (как утверждаю я). Второе: характер власти, проистекающей из четырех источников, всегда различный. Экономическая власть больше включена в повседневную жизнь и вызывает наиболее плавное и продолжительное причинно-следственное воздействие; идеологическая власть возникает мощно, внезапно, неравномерно и в своих наиболее весомых трансцендентных проявлениях исключительно случайно (нерегулярно); военная власть используется внезапно, нерегулярно и насильственно, но она также кумулятивно накапливает технологии; политическая власть отчетливо территориальна и институционализирована. Я объясню это более подробно в томе 4. Третье: когда мы совершенствуем наше объяснение, принимая во внимание воздействие других источников власти, мы редко делаем акцент на их ключевых качествах. Мы часто рассматриваем периферийные аспекты, обладающие определенным (обычно непредсказуемым) значением для того источника власти, который мы пытаемся обозначить. Чтобы объяснить появление современного государства, мы должны назвать его экономические предпосылки. Точно так же, когда мы объясняем военное превосходство какого-либо метода ведения войны, мы должны определить его экономические предпосылки исходя из достаточного количества пастбищ (для колесниц или кавалерии) или из наличия металлургической промышленности, изготавливающей пушки, до того как она была превращена в другие обрабатывающие отрасли. Напротив, чтобы объяснить, почему капитализм XX в. был разделен на нации и классы, мы в меньшей степени концентрируемся на основных политических баталиях XIX в., которые затрагивали классовые, религиозные и национальные движения, чем на непредвиденных последствиях влияния, оказанного на них самоорганизацией на уровне государства в целях преследования их коллективных интересов. Подобный анализ уводит нас далеко за пределы любой простой теории «конечных причин». Тем не менее мы можем делать обобщения и об отличительной силе воздействия каждого из источников власти, а также о доминировании того или иного источника в конкретных пространственных и исторических условиях. Я осуществляю последнее во всех четырех томах, особенно в томе 4.БИБЛИОГРАФИЯ
Anderson, Р. (1990). «А culture in contraflow — I», New Left Review, No. 180, 41–78. — (1992) A Zone of Engagement. London: Verso. Bartlett, R. (1993). The Making of Europe: Conquest, Colonization, and Cultural Change, 950-1350. Princeton, NJ: Princeton University Press. Blaut,J. (2000). Eight Ethnocentric Historians. New York: Guilford Press. Bryant, J. (2006a). «Grand, yet grounded: ontology, theory, and method in Michael Manns historical sociology» in John Hall &. Ralph Schroeder (eds.), An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann. Cambridge: Cambridge University Press. --. (2006b). «The West and the Rest Revisited: Debating Capitalist Origins, European Colonialism and the Advent of Modernity», Canadian Journal of Sociology, Vol 31, 403-44. xxiv Preface to the new edition. Crow, G. (1997). Comparative Sociology and Social Theory. Houndmills, Basingstoke: Macmillan. Deng, K. (2003). «Fact or fiction? Re-examination of Chinese premodern population statistics», Working Papers, 76/03. Department of Economic History, London School of Economics and Political Science. Epstein, S. (2000). Freedom and Growth: The Rise of States and Markets in Europe, 1300–1750. London: Routledge. Frank, A. G. (1998). Re-Orient: Global Economy in the Asian Age. Berkeley <&: Los Angeles: University of California Press. Gorski, P. (2006). «Mann’s theory of ideological power: sources, applications and elaborations» in Hall &. Schroeder, op. cit. Hall, J. (2011). «Introduction» to Michael Mann Power in the 21st Century. Conversations with John A. Hall. Cambridge: Polity Press. Hobson, J. (2004). The Eastern Origins of Western Civilisation. Cambridge: Cambridge University Press. --. (2006). «Mann, the state and war» in Hall &. Schroeder, op. cit. Jacoby, T. (2004). «Method, narrative and historiography in Michael Mann’s sociology of state development», The Sociological Review, Vol. 52: 404-21. Jones, E. (2002). The Record of Global Economic Development. Cheltenhan: Edward Elgar. Kalberg, S. (1994). Max Webers Comparative-Historical Sociology. Cambridge: Polity. Landes, D. S. (1998). The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Others So Poor. New York: Norton. Lapointe, T., and E Dufour (2011). «Assessing the historical turn in IR: an anatomy of second wave historical sociology» online in Historical Sociology, Working Group of the British International Studies Association. Lee, J., and F. Wang (1999). One Quarter of Humanity: Malthusian Mythology and Chinese Realities. Cambridge, MA: Harvard University Press. Mann, M. (1977). «States ancient and modern», Archives europeennes de sociologie, 18, 262-98. --. (2006). «The sources of social power revisited: a response to criticism» in Hall <&: Schroeder, op. cit. O’Brien, P. (2003). «The deconstruction of myths and reconstruction of metanarratives in global histories of material progress» in Benedict Stuchtey and Eckhardt Fuchs (eds.), Writing World History. Oxford: Oxford University Press. Poggi, G. (2001). Forms of Power. Oxford: Polity Press. Pomerantz, K. (2000). The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press; Померанц, К. (2017). Великое расхождение. Китай, Европа и создание современной экономики. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. Sewell, W. (2005). Logics of History. Chicago: University of Chicago Press. Smith, D. (1991). The Rise of Historical Sociology. Philadelphia: Temple University Press. Wong, R. B. (1997). China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience. Ithaca, New York: Cornell University Press.ВСТУПЛЕНИЕ
В 1972 г. я написал статью «Экономический детерминизм и структурные изменения», целью которой была не только критика идей Карла Маркса и развитие идей Макса Вебера, но и попытка очертить контуры усовершенствованной общей теории социальной стратификации и социального изменения. Затем я стал развивать эти идеи, и статья начала превращаться в небольшую книгу. Предполагалось, что она будет содержать общую теорию, подкрепленную несколькими кейс-стади, включая исторические примеры. Позднее я решил, что книга будет посвящена изложению более широкой теории мировой истории власти. Работая над книгой, я вновь открыл для себя удовольствие зачитываться историческими работами. Десятилетний поиск в этом направлении укрепил эмпиризм моего практического бэкграунда, восстановив мое уважение к комплексности и упрямству фактов. Но это не вполне меня отрезвило. Написав огромную работу по истории власти в аграрных обществах, я собираюсь коротко продолжить ее в томе 2 «История власти в промышленных обществах» и в томе 3 «Теория власти», даже если их вклад в первоначальную идею будет скромнее. В итоге эта работа дала мне представление о возможностях междисциплинарности: социология и история могут опираться на данные друг друга. Социологическая теория не может развиваться без обращения к истории. Большинство ключевых социологических проблем затрагивают процессы, разворачивающиеся во времени, социальная структура наследуется из прошлого, а большая часть примеров сложных обществ доступна только исторически. Но изучение истории без социологии также обеднено. Когда историки сторонятся теорий функционирования обществ, они ограничивают себя понятиями здравого смысла, характерными для их общества. В этом томе я вновь подниму вопрос о применении современных понятий, таких как «нация», «класс», «частная собственность» и «централизованное государство», к периодам ранней истории. В большинстве случаев ряд ученых предвидят мой скептицизм. Но они могли бы сделать это раньше и более строго, если бы оформили неявный современный здравый смысл в явную проверяемую теорию. Социологическая теория также могла бы дисциплинировать историков в отборе фактов. Эрудиции всегда не хватает: социологических и исторических данных всегда больше, чем мы могли бы обобщить. Теория в строгом смысле позволяет нам решать, какие факты являются ключевыми, что является основным, а что нет для понимания, как функционируют конкретные общества. Мы собираем данные вне зависимости от того, подтверждают или опровергают они наши теоретические интуиции, совершенствуем последние, собираем еще больше данных и продолжаем зигзагообразное движение от теории к данным и обратно до тех пор, пока не составим правдоподобное мнение о том, как в этом пространстве и времени «работают» исследуемые общества. Конт был прав, утверждая, что социология — царица социальных и гуманитарных наук. Но ни одной царице никогда не приходилось работать так упорно, как социологу с теоретическими амбициями. Точно так же и создание теории, подтверждаемой историей, никогда не было настолько рационализированным процессом, как предполагал Конт. Зигзагообразное движение между теоретической и исторической дисциплинами приводит к неожиданному выводу: реальный мир (исторический или современный) беспорядочен и задокументирован несовершенно, а теория требует четких форм, полноты и завершенности. Многое вообще не может быть точным. Слишком пристальное внимание исследователя к фактам делает его слепым, чрезмерное вслушивание в ритмы теории и мировой истории — глухим. Поэтому, чтобы сохранить свое здоровье в этом нелегком предприятии, я больше обычного зависел от стимулов и поддержки доброжелательно настроенных специалистов и собратьев по зигзагообразной траектории. Больше остальных я обязан Эрнесту Геллнеру и Джону Холлу. На нашем семинаре «Паттерны истории», который с 1980 г. проходит в Лондонской школе экономики (LSE), мы обсудили большую часть материала, предложенного в этом томе. Моя благодарность адресована в особенности Джону, который прочел практически все черновые варианты, снабдил их обширными комментариями, постоянно спорил со мной и тем не менее всегда с теплотой и поддержкой относился к моему исследованию. Я также бессовестно эксплуатировал участников семинара, обсуждая их великолепные доклады по теме, которой интересовался сам, и используя их как неисчерпаемый источник идей и специальных знаний. Многие исследователи написали обширные комментарии к отдельным главам, корректируя мои грубые ошибки, переадресовывая меня к новейшим исследованиям и противоречиям, демонстрируя мою неправоту, надеясь, что я подольше задержусь в их поле и буду копать глубже. За упорядочение их интересов в главах книги я благодарен Джеймсу Вудберну, Стивену Шеннану, Колину Ренфрю, Николасу Постгейту, Гэри Ранси-мену, Кейт Хопкинс, Джону Пилу, Джону Пэрри, Питеру Берку, Джеффри Элтону и Гьян Поджи. Энтони Гидденс и Уильям МакНилл прочли финальный вариант и сделали много полезных замечаний. В течение всех лет работы комментарии коллег благотворно сказались на моих черновиках, семинарах и аргументах. В частности, мне хотелось бы поблагодарить Кейт Харт, Дэвида Коквуда, Никоса Моузелиса, Энтони Смита и Сэнди Стюарт. Студенты Университета Эссекса и LSE были прекрасной аудиторией для апробации моих общих идей в курсах социологической теории. Оба университета великодушно предоставили мне отпуск для исследований и чтения лекций по материалам этой книги. Серии семинаров в Йельском университете, Университете Нью-Йорка, Академия наук в Варшаве и Университет Осло дали мне дополнительную возможность развить мои аргументы. Комитет социальных исследований присудил мне персональный исследовательский грант на академический год 1980/81 и всегда поддерживал меня. В этот год я смог закончить большинство исторических исследований, необходимых для начальных глав, чего не удавалось прежде из-за большой педагогической нагрузки. Библиотекари Университета Эссекса, LSE, Британского музея и университетской библиотеки Кембриджа отлично справились с моими эклектичными запросами. Мои секретари в Эссексе и LSE Линда Пичи, Элизабет О’Леари и Ивон Браун были чрезвычайно эффективны и полезны в работе над черновиками. Ники Харт принадлежит прорывная идея реорганизовать эту работу в три тома. Ее собственная работа, а также то, что она вместе с нашими детьми Луизой, Гаретом и Лаурой всегда была рядом, защитило меня от того, чтобы быть ослепленным и оглушенным или даже одержимым этим проектом. Разумеется, все допущенные ошибки являются моими.ГЛАВА 1 Общества как организованные сети власти
В трех планируемых томах этой книги представлена история и теория отношений власти в человеческих обществах. Это довольно трудно. Минутная рефлексия представляет это предприятие даже более удручающим: а не являются ли история и теория отношений власти практически полностью синонимичными истории и теории человеческого общества как такового? Разумеется, являются. Создание работ (сколько бы томов они ни включали), посвященных важнейшим паттернам, прослеживаемым на протяжении всей истории человеческих обществ, не пользуются популярностью в конце XX в. Такие широкие обобщения в викторианском стиле (основанные на имперского масштаба мародерстве вторичных источников) оказываются раздавлены характерным для XX в. весом томов различных исследователей, а также четко оформленными рамками академических специальностей. Моим основным оправданием служит то, что я пришел к своеобразному общему методу рассмотрения человеческих обществ, который не в ладах с моделями обществ, преобладающими в работах по социологии и истории. Эта глава объяснит мой подход. Те, кто не силен в социологической теории, могут найти некоторые ее части сложными для понимания. Если так, есть альтернативный путь прочтения этого тома. Пропустите эту главу и начинайте с главы 2 или переходите к любой нарративной главе и продолжайте чтение до тех пор, пока не будите озадачены или возмущены используемой терминологией или лежащими в ее основе теоретическими ходами. Тогда возвращайтесь обратно к этому вступлению за объяснением. Мой подход можно суммировать двумя утверждениями, из которых следует самобытная методология. Первое гласит, что общества конституируются множеством накладывающихся друг на друга и пересекающихся социально-пространственных сетей власти. Специфика моего подхода станет понятнее, когда я укажу на три вещи, которыми общества не являются. Общества не являются унитарными образованиями, социальными системами (закрытыми или открытыми) и тотальностями. Невозможно найти какое-либо общество, полностью ограниченное в географическом или социальном пространстве. Поскольку нет системы, нет тотальности, не может быть и подсистем, измерений или уровней такой тотальности. Поскольку нет целого, социальные отношения не могут быть «в основе своей», «в конечном счете» редуцированы к некоему системному свойству целого, как, например, способ производства, культура, нормативная система или форма военной организации. Поскольку нет ограниченной тотальности, не имеет смысла подразделять социальное изменение или конфликт на эндогенный и экзогенный. Поскольку нет социальной системы, нет и эволюционного процесса внутри нее. Так как человечество не подразделяется на ряд ограниченных тотальностей, не имеет места и диффузия социальных организаций между ними. Поскольку не существует тотальности, индивиды не ограничены в поведении «социальной структурой как целым», а потому бесполезно проводить различие между социальным действием и социальной структурой. Выше я нарочно преувеличиваю специфику своего подхода, чтобы продемонстрировать следствия. Я не стану противопоставлять свой подход в целом вышеуказанным способам рассмотрения обществ. Хотя большая часть социологической ортодоксии (теория систем, марксизм, структурализм, структурный функционализм, нормативный функционализм, многомерная теория, эволюционизм, диффузионизм и теория действия) исказила свои открытия тем, что не проблематизировала концепцию общества как унитарную тотальность. На практике большинство объяснений, находящихся под влиянием этих теорий, рассматривало политические системы или государства как их общества, как тотальные единицы анализа, в то время как государства представляют собой всего лишь один из четырех основных типов сетей власти, с которыми я работаю. Чрезвычайно завуалированное влияние национальных государств в конце XIX — начале XX в. в науках о человеке привело к тому, что национально-государственная модель воцарилась в социологии так же, как и в истории, за исключением археологии и антропологии, где центральное место принадлежит культуре, хотя последняя зачастую рассматривается как отдельно взятая, ограниченная культура, своего рода национальная культура. Ряд современных социологов и историков отвергают национально-государственные модели. Они приравнивают общество к транснациональным экономическим отношениям, используя капитализм или индустриализм как основное понятие. Это другая крайность, хотя и в противоположном направлении. Государство, культура и экономика являются важными структурирующими сетями, но они практически никогда пространственно не совпадают. Не существует основного понятия или основной единицы общества. Эта позиция выглядит слишком странной, чтобы социологи могли ее принять, но если у меня получится их убедить, я упраздню понятие «общество» как таковое. Второе утверждение, суммирующее суть моего подхода, вытекает из первого. Рассмотрение обществ как множества накладывающихся друг на друга и пересекающихся сетей власти предоставляет нам лучший из имеющихся подходов к вопросу о том, что в конечном итоге является первичным или детерминирующим в обществах. Общее объяснение обществ, их структуры и истории может быть дано в терминах взаимодействия того, что я буду называть четырьмя источниками социальной власти: идеологическими, экономическими, военными и политическими (ИЭВП) отношениями. Они представляют собой (1) накладывающиеся друг на друга сети социального взаимодействия, а не измерения, уровни или факторы некоей единой социальной тотальности. Это следует из моего первого утверждения. Они также представляют собой (2) организации, институциональные средства достижения человеческих целей. Их примат проистекает не из силы человеческих желаний идеологического, экономического, военного или политического удовлетворения, а из определенных организационных средств, которые делают возможным достижение человеческих целей, какими бы они ни были. В этой главе я шаг за шагом охарактеризую четыре организационных средства и мою ИЭВП модель организованной власти. Соответственно из этого развивается специфическая методология. Нет ничего нового в том, чтобы писать об отношениях власти в терминах более абстрактного языка, затрагивающих взаимодействие экономических, идеологических и политических факторов или уровней либо измерений общественной жизни. Я оперирую более конкретными социопространственным и организационным уровнями анализа. Центральная проблема заключается в организации, контроле, материально-техническом обеспечении, коммуникации — в способности организовать и контролировать людей, материалы и территории, а также в развитии этих способностей на протяжении истории. Четыре источника социальной власти предлагают альтернативные организационные средства социального контроля. В различные эпохи и в различных уголках мира каждый из источников усиливал способность к организации, что позволяло форме его организации диктовать в течение определенного времени форму обществам в целом. Моя история власти основывается на измерении социопространственной способности к организации и объяснении ее развития. Благодаря дискретной природе развития власти эта задача оказывается намного легче. Мы столкнемся с различными всплесками, относящимися к изобретению новых организационных техник, которые значительно увеличивают способность контролировать людей и территории. Список наиболее важных техник предложен в главе 16. Когда я подхожу к всплеску организационных способностей, я прерываю повествование, предпринимаю попытку измерить увеличение власти и затем пытаюсь его объяснить. Такой взгляд на социальное развитие Эрнест Геллнер (Gellner 1964) назвал «неоэпизодическим». Фундаментальные социальные изменения, такие как рост человеческих возможностей, происходят в рамках ряда «эпизодов» трансформации основных структур. Эти эпизоды не являются частью одного имманентного процесса (как это было принято описывать в XIX в. в терминах всемирной истории развития чего-либо), тем не менее они могут оказывать на общество кумулятивное воздействие. Поэтому можно набраться смелости и приступить к вопросу о первичности (первопричине, причине, детерминирующей в конечном отношении).ПЕРВИЧНОСТЬ
Из всех проблем, поднятых социологией за два последних столетия, наиболее важной, хотя и трудноуловимой, была проблема первопричинности или детерминированности. Существует ли одна или более вещей, причин или элементов, имеющих решающее значение, в конечном счете детерминирующих общество? Или человеческие общества являются паутиной, сплетенной из бесконечных поликаузальных взаимодействий, где нет места всеобъемлющим паттернам? Каковы базовые основания социальной стратификации? Каковы важнейшие детерминанты социального изменения? Это самые древние и самые вечные из всех социологических вопросов. Даже в той свободной манере, в которой я их сформулировал, это не один и тот же вопрос. Тем не менее они проистекают из одной центральной проблемы: как возможно выделение «наиболее важных» элементов или элементов человеческих обществ? Многие авторы полагают, что ответить на этот вопрос невозможно. Они утверждают, что социология не может открыть общие законы или даже разработать абстрактные понятия, универсально применимые к обществам всех времен и народов. Этот скептический эмпиризм предполагает, что необходимо начинать с более умеренных вещей, анализа отдельных ситуаций при помощи интуитивного и эмпатического понимания, проистекающего из нашего собственного социального опыта, построения поликаузальных объяснений. Однако это ненадежная эпистемологическая позиция. Анализ не может отражать исключительно факты, поскольку наше восприятие фактов упорядочено рассудочными категориями и теориями. Самое обыкновенное историческое исследование содержит множество скрытых допущений о природе человека и общества, а также множество понятий здравого смысла, происходящих из социального опыта исследователя, например понятия «нация», «социальный класс», «статус», «политическая власть», «экономика». Историки обходятся без проверки этих допущений, так как они используют одни и те же допущения; но, поскольку появляются особые стили исторических исследований (стиль вигов, националистический, материалистический, неоклассический и т. д.), они существуют в реалиях конкуренции общих теорий того, «как общества работают». Но даже в отсутствие конкурирующих предположений появляются трудности. Пол и каузальность подразумевает, что социальные события или тренды вызваны многими причинами. Таким образом, мы искажаем социальную комплексность в случае, если мы слишком абстрактны или даже если используем по отношению к ней несколько основных структурных детерминант. Однако мы не в состоянии этого избежать. Каждое исследование отбирает ряд, но не все предшествующие события в качестве детерминант последующих. Следовательно, исследователь работает с некими критериями значимости, даже если делает это неэксплицитно. Целесообразно периодически делать такие критерии эксплицитными и заниматься теоретическими построениями. Тем не менее я принимаю скепсис по отношению к эмпиризму всерьез. Его принципиальная дефективность хорошо обоснованна: общества куда менее упорядочены, чем наши теории о них. В своих самых откровенных фрагментах даже такие систематизаторы, как Маркс и Дюркгейм, признают это, тогда как величайший социолог — Вебер разработал методологию («идеального типизирования»), чтобы справиться с беспорядком. Я последую примеру Вебера. Мы можем разработать похожую методологию (вероятно, дающую похожие ответы), для того чтобы ответить на вопрос о первопричинности, но только посредством разработки понятий, пригодных для работы с беспорядком. Именно в этом, по моему мнению, и состоит достоинство социопространственной и организационной модели источников социальной власти.ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И СОЦИАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Начнем с человеческой природы. Люди (человеческие существа) неугомонны, целеустремленны и рациональны, они стремятся максимизировать наслаждение прелестями жизни и способны выбирать и изыскивать для этого подходящие средства. Или по крайней мере часть из них так поступает, но этого вполне достаточно, чтобы придать динамику человеческой жизни, а также истории, испытывающей недостаток в прочих разновидностях динамизма. Эти свойства людей являются источниками всего описанного в этой книге. Они являются первичными источниками власти. По этой причине теоретики социальных наук всегда уступали соблазну работать с чуть более широкими мотивационными моделями человеческого общества, пытаясь укоренить теорию социальной структуры в «важности» различных человеческих мотивационных потребностей. В социальных науках это было более популярно на рубеже веков, чем сейчас. Самнер и Ворд первым делом составили список основных человеческих потребностей, таких как сексуальная реализация, аффективные потребности, благосостояние, физическая необходимость и креативность, интеллектуальная креативность и смыслы, богатство, престиж, возможность преследовать собственные интересы и др. Затем они пытались оценить их относительную значимость как мотивов действия, из чего выводили превосходство в социальной значимости семьи, экономики, правительства и т. п. И поскольку эти частные практики могут быть устаревшими, общая мотивационная модель общества подкреплена рядом современных теорий, включая различные версии материалистических и идеалистических теорий. Например, многие марксисты выводят значимость способов экономического производства в обществе из предполагаемой силы человеческой потребности в материальных средствах существования. Мотивационные теории будут более подробно рассмотрены в томе 3. И мой вердикт будет заключаться в том, что проблемы мотивации важны и интересны, но с вопросом о первичности они напрямую (непосредственно) не связаны. Удовлетворение большинства из наших мотивационных потребностей, нужд и преследования целей включает людей во внешние отношения с природой, а также с другими людьми. Человеческие цели предполагают вторжение в природу (материальную жизнь в самом широком смысле слова) и общественную кооперацию. Без них достижение целей или получение наслаждения трудно даже представить. Поэтому характеристики природы и социальных отношений становятся релевантными, а иногда действительно структурирующими по отношению к мотивации. Обращение к природе или социальным отношениям может также обладать эмерджентными свойствами. Это очевидно относительно природы. Например, первые цивилизации обычно появлялись там, где было аллювиальное земледелие[5]. Мотивацию людей к увеличению средств материального существования можно считать доказанной. Это константа. Тем, что действительно объясняет происхождение цивилизации, являются, например, наводнения, которые удобряли аллювиальные почвы (см. главы 3 и 4). Никто не станет всерьез утверждать, что жители долин Евфрата и Нила обладали большими экономическими потребностями, чем, скажем, доисторические обитатели европейского континента, которые не стали первооткрывателями цивилизации. Скорее экономические потребности первых получили огромную инвайронментальную помощь от речных долин (и прочих региональных факторов), что привело их к соответствующему социальному отклику. Человеческая мотивация является нерелевантной, за исключением тех случаев, когда она опережает потребность, которая обладает достаточной силой, чтобы придать людям динамизм, где бы они ни проживали. Развитие социальной власти признавалось во всех социальных теориях. От Аристотеля до Маркса утверждалось, что «человек» (речь шла зачастую о мужчине — man и, к сожалению, реже о женщине — woman) является социальным животным, способным к достижению целей, включая господство над природой, только посредством кооперации. Существует множество человеческих целей, форм социальных отношений, больших и малых сетей взаимодействия личностей, ранжируемых от любви, подразумевающей семью, вплоть до экономики и государства. Теоретики символического интеракционизма, такие как Шибутани (Shibutani 1955)’ отмечали, что мы существуем в сбивающем с толку разнообразии «социальных терминов», практикуемых во многих культурах: профессия, класс, соседство, гендер, поколение, хобби и др. Социологические теории героически упрощали это, отбирая те из наших отношений, которые были более «могущественными», чем другие, в определении формы и природы прочих отношений и через это в определении формы и природы социальных структур в целом. Это происходит не потому, что определенные потребности, которые они удовлетворяют, мотивационно более «могущественные», чем другие, а потому, что эти отношения более эффективные как средство достижения целей. Не цели, а средства служат нашей точкой отсчета в вопросе о первичности. В любом обществе, характеризующемся разделением труда, будут возникать специализированные социальные отношения, удовлетворяющие различные кластеры человеческих потребностей, и будут различаться по их организационным возможностям. На этом мы оставляем область целей и средств, вместе взятых. Дело в том, что власть той или иной формы может вовсе не являться первостепенной человеческой целью. Если она является могущественным средством для достижения других целей, она ценна сама по себе — это эмерджентная потребность. Она возникает в ходе удовлетворения необходимых потребностей. Наиболее очевидным примером выступает военное принуждение. Вероятно, не существует изначально присущего людям стремления или потребности к военному принуждению (я вернусь к обсуждению этого в томе 3), однако оно является эффективным организационным средством для достижения иных целей. По определению Толкотта Парсонса, власть — это «генерализованное средство» для достижения каких угодно целей (Parsons 1968: I, 263). Таким образом, я не уделяю внимания изначально присущим мотивам и целям, а концентрируюсь на развитии организационных источников власти. И если я утверждаю, что «люди преследуют свои цели», следует воспринимать это не как волюнтаристское или психологическое утверждение, а как данность, константу, к которой я не буду возвращаться, поскольку она не имеет дальнейшей социальной силы. Я также не стану уделять внимание большому количеству концептуальной литературы, посвященной «власти как таковой», не делая практически никаких отсылок к «двум (или трем) ликам власти»: «власть против влияния» (за исключением главы 2), «включенность противисключенности в принятии решений» и тому подобных контроверзах, которые подробно рассмотрены в первых главах книги Вронга (Wrong, 1979). Существует масса вопросов по этому поводу, однако для себя я избрал другую линию. Как и Гидденс (Giddens 1979: 91) я не буду рассматривать власть саму по себе как ресурс. Ресурсы — это проводники, через которые власть осуществляется. У меня есть две ограниченные концептуальные задачи: (1) определить основные разновидности «проводников», «генерализованных средств» или, как я предпочитаю их называть, источников власти, а также (2) разработать методологию для исследования организационной власти.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ВЛАСТЬ
Коллективная и дистрибутивная власть
В самом общем смысле власть — это способность преследовать и достигать цели путем овладения окружающей средой. Понятие «социальная власть» обладает двумя дополнительными отличительными характеристиками. Первая характеристика ограничивает содержание этого понятия через осуществление господства над другими людьми. Например, власть — это возможность и способность актора в рамках социальных взаимоотношений навязать свою волю вопреки сопротивлению (Weber 1968: I, 53). Однако Парсонс считал, что такое определение власти ограничено ее дистрибутивным аспектом — властью А над В. В таком случае, чтобы В мог получить власть, А должен потерять некоторую ее часть. Их отношения представляют собой «игру с нулевой суммой», в которой ограниченный объем власти может быть распределен между участниками. Парсонс справедливо отметил второй, коллективный аспект власти, в соответствии с которым люди, сотрудничая, могут увеличивать свою общую власть над третьей стороной или над природой (Parsons 1960: 199–225). В большинстве социальных отношений одновременно действуют и переплетаются оба аспекта власти — дистрибутивный и коллективный, эксплуататорский и функциональный. Без сомнения, отношения между этими двумя аспектами социальной власти носят диалектический характер. Преследуя свои цели, люди вступают в отношения коллективной власти. Однако в ходе достижения коллективных целей возникают социальная организация и разделение труда. Организация и разделение функций ведут к дистрибутивной власти, проистекающей из надзора и координации. Чтобы понятие «разделение труда» не вводило в заблуждение, отметим, что оно также включает специализацию функций на всех уровнях: верхи руководят, а остальные подчиняются. Те, кто занимает позиции надсмотрщиков и координаторов, получают огромное организационное превосходство над остальными. Сети интеракции и коммуникации сосредоточиваются вокруг их функций, которые, как очевидно, в любой современной фирме могут вполне успешно выполняться организационной структурой, позволяющей находящимся выше контролировать всю организацию, а также не дающей возможности находящимся внизу участвовать в этом контроле. Она позволяет верхам привести в движение организационной машину как средство для достижения коллективных целей. Поскольку любой может не подчиниться приказу, всегда существует возможность для установления альтернативной организационной машины для достижения целей. Как отмечает Моска, «власть любого меньшинства непреодолима для любого индивида большинства, который остается один перед тотальностью организованного меньшинства» (Mosca, 1939: 53). Меньшинство наверху способно сдерживать протест масс снизу, лишь преподнося осуществляемый им контроль в качестве институционализированного в законах и нормах социальной группы, в рамках которой они функционируют. Институционализация необходима для достижения рутинных коллективных целей, а потому дистрибутивная власть, то есть социальная стратификация, также становится институционализированной чертой социальной жизни. Таким образом, на вопрос, почему массы не восстают (вечная проблема социальной стратификации), есть простой ответ, и он заключается не в ценностном консенсусе, или силе, или обмене в обычном смысле этих конвенциональных социологических объяснений. Массы исполняют приказы, потому что в противном случае они лишатся коллективной организации, поскольку уже вовлечены в коллективные и дистрибутивные организации власти, контролируемые другими. Их организационно обошли (они связаны тем, что окружены чужой организацией) — это положение я применяю к различным историческим и современным обществам в последующих главах (см. главы 5, 7, 9, 13, 14 и 16). Это означает, что дихотомия понятий «власть» и «влияние» (то есть власть, рассматриваемая как легитимная всеми, кто в нее включен) больше не будет фигурировать в этой книге. Редко найдется власть, которая абсолютно легитимна или абсолютно нелегитимна, поскольку обычно у нее всегда две стороны.Экстенсивная и интенсивная, авторитетная и диффузная власть
Экстенсивная власть означает способность организовывать огромное количество людей, проживающих на обширных территориях, в целях обеспечения минимально стабильной кооперации. Интенсивная власть — это способность обеспечить жесткую и строго подчиняющуюся приказам организацию, отличающуюся высоким уровнем мобилизации или лояльностью ее участников, вне зависимости от размеров территории и количества людей. Основополагающие структуры общества объединяют экстенсивную и интенсивную власть и таким образом способствуют экстенсивной и интенсивной кооперации людей для достижения их целей (какими бы они ни были). Но рассуждения о власти как организации могут вызвать ложное представление, согласно которому общество — это всего лишь совокупность больших и авторитетных организаций власти. Многие из тех, кто также использует власть, менее «организованны», например рыночный обмен включает коллективную власть, поскольку через обмен люди достигают своих целей. Но он также включает и дистрибутивную власть, поскольку лишь некоторые обладают правами собственности на товары и услуги. Тем не менее обменивающиеся могут совсем не иметь авторитетной организации, которая содействовала бы им и усиливала бы их власть. Согласно известной метафоре Адама Смита, основным инструментом власти рынка является «невидимая рука», сдерживающая всех, но не контролируемая никем. Она является формой человеческой власти, но не является авторитетно организованной. Поэтому я выделю еще два типа власти: авторитетная и диффузная. Авторитетная власть проистекает из подчинения воле групп и институтов. Она предполагает определенные команды и осмысленное подчинение им. Диффузная власть распространяется более спонтанно, неосознанно децентрализованно, результатом чего также выступают социальные практики, включающие отношения власти, при этом диффузная власть не предполагает никаких эксплицитных приказов. Она обычно включает не команды и подчинения, а представление о том, что эти практики являются чем-то естественным, моральным или производным от самоочевидного общего интереса. В диффузной власти больше коллективной, чем дистрибутивной, власти, но не всегда. Ее следствием также может быть организационная «связанность» по рукам и ногам подчиненных классов, поскольку они считают сопротивление бесполезным. Например, диффузная власть современного мирового капиталистического рынка связывает по рукам и ногам авторитетные, формально организованные движения рабочего класса в отдельных национальных государствах. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в томе 2. Другие примеры диффузной власти касаются роста классовой или национальной солидарности — значимой части развития социальной власти. Объединение двух указанных различий дает четыре идеально-типические организационные формы, описанные при помощи относительно экстремальных примеров на графике 1.1. Военная власть приставляет собой пример авторитетной организации. Власть высшего командования над солдатами является концентрированной, принудительной и высокомобили-зованнной. Она скорее интенсивна, чем экстенсивна в отличие от милитаристической империи, которая может удерживать под своим командованием огромную территорию, однако испытывает явные трудности с мобилизацией позитивной лояльности подвластного населения или проникновением в его повседневную жизнь. Всеобщая забастовка выступает примером относительно диффузной, но интенсивной власти. В этом случае рабочие до определенной степени «спонтанно» жертвуют индивидуальным благосостоянием. Наконец, как уже было отмечено, рыночный обмен может включать волевые, инструментальные и строго ограниченные взаимодействия на огромной территории, поэтому он является примером диффузной и экстенсивной власти. Наиболее эффективная организация должна включать все четыре измерения власти. Интенсивность уже была изучена социологами и политологами, и мне нечего добавить. Власть интенсивна в случае, если большая часть жизни объекта власти находится под контролем или если его (или ее) можно принудить к чему угодно, не лишившись лояльности (вплоть до принуждения к смерти). В обществах, обсуждаемых в этом томе, интенсивная власть хорошо прослеживается, хотя количественно она очень тяжело измерима. Экстенсивность, напротив, реже фигурировала в предшествующих теориях, что вызывает сожаление, поскольку ее намного проще измерить. Большинство теоретиков предпочитали абстрактное понятие социальной структуры и поэтому игнорировали географические и социально-пространственные аспекты обществ. Если помнить, что общества — это сети с определенными пространственными границами, это нетрудно исправить. Оуэн Латтимор показывает, как это можно сделать. В результате исследований отношений между китайскими и монгольскими племенами, которые Латтимор вел всю свою жизнь, он выделил три радиуса экстенсивности социальной интеграции, которые, по его мнению, в истории Европы остаются относительно неизменными вплоть до XV в. Наиболее географически экстенсивным является радиус военных действий. Как таковой он подразделяется на радиус внутренних и внешних военных действий. Внутренние военные действия происходят на территории, которая после завоевания может быть присоединена к государству, внешние военные действия распространяются за пределы подобных границ в виде карательных походов или племенных набегов. Поэтому второй радиус — радиус гражданского управления (то есть государства) менее экстенсивный. В свою очередь, этот радиус более экстенсивный, чем радиус экономической интеграции, которая распространяется максимум на уровне региона, а минимум — на уровень местного сельского рынка в силу слабого развития взаимодействий между производственными единицами. Торговля не всегда была удачной, влияние китайских торговцев распространялось благодаря успеху имперских войск. Но коммуникационные технологии предполагали, что лишь товары с высоким отношением стоимости к весу (предметы роскоши, «самоходные» животные и рабы) могут обмениваться на больших расстояниях. Интеграционный эффект от обмена ими был настолько мал, что им можно пренебречь. Таким образом, в течение довольно продолжительного периода человеческой истории экстенсивная интеграция зависела от военных, а не от экономических факторов (Lattimore 1962: 480–491, 542–551).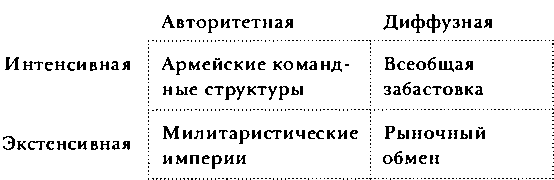 ГРАФИК 1.1. Диапазон организационных форм
ГРАФИК 1.1. Диапазон организационных форм
Латтимор склонен отождествлять интеграцию с экстенсивностью как таковой, он также проводит слишком резкое различие между факторами, необходимыми для социальной жизни (военными, экономическими, политическими). Тем не менее его аргумент подводит нас к исследованию «инфраструктуры» власти — того, как организации власти покоряют и контролируют географические и социальные пространства. Я измеряю авторитетную власть, заимствуя методы логистики — военной науки о передвижении людей и продовольствия во время военной кампании. Как военные части действительно передвигались и снабжались? Какого рода контроль, осуществляемый властной группой на периодической или рутинной основе, мог порождать существующие логистические структуры? Ряд глав посвящен квантификации того, как много дней необходимо для пересылки сообщений, материалов и людей через определенную территорию, море и реки, а также какой контроль для этого необходим. Я довольно много заимствовал из наиболее развитой области подобных исследований — военной логистики прошлого, которая предоставляет относительно ясные рекомендации для исследования внешних диапазонов сетей власти, приводя к важным заключениям относительно феодальной природы экстенсивных доиндустриальных обществ. Унитарные, высокоцентрализованные имперские общества Витт-фогеля или Эйзенштадта — это миф. Как утверждает Латтимор, только военная интеграция исторически имела значение. Когда обычные военно-логистические возможности не превышали марш-броска в девяносто километров (как это было на протяжении большей части истории), централизованный контроль над большей территорией был практически невозможен, не говоря об интенсивном проникновении в повседневную жизнь населения. Диффузная власть, как правило, изменялась вместе с авторитетной властью и влиянием, оказываемым на нее логистикой. Но ее распространение среди всего населения происходило относительно медленно, спонтанно и «универсально», не требуя авторитетной организации. Универсализм распространения диффузной власти также измерялся уровнем технологического развития, который определялся такими расширяющими возможности средствами, как рынки, литература, чеканка монет или развитие классовой и национальной культуры (в противоположность локальной или племенной). Рынки, как и классовое и национальное сознание, развивались медленно на протяжении истории в зависимости от их собственных диффузных инфраструктур. В целом историческая социология может сфокусироваться на развитии коллективной и дистрибутивной власти, измеряемых развитием инфраструктур. Авторитетная власть требует логистических инфраструктур, диффузная власть — универсальных инфраструктур. А вместе они позволяют производить организационный анализ власти и общества, а также устанавливать их социопространственные границы.
СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ СТРАТИФИКАЦИИ
Какие организации власти являются в таком случае главными? В современной теории стратификации существует два основных подхода: марксистский и неовеберианский. Я рад, что могу принять исходное положение, общее для обоих подходов: социальная стратификация представляет собой процесс повсеместного формирования и распределения власти в обществе. Это и есть центральная структура обществ, поскольку в двойственности ее коллективных и дистрибутивных аспектов она выступает средством, при помощи которого люди достигают своих целей. Фактически эти теоретические направления сходны и в прочих вопросах, поскольку они склонны рассматривать три одинаковых типа организаций власти в качестве основных. Для марксистов (Wesolowski 1967; Anderson 1974а, b; Althusser and Balibar 1970; Poulantzas 1972; Hindess and Hirst 1975) и веберианцев (Ben-dix and Lipset 1966; Barber 1968; Heller 1970; Runciman 1968, 1982, 1983a, b, с) это класс, статус и партия. Поскольку объем первых двух терминов в марксистских и веберианских концепциях практически эквивалентен, в современной социологии все три стали доминирующей эпистемологической ортодоксией. Я чрезвычайно доволен первыми двумя — экономическим/ классом и идеологическим/статусом. Моим первым отходом от ортодоксии служит предложение о четырех, а не о трех фундаментальных типах власти. Тип политической/партии на самом деле включает две отдельные формы власти — политическую и военную власть: с одной стороны, центральная политическая система (polity), включающая государственный аппарат и политические партии (существующие в ней), с другой — физическая или военная сила. Маркс, Вебер, а также их последователи не делали различия между ними, поскольку обычно рассматривали государство как хранилище (репозиторий) физической силы в обществе. Отождествление физической силы с государством часто кажется целесообразным относительно современного государства, которое монополизирует военную силу. Тем не менее концептуально их следует рассматривать как отдельные, для того чтобы быть готовым к работе с четырьмя случаями. 1. Большинство государств в истории не обладали монополией на организованную военную силу, а многие в ней даже не нуждались. Феодальные государства в некоторых европейских странах в Средние века зависели от феодальных военных ополчений, находящихся под контролем децентрализованных лордов. Исламские государства также обычно не испытывали необходимости в монополии на силу — например, они не рассматривали себя в качестве обладающих правом вмешиваться в племенные междоусобицы. Мы можем отличить политическую власть от военной власти государств и других групп. Политическая власть — это власть тех, кто осуществляет централизованное, институциализированное территориальное регулирование, военная власть — это организованная физическая сила, где бы она ни была организована. 2. Завоевательные походы ведутся военными группами, которые могут быть независимы от своих государств. В большинстве случаев в феодальных государствах любой свободно рожденный или благородный воин мог собрать вооруженную группу для набегов или завоеваний. Если такой военной группе удавалось что-то завоевать, это увеличивало ее власть против собственного государства. Что касается варваров, нападающих на цивилизации, подобная военная организация часто приводила к возникновению государства среди варваров. 3. Внутренне военные организации, как правило, отделены от других государственных учреждений даже тогда, когда находятся под контролем государства. Поскольку военные в ходе государственного переворота (coup d’etat) часто «опрокидывают» государственную политическую элиту, нам следует их различать. 4. Если международные отношения между государствами мирные, но неравноправные (стратифицированные), мы предпочитаем говорить о политической структуре власти в рамках более широкого международного общества, то есть о структуре, не детерминированной военной мощью. Сегодня подобная ситуация существует, например, относительно мощных, но преимущественно демилитаризированных Японии или ФРГ. Таким образом, мы будем отдельно рассматривать четыре источника власти: экономический, идеологический, военный и политический[6]. «УРОВНИ», «СФЕРЫ» «ОБЩЕСТВА» Четыре вышеназванных источника власти будут подробнее рассмотрены в этой главе ниже. Но сначала выясним, что конкретно они собой представляют? Ортодоксальная теория стратификации совершенно однозначна в этом вопросе. В марксистской теории источники власти обычно соотносятся с «уровнями общественной формации», в неовеберианской теории они являются «сферами общества». Оба подхода предполагают абстрактный, почти геометрический взгляд на унитарное общество. Уровни или сферы представляют собой элементы единого целого, которое, в свою очередь, из них состоит. Большинство авторов визуализируют это при помощи схем. Общество становится большим ящиком (контейнером) или кругом с п-мерным пространством, которое подразделяется на более мелкие ячейки, секторы, уровни, области или сферы. Это очевидно из самого значения понятии «сфера», «плоскость» (dimension). Оно происходит из математики и имеет два особых значения: (1) сферы, плоскости являются аналогичными и независимыми и в то же время связанными общностью некоторых основополагающих структурных свойств; (2) сферы, плоскости составляют одно общее пространство, в данном случае этим пространством является общество. Марксистская схема отличается лишь деталями. Ее уровни не являются независимыми друг от друга, поскольку экономика в конечном счете определяет все остальные. Фактически эта схема является более сложной и неоднозначной, поскольку экономика у Маркса играет двойную роль: автономного уровня «общественной формации» (общества) и в конечном счете детерминирующей себя тотальностью, название которой соответствует способу производства. Способы производства придают всеобщий характер социальным формациям и, следовательно, их отдельным уровням. В этом и заключается различие между марксизмом и веберианством: веберианцы развивают многофакторную теорию, в рамках которой социальная тотальность определяется комплексным взаимодействием сфер, измерений; марксисты рассматривают социальную тотальность как в конечном счете детерминированную экономическим производством. Тем не менее они разделяют сходный взгляд на общество как единое, унитарное целое. Ощущение сходства усиливается, если мы заглянем внутрь каждой плоскости или сферы, которая подобным образом сочетает в себе три характеристики. Сферы являются, во-первых, институтами, организациями, стабильными подсистемами взаимодействия, наблюдаемыми в большинстве обществ в качестве церкви, способа производства, рынка, армии, государства и т. д. Но они также являются функциями. Во-вторых, они иногда являются функциональными целями, преследуемыми людьми. Например, марксисты оправдывают доминирование экономики тем, что людям прежде всего необходимо материально обеспечить свою жизнь; веберианцы оправдывают важность идеологической власти тем, что людям необходимо найти смысл жизни. В-третьих, чаще всего они рассматриваются как функциональные средства. Марксисты рассматривают политические и идеологические сферы или уровни как необходимые средства для получения прибавочного труда от непосредственных производителей; веберианцы утверждают, что все они являются средствами власти. Но организации, функции как результаты и функции как средства являются гомологичными. Они аналогичны и существуют в одном и том же пространстве. Каждый уровень или измерение имеет то же внутреннее содержание. Это все те же организация, функция как результат и функция как средство. Если мы опустимся на уровень эмпирического анализа, то симметрия продолжится. Каждая сфера/уровень может быть декомпозирована на некоторое количество факторов. В качестве аргумента сравним важность, скажем, ряда экономических факторов с важностью ряда идеологических факторов. Основная дискуссия разворачивается между многофакторным подходом, опирающимся на наиболее важные факторы различных сфер/уровней, и «однофакторным» подходом, опирающимся на наиболее важный фактор одного из них. На стороне многофакторного подхода буквально должны быть сотни книг и статей, которые утверждают, что идейные, культурные, идеологические или символические факторы являются автономными, существующими сами по себе и потому несводимыми к материальным или экономическим факторам (Sahlins 1976; Bendix 1978: 271–272, 630; Geertz 1980: 13, 135_130. Против них на стороне однофакторного подхода выступает традиционный марксизм. В 1908 г. Антонио Лабриола публикует «Очерки материалистического понимания истории»[7]. В них он утверждает, что многофакторный подход пренебрегает тотальностью общества — характеристикой, придаваемой ему человеческими практиками, деятельностью человека как материального производителя (Petrovic 1967: 67-114). Несмотря на полемику, ее участники представляют собой две стороны одного и того же допущения, что факторы являются частью функциональных, организационных сфер или уровней, которые являются аналогичными, независимыми подсистемами всего социального целого. Веберианцы подчеркивают низшие, более эмпирические аспекты этого целого; марксисты акцентируют внимание на верхней части целостности. Но в основе обоих подходов лежат сходные унитарные представления. Соперничающие теории фактически разделяют одно и то же основное понятие «общество» (или «социальная формация» в некоторых марксистских теориях). Наиболее часто понятие «общество» используется в свободном и гибком смысле, обозначающем любую стабильную группу людей, ничего не добавляющем к таким понятиям, как «социальная группа» или «социальный агрегат» либо «ассоциация». Именно так я и буду использовать это понятие. Но в более строгом или более амбициозном смысле понятие «общество» также предполагает унитарную социальную систему. Это именно то, что О. Конт, придумавший термин «социология», под ним подразумевает. Подобным образом это понятие использовали Г. Спенсер, К. Маркс, Э.Дюркгейм, классические антропологи и большинство их последователей и критиков. Среди ведущих теоретиков только М. Вебер демонстрирует настороженность относительно такого подхода и только Т. Парсонс открыто с ним полемизирует, определяя «общество как тип социальной системы, в любом универсуме социальных систем, которая достигает наивысшего уровня самодостаточности как система по отношению к окружающей среде» (Parsons 1966: 9). Отбросив чрезмерно частое использование слова «система», сохраняя при этом сущностный для Парсонса смысл, мы можем прийти к более четкому определению: общество — это сеть социального взаимодействия, на границах которого существует определенный уровень разряжения взаимодействия между ней и ее окружением. Общество представляет собой единицу с границами, оно включает взаимодействие, то есть является относительно плотным и устойчивым, что означает его внутреннюю структурированность по сравнению со взаимодействием, которое пересекает его границы. Лишь немногие историки, социологи или антропологи станут оспаривать это определение (см., например, Giddens 1981: 45–46). Определение Парсонса превосходно. Но оно касается только степени единства и структурированности. Об этом слишком часто забывают, а единство и структурированность воспринимаются как нечто данное и неизменное. Именно это я и называю системной или унитарной концепцией общества. Понятия общества и системы использовались Контом и его последователями как взаимозаменяемые, они верили в то, что эти понятия подходят для науки об обществе: чтобы выносить общие социологические суждения, необходимо изолировать общество и осознать закономерности в отношениях между его частями. Общество в системном смысле, имеющее границы и внутренне оформленное, существует фактически в каждой работе по социологии и антропологии, а также в наиболее теоретически продвинутых работах по политологии, экономике, археологии, географии и истории. Оно также имплицитно содержится в менее теоретически разработанных исследованиях по этим дисциплинам. Давайте рассмотрим этимологию понятия «общество». Оно возникло от латинского societas, производного от socius, означающего неримского союзника, группу, готовую следовать за Римом в войне. Подобный термин, являющийся общим для индоевропейских языков, произошел от корня sekw, что означает «следовать». Это отсылает к асимметричному союзу, обществу как слабой конфедерации разнородных союзников. Мы увидим, что эта неунитарная концепция является правильной. Давайте использовать понятие «общество» в латинском, а не в романтическом смысле. Далее я предложу два действительно веских аргумента против унитарной концепции общества.КРИТИКА
Люди являются социальными, а не социетальными существами
В основании унитарной концепции общества лежит следующее теоретическое допущение: поскольку люди являются социальными животными, они нуждаются в создании общества обладающей границами и структурированной социальной тотальности. Но это не так. Человеческим существам необходимо вступать в социальные отношения власти, но они не нуждаются в социальных тотальностях. Они являются социальными, но не социетальными животными. Давайте вновь рассмотрим некоторые их потребности. Поскольку люди хотят сексуальной самореализации, они ищут сексуальных отношений, как правило, только с несколькими членами противоположного пола; поскольку они желают воспроизвести себя, эти сексуальные отношения обычно сочетаются с отношениями между взрослыми и детьми. Для реализации этих (и других) целей возникает семья, запрещающая подобные формы взаимодействия с другими семейными единицами, в которых теоретически можно найти сексуальных партнеров. Поскольку люди нуждаются в обеспечении материального существования, они развивают экономические отношения, объединяя свои усилия в производстве и обмене с другими людьми. Эти экономические сети не обязательно совпадают с семьей или сексуальными сетями, в большинстве случаев они и не совпадают. Так как люди пытаются постигнуть смысл мироздания, они ходят в церковь и, возможно, наряду с другими склонны участвовать в ритуалах и поклонениях. Поскольку люди защищают то, что имеют, а также грабят других, они образуют вооруженные банды, вероятно состоящие из молодых мужчин, а это требует налаживания отношений с мирными жителями, которые снабжают их продовольствием и экипировкой. Поскольку люди стремятся регулировать разногласия без постоянного обращения к силе, они создают судебные органы с определенной областью компетенции. Но откуда именно появляется необходимость в создании сходных социально-пространственных сетей взаимодействия и оформлении унитарного общества для реализации этих социальных потребностей? Склонность к формированию сингулярной сети вытекает из появления необходимости институциализации социальных отношений. Вопросы экономического производства, смысла, вооруженной защиты и судебного урегулирования не являются полностью независимыми друг от друга. Скорее характер каждого испытывает влияние характера всех, так что все с необходимостью воздействуют на каждого. Для всякого определенного набора производственных отношений необходимы определенные общественные идеологические и нормативные смыслы, а также определенная защита и судебное регулирование. Чем больше институциализированы эти взаимоотношения, тем в большей мере различные сети власти сходятся в определенном унитарном обществе. Но мы должны вернуться к первоначальной динамике. Институциализация не является движущей силой человеческого общества. История проистекает из беспокойных источников, которые генерируют различные сети экстенсивных и интенсивных отношений власти. Эти сети имеют более прямое отношение к достижению цели, нежели к институционализации. Преследуя свои цели, люди способствуют их дальнейшему развитию, опережая текущий уровень институционализации. Это может происходить в виде прямого вызова существующим институтам или непреднамеренно в виде интерстициального (interstitially) возникновения новых отношений и институтов, которые несут непредвиденные последствия для старых. Это усиливается через наиболее постоянное свойство институционализации — разделение труда. Те, кто вовлечен в экономическое самообеспечение, идеологию, военную оборону и агрессию, политическое регулирование, обладают малой степенью автономного контроля над средствами соответствующей власти, которая впоследствии развивается относительно автономно от остальных. Маркс видел, что силы экономического производства постоянно опережают институционализированные классовые отношения и извергают эмерджентные социальные классы. Эта модель была расширена В. Парето и Г. Моска: власть элит может также опираться на неэкономические ресурсы власти. Моска обобщил результат: Если в обществе появляются новые источники богатства, если практическая ценность знания растет, если старая религия приходит в упадок или рождается новая, если распространяются новые веяния, тогда и одновременно с этим в правящем классе происходят далеко идущие сдвиги. Можно даже сказать, что вся история цивилизованного человечества сводится к конфликту между стремлением господствующих элементов монополизировать политическую власть и передать ее по наследству и стремлением к смещению старых сил и мятежу новых сил и этот конфликт производит бесконечное чередование эндосмоса и экзосмоса[8] между высшими классами и определенной частью низшего класса [Mosca 1939- ^5]. Модель Моски, как и модель Маркса, без сомнения, является примером унитарной концепции общества: элиты поднимаются и опускаются внутри одного и того же социального пространства. Но когда Маркс описывает, как фактически происходил подъем буржуазии (его образцовый пример революции в производительных силах), получается все не так, как предполагает унитарная концепция. Буржуазия возникает «интер-стиционально», в «порах» феодального общества, пишет он. Буржуазия, сконцентрированная в городах, связана с землевладельцами, фермерами-арендаторами и богатыми крестьянами, рассматривала свои экономические ресурсы в качестве товара, чтобы создать новые, капиталистические сети экономического взаимодействия. Фактически, как мы увидим в главах 14 и 15, это способствовало появлению двух различных, накладывающихся друг на друга сетей — первая ограничивалась территорией государства среднего размера, а вторая, гораздо более обширная, была названа Валлерстайном (Wallerstein 1974) «мир-системой». Буржуазная революция не изменила характер существующего общества, она создала новые общества. Я называю подобные процессы интерстициальным возникновением (interstitial emergence). Они являются результатом перехода человеческих целей в организационные средства. Общества никогда не были в достаточной степени институциализиро-ванными для предотвращения интерстициального возникновения. Человеческие существа создают не унитарные общества, а разнообразие пересекающихся сетей социального взаимодействия. Наиболее важные из них оформлены относительно стабильно вокруг четырех источников власти в любом социальном пространстве. Но их основу составляют люди, активно ищущие средства для достижения своих целей и формирующие новые сети, расширяющие старые. Все это наиболее четко проявляется в конкурирующих конфигурациях одной или более основных сетей власти. А в каком обществе живете вы? Эмпирическое подтверждение вышеизложенного можно найти в ответах на простой вопрос: в каком обществе живете вы? Ответы на этот вопрос, вероятно, будут касаться двух уровней. Один ответ отсылает к национальным государствам: мое общество — это Соединенное Королевство, США, Франция и т. п. Другой ответ шире: я гражданин индустриального общества или капиталистического общества либо, возможно, западного мира. Здесь исходная дилемма — общество как национальное государство против более широкого экономического общества. С одной стороны, национальное государство действительно представляет собой реальную сеть взаимодействия с разряжением взаимодействия на ее границах. С другой — капитализм объединяет все три приведенных примера (Британия, США и Франция) в более широкую сеть взаимодействия, разряжающегося на ее пределах. В обоих случаях речь идет об «обществе». Сложностей тем больше, чем больше мы исследуем. Военные союзы, церкви, общий язык и т. д. — предполагают могущественные и различные социально-пространственные сети взаимодействия. Справиться со всем этим возможно только после выработки сложного понимания комплекса взаимосвязей и власти различных пересекающихся сетей взаимодействия. И ответом, разумеется, будет конфедеративная, а не унитарная концепция общества. Современный мир не исключение. Накладывающиеся друг на друга сети взаимодействия являются исторической нормой. В доисторическом периоде торговое и культурное взаимодействие было шире, чем могло контролировать любое доисторическое «государство» или другая авторитетная сеть (глава 2). Рост цивилизации можно объяснить, только если поместить аллювиальное земледелие в контекст различных пересекающихся региональных сетей (главы 3 и 4). Хотя в большинстве древних империй массы людей участвовали главным образом в мелкомасштабных локальных сетях взаимодействия, они также были вовлечены в две другие сети, сплетенные из периодических проявлений власти отдаленных государств, а также из более регулярных, но все еще слабых проявлений власти по-луавтономной местной знати (главы 5, 8 и 9). Все больше сетей возникали внутри и снаружи подобных империй, их границы все интенсивнее пересекались торгово-культурными сетями, которые породили различные «мировые религии» (главы 6, 7, 10 и 11). Эберхард (Eberhard, 1965: 16) описывал подобные империи как «многослойные», включающие как множество слоев, расположенных один над другим, так и множество маленьких «обществ» (сообществ), существующих бок о бок. Он заключает, что они не были социальными системами. Социальные взаимодействия редко концентрировались в унитарные общества, хотя государства иногда и обладали претензиями на унитарность. Вопрос, в каком обществе вы живете, был бы одинаково сложным как для крестьянина североафриканской провинции Римской империи, так и для английского крестьянина XII в. (Я рассмотрю эти случаи в главах 10 и 12.) Или опять же: существовало множество культурно-федеральных (culturally federal) цивилизаций, подобных древней Месопотамии (глава 3), классической Греции (глава 7) или средневековой и раннесовременной Европе (главы 12 и 13), где маленькие государства сосуществовали в рамках широкой и слабой «культурной» сети. Формы наложения и пересечения существенно изменялись, но как таковые существовали всегда.БЕСПОРЯДОК В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФУНКЦИЯХ
Рассмотрение обществ в качестве конфедераций, накладывающихся друг на друга, пересекающихся сетей, а не просто тотальностей усложняет теорию. Но придется сделать ее еще сложнее. Реальные институционализированные сети взаимодействия не отличаются простым, однозначным отношением к идеально-типическим источникам социальной власти, с которых я начал. Это приводит к отмене тождества (соответствия, порядка) между функциями и организациями, а также к признанию их беспорядочного смешения. Давайте рассмотрим в качестве примера отношения между капиталистическим способом производства и государством. Веберианцы утверждают, что Маркс и его последователи пренебрегают структурной властью государств и концентрируются исключительно на власти капитализма. Они постулируют то же самое, когда говорят, что марксисты пренебрегают автономной властью политических факторов по сравнению с экономическими. Марксисты отвечают в том же духе, отрицая оба положения или, напротив, оправдывая незначительное внимание, которое они уделяют государствам и политике, тем, что капитализм и экономическая власть являются в конечном счете решающими. Но аргументы обеих сторон должны быть раскрыты. Развитые капиталистические государства не являются ни чисто политическим, ни чисто экономическим феноменом: они включают и то и другое одновременно. А как иначе, если они перераспределяют около половины валового национального продукта (ВНП), производимого на их территориях, и если их валюты, тарифы, системы образования, здравоохранения и т. д. являются важными экономическими ресурсами власти? Дело не в том, что марксисты пренебрегают политическими факторами. Дело в том, что они игнорируют то, что государства являются как экономическими, так и политическими акторами. Имеет место смешение экономических и политических функций. Таким образом, развитый капиталистический способ производства включает по крайней мере два организованных актора: классы и национальные государства. Их обособление — основной предмет тома 2. Но не все государства отличаются подобным смешением функций. Государства средневековой Европы, например, распределяли весьма незначительную часть своего ВНП. Их роли были главным образом политическими. Разделение между экономическими и политическими функциями/организациями было четким и симметричным — государства были политическими, классы — экономическими. Но асимметрия между средневековой и современной ситуациями усугубляет нашу теоретическую проблему. В ходе исторического процесса организации и функции переплетаются, то четко разделяясь, то сливаясь в различных формах. Экономические функции могли нормально исполняться (и обычно в определенной степени исполняются) государством, армией, церковью с тем же успехом, с каким их исполняют специализированные организации, которые мы обычно называем экономическими. Экономические классы, государства и военные элиты могли распространять идеологии с тем же успехом, с каким это делают церкви и тому подобные организации. Не существует однозначных отношений между функциями и организациями. Верно то, что широкое разделение функций между идеологическими, экономическими, военными и политическими организациями является вездесущим, интерстициально возникающим в более широкопрофильных организациях власти и между ними. Следует иметь это в виду в качестве средства упрощения анализа в терминах будь то взаимодействий ряда пространственно-автономных функций/организаций или пер-вопричинности одной из них. В этом смысле и марксистская, и неовеберианская ортодоксия ложны. Общественная жизнь не состоит из ряда сфер (каждая из которых включает организации и функции, цели и средства), взаимодействующих друг с другом как с внешними объектами.ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ
Если проблема настолько сложна, то как ее разрешить? В этом разделе я приведу два эмпирических примера повышения относительной значимости одного из источников власти. Решением рассмотренной выше теоретической проблемы, на которое указывают примеры, являются организации власти. Первый пример — о военной власти. Зачастую зафиксировать появление новой военной власти легко, поскольку она может стать причиной внезапной и весьма убедительной победы в войне. Одним из таких случаев стало появление европейской фаланги пикинеров[9].Пример 1: появление европейской фаланги пикинеров Важные социальные изменения были вызваны военными событиями в Европе сразу после 1300 г. н. э. В ряде сражений старые феодальные ополчения, ядром которых были полуавтономные группы бронированных конных рыцарей, окруженных своими слугами, были разбиты армиями (главным образом швейцарскими и фламандскими), состоявшими в основном из державших тесный строй пеших пикинеров (Verbruggen 1977) — Этот внезапный перелом в военном превосходстве привел к важным изменениям в социальной власти. Он ускорил падение держав, которые неприспосабливались к урокам войны, например великого герцогства Бургундия. Но в долгосрочной перспективе это укрепило власть централизованных государств, поскольку им стало легче обеспечивать ресурсы для поддержания смешанных пехотно-конно-артиллерийских войск, возникших как ответ на превосходство фаланги пикинеров. Это ускорило падение классического феодализма в целом, поскольку укрепило центральную роль государства и ослабило автономию лордов. Давайте рассмотрим это прежде всего с точки зрения факторов. Если подходить к данному событию узко, оно предстает в виде простого причинно-следственного шаблона: изменения в технологии отношений военной власти привели к изменениям в отношениях политической и экономической власти. В таком случае это не что иное, как модель военного детерминизма, но лишь потому, что мы упускаем из виду многие другие факторы, которые внесли свой вклад в военную победу. Наиболее важным из них, вероятно, была форма боевого духа победителей — уверенность в пикинерах, находившихся справа, слева и за спиной. В свою очередь, она, очевидно, проистекала из относительно эгалитарной, общинной жизни фламандских бюргеров, а также швейцарских бюргеров и свободных фермеров (йоменов). Мы могли бы продолжать анализ до тех пор, пока не получили бы многофакторное объяснение, или могли бы утверждать, что в конечном счете решающим был именно способ производства двух указанных групп. Подобный вопрос о выборе детерминант из экономических, военных, идеологических и других факторов встает практически на каждом этапе исторических и социологических исследований. И это целый ритуал. В то время как дело просто в том, что военную власть, подобно другим источникам власти, отличает беспорядочное смешение организаций и функций. Она нуждается в моральных и экономических примесях (то есть в идеологической и экономической поддержке) в той же мере, в какой она нуждается в исключительно военных традициях и развитии. Если все эти факторы необходимы для применения военной власти, то как ранжировать их по важности? Давайте попытаемся посмотреть на военные инновации в другом, организационном свете. Конечно, они имеют экономические, идеологические и другие предпосылки. Но они также обладали внутренней, военной, интерстициально возникающей способностью к реорганизации — способностью (благодаря победе на поле боя) к переустройству общих социальных сетей, которая отличается от способностей к переустройству, предоставляемых доминирующими существующими институтами. Давайте назовем последнее феодализмом, включающим способ производства (изъятие излишка у зависимого крестьянства, взаимоотношения между крестьянскими держаниями и манорами лордов, поставка излишка в качестве товаров в города и т. д.), политические институты (иерархия судов от суда вассалов к суду лордов и монарха), военные институты (феодальное ополчение) и общеевропейскую идеологию — христианство. Феодализм — это свободный способ описания доминирующего пути, которым мириады факторов социальной жизни с четырьмя источниками социальной власти в центре были организованы и институализированы в средневековой Западной Европе. Но были и другие, более периферийные сферы общественной жизни, которые контролировались и определялись феодализмом. Общественная жизнь всегда была более сложной по сравнению с ее доминирующими социальными институтами, поскольку, как я отмечал выше, динамика общества исходит из мириад социальных сетей, которые создают люди для достижения своих целей. Среди социальных сетей, которые не составляли ядра феодализма, — города и свободные крестьянские общины. Их дальнейшее развитие было относительно интерстициальным по отношению к феодализму. По крайней мере в двух регионах (во Фландрии и в Швейцарии), где они были обнаружены, их социальная организация способствовала появлению эффективной формы «концентрированного принуждения» (как далее я определяю военную организацию) на поле боя. Это стало неожиданностью для всех. Иногда утверждают, что первая победа была случайной. В битве при Куртре[10] фламандские бюргеры были зажаты у реки французскими рыцарями. Они не могли использовать свою обычную тактику против экипированных рыцарей — отступление. Тогда они уперли свои пики в землю и, стиснув зубы, выбили из седла первого рыцаря. Это хороший пример интерстициального сюрприза для всех занимающихся этой темой. Но это не пример, противопоставляющий военные факторы экономическим. Напротив, это пример соревнования между двумя образами жизни, один из которых был доминирующим, феодальным, а другой, до сих пор менее важный, — образ жизни бюргера или свободного крестьянина, который решил исход боя в переломный момент. Один образ жизни породил феодальное ополчение, другой — фалангу пикинеров. Для социального существования обеих форм с необходимостью требовался мириад факторов, а также функции всех четырех источников власти. До сих пор лишь одна организационная конфигурация (феодальная) была преобладающей и частично включала все прочие в свои сети. Но теперь интерстициальное развитие аспектов фламандской и швейцарской жизни вылилось в конкурирующую военную организацию, способную выбить из седла господство феодального образа жизни. Военная власть реорганизовала существующую общественную жизнь посредством эффективности определенной формы «концентрированного принуждения» (или военной власти) на поле боя. Разумеется, эта реорганизация получила продолжение. Фаланги пикинеров (в буквальным смысле) продавали себя на службу богатым государствам, чья власть над феодальными сетями, а также сетями городов и независимых крестьян расширялась (поскольку это также была власть над религией). Область общественной жизни, которая, без сомнения, была частью европейского феодализма, хотя и не центральная и слабо ин-ституциализированная, неожиданно и интерстициально развилась в высококонцентрированную и принудительную военную организацию, которая сначала была угрозой ядру феодальных отношений, а затем вызвала их реструктуризацию. В данном случае возникновение автономной военной организации было кратковременным явлением. Тогда как промескуитетные источники и судьба этой автономной военной организации были вовсе не случайными, а, напротив, заложенными в самой ее природе. Военная власть сделала возможным реорганизационный всплеск, переустройство не только бесчисленного множества сетей в обществе, но и доминирующей конфигурации власти этих сетей.
Пример 2: появление цивилизованных культур и религий Идеологии всегда и всюду распространялись на более широкие социальные пространства, чем те, что занимали государства, армии или способы экономического производства. Например, шесть наиболее известных древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, индская цивилизация, Древний Китай, Мезоамерика и американские Анды, возможно исключая Египет) возникли как ряд крошечных государств в рамках большого культурного/ цивилизационного комплекса с общими архитектурными и художественными стилями, формами символического изображения и религиозными пантеонами. Последующая история также знает много примеров федераций государств в рамках более широкого культурного объединения (например, классическая Греция или средневековая Европа). Мировые религии спасения распространялись по миру более интенсивно, чем какие-либо другие организации власти. С тех пор светские идеологии, такие как либерализм и социализм, также перешагнули через границы других сетей власти. Итак, религии и другие идеологии являются чрезвычайно важным историческим феноменом. Ученые обращают на это наше внимание в терминах факторов. «Это доказывает, — утверждают они, — автономию „идеальных” факторов от „материальных”» (см., например, Сое 1982, Keatinge 1982 в отношении древних американских цивилизаций; Bendix 1978 в отношении распространения либерализма в раннесовременном мире). Против этого выступает материалистический контраргумент: «Эти идеологии не пребывают в свободном плавании, но являются продуктом реальных социальных обстоятельств». Действительно, идеологии не просто «парят» над общественной жизнью. Если идеология не связана с божественным вмешательством в общественную жизнь, она должна объяснять и отражать реальный жизненный опыт. Но (и в этом заключается ее автономия) она объясняет и отражает аспекты социальной жизни, которые существующие доминирующие институты власти (будь то способ экономического производства, государство, вооруженные силы и другие идеологии) не объясняют и не организуют эффективно. Идеология будет появляться в виде мощных автономных движений тогда, когда она может собрать в едином объяснении и единой организации ряд аспектов существования, которые до сих пор были маргинальными, интерстициальными по отношению к доминирующим институтам власти. Это всегда выступает потенциальным источником развития обществ, поскольку существует множество интерстициальных аспектов опыта и источников контактов с другими людьми, отличными от тех, которые образуют центральные сети доминирующих институтов. Позвольте мне привести пример культурного комплекса древних цивилизаций (проанализированных в главах 3 и 4). Мы наблюдаем общий пантеон богов, общие праздники, календари, стили письма, украшения и архитектурные постройки. Мы видим более широкие «материальные» функции, исполняемые религиозными институтами, — преимущественно экономическую функцию сохранения, перераспределения продуктов, регулирования торговли, а также политическую/военную функцию в разработке правил ведения войны и дипломатии. И наконец, рассмотрим содержание идеологии: оно затрагивает происхождение и истоки общества, переходы жизненного цикла, влияние на плодородие природы и управление репродуктивным поведением людей, оправдание регулирования насилия, установление источников легитимной власти за пределами своей родовой группы, деревни, государства. Таким образом, культура, построенная на основе религии, дает людям, живущим в сходных условиях на большой территории, чувство коллективной нормативной идентичности, а также способность к кооперации, не обязательно повышавшие их мобилизационный потенциал, но более экстенсивные и диффузные по сравнению с идентичностью и кооперацией, которыми обеспечивали их государство, армия или способ производства. Религиозные культуры предлагали специфический способ организации социальных отношений. Они сливались в единую организационную форму для удовлетворения целого ряда социальных потребностей, которая до этого существовала интерстициально по отношению к доминирующим институтам маленьких семей-ных/сельских/государственных обществ данного региона. Затем организации власти в виде храмов, священников, писцов и т. д. оказали обратное воздействие и реорганизовали институты маленьких обществ, в частности делая возможным экономическое и политическое регулирование на больших расстояниях. Было ли это результатом идеологического содержания религии? Нет, если мы подразумеваем под этим их идеологические ответы. В конце концов ответы, которые идеологии дают на вопросы о смысле жизни, всегда одни и те же. Они также не производят глубокого впечатления в том смысле, что не могут быть проверены и подтверждены, а также в смысле неспособности разрешить противоречия, которые они должны разрешить (например, вопрос теодицеи: почему явленный порядок и смысл сосуществуют с хаосом и злом?). Почему же тогда лишь некоторые идеологические движения охватывают весь регион или даже большую часть мира, в то время как большинство других на это не способны? Объяснение этого различия коренится не столько в содержании ответов, которые дают идеологии, сколько в том, как они это делают. Идеологические движения постулируют, что человеческие проблемы могут быть решены при помощи трансцендентных, сакральных сил, которые пронизывают и окружают секулярные сферы экономических, военных и политических институтов власти. Идеологическая власть переходит в разнообразные формы социальной организации, направленные на достижение разных целей — секулярных и материальных (например, легитимация определенных форм господства) в той же степени, в какой и тех, которые обычно рассматриваются как религиозные или идеальные (например, поиски смысла жизни). Если идеологические движения оформлены в виде отдельных организаций, мы можем анализировать те ситуации, в которых их формы отвечают потребностям людей. Должны быть условия, при которых трансцендентная социальная власть, простирающаяся над установленными организациями власти и сквозь их границы, может решать человеческие проблемы. Результаты моего исторического анализа позволяют утверждать, что дела обстоят именно таким образом. Таким образом, все источники власти внутренне не состоят из ряда определенных чистых факторов (будь-то чисто идеологических или чисто экономических). Когда появляются независимые источники власти, это происходит неупорядоченно по отношению к тем факторам, которые их оформляют и собирают воедино из всех трещин, уголков общественной жизни и которые могут придать им определенную организационную конфигурацию. Теперь мы обратимся к четырем источникам власти и к различным организационным средствам, которые они предлагают.
ЧЕТЫРЕ ИСТОЧНИКА И ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ
В социологической традиции понятие идеологической власти происходит из трех взаимосвязанных аргументов. Во-первых, мы не можем до конца понять мир (и соответственно, реагировать на него) только посредством прямого чувственного восприятия. Нам необходимы понятия и категории, придающие смысл данным органов чувств. Как утверждал М. Вебер, для общественной жизни необходима социальная организация предельных знаний и смыслов. Таким образом, коллективная и дистрибутивная власть может принадлежать тем, кто монополизировал обращение к смыслу. Во-вторых, нормы, разделяемые представления о том, как люди должны поступать в соответствии с моралью в отношениях друг с другом, также являются необходимыми для устойчивой социальной кооперации. Дюрк-гейм продемонстрировал, что общие нормативные представления необходимы для стабильной эффективной социальной кооперации, а также что идеологические движения, подобные религиям, зачастую выступают их носителями. Идеологическое движение, которое повышает внутреннее доверие и коллективную мораль группы, может усилить их коллективную власть и получит за это вознаграждение в виде более фанатичной приверженности. Таким образом, монополизация норм — это путь к власти. Третьим источником идеологической власти являются эстетические/ритуальные практики, которые не сводимы к рациональной науке. Как сказал Блок (Bloch 1974) относительно власти религиозного мифа, «песня не является аргументом». Но определенную власть песня, танец, визуальные формы искусства и ритуалы все же дают. Как признают все, кроме разве что самых рьяных материалистов, там, где смыслы, нормы и эстетические и ритуальные практики монополизированы отдельной группой, она может обладать значительной экстенсивной и интенсивной властью. Эта группа может использовать ее функционально и создать распределение на вершине коллективной власти. В последующих главах я анализирую условия, при которых идеологическое движение может достичь подобной или иной власти. Религиозные движения представляют собой наиболее очевидные примеры идеологической власти, а более секулярными примерами идеологической власти, представленными в этом томе, выступают культуры ранней Месопотамии и классической Греции. В целом секулярные идеологии являются характеристикой нашей собственной эпохи — например, марксизм. Употребление понятий «идеология» и «идеологическая власть» содержит две дополнительные коннотации: знание, которое они дают, является ложным и/или они всего лишь маска, скрывающая материальное господство. Я не подразумеваю ни одной из них. Знание, предоставляемое идеологическим движением власти, с необходимостью «выходит за рамки опыта» (как отмечает Парсонс). Оно не может быть полностью проверено опытным путем, в этом-то и заключается отличительная способность власти идеологического знания убеждать и доминировать. Оно не обязательно является ложью, а если так, то у него меньше шансов распространиться. Люди не глупцы, которыми легко манипулировать. И хотя идеологии всегда включают легитимацию частных интересов и материального господства, они едва ли достигали бы власти над людьми, будь они просто средством манипуляции. В определенных условиях могущественные идеологии выглядят весьма правдоподобно, их действительно придерживаются (верят в них). Таковы функции идеологической власти, но в чем специфика организационных средств, которые они порождают? Существуют два основных типа идеологической организации. Первым, более автономным типом выступает организация, трансцендентная в социально-пространственном отношении. Она выходит за пределы существующих институтов идеологической, экономической, военной и политической власти и создает «священные» формы власти (в дюркгеймовском смысле), устраняется «от» более секулярных структур власти и устанавливается «над» ними. Она становится могущественной и автономной, когда эмерджентные свойства общественной жизни создают возможность для более тесного сотрудничества или эксплуатации, которые выходят за организационные пределы секулярных властей. Технически идеологические организации могут быть крайне зависимыми от того, что я называю техниками диффузной власти, и, следовательно, разрастаются посредством расширения таких «универсальных инфраструктур», как грамотность, чеканка монет и рынки. Как утверждает Дюркгейм, религия возникает из пользы нормативной интеграции (смыслов, эстетики и ритуалов), религия сакральна, отделена от секулярных отношений власти. Но она не просто интегрирует и отражает уже установленное общество, она также может создать сеть, напоминающую собой общество, то есть религиозное или культурное сообщество на основе интерстициально возникающих социальных потребностей и отношений. Именно эту модель я применяю в главах 3 и 4 к первым экстенсивным цивилизациям, а в главах 10 и 11 — к мировым религиям спасения. Идеологическая власть предлагает собственный социопространственный метод разрешения возникающих социальных проблем. Вторым организационным типом выступает идеология как имманентная morale[11], как средство усиления сплоченности, доверия и, следовательно, власти уже существующей социальной группы. Имманентная идеология не так автономна в своем воздействии, поскольку она скорее усиливает уже существующие организации власти. Тем не менее идеологии класса или нации (в качестве основных примеров) с их отличительными инфраструктурами, обычно экстенсивными и диффузными, внесли заметный вклад в историю власти со времен древних ассирийских и персидских империй до наших дней. Экономическая власть проистекает из удовлетворения жизненно необходимых потребностей через социальную организацию извлечения, трансформации, распределения и потребления объектов природы. Группировка, организующаяся вокруг этих задач, называется классом, который в этой книге, следовательно, является исключительно экономическим понятием. Отношения экономического производства, распределения, обмена и потребления обычно сочетают высокий уровень интенсивной и экстенсивной власти и вносят огромный вклад в социальное развитие. Таким образом, классы формируют большую часть социально-стратификационных отношений в целом. Они способны монополизировать контроль над производством, распределением, обменом и потреблением, то есть господствующий класс может получить коллективную и дистрибутивную власть в обществах. Здесь я снова должен обратиться к анализу условий, при которых подобная власть возникает. На данном этапе я не стану участвовать в дебатах о роли классов в истории. Я предпочитаю контекст актуальных исторических проблем, начиная с классовой борьбы в Древней Греции в главе 7 (первая историческая эпоха классовой борьбы, о которой у нас сохранились надежные свидетельства). Там я выделяю четыре этапа в развитии классовых отношений и классовой битвы — латентные, экстенсивные, симметричные и политические классовые структуры. Я буду использовать их в последующих главах. Мои заключения представлены в последней главе. Мы увидим, что классы хотя и важны, но не являются «локомотивом истории», как, например, полагал Маркс. В одном важном вопросе две основные традиции классового анализа все же различаются. Марксисты подчеркивают контроль над трудом как источником экономической власти, а потому они сконцентрированы на «способах производства». Неовеберианцы (и другие авторы, например представители субстантивистской школы Карла Поланьи) делают акцент на организации экономического обмена. Мы не можем утверждать, что один подход лучше другого, основываясь на априорных (доопытных) теоретических основаниях, исторические данные должны разрешить этот вопрос. Постулируя, что производственные отношения должны быть решающими по той причине, что «производство первично» (то есть производство предшествует распределению, обмену и потреблению), как это делают многие марксисты, мы упустим вопрос «возникновения». Как только возникает форма обмена, она моментально (и это социальный факт) становится потенциально могущественной детерминантой. Торговцы могут реагировать на возможность на своем конце экономической цепи и затем оказывать обратное воздействие на организацию производства, которая первоначально их породила. Торговые империи, подобные Финикийской, являются примером торговой группы, чьи действия решительным образом изменяли жизни производящих групп, потребности которых первоначально создали власть торговцев (например, появление алфавита — см. главу 7). Отношения между производством и обменом сложны и часто даже могут слабо влиять друг на друга: в то время как производство является весьма интенсивной властью, мобилизующей интенсивную локальную социальную кооперацию по эксплуатации природы, обмен может осуществляться чрезвычайно экстенсивно. Он может столкнуться с влияниями и возможностями, которые далеки от производственных отношений, изначально создающих торговую активность. Экономическая власть обычно является диффузной, неконтролируемой из центра. Это означает, что классовая структура не может быть унитарной, подчиненной единой иерархии экономической власти. Отношения производства и обмена могут в случае ослабления взаимного влияния разложить классовую структуру. Таким образом, классы являются группами с различной властью над социальной организацией извлечения, трансформации, распределения и потребления объектов природы. Я повторю, что использую понятие «класс» для обозначения распределения исключительно экономической власти, а понятие «социальная стратификация» — для обозначения любого типа распределения власти. Понятие «правящий класс» будет обозначать экономический класс, который успешно монополизировал прочие источники власти, для того чтобы в целом господствовать в обществе с государственностью. Для исторического анализа я оставлю открытыми вопросы взаимоотношения классов с другими стратификационными группировками (стратами). Экономическая организация включает в себя цепи производства, распределения, обмена и потребления. Ее главная социо-пространственная особенность заключается в том, что, хотя указанные цепи являются экстенсивными, они также включают интенсивный практический каждодневный труд (то, что Маркс называл практикой) населения. Таким образом, экономическая организация представляет собой отличающуюся стабильностью социопространственную смесь экстенсивной и интенсивной власти, а также диффузной и авторитетной власти. По этой причине я буду называть экономическую организацию цепями практики. Возможно, этот термин выглядит довольно напыщенно, поскольку опирается на два открытия Маркса. Во-первых, одним «ликом» довольно развитого способа производства выступает масса рабочих, трудящихся и выражающих себя через покорение природы. Во-вторых, другим «ликом» способа производства выступают сложные экстенсивные цепи обмена, в которые миллионы людей могут быть заключены безличными, казалось бы, «естественными» силами. В случае капитализма контраст экстремален, но тем не менее он присутствует во всех типах организаций экономической власти. Классы — это группы, определяемые по отношению к цепям практики. Та степень, в которой они являются экстенсивными, симметричными и политическими во всей цепи практики способа производства[12], будет определять организующую власть класса и классовой борьбы. И это зависит от плотности связей между интенсивным местным производством и экстенсивными цепями обмена. Военная власть уже была частично определена ранее. Она проистекает из необходимости организации физической силы для защиты и нападения. Она обладает и интенсивными, и экстенсивными аспектами, поскольку касается вопросов жизни и смерти в той же степени, что и организации защиты и нападения на больших географических и социальных пространствах. Те, кто монополизировал военную власть, как это сделали военные элиты, могут получить коллективную и дистрибутивную власть. В последнее время в социальной теории военной властью пренебрегают, и я обращусь к таким авторам XIX — начала XX в., как Спенсер, Гумплович и Оппенгеймер (хотя они, как правило, преувеличивали ее возможности). Военная организация — это по сути концентрированное принуждение. Во-первых, она мобилизует насилие, выступает наиболее концентрированным и, вероятно, наиболее грубым инструментом человеческой власти. Это очевидно в военное время. Концентрация силы формирует краеугольный камень большинства классических дискуссий о военной тактике. Но, как мы увидим в различных исторических главах (особенно в главах 5–9), она может выходить за пределы поля боя и военной кампании. Милитаристские формы социального контроля, применяемые в мирное время, также являются высококонцентрированными. Например, принудительный труд, будь то рабство или барщина, часто использовался для создания городских укреплений, строительства монументов или основных магистральных дорог и каналов. Принудительный труд также использовался в шахтах, на плантациях и в других крупных поместьях, а также в домохозяйствах власть имущих. Однако принудительный труд менее пригоден для нормального дисперсного сельского хозяйства, промышленности, где требуется самостоятельность и мастерство, то же относится к рассредоточенной коммерческой и торговой деятельности. Издержки эффективного прямого принуждения в этих сферах выходили бы за пределы допустимого для любого исторически существовавшего режима. Таким образом, милитаризм оказывался полезным там, где концентрированная интенсивная авторитетная власть приносит непропорционально большой по сравнению с издержками результат. Во-вторых, негативная террористическая форма военной власти обладает еще более широким охватом. Как отметил Латтимор, в течение большей части военной истории радиус захватов превышал радиус государственного контроля или радиус отношений экономического производства. Но такой захват нес минимальный контроль, потому что логистика была слишком сложной. В главе 5 я рассчитал, что в течение древней истории максимальная дистанция, которую фактически могла преодолеть армия, составляла около 90 километров — ограниченный плацдарм для интенсивного военного контроля над большими пространствами. Столкнувшись с могущественными военными силами, растянувшимися, скажем, на 300 километров, местные жители могли внешне подчиниться их диктату (регулярно отдавать дань, признавать сюзеренитет их лидера, посылать молодых мужчин и женщин, получать «образование» при дворе), но повседневное поведение могло, напротив, оставаться свободным от подчинения. Таким образом, военная власть в социопространственном отношении дуальна: концентрированное ядро, где может быть осуществлен позитивный принудительный контроль, окружено весьма экстенсивной областью отчасти подобного же принудительного контроля, где запуганное население обычно до определенной степени удается держать под контролем, но позитивного контроля за поведением этого населения добиться не удается. Политическая власть, которая также уже была частично определена ранее, проистекает из целесообразности централизованной, институциализированной, территориальной регуляции ряда аспектов социальных отношений. Я не определяю ее исключительно в «функциональных» терминах, а также в терминах судейской регуляции, опирающейся на принуждение. Подобными функциями могут обладать любые организации власти — идеологические, экономические, военные, так же как и государства. Я свожу ее к централизованному и территориально ограниченному регулированию и принуждению, то есть к государственной власти. Концентрируясь на государстве, мы можем исследовать его отличительный вклад в социальную жизнь. Как следует из определения, предложенного выше, политическая власть укрепляет границы, в то время как другие источники власти могут выходить за их пределы. Кроме того, военная, экономическая и идеологическая власть может быть включена в любые социальные отношения, вне зависимости от расположения. Любой А или группа А-х может использовать эти формы власти против любого В или группы В-х. Политические отношения, напротив, затрагивают одну конкретную область — центр. Политическая власть расположена в этом центре и используется за его пределами. Политическая власть с необходимостью централизована и локализована и в этом отношении отличается от других источников власти (подробнее см. Mann 1984; формальное определение государства также приведено в следующей главе). Те, кто контролирует государство, может получить и коллективную, и дистрибутивную власть и заключить других в особые «организационные структуры». Политическая организация также социопространственно двойственна, хотя в другом смысле. Здесь мы должны проводить различие между внутренней организацией и международной. Внутренне государство территориально централизованно и территориально ограничено. Государства таким образом могут достигать значительной автономной власти, когда общественная жизнь создает возможности для углубления сотрудничества и эксплуатации со стороны централизованной формы над ограниченной территорией (это определение дано в Mann 1984). Такая возможность зависит преимущественно от техник авторитетной власти по причине ее централизации, хотя не такой сильной, как у военной организации. Когда мы приступим к обсуждению фактической власти государственных элит, мы осознаем всю пользу различия между формально «деспотической» властью и действительно «инфраструктурной». Я объясню это подробнее в разделе «Сравнительное исследование древних империй» главы 5. Но государственные территориальные границы (в мире, который до сих пор не знал господства одного государства) также порождают сферу регулируемых межгосударственных отношений. Геополитическая дипломатия выступает второй важнейшей формой организации политической власти. Два геополитических типа (гегемонистская империя, господствующая над ее приграничными областями и соседями-клиентелами, а также различные формы мульти государственных цивилизаций) будут играть важную роль в этом томе. Очевидно, что геополитическая организация весьма отличается по форме от других упоминавшихся до сих пор организаций власти. Социологическая теория действительно ее обычно игнорирует. Но геополитическая организация выступает сущностной частью общественной жизни и не сводится к «внешним» конфигурациям власти, к составляющим ее государств. Например, последовательные гегемонистские и деспотические притязания Генриха IV в Германии, Филиппа II в Испании и Бонапарта во Франции были только в поверхностном смысле усмирены силой государств и тех, кто им противостоял. На самом деле это произошло благодаря глубоко укорененной мультигосударственой дипломатии европейской цивилизации. Геополитические организации власти, таким образом, представляют собой сущностную часть всеобщей социальной стратификации. Таким образом, человеческие существа, преследуя множество целей, создают множество сетей социального взаимодействия. Границы и возможности этих сетей не совпадают. Некоторые сети обладают большей способностью к организации интенсивной и экстенсивной, авторитетной и диффузной социальной кооперации по сравнению с другими. Крупнейшими являются сети идеологической, экономической, военной и политической власти — четыре источника социальной власти. Каждый соответственно предполагает различные формы социопростран-ственной организации, с помощью которых люди могут достичь громадного, но исчерпывающего спектра своих бесчисленных целей. Важность четырех источников власти заключается в их комбинации интенсивной и экстенсивной власти. Но все это превращается в историческую детерминированность через различные организационные средства, которые навязывают их общую форму большей части общественной жизни. Главными формами, которые я выделил, являются трансцендентная или имманентная (для идеологической власти), цепи практики (для экономической), концентрированное принуждение (для военной) и территориально централизованная и дипломатическая геополитика (для политической). Подобные конфигурации становятся беспорядочно смешивающими («нечистыми»), заимствуя и структурируя элементы из ряда сфер общественной жизни. В изложенном выше втором примере трансцендентные организации культуры ранних цивилизаций включали аспекты экономического перераспределения, правил ведения войны, а также политической и геополитической регуляции. Поэтому мы имеем дело не с внешними отношениями между различными источниками, измерениями или сферами социальной власти, а скорее с (1) источниками как идеальными типами, которые (2) периодически существуют как отдельные организации с разделением труда и которые (3) могут вызвать более общее неупорядоченное оформление общественной жизни. В третьем пункте одно или более из этих организационных средств будет возникать интерстициально как преимущественно реорганизующая сила, будь то в краткосрочной перспективе (см. Пример 1: появление европейской фаланги пикинеров) или в долгосрочной перспективе (см. Пример 2: Появление цивилизованных культур и религии). Это ИЭВП модель организации власти. Макс Вебер однажды использовал метафору, позаимствованную из железнодорожной сферы, когда пытался объяснить важность идеологии — он обсуждал значение религий спасения. Он писал, что эти идеи подобны «стрелочнику» (switchmen) (то есть pointsmen[13] на британских железных дорогах), определяющему, по какому из нескольких путей продолжится общественное развитие. Возможно, эту метафору следует откорректировать. Источники социальной власти представляют собой «путеукладчик» (поскольку пока не выбрано направление, не существует и путей), прокладывающий разной ширины железнодорожные колеи через социальную и историческую местность. Сами моменты прокладки и перехода на новый путь ближе всего к тому подходу, с помощью которого мы можем подойти к проблеме первичности. В такие моменты нам открывается автономия социальной концентрации, организации и направления, которая отсутствует в более институциализированные времена. В этом и состоит значение источников власти. Они придают коллективную организацию и единство бесконечному разнообразию социального существования, обеспечивают существенную оформленность, как в крупномасштабной социальной структуре (которая может быть или не быть большой), поскольку способны генерировать коллективное действие, выступают «обобщенными средствами», при помощи которых люди творят свою историю.ОБЩАЯ ИЭВП МОДЕЛЬ, ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Общая ИЭВП модель резюмирована в краткой схематичной форме на рис. 1.2. Преобладание пунктирных линий на схеме демонстрирует беспорядок в человеческих обществах: наши теории могут охватывать только некоторые из широчайшего спектра отношений. Мы начали с людей, преследующих цели. Под этим я подразумеваю не то, что их цели являются «досоциальными», а то, что характер целей и то, как они создаются, не имеет отношения к тому, что за ними следует. Целеполагающие люди формируют множественность социальных отношений, слишком сложную для любой общей теории. Тем не менее отношения вокруг наиболее мощных организационных средств объединяются в широкие институциональные сети детерминированных стабильных форм, сочетающих в себе интенсивную и экстенсивную, а также авторитарную и диффузную власть. Я предполагаю, что существуют четыре основных источника власти, каждый из которых сосредоточен на различных видах организаций. В свою очередь, необходимость институционализации ведет к их частичному объединению в одну или более доминирующих сетей власти. Эти сети обеспечивают высокую степень ограниченности, которую мы находим в социальной жизни, хотя эти границы и далеки от тотальных. Ряд сетей остаются интерстициальными по отношению и к четырем источникам власти, и к доминирующим организационным конфигурациям; подобным образом некоторые важные аспекты четырех источников власти также остаются слабо институционализированными в доминирующих организационных конфигурациях. Эти два источника интерстициальных взаимодействий в конце концов продуцируют появление более мощных сетей, ориентирующихся на одном или более из четырех источников власти и вызывающих реорганизацию социальной жизни, а также новые доминирующие установки. Так и развивается исторический процесс. Таков подход к вопросу о первопричине, но не ответ на него. До сих пор я так и не прокомментировал то, что является главным камнем преткновения между марксистской и веберианской теориями: можно ли указать на экономическую власть как на детерминирующую форму общества. Это эмпирический вопрос, а потому я должен привести доказательства, прежде чем попытаюсь дать предварительный ответ в главе 16 и более полный ответ в томе 3.РИС. 1.2. Каузальная ИЭВП модель организованной власти
 Существуют три причины, которые объясняют, почему эмпирическая проверка должна быть исторической. Во-первых, разработанная модель, по сути, описывает процессы социального изменения. Во-вторых, мой отказ от концепции общества как унитарной тотальности предоставляет альтернативный способ исследования, более сложный, чем сравнительная социология. Общества не являются самодостаточными объединениями, которые можно было бы просто сравнить в пространстве и во времени. Они существуют в конкретных условиях регионального взаимодействия, которые уникальны даже в своих основных характеристиках. Возможности сравнительной социологии весьма ограниченны, когда имеют место лишь несколько сравнимых кейсов. В-третьих, моя методология направлена на «количественное» исследование власти, на историческое прослеживание ее инфраструктур, в результате которого становится очевидно, что количество власти заметно возрастало на протяжении истории. Властные возможности доисторических обществ (над природой и людьми) были значительно меньше, чем, скажем, в древней Месопотамии, которые, в свою очередь, были меньше последующих — в Римской республике, затем в Испании XVI в., в Британии XIX в. и т. д. Важнее зафиксировать эту историю, чем делать сравнения по миру. Речь идет об исследовании ритмов «мирового времени», используя выражение Эберхарда (Eberhard 1965: 16), когда каждый процесс развития власти оказывает воздействие на мир вокруг него.
Самым подходящим для этого видом истории служит история наиболее могущественных человеческих обществ, современной западной цивилизации (включая Советский Союз), которая была почти непрерывным продолжением истории от истоков ближневосточной цивилизации (около 3000 г. до н. э.) и до сегодняшнего дня. Это девелопменталистская, хотя не эволюционная и не телеологическая история. В этой истории нет никакой необходимости — она просто развивалась подобным образом (и уже чуть было несколько раз не прервалась). Это не история некоего одного социального или географического пространства. Как все подобные исследования, мое начинается с общих положений неолитических обществ, затем сосредоточивается на древнем Ближнем Востоке, потом постепенно перемещается на запад и на север через Анатолию, Малую Азию и Левант к восточному Средиземноморью. Далее оно перемещается в Европу, заканчивая наиболее западным государством Европы XVIII в. — Великобританией. Каждая глава выстраивается вокруг «передового фронта» власти [ «общества»], способность которого к интеграции людей и пространств в рамках доминирующих организационных конфигураций является наиболее развитой, передовой в инфраструктурном отношении. Подобный метод является в некотором смысле неисторическим, но перескоки также являются его сильной стороной. Властные возможности развиваются неравномерно, скачкообразно. Поэтому изучение подобных скачков и попытки их объяснения представляются наилучшей эмпирической площадкой для работы над вопросом о первичности.
Что я упускаю в этой истории? Разумеется, огромное количество деталей и сложностей, кроме того, каждая модель помещает некоторый феномен на авансцену, а остальные отодвигает за кулисы. Если последним когда-либо удастся занять центральное место, то, вероятно, разработанная модель уже не будет эффективной в их исследовании. В этом томе бросается в глаза отсутствие проблемы гендерных отношений. Во втором томе я пытаюсь оправдать это отсутствие в терминах их реально неравномерной роли в истории. Я буду доказывать, что гендерные отношения в целом оставались постоянными, в обобщенной форме патриархата, на протяжении большей части истории вплоть до XVIII и XIX вв., когда в Европе сталипроисходить стремительные изменения. Но это уже предмет тома 2. В настоящем томе обсуждаются отношения власти, которые представлены «публичной сферой», то есть отношениями между мужчинами как главами домохозяйств.
Я взываю к великодушию и широте духа историков-специалистов. Рассмотрев огромный срез истории человечества, я, без сомнения, допустил ряд фактических ошибок и, вероятно, несколько грубых. Я задаюсь вопросом: сделало бы их исправление несостоятельными общие аргументы? Я также задам более решительный вопрос: а не выиграли бы исторические исследования, особенно в англо-американской традиции, если бы исследователи выражали свои взгляды о природе общества более эксплицитно? Я обратился бы с некоторой резкостью к социологам. Большая часть современной социологии является неисторической, но даже большая часть исторической социологии сосредоточена на развитии обществ модерна и возникновении промышленного капитализма. Это настолько значимо для социологической традиции, что, как показал Нисбет (1967), производит центральные дихотомии современной теории — от статуса к контракту, от общины к обществу, от механической солидарности к органической, от священного к секулярному, — которые фиксируют исторический водораздел в конце XVIII в. Теоретики XVIII в., такие как Вико, Монтескье и Фергюсон, не рассматривали историю таким образом. В отличие от современных социологов, которые знакомы только с историей собственных национальных государств, а также с антропологией, они знали, что сложные, дифференцированные и стратифицированные общества (секулярные, договорные, органические, «общества» (gesellschaft), но не индустриальные) существуют уже по крайней мере две тысячи лет. На протяжении XIX — начала XX в. это знание среди социологов выродилось. Парадоксально, что его вырождение продолжалось в тот самый момент, когда историки, археологи и антропологи уже использовали новые техники, многие из которых являлись социологическими, для того чтобы делать поразительные открытия о социальной структуре этих сложных обществ. Но их анализ ослаблен относительным игнорированием социологической теории.
Вебер является выдающимся исключением из вышесказанного. Мой долг перед ним огромен не столько в плане принятия его конкретных теорий, сколько в принятии его общего взгляда на взаимотношения между обществом, историей и социальным действием.
Мое требование к социологической теории заключается в том, чтобы она выстраивалась на глубине и широте исторического опыта, а не только на присущем ей желании понять богатое разнообразие современного человеческого опыта, каким бы ценным оно ни было. Более того, я утверждаю, что некоторые из наиболее важных характеристик современного мира могут быть оценены только при помощи исторического сравнения. История не повторяется. Скорее наоборот: всемирная история развивается. Историческое сравнение может показать, что наиболее значимые проблемы нашего общества новы. Вот почему их так трудно решить: они являются интерстициальными по отношению к институтам, эффективно справлявшимся с более традиционными проблемами, для решения которых изначально были созданы. Но, как я полагаю, все общества сталкиваются с внезапными и интерстициальными кризисами, и в отдельных случаях они способствуют развитию человечества. В конце долгого исторического обзора я надеюсь продемонстрировать актуальность этой модели для современного мира в томе 2.
Существуют три причины, которые объясняют, почему эмпирическая проверка должна быть исторической. Во-первых, разработанная модель, по сути, описывает процессы социального изменения. Во-вторых, мой отказ от концепции общества как унитарной тотальности предоставляет альтернативный способ исследования, более сложный, чем сравнительная социология. Общества не являются самодостаточными объединениями, которые можно было бы просто сравнить в пространстве и во времени. Они существуют в конкретных условиях регионального взаимодействия, которые уникальны даже в своих основных характеристиках. Возможности сравнительной социологии весьма ограниченны, когда имеют место лишь несколько сравнимых кейсов. В-третьих, моя методология направлена на «количественное» исследование власти, на историческое прослеживание ее инфраструктур, в результате которого становится очевидно, что количество власти заметно возрастало на протяжении истории. Властные возможности доисторических обществ (над природой и людьми) были значительно меньше, чем, скажем, в древней Месопотамии, которые, в свою очередь, были меньше последующих — в Римской республике, затем в Испании XVI в., в Британии XIX в. и т. д. Важнее зафиксировать эту историю, чем делать сравнения по миру. Речь идет об исследовании ритмов «мирового времени», используя выражение Эберхарда (Eberhard 1965: 16), когда каждый процесс развития власти оказывает воздействие на мир вокруг него.
Самым подходящим для этого видом истории служит история наиболее могущественных человеческих обществ, современной западной цивилизации (включая Советский Союз), которая была почти непрерывным продолжением истории от истоков ближневосточной цивилизации (около 3000 г. до н. э.) и до сегодняшнего дня. Это девелопменталистская, хотя не эволюционная и не телеологическая история. В этой истории нет никакой необходимости — она просто развивалась подобным образом (и уже чуть было несколько раз не прервалась). Это не история некоего одного социального или географического пространства. Как все подобные исследования, мое начинается с общих положений неолитических обществ, затем сосредоточивается на древнем Ближнем Востоке, потом постепенно перемещается на запад и на север через Анатолию, Малую Азию и Левант к восточному Средиземноморью. Далее оно перемещается в Европу, заканчивая наиболее западным государством Европы XVIII в. — Великобританией. Каждая глава выстраивается вокруг «передового фронта» власти [ «общества»], способность которого к интеграции людей и пространств в рамках доминирующих организационных конфигураций является наиболее развитой, передовой в инфраструктурном отношении. Подобный метод является в некотором смысле неисторическим, но перескоки также являются его сильной стороной. Властные возможности развиваются неравномерно, скачкообразно. Поэтому изучение подобных скачков и попытки их объяснения представляются наилучшей эмпирической площадкой для работы над вопросом о первичности.
Что я упускаю в этой истории? Разумеется, огромное количество деталей и сложностей, кроме того, каждая модель помещает некоторый феномен на авансцену, а остальные отодвигает за кулисы. Если последним когда-либо удастся занять центральное место, то, вероятно, разработанная модель уже не будет эффективной в их исследовании. В этом томе бросается в глаза отсутствие проблемы гендерных отношений. Во втором томе я пытаюсь оправдать это отсутствие в терминах их реально неравномерной роли в истории. Я буду доказывать, что гендерные отношения в целом оставались постоянными, в обобщенной форме патриархата, на протяжении большей части истории вплоть до XVIII и XIX вв., когда в Европе сталипроисходить стремительные изменения. Но это уже предмет тома 2. В настоящем томе обсуждаются отношения власти, которые представлены «публичной сферой», то есть отношениями между мужчинами как главами домохозяйств.
Я взываю к великодушию и широте духа историков-специалистов. Рассмотрев огромный срез истории человечества, я, без сомнения, допустил ряд фактических ошибок и, вероятно, несколько грубых. Я задаюсь вопросом: сделало бы их исправление несостоятельными общие аргументы? Я также задам более решительный вопрос: а не выиграли бы исторические исследования, особенно в англо-американской традиции, если бы исследователи выражали свои взгляды о природе общества более эксплицитно? Я обратился бы с некоторой резкостью к социологам. Большая часть современной социологии является неисторической, но даже большая часть исторической социологии сосредоточена на развитии обществ модерна и возникновении промышленного капитализма. Это настолько значимо для социологической традиции, что, как показал Нисбет (1967), производит центральные дихотомии современной теории — от статуса к контракту, от общины к обществу, от механической солидарности к органической, от священного к секулярному, — которые фиксируют исторический водораздел в конце XVIII в. Теоретики XVIII в., такие как Вико, Монтескье и Фергюсон, не рассматривали историю таким образом. В отличие от современных социологов, которые знакомы только с историей собственных национальных государств, а также с антропологией, они знали, что сложные, дифференцированные и стратифицированные общества (секулярные, договорные, органические, «общества» (gesellschaft), но не индустриальные) существуют уже по крайней мере две тысячи лет. На протяжении XIX — начала XX в. это знание среди социологов выродилось. Парадоксально, что его вырождение продолжалось в тот самый момент, когда историки, археологи и антропологи уже использовали новые техники, многие из которых являлись социологическими, для того чтобы делать поразительные открытия о социальной структуре этих сложных обществ. Но их анализ ослаблен относительным игнорированием социологической теории.
Вебер является выдающимся исключением из вышесказанного. Мой долг перед ним огромен не столько в плане принятия его конкретных теорий, сколько в принятии его общего взгляда на взаимотношения между обществом, историей и социальным действием.
Мое требование к социологической теории заключается в том, чтобы она выстраивалась на глубине и широте исторического опыта, а не только на присущем ей желании понять богатое разнообразие современного человеческого опыта, каким бы ценным оно ни было. Более того, я утверждаю, что некоторые из наиболее важных характеристик современного мира могут быть оценены только при помощи исторического сравнения. История не повторяется. Скорее наоборот: всемирная история развивается. Историческое сравнение может показать, что наиболее значимые проблемы нашего общества новы. Вот почему их так трудно решить: они являются интерстициальными по отношению к институтам, эффективно справлявшимся с более традиционными проблемами, для решения которых изначально были созданы. Но, как я полагаю, все общества сталкиваются с внезапными и интерстициальными кризисами, и в отдельных случаях они способствуют развитию человечества. В конце долгого исторического обзора я надеюсь продемонстрировать актуальность этой модели для современного мира в томе 2.
БИБЛИОГРАФИЯ
Althusser, L., and E.Balibar (1970). Reading Capital. London: New Left Books. Anderson, P. (1974a). Passages from Antiquity to Feudalism. London: New Left Books. Андерсон, П. (2007). Переходы от античности к феодализму. М.: Территория будущего. --. (1974b). Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books. Андерсон, П. (2010). Родословная абсолютистского государства. М.: Территория будущего. Barber, L. В. (1968). Introduction in «stratification, social». In International Encyclopedia ofthe Social Sciences, ed. D. Sills. New York: Macmillan and Free Press. Bendix, R. (1978). Kings or People. Berkeley: University of California Press. Bendix, R., and S. M. Lipset (1996)- Class, Status and Power. 2d rev. ed. (orig. pub. 1953). New York: Free Press. Bloch, M. (1974). Symbols, song, dance and features of articulation. Archives Europeenes de Sociologie, 15. Coe, M. D. (1982). Religion and the rise of Mesoamerican states. In The Transition to Statehood in the New World, ed. G. D. Jones and R. R. Kautz. Cambridge: Cambridge University Press. Eberhard, W. (1965). Conquerors and Rulers: Social Forces in Modern China. Leiden: Brill. Geertz, C. (1980). Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Gellner, E. (1964). Thought and Change. London: Weidenfeld & Nicolson. Giddens, A. (1979). Central Problems in Social Theory. London: Macmillan. --. (1981). A Contemporary Critique of Historical Materialism. London: Macmillan. Heller, C. S. (1970). Structured Social Inequality. London: Collier-Macmillan. Hindess, B., and P. Hirst (1975). Pre-Capitalist Modes ofProduction. London: Routledge. Keatinge, R. (1982). The nature and role of religious diffusion in the early stages of state formation. In The Transition to Statehood in the New World, ed. G.D.Jones and R. R. Kautz. Cambridge: Cambridge University Press. Labriola, E. (1908). Essays on the Materialist Conception of History. New York: Monthly Review Press; Лабриола, A. (i960). Очерки материалистического понимания истории. М.: Госполитиздат. Lattimore, О. (1962). Studies in Frontier History. London: Oxford University Press. Mann, M. (1984). The Autonomous Power of the State. In Archives Europeennes de Sociologie, 25; Манн, M. (2004). Автономная власть государства: истоки, механизмы и результаты. Пер. с англ. М. В. Масловского // М. В. Масловский. Социология политики: классические и современные теории. Учеб, пособие. М.: Новый учебник. С. 109–119. Mosca, G. (1939) The Ruling Class. New York: McGraw-Hill; Моска, Г. (1994). Правящий класс (отрывок) //Социологические исследования. № 10. С. 187–198. Nisbet, R. (1967). The Sociological Tradition. London: Heinemann. Parsons, T. (i960). The distribution of power in American society. In Structure and Process in Modern Societies. New York: Free Press. --. (1966). Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. --. (1968). The Structure of Social Action. New York: Free Press; Парсонс, T. (2000). О структуре социального действия. М.: Академический проект. Petrovic, G. (1967). Marx in the Mid-Twentieth Century. New York: Doubleday (Anchor Press). Poulantzas, N. (1972). Pouvoir politique et classes sociales. Paris: Maspero. Runciman, W. G. (1968). Class, status, and Power? In Social Stratification, ed. J. A.Jackson. Cambridge: Cambridge University Press. --. (1982). Origins of states: the case of archaic Greece. Comparative Studies in Society and History, 24. --. (1983a). Capitalism without classes: the case of classical Rome. British Journal of Sociology. 24. --. (1983b). Unnecessary revolution: the case of France. Archives Europeenes de Socio-logie, 24. --. (1983c). A Treatise on Social Theory, Volume I: The Methodology of Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press. Sahlins, M. (1976). Culture and Practical Reason. Chicago: University of Chicago Press. Shibutani, T. (1955). Reference groups as perspectives. American Journal of Sociology, 40. Verbruggen, J. F. (1977). The Art of Warfare in Western Europe During the Middle Ages. Amsterdam: North-Holland. Wallerstein, I. (1974). The Modern World System. New York: Academic Press; Валлерстайн, И. (2015). Мир-система Модерна. Том I. Капиталистическое сельское хозяйство и источники европейского мира-экономики в XVI веке. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. Weber, М. (1968). Economy and Society. New York: Bedminster Press. Вебер, M. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. Wesolowski, (1967). Marx’s theory of class domination. In Polish Round Table Year-book, 1967, ed. Polish Association of Political Science, Warsaw: Ossolineum. Wrong, D. (1979). Power: Its Forms, Bases and Uses. New York: Harper &. Row.ГЛАВА 2 Конец общей социальной эволюции: как доисторические люди избегали власти
ВВЕДЕНИЕ: КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ НАРРАТИВ
ИСТОРИЮ власти необходимо вести с самого начала. Но где его искать? Как вид человечество появилось миллионы лет назад, большую часть этого раннего доисторического периода люди прожили главным образом как странствующие собиратели диких фруктов, ягод, орехов и трав, а также как падальщики, питавшиеся остатками добычи более крупных хищников. Затем у них появился свой метод охоты. Но на основе каких источников нам строить предположения об этих собирателях, падальщиках и охотниках, если их социальные структуры были слишком слабы и изменчивы от случая к случаю (ad hoc)? У них не было стабильной институционализации отношений власти, классов, государств или элит; даже половозрастные различия (внутри взрослого населения) не могли быть основой устойчивых властных различий (сегодня последнее широко обсуждается). И разумеется, у них не было письменности и, соответственно, истории в современном смысле. Таким образом, в самом начале не было ни власти, ни истории. Концепции, разработанные в первой главе, не имеют фактически никакого отношения к 99 % жизненного цикла человечества от его возникновения до настоящего момента. Поэтому я не буду начинать сначала! Затем (как представляется, повсеместно) возникают переходы к сельскому хозяйству, одомашниванию животных и постоянным поселениям, которые подвели человечество гораздо ближе к отношениям власти. Возникали стабильные, территориально ограниченные, предположительно «сложные» общества, включающие разделение труда, социальное неравенство и политическую централизацию. Возможно, здесь-то мы и можем говорить о власти, несмотря на то что такая позиция потребует множество оговорок. Увы, этот второй этап, составлявший около 0,6 % от общего существования человечества, от его возникновения до настоящего момента, был также дописьменным. История этого этапа фактически не известна, и поэтому его оценка должна быть весьма условной. Наконец, около 3 тыс. лет до н. э. началась серия связанных трансформаций, которые привели часть человечества к оставшемуся этапу, составившему 0,4 % продолжительности существования человечества, — этапу цивилизаций, постоянных отношений власти, заключенных в государствах, этапу систем стратификации и патриархата, а также этапу письменной истории. Эта эпоха стала общей для всего мира, но она началась лишь в ряде географических мест. С этого момента третий этап становится предметом данной книги. Но как далеко назад необходимо отступить с выбором ее истоков? Здесь возникают два очевидных вопроса: является ли весь социальный опыт человека единой историей при таком заметном разрыве и как мы можем узнать, было ли на самом деле все так, как мы предполагаем при нашем почти полном игнорировании 99 или 99,6 % этого опыта? Существует, однако, один прочный якорь для всей истории. От эпохи плейстоцена (около миллиона лет назад) и далее не существует никаких доказательств какого-либо «видообразования», биологической дифференциации внутри человеческих популяций. На самом деле за 10 млн лет существования гоминидов имел место всего один более ранний случай видообразования: сосуществование двух типов гоминидов в раннем плейстоцене в Африке, один из которых вымер. Это может показаться любопытным, поскольку прочие млекопитающие, появившиеся в то же время, что и гоминиды, например слоны или крупный рогатый скот, и в дальнейшем демонстрировали заметное видообразование. Например, представьте себе различие между индийскими и африканскими слонами и противопоставьте их незначительным фенотипическим различиям в цвете кожи и сходствам среди людей. Все человечество, таким образом, обладает сходством прожитого опыта (этот аргумент был усилен Sherratt 1980: 405). О какого рода унифицированной истории можно в таком случае говорить? Большинство историй эволюционные. Они сначала рассказывают о том, как люди развили свою врожденную способность к социальному сотрудничеству, затем как каждая следующая форма социальной кооперации имманентно развивалась из потенциала предшествующей в форму, которая «выше», или по крайней мере в более комплексную и социальную организацию власти. Подобные теории преобладали в XIX в. Избавленные от слов о прогрессе от низших форм к высшим, но сохранившие представления об эволюции в возможностях власти и сложности, они преобладают и по сей день. Однако это всего одна из особенностей этой истории, которую признают ее защитники. Человеческая эволюция отличается от эволюции других видов тем, что сохраняет свое единство. Видообразования не происходит. Когда некое локальное население развивает некоторую особенную форму действия, очень часто она диффузно распространяется практически среди всего человечества, населяющего земной шар. Огонь, шитье одежды и укрытие наряду с более изменчивыми совокупностями социальных структур распространялись иногда из единого эпицентра, а иногда из нескольких от экватора до Северного полюса. Топор и керамика, государство и товарное производство получили широкое распространение по мере развития истории и доисторического времени, о котором нам известно. Поэтому эта история будет историей культурной эволюции, в основе которой лежит продолжительный культурный контакт между группами, базирующийся на осознании, что вопреки локальным различиям все люди являются одним видом, сталкивающимся с определенными общими для всех проблемами, а также что можно научиться решать эти проблемы друг у друга. Некая локальная группа развивает новую форму, возможно, под давлением окружающей среды, но изобретенная форма демонстрирует свою эффективность другим группам, находящимся в других условиях, и они адаптируют ее, возможно, в несколько измененном виде. Во всеобщей истории могут быть выделены различные акценты. Акцент на ряде примеров независимых изобретений: если все люди культурно подобны, они обладают сходными возможностями осуществить следующий эволюционный шаг. Те, кто придерживается такого рода акцента, составляют школу «локальной эволюции». Или, наоборот, акцент на процессе диффузии и доводы в пользу существования нескольких эпицентров эволюции — школа «диффузиноизма». Эти две школы часто противостоят друг другу, вступают в острые дискуссии. Но по сути они сходны в том, что рассказывают одну и ту же общую историю непрерывной культурной эволюции. Поэтому большинство современных ответов на мой исходный вопрос, существует ли единая всеобщая история, будут однозначно утвердительными. Этот ответ подтверждается исследованиями большинства историков, которые отличаются склонностью (особенно среди приверженцев англо-американской исторической традиции) к непрерывному повествованию в стиле «и затем случилось» то-то и то-то. Такой метод игнорирует разрывы. Например, Робертс в своей работе Pelican History of the World (Roberts 1980: 45–55) описывает разрывы между указанными выше тремя этапами истории как всего лишь «ускорение темпов изменения», а географические сдвиги фокуса — как по сути «кумулятивное» развитие человеческой и социальной власти, «укорененное в веках и управляемое медленным ритмом генетической эволюции». В рамках более теоретической, сциентистской традиции американской археологии и антропологии эволюционная история рассказана языком кибернетики с блок-схемами роста цивилизации, проходящего через различные стадии — начиная от охотников и собирателей и заканчивая позитивными и негативными обратными связями, альтернативными «ступенчатыми» и «наклонными» моделями восходящего развития и т. д. (Redman 1978: 8-11; ср. Sahlins and Service 1960). Эволюционизм доминирует, иногда эксплицитно, иногда имплицитно, как объяснение происхождения цивилизации, стратификации и государства. Все конкурирующие теории возникновения стратификации и государства предполагают, по сути, естественный процесс общего социального развития: они рассматриваются как разрастание диалектического развития центральных структур доисторических обществ. Эти частные истории дают начало нормативной политической теории: нам следует смириться с государством и стратификаций (Гоббс, Локк) или нам следует их свергнуть (Руссо, Маркс) в силу реконструкции или гипотетических доисторических событий. Современные антропологи в союзе с археологами рассказывают историю о последовательной схеме всем известных форм человеческого общества (а следовательно, и историю о релевантности их собственных академических дисциплин для современного нам мира). Их центральной ортодоксальной последовательностью является история о стадиях — от относительно эгалитарных обществ без государства до обществ с государствами (отлично обобщены Fried 1967; Redman 1978: 201–205 применительно к альтернативным последовательностям стадий; Steward 1963 применительно к наиболее влиятельным из современных археологических/антропологических последовательностей стадий). Логика эволюционных подходов была расширена Фридманом и Роулендсом (Friedman and Rowlands 1978), которые обозначили дефекты эволюционных нарративов. Хотя последовательность стадий эволюционного развития установлена, переходы между ними приписываются воздействию до определенной степени случайных сил: демографическому давлению и технологическим изменениям. Фридман и Роуленде устраняют эту проблему, развивая детализированную сложную «эпигенетическую» модель «трансформационного процесса» социальной организации. «Таким образом, — заключают они, — мы ожидаем, что будем способны предсказать доминирующие формы социальной репродукции на следующей стадии в терминах свойств текущей стадии. Это возможно, поскольку репродуктивный процесс является направляющим и трансформирующим» (Friedman and Rowlands 1978: 267–268). Метод этих моделей идентичен. Сначала обсуждаются общие характеристики обществ охотников и собирателей, затем предлагается теория общего перехода к сельскохозяйственным поселениям и скотоводству, далее общие характеристики этих обществ накладываются на ряд конкретных исторических обществ: Месопотамию, Египет и Северный Китай, иногда к ним добавляют долину реки Инд, Мезоамерику, Перу и минойскую цивилизацию. Перечислим стадии, которые обычно выделяются, а также их ключевые характеристики. 1. Эгалитарные общества не требуют объяснения. Иерархические различия между индивидами, половозрастными ролями (вероятно) не институционализированы. Те, кто находится на высших позициях, не могут прибрать к рукам ресурсы коллективной власти. 2. Ранговые общества не являются эгалитарными. Те, кто выше рангом, в целом могут использовать ресурсы коллективной власти. Ранги могут быть институционализированы и даже переданы по наследству в аристократических кланах. Но ранги практически всецело зависят от коллективной власти или авторитета (authority), то есть легитимной власти, используемой только для коллективных (общих) целей, свободно даруемой и свободно отнимаемой участниками отношений власти. Таким образом, занимающие высшие ранги обладают статусом, позволяющим принимать решения и использовать материальные ресурсы в интересах всей группы, но статус не предполагает принудительной власти над непокорными членами группы, как не предполагает использования материальных ресурсов группы для своих частных нужд и, соответственно, превращения их в «частную собственность». Однако существуют два подвида ранговых обществ, которые также вписываются в эволюционную шкалу. 2а. В обществах с относительными рангами индивиды, как и клановые группы, могут быть ранжированы относительно друг друга, но здесь не существует наивысшей точки шкалы. Более того, в большинстве групп существуют обоснованная неуверенность и аргументы для однозначного соотнесения членов одного относительного ранга с другим. Ранги являются спорными. 2b. В обществах с абсолютными рангами появляется абсолютное наивысшее положение. Вождю или верховному вождю приписывается неоспоримо высший ранг, а все остальные члены клана получают свой ранг в зависимости от своей дистанции до него. Такое положение вещей обычно выражено в идеологических терминах происхождения верховного вождя от изначального прародителя, возможно, даже от богов данной группы. Поэтому в обществах с абсолютными рангами появляется один характерный институт — церемониальный центр, религиозно освещенный, контролируемый вождем клана. От таких централизованных институтов до государства всего один шаг. 3. Определения государства будут рассматриваться более подробно в томе 3. В моих предшествующих работах используется определение, сформулированное под влиянием Вебера: государство — это дифференцированный набор институтов и персонала, воплощающий централизацию в том смысле, что политические отношения простираются из него, очерчивая вокруг границы территориальной области, на которой устанавливается монопольное и постоянное право издания и приведение в исполнение законов, подкрепленное монополией на физическое насилие. В доисторические времена появление государства превратило временный политический авторитет и постоянный церемониальный центр в постоянную политическую власть, институционализированную и рутинизированную в своей способности использовать принуждение против непокорных социальных единиц как необходимое. 4. Стратификация предполагает постоянную институционализированную власть одних над материальными жизненными шансами других. Эта власть может быть в форме физической силы или иного рода возможности лишать других необходимого для жизни. В литературе, посвященной происхождению стратификации, это является синонимом имущественной дифференциации и экономических классов, а потому я рассматриваю ее в качестве децентрализованной формы власти, отделенной от формы централизованного государства. 5. Цивилизация является наиболее проблематичным термином в силу своей большой ценностной нагрузки. Не существует единого определения на все времена. Я рассмотрю этот вопрос в начале следующей главы. А пока будем довольствоваться предварительным определением. Согласно Ренфрю (Renfrew 1972: 13), цивилизация объединяет три социальных института: церемониальный центр, письменность и город. Там, где они сочетаются, это приводит к скачку в коллективной власти людей над природой и прочими людьми, который, несмотря на переменчивость и неравномерность доисторических и исторических упоминаний, дает начало новому. Ренфрю называет это прыжком в «обособление», в контейнер, содержащий людей в рамках отчетливых, фиксированных, замкнутых социальных и территориальных границ. Я использую метафору социальной клетки. В этих терминах мы можем видеть тесную связь между частями эволюционной истории. Ранг, государство, стратификация и цивилизация обладали тесной взаимосвязью, поскольку их возникновение приводило к медленному, но неизбежному концу примитивной свободы и появлению ограничений и возможностей, предоставляемых постоянной, институционализированной, территориально ограниченной коллективной и дистрибутивной властью. Я собираюсь оспорить эволюционную историю, хотя для этого по большому счету я всего лишь объединяю сомнения разных авторов. Для того чтобы дистанцироваться от эволюционной истории, достаточно отметить одну ее несостыковку: несмотря на то что неолитическая революция и возникновение ранговых обществ происходили независимо на всех континентах, обычно в целом ряде предположительно не связанных между собой географических мест, переход к цивилизации, стратификации и государству был сравнительно более редким явлением. Специализирующийся на доисторической Европе историк Пигготт отмечает: «Все мои исследования прошлого убеждают меня в том, что возникновение того, что мы называем цивилизацией, является, вероятно, самым аномальным и непредсказуемым событием из всех, что происходили в древнем мире благодаря, по сути, единому набору обстоятельств на ограниченной области Западной Азии около 5000 лет назад» (Piggott 1965: 20). В этой и следующей главе я привожу доводы в пользу того, что Пигготт лишь немного преувеличивает: вероятно, в Евразии цивилизация сформировалась под действием четырех особых наборов факторов. Для всего остального мира понадобится добавить еще по меньшей мере два фактора. Хотя мы не можем быть точно уверены в количестве факторов возникновения цивилизаций, их, по всей видимости, менее десяти. Другой выпад против эволюционной истории касается ее последовательности стадий. Суть в том, что возможность движения назад или кругового движения исключена, возможна лишь простая девелопментаристская стадиальность. Черпая основания для сомнений из биологии — цитадели эволюционизма, ряд антропологов предположили, что социальное развитие выступает явлением редким, внезапным и непредсказуемым, как следствие бифуркаций и катастроф, а не как следствие кумулятивного, эволюционного роста. Фридман и Роуленде (Friedman and Rowlands 1982) выразили сомнения по поводу их раннего эволюционизма. Я использую их сомнения, хотя и не принимаю их модели. Возникновение цивилизации, которое лишь в ряде случае являлось независимым, действительно было длинным, постепенным, кумулятивным процессом, а не внезапным ответом на катастрофу. Однако, утверждают они, во всем мире преобладали циклические, а не кумулятивные или эволюционные изменения. Эта глава исходит из двух вышеуказанных положений критики эволюционной истории, которые получат дальнейшую разработку в следующих главах. Во-первых, общая эволюционная теория применима для объяснения неолитической революции, но ее релевантность применительно к последующим событиям сокращается. Верно (далее мы сможем распознать общую эволюцию) применительно к «ранговым обществам» и в некоторых случаях к временному государству и стратификационным структурам. Но затем общая социальная эволюция прерывается. Подобную же позицию отстаивал Уэбб (Webb 1975). Но я иду дальше, предполагая, что дальнейший ход общей истории был регрессионным, (возвращение назад к ранговым и эгалитарным обществам), а также циклическим процессом обращения вокруг этих структур, неспособным достичь постоянной стратификации и государственных структур. На самом деле люди расходуют определенную часть своей культуры и организационных способностей на то, чтобы гарантировать, что дальнейшей эволюции не произойдет. Они не хотят увеличивать их коллективную власть, поскольку это предполагает рост дистрибутивной власти. Поскольку стратификация и государства являются неотъемлемыми компонентами цивилизации, общая социальная эволюция прерывается еще до возникновения цивилизации. В следующей главе мы увидим, что вызывает возникновение цивилизации, а в последних главах — как различаются отношения между цивилизациями и их нецивилизованными соседями в зависимости от стадии цикла, достигнутого последними в тот момент, когда они испытали влияние первых. Этот аргумент усилен и вторым, что возвращает нас к понятию общества как такового, обсуждаемого в главе 1. Оно подразумевает ограниченность, герметичность и ограничения: члены общества взаимодействуют друг с другом, интенсивность их взаимодействия с теми, кто к этому обществу не принадлежит, гораздо ниже. Общества ограниченны и эксклюзивны в их социальном и территориальном охвате. А в отношениях между цивилизованными и нецивилизованными группами мы, напротив, обнаруживаем отсутствие герметичности. Фактически ни одна из нецивилизованных групп, которые рассматриваются в этой главе, не обладала и не могла обладать подобной эксклюзивностью. Лишь немногие семьи на протяжении более чем нескольких поколений принадлежали более чем к одному обществу, в противном случае его границы были бы такими открытыми, каких не было ни у одного из реально существовавших обществ. Большинство могло выбрать, к какому обществу принадлежать. Слабость социальных связей, а также возможность освободиться от любой из сетей власти были тем механизмом, посредством которого запускался вышеупомянутый исторический регресс. В нецивилизованных обществах исход из социальной клетки был возможен. Авторитет (authority) даровали свободно и добровольно, но таким же образом и забирали, а постоянная и принудительная власть была недостижимой. Это принесло свои плоды, когда появились цивилизационные клетки. Они были небольшими (города-государства — наиболее типичная форма), но существовали в самом центре слабых, широких, но тем не менее различимых социальных сетей, которые обычно называют культурой. Мы сможем понять эти культуры (шумерскую, египетскую, китайскую и т. д.), только если поймем, что они объединяют бывшие ранее слабыми отношения с новыми социальными «клетками». Это также задача последующих глав. Поэтому в этой главе я задаю тон для рассмотрения последующей истории власти. Это всегда будет история определенных мест, поскольку таковой была природа развития власти. Общая способность людей справляться с локальной окружающей средой дала начало первым обществам (земледелию, сельским поселениям, клану, роду, вождеству), но не цивилизации, стратификации или государству. Их возникновению мы обязаны (благодарим или проклинаем) более специальным историческим обстоятельствам. Именно они и являются принципиальным предметом этого тома. Я быстро пройдусь по процессу общей эволюции, которая разворачивалась в доисторические времена. Это, разумеется, совсем другая история. Все, что я могу, учитывая отсутствие письменных источников, это подробно обрисовать общие черты последних стадий эволюции и затем продемонстрировать более детально, как завершилась общая эволюция. Для этого я использовал специфическую методологию. Отдавая должное эволюционизму, я для начала предположу, что он работает и что эволюционная история продолжается. Но затем мы отчетливо увидим те места, в которых эволюционный нарратив терпит фиаско.ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРВЫХ ОСЕДЛЫХ ОБЩЕСТВ
В эпоху неолита и бронзового века на основе исходной базы охотников и собирателей постепенно возникали более крупные, оседлые и сложные формы обществ. В терминах мировой истории это происходило чрезвычайно медленно начиная с около 10000 г. до н. э. или ранее и вплоть до примерно 3000 г. до н. э., когда цивилизованные общества становятся различимы. Знания об этом периоде добыты благодаря археологическим находкам, а также датированию на основе радиоуглеродного анализа и прочих современных научных технологий, допускающих определенный диапазон погрешности. Охват события составляет по меньшей мере семь тысяч лет, что больше периода письменной истории. Поэтому, увы, в трех последующих параграфах будет мало фактов. В один из неизвестных исторических моментов по всему миру возникло несколько различимых и практически оседлых поселений. Вполне вероятно, что ряд независимых событий представляется нам в виде общего эволюционного тренда. Многие из этих первых поселений вполне могли быть общинами рыбаков или каменотесов, для которых поселенческая оседлость являлась обычным делом. Другие могли начать копировать оседлость, если им представлялось, что она дает преимущества. Следующая стадия имела место около 10 тыс. лет до н. э., вероятно, в Туркестане или Юго-Восточной Азии независимо друг от друга. Труд стал использоваться для обработки земли и сбора урожая растений, который вырастал из посаженных семян и саженцев. На Ближнем Востоке оседлое земледелие развилось из сборов урожая дикого ячменя и пшеницы. Современные ученые реконструировали эти стадии «изобретения» земледелия (Farb 1978: 108–122; Moore 1982). Было ли все на самом деле так, как описывают они, или иным образом — это уже другой вопрос. Но этот этап представляет собой продукт медленного объединения умственных способностей, приведший к росту успешных исходов, возможностей, проб и ошибок — нормальных компонентов эволюции. Практически повсеместно сельское хозяйство привело к появлению ручных деревянных мотыг, при помощи которых распахивали маленькие, интенсивно возделываемые огороды, сгруппированные в оседлые деревни. Большинство из таких деревень не были постоянными. Когда земля истощались, деревни передвигались на другие земли. Приблизительно в то же время были приручены животные. Овцы и козы были приручены в Ираке и Иордании около 9000 г. до н. э., затем последовало приручение других животных. По всей Евразии развивались специализированные и смешанные сельскохозяйственные и скотоводческие группы, обменивавшие продукцию по протяженным торговым путям. Там, где торговые пути проходили рядом с залежами камня и обсидиана, а также с плодородными землями, могли возникнуть постоянные поселения. К 8000 г. до н. э. в Иерихоне, старейшем сельскохозяйственном поселении площадью около десяти акров, дома из сырцового кирпича были обнесены укреплениями. К 6000 г. до н. э. эти укрепления уже были каменными. Существовали огромные водосборники, предназначавшиеся для искусственной ирригации, — еще один шаг в эволюционной истории. Они могли появиться на основе наблюдения за природными аналогами и постепенного их улучшения: естественные резервуары, возникавшие после дождей и наводнений, могли быть искусственно улучшены, прежде чем появлялись искусственные резервуары и дамбы, а преимущества ила как удобрения, наносимого наводнениями, могли использоваться задолго до того, как были обнаружены огромные достижения наносного сельского хозяйства цивилизаций, расположенных в долинах рек. Находки в Иерихоне и Чатал-Хююке в Анатолии предполагают довольно отчетливую и постоянную социальную организацию с выраженными церемониальными центрами и экстенсивными торговыми сетями. Поскольку письменности еще не было, численность населения (которая могла бы указать, были ли такие поселения тем, что археологи подразумевают под «городом») остается невыясненной. Нам также ничего не известно о «государстве» таких поселений, но раскопки дают основания предполагать наличие некоторого неравенства между жителями. Деревянный плуг появился, возможно, вскоре после 5000 г. до н. э., а вслед за ним — повозка и гончарный круг. Размеры постоянно обрабатываемых полей выросли с появлением плуга на гужевой тяге. Питательные вещества почвы теперь могли быть подняты наверх. Поля вспахивались под пар, возможно, два раза в год. Медь, золото и серебро стали использоваться в качестве предметов роскоши к 5000 г. до н. э. Мы можем отыскать их в тщательно убранных погребальных, из чего следует существование социальной дифференциации и торговли на большие расстояния. Великолепные «мегалиты», найденные в Бретани, Британии, Испании и на Мальте, свидетельствуют о сложной социальной организации, крупномасштабном управлении труда, знании астрономии и, вероятно, религиозных ритуалах в период с 3000 до 2000 г. до н. э., которые, по всей видимости, развивались независимо от ближневосточных трендов. Но решающим в этот период было именно развитие Ближнего Востока. Вероятно, в результате ирригационных технологий постоянные поселения с высокой плотностью населения, появившиеся в Месопотамии, обозначили себя в истории около 3000 г. до н. э. письменностью, городами-государствами, храмами, стратификационными системами — одним словом, цивилизацией. Эти обширные территории я собираюсь исследовать более тщательно. Эволюционная теория выглядит правдоподобной применительно к началу истории, поскольку развитие было значительным, выглядело внешне не зависящим от диффузии и в достаточной мере кумулятивным. Появление сельского хозяйства привело к открытию новых технологий и организационных форм. Народы некоторых областей могли вернуться к охоте и собирательству, но не в таком количестве, чтобы нарушить мнение о необратимости развития. Поэтому они смещались по направлению к большей устойчивости поселений и организаций, которые являются ядром эволюционной теории. Устойчивость поселений заманивала людей в ловушки совместной жизни, сотрудничества и разработки более сложных форм социальной организации. Поэтому метафора клетки более чем оправданна. Но давайте обратимся к наименее запертым, пойманным в клетку человеческим существам — охотникам и собирателям. У его или ее свободы было два основных аспекта. Во-первых, согласно данным антропологов, охотники и собиратели, как не удивительно, жили легкой жизнью. Салинз (Sahlins 1974) описывает стадию общества охотников и собирателей как «изначальные общества изобилия». Они удовлетворяли свои экономические нужды и потребности в необходимом количестве калорий, работая периодически в среднем от трех до пяти часов ежедневно. Вопреки сложившемуся сейчас образу мужчины-охотника их рацион состоял лишь на 35 % из продуктов охоты и на 65 % из собираемых плодов, хотя первая цифра, вероятно, росла по мере наступления холодного климата. Все это пока вызывает массу вопросов, особенно начиная с 1970-х гг., когда феминистки с энтузиазмом взялись за раскопки, чтобы разработать альтернативный доисторический ярлык: женщина-собиратель! Я придерживаюсь образа охотников-собирателей. Но охота и собирательство могли предоставить более сбалансированный питательный рацион, чем тот, который способно было предложить сельское хозяйство или скотоводство. Поэтому переход к сельскому хозяйству и скотоводству не привел к росту благосостояния. И некоторые археологи (например, Flannery 1974; Clarke 1979) широко поддерживают антропологическую точку зрения об изобилии. Во-вторых, социальные структуры охотников и собирателей были и оставались слабыми, гибкими, допускающими свободу выбора в социальной приверженности. Их физическое выживание не зависело от особенностей других людей. Они сотрудничали в рамках маленьких групп и в рамках больших единиц, но были абсолютно свободны выбирать, с какой из них сотрудничать. К тому же они могли легко уйти, когда пожелают. Роды, кланы и прочее основанное на родстве группообразование могли дать чувство идентичности, но неосновополагающие обязанности и права. То же касается и территориальных ограничений. Вопреки мнению первых антропологов, основанному на исследовании некоторых австралийских аборигенов, большинство охотников и собирателей не имели фиксированной территории. Учитывая их социальную подвижность, трудно представить, что подобное коллективное право собственности вообще где-нибудь могло быть развито (Woodburn 1980). Среди этой всеобщей подвижности можно выделить три или, возможно, четыре социальные единицы. Первая — это нуклеарная семья партнеров и зависящих от них детей. В рамках нормального жизненного цикла индивид является членом двух семей: одной — как ребенок, другой — как один из партнеров. Это тесные, однако непостоянные связи. Второй единицей выступает группировка, иногда называемая минимальной группировкой (minimum band), вступающая в более тесный союз, обеспечивающий добычу средств к существованию с помощью кооперативной охоты или собирательства. Такая единица более или менее постоянна до тех пор, пока включает индивидов всех возрастов, хотя степень ее единства сезонно варьируется. Ее нормальный размер —20–70 человек[14]. Но группировка несамодостаточна. В частности, ее репродуктивные потребности не обеспечиваются таким скромным потенциалом для поиска половозрелой молодежи в качестве сексуальных партнеров. Необходимы регулируемые формы брака с соседними группами. Группировка является не закрытой группой, а группой, нежестко объединяющей нуклеарные семьи, иногда приводящей к всеобщей коллективной жизни. Ее размеры колеблются. Чужаки часто присоединяются к группе, предоставляя резервные возможности. Также может иметь место обмен товарами как подарками (или в качестве простейшей формы социальной регуляции) в случае, если окружающая среда отличается экологическим разнообразием. Население, среди которого происходят подобные контакты, представляет собой третью единицу, известную под названием «племя» или «диалектическое племя» (в лингвистическом, а не в гегельянском смысле) либо «максимальная группировка». Это слабая конфедерация 175–475 человек, составлявших различные группировки. Вобст (Wobst 1974) указывает, что в среднем племя включало от 7 до 19 группировок. Благоприятные условия окружающей среды могли привести к тому, что население превышало этот уровень, но племя в таком случае расщеплялось на две единицы, каждая из которых шла своей дорогой. Непосредственная, лицом к лицу коммуникация между людьми также обладает определенным верхним пределом. Достаточно 500 человек, чтобы мы потеряли способность к коммуникации. Охотники и собиратели не имели письменности и полностью зависели от коммуникации лицом к лицу. Он не могли использовать роли в качестве стенограмм коммуникации, поскольку у них не было средств специализации помимо пола и возраста. Они полагались лишь на дифференциацию всех людей по полу, возрасту, физическим характеристикам и членству в группировках. Пока было так, возможности их экстенсивной власти оставались пренебрежительно малыми. Была ли у них четвертая, более широкая «культурная» единица, кроме трех указанных, после создания сельскохозяйственных поселений? Мы предполагаем, что была, поскольку имеем дело с одним человеческим процессом. Обмен товарами, людьми, идеями присутствовал не интенсивно, а экстенсивно, объединяя слабой связью охотников и собирателей на больших просторах. Открытость и подвижность с необходимостью характеризовали доисторические социальные структуры. Вобст (Wobst 1978) утверждает, что модели охотников-собирателей оставались местными. Хотя есть доказательство, что охотники-собиратели были связаны в континентальные культурные матрицы, на сегодняшний день существует мало исследований региональных и межрегиональных доисторических процессов. Этнографическое понятие «этнос»[15] как географический ареал проживания — это результат академической специализации и антропологического влияния, утверждает Вобст, тем не менее в научно-исследовательских отчетах он становится реальным «обществом», ограниченной социальной единицей со своей культурой. Своего рода «общества», существовавшие в доисторические времена, были совершенно не похожи на то, как их пытаются представить современные антропологи. Они не заполняли континенты, их не притесняли более развитые общества, то есть это свидетельствует о том, что доисторические группы не были зажаты, пойманы в «клетку». «Человечество не блуждало везде отрядами» вопреки известному выражению Фергюсона. Этимология понятия «этнография» выдает секрет. Это исследование этносов (ethne), народов. Хотя людей, ограниченных родственными группами, в действительности и не существовало — они были сконструированы историей. Вопрос о том, как произошел переход к сельскому хозяйству и животноводству, слишком противоречивый, чтобы останавливаться на нем. Некоторые авторы подчеркивают факторы, относящиеся к животной тяге, повышавшей сельскохозяйственные урожаи, другие подчеркивают факторы демографического давления (например, Boserup 1965; Binford 1968). Я не буду пытаться выяснить, кто из них прав. Я только отмечу, что соперничающие гипотезы являются разновидностями одной-единственной эволюционной истории. Общие способности людей по вступлению в минимальные формы социального сотрудничества в ответ на широко распространенные сходные вызовы окружающей среды повсеместно привели к сельскохозяйственным и животноводческим трансформациям, которые мы в настоящее время называем неолитической революцией. Началось основание больших социальных и территориальных поселений, запирающих население в «клетку». Масштаб иинтенсивность группообразования увеличились. Маленькие группировки исчезли. Большие и более слабые «племена» были втянуты в этот процесс двояким образом: либо более слабые единицы до 500 человек превращались в постоянные оседлые поселения, охватывавшие до 20–70 более мелких группировок, либо процесс обмена развивал экстенсивную, но слабую специализацию ролей, основанную на растянутых сетях родства — кланах, родовых группах и племенах. Локальность или род (или комбинация обоих) могли предложить организационные сети для более плотных социальных сетей со специализацией ролей. В доисторической Европе свободное и по большей части неспециализированное сельское поселение составляло около 50-500 человек, обычно живших в лачугах нуклеарными семьями и обрабатывавших максимум 200 гектаров (Piggott 1965: 43–47). На Ближнем Востоке верхний предел был более равномерным. Это еще один веский довод в пользу существования больших нежестких единиц в доисторические времена. Согласно Фодж (Forge 1972)» когда в современной неолитической Новой Гвинее численность поселения достигала 400–500 человек, поселение либо распадалось, либо происходила функциональная и статусная специализация. Это согласуется с эволюционной теорией Стюарда о том, что численно растущие группы приходят к «социокультурной интеграции» на более высоком и более смешанном уровне через развитие мультиродовых селений и слабых кланов (Steward 1963: 151–172). Горизонтальное и вертикальное расслоение позволило социальным группам численно вырасти. Интенсивная эксплуатация природы сделала возможными постоянные поселения и интенсивное первичное взаимодействие 500 людей вместо 50; специализация функций и развитие добровольной власти (authority) сделали возможным вторичное взаимодействие, которое численно в принципе было неограниченно. С тех пор началась доисторическая эпоха экстенсивных обществ, разделения труда и социальной власти (authority).РАЗВИТИЕ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ОТНОШЕНИЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
Насколько реальными были первые общества? Это зависит от того, насколько устойчивыми они были, насколько крепко люди были заперты в их «клетки». Вудберн (Woodburn 1980, 1981) утверждал, что постоянство в примитивных обществах было гарантировано только в том случае, если они были «системой инвестирования» с «отложенной, а не с немедленной отдачей». Там, где группа инвестировала труд в создание орудий, запасов, полей, плотин и т. д., экономическая отдача от которых была отложенной, была необходима долгосрочная и в некоторых отношениях централизованная организация труда, защищавшая инвестиции и распределявшая урожаи. Рассмотрим последствия трех различных типов инвестирования труда с отложенной отдачей. Первым типом является природа, то есть земля и живой инвентарь-посадка зерновых, ирригационные каналы, домашние животные и т. п. Все это предполагает территориальную фиксацию. Пастбища для животных могли изменяться, земли под посадку зерновых могли быть подвижными, но в целом чем больше была отложенная прибыль от инвестиций в природу, тем большей территориальной фиксацией отличалось производство. Оседлое растениеводство сплачивало группу или по крайней мере ее ядро. «Подсечно-огневое земледелие» сплачивало группу лишь на несколько лет, если почва удобрялась путем сжигания древесных пней или путем выпаса животных на жнивье. Затем плодородность почв падала. Часть группы передвигалась в другое место, чтобы либо вновь повторить весь процесс сначала, либо найти землю с более легкими почвами. Группа редко перемещалась полностью, поскольку ее организация была адаптирована к старой экологии, а не к передвижению или к другой экологии. Откалывались, как правило, нуклеарные семьи или соседские группы, в которых, по всей видимости, преобладала молодежь. Поэтому, как мы далее убедимся в этой главе, постоянной социальной организации не возникало. Пастухи, которые перемещались по степи, были еще меньше привязаны к территории. Тем не менее они приобретали товары, снаряжение и разных животных, которые не были мобильными, развивали отношения с землепашцами, чтобы получать корм для крупного рогатого скота, делать выпасы на жнивье, обмениваться продуктами и т. д. Как отмечает Латтимор, только те кочевники, которые постоянно кочевали, были бедными. Тем не менее привязанность пастухов к территории не была такой сильной, как у земледельцев. Но и земледельцы, и животноводы могли быть территориально ограниченны по другой причине. Близость сырья, такого как вода, лес, или животных других групп либо стратегическое положение на пересечении сетей между различными экологическими нишами также привязывали к себе людей. Сильнее всего к себе привязывала земля, которая отличалась высокой урожайностью и способствовала постоянному развитию сельского хозяйства или скотоводства, как в долинах рек, на берегах озер, в дельтах благодаря наводнениям и наносу ила. В таких местах население обычно привязывалось к территории. В других эколого-географических регионах отличались паттерны населения, но так или иначе инвестиции с отложенной отдачей в природу вели к большей территориальной фиксации, чем в среднем среди охотников и собирателей. Вторым типом может быть инвестирование в социальные отношения производства и обмена в форме трудовой артели, разделения труда, рынков и т. д. Такие инвестиции вели скорее к социальной, а не к территориальной фиксации. Регулярные трудовые отношения (без военного принуждения) требовали нормативного доверия, существовашего между людьми, которые были членами одной и той же группы — семьи, соседской общины, клана, рода, селения, класса, нации, государства. В силу сотрудничества отношения становятся более интенсивными — это справедливо в большей мере для производства, чем для обмена. Нормативная солидарность необходима для сотрудничества и, как правило, фиксирует сети отношений, а также способствует росту общей идеологической идентичности. Инвестиции в долгосрочном периоде означают более тесное разделение культуры поколениями, даже среди уже живущих и еще не рожденных. Это делало границы деревень и родовых групп типа кланов более устойчивыми, превращая их в непрерывные во времени общества. Но до какой степени? По сравнению с охотниками-собирателями земледельцы и животноводы были более фиксированными. Но их фиксированная привязанность к земле варьировалась в зависимости от экологии и во времени. Различия в фиксации в зависимости от времен года, циклов подсечноогневого земледелия (больше кооперации на стадии лесоповала, чем после), а также от прочих сельскохозяйственных циклов способствовали скорее фиксированной кооперации. Кроме того, запиранию в «клетку» в наивысшей степени способствовали поймы речных долин, которые делали возможной ирригацию. Это требовало таких усилий кооперативного труда, которые намного превосходили обычные сельскохозяйственные нормы. К этому вопросу я вернусь в следующей главе. Третьим типом инвестирования труда с отложенной отдачей были инвестиции в создание инструментов труда, орудий и техники, которые не были частью природы и поэтому в принципе могли перемещаться. Они фиксировали людей социально и территориально, но не в большие общества, а в домохозяйства или группы домохозяйств, где происходила ротация орудий. В железном веке, который будет рассмотрен в главе 6, революция в изготовлении орудий труда привела к сокращению размеров существующих обществ. Таким образом, эффект от различных типов социального инвестирования труда различался, но общим трендом было движение к большей социальной и территориальной фиксации в силу роста эксплуатации земель. Сельскохозяйственный успех был неотделим от ограничений. Тем не менее, если мы добавим два других важнейших тренда — давление демографического роста населения и степень экологической специализации, картина станет более полной. Лишь немногие земледельцы и скотоводы прибегали к тем жесточайшим средствам сдерживания рождаемости, которые были распространены у охотников-собирателей. Их излишки средств существования периодически расходовались на избыточный рост населения и эрозию/болезни, то есть на «мальтузианские циклы». Ответом было расщепление групп, миграции населения, а также, вероятно, более организованное насилие. Все это оказывало различное воздействие на социальную сплоченность: первое могло ослаблять ее, а второе и третье — усиливать. Воздействие экологической специализации оказывало более комплексное воздействие на развитие сельского хозяйства. Некоторые авторы убеждены, что такая специализация способствовала большему разделению труда в обществе (примером этого выступает теория «распределяющего вождества», с которой мы столкнемся далее). Если продукция обменивается в рамках поселения или родовых структур, то склонность к фиксированной организации рынков и складов возрастает. Появляются специализированные роли и иерархические статусы, разделение труда и ранговая иерархия возрастает. Но по мере роста масштабов, специализации и охвата специализации рос и обмен, ведь внешний мир, с которым взаимодействует группа, всегда больше организационных возможностей одной группой. Если группа стабилизируется, то же происходит и с межгрупповыми отношениями. Сложность интеграции распахиваемых земель и земель, используемых для выпаса животных, способствует появлению групп, отличающихся относительной специализацией на земледелии и животноводстве. Таким образом, имеет место рост двух сетей социального взаимодействия: «групп» или «обществ» и более широкой диффузной сети обмена.РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ВОЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
Аналогичная двойственность присутствует и в развитии идеологической власти — более стабильной и экстенсивной религии, а также того, что археологи и некоторые антропологи называют культурой. Из археологии мы узнаем о религии совсем немного, больше знаний, хотя и с неопределенной исторической достоверностью, дает антропология. Примером эволюционно-контейнерного подхода выступает подход Беллы (Bellah 1970: 2-52). Он выделил основные этапы эволюции религии. Первые два из них релевантны для исследуемого здесь доисторического периода. На ранней стадии примитивные способности человека по контролю жизни и окружающей среды, выходящие за грани пассивного смирения, зависят от развития символического мышления. Оно разделяет субъект и объект и ведет к способности манипулировать окружающей средой. Примитивная религия делает это рудиментарным образом. Ее мистический символический мир слабо отделен как от мира природы, так и от мира людей. Некоторые религии помещают человеческий род, природные феномены, такие как камни и птицы, а также мифических предков в одну тотемическую классификацию, в которой они отличаются от сходных вещей. Поэтому религиозное действие происходит в посюстороннем мире, а не в потусторонней реальности. Однако по мере развития ограниченных социальных групп наступает вторая стадия. Развитие регулирования экономического, военного и политического сотрудничества предполагает нормы, представление об элементарном порядке и значении космоса. Боги теперь располагаются внутри: в привилегированных отношениях клана, родства, поселения или племени. Божество было одомашнено обществом. В этом отношении может быть применена теория религии Дюркгейма, которая будет подробнее рассмотрена в последующих главах: религия была всего лишь обществом, «растянутым до самых звезд». Поскольку общество заключается в «клетку», то же самое происходит с религией. Однако у этого аргумента есть два недостатка. Первый состоит в том, что антропологические записи свидетельствуют, что божество действительно становится более социальным, но не более унитарным (единым для всех). Боги группы А не были категорически отделены от божеств их соседей — группы В. Имели место накладывавшиеся и часто нежесткие и изменчивые пантеоны, в которых духи, божества и предки поселений и родовых групп сосуществовали в рамках иерархии с конкурировавшими статусами. Например, в Западной Африке, в случае если определенное поселение или родовая группа повышали свою власть (authority) над соседями, ее предки могли моментально стать более важными персонажами пантеонов последних. Это признаки большей идеологической подвижности и диалектики между малыми группами и большими «культурами». Второй недостаток эволюционно-контейнерного подхода к религии состоит в том, что археологические материалы свидетельствуют, что общие художественные стили, как правило, были более экстенсивными, чем любые поселения или родовые группы. Тот факт, что уцелевшие керамические, каменные или металлические украшения обладают сходством на больших территориях, еще ничего не означает. А вот один и тот же стиль фигурок, изображающих богов, человеческий род, жизнь или смерть, указывает на культурную общность, простирающуюся на более обширные территории, чем занимали авторитетные социальные организации. Распространение кубкового[16] стиля практически по всей Европе, донгшонского»[17] стиля на юго-востоке Азии или хоуп-вуллского[18] в Северной Америке указывают на экстенсивные связи. Но какого рода были эти связи? Вероятно, торговые связи, возможно, связи, установленные кросс-континентальной миграцией населения или странствиями специалистов-ремесленников. Эти связи также могли быть религиозными и идеологическими. Но они не могли быть частью некоей субстанциональной, формально установленной авторитетной организации. Эти связи были одним из самых ранних проявлений диффузной власти. В следующей главе мы убедимся, что первые цивилизации сочетали в себе два уровня: небольшой политический авторитет, зачастую оформленный в город-государство, и большую «культурную» единицу, например Шумер или Египет. Похожая диалектика появлялась между двумя сетями социального взаимодействия, одна из которых была маленькой и авторитетной, а другая — большой и диффузной. Обе были важной частью того, что можно назвать «обществом» того времени. Таким образом, структуры идеологической власти были менее унитарными, менее заключающими в «клетку», чем подразумевает эволюционная теория. Однако заключение в «клетку» выросло под воздействием третьего ресурса — военной власти, также развивавшейся в этот период. Чем больше накапливалось излишков, тем привлекательнее для силового захвата они становились. К тому же чем большей фиксацией отличались инвестиции труда, тем чаще люди прибегали к защите, а не к бегству от нападения. Джилман (Gilman 1981) утверждает, что в бронзовом веке капиталоемкие технологии добычи средств существования (плуг, средиземноморское поликультурное сельское хозяйство — выращивание олив и зерна, ирригация и морская рыбная ловля) предвосхитили и послужили причиной для развития «класса наследственной элиты». Их имущество нуждалось в постоянной защите и управлении. Пока это не самый подходящий момент для объяснения войны. Отмечу только два момента. Во-первых, война неотделима от организованной социальной жизни, хотя и не универсальна. Возможно, где-то существовали предположительно мирные социальные группы (а потому теория, связывающая войну с человеческой природой, не может быть подтверждена), но они, как правило, были экологически изолированными, поглощены борьбой с природой в ее наиболее суровых проявлениях (например, эскимосы) или бежали от войны. В количественном отношении только четыре из пятидесяти примитивных людей не были рутинно вовлечены в войну. Во-вторых, сравнительная антропология демонстрирует, что частота, организация и интенсивность убийств в войнах существенно увеличились с появлением постоянных поселений, а затем с появлением цивилизации. Количественные исследования демонстрируют, что половина войн примитивных людей была относительно спорадичной, неорганизованной, ритуалистической и кровавой (Brock and Galtung 1966; Otterbein 1970: 20–21; Divale and Harris 1976: 532; Moore 1972: 14–19; Harris 1978: 33). Но все цивилизации времен письменной истории были рутинно вовлечены в высокоорганизованные и кровавые войны. Вооруженная вражда между группами усиливалась чувством «мы-группа» и «они-группа». Вражда также увеличивала объективные различия: экономически специализированные группы развивали специализированные формы ведения войны. Вооружение и организация доисторических бойцов различались в зависимости от их экономической технологии: охотники использовали метательное оружие и стрелы; земледельцы были вооружены клиньями, модифицированными мотыгами; скотоводы седлали коней и верблюдов. Все используемые тактики совпадали с формами их экономической организации. В свою очередь, военные различия увеличивали их чувство общекультурных различий. Различные формы инвестиций в военную деятельность обладали сходным воздействием на экономику. Военные инвестиции в природу, например в строительство укреплений, расширяли территориальную фиксацию. Военные инвестиции в поголовье домашнего скота (кавалерия) скорее увеличивали мобильность, чем привязывали к территории. Военные инвестиции в социальные отношения, то есть в организацию добычи средств существования и координации движений и тактик, значительно усиливали социальную солидарность. Для этого также требовалась нормативная мораль. Военные инвестиции в орудия войны, а вначале в оружие, как правило, способствовали индивидуализированному бою и децентрализации военного авторитета. В целом рост военной власти усилил запирание в «клетку» социальной жизни. Таким образом, эволюционная история, как правило, концентрируется на отношениях экономической и военной власти. Кульминацией этого было появление государства — четвертого источника социальной власти. Централизованное, занимающее определенную территорию и насильственное государство не было изначально данным. Его невозможно найти у охотников-собирателей. Составляющие государство элементы появились благодаря благоприятным социально и территориально фиксированным инвестициям — экономическим и военным. На этом заканчивается эволюционная история, объединяющая доисторические времена и историю в единую последовательность развития. От охотников-собирателей постоянные цивилизованные государства отделяет непрерывная серия стадий, заключавших в себе большую социальную и территориальную фиксацию как «цену», которую пришлось заплатить за увеличение человеческой власти над природой. Рассмотрим конкурирующие эволюционные теории происхождения стратификации и государства.ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СТРАТИФИКАЦИИ И ГОСУДАРСТВА
Ни стратификация, ни государства не были изначально данными (естественными) социальными формами. Охотники-собиратели были свободны и не имели государств. Эволюционисты утверждают, что переход к оседлому земледелию и скотоводству возвестил медленный, длительный, связанный между собой рост стратификации и возникновение государства. Мы будем рассматривать четыре типа эволюционной теории — либеральные, функционалистские, марксистские и милитаристские. Они справедливо рассматривают два наиболее важных и сложных вопроса: как одни получают постоянную власть над материальными жизненными шансами других, давая им возможность обладать собственностью, которая потенциально лишает других средств к существованию и как социальный авторитет (authority) превращается в постоянную, централизованную, монополизированную принудительную власть территориально ограниченных государств? Суть этих проблем в различии между авторитетом (authority) и властью (power). Эволюционные теории предлагают внешне правдоподобные теории роста авторитета. Но они не могут удовлетворительно объяснить, как авторитет превращается во власть, которая может быть использована принудительно против людей, изначально наделяющих авторитетом, а также для того, чтобы лишить их прав на материальные средства к существованию. Мы увидим, что указанные превращения на самом деле происходили не в доисторические времена. Не существует общего источника государства и стратификации. Это ложная проблема. Либеральная и функционалистская теории утверждают, что стратификация и государства, воплощающие рациональную социальную кооперацию, изначально были институционализированы в своего рода «общественный договор». Либеральная теория рассматривает группы интересов как индивидов, обладающих средствами к существованию и правом частной собственности. Таким образом, частная собственность предшествует и детерминирует оформление государства. Функционалистские теории более разнообразны. Я коснусь только функционализма экономических антропологов, подчеркивающих «перераспределяющее вождество». Марксисты утверждают, что государства усиливают классовую эксплуатацию, и поэтому их устанавливают первые классы собственников. Как и либеральная, марксистская теория считает, что власть частной собственности предшествует и детерминирует оформление государства, но ортодоксальный марксизм идет дальше и утверждает, что частная собственность возникла из первоначальной общественной собственности. Наконец, милитаристская теория постулирует, что государства и ярко выраженная социальная стратификация возникают в ходе завоеваний и необходимости военной атаки и защиты. Все четыре школы ведут друг с другом бесконечные, если не сказать догматичные, споры. Уверенность подобных теорий в собственной правоте приводит в замешательство в трех аспектах. Во-первых, почему теоретики, которые хотят доказать определенные положения о современном государстве, лезут для этого в дебри истории? Почему, оправдывая определенную позицию по отношению к капитализму и социализму, марксизм вообще интересуется происхождением государств? Для теории развитых государств нет необходимости показывать, что самые первые государства возникли тем или иным образом. Во-вторых, указанные теории являются редукционистскими, сводящими государство к предшествующим ему аспектам гражданского общества. Настаивая на непрерывности между истоками и результатами развития, они отрицают тот факт, что государство обладает собственными эмерджентными свойствами. И все же на страницах истории группы интереса «гражданского общества», например социальные классы и армии, соседствуют с государствами: вождями, монархами, олигархами, демагогами, придворными и бюрократами. Можем ли мы отрицать автономию государств по отношению к ним? В-третьих, любой, кто исследует эмпирические свидетельства, относящиеся к древнейшим государствам, наверняка разработает однофакторное объяснение, подобное тем, которые были характерны для ранней стадии развития теории государства, поскольку истоки происхождения государств чрезвычайно разнообразны. Разумеется, изначально первые теории возникновения стратификации и государства были разработаны тогда, когда их авторы не обладали достаточным количеством эмпирического материала. В настоящее время у нас есть множество данных благодаря археологическим и антропологическим исследованиям ранних и примитивных государств, древних и современных по всему миру. Они обязывают нас к критическому использованию столь догматичных теорий, как либерализм и марксизм. Это особенно верно в случае, когда эти теории базируются на гипотетической значимости индивидуальной собственности в доисторических обществах. Я начну с самого слабого места либеральной теории — ее тенденции сводить социальное неравенство к различиям между индивидами. В чем бы ни заключались причины стратификации, они представляют собой социальные процессы. Изначальная стратификация ничего не могла поделать с генетической наследственностью индивидов. То же относится и к любой последующей социальной стратификации. Диапазон различий в генетических свойствах индивидов не велик, кроме того, он не накапливается наследственно. Если бы общества управлялись властью человеческого разума, их устройство было бы практически полностью эгалитарным. Природа обнаруживает гораздо более заметные неравенства, например, между плодородными и бесплодными землями. Обладание различными ресурсами приводит к огромным различиям во власти. Если мы имеем шансы занять землю разного качества и обладаем различными способностями к тяжелой и искусной работе, мы получим традиционную либеральную теорию происхождения стратификации, особенно хорошо представленную в работе Локка. В следующей главе мы увидим, что выпавшая Месопотамии удача занять относительно плодородную землю была очень важной. К тому же, возможно, благодаря вниманию, которое Локк уделяет различиям в усердии, трудолюбии и бережливости, неравенство может быть выведено из данных об охотниках и собирателях. В итоге, если их группа работала восемь часов вместо четырех, она могла получить больше излишков (или удвоить свою численность в демографическом отношении). Но все не так просто. Как демонстрируют исследования охотников-собирателей, каждый в группе был обязан делиться неожиданно полученными излишками вне зависимости от их источника. Бережливость не приносила буржуазных плодов. Это одна из причин, почему антрепренерские проекты развития среди современных племен охотников-собирателей в основном терпят неудачу — не существует стимулов для индивидуальных усилий. Для того чтобы сохранить излишки, даже если они произведены индивидуально, необходима социальная организация, а также нормы обладания (собственности). Если их недостаточно строго придерживаются, необходима также вооруженная защита. Кроме того, производство, как правило, не индивидуально, а социально. Поэтому даже простейшие практики социальной организации оказывают на обладание, использование и защиту природных ресурсов огромное влияние: трое мужчин (или три женщины), сражающихся или работающих в команде, могут, как правило, убить или произвести больше, чем три человека, действующие индивидуально, какими бы сильными по отдельности они ни были. О какой бы власти ни шла речь (экономической, военной, политической или идеологической), ее источником в подавляющем большинстве случаев будет социальная организация. Как отмечал еще Руссо, именно социальное, а не природное неравенство заслуживает первостепенного внимания. Но Руссо все же пришел к заключению, что стратификация выступает как результат захваченной индивидами частной собственности. Его известное высказывание гласит: «Первый, кто, огородив кусок земли, выдумал назвать его своим и нашел таких простаков, которые ему поверили, был истинным основателем гражданского общества». Это не решает проблем теорий возникновения стратификации и государства, которые я обозначил выше. Тем не менее, как ни странно, тезис Руссо был адаптирован главным врагом либерализма — социализмом. Маркс и Энгельс взлелеяли антитезу частной и общественной собственности. Стратификация появилась по мере того, как отношения частной собственности выросли из начального примитивного коммунизма. Сегодня большинство антропологов это отрицают (например, Malinowski 1926: 18–21, 28–32; Herskovits 1960). Исследования собственности, которые, например, проводил Фере на острове Тикопиа (Firth 1965), выявляют огромное множество различных прав собственности: индивидуальное, семейное, возрастное, клановое. При каких обстоятельствах дальнейшее развитие получила частная собственность? Группы различаются в своих правах собственности в соответствии с их формами инвестирования труда с отложенной отдачей. Возникновение частной неравной собственности происходит быстрее, если инвестиции являются транспортабельными (портативными). Индивид может обладать ими физически, без необходимости силового исключения из обладания других. Если инвестиции с отложенной отдачей идут на создание портативных орудий (используемых, например, для интенсивного возделывания маленьких участков), могут развиться узкие формы собственности, базирующиеся на индивиде или домохозяйстве. В противном случае имеет место экстенсивная трудовая кооперация. Тогда индивидам или домохозяйствам в рамках групповой кооперации по понятным причинам очень сложно достичь эксклюзивных прав вопреки правам других. Если объектом такого инвестирования является земля, последствия могут быть различными. Если обрабатываются небольшие участки с огромными инвестициями в орудия труда, это может привести к индивидуальной собственности или собственности домохозяйств, хотя в таком случае непросто понять, как появляются огромные неравенства, если только не из группы земледельцев, обладающих примерно равной собственностью. Если земля экстенсивно обрабатывается посредством социального сотрудничества, нет никакой вероятности появления эксклюзивной собственности. Но экологическая специализация может приблизить к частной собственности животноводов. Их инвестиции в природу направлены непосредственно в транспортабельных животных на пастбищах, занимающих определенную территорию, окруженную границами, которые, как правило, территориально не фиксированы, но зато охраняются. Эксклюзивные права являются нормой для кочевых животноводов. Они также усиливаются благодаря структурному давлению демографического роста. Если демографическое давление угрожает земледельцам, достаточно простой мальтузианской коррекции. Некоторые из них умирают с голоду, уровень смертность растет до тех пор, пока не установится новый баланс между ресурсами и населением. Это не наносит постоянного ущерба основным формам инвестирования труда в землю, постройки, орудия и социальное сотрудничество. Но, как продемонстрировал Ф.Барт, животноводы должны быть чувствительны к экологическим дисбалансам между людьми и пастбищами. Их производственные инвестиции идут в животных, которые не должны быть съедены в сложные времена. Если же это произойдет, то позднее погибнет практически вся группа. Усилия по эффективному контролю за ростом населения должны быть предприняты, прежде чем себя проявит мальтузианский цикл. Барт утверждает, что частная собственность на животных — лучший механизм выживания: экологическое давление возникает разным образом, исключая одни семьи и не затрагивая другие. Это стало бы невозможным, если бы превалировало коллективное равенство, а также если бы авторитет (authority) стал централизованным (Barth 1961: 124). Поэтому у животноводов в отличие от прочих групп существовала антитеза частной собственности и общественного контроля. Дифференцированное демографическое давление способствовало дальнейшему расслоению и экспроприации труда. Когда у одних семей наступали тяжелые времена, другие могли принимать на неоплачиваемую (за еду) работу или на службу членов семей, испытывающих трудности. Даже в таком случае, как правило, не индивидуальная, а семейная собственность организовывалась в многоуровневую структуру, «генеалогический клан». Такие кланы и семьи владели собственностью, а возможности индивидов зависели от их власти в рамках этих коллективов. Таким образом, в действительности мы нигде не находим всецело индивидуальной или общинной собственности. Власть в социальных группах не является результатом простого суммирования индивидов, умноженного на различные власти групп. На самом деле общества являются федерациями организаций. В до-государственных группах могущественные индивиды всегда представляют квазиавтономные коллективы в широком поле деятельности — домохозяйство, расширенная семья, род, генеалогический клан, поселение, племя. Их власть проистекает из их возможности мобилизовать ресурсы коллектива. Это очень хорошо выразил Фере: В Тикопия существует институт собственности, опирающийся на определенные общественные договоренности. В основном он выражается в том, что группы родственников обладают благами, что не мешает некоторым индивидам владеть мелкими предметами, а также правами вождей на распоряжение центральными типами благ, например землей и каноэ, а также правами на них прочих членов сообщества в целом. Решения об использовании этих благ в дальнейшем производстве на практике принимается главами родственных групп (вождями, старейшинами, главами семей, старшими членами «домов») в совещании с прочими членами группы, поэтому в случае более важных благ, таких как земля и каноэ, «индивидуальная собственность» может быть выражена в степенях ответственности и в использовании групповой собственности [Firth 1965: 277–278]. Истоки всей иерархии лежат в представительной власти, авторитете (perresentative authority), который не является унитарным. Но у нас все еще есть способ свернуть с эволюционного пути, по которому мы пока движемся. Дело в том, что этот тип авторитета (authority) очень слаб. Вожди (которые, как правило, находились под руководством одного) обычно пользовались настолько малой властью, что ею можно было легко пренебречь. Понятие рангового общества охватывает весь этап общей социальной эволюции (на самом деле последний общий эволюционный этап!), в рамках которого власть была практически полностью ограничена использованием авторитета в интересах коллектива. Все это давало статус, престиж. Старейшины, знать (bigmen) или вожди могли лишь с большим трудом лишить других дефицитных ценных ресурсов и никогда не могли произвольно (по собственной прихоти) лишить других ресурсов, необходимых для выживания. Они также не обладали огромным богатством, могли распределять богатства в группе, но не могли накапливать. Как отмечает Фрайд, «эти люди были богаты тем, что они отдали, а не тем, что тайно сохранили» (Fried 1967: 118). Кластеры, зафиксированные у американских индейцев, отрицали власть вождя в принятии авторитарных решений: он обладает лишь престижем и ораторским искусством, чтобы разрешать конфликты, — «слово вождя не было подкреплено буквой закона». Вождь был «узником» этой узкой роли доверенного лица (Fried, 1977: 175) — Использовалась коллективная, а не дистрибутивная власть. Таков функционалистский аргумент. Это помогает преодолеть одно потенциальное препятствие для возможного возникновения неравенств, о которых идет речь, — перманентность власти, авторитета. В случае если это коллективная власть, то не важно, кто именно ею пользуется. Властные роли будут просто отражать характеристики социальной структуры, стоящей за ней. Если возраст и опыт имеют значение в принятии решений, то старшие могут принимать эту роль на себя; если ценны материальные достижения нуклеарной семьи, то — знать, способная к стяжательству; если доминируют роды, то — потомственный вождь. Коллективная власть сопровождалась дистрибутивной властью. Ранговые общества предшествовали стратифицированным обществам и существовали в течение долгого времени. Однако это всего лишь датирует более поздним периодом превращение эгалитарных обществ в неэгалитарные в распределении дефицитных и ценных ресурсов, особенно материальных, но не решает наших проблем в объяснении того, как это произошло. Согласно эволюционным теориям в более поздних ранговых обществах, это вопрос о том, как согласие о равенстве превратилось в согласие о неравенстве, или наоборот, как первое согласие было преодолено. Как пишет Кластрес (Clastres, 1977:1792) единственный ответ, который выглядит простым и правдоподобным, заключается в том, что неравенство было навязано извне посредством физического насилия. Это милитаристский аргумент. Группа А подчинила группу В и экспроприировала ее собственность. Таким образом, группа В возвращается обратно к труду как арендаторы земли или орудий труда на правах крепостных или, возможно, рабов. В начале XX в. эти теории происхождения стратификации были очень популярными. Гумплович и Оппенгеймер были среди тех, кто утверждал, что завоевание одной этнической группой другую — единственный путь экономического улучшения, включая появление трудовой кооперации. Методы интенсивного производства требовали экспроприации права собственности на труд, установить которое могли только инородцы, но не «собратья» (fellow-men — термин, имевший для Гумпловича родовое происхождение) (Gumplowicz 1899:116–124; см. также Oppenheimer 1975). Необходимо модифицировать эту расистскую теорию XIX в., чтобы рассмотреть этничность в большей степени как результат, а не как причину этих процессов: насильственное подчинение и порабощение создают чувство этничности. Этничность предлагает лишь объяснения господства одного «народа» или «общества» в целом над другим народом или обществом. Это всего лишь один тип стратификации, а не вся ее тотальность, который сравнительно редко встречался среди примитивных групп и, по всей вероятности, полностью отсутствовал в доисторический период, когда «народов» не существовало. Самая экстенсивная форма господства (тотальная экспроприация прав на землю, скот и урожай, а также утрата контроля над собственным трудом) в целом следовала за завоеваниями. Наиболее значимый рост в излишках исторических обществ зачастую происходил благодаря увеличению интенсивности труда, обычно требующей роста в физическом принуждении. Но это не было универсалией. Например, ирригационный прорыв, рассматриваемый в следующей главе, по всей видимости, был основан не на росте принуждения в результате завоевания, а по большей части на «добровольных» началах. Следует объяснить, как военная власть может иметь «добровольные» результаты. Милитаристская теория делает это двумя способами, оба — через объяснение происхождения государства: первый объясняет власть государства как организацию подчиненных, завоеванных, второй — как организацию завоевателей. Милитаристские теории исходят из одного необоснованного предположения: государство неизменно появляется лишь в ходе войны. Вот как это выразил Оппенгеймер: Государство — это полностью и по сути своего происхождения, а также практически полностью в ходе первой стадии своего существования социальный институт, силой навязываемый победившей группой людей побежденной группе с единственной целью регуляции господства группы победителей над побежденными, а также собственной защиты от восстания снизу и атаки из-за границы [Oppenheimer 1975: 8]. Нежесткая ассоциация захватчиков трансформировалась в постоянное централизованное государство с монополией на физическое принуждение, «когда первый завоеватель сохранил жизнь своей жертве в целях постоянной эксплуатации ее производительного труда» (Oppenheimer 1975: 27). На ранних стадиях, по убеждению Оппенгеймера, доминирует один-единственный тип завоевания — завоевание оседлых землевладельцев кочевыми животноводами. В истории государства могут быть выделены различные стадии: от грабежей и налетов к завоеванию и установлению государства, затем к перманентным средствам изъятия излишков у завоеванных и к постепенному слиянию завоевателей и завоеванных в один «народ», управляемый одним набором государственных законов. Эти народы и государства продолжают разрастаться и сокращаться посредством военных побед и поражений в течение истории. И прекратится этот процесс, только когда один народ или государство будет контролировать весь мир. Но тогда он дезинтегрируется на анархистское «свободное гражданство». Без войны нет необходимости и в государстве. Некоторые из этих идей демонстрировали различного рода обеспокоенность событиями конца XIX в. Другие отражали анархизм самого Оппенгеймера. Но общая милитаристская теория периодически воскрешалась. Например, социолог Нисбет с уверенностью утверждает, что «не существует исторических примеров установления политического государства вне условий войны, однако исключительно военными условиями оно также не объясняется. Государство действительно представляет собой гораздо большее, чем просто институционализацию аппаратов ведения войны» (Nisbet 1976: 101). Нисбет, как и Оппенгеймер, хотят показать, что государство существенно диверсифицирует сферы своей деятельности, поглощая мирные функции, изначально принадлежавшие другим институтам, таким как семья или религиозные организации. Но по своему происхождению государство — это насилие против чужаков (аутсайдеров). Похожих взглядов придерживается немецкий историк Риттер: При каких бы исторических обстоятельствах не появлялось государство, это прежде всего форма концентрации боевой мощи. Национальная политика вращается вокруг борьбы за власть: наивысшей политической добродетелью является постоянная готовность к борьбе со всеми последствиями непримиримой вражды вплоть до полного уничтожения противника, если потребуется. Из этой перспективы политическая и военная сила — синонимы… Тем не менее боевая мощь — это еще не все государство… существенным для идеи государства выступает роль защитника мира, закона и порядка. Разумеется, в этом наивысшая заветная цель политики — разрешать конфликты интересов мирным способом, улаживать национальные и социальные различия [Ritter 1969: 7–8]. Все авторы выражают различные варианты одной и той же перспективы: государство происходит из войны, однако человеческая эволюция перенаправляет его к другим пацифистским функциям. В этой улучшенной модели военные завоевания затихают в форме централизованного государства. Военная сила замаскирована под монополистические законы и нормы, устанавливаемые государством. Таким образом, истоки государства лежат исключительно в военной силе, которая впоследствии развивает собственную власть. Второе улучшение касается власти между завоевателями. Самой большой слабостью до сих пор была организация сил захватчиков: не предполагает ли она уже установленного неравенства власти и государства? Спенсер обратился к этой проблеме напрямую, утверждая, что для военной организации необходимо и материальное неравенство, и установленное централизованное государство. Относительно происхождения государства он поясняет: Централизованный контроль является первичной характерной чертой, которой наделяется каждый отряд сражающихся. И этот централизованный контроль, необходимый во время войны, отличает правительство и в мирное время. Отличительной чертой нецивилизованных народов является то, что их военные вожди становятся политическими лидерами (лекари являются их единственными соперниками на этот пост); в ходе завоевательнойгонки среди дикарей его политическое верховенство становится постоянным. В полуцивили-зованных обществах командующий завоевательным походом и деспотический царь — это одно и то же; они оставались одним и тем же и в цивилизованных обществах вплоть до последних времен… существует немного, если таковые вообще имеются, случаев, в которых общества эволюционировали в более крупные общества без перехода к военному типу [Spencer 1969: 117,125]. Централизация является функциональной необходимостью войны, необходимой для всех сражающихся — завоевателей, завоеванных и вовлеченных в безрезультатную борьбу. Это преувеличение. Не все типы военной борьбы нуждаются в централизованном командовании — например, партизанская борьба не нуждается. Однако если целью является систематическое покорение или защита всей территории, централизация полезна. Такие армейские командные структуры должъг быть более централизованными и авторитарными, чем другие формы организации. Это помогает одержать победу. Там, где победа или поражение является вопросом считаных часов, быстрое и свободное принятие решения, а также молниеносная передача приказов сверху вниз и их безоговорочное исполнение являются существенными (Andreski 1971: 29, 92-101). Как настоящий эволюционист Спенсер обозначил лишь эмпирическую тенденцию, а не универсальный закон. В соревновательной борьбе между обществами те, которые адаптируют военное общество, обладают большими шансами на выживание. Иногда Спенсер шел дальше, утверждая, что причиной стратификации является война. Во всяком случае в таких обществах стратификация и способ производства были подчинены армии: «Промышленная часть общества продолжала быть по сути постоянной системой продовольственного снабжения армии, существующей только для удовлетворения потребностей правительственно-военных структур, оставляя для себя лишь минимально необходимое для поддержания своего существования» (Spencer 1969:121). Эти военные общества управлялись принудительной кооперацией. Разумеется, деспотически регулируемое военное общество преобладало в сложных обществах до появления промышленного общества. Взгляды Спенсера влиятельны, даже несмотря на то что его этнография выглядит отчетливо викторианской, а аргументы носят слишком общий характер. Хотя в доисторических обществах чисто военных единиц не существовало, в главах 5 и 9 я использую понятие принудительной кооперации применительно к конкретным древним обществам. Но для объяснения происхождения государства аргумент Спенсера невозможно использовать без изменений. Один аспект этого аргумента наиболее уязвим — как военная власть становится перманентной. Согласно его аргументу координация битвы и военной кампании требует центральной власти, но как военное руководство сохраняет свою власть после? Антропологи утверждают, что примитивные общества в действительности были хорошо осведомлены о том, что могло за этим последовать, и поэтому умышленно предпринимали шаги, чтобы этого избежать. Они были «настойчиво эгалитарными», пишет Вудберн (Woodburn 1982). Власть военных вождей была ограничена во времени и пространстве именно потому, что военное господство никак не институционализировалось. Кластрес (Clastrs 1977: 177–180) описывает трагедии двух военных вождей, один из которых известный апачи Джеронимо[19], а второй — амазонский Фойсив. Каким бы смелым, изобретательным и дерзким ни был воин, он не мог поддерживать свое военное первенство в мирное время. Он мог пользоваться постоянным влиянием, возглавляя партии войны, но его люди вскоре устали от войны и покинули его. Фойсив сражался до самой смерти, Джеронимо — до того, как начал писать мемуары. Следовательно, модель Спенсера работает только для необыкновенно успешных военных групп. В дальнейшем завоеванные земли, их обитатели и их излишки могли быть присвоены военными предводителями и распределены между солдатами как вознаграждение. В этом случае достигалось жизненно важное перенесение автономии от общества к завоевателю. Дележ добычи требовал кооперации между солдатами, но базовое общество можно было проигнорировать. Военные трофеи вытеснили изъятие излишков в качестве инфраструктуры военной власти. В этом случае военная власть возникает, занимая властное пространство между двумя обществами — завоевателей и завоеванных, а также стравливая их друг с другом. Также имеет место возможность использования определенных типов военной защиты. Там, где присутствует зарубежная угроза, где социальная фиксированность требует защиты всей территории, может появиться необходимость в специализированных военных подразделениях. Их власть постоянна, а их автономия происходит в результате стравливания атакующих и базового общества друг с другом. Но у примитивных народов, как правило, нельзя найти признаков завоеваний и специализированной защиты территории, которые предполагают наличие внушительной социальной организации как у завоевателей, так и у порабощенных. Завоевание предполагает использование стабильного оседлого общества, в котором есть либо собственные организационные структуры, либо структуры, позаимствованные у завоевателей. Таким образом, модель Спенсера применима только после того, как уже произошло появление государства и социальной стратификации с большим количеством организационных ресурсов, чем те, которыми располагали такие военные предводители, как Джеронимо или Фойсив. Рассмотрим эмпирические доказательства. Я начал с компендиума из двадцати одного исследования кейсов ранних государств, одни из которых базировались на антропологии, а другие — на археологии, под редакцией Классена и Скальника (Claessen and Skalnik 1978). Ни одно количественное исследование истоков происхождения государств не может быть исключительно статистическим. Неизвестна генеральная совокупность изначальных, или первоначальных, государств, которые возникли автономно от других. Таким образом, невозможно сконструировать выборку. Кроме того, эта генеральная совокупность была бы, очевидно, очень маленькой, до десяти кейсов, и тем самым непригодной для статистического анализа. Следовательно, любая большая выборка самых ранних государств, как у Классена и Скальника, является выборкой из гетерогенных и взаимодействующих генеральных совокупностей — несколько первоначальных государств и большой набор прочих государств, включенных в отношения власти с ними и друг с другом. Они не являются независимыми случаями. Любой статистический анализ должен включать природу их взаимодействия как переменную, чего не делают ни два упомянутых автора, ни другие. Осознавая эти значительные ограничения, обратимся к данным. Из 21 примера Классена и Скальника только два (Скифия и Монголия) подходят под описание, предложенное Оппенгеймером: завоевание земледельцев скотоводами. В трех других примерах формирование государства было обусловлено специализированной военной координацией защиты от иностранных атак. В восьми примерах другой тип завоевания стал важным фактором в оформлении государства. К тому же добровольная ассоциация для военных целей способствовала появлению государства в пяти из вышеупомянутых «завоевательных» примеров. Общее направление этих результатов подтверждается другим количественным исследованием (менее детализированным в важнейших аспектах, хотя и более статистическим в своих методах), предпринятым Оттербейном (Otterbein 197°), на основе 50 антропологических случаев. Усовершенствовав милитаристские теории, включив в них воздействие на относительно организованных захватчиков и/или защитников, мы пришли к по большей части однофакторному списку меньшего количества случаев (около четверти из 50) и важному вкладу военного фактора в большинстве случаев. Но такой путь предполагает большую степень «почти государственности» (almost-statelike) коллективной власти, в которых завоевание или долгосрочная защита — всего лишь финальный штрих. И как далеко мы сможем уйти с этими кейсами? Трудно проникнуть дальше свидетельств из ряда примеров, которые представлены как независимые друг от друга, когда мы знаем, что они включены в долгосрочный процесс взаимодействия власти. Более обнадеживающим представляются региональное исследование восточноафриканских правительственных институтов, предпринятое Майр (Mair 1977) — Исследуя относительно централизованные и относительно децентрализованные группы, проживающие вблизи друг друга, ей удалось лучше проследить этот переход. Разумеется, одно-единственное региональное исследование не является образцом всех типов перехода. Ни одна из групп не была первоначальным государством — все претерпели влияние исламских государств Средиземноморья, а также европейских. В Восточной Африке характеристики относительно процветающих скотоводов также выходят на первый план. Кроме того, во всех переходах к государственности в вышеописанных кейсах огромную роль играла война. Единственным улучшением, которое предложили централизованные группы в отличие от нецентрализованных, как представляется, были лучшие возможности по защите и нападению. Однако сама форма военных действий уводит нас в сторону от привычной и простой дихотомии «завоеватели против защитников (конфликт двух унитарных обществ), предлагаемой милитаристской теорией. Майр демонстрирует, как относительно централизованные власти развивались из беспорядка федеральных, пересекающих границы отношений между деревнями, родами, кланами и племенами, которые характерны для до государственных групп. По мере того как излишки скотоводов росли и их инвестиции все больше концентрировались вокруг стада, они становились более склонными к вступлению в федерации налетчиков. Поэтому те, кто лучше всего мог обеспечить защиту, часто присоединялись к ним более или менее добровольно. Речь идет не о присоединении к иностранному завоевателю или к специализированной группе воинов из некоего общества, а к авторитетной личности из другого коллектива, с которым присоединяемая группа уже имела родовые или территориальные связи. Это была гигантская [система] охранного рекета, включавшая те же характерные комбинации принуждения и общинности, которые были характерны, например, для феодальных лордов средневековой Европы или нью-йоркской мафии. Обычно это приводило не к рабству или другим экстремальным формам экспроприации, а к взиманию количества дани, достаточного для военной защиты, появления царя, ресурсов для награды военных служащих, создания царского двора, улучшения коммуникаций и (только в наиболее развитых случаях) участия в рудиментарных проектах общественных работ. Это, вероятно, и был нормальный ранний милитаристический путь по направлению к появлению государства. Организованные захватчики, как и систематические защитники территории, были, по всей видимости, более поздним этапом на этом пути — им предшествовала фаза консолидации. Мы все еще нуждаемся в объяснении «промежуточной фазы», а также того, как возникали первоначальные государства. Вернемся к экономическим отношениям власти и, соответственно, к либеральной и марксистской теориям. Либерализм сводит государство к его функции поддержания порядка в гражданском обществе, которая, по сути, обладает экономической природой. Гоббс и Локк разработали гипотетическую историю государства, в рамках которой слабые ассоциации людей добровольно установили государство для общей защиты. Основными функциями такого государства были судебная и репрессивная, то есть функция поддержания внутреннего порядка, но рассматривали ее скорее в экономических терминах. Главной целью государства была защита жизни и индивидуальной частной собственности. Основная угроза жизни и собственности исходила извне общества. В случае Гоббса опасность представляла потенциальная анархия, война всех против всех, тогда как для Локка дуальная угроза исходила от потенциального деспотизма и обиды лишенных собственности. Как отмечает Уолин (Wolin 1961: chap. 9), тенденция сведения государства к его функциям по отношению к предсуществующему гражданскому обществу проникала даже в работы самых безжалостных критиков либерализма, таких как Розенау или Маркс. Поэтому либеральная и марксистская теории происхождения государства были унитарными и интерналистскими, отвергающими федеральные и интернациональные аспекты формирования государства. Они делали акцент на экономических факторах и частной собственности. А единственное различие заключалось в том, что одна говорила на языке функциональности, а другая — на языке эксплуатации. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» утверждал, что истоки производства и воспроизводства реальной жизни включают два типа отношений: экономические и отношения родства. Поскольку росла производительность труда, то же происходило и с «частной собственностью и обменом, различиями в обладании богатством, возможностью использовать рабочую силу других и через это с базисом классового антагонизма». Это «разламывает на куски» старые семейные структуры, и «появляется новое общество, явленное в государстве, нижними единицами которого были не группы, в основе которых сексуальные связи, а территориальные группы». Он заключает: «Государство является средством силового принуждения общества, которое во все периоды является государством правящего класса и во всех случаях по сути является машиной для подавления угнетенного, эксплуатируемого класса» (Engels 1968: 449–450, 581). Либералы и марксисты значительно преувеличивают роль частной собственности в примитивных обществах. Но оба подхода могут быть модифицированы, для того чтобы принять их во внимание. Суть марксизма не в частной собственности, а в децентрализованной собственности: государство появляется, чтобы институционализировать пути изъятия прибавочного труда, уже присутствующего в гражданском обществе. Это может быть переведено в термины клановых и родовых форм апроприации, посредством которых один клан или род либо старейшины или аристократия присваивали себе труд других. Фрайд (Fried 1967), Террей (Теггау 1972), Фридман и Роуленде (Friedman and Rowlands 1978) отстаивают эту линию. Такие модели датируют появление значительных различий в экономической власти, которые они называют стратификацией или классами, задолго до возникновения государства и объясняют последнее в терминах потребностей первого. Очевидно, что между возникновением различий во власти, авторитете (authority) и возникновением территориального централизованного государства существовал временной лаг. Государство развилось из ассоциаций кланов и родов, в которых разделение власти, авторитета (authority) между клановой, родовой элитой, элитой поселения и остальными было налицо. Однако я называю их ранговыми, а не стратифицированными обществами, поскольку они не имели четких принудительных прав или возможности эксплуатировать. В частности, их высшие ранги были производительными. Даже вожди занимались производством или выпасом, объединяя физический труд с менеджериальными экономическими функциями. Перед ними стояли определенные сложности в убеждении и принуждении других работать на них. Именно в этот момент марксистская эволюционная история должна уделить особое внимание порабощению — будь то долговому или завоевательному. Фридман и Роуленде склонны принимать милитаристский аргумент Гумпловича о том, что труд рода не может быть присвоен и что через это их теория зависит от тезиса о завоевании (со всеми дефектами, которые я уже прокомментировал) в объяснении появления материальной эксплуатации. Либерализм предлагает функциональное объяснение в терминах общей экономической выгоды, которую приносит государство. Если мы опустим понятие частной собственности и сохраним функциональные и экономические принципы, получим основное объяснение, предлагаемое современной антропологией, перераспределяющее вождество, — отчетливо функциональная теория. В частности, Малиновский писал: По всему миру мы обнаруживаем, что отношения между экономикой и политикой однотипны. Вожди повсюду функционируют как племенные банкиры, собирая еду, сохраняя ее, защищая и после используя в интересах всего сообщества. Их функции — прототип публичной финансовой системы и государственного казначейства сегодня. Лишите вождя его привилегий и финансовых выгод, и кто пострадает больше, если не племя в целом? [Malinowski 1926: 232–233]. Возможно, не следует увязывать это с либерализмом в целом, поскольку тем, кто в большей мере развил понятие «перераспределение» Малиновского, был Поланьи, который долгое время полемизировал с доминирующей либерально-рыночной теорией понимания докапиталистических экономик. Либеральная идеология завещала нам понятие об универсальности рыночного обмена. А Поланьи, напротив, утверждает, что рынки (как и частная собственность) являются новыми феноменами. Обмен в примитивных обществах в основном принимал форму ре-ципрокности, баш на баш и обратное этому движение товаров между двумя группами людей. Если этот простой обмен развивался в генерализированную меновую характеристику рынков, то должна была появиться мера стоимости. Товары в таком случае могли быть проданы по их стоимости, которая могла быть выражена в форме товаров другого типа или в форме кредита (см. ряд эссе, опубликованных после смери Поланьи в 1977 г., особенно главу 3). Но для примитивных обществ характерно (как утверждает субстантивистская школа Поланьи), что эта промежуточная точка равновесия достигалась не благодаря развитию «спонтанных» торговых механизмов, а благодаря авторитету (authority) родовых рамок. Могущественный лидер рода или вводил правила, регулировавшие обмен, или делал подарки, которые создавали взаимные обязательства, приносившие ему подчиненных, а также делал из собственного жилища большое хранилище. Это хранилище и было местонахождением перераспределявшего вождества и государства. Перераспределение, как отмечает Салинз (Sahlins 1974: 209), является всего лишь высокоорганизованной версией родствен но-ранговой ре-ципрокности. Как продемонстрировало это обсуждение, одно либеральное допущение пронизывает большинство различных версий перераспределяющего государства — доминирование обмена над производством, которым относительно пренебрегают. Однако можно все очень просто расставить по своим местам, поскольку в перераспределительном вождестве вождь был вовлечен не только в координацию обмена, но и в координацию производства. Таким образом, вождь появляется как организатор производства и обмена там, где уровень инвестиций в коллективный труд достаточно высокий, — фактор, значимость которого я постоянно подчеркиваю. Добавим к этому экологическую специализацию. Она приносит выгоды смежным специалистам не только в плане обмена, но и в плане координации их уровня производства. Если существуют по меньшей мере три такие группы, то координация может базироваться на авторитетном распределении стоимости их продуктов. Сервис (Service 1975) настаивает на этом, чтобы объяснить ранние государства. Он утверждает, что координируемые ими территории составляли различные «экологические ниши». Вождь организовывал перераспределение различных продуктов питания, которые производило каждое из них. Государство было складом, хотя перераспределительные центры также оказывали обратное влияние на производственные отношения через распределительные цепочки. Таким образом, путь к генерализованному обмену и экстенсивной «собственности» пролегал через зарождающееся государство — это экономическая, интерна-листская и функционалистская теория государства. Элиты клана, поселения, племени и рода постепенно принуждали к стоимостному измерению экономических операций. Власть с необходимостью становилась централизованной. Если она включала экологически укорененные народы, то была территориально фиксированной. Если она принималась в качестве источника справедливой меры стоимости, то должна была быть автономной от частных групп интересов, должна стоять над обществом. Сервис предлагает большое количество несистематизированных кейс-стади, чтобы подтвердить свой аргумент. В археологии Ренфрю (Renfrew 1972, 1973) настаивает на адекватности перераспределяющего вождества для доисторической Европы, ранней микенской Греции и мегалитической Мальты. На Мальте, утверждает он, на основе размеров и распределения монументальных храмов в сочетании с известными достижениями по возделыванию земли имели место множество соседствовавших перераспределявшихся вождеств, каждое из которых координировало деятельность от 500 до 2000 человек. Он также находит сходные примеры в антропологических отчетах о ряде полинезийских островов. Наконец, он утверждает, что цивилизация развивалась через рост власти вождей и превращение ее в перераспределяющие дворцово-храмовые комплексы, как в Микенах и минойском Крите. Это может казаться впечатляющим подтверждением, однако на самом деле таковым не является. Основная проблема состоит в том, что понятие «перераспределение» сильно окрашено опытом нашей собственной современной экономики. Ирония заключается в том, что основной миссией Поланьи было именно освобождение нас от современного рыночного менталитета. Но в то время как современная экономика включает систематический обмен специализированными натуральными товарами, примитивная экономика не подразумевала этого. Если Великобритания и США сегодня не будут импортировать и экспортировать ряд продовольственных товаров, сырье и изделия промышленности, их экономики и жизненные стандарты населения немедленно и катастрофически обрушатся. В Полинезии или доисторической Европе обмен происходил между группами, которые не отличались высоким уровнем специализации. В общем-то они производили одни и те же товары. Обмен не был фундаментально важным для их экономики. Иногда они обменивались сходными товарами в ритуальных целях. Но даже там, где они обменивались различными специализированными товарами, это не было существенно для их выживания, как не было существенно и перераспределение товаров индивидуального потребления между обменивавшимися вождями народов. Чаще они использовались для персональных украшений вождей или хранились и коллективно использовались в период праздничных или ритуальных событий. Они были скорее престижными, а не необходимыми для выживания товарами: их демонстрация приносила престиж тому, кто их распределял. Вожди, старейшины и знать соперничали в персональной демонстрации и публичных праздниках, растрачивая свои ресурсы, а не инвестируя их в дальнейшее производство ресурсов власти или ее концентрацию. Трудно представить, как долгосрочная концентрация власти могла развиться из этих скорее коротких циклических всплесков концентрации, за которыми следовало распространение власти между соперниками до начала следующего цикла концентрации. В конце концов люди вставали на путь избегания власти. Если один вождь становился чересчур высокомерным, они могли передать свое верноподданство другому вождю. И это справедливо даже в тех немногих случаях, когда мы находим подлинно специализированные экологические ниши и обмен продуктами первой необходимости. Если форма общества, предшествующего государству, не унитарна, почему люди развивают только одно-единственное хранилище, а не несколько конкурирующих? Как люди потеряли контроль? Подобные сомнения подтверждаются археологическими находками. Археологи также находят экологические ниши, которые являются скорее исключением, чем правилом (эгейские примеры Ренфрю как раз являются принципиальным исключением). На просторах доисторической Европы мы практически не находим следов хранилищ. Зато обнаруживаем множество захоронений, демонстрирующих в основном ранговые различия, поскольку они усыпаны дорогими предметами роскоши — например, янтарем, медью и боевыми топорами середины IV в. до н. э. В тех же обществах мы находим свидетельства больших пиров, например кости огромного количества свиней, забитых в одно и то же время. Эти находки параллельны антропологическим. Власть перераспределяющего вождества была слабее, чем предполагали его защитники, оно было характерно для ранговых, а не для стратифицированных обществ. Ни одна из четырех эволюционных теорий не пролила свет на разрыв, который я обозначил в начале главы. Между ранговыми и стратифицированными обществами, политическим авторитетом и государством, использующим принуждение, — необъяснимый пробел. То же верно и для смешанных теорий. Теории Фрайда (Fried 1967), Фридмана и Роулендса (Friedman and Rowlands 1978) и Хааса (Haas 1982), по всей видимости, представляют собой лучшие эклектические эволюционные теории. Они объединяют все факторы, которые были рассмотрены, чтобы сконструировать сложные и весьма правдоподобные истории. Они вводят различие между относительными и абсолютными рангами. Абсолютные ранги могут быть измерены в терминах дистанцирования (как правило, геополитической дистанции) от абсолюта, фиксированной сущности, центрального вождя, а через него и от богов. Когда появлялся церемониальный центр, появлялись и абсолютные ранги, утверждают они. Но они не могут предложить убедительных аргументов о том, как церемониальные центры стали постоянными, как относительные ранги были на постоянной основе превращены в абсолютные ранги и далее в постоянную противодействующую сопротивлению стратификацию и государство. Необъяснимый пробел по-прежнему присутствует. Обратимся к археологии, чтобы показать, что этот пробел существовал и в доисторический период. Все эти теории ошибаются в том, что представляют общую социальную эволюцию, которая на самом деле уже прекратилась. Ее место заняла локальная история. Однако, как мы убедимся, после фазы, которая отправила нас в реалии истории, все теории стали получать локальную и специальную применимость. Они еще пригодятся нам в следующей главе, хотя и не в столь амбициозном свете.ОТ ЭВОЛЮЦИИ К РЕГРЕССУ: ИЗБЕГАНИЕ ГОСУДАРСТВА И СТРАТИФИКАЦИИ
На самом деле загадка в том, как вообще людей вынудили подчиниться принудительной власти государства. Они добровольно отдавали коллективный представительный авторитет вождям, старейшинам и знати для самых различных целей, начиная от судебного регулирования и заканчивая ведением войн и организацией празднеств. Благодаря этому вожди могли получать значительный ранговый престиж. Но они не могли превратить его в постоянную принудительную власть. Археология позволяет нам удостовериться в том, что все было именно так. Быстрой или постепенной эволюции от рангового авторитета (authority) к государственной власти (power) не было. Подобный переход был редкостью и ограничивался чрезвычайно малым количеством из ряда вон выходящих случаев. Решающим археологическим доказательством этого служит время. Рассмотрим, например, доисторический период Северо-Западной Европы. Археологи могут наметить очертания социальных структур сразу после 4000 г. до н. э. вплоть до 500 г. до н. э. (когда железный век принес с собой огромные перемены). Это необыкновенно долгий период времени, превосходящий по своей продолжительности всю последующую историю Европы. В течение этого периода, за редким исключением, западноевропейские народы жили в относительно эгалитарных или ранговых, а не стратифицированных обществах. Их так называемые государства не оставили свидетельств постоянной принудительной власти. В Европе мы можем проследить динамику их развития. Я собираюсь обсудить два аспекта указанной динамики: один в Южной Англии, другой — в Дании. Я выбрал западные примеры, поскольку они относительно изолированы от ближневосточного влияния. Я убежден, что, если бы я выбрал, скажем, Балканы, мне пришлось бы описывать более могущественные, практически постоянные вождества и аристократии. Но эти случаи испытали огромное влияние первых ближневосточных цивилизаций (Clarke 1979b) Уэссекс был одним из основных центров регионально различающихся традиций коллективных захоронений, распространенных после 4000 г. до н. э., включая большую часть Британских островов, атлантического побережья Европы и западного Средиземноморья. Нам известно об этой традиции, поскольку уцелел ряд удивительных последних находок. Наше воображение продолжает поражать Стоунхендж. Он подразумевает тягу волоком по земле (поскольку тогда не существовало колес) громадных 50-тонных глыб на расстояние по меньшей мере 30 километров и 5-тонных глыб по земле и морю по меньшей мере на расстояние 240 километров. Для подъема самой огромной глыбы требовался труд по крайней мере 600 человек. Было ли предназначение монумента (религиозные или календарные цели) столь же сложным, как и его строительство, всегда будет предметом споров. Но координация труда и распределение излишков, чтобы накормить рабочих, с необходимостью подразумевали существенную централизацию авторитета — квазигосударство определенного размера и сложности. Хотя Стоунхендж был самым монументальным достижением указанной традиции, он не стоит особняком даже сегодня. Эйвбери[20], Силбери-Хилл[21] (крупнейший из доисторических искусственных курганов в Европе) и масса других монументов, рассредоточенных на территории от Ирландии до Мальты, свидетельствуют о власти социальной организации. Но это был эволюционный тупик. Монументы больше не развивались, они просто застыли. У нас нет свидетельств о более поздних сравнимых свершениях централизованной организации ни на одной из основных мегалитических территорий (Уэссекса, Бретани, Испании, Мальты) вплоть до прибытия туда римлян тремя столетиями позже. Этот тупик был синхронным у неолитических людей по всему миру. Монументы острова Пасхи похожи на монументы на Мальте. Массивные курганы, сравнимые с Силбери-Хилл, распространены в Северной Америке. Ренфрю предполагает, что они — результат верховного командования, сходного с тем, что было найдено у индейцев чероки, где и тыс. человек, составлявших около 60 поселений каждое со своим вождем, могли быть мобилизованы для краткосрочного сотрудничества (Renfrew i£)73:147—*66, 214–247). Однако что-то внутри этих структур препятствовало их стабилизации. О предыстории Стоунхенджа почти ничего неизвестно. Я с почтением опираюсь на недавние работы Шеннана (Shennan 1982,1983), а также Торпа и Ричардса (Thorpe and Richards 1983), которые обнаружили циклический процесс. Стоунхендж был заложен до 3000 г. до н. э., но его величайший монументальный период начался около 2400 г., после чего наступили стабилизация и оживление около 2000 г. Затем вновь последовала стабилизация, после чего он был обновлен, хотя и менее основательно, до 1800 г. до н. э. Впоследствии монумент стал быстро приходить в запустение и, по всей видимости, не играл значимой социальной роли уже к 1500 г. до н. э. Но организация, основанная для изучения этих монументов, была не единственной в этой области. Незадолго до 2000 г. до н. э. с континента пришла Кубковая культура (Clarke 1979е)- на начала соперничать с менее централизованной социальной структурой и «аристократическими» захоронениями, содержащими престижные товары, как то: керамическая посуда хорошего качества, медные кинжалы и каменные браслеты. Это соперничество повлияло на монументальную деятельность и в конце концов подорвало и пережило ее. В настоящее время трудно представить, что имели место не два различных взаимосвязанных народа, а два принципа социальной организации, лежащие в основании одной и той же нежестко структурированной группировки. Археологи рассматривают монументальную организацию как абсолютное ранговое господство централизованной родовой элиты, монополизировавшей исполнение религиозных ритуалов, а кубковую организацию — как относительное ранговое господство децентрализованных, взаимно накладывавшихся родовых элит и элит знати с меньшим авторитетом, основанным на распределении престижных товаров. Разумеется, родовые элиты и знать — это все догадки, выстроенные по аналогии с современными неолитическими народами. Возможно, монументальная культура вовсе не концентрировалась вокруг рода. С равной долей вероятности ее можно рассматривать как централизованную форму примитивной демократии, в которой ритуальная власть, авторитет (authority) были за-хваченв старейшинами поселений. Но эти понятийные ухищрения не могут скрыть главного. В конкуренции между относительно централизованной и относительно децентрализованной властью, авторитетом последняя вышла победителем вопреки удивительным возможностям коллективной организации первой. Авторитет естественным образом никогда не консолидировались в принудительное государство. Напротив, они фрагментировались на родовые и поселенческие группы, в рамках которых авторитет (authority) соответствующих элит был непостоянным. Это не сопровождалось социальным упадком. Народы пребывали в умеренном процветании. Шеннан (Shennan 1982) предполагает, что децентрализация европейских народов в целом была ответом на рост торговли на дальние расстояния и циркуляции престижных товаров. Их распространение повышало неравенство и авторитет, но они не носили постоянного, принудительного, централизованного характера. В других регионах доисторические циклы могут быть обнаружены, даже несмотря на отсутствие великих монументов. Удивительно то, что дискуссии, которые наилучшим образом проливают свет на них, встречаются в работах авторов, разделяющих различные установки относительно эволюционизма. С одной стороны, они критикуют однолинейные теории эволюции. С другой — находятся под влиянием марксистских эволюционных представлений, сконцентрированных на способах производства. Я представлю их модели, прежде чем критиковать. В различных статьях Фридман и Роуленде обрисовали доисторическое развитие в целом, тогда как Кристиансен (Kristiansen 1982) обращается лишь к одной части европейских археологических сведений — к Северо-Западной Зеландии (в современной Дании). Фридман начинает с ортодоксальных взглядов: социальные структуры оседлых людей изначально были эгалитарными, а старейшины и знать пользовались лишь слабым консенсусным авторитетом (authority). По мере наращивания объема сельскохозяйственного производства они захватили право на распределение больших излишков. Они институционализировали это посредством празднеств, персональной демонстрации и ритуального контакта со сверхъестественными силами, главным образом ранговый авторитет. Теперь они организовывали потребление большей части излишков. Брачные союзы распространяли авторитет некоторых вождей на все более широкие территории. Затем Фридман добавляет мальтузианский элемент: когда территориальная экспансия была блокирована естественными приделами или границами других вождеств, рост населения начинал опережать рост производства. Это повышало плотность населения и иерархию в поселениях, а также централизованный авторитет (authority) главных вождей. Но в долгосрочной перспективе авторитет подрывался экономическим успехом и экономическими провалами. Развитие межрегиональной торговли могло разорвать мальтузианский цикл, а вожди не могли это контролировать. К тому же, по мере того как поселения становились более автономными, их аристократия начинала соперничать со старшим верховным вождем. Экономические спады, например в результате эрозии почв, также вели к фрагментации власти, авторитета. Спад вел к циклам, подъем — к развитию. Соперничавшие поселения становились более урбанизированными и монетаризованными: появлялись города-государства и цивилизации, а с ними и отношения частной собственности. В своих статьях 1978 г. Фридман и Роуленде подчеркивают именно процессы развития. Впоследствии они рассматривали цикл как более распространенное явление. Но их решение состояло в том, что «в конечном счете» (цитируя Энгельса) развитие пробивалось сквозь циклические процессы, возможно, внезапно и неожиданно, но тем не менее как эпигенетический процесс (Friedman 1975, 1979; Rowlands 1982). Болота Зеландии сохранили для археологов богатый материал. Кристиансен исследовал археологические находки в терминах описанной выше модели. В период 4100–3800 гг. до н. э. практикующие подсечно-огневое земледелие люди вырубали леса, выращивали зерно и делали загоны для скота. Их торговля была очень скромной, захоронения также свидетельствуют о незначительных ранговых различиях в их «обществах». Но успех вел к росту населения и увеличению площадей, расчищенных от леса. Между 3800 и 3400 гг. до н. э. появились более постоянные и экстенсивные поселения, зависевшие от сельскохозяйственных усовершенствований и более сложных социальных и территориальных организаций. Теперь здесь встречались уже знакомые для ранговых обществ находки — ритуальные празднества и элитные захоронения с престижными товарами. Вплоть до 3200 г. до н. э. они встречались чаще. Строительство мегалитов и мощенных камнем лагерей велось в основном благодаря власти, авторитету вождей. Урожайность расчищенных от лесов земель была высокой, и сорта пшеницы оставались относительно чистыми (не менялись, не скрещивались). Циркуляция янтаря, кремня, меди и боевых топоров, то есть престижных товаров, становилась все интенсивнее. Устойчивые постоянные вождества впервые появились в Северной Европе. И, казалось бы, возникновение государств было уже на подходе. Но между 3200 и 2300 гг. до н. э. территориальные вождества дезинтегрировались. Мегалиты, общинные ритуалы, тонкая керамика и престижные товары исчезли, и межрегиональный обмен прервался. Имели место одиночные захоронения мужчин и женщин в маленьких курганах, принадлежвших локальным родам или семьям. Среди археологических находок преобладают боевые топоры, и их широкое распространение в целом свидетельствует об окончании контроля над насилием. Сегментарные клановые структуры, вероятно, доминировали. Кристиансен объясняет этот упадок в материальных терминах. Прежде лесные почвы истощились, и большая часть людей перешла от оседлого земледелия к скотоводству, рыболовству и охоте. Они развили более мобильный и менее контролируемый способ жизни. Обострившаяся конкуренция за оставшиеся плодородными земли разрушила более крупные территориальные вождества. Большая часть семей мигрировала на более легкие целинные почвы пустоши Центральной Ютландии или куда-либо еще, принимая экстенсивные, но редко оседлые формы жизни. Изобретение колеса и телеги способствовало появлению основных коммуникаций и до определенной степени торговле, но власти вождей было недостаточно, чтобы контролировать такие обширные территории. Вплоть до 1900 г. до н. э. в рамках этих эгалитарных структур наблюдалось экономическое восстановление. Смешанная экономика легких и тяжелых почв, а также сельского хозяйства, скотоводства и рыболовства увеличила излишки и стимулировала межрегиональную торговлю. Тем не менее никто не мог монополизировать эту торговлю, циркуляция престижных товаров расширялась. Около 1900 г. до н. э. начался второй виток роста вождеств, что вновь находит отражение в археологических находках празднеств, захоронений вождей, а также мастерстве изготовления престижных товаров. Вплоть до 1200 г. до н. э. иерархия расширялась. Крупные централизованные поселения с вождем во главе контролировали ремесленное производство, местный обмен и ритуал. Кристиансен приписывает это появлению металлических артефактов: бронза, относительно редкая, особенно ценная, могла быть монополизирована вождями. Это скорее напоминало монополию вождей на престижные товары в Полинезии, утверждает он. Но около1000 г. до н. э. здесь вновь наступило затухание, возможно, в силу нехватки металла. Сельскохозяйственное производство продолжало расти, но захоронения демонстрируют все меньше богатства, то же происходит и с иерархией в поселениях (она сокращается). Затем в рамках перехода к железному веку ранговые общества, управляемые вождями, исчезали, причем в более полном объеме, чем было до этого. Поселения расширяются на самые тяжелые, прежде не тронутые почвы, и авторитету, власти вождей за ними не угнаться. Развивались более эгалитарные структуры, организованные в автономные локальные поселения. Теперь доминировало поселение или деревня, а не племя. На этой территории (в отличие, например, от Месопотамии) деревни вырывались из циклических процессов, трансформируя систему по направлению к устойчивому социальному развитию железного века. Мы вернемся к этому вопросу и этим народам в главе 6. Такое краткое изложение недостаточно обоснованных исторических обобщений, без сомнения, содержит ошибки и упрощения. Два с половиной тысячелетия были просто обобщены! Тем не менее собранная таким образом история не является эволюционной историей роста социальной стратификации и государства. Развитие не шло по направлению от эгалитарных к ранговым и стратифицированным обществам или от равенства к политическому авторитету и принудительной власти государства. Откат назад от второй стадии обратно к первой был частым явлением при переходе от первой ко второй стадии, как и к третьей, если таковая вообще достигалась; стабилизация и институционализация власти продолжались до первого коллапса. Второе пробное заключение вызывает сомнение, даже несмотря на лишь остаточный экономический эволюционизм Кристиансена. Его собственные оценки экономической производительности каждого периода в гектарах на баррель твердого зерна с очевидностью являются сырыми и приблизительными. Но они показывают увеличение в течение всего исследуемого периода на 10%, что, конечно, не очень-то впечатляет. Очевидно, железный век в итоге все же привел к устойчивому развитию. Но оно не было исконно европейским. В главе 6 я утверждаю, что развитие железного века было в сущности ответом на влияние ближневосточных цивилизаций. Для Европы оно стало по большей части «богом из машины», как часть эпигенеза. Доисторическая Европа знала больше циклов, чем диалектики. Если быть до конца честным, это основное направление, в котором Фридман и прочие авторы приводят свои аргументы. Фридман (Friedman 1982) отмечает, что Океания не могла пройти через традиционные стадии «равенство — ранги — стратификация». Меланезия являлась самым древним и производительным регионом Океании, хотя и «регрессировала» от вождества кзнати. Восточная Полинезия — экономически самый бедный и больше всего нуждавшийся в торговле на дальние расстояния регион Океании, тем не менее она продвинулась дальше других по направлению к принудительному государству. По сути, Фридман разработал циклическую модель различных регионов Океании. В ее основе лежат бифуркации — точки, в которых происходят стремительные трансформации всей системы, когда она сталкивается с непредвиденными последствиями собственных тенденций развития. Примерами подобных бифуркаций могли бы послужить смены направления, которые уже были описаны на примере доисторической Европы. Фридман приходит к заключению, что эволюция по сути слепа и катастрофична, выступает результатом внезапных, непредвиденных бифуркаций. Вероятно, развитие государства стратификации и цивилизации есть результат редких, случайных бифуркаций. В пользу этого заключения существует действительно много свидетельств. Большинство доисторических обществ не демонстрировали устойчивого движения по направлению к стратификации или государству. Движение по направлению к рангам и политическому авторитету было свойственно лишь определенным местностям, но оно было обратимым. И ничего больше. Но мы можем пойти дальше, определив причину указанной блокировки на пути возникновения неравенства и государства. Если большинство обществ были «клетками», их двери оставались не запертыми для двух основных акторов. Во-первых, для людей, обладавших свободами. Они редко отдавали элитам власть, которую не могли вернуть, а когда их к этому принуждали или не оставляли другого выбора, они уходили из-под юрисдикции власти. Во-вторых, для элит, которые редко были унитарными: старейшины, главы кланов, знать и вожди, обладавшие пересекающимися, соревнующимися авторитетами (authorities), смотрели друг на друга с подозрением, а также сами пользовались двумя свободами, которые были описаны выше. Поэтому имели место два цикла. Равные люди могли увеличить интенсивность взаимодействий и плотность населения, чтобы сформировать поселения с централизованным постоянным авторитетом. Но они оставались широко демократичными. Если авторитетные фигуры становились чрезмерно могущественными, их свергали. Если они обзаводились ресурсами, которые препятствовали их свержению, люди отворачивались от них, находили новых правителей или децентрализовывались в маленькие семейные поселения. Затем снова могла начаться централизация с теми же результатами. Второй этап цикла предполагал более экстенсивную, но менее интенсивную кооперацию в растянутых родовых структурах, зачастую продуцирующую во-ждество, а не деревню. Но в этом случае верность вождю также была добровольной, и, если вождь ее предавал, он встречал сопротивление со стороны людей или соперничавших вождей. Обе формы предполагали менее унитарную форму общественной жизни, чем в целом представляли теоретики. Важно освободиться от современного понятия «общество». Несмотря на то что доисторический период демонстрировал движение по направлению к более территориально и социально фиксированным единицам, доисторическое пространство не складывалось из ряда отдельных ограниченных обществ. Социальные единицы накладывались друг на друга, и в местах наложения правители могли выбирать членство в альтернативных социальных единицах. Пока дверь «клетки» не закрылась. Таким образом, возникновение устойчивых, постоянных, принудительных государств и систем стратификации не было общим эволюционным этапом. Я объясню это несколько подробнее, поскольку может показаться, что это не согласуется с исследованием Майр режимов Восточной Африки, которые она называет государствами. Главы деревень и вожди действительно выполняли полезную централизующую функцию. Если они делали это эффективно, им даже удавалось добиться заметного авторитета. Как демонстрирует Коэн в своем разделе книги Классена и Скальника (Claessen and Skalnik 1978), это происходило по всей Африке. Коэн отмечает минимальный уровень принудительной власти, которой они располагали, и утверждает, что они были всего лишь более централизованной версией авторитета рода, основанного на престиже. Подчинение было по большей части добровольным, основанным на стремлении к большей эффективности в разрешении споров, проведении свадеб, организации коллективного труда, распределении и перераспределении товаров, общей обороне. Разрешение споров и организация свадеб были более важным родом деятельности вождей, чем экономическое перераспределение или координация военных функций, которые обычно регулировались социальной организацией более высокого уровня. Вождь эксплуатировал свою функциональность. Наиболее успешные из них создавали деспотические кланы. Они также приобретали достаточное количество излишков, чтобы платить вооруженным «вассалам». Подобное происходило в Восточной Африке и, вероятно, должно было бессчетное количество раз происходить в доисторических обществах всех континентов. Но что не было универсальным и общим, так это способность деспотов к институционализации принудительной власти, возможность делать ее постоянной, рутинной и не зависящей от его личности. Связи между королем, его «вассалами» и родственниками, с одной стороны, и остальной частью общества — с другой, были слабыми. Они зависели от личной силы монарха. Не существовало стабильных институтов, рутинно передающих власть их наследникам. Такое наследование было редкостью к тому же почти никогда не продолжалось дольше двух поколений. Мы располагаем достаточным количеством достоверной информации о зулусской монархии, хотя она и испытала на себе воздействие более развитых европейских государств. Выдающийся человек из вождества Мтетва[22], происходящего от народа нгуни, Дингисвайо[23] , был избран вождем, поскольку выучился более развитым европейским военным техникам. Он создал дисциплинированные военные подразделения и добился господства над северо-восточной провинцией Наталь[24]. Его военачальником был Чака[25] из клана зулусов. После смерти Дингисвайо Чака провозгласил себя верховным вождем, разгромил соседние племена и заручился поддержкой оставшихся. Затем он столкнулся с войсками Британской империи и был сокрушен. Но империя Чака не смогла его пережить. Остались лишь федеральные структуры, в которых центру не хватало автономных ресурсов власти над его клиентами. Там, где современные колониальные империи находили великих вождей, таких как Чака, они обнаруживали два уровня авторитета. Бенес и Чака были миноритарными вождями. В Восточной Африке эти вожди-«клиенты» были широко описаны Фэллерсом (Fallers 1956) и Майр (Mair 1977: 141–160). Каждый вождь-«клиент» был копией стоящего над ним «патрона». Когда британская экспедиция вошла в Уганду, административная власть была делегирована вначале 738, а затем1000 вождей. С одной стороны, это властное пространство могло стать объектом силового подчинения гипотетического монарха: одну локальность можно было натравить на другую, одного клиента — на другого, клан — на поселение; вождей, старейшин, знать настроить против людей. Именно в рамках этой многослойной децентрализованной борьбы вожди-«патроны» могли использовать свое центральное положение в собственных интересах. С другой стороны, в эти же игры могли играть и вожди-«клиенты». Монарх должен был призвать их ко двору, чтобы использовать персональный контроль над ними. Но тогда последние также получали преимущества централизации. Это было дорогой не к институционализации государства, а к бесконечным интригам претендентов на правление, возвышению деспотов и крушению их империи или империи их сыновей перед восстаниями вождей-интриганов. Возможность выбора — каким из сетей власти, авторитета подчиняться, подрывала развитие социальной «клетки», представленной цивилизацией, стратификацией и государством. Этот цикл являлся примером расширенной родовой разновидности рангового общества. Второй цикл характеризовался поселенческой разновидностью рангового общества: к большему централизованному авторитету с возможностью управлять в экстремуме. Структуры наподобие той, которая была связана со строительством Стоунхенджа, в таком случае испытывали перенапряжение и фрагментировались на более децентрализованные домохозяйства. Вероятно, наиболее распространенным был смешанный тип, объединявший поселенческую и родовую разновидности, а динамика их смешения накладывалась на динамику иерархизации. Ярким примером этого является политическая система Бирмы, описанная Личем (Leach 1954), где иерархическая и эгалитарная локальные политические системы сосуществуют и склоняются то в одну, то в другую сторону, причем присутствие и воздействие обеих предшествуют каждому конкретному типу стратификации в его окончательной институционализации. По всей видимости, Чака и Джеронимо были основными персонажами доисторического периода. Но они не основывали государств или систем стратификации. Для заточения общества в «клетку» им не хватало ресурсов. В следующей главе мы убедимся, что там, где подобные ресурсы все же появлялись, это было прежде всего результатом специфического для конкретной местности стечения обстоятельств. За пределами ранних ранговъгх, оседлых неолитических обществ никакой общей социальной эволюции не было. Поэтому теперь необходимо перейти к конкретной локальной истории.БИБЛИОГРАФИЯ
Andreski, S. (1971). Military Organization and Society. Berkeley: University of California Press. Barth, F. (1961). Nomads of South Persia. Oslo: University Press. Bellah, R. (1970). Religious evolution. In his book Beyond Belief. New York: Harper & Row. Binford, L. (1968). Post-Pleistocene adaptations. In S. Binford and L. Binford, New Perspectives in Archeology, Chicago: Aldine. Bloch, M. (1977). The disconnections between power and rank as a process: an outline of the development of kingdoms in central Madagascar. Archives Europeennes de Socio-logie, 18. Boserup, E. (1965). The Conditions of Agricultural Growth. Chicago: Aldine. Brock, T, and J. Galtung (1966). Belligerence among the primitives: a reanalysis of Quincy Wrights data. Journal of Peace Research, 3. Claessen H., and P.Skalnik (1978). The Early State. The Hague: Mouton. Clarke, D. L. (1979). Mesolithic Europe: the economic basis. In Analytical Archaeologist: Collected Papers of David L. Clarke. London: Academic Press. --. (1979b). The economic context of trade and industry in Barbarian Europe till Roman times. In ibid. --. (1979c). The Beaker network — social and economic models. In ibid. Clastres, P. (1977). Society against the State. Oxford: Blackwell. Divale, W. T, and M. Harris (1976) Population, warfare and the male supremacist complex. American Anthropologist, 78. Engels, F. (1968) The origins of the family, private property and the state. In K. Marx and F. Engels, Selected Works. London: Lawrence and Wishart; Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1955_1974- Т. 21. С. 23–178. Fallers, L. А. (1956). Bantu Bureaucracy. Cambridge: Heffer. Farb, F. (1978). Humankind. London: Triad/Panther. Firth, R. (1965). Primitive Polynesian Economy, 2d ed. London: Routledge. Flannery, К. V. (1974). Origins and ecological effects of early domestication in Iran and the Near East. In The Rise and Fall о f Civilizations, ed. С. C. Lamberg-Karlovsky and J.A.Sabloff. Menlo Park, Calif.: Cummings. Forge, A. (1972). Normative factors in the settlement size of Neolithic cultivators (New Guinea). In Man, Settlement and Urbanism, P. Ucko et al. London: Duck-worth. Fried, M. (1967). The Evolution of Political Society. New York: Random House. Friedman, J. (1975). Tribes, states and transformations. In Marxist Analyses and Social Anthropology, ed. M. Bloch. London: Malaby Press. --. (1979). System, Structure and Contradiction in the Evolution of «Asiatic» Social Formations. Copenhagen: National Museum of Denmark. --. (1982). Catastrophe and continuity in social evolution. In C. Renfrew et al., eds., Theory and Explanation in Archaeology. New York: Academic Press. Friedman, J., and M. Rowlands (1978) The Evolution of Social Systems. London: Duckworth. Gilman, A. (1981) The development of social stratification in Bronze Age Europe. Current Anthropology, 22. Gumplowicz, L. (1899) The Outlines of Sociology. Philadelphia: American Academy of Political and Social Sciences. Гумплович, Л. (1899). Основы социологии. СПб.: Издание О. Н. Поповой. Haas, J. (1982). The Evolution of the Prehistoric State. New York: Columbia University Press. Herskovits, M. J. (i960). Economic Anthropology. New York: Knopf. Kristiansen, K. (1982). The formation of tribal systems in later European pre-history: northern Europe 4000 B.C. — 500 B.C. In Renfrew et al., eds., Theory and Explanation in Archaeology. New York: Academic Press. Leach, E. (1954). Political Systems of Highland Burma. London: Athlone Press. Lee, R., and J. DeVore. (1968). Man the Hunter. Chicago: Aldine. Mair, L. (1977). Primitive Government. Rev. ed. London: Scolar Press. Malinowski, B. (1926). Crime and Custom in Savage Society. London: Kegan Paul; Малиновский, Б. (2004). Преступление и обычай в обществе дикарей // Б. Малиновский. Избранное: Динамика культуры. М.: РОССПЭН. С. 211–282. Moore, А. М. Т. (1982). Agricultural origins in the Near East: model for the 1980s. World Archaeology. Nisbet, R. (1976).. The Social Philosophers. St. Albans: Granada. Oppenheimer, F. (1975) The State. New York: Free Life Editions. Otterbein, K. (1970). The Evolution of War. A Cross-Cultural Study. N.p.: Human Relations Area Files Press. Piggott, S. (1965). Ancient Europe: From the Beginning of Agriculture to Classical Antiquity. Edinburgh: Edinburgh University Press. Polanyi, K. (1977). The Livelihood of Man, essays ed. H.W. Pearson. New York: Academic Press. Redman, C. L. (1978). The Rise of Civilization. San Francisco: Freeman. Renfrew, C. (1972). The Emergence of Civilisation: The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium B.C. London: Methuen. --. (1973). Before Civilization: The Radiocarbon Revolution and Prehistoric Europe. London: Cape. Ritter, G. (1969). The Sword and the Sceptre. Volume I: The Prussian Tradition 1740–1890. Coral Gables, Fla.: University of Miami Press. Roberts, J. (1980). The Pelican History of the World. Harmondsworth, England: Penguin Books. Sahlins, M. (1974). Stone Age Economics. London: Tavistock; Салинз, M. (1999). Экономика каменного века. M.: ОГИ. Sahlins, М., and Е. Service, (i960). Evolution and Culture. Ann Arbor: University of Michigan Press. Service, E. (1975). Origins of the State and Civilization. New York: Norton. Shennan, S. (1982). Ideology and social change in Bronze Age Europe. Paper given to Patterns of History Seminar, London School of Economics, 1982. --. (1983). Wessex in the Third Millennium B.C. Paper given to Royal Anthropological Institute Symposium, Feb. 19, 1983. Sherratt, A. (1980). Interpretation and synthesis — a personal view. In The Cambridge Encyclopedia of Archaeology, ed. A. Sherratt. Cambridge: Cambridge University Press. Spencer, H. (1969). Principles of Sociology. One-volume abridgement. London: Macmillan; Спенсер, Г.Основания социологии. В 2 т. СПб.: Издание И. И. Билибина, 1876–1877. Steward, J. (1963). Theory of Culture Change. Urbana: University of Illinois Press. Terray, E. (1972). Marxism and «Primitive Societies»: Two Studies. New York: Monthly Review Press. Thorpe, I. and J., C. Richards (1983) The decline of ritual authority and the introduction of Beakers into Britain. Unpublished paper. Webb, M. C. (1975). The flag follows trade: an essay on the necessary interaction of military and commercial factors in state formation. In Ancient Civilisation and Trade, ed. J. Sabloff and С. C. Lamberg-Karlovsky. Albuquerque: University of New Mexico Press. Wobst, H. M. (1974). Boundary conditions for paleolithic social systems: a simulation approach. American Antiquity, 39. --. (1978). The archaeo-ethnology of hunter-gatherers: the tyranny of the ethnographic record in archaeology. American Antiquity, 43. Wolin S. (1961). Politics and Vision. London: Allen & Unwin. Woodburn, J. (1980). Hunters and gatherers today and reconstruction of the past. In Soviet and Western Anthropology, ed. E.Gellner. London: Duckworth. --. (1981). The transition to settled agriculture. Paper given to the Patterns of History Seminar, London School of Economics, Nov. 17, 1981. --. (1982). Egalitarian Societies. Man, new series 17.ГЛАВА 3 Возникновение стратификации, государства и цивилизаций с множеством акторов власти в Месопотамии
ВСТУПЛЕНИЕ: ЦИВИЛИЗАЦИЯ И АЛЛЮВИАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Аргумент прошлой главы был скорее негативным: возникновение цивилизаций не было результатом развития общих для доисторических обществ свойств. Это с очевидностью подтверждается хотя бы тем фактом, что независимое возникновение цивилизаций было чрезвычайно редким явлением — по всей видимости, имели место шесть подобных случаев, минимум — три, максимум — десять. Тем не менее долгое время было принято считать, что у этих случаев был общий паттерн, в основе которого лежало аллювиальное земледелие. Так было ли возникновение цивилизаций вместе с сопутствующими социальной стратификацией и государством больше чем просто исторической случайностью? Даже несмотря на небольшое количество примеров, был ли у них общий паттерн? Я полагаю, что был. Поэтому цель этой и следующей главы — выявление общего паттерна, а также границ его применимости. Трудно однозначно определить, что мы называем цивилизацией. Это слишком нагруженное понятие, а доисторические и исторические свидетельства о нем очень разнообразны. Если мы сконцентрируемся лишь на одной гипотетической характеристике цивилизации, то попадем в затруднительное положение. К примеру, письменность является характеристикой народов, которые мы интуитивно считаем цивилизованными. Но письменность в ее рудиментарной форме также находят в доисторической Юго-Восточной Европе, которую по другим характеристикам цивилизаций невозможно поставить в один ряд с цивилизованными народами. У инков Перу, которых обычно считают цивилизованными, письменности не было. Урбанизация, в целом характерная для цивилизации, также не может служить однозначным индикатором. Доисторические деревенские поселения могли сравниться по размеру, но едва ли по плотности с ранними городами Месопотамии. Ни один отдельно взятый фактор не может служить идеальным индикатором того, что мы называем цивилизацией. В этом состоит первая причина, почему цивилизации обычно определяют в терминах широкого перечня характеристик. Наиболее известным является список характеристик Чайлда (Childe 1950)> состоящий из десяти наименований: города, то есть значительно более крупные поселения с большей плотностью; постоянное разделение труда; социальная концентрация излишков, организованная в «капитал»; неравное распределение излишков и развитие «правящего класса»; государственная организация, основанная на территории, а не на родстве; рост торговли предметами роскоши и первой необходимости на большие расстояния; строительство монументов; стандартизированный натуралистический художественный стиль; письменность; математика и наука. Этот список обычно критикуют (например, Adams 1966) за то, что в нем содержится перечень бессвязных пунктов, пригодных только для описания стадий, а не для объяснения процессов. Тем не менее эти характеристики складываются вместе в цивилизационные комплексы. Если «цивилизация как единое целое» существовала, в чем заключалась ее сущность? В этом вопросе я следую за Ренфрю. Он отмечает, что список Чайлда состоит из артефактов. Они помещают материальные предметы, изготовленные людьми, между человеком и природой. Большинство подходов к определению цивилизации создается вокруг артефактов. Ренфрю определяет цивилизацию как изоляцию от природы’. «Логичным представляется отобрать в качестве критериев три наиболее мощных изолятора, а именно церемониальные центры (изоляция от неизвестного), письменность (изоляция от времени) и город (огромный контейнер, определяемый пространственно как изолятор от внешнего)» (Renfrew 1972: 13) — Приведенное является упрощенной метафорой по отношению к метафоре социальной «клетки». Цивилизация была комплексным целым, включающим изолирующие и заключающие в «клетку» факторы, оказавшиеся вместе довольно случайно. Если использовать три характеристики Ренфрю как косвенный индикатор, окажется, что лишь немногие случаи возникновения цивилизаций были действительно автономными. Как известно, в Евразии существовали лишь четыре группы, которые обладали письменностью, городами и церемониальным центром и которые, насколько можно судить, могли возникнуть независимо друг от друга: шумеры в Месопотамии, египтяне в долине Нила, индская цивилизация на территории современного Пакистана; а также народы нескольких северокитайских речных долин, начиная с долины Хуанхэ (Желтой реки). Только самая ранняя шумерская цивилизация возникла независимо, поэтому остальные примеры периодически исследуют на предмет возможной диффузии или завоевания. Однако существующий в настоящий момент консенсус среди специалистов заключается в том, что все четыре перечисленные выше цивилизации возникли независимо. К ним иногда добавляют пятую, миной-скую цивилизацию Крита, хотя это уже является предметом широких дискуссий. Если обратиться с другим континентам, то, как представляется, мы обнаружим еще два примера — до колумбовы цивилизации Мезоамерики и Перу[26], которые не контактировали друг с другом и были независимы от Евразии. Это делает возможным существование шести полностью независимых случаев. Однако трудно найти хотя бы двух ученых, которые без возражений согласились бы с указанным количеством. Например, Уэбб (Webb 1975) также добавляет соседствующий с Месопотамией Элам, который будет рассмотрен далее в этой главе, а также регион озер Восточной Африки, на котором мы не остановимся. Становление прочих цивилизаций, очевидно, происходило во взаимодействии с уже возникшими цивилизациями или с их преемниками. По этой причине цивилизация не может быть предметом статистического анализа. Учитывая уникальность обществ, мы, как представляется, не можем сделать никаких обобщений на основе небольшого количества независимых случаев. Однако один общий фактор для всех случаев налицо: все цивилизации возникли в долинах рек и практиковали аллювиальное земледелие. На самом деле большинство из них пошли дальше, начав искусственно, при помощи артефактов, затоплять долины рек водой после наводнений. В отличие от доисторических периодов, когда развитие происходило во всевозможных экологических и экономических условиях, история и цивилизация могут рассматриваться как продукт одной особой ситуации — аллювиального и, возможно, ирригационного земледелия. Даже после того как большинство упомянутых цивилизаций распространились дальше по континенту, их ядро в течение долгого времени оставалось в аллювиальных долинах рек. Индская цивилизация распространилась по всему западному побережью Пакистана и Индии, но ее центром вплоть до самого коллапса была одна река. Нил ограничивал Египет в течение гораздо большего периода — с 3200 по 1500 г. до н. э., когда началась политика экспансии. В течение указанного периода варьировалась лишь его протяженность по долине реки. Даже впоследствии его могущество продолжало базироваться на берегах Нила. Китай занимал обширную территорию, но его экономическим и стратегическим ядром оставались лёссовые аллювиальные почвы Северо-Китайской равнины. Шумеры, Аккад, древняя Ассирия, а также Вавилонская империя располагались по берегам Тигра и (в основном) Ефрата с 3200 по 1500 г. до н. э. Эти цивилизации появились в результате подражания друг другу в одних и тех же экологических условиях речных долин и даже пустынных оазисов Евразии. Хотя в Америке земледельческие истоки доколумбовых народов были другими, ряд (хотя и не все) ключевых прорывов к урбанизации и письменности произошел в связи с ирригацией, которая оставалась ядром империй вплоть до прибытия испанцев. Теперь общий паттерн стал отчетливее. Если учесть миной-скую цивилизацию, то она будет исключением, поскольку аллювиальное и ирригационное земледелие здесь по большей части отсутствовало. Цивилизация майя в Мезоамерике также является исключением. В более поздних случаях роль аллювиального и ирригационного земледелия была значительно меньше. Мы не можем объяснить Хеттскую, Персидскую, Македонскую или Римскую империи подобным образом. Тем не менее во времена самой ранней истории в Евразии и Америке в долинах рек что-то произошло, и это имело глубокие последствия для цивилизаций. Но почему? Мой ответ адаптирует и комбинирует уже существующие объяснения. Но я подчеркиваю два важных момента. Во-первых, большинство локальных эволюционных историй являются функционалистскими и излагаются в терминах возможностей и стимулов для социального продвижения, я же, напротив, буду говорить о неотделимости функциональности и эксплуатации. Метафора «клетки» получает продолжение: главная особенность экосистем и человеческих реакций на них — закрытие дороги к отступлению. Обитатели этих территорий в отличие от людей, живущих в других условиях по всему миру, были вынуждены принять цивилизацию, социальную стратификацию и государство. Они оказывались в ловушке определенных социальных и территориальных отношений, фокусируясь на том, как сделать эти отношения интенсивнее, а не на том, как их избежать. Это вело к появлению возможностей для развития коллективной и дистрибутивной власти, результатом чего стали цивилизация, социальная стратификация и государство. Этот аргумент схож с теорией «инвайронментальных ограничений» (средовой ограниченности) Карнейро (Carneiro 1970; 1981), которую воспроизводит Уэбб (Webb 1975) (см. далее в этой главе) без теоретического акцента на демографическом давлении и милитаризме. Поэтому ключевая роль ирригации может состоять в существенной интенсификации изоляционистских или заключающих в «клетку» сил доисторического периода. В нашем объяснении причиной являются именно силы, заключающие в «клетку», а вовсе не аллювиальное или ирригационное сельское хозяйство, которые были всего лишь обычной формой этих сил или их индикатором в данную историческую эпоху. Во-вторых, на разных стадиях повествования в этой и следующих двух главах я преуменьшу значение аллювиального и ирригационного земледелия в первых цивилизациях. Мы должны учитывать их отношения со смежными экосистемами и народами, а также стимулирующее воздействие первых на вторые. Я не претендую на собственную оригинальность в этом аспекте (см. последние работы таких ученых, как Адамс (Adams 1981) и Роутон (Rowton 1973, 1976) по Месопотамии, или работы Фланнери и Ратье по Мезоамерике (рассматриваемые в следующей главе). Я только формализую эти акценты при помощи модели пересекающихся сетей власти, рассмотренной в главе 1: экстраординарное развитие цивилизаций в Месопотамии или где бы то ни было еще можно объяснить путем изучения пересекающихся сетей власти, рост которых стимулировали аллювиальное и ирригационное земледелие. В той степени, в которой эти сети могут быть поняты при помощи другой конвенциональной модели «центр — периферия», модель пересекающихся сетей власти ограниченна. В частности, модель сетей власти позволяет нам лучше осознать, что это были цивилизации с множеством акторов власти', они не были унитарными обществами. Номинально они состояли из власти двух уровней: ряда маленьких политических единиц, зачастую городов-государств и более широкого цивилизационного «культурного/регионального» комплекса. Это наблюдение не является моим (Renfrew 1975). Тем не менее оба подхода могут быть использованы в дальнейшем. Пытаясь осмыслить новые находки, археологи часто обращаются к довольно избитым социологическим теориям. Зная это, социолог может попытаться использовать свои теоретические компетенции для реинтерпретации археологических данных. Я проиллюстрирую это на примере разделяемой мной критики в сборнике эссе, посвященном переходу к государственности на примере древнего Нового Света Джонса и Кауца (Jones and Kautz 1981). Среди этих эссе аргумент Коэна и МакНейша в целом схож с моим в описательном смысле. Они с недоверием относятся к эволюционистам и направлены на исследования частных региональных спусковых механизмов к государственному состоянию, основанных на процессах заключения в «клетку», учитывающих региональные различия. Но большинство теоретических эссе в сборнике не могут принять этого в дальнейшем. Они увязают в двух спорах, давно известных социологам. Первый спор разворачивается в эссе Хааса (Haas). Он по понятным причинам возмущен функционалистскими теориями государства и чувствует необходимость в создании того, что он называет «конфликтной» моделью, выстраиваемой вокруг борьбы классов, а не процессов социальной интеграции. Ни один социолог не нуждается в еще одном раунде спора модели «конфликта» против моделей «интеграции», бесконечно ведущегося на протяжении 1950-60-х гг. Современная социология рассматривает эти две модели как диалектически связанные: функционирование создает эксплуатацию, и наоборот. Только в исключительных условиях (с одной стороны, сообщество равных, с другой — захватническая война или война на уничтожение) могут быть выявлены общества, в которых преобладает что-то одно — интеграция или конфликт. Мы не найдем таких примеров, работая с ранними государствами в этой или следующей главе. Второй спор возник в книге двух соавторов — Коу и Китинга (Сое and Keatinge), справедливо обращающих внимание на роль религии в формировании государств в древнем Новом Свете, в частности на способность религии к культурной интеграции значительно больших территорий, чем те, которыми могли управлять древние государства. Это означает, утверждают авторы, что религиозные, культурные и идеологические факторы должны обладать существенной «автономией» в социальной жизни. Во вступлении редактора на этом аргументе сделан особый акцент. Они предполагают разные способы синтеза идеологических и скорее материальных факторов. Следует добавить, что эта тяга к «автономии идеологических факторов» характерна и для других сфер, в которых сотрудничают археология и антропология (например, мнение Шеннана о Стоунхендже см. Shennan 1983). В этом случае я едва ли могу заявить, что мейнстрим теоретической социологии может с легкостью предложить готовое решение. Тем не менее дискуссии между защитниками «автономии идеологических факторов» и материалистами не затихают в социологии уже более полувека. Но я попытаюсь найти решение в томе 3. Ошибка в том, что идеологию, экономику изображают как аналитические идеальные типы, которые актуализированы в обществах как автономные структуры или «измерения» либо «уровни» единого всеобъемлющего «общества». Согласно этой модели можно оценить вклад каждой из них в определение всеобъемлющей структуры общества. Но, судя по описанию Коу и Китинга, ситуация в древнем Новом Свете диаметрально противоположная. Они демонстрируют, что, напротив, различные социальные отношения, в которые вступают люди (отношения производства, торговли, обмена мнениями, супругами, артефактами и т. п.), создают две социопространственные сети взаимодействия, одна из которых — государство — была относительно небольшой, а другая — религия или культура — относительно более широкой. Было бы смешно предположить, что государство не содержало «идеальных» факторов или религия не содержала «материальных». Напротив, они были различными потенциальными основами, составляющими «реальные» и «идеальные» общества. Одна из них — государство — соответствовала социальным потребностям, которые требовали территориально централизованных, авторитетных организаций, которые могли быть организованы только на весьма ограниченных территориях. Другая — культура или религия — соответствовала социальным потребностям, основанным на более широком диффузном сходстве опыта и взаимной независимости. В главе 1 я назвал это трансцендентной организацией (см. заключение к главе 4). Поэтому отношения между идеологическими, экономическими, военными и политическими аспектами социальной жизни целесообразнее рассматривать в социально-пространственных терминах. Общества представляют собой серии накладывающихся друг на друга и пересекающихся сетей власти. Модель, используемая в этой главе, объединяет два основных элемента. Она предполагает, что цивилизация, стратификация и государство появляются в результате импульса, сообщаемого аллювиальным земледелием различным накладывающимся друг на друга сетям социального взаимодействия, представленным в регионах, окружающих аллювиальные земли долин рек. Это вызывает дальнейшее заключающее в «клетку» взаимодействие между аллювием и окружающими его районами, ведущее к интенсификации цивилизации, стратификации и государства, но теперь эти более интенсивные накладывающиеся друг на друга сети власти включают постоянную принудительную власть. Тем не менее такая модель ведет к определенным методологическим трудностям. Хотя мы можем ожидать, что найдем некоторое сходство между аллювиальным земледелием первоначальных цивилизаций, региональные контексты, в которые они были вписаны, существенно различались. Это сокращает общее сходство между примерами первоначальных цивилизаций и тех, которые появились позднее в результате взаимодействия с ними. А поскольку кейсы первоначальных цивилизаций также различаются в других отношениях, мы едва ли сможем механически применить эту (или какую-либо другую) модель ко всем цивилизациям. Именно в силу этих различий я сначала сконцентрируюсь на одном примере — Месопотамии, по которому существует больше всего исторических свидетельств, сочетающем богатство письменных документов с широтой археологических находок. Особого упоминания заслуживают топографические методы исследования Адамса (Adams 1981; Adams and Nissen 1972), предоставившие нам заметно более совершенную базу для обобщений об истории поселений, которые впоследствии стали первыми цивилизациями. На этих данных о Месопотамии я детальным образом проверю модель пересекающихся сетей власти. В следующей главе я сделаю краткий обзор других случаев, чтобы продемонстрировать их основополагающие сходства и различия по сравнению с общей моделью происхождения цивилизации.МЕСОПОТАМИЯ: ИРРИГАЦИЯ И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ
Самые ранние свидетельства ирригации в Месопотамии относятся примерно к 5500–5000 гг. до н. э., задолго до появления на Ближнем Востоке поселений Чатал-Хююк и Иерихона. До них мы обнаруживаем следы довольно больших поселений в поймах рек, которые, по всей видимости, свидетельствуют о широких эгалитарных, смешанных поселенческо-клановых системах, типичных (как мы видели в прошлой главе) для всех без исключения континентов в течение тысячелетий. Более того, до того как появилась ирригация, эти области были относительно отсталыми, даже несмотря на то, что им удавалось достичь стадии ранговых обществ, вероятно, в силу недостатка сырья, в частности камня и дерева. По этой причине ирригация, как представляется, вышла из широко эгалитарной социальной базы, характерной для всех областей. В долинах рек экология имела первоочередное значение. Я приведу детали таких экосистем позднее, в рамках обсуждения тезиса Виттфогеля. В целом решающее значение имело то, что разливающаяся река несла с собой ил и водоросли, которые, оседая, удобряли землю. Именно это и называется аллювием, Если разлив рек удавалось направить на более обширные земельные угодья, можно было ожидать гораздо более высокого урожая зерновых. В древнем мире ирригация — это распространение воды и ила на земли. Почвы, которые увлажняли лишь дожди, давали меньше урожая. В Европе почвы были намного более тяжелыми и часто лесистыми. Их плодородие зависело от вырубки леса, в ходе которой земля переворачивалась и разрыхлялась. И когда лес отступал, как и любая другая растительность в умеренном поясе, верхний плодородный слой почвы восстанавливался сложнее и медленнее. До появления железного топора, плуга, мотыги и лопаты валить большие деревья или поднимать почву с любой глубины было едва ли возможно. На Ближнем Востоке было меньше лесов, и потому почвы были легче, но дождей было намного меньше. Единственным существенным потенциальным преимуществом была возможность использовать речную воду для поливки и удобрения верхнего слоя. Обитатели этих мест обычно жили выше уровня разливов реки. Научились ли они ирригации сами или позаимствовали ее, остается неизвестным. Но в конце концов этой находки оказалось достаточно для начала более активного подчинения природы. Между 5500 и 5000 гг. до н. э. мы находим свидетельства существования искусственных каналов, из которых основные для своего строительства требовали более 5 тыс. часов рабочего времени. Следовательно, мы обнаруживаем их в непосредственной близости от более крупных поселений. Затем в период между 3900 и 3400 гг. до н. э. (который археологи относят к раннему и среднему периоду Урука после основания этого крупного города) произошел сдвиг в структурах населения, которому в то время не было аналогов в мире. Согласно Адамсу (Adams 1981: 75), отныне более половины населения Месопотамии проживало в поселениях, площадь которых превышала 10 гектаров с населением около тысячи человек или более. Произошла урбанистическая революция, которая принесла с собой (по убеждению многих) отличительные черты, характерные для цивилизации. Письменность появилась около 3100 г. до н. э., и начиная с этого времени мы попадаем в реалии истории и цивилизации. В чем заключался этот прорыв и почему он произошел? Прежде чем мы поддадимся соблазну окунуться в привычную историю локальной эволюции, нужно сделать паузу и взглянуть на временную шкалу, которую она подразумевает. Речь идет о постепенной, прерывистой эволюционной модели. Изначально рост был необыкновенно медленным. Потребовалось практически два тысячелетия, чтобы от ирригации перейти к урбанизации: до периода появления раннего Урука модель поселений изменялась весьма незначительно, а ирригация, хотя уже открытая, не была преобладающей сельскохозяйственной техникой. Мы находим следы древней ирригации без каких-либо свидетельств о социальной комплексности или последующей локальной эволюции в совершенно различных местах по всему миру. Историю ирригации, например, на Цейлоне или Мадагаскаре составляли долгие циклы борьбы между деревнями, их вождями/старейшинами и высокогорными княжествами их соседей, где дальнейшее развитие стало возможно только благодаря взаимодействию с уже возникшими более могущественными государствами (Leach 1954; Bloch 1977) — Предположительно Месопотамия обладала собственной, относительно эгалитарной версией доисторических циклов, описанных в предшествующей главе. Медленные темпы развития означают, что ирригация не может служить полным и достаточным объяснением того, что произошло к 5000 г. до н. э. Более вероятно, что, когда прорыв был осуществлен, он также зависел от медленного развития и распространения методов и организации земледелия и животноводства на Ближнем Востоке. Например, у нас есть свидетельства в пользу постепенного роста торговли на большие расстояния по всему региону в 5 и 4 тысячелетиях до н. э. Различные группы медленно увеличивали количество излишков, предназначенных для обмена и поддержания «профессии» ремесленников и торговцев. Ортодоксальные ученые полагают, что «торговля предшествовала остальному», то есть хорошо развитые сети обмена предшествовали формированию государств в исследуемой области (см., например, Sabloff and Lamberg-Karovsky 1976; Hawkins 1977). Если это медленное развитие было таким же, как и в Европе, пишет в первых главах Кристиансен (Kristiansen 1982), то 10% увеличения излишков можно было ожидать лишь ко второму тысячелетию до н. э. Эти цифры условны, но они едва ли передают, насколько медленным было развитие на самом деле. Возможно, развитие прошло несколько порогов в начале четвертого тысячелетия, давших толчок ирригациям, на основе которых были пройдены последующие 500 лет до появления цивилизации. Таким образом, возможности и ограничения локальной экологии, которые теперь должны быть описаны, способствовали появлению ряда социальных сетей, отчасти на них ориентировавшихся. Как было отмечено, следует обратиться к возможностям, предоставленным аллювием и ирригацией. Необходимым условием дальнейшего развития был рост сельскохозяйственных излишков, которому изначально способствовали естественные наводнения и заиливание, а затем ирригация, повышавшая плодородие почвы путем распределения воды и ила на более обширные земельные угодья. В Месопотамии это приняло форму мелкомасштабной ирригации вдоль пологих склонов естественных дамб. Локальная сеть подобных рвов и каналов принесла гораздо больше излишков, чем земли, увлажняемые дождями (rain-watered soil). Это привело к росту населения и его плотности, которые, кроме того, поддерживались земледелием на полях, увлажняемых дождем. Позднее плотность населения достигла 10–20 человек на квадратный километр. В Месопотамии она составляла около10 человек к 3500 г до н- э-> 20 человек к 3200 г. до н. э., 30 человек к 3000 г. до н. э. (Hole and Flannery 1967; Renfrew 1972: 252; Adams 1981: 90). Но излишки продолжали расти темпами, опережающими рост населения, поскольку небольшое число людей было освобождено от сельскохозяйственного производства и вовлечено в ремесленное производство, торговлю и иногда в управленческую деятельность и производство предметов роскоши для первого в истории человечества праздного класса. Но ирригация предполагала не только возможности, но и ограничения. Как только начались улучшения, население оказалось привязанным к территории, заключенным в «клетку». Плодородность почв была выше на фиксированных участках земли, каких не было за пределами долины реки. Это сделало перемещение, связанное с подсечно-огневым земледелием, характерное для доисторических периодов, невозможным. Но в Месопотамии эта [аллювиально-экологическая] «клетка» была не так ярко выражена, как в Египте. В первой обрабатываемые при помощи ирригации территории всегда были меньше тех, которые потенциально могли быть использованы для ирригации. На самых ранних этапах для ирригации была открыта лишь узкая полоса, непосредственно окружавшая основные речные каналы. По всей видимости, та же модель была характерна для китайской и индусской цивилизаций[27]. Напротив, земли, расположенные вокруг Нила, удобрявшего лишь узкие котлованы земли, были раньше полностью заселены. Территория также привязывала к себе людей, поскольку предполагала значительные инвестиции труда для обеспечения излишков, — социальная «клетка». Ирригация требовала инвестиций в кооперативный труд с другими, строительства памятников, сохраняющихся на многие годы. Ирригация приносила большие излишки, распределявшиеся между участниками, связывая частные инвестиции и артефакты. Использование рабочей силы в больших количествах (труд сотен, если не тысяч человек) было событием не частым, но достаточно регулярным и сезонным. Централизованная власть также была полезной для управления подобными ирригационными схемами. Территории, сообщество и иерархия соответствовали ирригации в гораздо большей степени, чем сельскому хозяйству на землях, увлажняемых дождем, или животноводству. Но давайте не будем концентрироваться на поймах или ирригации. Аллювиальное сельское хозяйство также предполагало региональную среду: расположенные неподалеку вверх по течению горы, получавшие значительное количество дождевой воды или зимнего снега; водопады в долинах с пустынями, горы или полузасушливые земли между ними; болота и топи на равнине. Аллювиальные земли располагались в регионах, отличавшихся огромными экологическими контрастами. Это обстоятельство было решающей причиной возникновения социальных границ и взаимодействия, отличающегося, скажем, от взаимодействий на относительно однородной местности Европы. Эти контрасты, очевидно, и представляют собой способ развития цивилизации. Рассмотрим другие побочные экономические последствия ирригации в этих контрастных экосистемах. Во-первых, в долинах рек было много топей, травы и зарослей камыша, неиспользуемых участков рек и всего один необыкновенно полезный сорт дерева — финиковая пальма. Ирригация удобряла пальму, создавая инвестиции в расширение ее посадок и в обмен ее продукции с «периферийными» экологическими нишами. Охота на дичь, диких свиней, рыболовство исбор тростника вместе с земледелием приводили к разделению труда между слабыми родовыми структурами охотников-собирателей и оседлыми структурами живущих в деревнях, заключенных в «клетку» ирригации земледельцев. Последние были главным партнером этих отношений, поскольку у них был внутренний импульс к развитию. Кроме того, чуть дальше на периферии было много земли, которая время от времени удобрялась разливами реки или увлажнялась дождем. Это способствовало развитию некоторого земледелия и скотоводства, дававшего мясо, кожу, шерсть и молочные продукты. Периферия шумеров была разнообразной. На западе и юго-западе лежала пустыня, населенная кочевниками-животноводами; на юго-востоке — болота и Персидский залив; на востоке, вероятно, зависимые ирригационные долины Хузестана; на северо-западе — неиспользуемые земли среднего течения Тигра и Евфрата, а между ними — пустыня; к северо-востоку — плодородный коридор вплоть до реки Дияла, до увлажняемых дождями равнин Месопотамии (которые позднее стали Ассирией), дающих хорошие урожаи озимых зерновых, и постоянно увлажняемые дождями горы Таурус и Загрос. Социальные контакты также были самыми разнообразными: пустынные животноводы и их шейхи; примитивные, со слабой структурой деревни, расположенные на болотах; соперничающие друг с другом поселения, практикующие ирригацию; развитые и относительно эгалитарные деревни земледельцев и горные племена пастухов. Ирригация предполагала наличие специалистов в производстве продукции, особенно шерстяных тканей, а также обмен с соседями. Их продукцию продавали, обменивали на камень, дерево и драгоценные металлы. Реки были пригодны для судоходства вниз по течению, особенно когда ирригационные каналы регулировали их разливы. Поэтому реки были одинаково важны и как средство ирригации, и как каналы коммуникации. С момента своего появления торговля на большие расстояния предшествовала консолидации государства. Иностранные товары делились на три основных типа: (1) сырье, перевозимое по рекам на большие расстояния, например ливанский лес и камни из горных каменоломен Малой Азии; (2) животные и одежда, получаемые от торговли на средние расстояния от смежных животноводов и пастухов; (3) торговля предметами роскоши на большие расстояния по рекам, морям или даже при помощи караванов, к которым относились товары кустарной промышленности с высокой стоимостью на единицу массы, как правило, из драгоценной руды из горных регионов, а также из других центров развития цивилизаций — речных поселений, морских портов или пустынных оазисов, раположенных по всему Ближнему Востоку — от Египта до Азии (Levine and Young 1977). Подобные взаимодействия улучшали не только возможности и власть ирригации, но и возможности и власть социальной деятельности, параллельной ей. Совершенствуя ирригационную «клетку», они также оказывали воздействие на диффузные социальные сети периферии. Большинство из них были более эфемерными, поскольку территориальная и социальная фиксация их сетей была значительно меньше по сравнению с сетями, практикующими ирригацию. Контакт и взаимозависимость в известной степени привязывали к земле, зачастую под слабым господством практикующих ирригацию. Марфоу (Marfoe 1982) предположил, что изначальным колониям Месопотамии по поставке сырья в Анатолию и Сирию была предоставлена возможность обзавестись местной автономной политической системой. Они были подчинены прочим локальным политическим системам, власть которых усиливалась в результате торговли с Месопотамией. Торговля дала Месопотамии преимущества «неравного обмена». Месопотамская продукция кустарной промышленности, ремесел, а также сельскохозяйственные продукты, требующие больших инвестиций, обменивались на драгоценные металлы, престижные товары, полезные инструменты и оружие, а также служили относительно генерализованными средствами обмена. Но логистика контроля была сложной, никакого устойчивого контроля напрямую от Месопотамии не осуществлялось. В этой главе мы не увидим никаких инноваций ни в логистике, ни в диффузии власти (определение этих понятий см. в главе 1). Когда впервые появилось государство, оно было крошечным городом-государством. Ресурсы его власти были сосредоточены на контроле над центром, а не на экстенсивном контроле. Поэтому стимулирующее воздействие, которое развитие Месопотамии оказывало на соседей, порождало скорее соперников, а не клиентов. Урбанизации и формирование автономных государств множились на всей территории «Плодородного полумесяца»[28]— от Средиземноморского побережья через Сирию, Анатолию и дальше на восток к Ирану. Эти отношения можно назвать отношениями «центра» и «периферии», как считают многие современные ученые. Но ядро не могло контролировать периферию, к тому же ее развитие было необходимо для ядра, и наоборот. Рост цивилизации включал все эти слабо связанные и частично автономные сети власти. Подобным образом метафору Роутона (Rowton 1973, 1976) о демографическом росте цивилизации (хотя она отражает отношения между городскими ирригаторами, ремесленниками и последующими волнами кочевых и полукочевых народов) часто неверно интерпретируют. Как отмечает Адамс (Adams 1981: 135–136), эти два образа жизни не были в те времена столь резко разведены. Они взаимно пересекались в «структурный и этнический континуум», обмениваясь материальной и культурной продукцией, активизируя и преобразуя два образа жизни и создавая потенциально могущественные «приграничные» группы, которые везде могли мобилизовать членов.ПОЯВЛЕНИЕ СТРАТИФИКАЦИИ И ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД ОКОЛО 3100 ГОДА ДО Н. Э.
Взаимодействие ирригации с ее региональными факторами привело к двум связанным тенденциям заключения в «клетку» — возникновению квазичастной собственности и государства. Возникновению частной собственности способствовали территориальная и социальная фиксированность. Поскольку собственность возникла из смешения широко эгалитарной деревни и клана, она приняла форму права собственности расширенной семьи или даже клановой собственности, а не индивидуального права. Ключевые экономические ресурсы были фиксированы в форме постоянного обладания (владения, держания) оседлой семейной группы. Подобные аллювиальные земли были основным источником шумерского богатства. Они были одновременно главным ресурсом производства излишка и тем самым местом, где был сосредоточен обмен с другими экосистемами. Ресурсы были сконцентрированы на этой земле, но распространялись через другие сети власти. Указанное различие важно, поскольку оно позволяло тем, кто контролировал эту землю, мобилизовать непропорционально большее количество коллективной социальной власти и превращать ее в дистрибутивную власть, используемую против других. Давайте вспомним две теории происхождения стратификации, которые обсуждались в главе 2, — либеральную и ревизионистскую марксистскую. Либерализм утверждает, что изначальный источник стратификации заключается в межличностных различиях в способностях, трудолюбии и удаче. В качестве общей теории это абсурдно. Но либерализм более релевантен применительно к тем случаям, когда обрабатываемые по соседству земельные участки значительно различаются по своей производительности, урожайности. В древних ирригационных системах случайная близость к удобряемой почве приводила к большим различиям в производительности (как подчеркивал Флэннери (Flannery 1974), в этом заключалась основная причина последующей стратификации). Но необходимо отказаться и от индивида, столь обожаемого либерализмом. Это была семейная, сельская собственность и в меньшей степени клановая собственность. У ревизионистской марксистской теории мы заимствуем понятие эффективного обладания этой собственностью деревней или родовыми элитами. Дело в том, что помимо прочего ирригация усиливала сотрудничество более крупных единиц, чем индивидуальные домохозяйства. Когда столь много людей, обрабатывающих и защищающих землю, были коллективно организованы, индивидуальное обладание землей или обладание со стороны домохозяйств не имели оснований. Согласно шумерским записям после 3000 г. до н. э., в отличие от большинства доисторических поселений ирригационные земли разделялись на участки, значительно превосходящие размер тех, которые могли обрабатываться отдельными семьями. Одной из таких форм было частное владение расширенной семьи. Родственные и местные племенные отношения создавали ранговый авторитет управления ирригацией, что, возможно, в конечном итоге и привело к концентрации частной собственности. Еще одной основой для постоянного, устойчивого неравенства, вытекающей из удачного или распланированного владения землей, было обладание стратегическим положением в точке пересечения с более диффузными сетями. Места слияния рек, водоканальные броды, а также перекрестки и колодцы предлагали возможность контроля, реализуемого через торговые площади и организацию хранения, а также «защитную ренту» для соседних поселений. Некоторые ученые приписывают большую часть шумерской социальной организации стратегическим факторам (например, Gibson 1976) — Поскольку реки были так важны для коммуникаций, основные стратегические позиции располагались в центре аллювиальных земель. Таким образом, подобные неравенства по воле случая проистекают не просто из дифференцированного доступа к воде или плодородным почвам. Они также предполагают наложение друг на друга, с одной стороны, фиксированных прав собственности, обусловленных ирригацией, с другой — более текучих, рассеянных, не привязанных к территории прав в отношении излишков, которые также возникали в различающихся экосистемах — с третьей стороны. Концентрация населения, богатства и власти в первом случае происходила быстрее, чем в последних. Различия между ними росли экспоненциально (Flannery 1972). Главные акторы власти в первом случае установили гегемонию над обоими секторами. В конечном счете стратификация возрастала именно по этой оси. По мере того как излишки росли, некоторые семьи или деревни, принадлежавшие ядру, обладавшие собственностью и практиковавшие ирригацию, полностью или частично выбывали из числа прямых сельскохозяйственных производителей, начиная заниматься ремеслами, торговлей или государственными делами. Их заменили «зависимые работники», получившие от них землю и довольствие. По всей видимости, «зависимыми работниками» в основном были люди из соседних областей и в меньшей степени (что более важно) из рабов (как правило, военнопленных из отдаленных регионов). Наши точные знания об этом процессе датируются более поздним временем, чем 3000 г. до н. э., но, по всей вероятности, относящимся к истоками урбанизации Qankows-ka 1970). Это было горизонтальное расслоение, проходящее параллельно поймам рек, между центром и частями периферии. Второе расслоение внутри ядра, в соответствии с которым ранговый авторитет родовых и деревенских лидеров конвертировался в квазиклассовые позиции по отношению к их собственным родственникам и членам деревни, могло сопровождать горизонтальное расслоение. Все это говорит в пользу решения обозначенной проблемы труда авторами, которые относятся к милитаристской школе (например, Gumplowicz) и о которых я говорилл в главе 2. Они утверждали, что различие между землевладельцами и безземельными рабочими не могло возникнуть спонтанно внутри родовой или поселенческой группы, поскольку родство не позволяло родственникам эксплуатировать друг друга. Поэтому, утверждали они, это различие могло проистекать только из завоевания одной родовой группы другой. Тем не менее происхождение собственности в Месопотамии, очевидно, не сопровождалось организованным насилием. Доминировало не рабство, а статус полусвободного труда (Gelb 1967). Искусство позднего Урука изображает солдат и заключенных, но эти мотивы распространены не так широко, как в более поздние периоды. Укрепления появляются реже, хотя археологи не спешат делать выводы исходя из отсутствия подобных находок. В целом, как отмечает Дьяконов (Diakonoff 19712), в ранней Месопотамии фактически не было милитаристской (или скорее любой неэкономической) статусной дифференциации. В любом случае милитаристский аргумент предполагает, что существовали четко разграниченные между собой общества, в то время как четких социальных границ все еще не было — они были размыты. Преобладание центра над периферией с сопутствующими патрон-клиентскими отношениями, если центр обладал исключительными правами собственности на плодородные земли, могло привести к более или менее добровольным формам трудовой субординации. Периферия могла испытывать больший рост населения, чем могло обеспечить ее сельское хозяйство, вместе с тем довольствие, доступное в виде заработной платы для безземельных рабочих в ядре, могло обеспечивать более комфортный уровень жизни, чем на периферии. Подчинение могли стимулировать вожди или старейшины периферии — основные поставщики рабов и подневольных работников в более развитые страны на протяжении всей истории. Таким образом, истоки стратификации становятся более понятными, если мы откажемся от «внутреннего» объяснения на основе представлений об унитарных обществах[29]. Такая стратификация возникала на протяжении конца четвертого тысячелетия. Захоронения и архитектура демонстрируют рост дифференциации богатства. После 3000 г. до н. э. неравенства повлекли за собой юридически признанные различия в доступе к собственности на землю. Перед нами четыре группы: ведущие семьи с доступом к ресурсам храмов и дворцов, обычные свободные индивиды, полусвободные зависимые рабочие, небольшое количество рабов. Но для того чтобы всесторонне это понять, необходимо вернуться ко второму великому социальному процессу, порожденному социальным и территориальным заключением в «клетку», — возникновению государства. Те же факторы, которые способствовали дифференциации собственности, активизировали территориально централизованную власть, то есть государство. Управление ирригацией также сыграло в этом заметную роль. Обмен продукцией на территории, находившейся во владении более могущественной стороны, а также стратегическая роль транспорта означали, что перераспределительные хранилища или площадки обмена будут централизованы. Чем больше ресурсов централизовано, тем большей защиты они требуют, из чего следует и военная централизация. Дисбаланс между сторонами обмена создавал другие централизованные политические функции, поскольку практиковавшие ирригацию искали более рутинно упорядоченные процедуры обмена, чем те, которые могла предложить существующая на тот момент социальная организация скотоводов и охотников-собирателей. В более поздней истории это называют данью, авторитетно регулируемым обменом, в рамках которого обязательства обеих сторон выражены формально и сопровождаются ритуалами дипломатии. Это также имело далеко идущие последствия для скотоводов и охотников-собирателей — цивилизовало их. Как только контакты становились регламентированными, происходила диффузия практик. И хотя практикующие оседлое ирригационное сельское хозяйство любили изображать себя «цивилизованными», а других — «варварами», имели место растущее сближение и взаимозависимость. Вероятно, это происходило на границах аллювиев, где практикующие ирригацию, охотники, рыболовы и даже некоторые скотоводы сближались друг с другом. Одной из основных форм их взаимозависимости в период около 3000 г. до н. э. могло стать появление перераспределительного государства. Так, было разработано сложное централизованное хранение товаров, и это часто предполагало, что обмен осуществлялся не через рынок, а через авторитетное распределение стоимостей централизованной бюрократией. Но авторы, которые подчеркивали это (например, Wright and Johnson 19755 Wright 1977), не рассматривали ее исключительно в функциональных терминах «теории перераспределяющего вожде-ства» (которая обсуждалась в предыдущей главе). Они делают акцент на перераспределении не как на рациональном решении проблемы обмена между различными экологическими нишами при отсутствии развитых рыночных методов, а скорее на том, как при помощи перераспределения ирригационное ядро навязывало периферии отчасти произвольную власть. Другие авторы (например, Adams 1981: 76–81) также полагают, что подобная модель «центр — периферия» является слишком жесткой. Мы должны представлять более слабую гегемонию патрона над клиентом. Таким образом, государство возникло из слабых патрон-клиентских отношений, так же как и социальная стратификация. Централизация также поддерживалась вертикальными связями вдоль рек. Внутреннее ядро пойм рек начинало заполняться, и поселенческие или родовая группы начинали притираться, совмещаться друг с другом. Они требовали относительно фиксированных регулируемых отношений. Авторитет, долгое время присутствовавший в родовых или поселенческих группах, также был необходим для отношений между различными поселениями. Это привело к образованию второго уровня более крупных квазиполитических образований. У шумеров определенный тип церемониального центра (второй из трех индикаторов цивилизации Ренфрю) — храм, который, по всей видимости, ассоциировался с этим процессом, часто выступал арбитром в отношениях между поселениями. Храм играл общую важную роль во всех ранних цивилизациях — вопрос, к которому я вернусь в заключении к главе 4. Стюард (Steward 1963: 201–202) отмечал, что экстенсивная социальная кооперация в ирригационном земледелии была фактически повсеместно связана с сильным жречеством (духовенством) в Новом Свете, так же как и в Старом. Он утверждал, что относительно эгалитарные группы, вовлеченные в кооперацию, испытывали большую потребность в значительной нормативной солидарности. Современные ученые отрицают религиозные коннотации понятия «жречество» в Месопотамии. Они рассматривают жрецов в качестве более светских, административно-политических, дипломатичных руководителей ирригации и перераспределения. Благодаря процессу, детали которого нам доподлинно не известны, храм возникает как первое государство в истории. Развитие ирригации требовало все более интенсивной трудовой кооперации. То, какая именно территориальная область была коллективно взаимосвязана в рамках гидравлического сельского хозяйства (см. далее), является спорным вопросом. Но предупреждение наводнений и контроль за ними, строительство плотин, дамб и ирригационных каналов требовало и регулярных, и периодических в моменты случайных природных кризисов инвестиций в кооперацию труда между поселениями с некоторой степенью отложенной отдачи. Например, инвестиций труда с отложенной отдачей в кооперацию труда от всех областей, расположенных вокруг поймы реки и вдоль ее берега на протяжении нескольких миль. Это было мощным стимулом к кооперации более крупных по сравнению с родовыми или поселенческими группами политических единиц. Основной функцией шумерского храма вскоре стало управление ирригацией и оставалось ею на протяжении тысячелетий[30]. Храмовые государства практически не были принудительными. Трудно с уверенностью сказать, но, с точки зрения Якобсена (Jacobsen 1943, 1957), первыми постоянными политическими формами были примитивные демократии, в которых собрания, состоявшие по большей части из свободных совершеннолетних мужчин города, принимали основные решения. Якобсен предполагает существование двухпалатного законодательного органа: верхней палаты старейшин и нижней палаты свободных мужчин. Хотя такая гипотеза может выглядеть несколько идеализированной, поскольку основными источниками данных являются более поздние мифы, ее вероятной альтернативой выступает только менее жестко организованная и более крупная олигархия, состоявшая из глав богатейших семей и, вероятно, из глав территорий, подконтрольных городу. На основе исторических данных мы можем лишь заключить, что до 3000 г. до н. э. существовали кратковременные политические системы, при помощи которых был осуществлен труднодостижимый переход от рангового авторитета (authority) к стратифицированному государству. Но этот переход происходил в меньшей степени в условиях принуждения управляемых со стороны управлявших, чем в условиях принуждения в смысле заключения в «клетку» роста фокусированных, неизбежно интенсивных, централизованных социальных отношений. Переход к принуждению и эксплуатации был медленным. Различия между ведущими семьями и остальными, а также между свободными и зависимыми или рабами были «абсолютно ранговыми». Но ранги в рамках богатейших семей были «относительными» и изменчивыми. Ранг значительно зависел от близости к экономическим ресурсам, которые сами по себе были изменчивыми. Доказательств ранжирования на основе «абсолютного» генеалогического критерия, такого, например, как происхождение от богов или героических предков, нет. В этом отношении появление стратификации и государства было медленным и прерывистым. Тем не менее два процесса — рост государств и частной собственности-были связаны друг с другом и в конечном итоге оказывали друг другу взаимную поддержку. В рамках современного капитализма высокоинституционализированные права частной собственности и не вмешивавшиеся в эти права государства нам следует рассматривать как антитезу. Тем не менее в рамках большинства исторических периодов это было бы ошибочным, как мы вновь сможем убедиться. Частная, семейная собственность и государство развивались вместе, запущенные одними и теми же процессами. Когда появляются первые письменные свидетельства (таблицы, найденные при раскопках древнего города Лагаш), мы обнаруживаем комплексную смесь трех форм собственности на землю, находившуюся в распоряжении храма. Это были поля, принадлежавшие богам города — ими распоряжались чиновники храма, — поля, ежегодно сдаваемые храмом в аренду индивидуальным семьям, а также поля, предоставленные в собственность индивидуальным семьям на периферии и не облагаемые рентой. Первая и третья формы обычно были значительно больших размеров, отличались крупномасштабной коллективной и частной собственностью, использовали зависимый и в меньшей степени рабский труд. Записи свидетельствуют, что коллективная и частная собственность постепенно сливались, по мере того как стратификация и государство развивались более интенсивно. Доступ к земле постепенно был монополизирован единой, но все еще репрезентативной элитой, которая контролировала храмы и крупные поместья и состояла на священнической, гражданской и военной службе. Интегрированная природа земледелия в условиях ирригации, а также обмен и диффузия между ирригационными и окружавшими экосистемами создали слитые воедино структуры авторитета (authority) в родовых группах, деревнях и развивавшихся государствах. Поскольку мы не находим следов политического конфликта между предположительно частными и коллективными аспектами, это заставляет представлять их в качестве единого процесса. Таким образом, параллельно развитию организации перераспределяющего государства, о котором известно благодаря храмовым табличкам Лагаша, вероятно, шло развитие организации частного имущества, которое документально не фиксировалось. В бюджете храмов были сложным и детальным образом предусмотрены и организованы производство и перераспределение, а именно: столько-то на производственные издержки, на потребление храма, столько-то налоговых поступлений, столько-то на семенной фонд и т. д. Это и есть перераспределяющее государство в том смысле, в каком его понимал Поланьи (см. главу 2). Но весьма вероятно, что те же принципы применялись и в частном секторе. Государство было домохозяйством с большой буквы, мирно сосуществовавшим с домохозяйствами на родовой основе[31]. Объединение и заключение в «клетку» авторитетных отношений имели еще одно последствие: появление третьего индикатора цивилизации Ренфрю — письменности. Если мы тщательно проанализируем истоки письменности, мы осознаем огромную роль изначального процесса цивилизации. Шумер являет собой важнейший пример этого, поскольку его записи хорошо сохранились, а также пример спонтанного развития письменности в Евразии. Другие независимые случаи возникновения письменности в Евразии могли испытать влияние шумеров. В любом случае две разновидности письменности Индской цивилизации и минойского Крита (линейный вид письменности) все еще остаются нерасшифрованными, тогда как в оставшихся двух сохранился только базовый набор письменности. В Китае династии Шан сохранились лишь записи обращений ранних правителей к оракулам, и только потому, что они были нанесены на черепаховых панцирях или подобных костяных поверхностях. Это свидетельствует об основной роли богов в разрешении политических и военных проблем. В Египте мы располагаем погребальными надписями на металле и камне, то есть религиозными надписями, в то время как большинство надписей на папирусе или коже были утеряны. В них мы обнаруживаем смесь из религиозных и политических вопросов. Во всех прочих примерах возникновения цивилизаций письменность также была импортирована. И это важно. Письменность технически полезна. Она может содействовать достижению целей и стабилизировать знаковые системы любой господствующей группы — священников, воинов, торговцев, правителей. Более поздние случаи, таким образом, демонстрируют огромное разнообразие отношений власти, имплицитно связанных с развитием письменности. Поэтому относительно точности причин возникновения грамотности мы зависим от шумеров. Первые записи шумеров были сделаны на цилиндрических печатях, на поверхности которых картинки вытачивались таким образом, чтобы оттиск мог оставаться на мягкой поверхности. Это большая удача для нас, поскольку оттиски на глине пережили века. Учитываемые при помощи письменности товары обменивались, продавались и перераспределялись, к тому же на них часто появлялась отметка о том, кому они принадлежали. Эти рисунки развились в пиктограммы — упрощенные стилизованные изображения объектов, наносимые при помощи тростниковых палочек на глиняных табличках. Постепенно они были упрощены до идеограмм — более абстрактных изображений, применяемых для обозначения классов объектов, а затем звуков. Все в большей степени они стали получать свою форму от технически разнообразных способов делать пометки при помощи клинообразно нарезанной палочки, а не от тех объектов, которые изображались. По этой причине мы называем их клинообразными знаками, подразумевая клинопись. В рамках этого периода развития, датируемого 3500–2000 гг. до н. э., подавляющее большинство из более чем 100 тыс. уцелевших записей были реестрами товаров. Реестровый список действительно стал общей темой культуры: вскоре мы находим списки концептуальных классификаций всех родов объектов и имен владельцев. Позвольте мне привести относительно короткий список, чтобы сформировать представление о письменности шумеров. Он относится к третьему тысячелетию до н. э., третьей династии Ур, архиву Дрехема: 2 ягненка (и) 1 молодая газель (от) правителя Ниппура; 1 ягненок (от) Гирини-иса, надсмотрщика; 2 молодые газели (от) Ларабум, надсмотрщика; 5 молодых газелей (от) Халлиа; 5 молодых газелей (от) Асани-у; 1 ягненок (от) правителя Марада; переданы. Месяц поедания газелей; год, когда города Симурум (и) Лулубум были разрушены в g-й раз В день 12-й [воспроизводится, как и во многих работах других авторов, в работе Канга (Kang 1972)]. В основном мы узнаем о существовании надсмотрщиков и правителей, производителей и пастухов, шумерском календаре и даже о повторяющемся разрушении городов от клерков и бухгалтеров. Они в первую очередь были заинтересованы в сохранении правильной системы учета газелей и ягнят, а не в создании эпической истории своего времени. Из этих свидетельств следует, что их храмы были всего лишь декорированными хранилищами, а описывали это в большей степени клерки, чем жрецы. Но тем не менее это были важные склады, находившиеся в самом центре производственно-распределительного цикла. Списки фиксировали отношения производства и перераспределения, а также социальные права и обязанности, особенно в отношении собственности. Более сложные списки также фиксировали меновую стоимость различных товаров. В отсутствие денежного обращения они сосуществовали с драгоценными металлами как общепризнанные средства обозначения стоимости. Склады были в самом центре шумерских организаций власти. По всей видимости, боги были фундаментальными защитниками таких складов. В рамках склада права частной собственности и центральное политическое господство сливались в единое целое, выраженное как набор печатей и в конце концов как письменность и цивилизация сами по себе. Позднее письменность была превращена в рассказывающую мифы религию. Но ее первой и всегда основной целью были стабилизация и институционализация возникновения двух сливавшихся авторитетных (authority) отношений: частной собственности и государства. Это был технический вопрос, подразумевавший отдельную специализированную позицию писца. Грамотность не распространялась даже среди правящего слоя в целом. Все более абстрактная природа письменности могла сделать ее все менее понятной для любого, кроме писца. Указанные техники были также ограничены определенными централизованными локациями. Большинство табличек были тяжелыми и непригодными для перевозки. Они требовали расшифровки храмовыми писцами. Поэтому сообщение не могло быть распространено по всей социальной территории. Люди, зависевшие от них, фиксировали свои права и обязанности в центре маленького города-государства. Хотя записать права на власть означало объективировать, «универсализировать» их (в терминах главы 1), степень универсализма все еще остава-рии их распространения. К тому моменту, когда они начинали встречаться в исторических записях, вероятно, полмиллиона обитателей Южной Месопотамии были частью единой цивилизации, хотя она и включала множественность акторов власти. Они могли говорить на одном языке. Их профессиональные писцы использовали общую иероглифическую запись, описывали торговлю при помощи идентичного списка слов и провозглашали, что они действительно являются одним народом — шумерами. Однако непосредственная природа их единства, коллективной идентичности и идеологии была далеко не ясна. Наше доказательство на основе письменности не лишено двусмысленности. Как утверждает Дьяконов, «ни одна из этих древних систем письменности не была разработана для передачи высказываний речи напрямую, как они были выражены в языке; они были всего лишь системами помощи памяти, используемыми в основном для административных целей (и позднее в определенной степени в культе)» (Diakonoff 1975: 103). А это означает, что люди, товары, права и обязанности которых регистрировались при помощи письменности, изначально даже не говорили на одном и том же языке. Подобный скепсис может показаться большинству ученых слишком радикальным, поскольку общие языковое и культурное ядра развивались в один и тот же момент времени. Но, во-первых, они всегда сосуществовали с языком и культурой других групп и, во-вторых, их ядро было не унитарным, а «федерально» или «сегментированно» культурным. Шумеры не были единственным «народом» своего региона. Некоторые авторы выдвигают гипотезы о коренных местных народах, с которыми интегрировались шумерские иммигранты. Более достоверным является существование по меньшей мере еще двух «народов», которые также стали цивилизованными. Первым был народ области, известной как Элам, в 300 километрах к востоку от Хузестана. Его истоки находятся между тремя реками, хотя доказательства в пользу ирригации здесь менее очевидны (Wright and Jonson 1975). Его более поздний доисторический период или ранняя история неоднозначны, поскольку в них чередуются периоды автономного развития и периоды огромного влияния шумеров. Не ясно, возникло ли их государство независимо. Но язык Элама был другим, к тому же он не был политической частью Месопотамии. Вторым «народом» были семиты. Они, по всей вероятности, были более многочисленной и широко расселенной группой арабского происхождения. Среди них по крайней мере две подгруппы — аккадцы и эблаиты развились в письменную цивилизацию к северу от шумеров. Существенным стимулом к этому были шумерская торговля и даже колониальная деятельность. Вокруг Эблы развивались сложные автономные города-государства, датируемые серединой третьего тысячелетия до н. э. Поскольку они располагались дальше от шумеров, им удалось дольше оставаться независимыми. Соседние аккадцы проникали в ряды шумеров сначала как зависимые работники, затем как военные помощники и, наконец, около 2350 г. до н. э. как завоеватели (см. начало главы 5). До 2350 г. до н. э. у нас нет свидетельств о столкновениях между шумерами и аккадцами. Имеются две правдоподобные интерпретации отсутствия конфликтов: либо шумеры обладали гегемонией над аккадцами и охраняли их преданность и зависимость без организованного насилия, либо ни шумеры, ни аккадцы не были совершенно различными этническими группами и существовали области пересечения между этими двумя социальными идентичностями. Вполне вероятно, что развитие шумеров также цивилизовало Аккад и затем более поздние (изначально племенные?) лидеры использовали клинообразную письменность и стали включаться во властную политику и идентичность шумеров. Многие дальнейшие параллели говорят сами за себя. Например, в главе 9 мы увидим, что идентичность «римлянин» успешно использовалась элитами больших конгломератов изначально отдельных народов. По этим причинам мы сомневаемся, была ли идентичность «шумер» четкой или совпадающей с определенной границей цивилизованной территории. Кроме того, шумерская культура не была унитарной. К тому времени как шумерская религия и мифология были записаны (вероятно, к моменту их завоевания аккадцами в середине третьего тысячелетия до н. э.), она была федеральной или сегментарной с двумя отдельными уровнями. Каждый город-государство имел собственное божество-покровителя, жившее в его храме, «владевшее» городом и предоставлявшее свое покровительство. Тем не менее каждое божество обладало признанным домом в общем пантеоне шумерских божеств. Ану, позднее владыка небес, опекавший королевскую власть, обитал в У руке, как и его супруга Инанна. Энлиль, владыка земли, обитал в Ниппуре. Энки, владыка воды и божество, испытывавший огромную симпатию к людям, жил в Эриду. Нанна, лунное божество, — в Уре. Каждому из важных городов-государств принадлежало свое место, и многие выдвигали различные требования превосходства в пантеоне. Какого бы рода конфликты ни происходили между городами, они регулировались идеологией и, вероятно, дипломатическими практиками пантеона. По этой причине Ниппур — дом совета богов, возглавляемого Энлилем, играл определенную раннюю роль в урегулировании споров. Как в современных отношениях между национальными государствами, некоторая степень нормативного регулирования существовала и между отдельными государствами. Были и военные сражения, но существовали определенные правила войны. Были споры вокруг границ, но имелись процедуры их урегулирования. Единая цивилизация без каких-либо четких границ включала множество акторов власти в рамках геополитической, дипломатически регулируемой организации власти. Отметим, что около полумиллиона людей считали себя шумерами, и лишь приблизительно 10 тыс. координировались первыми городами-государствами, первыми централизованно регулируемыми обществами. Но как возникли эти диффузные «нации» или «народы»? «Народы» путешествуют по всем страницам книг о древнем мире. Но в силу того что в нашу эпоху мы принимаем экстенсивные народы как нечто само собой разумеющееся, мы не испытываем остаточного изумления от тайны их появления. Но использовать этнографию XIX в. и настаивать на том, что шумеры был этнически однородными благодаря членству в общем генофонде, решительно некорректно. К тому же в этом есть параллели с современным национализмом. Даже несмотря на смешанные браки, границы современных национальных государств создают некоторую степень расщепления, но их размера или продолжительности их существования недостаточно, чтобы создать генофонд или расу, столь горячо любимую современными идеологами. И это было еще менее вероятным в доисторические времена. В любом случае, даже если в доисторический период существовали ограничения на смешанные браки, вопрос в том, как объяснить происхождение этих ограничений, учитывая, что никакой экстенсивной авторитетной власти по их ограничению (в отличие от современных государств-наций) существовать не могло. Народы, расы и племена были социально сконструированы. Они не существовали изначально. Они — продукт ограниченных властных взаимодействий в течение долгого периода между людьми, которые заключены в контейнер внутри границ. В случае первых автономно возникших цивилизаций основной границей было социальное использование различавшихся смежных экосистем. Ирригация стала тем видом социальной деятельности, который усилил экологические барьеры. В Древнем Египте, где практически никто не мог жить за пределами долины Нила, этот барьер стал практически абсолютным, то же касается и идентичности «египтянин» (что я утверждаю в главе 4). В Месопотамии и других евразийских цивилизациях речных долин заключение в «клетку» было не столь абсолютным. В течение нескольких веков различные ядра и части периферий, вероятно, развивали общую культурную идентичность. Не «нации» в современном смысле слова, а, возможно, то, что Энтони Смит (Smith 1983) назвал «этносом» — слабая, но тем не менее в полном смысле слова коллективная идентичность, подкрепляемая языком, мифом об общем происхождении и изобретенной генеалогией. Археологические находки не могут полностью подтвердить (или опровергнуть) это. Возникновение шумеров все еще является предметом споров (Jones 1969 делает обзор полемики). Но я добавлю мою собственную гипотезу: «они» не существовали как коллективная организация до урбанистической революции, но стали ею в силу появления двух взаимосвязанных вещей: во-первых, горизонтальной зависимости вдоль речных пойм ирригаторов, охотников, рыболовов и некоторых животноводов; во-вторых, вертикальной зависимости, поскольку каждый из них располагался вдоль по течению реки. Эта гипотеза соответствует сегментарной, двухуровневой природе культуры и отсутствию у нее отчетливых внешних границ, а также вытекает из одного из центральных аргументов этой главы: путь к цивилизации не был просто продуктом тенденций внутри ирригационного ядра. Импульс из ядра выходил наружу горизонтально и вертикально, вокруг и вдоль речных систем. Поскольку это происходило на фоне изначально слабых, пересекающихся социальных сетей, импульс не мог ограничиваться узким территориальным ядром. Хотя одним из его последствий было заключение людей в «клетки» маленьких городов-государств, другим — усиление сетей взаимодействия на огромных территориях. Последнее в отличие от первого не было территориально и социально фиксированным. На наружных краях, где поймы рек граничили с пустынями или высокогорьем, культурная идентичность была весьма нечеткой. В дальнейшем я предполагаю, что это было основным экологическим и культурным паттерном древнего Ближнего Востока. Разбросанные по всему региону, росли различные сегментированные концентрации населений, состоявших из десятков тысяч человек, практиковавших ирригацию в долинах рек и оазисах, отделенных друг от друга степями, горами, равнинами. Это контрастировало с Европой, где, даже несмотря на большее распределение населения по различным пригодным экосистемам, социальные структуры не были жесткими, необходимая степень заключения в «клетку» отсутствовала и культурные идентичности были сегментированы. Именно по этой причине цивилизации зародились на Ближнем Востоке, а не в Европе. Мы подходим к периоду примерно между 3100 и 2700 гг. до н. э. По всей Месопотамии распространилась в основном оседлая, городская форма социальной жизни. В целом ряде городов заключенное в «клетку» население, обладавшее слабой гегемонией над обитателями внутренней периферии, развило тесно связанные отношения семейно-частной собственности и централизованно-политические отношения. Их лидеры использовали принудительную власть над внутренней периферией и, по всей вероятности, стали использовать ее применительно к незначительному числу семей ядра. Письменность и предположительно прочие артефакты, доступные нам в меньшей степени, усиливали устойчивость этих отношений. Их культура и религия стабилизировали эти тенденции, а также обеспечивали их более широким эксклюзивным чувством цивилизованной идентичности, которое делало их этническим сообществом. Это была первая стадия цивилизации — двухуровневой, сегментированной, заключенной в «клетку» лишь наполовину. Все эти процессы набрали обороты в следующем тысячелетии. Постфактум мы знаем, что полностью оформленная, стратифицированная, поли государственная цивилизация развилась из этой области, и все последующие цивилизации, включая нашу, должны воздать ей должное. Государство и стратификация становились все более устойчивыми. Изначальную демократию/олигархию сменила монархия. Затем одна монархия завоевывала другие. Это вело к имперской форме режима, доминировавшей в течение большей части древней истории. Одновременно оформлялись и отношения собственности. Но когда мы обращаемся к имперским режимам, обнаруживаем, что ими управляет аристократия с монопольными правами на большую часть земли. Это выглядит как единый, локально эволюционный процесс, переходную фазу которого Месопотамия проходила в 3000 г. до н. э. Но было ли так на самом деле? Можем ли мы дедуцировать последующие характеристики государства, стратификации и цивилизации из действия тех же сил, которые мы уже наблюдали? Давайте начнем с самого простого и утвердительного ответа на этот вопрос. Такой ответ был ортодоксальным в конце XIX в. и наилучшим образом был выражен в XX в.Виттфоге-лем. Пусть ошибки его концепции послужат нам уроком. Речь идет о «гидравлическом земледелии и деспотизме». Используя общие компаративистские термины, я расширяю фокус своего исследования, чтобы перейти к работе с большим количеством исторических примеров.ИРРИГАЦИОННОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ДЕСПОТИЗМ: ЛОЖНЫЕ СВЯЗИ
Постулаты тезиса о гидравлическом сельском хозяйстве, широко распространенные среди авторов XIX в., были собраны вместе Виттфогелем в его работе «Восточный деспотизм» (Wittfogel 1957). Некоторые названия глав его книги говорят сами за себя: «Государство сильнее общества», «Деспотическая власть — тотальная и неблагосклонная», «Тотальный террор». Аргументы Виттфогеля основываются на его концепции «гидравлической экономики», то есть крупномасштабных каналов и ирригационных работ, которые, по его мнению, нуждаются в централизованном имперском «агро-менеджериальном деспотизме». А его работа представляет собой всего лишь систематическую, последовательную попытку рассмотреть политические структуры первых цивилизаций в терминах их экономик. К сожалению, Виттфогель чрезмерно расширил свою модель, применяя ее ко всем крупномасштабным обществам Древнего мира. Многие из тех примеров, к которым он обращается (например, Рим), были едва знакомы с ирригационным земледелием. В таких случаях его аргументы не валидны. Остается одна возможность применить его концепцию к четырем великим речным цивилизациям или по крайней мере к трем из них, которые могут быть детально исследованы, — Месопотамии, Китаю и Египту. Теория Виттфогеля объединяет функциональный и эксплуатационный подходы к власти, коллективное и дистрибутивное видение. Он утверждает, что гидравлическое сельское хозяйство требовало для эффективного функционирования централизованного управления. Последнее расширяло тезис о «перераспределяющем государстве» на сферу производства. Это давало государству функцию, которую оно могло использовать в своих частных интересах. Агро-менеджериальные государства распространялись по всей речной системе, наделяя организационным превосходством деспота и его бюрократию. Социологический механизм узурпации власти был элегантным и благовидным. Давайте начнем с Китая, на основе исследования которого и выстроена теория Виттфогеля. Одно положение действительно неоспоримо: Китай долгое время сильнейшим образом зависел от обрабатываемых при помощи ирригации земель. Но существовал целый ряд систем контроля воды. В более ранней работе Виттфогель различает их по ряду переменных: частота дождей, временное распределение, надежность; непосредственная функция и степень необходимости контроля за системой, физический характер работ. Он демонстрирует, что в то время различные системы контроля воды различались по их последствиям для социальной организации. Другие исследователи расширяли указанный список переменных факторов (например, Е1-vin 1975). На самом деле можно выделить только одну общую черту систем контроля воды: они усиливали социальную организацию как таковую. Дело в том, что ирригационные системы, по сути, требовали объединения усилий для создания и поддержания их в рабочем состоянии. Но сама форма организации могла заметно отличаться от случая к случаю. Подавляющее большинство китайских ирригационных структур (как, разумеется, и ирригационные структуры всех цивилизаций, рассмотренных выше) были относительно небольшими и ограничивались одной деревней или группой деревень. Они обычно были организованы местными жителями, иногда селянами, но чаще местными землевладельцами. Эти различия не были технически или экологически детерминированными. Фей (Fei 1939) описывает ирригационные структуры долины реки Янцзы, в рамках которых контроль за небольшой системой ежегодно переходил из рук в руки между 15 семьями, владеющими небольшими участками. Другие подобные проекты находились в ведении местных джентри. Но у государства был особый интерес к трем определенным типам ирригационных проектов. Первым таким типом были несколько крупномасштабных ирригационных структур, занимавших всю речную долину. Они были под контролем государственных чиновников начиная с ранних времен династии Хан. Вторым типом были сети каналов, особенно Великий канал, соединявший реки Янцзы и Хуанхэ, которые были построены и управлялись государством. Третьим типом — системы защиты от наводнений, особенно в прибрежных регионах, где они были особенно сильными и где защита от них выходила за рамки возможностей местных ресурсов. Каналы также строились и поддерживались государством. Только первый тип относился к гидравлическому сельскому хозяйству в его общепризнанном значении. Первая разновидность — самая слабая из трех в терминах эффективного контроля. Ответственные чиновники всецело полагались на местных жителей, основной обязанностью которых было разрешение локальных споров, особенно касавшихся права на воду. Система каналов контролировалась более эффективно, поскольку бюрократия была в ней особенно заинтересована из-за налоговых поступлений, а также возможности транспортировки солдат. «Все, что движется, нужно обложить налогом» — основная налоговая стратегия аграрно-имперских государств. В Китае водные пути были основным источником налоговых поступлений и военной власти. Защита от наводнений действительно увеличивала контроль государства в этих областях. Однако не существовало центральных районов Китайской империи, которые могли бы детерминировать его внутренние имперско-деспотичные структуры. Разумеется, все три примера датируются более поздним временем по отношению к возникновению имперско-деспотичного государства. В некоторых отношениях характеристика Виттфогелем Китая как «восточного деспотизма» верна, даже если действительно существовавшие инфраструктурные силы государства, как мы увидим, были значительно преувеличены. Однако причина их развития лежала не в гидравлическом сельском хозяйстве[32]. Два оставшихся сравнимых случая — Египет и Шумер — отличаются в силу того, что они были сконцентрированы вокруг ирригации одной или двух рек, характеристики которых имели решающее значение. Египет был объединен около 3000 г. до н. э. Между древним и современным Египтом даже есть некоторые сходства: это длинная узкая речная долина шириной около 5-20 километров, прерывающаяся лишь одним ответвлением к Фаюмскому оазису и распадающаяся к дельте на множество каналов. Протяженность Древнего Египта изменялась. Древнее царство (2850–2190 гг. до н. э.) занимало участок речной долины длиной в тысячи километров — от Первого Катаракта (современного Асуана) до дельты. Ирригация была возможна (как и в настоящее время) только в длинной узкой пойме или в двух ее ответвлениях. Вдали от нее даже животноводство было практически невозможно (как и сейчас). Каждый год в июле — октябре Нил выходил из берегов, оставляя ил и водоросли на большей части речной долины. Строительство каналов, ее затопление, а затем отвод воды, когда земля уже была ею пропитана, были основными целями координируемой ирригации. Египет, вероятно, являлся самым отчетливым и наверняка самым ранним «восточным деспотизмом» в терминологии Виттфогеля. Было ли это благодаря гидравлическому сельскому хозяйству? Ответ, разумеется, отрицательный. Разливам Нила по большей части противостоять было невозможно. Наводнения были настолько сильными, что их нельзя было отвести — можно было только наблюдать. До и после наводнений его разливы поперек поймы реки могли быть изменены социальной организацией. Это означает, что затопление боковых бассейнов во время наводнений и их социальная организация технически не зависели друг от друга. Все, что требовалось, — локальный контроль. Бут-цер (Butzer 1976) демонстрирует, что в имперском Египте водное законодательство было рудиментарным и локально применяемым; централизованной ирригационной бюрократии как таковой не существовало. Единственным свидетельством крупномасштабных работ по координации ирригации было открытие Фаюмского оазиса в XIX в. до н. э. в эпоху Среднего Царства, что не могло служить объяснением египетских имперских структур. Нил был критически важен для государственной власти (как мы увидим в следующей главе), но не из-за гидравлического сельского хозяйства. Шумер вырос вокруг двух рек — Тигра и Евфрата. На ранних этапах ключевой рекой был Евфрат. Как и Нил, эти реки ежегодно разливались. Но их разливы принимали другие формы. Разлив основного течения также невозможно было остановить, но широкая плоская равнина Месопотамии, «земли между потоками» создавали множество дополнительных каналов, воду из которых можно было перенаправить на поля (однако затем в отличие от Нила вода не уходила, приводя к засолению почв). В отличие от Нила реки Месопотамии разливались в конце сезона. После разлива Нила оставалось много времени для посадки. В Месопотамии посадка осуществлялась до наводнений. Дамбы и плотины защищали посевы, а резервуары сохраняли паводковые воды. Это требовало более жесткой регулярной социальной кооперации и вертикальных и горизонтальных организаций, гарантирующих, что потоки каналов будут под контролем. Но могла ли контролироваться река по всей длине и почему такой существенный контроль реки был необходим, это уже другой вопрос. Основным объектом ирригации были поперечные потоки. Ключевые вертикальные воздействия испытывали на себе прилежащие земли вниз по течению, включая стратегический и военный элементы: расположение выше по течению позволяло контролировать водоснабжение тех, кто был расположен ниже, что вело, по всей видимости, к принудительному шантажу с угрозами применения военной силы. Расположение выше по течению базировалось не на контроле труда людей, живущих ниже по течению, как в модели Виттфогеля, а на контроле за жизненно необходимыми природными ресурсами, расположенных ниже по течению. В конечном счете ни Тигр, ни Евфрат не контролировались вдоль по течению. Течение Тигра было слишком быстрым и глубоким, каналы Евфрата изменялись непредсказуемым образом, чтобы их было возможно контролировать какими-либо гидравлическими менеджериальными системами, известными в Древнем мире. Изменчивость дестабилизировала существовавший баланс власти, аналогичный эффект оказывало засоление почв. После первого ирригационного прорыва социальная организация использовалась и для последующего ирригационного управления, а не наоборот. Города, письменность и храмы развились за пять веков до того, как были изобретены технические средства ирригации, о чем свидетельствуют находки, относящиеся к концу раннединастического периода (Nissen 1976: 23), и тем более задолго до того, как были построены первые крупномасштабные дамбы и каналы (Adams 1981: 144, 163). Ирригации было вполне достаточно, чтобы сломить существовавшие организации, а также чтобы расширить их. Развитой социальной формой был город-государство, осуществлявший контроль лишь над ограниченной частью суши и прилежащей частью реки. Он мог предполагать определенную степень стратификации, централизованной политической власти и принудительного контроля за трудом и, следовательно (особенно в последнем случае) определенные обязанности применительно к ирригации. Но он не подразумевал ни деспотического государства, ни даже царства, которое ему должно было предшествовать. Когда позднее появились более крупные в территориальном отношении государства с царями и императорами, контроль над ирригацией был лишь частью их власти, особенно стратегической власти государств, располагавшихся вверх по течению, но мы убедимся, что ирригация была лишь второстепенным фактором. В Древнем мире не существовало никакой необходимой связи между гидравлическим сельским хозяйством и деспотизмом, даже в Китае, Египте и Шумере, который, казалось бы, подтверждает это. Гидравлическое сельское хозяйство сыграло огромную роль в развитии письменных цивилизаций, а также в усилении их территориально и социально фиксированной организации. Размеры гидравлического сельского хозяйства, вероятно, действительно оказывали существенное влияние на размеры социальной организации, но не в том направлении, в каком предполагал Виттфогель. Гидравлическое сельское хозяйство способствовало образованию доверительных, но маленьких групп и протогосударств, контролировавших ограниченную определенной шириной и длиной пойму речной долины, например города-государства, как у шумеров, или владения местных лордов или монархов, как в Китае или Египте, или самоуправляемые деревенские общины, как в остальном Китае, или практически любая другая форма местного правительства. В ряде ранних шумерских городов типичным было проживание такого количества населения, которое было необходимо для нужд ирригации. Численность населения таких городов обычно варьировалась от 1 до 22 тыс. человек, включая неизвестное количество клиентов из внутренних регионов. Как я утверждаю, большая часть численности и концентрации населения была обязана воздействию ирригации на свою среду, а не ирригационному управлению самому по себе. В раннединастический период города осуществляли слабое господство над своими соседями и политический контроль над около 20 тыс. человек. Радиус подобных зон мог варьироваться от 5 до 15 километров. Это были крошечные общества. В Месопотамии, что особенно поражает, важнейшие города Эриду, Ур, Урук и Ларса находились в пределах видимости друг друга. Ирригация принесла с собой существенное увеличение организационных способностей человеческих групп, но ничто по сравнению с масштабами мировых империй, состоявших из миллионов жителей и растянувшихся на сотни или тысячи километров вопреки тому, что предполагает Виттфогель. Тезису Виттфогеля присущи четыре принципиальные ошибки. Он не может объяснить (1) формы даже ранних городов-государств, которые были не деспотическими, а демократичными/ олигархическими; (2) рост более крупных и поздних империй и государств; (3) более крупные элементы социальной организации, чем те, которые уже присутствовали в ранних городах-государствах, а именно сегментированную федеральную культуру, поскольку силы, создавшие более экстенсивную власть, не контролировали ни одно отдельное государство, будь то деспотическое, ирригационное или нет; (4) тот факт, что рост ядра городов-государств был не унитарным, а дуальным, что проявлялось в централизованном государстве и децентрализованных стратификационных отношениях, базировавшихся на частной собственности. На последнее Виттфогель не обращает внимания. Его модель всех древних государств весьма нереалистична в терминах количества инфраструктурной власти, приписываемой им. Мы убедимся, что те же силы, что непрерывно увеличивали власть государства, затем способствовали его децентрализации и дестабилизации (см. главу 5). Наряду с ростом государства росли и правящие семьи с частными землевладениями, а наряду с монархией и деспотией — аристократия. Источником этого внушительного списка ошибок является модель унитарного общества, на которую полагается Виттфогель. Все ошибки, кроме первой, нацелены на демонстрацию федеральной сегментарной природы общественного развития. Это дает нам основания для разработки лучшего объяснения форм раннего социального развития. Но рост цивилизаций, государств и социальной стратификации и так уже стал надолго затянувшейся темой. В этой главе нет возможности предложить объяснение имперских деспотичных режимов, альтернативное объяснению Виттфогеля, поскольку таковые еще не появлялись в ранней Месопотамии. В этом состоит основная задача главы 5, в которой рассматривается аккадская династия (первая в истории настоящая «империя») и ее последствия. Однако до определенной степени можно предвосхитить подобное объяснение. Старый добрый милитаризм стал играть все большую роль по мере становления месопотамского общества.МИЛИТАРИЗМ, ДИФФУЗИЯ, ДЕСПОТИЗМ И АРИСТОКРАТИЯ: ВЕРНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ
Чтобы объяснить возникновение государств и социальной стратификации в Месопотамии, мы должны признать небольшой сдвиг в рамках XXVII в. до н. э. при переходе от того, что называют первым этапом раннединастического периода (РД I: XXVIII–XXVII вв. до н. э.) ко второму этапу раннединастического периода (РД II: XXVII–XXVI вв. до н. э.). Согласно Адамсу (Adams 1981: 81–94), в рамках этих периодов произошел сдвиг поселенческих структур. Хотя большинство населения уже жило в городах, города были примерно одного размера. За исключением Урука, появлялась незначительная «поселенческая иерархия». Затем Урук, как и ряд других городов, резко увеличил свои размеры. В то же время множество маленьких поселений опустело. Как заключает Адамс, это означало, что десятки тысяч людей были вынуждены уйти оттуда. Отныне площадь Урука составляла 2 квадратных километра, а население выросло до 40–50 тыс. человек. Для обеспечения его потребностей требовался организованный контроль над большими внутренними районами. Адамс предполагает, что под контролем находились регулярно возделываемые земли в радиусе 14 километров плюс слабая гегемония над более широкими областями. В обеих областях логистика коммутации и транспортировки продукции предполагала, что поля и пастбища обрабатываются локальным зависимым трудом, а не свободными жителями городов. В свою очередь, это предполагало дальнейшее разделение труда и стратификацию между городским центром и сельской периферией. Об интенсификации процессов взаимодействия свидетельствуют многочисленные находки, относящиеся к третьему тысячелетию. Но с интенсификацией пришли и изменения. Города теперь были обнесены массивными укрепленными стенами. Появились люди, называвшиеся лугалями и заседавшие в больших комплексах зданий — «э-галями», — что в переводе означает «цари» и «замки». Они появились в текстах вместе с новыми терминами, применяемыми к обозначению военной деятельности. Если мы предпримем рискованное предприятие — датировку правления первых царей, упомянутых в списках (составленных примерно в 1800 г. до н. э.), то первые великие цари Урука Эн-мер кар и Гильгамеш, а также их известные последователи правили в XXVII в. до н. э. На этих основаниях Якобсен предположил, что цари происходили от военных лидеров, выбираемых на определенное время демократически-олигархическим собранием города. В периоды конфликтов и нестабильности они получали долгосрочную власть в силу того, что ведение военных действий и строительство укреплений требовали военной организации в течение целого ряда лет. В рамках указанных периодов лугаль иногда сосуществовал рядом с другими людьми, такими каксанга, эн или энси — храмовыми чиновниками, которые совмещали ритуальные и административные функции. Постепенно царь монополизировал власть и, хотя у храма оставалась некоторая автономия от дворца, практически становился главным инициатором религиозного ритуала. «Эпос о Гильгамеше», написанный около 1800 г. до н. э., дает полное представление об этом, хотя является ли он достоверной историей или созданной позднее идеологией, уже другой вопрос. Гильгамеш, который начал как эн Урука, сражался с воинами города Киша. Изначально ему требовалось разрешение и от собрания старейшин, и от ассамблеи всего мужского населения, прежде чем принять основные решения. Но победа возвысила его. Распределение добычи и последующие постоянные оборонительные здания дали ему частные ресурсы, при помощи которых он постепенно превратил свой представительный авторитет (authority) в принудительную власть. Одна из частей этого эпоса оказалась историческим фактом: городские стены Варка, строительство которых легенда приписывает Гильгамешу, были датированы соответствующим периодом. К 2500 г. до н. э. существовало приблизительно 12 городов-государств, которые, как подтверждают археологические находки, управлялись царями-деспотами. Во время военных столкновении некоторым из них удалось добиться временной гегемонии. Милитаризм достиг своей кульминации в первой большой империи Саргона Аккадского, описанной в главе 5. Таким образом, мы входим в отдельный милитаристский этап и можем вновь обратиться к милитаристским теориям происхождения государства, которые обсуждались в предыдущей главе, не для нахождения его истоков, а для того, чтобы объяснть его последующее развитие. Применительно к истокам эти теории обладают двумя слабостями, раскрытыми в главе 2: военная организация, которая увеличивает власть своих командиров, в действительности предполагает властные возможности государств уже существующими; кроме того, общества предпринимают ряд шагов для гарантии того, что временный авторитет (authority) не превратится в постоянную принудительную власть. Однако применительно к уже существующим государствам, стратификации и цивилизации эти положения теряют силу. Управленческие техники, которые уже были применены к ирригации, перераспределению и обмену, а также к патрон-клиентским отношениям между центром и периферией, могли привести к развитию военных ответвлений. Сначала преобладала требующая больших инвестиций оборона как в форме строительства защитных сооружений, так и в форме плотных, медленно передвигающихся фаланг пехоты и колесниц, из которых состояли первые армии. Подобные формации стимулировали централизованное командование, координацию и снабжение. Превращение временного авторитета в постоянную принудительную власть (power) немного более проблематично. Одним из импульсом было заключение населения в «клетки» городов-государств. Это было отмечено Карнейро (Carneiro 1961, 1970; ср. Webb 1975) в его милитаристской теории инвайронмен-тальных ограничений (средовой ограниченности). Исследуя вопрос о происхождении цивилизаций, он, как и я, настаивает на важности ограничений, накладываемых самим характером сельскохозяйственных земель. Он утверждает, что по мере роста производительности сельского хозяйства население становилось все более запертым в «клетку». Демографическое давление усугубляло ситуацию. Война была единственным решением. Поскольку побежденным было некуда бежать, их захватывали и превращали в низший класс в расширившемся обществе. Этот аргумент Карнейро использует в качестве объяснения происхождения государства, и по этой причине оно дефективно. Сельское хозяйство не истощало используемые земли в долинах рек, в ранних захоронениях отсутствуют военные артефакты, не существует непосредственных доказательств того, что государства испытывали демографическое давление. Но Карнейро по существу прав в другом ключевом вопросе. Он воспринял проблему, обычно относящуюся к ранним режимам, в которых авторитет добровольно даровался и поэтому столь же свободно забирался обратно. Следовательно, важны «границы» социального контейнера, которые лишали части свободы. В обществах, которые уже были территориально и социально контейнерными под действием другого давления, границы становились менее проницаемыми. Городские стены символизировали и актуализировали «клетку» авторитетной власти. Лояльность диффузному авторитету (authority), пересекающему их границы, ослабевала — принятие этого государства и его военачальника усиливалось. Так начиналась политическая история гигантских систем протекционистского рекета: «Прими мою власть, чтобы я мог защитить тебя от худшего насилия, пример которого я тебе покажу, если ты мне не веришь!» Тем не менее остаются две проблемы: почему война стала более важной в этот период и как авторитет военных трансформировался в постоянную принудительную власть? Ответы на первый вопрос, как правило, в меньшей степени основываются на каких-либо релевантных доказательствах в пользу общего тезиса о роли войны в человеческом опыте. К несчастью, существует мало доказательств. Однако, если мы обратим внимание не на частоту насилия, а на его организацию, мы будем меньше зависеть от предположений и допущений о человеческой природе. Война может быть эндемической, однако к централизованному военному командованию и завоеваниям это не относится. Они предполагают значительную социальную организацию. Весьма вероятно, что организационный отправной пункт был пройден в Месопотамии примерно после 3000 г. до н. э. У захватчиков теперь были ресурсы, позволявшие оставаться во владениях вражеского храмового склада и постоянно извлекать из него излишки и рабочую силу. Возможным ответом были инвестиции в защиту. Военная гонка могла идти полным ходом, хотя речь идет не столько о гонке вооружений, сколько о развитии военных организаций, контуры которых отливались по лекалам более общих социальных организаций. Сопровождалась ли гонка военных организаций увеличением частоты насилия, не известно. Но социальная экология Месопотамии, по всей видимости, вела к росту частоты насилия вместе с ростом уровня социальной орг ство споров, которые прежде касались лишь внутренних обла анизации. Вероятно, большинстей располагавшихся на периферии городов-государств, вдруг стали затрагивать области, ставшие более плодородными благодаря изменению направления течения реки. Многие провоенные партии в рамках города-государства были стратегически готовы получить преимущества или, напротив, страдали от изменения направления реки. Однако это всего лишь предположение, поскольку недо-статоточно информации о воюющих сторонах. У нас также нет уверенности относительно размеров нового военного авторитета/власти, и, таким образом, мы не можем дать ответ на второй вопрос. Однако довольно сложно представить, как военное деспотическое государство могло возвыситься над обществом в условиях продолжительного отсутствия одного решающего ресурса — постоянной армии. Военной элиты тогда еще не существовало (Landsberger 1955) — Армия состояла из двух элементов — «гражданской армии» всех свободных совершеннолетних мужчин и «феодальнгое ополчения» богатейших семей и их вассалов (хотя эти термины и не относятся к эпохе Месопотамии). Лугалъ, по всей видимости, был первым среди равных из богатейших семей. Он был скорее верховным главой домохозяйства (каким в действительности был и городской бог). Царство легитимировало себя в терминах «абсолютных рангов». Оно представляло собой фиксированную наивысшую точку в рангах и в их генеалогическом измерении. Некоторым царям, правившим позже, даже удавалось основать непродолжительные династии. В таких случаях происходила институционализация абсолютных рангов. Но никто из них не утверждал своего божественного происхождения или специального отношения к прошлым поколениям, а большинство были просто могущественными людьми, чья власть опиралась на богатейшие семьи и зависела от них. Царь не мог присвоить себе государственные ресурсы. Милитаризм способствовал не только росту власти лу-галей, но и росту ресурсов, находившихся в частной собственности у богатейших семей. К концу раннединастического периода уже появляются свидетельства о напряжении между монархией и аристократией, в рамках которого новые периферийные элементы играли ключевую роль. Последние цари раннединастического периода использовали военачальников с семитскими именами, что, вероятно, свидетельствует об их попытках создать собственные военные силы из наемников, не зависящих от богатейших шумерских семей. Нам известно, что впоследствии наемники захватили власть (но они уже были не просто наемниками). Они существенно укрепили государство и стратификацию. Но чтобы объяснить это (в главе 5), нам потребуется дальнейшее расширение аргументации. Поэтому, даже несмотря на рост государства и стратификации в конце раннединастического периода, этот процесс зашел не слишком далеко. Население отчетливее запирали в «клетку» (то, что начала ирригация, было закончено милитаризмом), но ни класс, ни государство не достигли постоянной принудительной силы, что было обычным делом для последующих четырех с половиной тысяч лет истории. Эксплуатация уже существовала, но лишь на протяжении части рассмотренного периода. Как отметил Гелб (Gelb 1967), все продолжали заниматься производительным трудом. Для того чтобы осмыслить дальнейшую траекторию государства и стратификации, связанную с династическими империями и классом землевладельцев, необходимо рассмотреть аккадцев как первых в истории воинственных вождей пограничий. Глава 5 будет посвящена вопросам, все более далеким от вопросов ирригации.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЦИВИЛИЗАЦИЯ МЕСОПОТАМИИ КАК ПРОДУКТ НАКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ДРУГ НА ДРУГА СЕТЕЙ ВЛАСТИ
В этом разделе я попытался продемонстрировать удобства модели общества как пересекающихся сетей власти на примере Месопотамии. Социальное развитие Месопотамии базировалось на заключении в «клетку», которая, в свою очередь, была результатом пересечения двух основных сетей взаимодействия: (1) сети горизонтальных отношений между аллювиальным сельским хозяйством и обработкой земель, увлажняемых лишь дождями, а также скотоводством, горной кустарной промышленностью и лесничеством, которое называют отношениями центра и периферии; (2) сети вертикальных отношений между различными аллювиальными областями и их внутренними землями вдоль по течению реки. Они усиливали концентрацию частной собственности и территориальную централизацию локальных социальных единиц и потому способствовали развитию социальной стратификации и государства. Но отношения между этими основными социальными сетями были не жестко структурированными, а свободно пересекавшимися и накладывавшимися, сокращавшими возможности «клетки». Их общим итогом была шумерская цивилизация, мультигосударственная культурная и дипломатическая геополитическая организация власти. Это была самая крупная организационная сеть из тех, которые существовали в тот период. Тем не менее сама по себе она была диффузной, сегментарной, с размытыми границами и тенденцией к фрагментации на более мелкие авторитетные единицы городов-государств. Затем милитаризм стал способствовать преодолению сегментации и восстановлению целостности цивилизации (более подробное описание этого процесса см. в главе 5). Динамическое развитие было результатом пересечений этих сетей, а не результатом некоей эндогенной динамики по аналогии с той, которую мыслил Виттфогель. Месопотамия была не унитарной цивилизацией, а, наоборот, цивилизацией с множеством акторов власти, результатом различных сетей взаимодействия, созданных экологическими разнообразием, возможностями и ограничениями. Цель следующей главы — показать, были ли подобные структуры отличительной чертой Месопотамии или же они были присущи всем без исключения первым, независимо возникшим цивилизациям. На основе ответа на этот вопрос мы придем к общим заключениям относительно истоков цивилизации, стратификации и государств, которые будут представлены в конце главы 4.БИБЛИОГРАФИЯ
Adams, R. Me С. (1965). Land Behind Baghdad. Chicago: University of Chicago Press. --. (1966). The Evolution of Urban Society. London: Weidenfeld & Nicolson. --. (1981). Heartland of Cities. Chicago: University of Chicago Press. Adams, R. Me C., and H.J. Nissen (1972). The Uruk Countryside. Chicago: University of Chicago Press. Bloch, M. (1977). The disconnections between power and rank as a process: an outline of the development of kingdoms in central Madagascar. Archives Europeennes de Socio-logie, 18. Butzer, K. (1976). Early Hydraulic Civilization in Egypt. Chicago: University of Chicago Press. Carneiro, R. L. (1970). A theory of the origins of the state. Science, 169. --. (1981). The chiefdom: precursor of the state. In the Transition to Statehood in the New World, ed. G. D. Jones and R. R. Kautz. Cambridge: Cambridge University Press. Chi, T.-T. (1936). Key Economic Areas in Chinese History. London: Allen & Unwin. Childe, G. (1950). The Urban Revolution. Town Planning Review, 21. Diakonoff, I. M. (1969). Main features of the economy in the monarchies of ancient western Asia. Third International Conference of Economic History, Munich, 1965. Paris: Mouton. --. (1972). Socio-economic classes in Babylonia and the Babylonian concept of social stratification. In XVIII Rencontre assyriologique international, ed. O.Edzard. Munich: Bayer, Ak-abh, phil, hist kl. Abh. --. (1975). Ancient writing and ancient written language: pitfalls and peculiarities in the study of Sumerian. Assyr io logical Studies, 20. Eberhard, W. (1965). Conquerors and Rulers: Social Forces in Modern China. Leiden: Brill. Elvin, M. (1975). On water control and management during the Ming and Ch’ing periods. In Ching-Shih wen Li, 3. Fei, H. T. (1939). Peasant Life in China. London: Routledge. Flannery, K. (1968). The Olmec and the valley of Oaxaca. Dumbarton Oaks Conference on the Olmec. Washington: Dumbarton Oaks. --. (1972). The cultural evolution of civilizations. Annual Review of Ecology and Systematics, 3. --. (1974). Origins and ecological effects of early domestication in Iran and the Near East. In the Rise and Fall of Civilisations, ed. С. C. Lamberg-Karlovsky and J. A. Sabloff. Menlo Park, Calif.: Cummings. Gelb, I. (1967). Approaches to the study of ancient society. Journal of the American Oriental Society, 87. --. (1969). On the alleged temple and state economics in ancient Mesopotamia. Studi in Onore di Eduardo Volterra, 6. Gibson, M. (1976). By state and cycle to Sumer. In the Legacy of Sumer, ed. D. Schmandt-Bes-serat. Malibu, Calif.: Undena. Hawkins, J. (1977). Trade in the Ancient Near East. London: British School of Archaeology in Iraq. Hole, E, and K. Flannery. (1967). The prehistory of southwestern Iran. Proceedings of the Prehistoric Society, 33. Jacobsen, T. (1943). Primitive democracy in ancient Mesopotamia. Journal of Near Eastern Studies, 2 (Also chap. 9 in Jacobsen, 1970). --. (1957). Early political developments in Mesopotamia. Zeitschrift Fur Assyriologies, N.F., 18 (Also chap. 8 in Jacobsen 1970). --. (1970). Towards the Image of Tammuz and other Essays in Mesopotamian History and Culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Jacobsen T, and R. Me C. Adams (1974). Salt and Silt in Ancient Mesopotamian Agriculture. In С. C. Lamberg-Karlovsky and J. Sabloff, Ancient Civilization and Trade. Albuquerque: University of New Mexico Press. Jankowska, N. B. (1970). Private credit in the commerce of ancient western Asia. In Fifth International Conference of Economic History, Leningrad, 1970. Paris: Mouton. Jones, G. D., and Kautz, R. C. (1981). The Transition to Statehood in the New World. Cambridge: Cambridge University Press. Jones, T. B. (1969). The Sumerian Problem. New York: Wiley. --. (1976.) Sumerian administrative documents: an essay. Assyriological Studies, 20. Kang, S. T. (1972). Sumerian Economic Texts from the Drehem Archive, vol. 1. Urbana: University of Illinois Press. Kramer, S. N. (1963). The Sumerians. Chicago: University of Chicago Press; Крамер, C.H. (1965). История начинается в Шумере. М.: Наука. Kristiansen, К. (1982). The formations of tribal systems in later European pre-history: northern Europe 4000 B.C. — 500 B.C.In Theory and Explanation in Archaeology, ed. C. Renfrew et al. New York: Academic Press. Lam berg-Karlovsky, С. C. (1976). The economic world of Sumer. In the Legacy of Sumer, ed.D. Schmandt-Baesserat. Malibu, Calif.: Undena. Landsberger, G. (1955). Remarks on the archive of the soldier Ubarum. Journal of Cuneiform Studies, 9. Leach, E. (1954). The Political Systems of Highland Burma. London: Athlone Press. Levine, L. P., and T.C. Young (1977). Mountains and Lowlands: Essays in the Archeology of Greater Mesopotamia. Malibua, Calif.: Undena. Marfoe, L. (1982). Cedar Forest to silver mountain: on metaphors of growth in early Syrian society. Paper given to a Conference on Relations between the Near East, the Mediterranean World and Europe: 4th-ist Millennia B.C., Aarhus, Aug. 1982. Needham, J. (1971). Science and Civilisation in China, vol. IV, pt. 3 (pub. separately). Cambridge: Cambridge University Press. Nissen, H. J. (1976). Geographic. In Sumerological Studies in Honor of Thorkild Jacobsen, ed. S. J. Lieberman. Chicago: University of Chicago Press. Oates, J. (1978). Mesopotamian social organisation: archaeological and philological evidence. In the Evolution of Social Systems, ed. J. Friedman and M.J. Rowlands. London: Duckworth. Oppenheim, A. L. (1977). Ancient Mesopotamia. Chicago: University of Chicago Press; Оппенхейм, A. (1990). Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука. Perkins, D. (1968). Agricultural Development in China 1368–1968. Chicago: University of Chicago Press. Renfrew, C. (1972). The Emergence of Civilization: The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium B.C. London: Methuen. --. (1975). Trade as Action at a Distance. In Ancient Civilization and Trade, ed. J. Sabloff and С. C. Lamberg-Karlovsky. Albuquerque: University of New Mexico Press. Rowton, M. B. (1973). Autonomy and Nomadism in western Asia. Orientalia, 4. --. (1976). Dimorphic structure and the problem of the ‘Apiro-Ibrim’. Journal of Near Eastern Studies, 35. Sabloff, J., and С. C. Lamberg-Karlovsky (1976). Ancient Civilization and Trade. Albuquerque: University of New Mexico Press. Shennan, S. (1983). Wessex in the Third Millennium B.C.: a Case Study as a Basis for Discussion. Paper Given to Symposium «Time and History in Archaeology and Anthropology», Royal Anthropological Institute, London. Smith, A. (1983). Are nations modem? Paper given to the London School of Economics «Pattern of History» seminar, Nov. 28, 1983. Steward, J. (1963). Theory of Culture Change. Urbana: University of Illinois Press. Webb, M.C. (1975). The Flag Follows Trade. In Ancient Civilization and Trade, ed. J. Sabloff and С. C. La mb erg-Karlovs ky. Albuquerque: University of New Mexico Press. Wittfogel, K. (1957). Oriental Despotism. New Haven, Conn.: Yale University Press. Wright, H. (1977). Recent research on the origin of the state. Annual Review of Anthropo-logy, 3- Wright, H., and G.Johnson (1975). Population, exchange and early state formation in southwestern Iran. American Anthropologist, 73.ГЛАВА 4 Сравнительное исследование возникновения стратификации, государств и цивилизаций с множеством акторов власти
Применима ли моя модель запирающего в «клетку» воздействия аллювиальных почв и ирригации на пересекающиеся региональные сети власти к другим первым цивилизациям помимо Месопотамии? Какие из них были также по сути дуальными, включающими небольшие и интенсивные города-государства наряду с цивилизациями с множеством акторов власти. Я рассмотрю остальные независимо возникшие цивилизации самым коротким из возможных способов, то есть покажу, вписываются ли они в общую модель. Более подробно будут рассмотрены те цивилизации, которые в эту модель не вписываются, и там, где это возможно, я попытаюсь разъяснить гипотетические причины этого. Особенно хочу отметить свое уважение к уникальности и идеографииности локальных историй. Все они различаются. Контуры общей модели были намечены лишь для того, чтобы она способствовала дальнейшим размышлениям и исследованиям, а не для механистического применения к ним. Я начну с цивилизаций, которые более других похожи на Месопотамию, — индской и китайской. Затем я обращусь к кейсу, происхождение которого, по всей вероятности, было весьма сходным, но последующее развитие — весьма отличным: Египту. Затем будет представлен анализ, вероятно, последней из действительно независимо возникших цивилизаций, которая, несмотря на это, была весьма отклоняющимся от общей модели евразийским кейсом, — минойского Крита. В конце концов фокус исследования будет смещен на другой континент — на американские кейсы, которые представляют собой огромную проблему для разработанной модели. В заключение главы я обозначу доминирующий путь, которым следовало возникновение цивилизации, стратификации и государства. Около 2300 и 2000 гг. до н. э. (более точная датировка невозможна) на территории современного Пакистана существовала письменная урбанистическая, обладавшая церемониальным центром индская цивилизация[33]. Мы мало о ней знаем и не узнаем до тех пор, пока не будет завершена дешифровка письменности этой цивилизации. В настоящее время исследователи убеждены, что ее происхождение было локальным, а не диффузным (внешним), что цивилизация и государство были «первоначальными». Но причина гибели этой цивилизации до сих пор остается доподлинно неизвестной. Она исчезла (это все, что известно, учитывая нашу неспособность прочесть их записи, поскольку двуязычные надписи-билингвы не сохранились). Обычно исчезновение объясняется разрушением и завоеванием цивилизации арийскими захватчиками, которые впоследствии господствовали на Индийском субконтиненте, или же экологическими катастрофами, такими как изменение климата или направления течения рек, но никаких доказательств ни одной из гипотез пока нет. Если индская цивилизация была разрушена под давлением внутренних причин, это отличает ее от месопотамской модели. Поэтому не стоит слишком концентрироваться на сходствах. И это особенно верно для ирригации — центрального пункта в моем исследовании Месопотамии. Разумеется, параллели в ирригационном сельском хозяйстве существовали. Индские, как и месопотамские, поселения практически всегда были расположены вдоль линий аллювиальных пойм. В сельском хозяйстве, способствующем росту цивилизации, практически наверняка использовалось природное удобрение — ил. Поселения также стали результатом заключения населения в территориальную и социальную «клетку» в поймах, которые в данном случае были огорожены джунглями, смешанными с прочей растительностью. Абсолютное большинство исследователей убеждены, что жители пойм практиковали ирригацию, однако реки уничтожили практически все доказательства этого. Города использовали водные каналы для внутренних нужд, а также были хорошо защищены от наводнений. В прочих отношениях можно отыскать как сходства, так и различия с Месопотамией. Важность скорее секулярных храмов, связанных с массивными хранилищами, отсылающая к Месопотамии, способствует отнесению долины реки Инд к цивилизации с «федеральной» структурой, с по меньшей мере двумя основными городами, каждый из которых населяли около 30–40 тыс. человек и окружали по меньшей мере сотни более мелких поселений. Локальная и региональная, «горизонтальная» и «вертикальная» торговля, достигавшая объемов месопотамской, также была экстенсивной. Это может означать существование тех же горизонтальных и вертикальных, частично совпадающих сетей социального взаимодействия, что и в Месопотамии. Но в случае индской цивилизации развитие внутренней иерархии не выглядит столь же очевидным. Захоронения не сохранили свидетельств множества различных видов богатства или социальной стратификации. Тем не менее порядок городского планирования, разнообразие стандартизованных единиц измерения и мер, а также доминирование нескольких центральных храмов или дворцов свидетельствовали о силе городской политической власти, хотя и не обязательно о государстве, которое могло принуждать людей. На самом деле военные археологические находки также довольно скудны. Государства индской цивилизации могли быть «примитивными демократиями», как это предполагает Якобсен по отношению к ранней Месопотамии. По всей видимости, эту цивилизацию следует рассматривать как нечто среднее между раннединастическим периодом развития Месопотамии и более развитой версией доисторических строителей монументов, возможно своего рода аллювиальный письменный Стоунхендж. В силу заключения в «клетку» и способностей производить большое количество излишков здесь возникла цивилизация, но это была цивилизация, полностью сконцентрированная вокруг политической власти, без такого способствовавшего развитию динамического элемента, как отношения между государством и господствующим экономическим классом, между центром и периферией, которые, как представляется, были главным двигателем социального развития в прочих уцелевших успешных цивилизациях. Таким образом, индская цивилизация свидетельствует скорее в пользу моей общей модели — месопотамского типа ранней цивилизации, которая внезапно исчезла. Из-за отсутствия необходимых исторических свидетельств не следует ожидать большего.ШАНСКИЙ КИТАЙ
Первая китайская цивилизация мощно разрослась вокруг реки Хуанхэ (Желтой реки) в период, датируемый с 1850 по поо г. до н. э.[34] В настоящее время большинство исследователей считают, что это было автономное развитие и первоначальная цивилизация. Я нахожу подобную уверенность скорее удивительной, учитывая, что китайская цивилизация появилась спустя тысячу лет после цивилизаций Месопотамии и Египта и спустя века после возникновения индской цивилизации. Неужели в доисторический период новости распространялись настолько медленно? Цивилизация получила название Шан от династии царей, которая правила позднее в Китае того же периода. С самых первых упоминаний о ней мы обнаруживаем свидетельства в пользу высокой степени неравенства, специализации ремесел, больших «дворцовых»построек, а также беспрецедентного для всего остального мира уровня развития бронзовой металлургии. Около 1500 г. до н. э. появляются все атрибуты, необходимые для возникновения цивилизации: письменность, урбанизация, большие церемониальные центры плюс монархия с претензиями на божественное происхождение, города с массивными оборонительными сооружениями, строительство которых, вероятно, требовало труда более 10 тыс. человек, высокий уровень воинственности и огромные человеческие жертвы. Они свидетельствуют о быстром движении по направлению к высокостра-тифицированной и способной к принуждению цивилизации. И вновь цивилизация возникла вдоль реки, которая приносила аллювиальный ил. Но здесь аллювиальные почвы пересекались со вторым уникальным типом удобряемых почв — лессовыми почвами[35], которые представляют собой обширные залежи легкого грунта, нанесенного из пустыни Гоби в период плейстоцена, формирующего огромное нерегулярное полое окружение с центром на реке Хуанхэ. Лессовые почвы, богатые минералами, давали большие урожаи зерновых. Здесь подсечно-огневое земледелие могло практиковаться необычайно долго, результатом чего было относительное заключение в «клетку» поселений даже без ирригации. К эпохе Шан появилось два вида зерновых: пшено и рис выращивались на одной и той же земле в течение года, что позволяет предположить наличие привязывавших к земле ирригационных техник, хотя у нас нет непосредственных исторических доказательств в пользу этого. Река всегда была центром этой цивилизации. Тем не менее, как и в Месопотамии, здесь мы сталкиваемся с экологическим и экономическим разнообразием вокруг ядра. Выращивание волокна и шелка для одежды, крупного рогатого скота, свиней и цыплят для употребления в пищу, диких животных, таких как кабаны, олени и буйволы, свидетельствует об экологическом разнообразии, а также о важности горизонтальных отношений «центр — периферия». Здесь мы также обнаруживаем свидетельства региональных взаимоотношений власти, включая обмен и конфликт с пастухами, а также использование медных и оловянных руд в изготовлении бронзы, которые залегали на расстоянии 300 километров от Аньяна — последней столицы династии Шан около 1400 г. до н. э. Постепенно возникали «храмы» — централизованные перераспределяющие институты. Как настаивал Уитли (Wheat-ley 1971), храмы были первыми центрами цивилизации. Однако здесь милитаризм заявил о себе раньше, чем в Месопотамии. Затем появились находки, свидетельствовавшие о существовании верховой езды — одного из примеров развития, подтверждающего, что китайская цивилизация была более экспансивной и менее ограниченной. Религиозный пантеон был значительно более свободным и открытым для зарубежного влияния, урбанизация — не настолько ярко выраженной, поселения — более рассредоточенными. Речная система сама по себе была менее ограничивавшей: земледелие, торговля и культура распространялись вдоль и вширь по системе Желтой реки и затем практически по всем рекам Северного и Центрального Китая. В этих регионах местные коренные жители относились к цивилизации Шан, тем не менее оставались политически автономными. Их государства могли признавать гегемонию Шан. Одна группа — Чжоу, жившая на западных границах, стала особенно развитой (как мы можем предположить из ее дискурсивных текстов). В конце концов Чжоу захватывает Шан и основывает собственную первую династию, многочисленные свидетельства о которой сохранили китайские исторические источники. Таким образом, я предполагаю, что истоки китайской цивилизации практически не отличались от тех, которые дали начало Месопотамии. Но с появлением основных организаций власти, а также из-за большей территориальной открытости и больших сходств в деятельности жителей различных регионов милитаристическое развертывание государства и социальной стратификации в Шанском Китае происходит раньше, чем в Месопотамии. Монархия, а не олигархия возникает в Китае гораздо раньше. Китайская культура была наименее сегментарной и наиболее унитарной. Разнообразие больше выражалось в «феодальных» тенденциях к дезинтеграции монархии, чем в мультигосударственных структурах. Позднее, в период династии Хань, культура китайского правящего класса стала еще более гомогенной и даже унитарной. Анализ, основу которого составляет воздействие аллювиального, возможно, ирригационного сельского хозяйства на регулярные социальные сети, вновь демонстрирует свои достоинства. А сегментарная религиозная культура опять демонстрирует тенденцию к последующей милитаризации. Но чтобы настаивать на этом тезисе и далее, необходимо выявить важные локальные особенности.ЕГИПЕТ
Я не буду тратить время, в очередной раз рассказывая ту же историю: ирригационное сельское хозяйство было решающим фактором в появлении цивилизации, стратификации и государств в Египте. Это не вызывает сомнений. На протяжении всей древней истории речная долина Нила поддерживала самую высокую плотность населения, какая только была известна в Древнем мире. В силу естественного экологического барьера, каким была окружающая речную долину пустыня, это население было заперто в «клетку» сильнее прочих. Поскольку ирригация заняла всю речную долину Нила, пути назад не было: росла производительность, а вместе с ней цивилизация, стратификация и государство. Процесс был таким же, как и в Месопотамии, только шел в два раза быстрее. На ранних этапах здесь еще можно было различить некоторые сегментарные региональные элементы по аналогии с теми, которые существовали в Месопотамии. Культура доисторических народов Египта, а также их последующий протодинастический период были шире любой отдельно взятой политической единицы. К тому же с самых ранних времен торговля на большие расстояния приносила культурные стили и артефакты из дальнего зарубежья. Но если модель ирригации, стимулировавшей пересекавшиеся региональные сети, валидна для ранних этапов, то затем она стремительно теряла свою объяснительную силу. Хотя Египет и стал уникальным, практически унитарным обществом Древнего мира, я постараюсь объяснить эту особенность на основе своей модели[36]. Уникальность Египта скорее всего была результатом власти и стабильности правления египетского фараона. Если мы обратимся только к Новому царству (1570-715 гг. до н. э., хотя все хронологические периоды истории Древнего Египта предполагают некоторые погрешности), то окажемся на привычной для последующих глав почве (особенно глав 5, 8 и 9). Верно, что фараон был богом, но позднее мы обнаруживаем подобных доисторических божественных императоров и царей повсюду. Правление фараонов и подобных ему правителей было благодатнейшей почвой для тенденций к децентрализации и даже восстаний. В отличие от своих предшественников они строили укрепленные цитадели. Разумеется, храмы Карнака, Луксора и Мединет-Абу были экстраординарными сооружениями, хотя, возможно, и не такими, как Великая стена или Великий канал в Китае или дороги и акведуки Рима. Правление фараонов исследуемого периода, как и прочие исторические примеры, опиралось на огромные армии и агрессивную внешнюю политику. Основной сюжет древнеегипетской иконографии (фараон, управлявший своей колесницей, возвышавшийся над телами своих врагов) мог с тем же успехом прийти из любой древней «империи доминирования» (см. главу 5). В таком случае абсолютно понятны и два переходных периода между династиями (2190–2052 и 1778–1610 гг. до н. э.), в рамках которых центральная власть была свергнута в ходе гражданской войны (и позднее) иностранного вторжения. Но даже если исключить эти периоды, остаются периоды Древнего и Среднего царства — два долгих этапа египетской истории, в рамках которых власть фараонов оставалась безграничной и относительно незыблемой. Возвышение Древнего царства (2850–2190 гг. до н. э.) особенно трудно понять. В течение практически 700 лет фараоны пользовались божественной властью — не властью наместника или представителя бога на земле, а властью Гора, жизненной силой или сына Ра, сына бога. В течение этого периода были возведены крупнейшие рукотворные строения, которые когда-либо знала земля, — пирамиды. Их строительство без использования колеса должно было требовать невиданных до сих пор масштабов и интенсивности координируемого труда строителей мегалитов[37]. Как и прочие мегалиты, они были сконструированы (хотя и под принуждением власти фараона) без использования постоянной армии. Каждый номарх (местный правитель) предоставлял фараону незначительное количество солдат, но ни один из них не был ответствен лично перед фараоном, за исключением его телохранителей. Мы почти не находим следов внутреннего милитаризма, подавлений народных восстаний, рабства или законного статуса применения силы (множество подобных упоминаний существует в Библии, но она описывает события, относящиеся к периоду Нового царства). Учитывая логистику древних коммуникаций (которая будет подробно описана в главе 5), реальный инфраструктурный контроль фараона над местной жизнью, вероятнее всего, был меньше, чем его формальная деспотическая власть. Когда Древнее царство стало разрушаться, оно потеряло контроль над номархами, которые, по всей вероятности, могли взять власть над собственными областями в свои руки намного раньше. Были и бунтовщики, и узурпаторы, которые затем заключали союз с писцами в целях скрыть свои мотивы. Идеологическое предпочтение в пользу стабильности и легитимности само по себе является социальным фактом. Писцы никогда не были так заинтересованы в этих добродетелях. Они рассказывают нам, что не существовало писаных законов — только воля фараона. Действительно, не существовало даже слов, обозначавших осмысленное разделение между государством и обществом, — только различение между географическими терминами, такими как «земли», и терминами, относящимися к фараону, такими как «царство» и «правление». Все политические практики, власть и мораль, по всей видимости, проистекали от него. Ключевое понятие «манат» (Macat), обозначающее качества эффективного правителя, у египтян было ближе всего к общему понятию «бог». Я не буду изображать образ однозначно доброжелательного государства. Один из его древнейших символов власти — перекрещенные пастушеский посох с крюком и плеть — может, вероятно, служить символом двойственной функциональной/эксплуататорской природы всех древних режимов. Но различия между Египтом и другими империями существовали по меньшей мере вплоть до Нового царства. Почему? Одно из возможных объяснений, основанное на гидравлической гипотезе Виттфогеля, не работает, как мы убедились в главе 3. В Египте ирригация долины Нила могла привести только к локализованному агро-менеджериальному деспотизму, то есть к тому, чего в действительности (исторически) там не было. Я также не нахожу убедительным идеалистическое объяснение, согласно которому власть проистекала из содержания египетской религии. Оно само по себе нуждается в объяснении. Давайте вернемся к Нилу, но не как к средству гидравлического сельского хозяйства, а как к коммуникационной сети. Благодаря Нилу Египет обладал наилучшими коммуникациями по сравнению с остальными доиндустриальными государствами. Страна представляла собой длинную узкую полосу, каждого отрезка которой можно было достигнуть по реке. Судоходство по ней было доступно в обоих направлениях, за исключением времени разливов. Нил течет с юга на север, а преобладающим ветром является южный. Лучших природных условий для экстенсивного экономического и культурного обмена, а также унификации трудно представить. Но почему все это должно было привести к единому государству? Тогда как, например, в средневековой Германии Рейн, обладавший сходными навигационными характеристикам, был поделен между местными лордами, каждый из которых регулировал и взимал торговые сборы с речных торговцев. Трафик Нила, вероятно, с самых первых письменных свидетельств контролировался носителем царской печати, чиновником, близким к фараону. Почему? Централизованный контроль был продуктом не только транспортных условий. Ответ на первый вопрос, по всей видимости, лежит в геополитике. Мы располагаем некоторыми данными об изначальной политической борьбе до появления письменности. Небольшие доисторические поселения были объединены властью двух царств — Верхнего и Нижнего Египта в конце четвертого тысячелетия. Насколько можно судить, в этот период вражды между городами-государствами не было или по крайней мере не сохранилось никаких сведений, которые ее современники хотели бы передать потомкам. Около 3200 г. до н. э. царь Верхнего (то есть южного) Египта Нармер завоевал находившееся ниже по течению реки Нижнее царство. Столицей объединенного государства стал Мемфис. Впоследствии это единство было практически постоянным. Экология помогает нам это объяснить. Здесь существовало несколько пересекавшихся сетей. Геополитические возможности, открытые для любого правителя или общности до объединения, были чрезвычайно ограниченными. Не было ни торговцев, ни пастухов, ни военных вождей погра-ничий, которых можно было бы использовать как противовес. В Египте были лишь простые вертикальные отношения между соседними силами, растянутыми вдоль реки на тысячи километров. Все коммуникации проходили через одних и тех же соседей, а потому никакой федерализации или лиги несоседствующих союзников не могло возникнуть на основе чего-либо более существенного, чем обмен сообщениями через пустыню. Это было уникальным случаем в геополитической дипломатии. В шумерской, китайской, греческой цивилизациях, древней Италии (во всех известных нам случаях) у города, племени или правителя всегда была возможность найти союзников, будь то из ближайших или заграничных областей, которые могли поддержать их против более сильных соседей. В рамках систем с балансом власти требовалось время, чтобы сильный мог поглотить слабого, к тому же это всегда открывало возможность для фрагментации сильного. В Египте подобного заступничества не было. Поглощение могло происходить непосредственно вдоль реки, его центр и все остальное население оказывались в социальной и территориальной ловушке пространства завоевания. Начиная с окончательной победы государства, находящегося вверх по реке, стало очевидно, что расположение выше по течению дает решающее стратегическое превосходство. Поэтому геополитическая борьба и интриги, а также необычная экосистема могли привести к единому централизованному государственному владению рекой и к соответствующей «клетке». Результатом стало поистине унитарное общество. Однажды установленное, это объединенное государство было относительно легко поддерживать — поддержку оказывала сама река в силу ее коммуникационной значимости. Государство вводило перераспределяющую экономику по всей территории и тем самым проникало в повседневную жизнь [своих подданных]. Фараон обеспечивал саму жизнь. Как хвасталась двенадцатая династия фараонов, «я был тем, кто заставлял зерно расти, и тем, кого почитали богом плодородия. Нил приветствовал меня в каждой долине. Никто не был голоден и не испытывал жажды во время моего правления. У всех было место в мире, который создал я» (цит. по: Murray 1977: 136) — Термин «фараон» (в переводе «великий дом») обозначал перераспределяющее государство. Государство производило двухгодичный (а позже и ежегодный) учет богатства, то есть животных, в землях и золоте, оно также собирало налоги (в натуральном или трудовом выражении). Налог на урожай был установлен в Новом царстве (вероятно, также и в Старом царстве) на уровне половины (на большие наделы) или одной трети (на маленькие хозяйства) от всего урожая. Это поддерживало царскую бюрократию и обеспечивало семенами для посева в следующем году, часть налогов шла на долгосрочное хранение на случай гибели урожая. Мы также предполагаем, что основной обмен внутренней продукцией (ячменем, эммером (разновидностью пшеницы), овощами, птицей, дичью, рыбой) производился через государственные хранилища. На самом деле система была не такой уж централизованной. Сбор налогов был отдан на откуп провинциальной знати, а начиная с третьей династии (около 2650 г. до н. э.) ею же регулировались права частной собственности. Это еще раз свидетельствует о том, что могущественное государство наряду с правящим классом и правами частной собственности в Древнем мире были слиты воедино. Государству требовалась поддержка провинциальной знати. Даже если это не получило достаточного отражения в идеологии (поскольку лишь один фараон был божеством), на практике политическое тело было связано обычным для Древнего мира образом. Но в случае Египта баланс сил изрядно склонялся в пользу монарха. Геополитические возможности недовольных номархов в поиске союзников практически отсутствовали до того, как сталкивались с твердым контролем фараона над рекой. Пока фараон оставался компетентным и неподвластным внешним угрозам, его внутренний контроль был в основном незыблем. Власти фараонов также способствовал второй, экологический фактор. Хотя египетская речная долина обеспечивала сельскохозяйственное изобилие и на ее границах стояли внушительные сооружения из строительного камня, здесь было очень мало дерева и практически не было металлов. Медь и золото в больших количествах залегали на востоке и юге (особенно на Синае), однако пустыня препятствовала расширению египетского общества в этом направлении. Никаких месторождений железа поблизости от Египта не было, как не было и высококачественного дерева, которое поставляли из Ливана. Самой востребованной вплоть до начала железного века (около 800 г. до н. э.) была медь, поскольку она была одинаково необходима и для сельскохозяйственных, и для военных нужд, а также полезна (наряду с золотом и серебром) как средство генерализованного обмена. Ни одна из цивилизаций не контролировала шахты Синая, поскольку они находились еще дальше от шумерской сферы влияния или средиземноморских поселений. Их драгоценные металлы были причиной периодического рейдерства, особенно в ходе транспортировки. Основные военные экспедиции Старого царства начиная с первой династии снаряжались в целях защитить медь и золото. Их часто возглавлял сам фараон, а медные (а возможно, и золотые) шахты находились в непосредственном ведении фараона начиная с первой династии. В то время не было военных экспедиций, нацеленных на территориальное завоевание, существовали только коммерческие рейды, направленные на защиту торговых потоков и дани (два последних часто были неотделимы) в Египет. Проблемы контроля над территориями провинциальных правительств едва ли могли возникнуть в этой сфере деятельности. Даже слабые государства (например, в средневековой Европе) осуществляли определенный контроль над двумя функциями: кратковременными военными экспедициями и распределением драгоценных металлов и квазимонет. Если эти центральные «королевские права» становились критически важными для социального развития в целом, то можно было ожидать роста государственной власти. Моя гипотеза состоит в том, что власть фараонов основывалась на специфическом для данной местности сочетании (1) геополитического контроля над коммуникационной инфраструктурой Нила и (2) перераспределения существенно необходимых металлов, добываемых только благодаря иностранным военным экспедициям. Прямых доказательств в пользу этой гипотезы нет[38], но она правдоподобна, а также пригодна для разрешения двух основных египетских загадок: как пирамиды могли быть построены без жестоких репрессий и почему там было мало городов? Вопреки высоким показателям общей плотности населения в долине Нила было считаное количество городов. Даже их архитектура не могла быть названа городской, за исключением царских дворцов и храмов. В городах не было публичных строений или пространств, а большие дома, идентичные им, располагались и в сельской местности. Египетские тексты не содержат упоминаний о египетских профессиональных торговцах вплоть до 1000 г. до н. э. Уровень египетской цивилизации — ее плотность населения и его устойчивость, роскошь привилегированного класса, степень экономического обмена, литература, способность к социальной организации, художественные достижения — не вызывает сомнения. Но вклад городов в цивилизацию, который был столь заметным и общим в других империях, в Египте был пренебрежительно мал. Могло ли произойти так, что городские функции, особенно экономический обмен и торговля, здесь осуществлялись государством? Вторая загадка — об относительном отсутствии репрессий — предполагает даже больше гипотез. Обычно предлагают два логичных, но частичных объяснения. Во-первых, мальтузианские циклы роста населения периодически создавали избыток населения, пригодного для труда, но не задействованного в сельском хозяйстве. Во-вторых, циклы времен года делали излишки труда доступными на период месяцев засушливого сезона или наводнений Нила, когда продовольственные ресурсы семей были истощены. Оба объяснения порождают дальнейшие вопросы: откуда государство брало ресурсы, чтобы накормить этих работников? В Древнем мире государства использовали насилие в период избытка численности населения и недостатка продуктов питания, когда хотели отнять ресурсы своих подданных. Характерно, что государство было не способно остановиться, поэтому дезинтеграция, гражданская война, мор и сокращение населения были обеспечены. Однако если государство захватывало ресурсы, необходимые для выживания изначально, то не было необходимости забирать их у своих подданных. Если египетское государство обменивало собственные медь, золото и иностранные товары на продукты питания и задерживало обмен продуктами питания через Нил, оно могло обзавестись их излишками, чтобы накормить рабочих. Египетское государство, по всей видимости, было сущностно необходимым для выживания масс населения. Если верить источникам, два периода дезинтеграции государства принесли в Египет убийства, голод и даже каннибализм, а также изменения в стиле керамики, чего не было в предыдущие периоды. Физическое владение египетского государства коммуникационной инфраструктурой Нила, иностранной торговлей и драгоценными металлами давало ему монополию на ресурсы, необходимые для подчиненных. В данном случае в использовании силы, в отличие от всего остального Древнего мира, не было необходимости до тех пор, пока подданные государства не предпринимали попыток организовать собственные торговые экспедиции или самостоятельно контролировать Нил. Фараон контролировал одну консолидированную «организационную структуру», центром которой был Нил, объединявший экономическую, политическую, идеологическую и частично военную власть. Альтернативных сетей власти социального или территориального пространства, пересекавших данную, попросту не существовало, как не существовало и системы потенциально возможных союзов недовольных, к которым могла бы присоединиться другая властная база, кроме самого Нила. Последствием экстраординарной степени этой социальной и территориальной «клетки» было то, что египетская культура была практически унитарной. У нас нет подтверждений существования кланов или родственных групп — обычных горизонтально сегментированных группировок в аграрных обществах. Тем не менее боги имели локальное происхождение, большинству из них поклонялись по всему царству как части общего пантеона. Наиболее уникальным в империях Древнего мира до возникновения религий спасения было то, что правители и массы поклонялись практически одним и тем же богам. Естественно, их религиозные привилегии не были равными (крестьяне не могли рассчитывать на загробную жизнь или даже на похороны), но верования и участие в ритуалах были одинаковыми практически у всех классов. Кейт Хопкинс продемонстрировала, что в поздний период римской оккупации Египта братско-сестринский инцест, который долгое время был привилегией лишь правителей, стал широко распространенным у всех классов (Hopkins 1980). Степень общего культурного участия в едином и, естественно, отличавшемся большим неравенством обществе была уникальной. Это было самое близкое приближение к унитарной социальной системе (модель обществ, которую я отвергаю в этой работе) из тех, что мы находим на протяжении письменной истории. Я предполагаю, что такая социальная система явилась результатом совпадения весьма специфических обстоятельств. Особенности египетской экологии и геополитики также учитывают отличную модель развития власти — раннее и стремительное развитие и затем стабилизация. Величайшие пирамиды были построены в самом начале. Принципиальные социальные формы, на которые я ссылался, были установлены к середине третьего тысячелетия до н. э. Это также применимо к большинству египетских инноваций, распространившихся среди прочих цивилизаций: навигационные технологии, искусство письма на папирусе вместо каменных табличек; календарь, состоявший из 365 дней, а затем из 365 И дней. Это было намного более быстрое усовершенствование технологий власти, чем мы находим в Месопотамии или в других первых цивилизациях. Почему оно было столь стремительным? Исходя из моей общей модели, я предполагаю, что древние египтяне сильнее принуждались к заключению в «клетку», к более интенсивным структурам социальной кооперации, из которых не было выхода. Цивилизация как таковая в целом была следствием заключения в социальную «клетку», но в данном случае мы обнаруживаем более интенсивный инвариант этого процесса. Тот же экономический проект, что и в прочих первоначальных цивилизациях (создание беспрецедентных излишков), в сочетании с необыкновенной степенью централизации и координации социальной жизни привел к огромной управляемой и снабжаемой продовольствием рабочей силе и возможности переключения рабочих для выполнения централизованных непроизводительных задач. Коммуникативные сложности во взаимодействии с остальным миром ограничили развитие и рост производительности торговли и ремесел. Поэтому излишки и кооперативный труд были направлены на строительство монументов и религиозно-интеллектуальные формы экспрессивности и креативности. Пирамиды и духовенство вместе с письменностью и календарем были результатом ирригационной, централизованной и изолированной социальной «клетки». Во всех первых цивилизациях распространились неконтейнерные доисторические структуры. А египетская цивилизация перевернула все вверх ногами. Впоследствии развитие технологий власти замедлилось практически до состояния покоя. Новое царство управляло таким образом, чтобы конкурировать с сухопутными империями доминирования и в результате войны расшириться до Леванта. Но Египет был хорошо защищен природными границами и имел достаточно времени, чтобы реагировать на угрозы. Когда более поздние империи научились объединять крупномасштабные наземные и морские операции, с независимостью Египта было покончено — сначала силами персов, затем македонцев и их эллинистических потомков. Даже военные нововведения Нового царства — колесницы, греческие наемники были заимствованы и оказали незначительное влияние в египетском обществе. Уже к концу третьего тысячелетия до н. э. египетское общество достигло той стадии, когда дальнейшего видимого развития не наблюдалось. Его стабильность признавалась всем Древним миром. Например, Геродот — чуткий исследователь добродетелей других народов повествует о том, что египтянам приписывают изобретение многих вещей — от учения о бессмертии души до запретов сношения в храмах! Он отмечает огромное влияние Египта на Грецию, выражает уважение к их древним знаниям и восхищается их стабильностью, преклоняется перед традициями и запретом всего иностранного. Он почитает их, поскольку как историк почитает все прошлое. Тем не менее мы можем наблюдать интеллектуальное развитие этих качеств. В позднем Новом царстве являются боги Птах и Тот, чтобы представить чистый Интеллект и Мир, из которого происходило творение. Между этим мифом и эллинистически-христианским («В начале было Слово»), вероятно, есть определенная связь. Вечная истина, вечная жизнь были египетскими навязчивыми идеями, которые стали более общими маниями всего человечества. Но египтяне полагали, что им удалось ближе остальных продвинуться к их достижению. Египетское государство справлялось с этими проблемами, сопротивляясь им и затем возвращая их обратно в некоторой степени удовлетворенными. Бесконечность последующих поисков Мира и Истины исходила из совершенно различных источников. Египетская неугомонность[39] после первого этапа великого процветания, казалось, стихла. Наиболее отчетливо это продемонстрировала криминальная хроника пирамид. Гробницы, входы которых стали скрывать все более замысловатым образом, почти всегда подвергались грабежу, причем в первую очередь. Это одно из основных свидетельств дна, изнанки (underworld), не теократическое обозначение идеологического понятия дна для душ (ада), а криминальное понятие. Оно демонстрирует, что письменные свидетельства рассказывают нам ограниченную и идеологическую сказку. Это также свидетельствует о том, что борьба за власть и ресурсы в Египте была всеобъемлющей, как нигде в Древнем мире. Все, чего не хватало Египту, — организационные структуры для легитимного выражения альтернативных властных интересов, будь то горизонтальных (борьба между кланами, городами, лордами и т. д.) или вертикальных (классовая борьба). Социальная «клетка» была тотальной, как никогда прежде. В этом отношении она не была доминирующей моделью социальной организации. Мы сталкиваемся с внушительной властью солидаристской организации в Египте еще лишь однажды — около 1600 г. до н. э., но в последний раз. Развитие социальной организации по большей части имело другие источники: взаимодействие частично пересекающихся сетей власти и позднее организованные социальные классы.МИНОЙСКИЙ КРИТ
Минойский Крит является исключением из общей модели, однако, как представляется, его исключительность в меньшей степени обусловлена тем, что он не был независимо возникшей «первой» цивилизацией[40]. Города были построены на Крите около 2500 г. до н. э., а комплексы, которые мы называем дворцами, возникли сразу после 2000 г. до н. э. Окончательное разрушение вслед за столетием, по всей видимости, греческого господства произошло около 1425 г. до н. э. Таким образом, минойская цивилизация была достаточно долговечной. Она также имела письменность: сначала это были лишь пиктограммы, затем примерно с 1700 г. до н. э. линейное письмо А, которое расшифровать не удалось, и, наконец, с XV в. до н. э. греческое линейное письмо Б. Таблички с линейным письмом Б еще раз подтверждают пересечение частной собственности на товары и землю с центральным хранилищем перераспределяющей экономики: снова дворцы и храмы могли оказаться чем-то большим, нежели просто украшенными хранилищами и приходскими офисами. Тем не менее они, возможно, позднее были усилены единой доминирующей религией и культурой. Масштаб социальной организации трудно оценить, поскольку мы не знаем степени координации между различными дворцами/храмами/городскими концентрациями. Но крупнейший город Кносс, вероятно, насчитывал по меньшей мере 4,6 тыс. жителей, обеспечиваемых напрямую контролируемым сельскохозяйственным населением, составлявшим около 50 тыс. человек. Минойский Крит, весьма сходный с шумерской цивилизацией, был слабой культурно-сегментированной федерацией дворцов/храмов/городских центров экономического перераспределения. Масштабы его социальной организации были сравнимы с теми, которые наблюдались в период первых прорывов к цивилизации в долинах рек. Но есть два основных отличия от других случаев. Во-первых, это была необыкновенно мирная цивилизация с незначительными следами войны или строительства укреплений. Никто не может дать этому факту соответствующее объяснение, что не отвергает его пояснение посредством милитаристических теорий. Во-вторых, это была не ирригационная или даже не аллювиальная цивилизация. Как и везде, сельское хозяйство давало наилучшие урожаи в долинах рек (и прибрежных равнинах), хотя, без сомнения, некоторое отведение речной воды также практиковалось — здесь преобладало сельское хозяйство на землях, увлажняемых дождями. Это делает минойский Крит уникальным среди прочих письменных цивилизаций Евразии и порождает множество споров и исследований по поводу его происхождения. Долгое время бытовало убеждение, что письменность и цивилизация, должно быть, пришли сюда с Ближнего Востока; в настоящее время голоса защитников независимой локальной эволюции Крита становятся более громкими (например, Renfrew 19712). Вероятнее всего, исторически имело место нечто среднее, сочетающее элементы обеих позиций. Позвольте выделить три найденных археологами артефакта, которые могли быть занесены сюда из других цивилизаций: сельскохозяйственные методы, декоративные артефакты и письменность. В более поздние доисторические времена в Эгее мы обнаруживаем постепенное улучшение в разнообразии и чистоте выращиваемых зерновых, семенах овощных культур и одомашненных породах животных, а также в разнообразии рыбы и морских продуктов. Можно проследить существенную диффузию подобных улучшений в результате влияния Ближнего Востока, повторения за соседями или миграции в рамках формальной торговли. Социальная организация, укрепляемая подобными улучшениями, могла быть по сути лишь локальной. В Эгее третьего тысячелетия до н. э. было два принципиально полезных растения: виноград и олива, которые росли на одной территории; они увеличивали количество производимых в данном регионе излишков и товаров для региональной торговли. Области, в которых виноград, олива и злаки пересекались (как на Крите), обладали ключевым стратегическим значением и могли оказывать контейнерное воздействие на население — «функциональный эквивалент» ирригации. Второй тип артефактов — декоративные вазы и прочие торговые артефакты, включая бронзовые орудия и оружие — только начинают находить, необходимы дальнейшие археологические усилия. Исследование их стилей демонстрирует, что они по большей части ограничивались Эгейским регионом и практически не изменились под влиянием ближневосточного дизайна. Гипотеза состоит в том, что в этом регионе преобладала торговля. Возможно, эгейские народы играли незначительную роль в Ближневосточном регионе, поэтому путь к городским концентрациям и пиктограммам был по большей части местным. Их торговля была вызвана тремя факторами: изначальной сельскохозяйственной диффузией; необычайно большой степенью экологической специализации, в которой огромную роль играли виноград и олива; превосходные коммуникационные маршруты, поскольку каждое поселение обладало доступом к морю. Все сети пересекались в одной и той же области Эгеи. Такое пересечение, по всей видимости, привело критскую культуру к появлению письменности. Как и в остальных случаях, общей причиной возникновения письменности была ее польза в стабилизации контакта между производством и частной собственностью, с одной стороны, и контакта между экономическим перераспределением и государством — с другой. Это делает весьма маловероятным чистый диффузионистский случай появления письменности. Диффузионисты в целом склонны полагать, что письменность настолько полезна, что каждый столкнувшийся с ней хоть раз захочет ею овладеть. Но на самых ранних стадиях письменность использовалась весьма специфическим образом. Маловероятно, что древнее общество могло овладеть письменностью еще до появления производственных/перераспределяющих циклов. Письменность отвечала региональным нуждам. Возможно, на Крите, как и в любой другой древней цивилизации, письменность распространялась самым простым из возможных способов, то есть путем повторения за каждым иностранным торговцем с пиктограммной печатью на его горшках и сумках с товарами или за каждым местным торговцем, просматривавшим таблицы иностранных хранилищ. В таком случае для этой диффузии была бы необходима только минимальная торговля. У нас есть доказательства торговли за пределами этих минимально необходимых расстояний. Торговля с Египтом, Левантом и даже с Северной Месопотамией расцвела в первый письменный период. Но детали письменности, вероятно, не были заимствованы, поскольку минойское письмо было не похоже на другие своими знаками и, по всей вероятности, своим использованием только и всецело для нужд администрации. На самом деле слово «письменность» (literacy — «грамотность») в данном случае не вполне подходит, поскольку в литературных или общественных надписях не существует свидетельств общего использования кипро-минойского письма. Сочетание трех вышеупомянутых факторов, как представляется, привело к тому, что ранние древние минойцы оказались на краю. Но это был край, который множеству других народов так и не удалось преодолеть. По причине нахождения Крита вблизи ближневосточных цивилизаций, а также незначительной торговли с ними мы не можем рассматривать его как независимо возникшую цивилизацию или государство. Этот пример демонстрирует, насколько меньше усилий требует прорыв к цивилизации, когда в регионе уже доступны технологии власти. Границы «клетки» в случае Крита были более проницаемыми, чем в Месопотамии. Пересечение областей выращивания винограда, оливы и злаков было ключевым моментом огромной стратегической власти. Но пойманы в «клетку» они были постоянным «письменным» государством, поддерживаемым сплоченной религией, зависящим от широких региональных взаимосвязанных сетей.МЕЗОАМЕРИКА
Значимость цивилизаций Нового Света для теорий социального развития состоит в том, что ученые, которым несвойственно мыслить в универсалистских терминах, рассматривают их в качестве автономных от других цивилизаций. Поскольку они были местными для другого континента с отличавшейся экологией, развитие цивилизаций было уникальным во всех отношениях. Например, они не использовали бронзу. В отличие от евразийских цивилизаций их инструменты технически относились к неолитическому веку. Ничто не могло направить их к жесткой девелопменталистской модели, основанной на ирригации, заключавшей в «клетку», или к чему-то подобному. Поэтому следует ожидать лишь приблизительных сходств. Это особенно верно, если мы сравним Мезоамерику с Перу. Их разделяли тысячи километров, разные окружающие среды, реальных сходств было мало. В Мезоамерике[41] появление поселений, церемониальных центров и, возможно, «государств», урбанизации и письменности было географически более неоднородным, чем где бы то ни было. Лидерство в развитии переходило от одной окраины к другой. Вероятно, имели место три основных этапа. То, что может быть обозначено как первый прорыв к появлению церемониальных центров, к календарю длинных циклов и к появлению основ письменности, произошло в низинах Мексиканского залива. Археологические работы предполагают, что ядром этого были богатые аллювиальные земли вдоль речных запруд. Взаимодействие с тропическим подсечно-огневым земледелием, рыбацкими деревнями и периферийными народами, поставлявшими сырье, например обсидиан, привело к экономическому и политическому неравенству с ранговыми, в основном элитарными аллювиальными землями (см. исследовательские отчеты Сое and Diehl 1981; обзор, составленный Flannery 1982; общее заявление Sanders and Price 1968). Эта протоцивилизация — ольмеки — хорошо вписывается в мою общую модель. Она обладает сходством с домилитаристическим Китаем династии Шан. Для нее также характерна малая плотность городских поселений. Сан-Лоренцо — самое сложное поселение насчитывало всего лишь 1–2 тыс. человек. Мезоамериканская цивилизация также была отмечена сходством с китайской в религии, календаре и системе письменности (хотя полноценное письмо здесь так и не развилось). Этот факт воодушевляет диффузионист-ские теории: Шан или прочие азиатские ее ответвления могли повлиять на культуру ольмеков (см., например, Meggers 1975). Возможность культурного контакта через Тихий океан остается слишком призрачной, чтобы убедить нас относительно происхождения ольмеков. Второй этап также не представляет никакой сложности. Ольмеки, следуя обычной цивилизационной модели, увеличивают возможности своей власти, распространяя ее на высокогорные народы, с которыми они торговали, особенно на народы долины Оахака (см. Flannery 1968). Ольмеки также торговали и распространяли свое влияние по всей Мезоамерике, что видно по монументальной архитектуре, иероглифам и календарю. Далее, хотя и с определенными региональными различиями, имела место одна диффузная сегментированная культура Мезоамерики, намного более экстенсивная, чем могла контролировать одна авторитетная организация. Но ольмеки так и не развили полноценной государственности (в этом также проявляется их сходство с развалившимся Шанским Китаем). Вероятно, они не были достаточным образом заперты в «клетку». Они исчезли около 600 г. до н. э., но передали свои властные возможности другим группам, две из которых прошли разными путями развития на третьем этапе. Одной из этих групп были майя из северных долин. Около 250 г. н. э. они развили полномасштабную письменность, календарь длинных циклов, большие городские центры, архитектуру с ложными сводами и перманентное государство. Тем не менее майя оставались частично не запертыми в «клетку». Плотность населения их городов была низкой, возможно, даже ниже, чем в династии Шан. Государство также было слабым. И государство, и аристократия были лишены стабильной принудительной власти над населением. Абсолютные ранги — понятие, более подходящее для обозначения их структур, чем стратификация и государство. Майя не практиковали ирригацию. Благодаря обильным тропическим дождям они собирали два урожая зерновых в год, и лишь в немногих аллювиальных областях это было возможно; существует мало доказательств о социальной и территориальной фиксации сельского хозяйства; в большинствеобластей истощение почв, напротив, требовало периодических перемещений. На самом деле такие не способствовавшие запиранию в «клетку» условия в целом не благоприятствовали появлению цивилизации. Даже если допустить сильную диффузию ольмеков и прочих народов, проживавших с ними в одно и то же время в центральной долине (что в настоящее время активно обсуждается; см. Сое 1971; Adams 1974), я не могу утверждать, что моя модель является вполне подходящей для этого случая. Теория регионального взаимодействия Ратье (Rathje 1971.) сходна с моей моделью, но она предполагает только необходимое, но недостаточное объяснение. Гораздо проще объяснить коллапс цивилизации майя (около 900 г.н. э.), чем ее происхождение. Было ли непосредственной причиной этого, как утверждают ученые (см. эссе Culbert 1973)’ истощение почв или завоевание извне либо внутренняя гражданская или «классовая» война, не ясно, так или иначе в данном случае имела место слишком маленькая верность фиксированным социальным и территориальным контейнерам, чтобы рассматривать указанные кризисы сквозь их призму. Второй группой, развившей здесь цивилизацию, стали народы центральной долины Мексиканского залива. Они возвращают нашу модель на более привычную и твердую почву (или скорее воду) ирригации, которая практиковалась в то время в районах озер, в рамках региона, более широкого, чем тот, который огораживали естественные границы гор. Исходя из данных Парсонса (Parsons 1974), Сандерса и прочих (Sanders et all. 1979)’ мы можем различить медленный рост начиная примерно с 1100 г. до н. э. и далее в течение нескольких сотен лет. Затем около 500 г. до н. э. здесь появляются ирригационные каналы (как и в других частях высокогорной Мезоамерики), связанные с увеличением численности населения и образованием ядра. На севере долины вокруг Теотиуакана этот рост населения был диспропорциональным, по всей видимости, по причине необыкновенно благоприятных условий для ирригации, а также стратегического положения для добычи камня и отделочного обсидиана. Здесь существовал интенсивный обмен с охотниками-собирателями и жителями лесов периферии. Эти структуры ирригационного ядра и сетей регионального взаимодействия были похожими на Месопотамию, такими же были и результаты: рост иерархии в поселениях и архитектурная сложность. К 100 г. н. э. здесь возникли два региональных политических центра с населением около 50–60 тыс. человек, сфокусированных вокруг центрального города, завладевшего территорией в несколько тысяч километров и иерархически организованного. Отныне это была «цивилизация», поскольку она располагала храмами, торговыми площадями, а также календарем и иероглифической письменностью. К IV в. н. э. Теотиуакан был постоянным городским государством, практикующим принуждение, с населением 80-100 тыс. человек, господствующим над несколькими другими городами, которые располагались в горной местности. Его влияние распространилось по всей Мезоамерике, а сфера господства — вплоть до границ культуры майя. Но Теотиуакан также, даже еще более загадочным образом, распался между 550 и 700 гг. н. э. После непродолжительного периода междуцарствия он был вытеснен более милитаристическими военными вождями пограничий с севера — тольтеками, практиковавшими человеческие жертвоприношения. Их империя простиралась на большую часть Мезоамерики. В настоящий момент мы рассказываем практически о том, о чем пойдет речь в следующей главе: о цикле между ростом империи и ее фрагментацией, диалектике между империей и военными вождями пограничий. Наиболее известными пограничными завоевателями Мезоамерики были тольтеки. Ацтеки соединяли высокий уровень милитаризма (и человеческих жертв) с самым интенсивным уровнем ирригационного сельского хозяйства и урбанизации из тех, что до сих пор знала Мезоамерика. Большинство из этих процессов были того же общего рода, что и прочие процессы, которые происходили в Мезоамерике, хотя существовали и отличия. Происхождение майя отличается от остальных, как и во всех общих моделях. Но по большей части цивилизация выстраивалась вокруг широко распространенного доисторического организационного развития. Затем первый этап и центральнодолинная часть третьего этапа привнесли собой заключение в «клетку»: ограничение в территории, отмеченной близостью к аллювиальным рекам и областям озер, а также к локальному или региональному сырью. Следовательно, имел место двойственный процесс возникновения жесткой авторитетной организации, выстроенной вокруг ирригации, а также диффузных сетей обмена и культурного охвата, выходивших за пределы этой организации. В свою очередь, эти процессы заключения в «клетку» привели к знакомым результатам — они давали преимущества военным вождям пограничий и последующим циклам господства центра над периферией, которые будут рассмотрены в следующей главе. Но не следует слишком увлекаться аналогиями с евразийскими цивилизациями. Экология здесь была совершенно другой: не было ни широкого регионального сходства, как в Китае, ни существенных различий между долиной реки и высокогорьем, как в Месопотамии. Это регион множества контрастов, но не резких и не огромных контрастов, что, по всей вероятности, объясняет, почему общества здесь были меньше заперты в «клетку», менее склонны к централизации и постоянству. Политические структуры различных цивилизованных и полуци-вилизованных народов были гораздо менее жесткими по сравнению с ближневосточными или китайскими аналогами. Вероятно, за 1500 лет коллективная власть мезоамериканской цивилизации развилась гораздо меньше, чем в Евразии в течение аналогичного периода. Потребовалось всего лишь 500 конкистадоров, чтобы положить конец этому развитию. Трудно представить, что, скажем, ассирийские или ханские династии погибли по этой же причине. Ацтекская империя не была жесткой федерацией. Лояльность ее вассалов считалась заведомо ненадежной. Даже в своем ядре ацтекское общество содержало систему сдержек и противовесов майя, которая сопротивлялась дальнейшему укреплению государства. Религия и календарь, унаследованные от майя, создавали циркуляцию верховной власти и серии календарных циклов в различных городах-государствах/племен-ных единицах империи. Один цикл подошел к концу (хотя некоторые провинции были уверены, что окончен весь календарь) в год их божества — в 1519-м. Пернатый Змей[42] должен быть рожден, и, вероятно, «бледные предки» должны были возвратиться. В 1519 г. прибыли бледные и бородатые испанцы. История о том, как конкистадоры были приняты за материализованных правящих божеств ацтекским правителем Монтесумой, является одной из величайших легенд в мировой истории. Ее часто преподносят как хрестоматийный пример странных исторических событий. Таковым он и является. Но календарь и политическая революция, легитимировавшая его, также выступают примерами механизмов, посредством которых доисторические народы пытались уклониться от постоянного государства и социальной стратификации даже после того, как, по нашим оценкам, они всецело оказались в их ловушке. К несчастью для ацтеков и их вассалов, собственный путь к отступлению завел их в неизбежные оковы европейского колониализма. В этом отношении общая модель связи между социальной властью и структурами, заключавшими в «клетку», подкрепляется отличиями Мезоамериками от Евразии ничуть не меньше, чем сходствами с ней. Меньшая запертость в «клетку» выливается в меньшую цивилизованность, менее постоянные институционализированные государства — в меньшую социальную стратификацию, за исключением тех случаев, когда в конечном итоге вмешивается всемирно-историческая случайность. Однако последний предостерегающий факт заключается в том, что многие аспекты истории Мезоамерики не вполне ясны или остаются предметом споров. Креативный сплав американской социальной науки в археологии и антропологии призван изменить эту картину. Специалисты осознают, что последние теоретические модели (Фланнери, Ратье, Сандерс и Прайс) органично вписываются в мою контейнерную модель регионального взаимодействия. А если их взгляды претерпят трансформацию под влиянием исследователей последующих десятилетий, то проблемы будут уже у моей модели.АНДСКАЯ АМЕРИКА
Первые полугородские и церемониальные центры появились в узких долинах рек западных Анд вокруг простого ирригационного сельского хозяйства в сочетании с обменом с высокогорными пастухами и прибрежными рыболовами[43] [44]. Следующей стадией явилась постепенная консолидация этих трех компонентов в единые вождества, около сорока из которых просуществовали вплоть до более поздних времен завоевания инками. Они были нежестко структурированными и непостоянными, включены в обладавшую большим сходством региональную культуру, в которой начиная примерно с 1000 г. до н. э. преобладал чавинский художественный стиль и которая, по всей видимости, была результатом экстенсивных региональных сетей взаимодействия. Это был уже хорошо знакомый нам более поздний вариант доисторического плацдарма, на котором могли возникнуть или знакомые доисторические циклы, или прорыв к цивилизации, возможный благодаря комбинации ирригационного ядра и региональных сетей взаимодействия. Подобный прорыв произошел, но чем больше мы о нем узнаем, тем более поразительными предстают его особенности. Он не соответствует модели. Имели место три особенности. Во-первых, возникавшие политические единицы с самого начала расширяли свое влияние не через территориальную консолидацию, а через создание цепи колониальных форпостов, которые существовали с другими политическими единицами и проникали в их сети. Это так называемая архипелаговая модель развития Анд. Во-вторых, торговля между автономными единицами была в меньшей степени механизмом экономического обмена, чем внутреннего дарообмена (реципрокности, по К. Поланьи) и перераспределения внутри каждого архипелага. Таким образом, к тому моменту, когда мы можем называть эти политические единицы государствами, примерно в 500–700 гг.н. э., их характер был более перераспределяющим по сравнению с характером тех, кого мы находим в других первых цивилизациях. В этом развитии было гораздо меньше от пересекающихся сетей власти и гораздо больше от внутреннего, заключенного в «клетку» пути, который трудно объяснить. В-третьих, когда одна или несколько таких единиц становились гегемоном (по большей части, как представляется, путем завоевания), они инкорпорировали эти внутренние механизмы, демонстрировали раннюю зрелость в логистике власти. Это очевидно уже начиная с империи Уари (Huari) 700 г.н. э., которые были отличными строителями дорог, административных центров и хранилищ. Но у нас значительно больше данных о впечатляющем империализме инков. Около 1400–1430 г.н. э. одно «племя», группировка и вожде-ство — инки завоевали остальные. К 1475 г. инки использовали рабский труд для строительства городов, дорог и крупномасштабных ирригационных проектов. Они создали централизованное теократическое государство с вождем в качестве бога, забрали всю землю в фонд государственной собственности и отдали экономическое, политическое и военное управление в руки инкской знати. Инки либо разработали, либо расширили систему кипу, в рамках которой посредством сложных веревочных сплетений и узелков сообщение могло распространяться по всей империи. Это не была «письменность» в прямом смысле слова. Поэтому, следуя моему исходному определению, инки не были полноценной цивилизацией. Тем не менее это было усовершенствование административной коммуникации, примеры которой можно найти во всех ранних империях. Эта империя занимала значительную территорию (практически миллион квадратных километров) с населением до 3 млн человек. Ее размеры и стремительный рост были удивительными, хотя и не беспрецедентными, — в качестве аналога можно предложить воинственные империи, такие как Зулусская империя. Что действительно было беспрецедентным, так это уровень развития инкской логистической инфраструктуры авторитетных постоянных государств и социальной стратификации. Империя возвела 15 тыс. километров мощеных дорог, по которым были расставлены хранилища на расстоянии одного дня ходьбы друг от друга (испанцы обнаружили их полными продуктов), а также возможность передать сообщения на расстояние 4 тыс. километров за 12 дней при помощи пеших гонцов (что, конечно, является преувеличением, хотя инкские гонцы действительно были настоящими атлетами, бегунами на средние дистанции). Армия инков отличалась хорошо организованным снабжением и системой связи. Во время заграничных операций их сопровождали стаи лам, переносивших продовольствие. Своими победами инки были обязаны способности к концентрации превосходящих по численности войск в необходимом месте (детали их логистики можно найти у Брема (Bram 1941.)). Инкские политические правители после завоеваний демонстрировали свои логистические способности. Исследователи расходятся во мнениях относительно основ так называемой десятичной административной системы, которая впервые появилась как унифицированная «организационная структура», наложенная на всю империю. Мур (Moore 1958: 99-125) убежден, что это была всего лишь система сбора дани. Ее нижние уровни были укомплектованы завоеванной элитой, за которой осуществлялся слабый контроль со стороны инкских провинциальных правителей, поддерживаемых милицией поселений. Нечто более развитое просто было недоступно таким примитивным обществам. Тем не менее эти техники власти демонстрируют логистический уровень, которого другим цивилизованным областям удалось достичь после тысячелетней или более того истории государственного развития. Они напоминают те, которые были у династии Хань в Китае, на ассирийском или римском Ближнем Востоке и в Средиземноморье с идеологической предельной (на грани возможного) одержимостью централизацией и иерархией. Если мы сфокусируемся на этих логистических достижениях, то инки (а возможно, некоторые из их предков) выглядят слишком развитыми, чтобы использовать для них мою модель. На самом деле они представляют сложность для любой общей модели. Например, они обладали всеми характеристиками оппенгеймеровского «воинствующего государства», как утверждает Шейдел (Schaedel 1978: 291), однако такое отождествление упускает существенную деталь — они были единственным, примером воинствующего, независимо возникшего государства, это зародившееся государство как продукт военного искусства затем было стабильно институционализировано. Разумеется, все остальные объяснения, помещающие инков в общую схему, также неадекватны. Если принимать их достижения всерьез, они были просто непостижимыми. Или же можно не принимать инкские достижения настолько серьезно. В итоге империи пришел конец, когда 106 пеших солдат и 62 конника под предводительством Франсиско Писарро (при поддержке занесенных из Европы микробов) оказали давление на Сапа Инка и он отступил. Без своего главы инфраструктура инков оказалась не жизнеспособной социальной организацией, а всего лишь серией массивных артефактов (дорог, каменных городов), скрывающих слабо организованную, нежесткую и, вероятно, по сути доисторическую племенную конфедерацию. Были ли артефакты всего лишь эквивалентами мегалитических цивилизаций, памятники которых также пережили социальный коллапс своих создателей? По всей вероятности, нет, поскольку их озабоченность логистической инфраструктурой власти становится очевидной из самих построек. Это делает их гораздо ближе к более поздним империям, чем к мегалитическим народам. Их власть в действительности оказалась более хрупкой, но она была связана с централизацией и жестокостью, а не с избеганием власти, которое, как я отмечаю в главе 2, было типичным для доисторического этапа. Я признаю, что инки были исключением, где логистически усиленный милитаризм играл как никогда огромную роль в происхождении цивилизации и где цивилизация (по сравнению с другими) была чрезвычайно неоднородна в своих достижениях. Таким образом, все остальные случаи, за исключением цивилизации американских Анд, свидетельствуют о валидности общей модели. Два социально-экологических аспекта обладали решающим влиянием на возникновение цивилизации, стратификации и государства. Во-первых, экологическая ниша аллювиального земледелия была их ядром. Во-вторых, ядро также предполагало региональные контрасты, и это была комбинация относительно ограниченных друг от друга, от контейнерного ядра и его взаимодействий с различными, но частично пересекающимися региональными сетями социального взаимодействия, которое приводило к дальнейшему развитию. Однажды возникшая египетская цивилизация была исключением из этого правила, став квазиунитарной ограниченной социальной системой. А остальные были результатом частично пересекающихся сетей отношений власти, обычно выстраиваемых на двух уровнях — федеральном ядре небольших сегментарных город-государственных и племенных единиц, существующих в рамках широкой цивилизационной культуры. Эти конфигурации были представлены в различных рассмотренных кейсах и, следует отметить) практически отсутствовали в остальном мире.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Цивилизация была исключительным явлением. Она включала государство и социальную стратификацию, которых на протяжении большей части своего существования люди пытались избежать. Условия, при которых в редких случаях развивались цивилизации, сделали дальнейшее избегание невозможным. Аллювиальное сельское хозяйство, присутствующее во всех «первых» цивилизациях, было территориальным ограничением, сопровождавшимся огромными экономическими излишками, которые оно приносило. Когда аллювиальное сельское хозяйство превращалось в ирригационное, как обычно и происходило, оно также увеличивало социальные ограничения. Население было заперто в «клетку» определенных авторитетных отношений. Но это еще не все. Аллювиальное и ирригационное сельское хозяйство также запирало в «клетку» окружающее аллювиальные земли население, и этот процесс вновь шел вместе с экономическими возможностями такого запирания. Торговые отношения также запирали в «клетку» (хотя зачастую и в меньшей степени) скотоводов, земледельцев на почвах, увлажняемых дождями, рыболовов, горняков и жителей лесов всего региона в целом. Отношения между этими группами также приводили к установлению определенных торговых маршрутов, рыночных площадок и хранилищ. Чем выше был объем торговли, тем более территориально и социально фиксированной она становилась. Все это не выливалось в одну-единственную «клетку». Я очертил три набора различных в социально-пространственном отношении, но пересекающихся, накладывающихся друг на друга сетей: аллювиальное или ирригационное ядро, ближайшая периферия и регион в целом. Первые два представляли собой небольшие локальные государства, третий — более широкую цивилизацию. Все три фиксировали социальные и территориальные пространства и делали их более постоянными и ограниченными. Теперь населению, заключенному в их «клетке», стало гораздо тяжелее вернуться обратно к истокам развития авторитета (authority) и неравенства, как они делали много раз на более древних доисторических этапах. Но превращался ли договорной авторитетный правитель в постоянную принудительную власть, а неравенство — в институционализированную частную собственность в рамках этих пространств? Научные источники мало что говорят по этому вопросу, в частности, потому, что они редко отдают себе отчет в том, что эти трансформации были чем-то выходящим за грани нормального человеческого опыта. В научной литературе эти трансформации практически всегда изображаются по сути «естественными» процессами, какими они, разумеется, не были. Самым верным путем к власти и к собственности был путь через взаимодействие нескольких пересекающихся сетей социальных отношений. Прежде всего мы можем начать с применения к этим отношениям довольно нестрогой модели «центр — периферия». Месопотамская модель развития содержала пять главных элементов. Первый элемент: одна семейная/поселенческая группа обладала землей в центре или землей с необычайным аллювиальным или ирригационным потенциалом, дающей ей больше экономических излишков по сравнению с излишками их периферийных аллювиальных/ирригационных соседей, что давало также возможность первым нанимать на работу вторых, чьи излишки были наименьшими. Второй элемент: все занимавшиеся аллювиальным и ирригационным земледелием обладали одинаковым превосходством над скотоводами, охотниками и возделывавшими земли, увлажняемые лишь дождями, на более отдаленной периферии. Третий элемент: торговые отношения между этими группами концентрировались вокруг конкретных коммуникационных маршрутов, особенно рек, пригодных для судоходства, а также торговых площадей и хранилищ, расположенных вдоль них. Обладание этими фиксированными локациями давало дополнительные преимущества зачастую все тем же центральным аллювиальным/ирригационным группам. Четвертый элемент: ведущая экономическая роль аллювиального/ирригационного ядра была также отмечена ростом ремесел, кустарной торговли и реэкспортной торговли, которые концентрировались все в тех же областях. Пятый элемент: дальнейшая экспансия нашла выражение в обмене сельскохозяйственных и ремесленных товаров из ядра на драгоценные металлы, добытые в горах внешней периферии. Это давало ядру диспропорциональный контроль над относительно генерализованными средствами обмена, над престижными товарами, которые служили для обозначения статуса, а также контроль над производством орудий труда и оружия. Все пять процессов имели тенденцию усиливать друг друга, давая непропорциональные ресурсы власти семейным/поселенческим группам ядра. Различные периферийные группы могли лишь отступить перед этой властью, но ценой такого отступления были вышеупомянутые экономические выгоды. Достаточно было этого не делать, чтобы государства и стратификация приняли вид постоянных, институционализированных и принудительных. Естественно, детали этого развития различались в каждом конкретном случае, реагируя непосредственно на экологические различия. Тем не менее один и тот же общий набор в каждом случае был очевиден. Таким образом, когда возникла цивилизация с ее наиболее очевидным признаком — письменностью, она была использована главным образом для регулирования взаимодействия частной собственности и государства, то есть в определении территориальной области с центром. Письменность служила для обозначения прав собственности, а также коллективных прав и обязанностей под воздействием небольшой территориальной, централизованной и принудительной политической власти. Государство, его централизованная и территориальная организация стали полезны для социальной жизни и господствующих групп на том пути, который отклонился от доисторических моделей. Обладание государством стало полезным ресурсом власти, каким оно не было прежде. Однако с этого момента применение модели «центр — периферия» сталкивается с определенными ограничениями. Два элемента были независимыми, и по мере развития ядра то же (хотя и разными темпами) происходило с периферийными областями. Некоторые становились неотличимыми от ядра. Инфраструктурная власть ядра была ограничена. Зависимый труд мог быть абсорбирован, могли быть установлены условия неравного экономического обмена, слабые патрон-клиентские отношения господства, но только до определенной степени. Возможности авторитетной социальной организации изначально были ограничены несколькими квадратными километрами отдельного города-государства, в то время как никаких ресурсов для диффузии власти на более широкое население за пределы авторитетного центра еще не было. Следовательно, когда периферийные области развивали собственные излишки, государства и письменность, контролировать их из прежнего центра было уже невозможно. Естественно, что все различия между центром и периферией исчезали. Например, в Месопотамии мы наблюдаем дальнейшее развитие ресурсов военной власти, а также то, что в некоторых случаях такое развитие началось быстрее и раньше, но это развитие было все в меньшей степени обязано преимуществам старого центра (как мы убедимся в следующей главе). В любом случае милитаризм с очевидностью приходил позже, выстраиваясь на основе высших форм существующих региональных организаций. Во всех примерах основной функцией идеологической власти было укрепление региональных организаций. В результате компаративного исследования этих шести примеров плюс Нигерия, которую я не считаю независимо возникшей цивилизацией, Уитли (Wheatley 1971) приходит к заключению, что церемониальный храмовый комплекс, а вовсе не рынок или укрепления был первым основным урбанистическим институтом. Он утверждает, что способность религии к усилению урбанизации и цивилизации была обусловлена обеспечением рациональной интеграции разным и новым социальным целям посредством более абстрактных этических ценностей. Это полезно, если мы ограничим идеализм Уитли, который учитывал и фокусировался на социальных целях, стратифицируемых церемониальными центрами. Различие между «священным» и «профанным» также относится к последнему. Вопреки тому, что утверждает Уитли, экономические институты не были подчинены религиозным и моральным нормам общества, и секулярные институты, возникшие позже, не делили власть с уже существующими священными институтами. Основные функции шумерского храма, о которых у нас достаточно информации, были по сути мирскими: изначально они служили межпоселенческим дипломатическим центрам, а позднее — перераспределению экономической продукции и закреплению публичных обязанностей и прав частной собственности. То, что мы узнали из этой главы, в целом подтверждает мирской характер религиозных культур, характерных для ранних цивилизаций. Вместе с тем в главе 1 я предположил, что религиозные культуры были социально трансцендентными, предоставлявшими организованное решение проблем, затрагивавших области, значительно более широкие, чем те, которые могли регулироваться любыми из существующих авторитетных институтов. Региональное развитие производило множество точек соприкосновения внутри и между аллювиальными и периферийными областями. Постоянные проблемы и возможности возникали особенно в областях регулирования торговли, распространения и обмена орудий и методик, брачном регулировании, миграции и поселениях, совместном производстве (особенно в ирригационном), эксплуатации труда через права собственности, а также в определении справедливого и несправедливого насилия. Именно с этим в первую очередь и боролись идеологии возникающих религий, и именно это разыгрывалось в ритуалах внутри храмовых дворов, хранилищ и в их святая святых. Идеологические институты представляли собой форму коллективной власти, которая была слабой, диффузной и экстенсивной, предлагала подлинно дипломатические решения для реальных социальных потребностей и действительно была способна поймать огромное население в свои «организационные структуры» дистрибутивной власти. Таким образом, мы можем выделить два основных этапа в развитии цивилизации. Первый этап включает двухъярусную федеральную структуру власти: (1) небольшие города-государства, смешивающие форму экономической и политической авторитетной организации власти, то есть «цепи (экономических) практик» с определенной степенью «территориальной централизации» (средства экономической и политической власти, как они обозначены в главе 1). Эта комбинация привязывала к месту относительно небольшое количество населения. Но (2) все это население проживало в рамках более экстенсивных, диффузных и «трансцендентных» идеологических и геополитических организаций, которые в целом совпадали с тем, что мы называем цивилизацией, но которые были нежестко централизованы вокруг одного или более региональных культовых центров. На втором этапе самых первых цивилизаций эти две сети власти демонстрировали тенденцию к слиянию изначально посредством воздействия дальнейшей концентрации принуждения, то есть посредством военной организации. Хотя мы уже практически все рассмотрели, история второй фазы будет более подробно изложена в следующей главе. Наконец, как мы успели убедиться, конвенциональные теории происхождения государства и социальной стратификации пропитаны эволюционизмом, как предполагалось в главе 2. Механизм, который они принимают за «естественный», в действительности является из ряда вон выходящим. Тем не менее многие механизмы, справедливо обозначенные в этих редких случаях, действительно приводили к развитию государств и стратификации. Я придерживаюсь в широком смысле экономического взгляда на изначальные истоки, эклектично объединяющего элементы трех основных теорий: либерализма, ревизионистского марксизма и функциональной теории перераспределяющего государства. Для более поздних стадий этого процесса более релевантны милитаристические механизмы. Но все механизмы возникновения государства и стратификации начинают действовать только в сочетании с моделью накладывающихся друг на друга сетей, отдающих определенную роль идеологическим организациям власти, влияние которых обычно отвергается теориями происхождения государств и стратификации. Ни государство, ни социальная стратификация не возникают эндогенно из недр существующих системных «обществ». Они возникают в силу того, что (1) из нежестких пересекающихся доисторических социальных сетей возникает одна сеть — аллювиальное земледелие, которое обладает необыкновенным запирающим в «клетку» воздействием, и (2) из взаимодействия аллювиального земледелия с несколькими периферийными сетями, что способствует возникновению дальнейшего запирающего в «клетку» механизма, который ограничивает их путем все большего включения в двухуровневые отношения власти: отношения в рамках локального государства и отношения в более широких рамках цивилизации. Теперь историю власти можно вывести из нескольких выходящих за рамки нормы эпицентров власти, как и было на самом деле.БИБЛИОГРАФИЯ
Adams, R.E.W. (1974). The Origins of Maya Civilization. Albuquerque: University of New Mexico Press. Agrawal, D.P. (1982). The Archaeology oflndia. London: Curzon Press. Allchin, B., and R. Allchin (1968). The Birth of Indian Civilization. Harmondsworth, England: Penguin Books. Bram, J. (1941). An analysis of Inca militarism. Ph.D. dissertation, Columbia University. Branigan, K. (1970). The Foundations of Palatial Crete. London: Routledge & Kegan Paul. Butzer, K. (1976). Early Hydraulic Civilization in Egypt. Chicago: University of Chicago Press. Cadogan, G. (1976). Palaces of Minoan Crete. London: Barrie and Jenkins. Chadwick, J. (1973). The linear В tablets as historical documents. Chap. 13 (a) in the Cambridge Ancient History, ed. I. E.S. Edwards et al. 3d ed. Vol. 2. pt. I.Cambridge: Cambridge University Press. Chakrabarti, D. (1980). Early agriculture and the development of towns in India. In the Cambridge Encyclopedia of Archaeology, cd. A. Sherratt. Cambridge: Cambridge University Press. Chang, K.-C. (1977). The Archaeology of Ancient China. New Haven, Conn.: Yale University Press. Cheng, T.-K. (1959). Archaeology in China, Vol. I: Prehistoric China. Cambridge: Cambridge University Press. --. (i960). Archaeology in China, Vol. II: Shang China. Cambridge: Cambridge University Press. Coc, M.D. (1971). The Maya. Harmondsworth, England: Pelican Books. Coe, M.D., and R.A. Diehl (1981). In the Land of the Olmec. 2 vols. Austin: University of Texas Press. Cottrell, L. (1968). The Warrior Pharaohs. London: Evans Brothers. Creel, H. (1970). The Origins of Statecraft in China, vol. 1. Chicago: Aldine. Culbert, T.P. (1973). The Classic Maya Collapse. Albuquerque: University of New Mexico Press. Dow, S. (1973). Literacy in Minoan and Mycenaen lands. Chap. 13 (b) in The Cambridge Ancient History, ed. I.E.S. Edwards et al. 3d ed. Cambridge: Cambridge University Press. Edwards, I.E.S. (1971). The early dynastic period in Egypt. Chap. 21 in The Cambridge Ancient History, Edwards et al. 3rd ed. Vol. I, pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Emery, W.G. (1961). Archaic Egypt. Harmondsworth, England: Penguin Books. Flannery, K. (1968). The Olmec and the valley of Oaxaca: a model for inter-regional interaction in formative times. In Dumbarton Oaks Conference on the Olmec, ed. E.P. Benson. Washington: Dumbarton Oaks. --. (1982). Review of Coe and Diehl: In the Land of the Olmec. American Anthropolo-gist, 84. Hawkes, L. (1973) The Firs/Great Civilizations. London: Hutchinson. Hopkins, K. (1980). Brother-sister marriage in Roman Egypt. Comparative Studies in Society and History, 22. Ho, P.-T. (1976). The Cradle of the East. Chicago: University of Chicago Press. Janssen, J.J. (1978). The early state in ancient Egypt. In the Early State, ed. H.Claessen and P. Skalnik. The Hague: Mouton. Jones, G.D., and P. R. Kautz (1981). The Transition to Statehood in the New World. Cambridge: Cambridge University Press. Katz, F. (1972). The Ancient American Civilizations. New York: Praeger. Lamberg-Karlovsky, C.C., and J.Sabloff (1974). The Rise and Fall of Civilizations. Menlo Park, Calif.: Cummings. Lanning, E.P. (1967). Peru Before the Incas. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Matz, F. (1973). The maturity of Minoan civilization and the zenith of Minoan civilization. Chaps. 4 (b) and 12 in The Cambridge Ancient History, ed. 1. E. S. Edwards et al. 3d cd. Vol. I, pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Meggers, B. (1975). The transpacific origin of Meso-American civilization. American Anthropologist, 77. Moore, S.F. (1958). Power and Property in Inca Peru. Westport, Conn.: Greenwood Press. Morris, C. (1980). Andean South America: from village to empire. In the Cambridge Encyclopedia of Archaeology, ed. A. Sherratt. Cambridge: Cambridge University Press. Murra, J.V. (1968). An Aymara kingdom in 1567. Ethnohistory, 15. Murray, M. (1977). The Splendour That Was Egypt. London: Sidgwick & Jackson. Nilsson, M.P. (1950). The Minoan-Mycenean Religion and Its Survival in Greek Religion. Lund, Sweden: Lund University Press. O’Connor, D. (1974). Political systems and archaeological data in Egypt: 2600–1780 в. c. World Archaeology, 6. --. (1980). Egypt and the Levant in the Bronze Age. In the Cambridge Encyclopedia of Archaeology, ed. A. Sherratt. Cambridge: Cambridge University Press. O’Shea, J. (1980). Mesoamerica: from village to empire. In the Cambridge Encyclopedia of Archaeology, ed. A. Sherratt. Cambridge: Cambridge University Press. Parsons, J.R. (1974). The development of a prehistoric complex society: a regional perspective from the Valley of Mexico. Journal of Field Archaeology, 1. Rathje, W. (1971). The origin and development of Lowland Classic Maya Civilization. American Antiquity, 36. Rawson, J. (1980). Ancient China: Art and Archaeology. London: British Museum Publications. Renfrew, C. (1972). The Emergence of Civilization: the Cyclades and the Aegean in the Third Millennium B.C. London: Methuen. Sanders, W.T., and B. Price (1968). Mesoamerica: The Evolution of a Civilization. New York: Random House. Sanders, W.T. et al. (1979). The Basin of Mexico: Ecological Processes in the Evolution of a Civilization. New York: Academic Press. Sankalia, H.D. (1974). Pre-History and Proto-History of India and Pakistan. Poona, India: Deccan College. Schaedel, R. P. (1978). Early state of the Incas. The Early State, ed. H.Claessen and P. Skal-nik. The Hague: Mouton. Smith, W. S. (1971). The Old Kingdom in Egypt. In the Cambridge Ancient History, ed. I.E.S. Edwards et al. 3d ed. Vol. I., pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Vercoutter, J. (1967). Egypt. Chaps. 6-11 in The Near East: The Early Civilizations, ed. J. Bot-tero. London: Weidenfeld &. Nicolson. Warren, P. (1975). The Aegean Civilizations. London: Elsevier-Phaidon. Wheatley, P. (1971). The Pivot of the Four Quarters. Edinburgh: Edinburgh University Press. Wilson, J. A. (1951). The Burden of Egypt. Chicago: University of Chicago Press.ГЛАВА 5 Первые империи доминирования: диалектика принудительной кооперации
Предшествующая глава была посвящена смежным проблемам, одни из которых касались локальной эволюции, другие — сравнительно-исторической социологии. Цивилизация, социальная стратификация и государство возникли в определенных локально-географических условиях примерно шести обществ, обладавших определенными сходствами и рассыпанных по всему земному шару. Аллювиальное и ирригационное сельское хозяйство появилось на пересечении накладывавшихся друг на друга региональных сетей социального взаимодействия, создавших двухуровневую социальную клетку. В свою очередь, это вело к экспоненциальному росту коллективной власти. Некоторые из этих принципиальных вопросов будут вновь подняты в данной главе, рассматривающей последующий этап ранней истории цивилизации. Теперь в результате других региональных процессов взаимодействия социальная «клетка» стала более отчетливой, сингулярной и экстенсивной. В описываемый период исходные стимулы для ее развития проистекали уже не столько из экономической, сколько из военной организации. Сменился также и результирующий геополитический паттерн. То, что недавно было полупериферийными областями, стало в полном смысле новым центром цивилизации. «Военные вожди пограничий» были пионерами гегемонистских империй. Тот факт, что сходный паттерн просматривается в большинстве первых цивилизаций, еще раз свидетельствует об общих тенденциях развития. Но теперь различия между ними стали более очевидными. Следовательно, необходимо сконцентрироваться на развитии ближневосточных цивилизаций, которые были лучше остальных задокументированы и обладали наибольшей исторической значимостью. Поскольку теперь, после появления исторических документов, реалии истории становятся понятнее, мы можем более системно проанализировать инфраструктуру власти и ее четыре различных организационных средства (как было указано в главе 1). После анализа развития ранних империй Месопотамии я также обращусь к теориям, разработанным сравнительной социологией для объяснения подобных империй. Мы убедимся, что, несмотря на то что эти теории успешно указывают на определенные черты имперского правления, их подход является статическим или циклическим. Они упускают диалектику «принудительной кооперации» — центральную тему этой главы. Хотя именно по причине появления методов принудительной кооперации «передовой фронт» власти перешел от цивилизаций с множеством акторов власти к империям доминирования.ПРЕДПОСЫЛКА: РОСТ МИЛИТАРИЗМА И ВОЗВЫШЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В течение 700 лет основной формой шумерской цивилизации была мультигосударственная структура, состоявшая по меньшей мере из двенадцати крупнейших городов-государств. По этой причине сдвига по направлению к более крупной иерархической организации власти не происходило. Однако во второй половине этого периода города-государства стали изменять свою внутреннюю форму, поскольку царство стало доминировать [над жречеством]. Затем начиная примерно с 2300 г. до н. э. автономия города-государства начала ослабевать, поскольку стали развиваться региональные конфедерации городов. Наконец, они были завоеваны первой из существовавших в письменной истории «империей» Саргона Аккадского. Затем империя стала одной из доминирующих социальных форм на три последующих тысячеления на Ближнем Востоке и в Европе и на гораздо более продолжительный период в Восточной Азии. Ее первоначальное возникновение было с очевидностью связано с определенным моментом истории, требующим объяснения. Как мы убедились в четвертой главе, исследователи зачастую приписывают первую часть этого процесса росту царств в поздних шумерских городах-государствах и войне. Ирригационные достижения городов-государств сделали их более привлекательными для грабежа со стороны бедных соседей высокогорья. Записи также сохранили массу упоминаний о конфликтах из-за границ между самими городами-государствами. Эти два типа конфликта способствовали тому, что защиту городов стали считать более критически важной, и возведению массивных городских стен в середине третьего тысячелетия. Одновременно мы делаем вывод, что военные лидеры консолидировали свое правление в царства. Некоторые из них были предположительно аккадскими, то есть царствами северных семитов. Но, как я уже говорил, местные царства были вполне совместимы с относительно централизованными, местными, перераспределявшими ирригационными экономиками, между ними и шумерскими традициями не было непреодолимой пропасти. Аккадские царства объединяли под единым началом и военное руководство, и управление экономикой, что даже могло вести к росту излишков, а также росту либо численности населения, либо уровня жизни. Но чем успешнее они становились, тем сильнее было их влияние на сети власти более широкого региона. Поэтому нам необходимо рассматривать не только баланс власти внутри Шумера, но и между Шумером и его окружением. Это подразумевает переплетение экономической и военной логик, какими они часто остаются вплоть до наших дней. Как было отмечено в предыдущих главах, Шумеру была присуща экономическая специализация. Хотя шумерская цивилизация располагалась в благоприятной для создания сельскохозяйственных излишков и, следовательно, для разделения труда и ремесленничества области, она испытывала относительный недостаток в сырье, особенно в рудах, драгоценных камнях и дереве, что делало ее зависимой от иностранной торговли. Изначально такая торговля предшествовала государству, что также верно и для более позднего доисторического периода в целом. Но чем больше развивалась торговля, тем сильнее она зависела от государства. По мере роста организационных способностей всех региональных групп даже относительно бедные из них были способны к организации военных походов и взиманию дани с купцов. Торговле требовалась защита от грабежа по всему маршруту. Но даже согласованный мирный обмен между подконтрольными государствам территориями требовал определенной степени дипломатического регулирования. Учитывая отсутствие международной «валюты», требовалось установление стоимости товаров (Oppenheim 1970). Рост торговли повышал уязвимость шумеров двояким образом. Прежде всего он увеличил излишки и возможности коллективной организации различного рода групп, расположенных далеко от шумеров. Одни группы могли сделать выбор в пользу грабительской торговли, другие — попытаться дипломатически сделать торговлю более выгодной для них в ущерб Шумеру, а третьи — просто подражать Шумеру и мирным образом соревноваться с ним. «Чистые сравнительные преимущества» в эффективности производства ремесленных товаров были на стороне шумеров. Но это не имело никакого значения, в случае если другая группа могла воспрепятствовать проникновению к ним этих товаров путем установления «протекционистской ренты» на торговых путях. Этой группой мог быть кто угодно — от соперничавшего организованного околописьменного государства до племенного вождества и авантюриста и его банды. Таким образом, поставки жизненно важных для шумеров товаров могли быть сорваны либо организованным военным/дипломатическим образом, либо насилием «мафиозного типа». Таким образом, в рамках самозащиты шумеры добились распространения своей политической и военной власти по своим международным торговым сетям. Эффективность сельского хозяйства давала им сравнительные преимущества по отношению ко всем соседствующим с ними народами в высвобождении необходимого количества людей и ресурсов для военных целей. На ранних этапах шумеры могли высылать отряды солдат и купцов, а также устанавливать колонии вдоль торговых путей. Однако в долгосрочной перспективе контролировать колонии они не могли. Колонии вместе с их местным населением развивались автономно. Более того, вторым источником уязвимости стало сравнительное преимущество над группами соперников. Проблема заключалась в том, что эти соперники расположились на пути шумерских военных походов, удерживая их от успешной экспансии. Здесь вновь необходимо обратиться к воздействию экологической специализации на способы ведения войн, к обсуждению которого мы уже начали подступаться в главе 2. Давайте объединим морские и осадные войнырассматриваемого периода в одну группу, хотя они, безусловно, обладают характерными особенностями. Ограничиваясь лишь сухопутными сражениями, можно отметить, что на доисторическом этапе письменной истории армии состояли из трех элементов: пехоты, кавалерии (включая колесницы) и артиллерии, основной разновидностью которой были лук и стрелы. У каждого из этих родов войск была масса разновидностей, часто встречались смешанные войска, а также смешанные типы, например конные лучники. Каждый из родов войск, как правило, возникал в обществах с различными экономиками и государствами, обладал сильными и слабыми сторонами в бою с другими родами и отличался собственным влиянием на экономику и государство. Исторически ни один из родов войск не пользовался постоянным преимуществом на поле боя, хотя часто ошибочно предполагают, что в Древнем мире таким постоянным преимуществом пользовалась кавалерия. В действительности власть передвигалась по кругу от одного рода войск к другому в зависимости от типа битв и развития военных, политических и экономических форм[45]. Первое оружие появилось из сельскохозяйственных и охотничьих орудий труда. Лошади были приручены позднее, около 3000 г. до н. э., степными народами, и вскоре шумерские эквиды (вероятно, онагры, или гибридные лошади) стали использоваться как гужевая сила для телег и колесниц. Шумерские армии, очевидно, состояли из громоздких телег на колесах и фаланг пехоты, защищенных длинными щитами. Лучников было немного. Эти пешие армии прекрасно подходили для медленных методичных кампаний, в ходе которых малонаселенные города завоевывались и защищались. Такого рода армии возникли из необходимости защищать ранние города-государства и, возможно, завоевывать их ближайших соседей. Поэтому, насколько нам известно, во внутренних районах они не использовались. В более поздний период их место заняла конница степных кочевников с копьями и луками, хотя и без защитной брони, тяжелого вооружения, седел или стремян. У земледельцев практически не было шансов выстоять против лобового наступления конницы, которая не использовалась для осады, но быстрая езда и вероломство могли сделать ее более грозным средством наступления, чем пехота. Но основным типом борьбы в 3000 г. до н. э. было не столкновение этих родов войск. Вспомним, что вплоть до 1500 г. до н. э. лошадь не использовалась эффективно в кавалерийских сражениях (в виде более мобильных колесниц). А до этого мы сравнивали гипотетическую выносливость и мобильность скотоводов, позволявшие им добраться до поля боя; метательные возможности и смертоносную меткость охотников; численное преимущество, сплоченность и преимущественно оборонительный боевой дух земледельцев. Ни одно из этих качеств не обладало общим преимуществом. Каждое из них могло дать превосходство в различных тактических и географических обстоятельствах, а их комбинация была идеальной. В любом случае ирригационные долины и степные пастбища не примыкали вплотную друг к другу. Между ними лежали просторы высокогорий, объединявших земледелие и скотоводство, процветание которых росло благодаря преимуществам расположения на торговых путях между долинами рек и степями, лесами и горами. Здесь техники ведения войн были относительно смешанными, и предположительно (поскольку это всего лишь догадки) были сделаны первые попытки комбинирования таких тактик, как быстрая кавалькада и систематическая атака пехоты. Более того, у городов-государств были свои причины поощрять такие комбинации, чтобы использовать военных вождей пограничий в качестве защитного буфера от набегов настоящих скотоводов или как противовес в борьбе с соперничавшим городом-государством. До сих пор военные вожди пограничий не обладали эффективной кавалерией, поскольку разведение лошадей не давало значительного увеличения мощи, а сбруя была еще несовершенной. Стрельба из лука, напротив, развивалась из охотничьих практик куда быстрее, к тому же лук давал сравнительные преимущества по сравнению с силами вождей пограничий, если использовался в комбинации с пехотой. В любом случае это объясняет доминирование в течение двух тысячелетий военных вождей пограничий в сухопутных сражениях, а также их склонность к основанию и расширению империй.САРГОН АККАДСКИЙ
Саргон был первой личностью, упомянутой в письменной истории. Он завоевал шумеров в 2310 г. (?) до н. э. и правил ими до своей смерти в 2273 г. (?) до н. э. (даты содержат погрешности, в данном случае они приводятся по Вестенхольцу (Westen-holz 1979: 124); другими полезными вторичными источниками по этой теме являются King 1923: 216–251; Gadd 1971: Larsen 1979: 75-106; сохранившиеся документальные первоисточники были детально проанализированы Грейсоном (Grayson 1975: 235–236). Его аккадская династия правила растущей месопотамской империей на протяжении более двух веков, зачем (после нескольких междуцарствий) этим регионом правила Третья династия Ура, затем династия Старовавилонского периода (наиболее известным из правителей которой был Хаммурапи) и касситы[46]. Период, о котором рассказывает эта глава — от Саргона до падения касситов, — охватывает около тысячи лет. Такой длинный период включает огромное множество разнообразного социального опыта (только представьте себе, как изменилась, например, Европа от 1000 г.н. э. до 1985 г.!), тем не менее на протяжении этого периода просматривается макроструктурное сходство, а также основное направление исторического развития. И это сходство, как и единое направление развития в самом широком смысле, были заданы Саргоном. Поскольку мы мало знаем о самом Саргоне, обсуждение его империи всегда выглядит несколько телеологическим; исторические источники обычно создавались впоследствии, приобретая соответствующее качество. Мой анализ будет похожего жанра в том смысле, что он будет обращаться к Саргону в качестве всемирно-исторического персонажа, репрезентирующего его эпоху и его династию. Завоевания Саргона часто определяют как «территориальную империю». Я оспорю это утверждение с помощью доказательства того, что истоки его власти лежали не столько в непосредственном контроле над территорией, сколько в личном господстве над подчиненными. Однако его власть действительно простиралась по меньшей мере на несколько сотен километров в длину и в ширину, включая шумерские города-государства, северных областей Аккада, из которого он был родом, вплоть до Элама на востоке, а также различных высокогорных и равнинных областей. По общим экономическим и логистическим причинам форму этим завоеваниям придавали речные системы Тигра и Евфрата. Их экономическим ядром были уже не только ирригационные земли вдоль течения, но и дополнительные торговые связи между большим количеством ирригационных областей вдоль по течению плюс прилегающие к ним высокогорья. Мы также можем выявить еще один тип связей. Завоевания не обязательно следовали ритму разливов рек. Их костяком было изобретение военного/политического вмешательства в организационные ритмы, задаваемые природой, точно таким же образом, каким ранее экономикое/политическое изобретение ирригации вмешалось в ритмы реки. Родиной Саргона был Аккад, вероятно, город-государство, точное местонахождение которого не известно, но известно, что он находился в северных регионах, которые получили развитие в поздней Месопотамии. «Земля Аккада» включала возделываемые земли, увлажняемые дождями, а также высокогорные пастбища и ирригационное земледелие. Вероятно, эти земли населяли семитские народы. Аккадский язык отличался от шумерского. Аккадские земли примыкали к северным шумерским государствам и оказывали на них влияние. По легенде, Саргон был незаконнорожденным (самая первая ближневосточная истории о «ребенке, спущенном вниз по течению в корзине из тростника»). Он начал свой путь как слуга — на профессиональной военной службе в качестве прислуги («чашеносца») короля Киша — северного шумерского города. Этот регион уже испытывал на себе перекрестное экономическое и военное давление, которое я описывал выше. Саргон достиг гегемонии (по нашему предположению), сочетая военные методики скотоводов и земледельцев. Стремительность его атак стала знаменитой. Он и его преемники использовали укрепленные луки из дерева и рога (Yadin 1963) — Тем не менее его основной силой была тяжелая пехота. И все же Саргон был первым не во всем. И до него появлялись завоеватели, обычно с семитскими именами, которые все чаще звучали в додинастических шумерских городах, например Лугаланнемунду — недолговечный завоеватель, который полагался на помощников преимущественно с семитскими именами и который «распространил свое царство по всему миру», согласно нашим источникам (Kramer 1963: 51). На этой консолидированной базе вождей пограничий Саргон продвигался во всех направлениях, завоевав в 34 военных кампаниях все шумерские города, достигнув на юго-восточном направлении Персидского канала, на западном направлении, по всей видимости, Леванского побережья и на северном направлении-Северной Сирии и Анатолии. Утверждается, что он и его наследники уничтожили своего соперника — царство Эблы. Большинство его военных кампаний, о которых сохранились свидетельства, были предприняты в Шумере и на северо-западе, но даже там их характер различался. В Шумере его насилие было избирательным и ограниченным традициями: были уничтожены городские стены, но не города, плененные шумерские цари были в цепях доставлены в храм Энлиля в Ниппуре, а их троны занял Саргон. Некоторые из шумерских правителей были оставлены на своих местах, остальные были заменены аккадцами. Там Саргон намеревался использовать власть шумеров (править через них). К северо-западу, в Сирии, его действия были более жесткими и демонстративными в том, что касалось степени разрушения. Непривычным для современного читателя образом эти записи объединяют разрушение и стремление к коммерческим целям, таким как экспедиции по освобождению Серебряных гор и Кедрового леса и даже по защите аккадских торговцев от посягательств в Центральной Анатолии. Таким образом, соединение разрушения и коммерциализма имело определенный смысл — разрушение власти государств и терроризирование народов, которые оказывались на пути торговых маршрутов. Если мы объединим эти две области [шумеров и северо-запад Сирии], то получим империю, огромная протяженность которой превышала все предшествовавшие стандарты. Вероятно, нам следует исключить письменные свидетельства о завоевании Анатолии и Левантийского побережья как сомнительные. Даже в этом случае империя простиралась с северо-запада на юго-восток, растянулась по обеим долинам Тигра и Евфрата, более чем на тысячу километров вдоль долин рек и около четырех сотен километров поперек. Но этим записям, хотя они весьма хвастливы, недостает точности. Записи рассказывают, что Аккад расширился «в пространственном отношении» до 360 часов ходьбы, около двух тысяч километров по дороге, но не ясно, как следует интерпретировать слова «в пространственном отношении». Кроме того, записи подчеркивают факт господства над странами и народами, умалчивая о характере и степени этого господства. Язык господства весьма экспрессивный: народы, города и армии были «сокрушены», «опрокинуты» — Саргон «разбил их в пух и прах». Аккадское слово «царь» также начинает обрастать божественными коннотациями. Внук Саргона — Нарам-Суэн позднее носил непосредственно божественный статус, а также титул «Всемогущий царь четырех сторон света». Все это может выглядеть как обширная, экстенсивно территориальная и имперская форма господства. Но это было лишь способом произвести впечатление на современников. Однако империя Саргона была территориальной империей не по своей площади, а (не примите за каламбур) по своим намерениям. Чтобы убедиться в этом, необходим детальнейший анализ логистической инфраструктуры и универсальной диффузии власти. Я оцениваю практические возможности использования власти достаточно систематическим и техническим образом. Это непростая задача, поскольку письменные свидетельства немногочисленны, а исследователи избегают логистических вопросов (как признается Адамс (Adams 1979: 397) — Необходимы гипотетическая и теоретическая реконструкции. Поскольку целый ряд фундаментальных инфраструктурных проблем были практически инвариантными на протяжении существования древних цивилизаций, я восполню недостаток сведений о временах Саргона свидетельствами из других эпох и обществ. Фундаментальной инфраструктурой, необходимой для использования всех четырех источников организованной и диффузной власти, являются коммуникации. Без эффективной отправки сообщений, людей и ресурсов никакая власть невозможна. О коммуникациях Саргона нам известно лишь немногое. Тем не менее мы можем предположить, что фундаментальные проблемы, с которыми он сталкивался, мало чем отличались от тех, с которыми сталкивались все древние правители. После разработки трех технологий (повозки на животной тяге, мощеных дорог и парусных судов) остальные коммуникационные ограничения оставались такими же в течение нескольких тысячелетий. Фундаментальным было то, что водный транспорт использовался чаще по сравнению с наземным. Два с половиной тысячелетия спустя римский император Диоклетиан издал эдикт о максимальных ценах[47], устанавливавший максимально допустимые цены на все основные товары. Если издержки на доставку морем принять за единицу, то соотношение издержек на речной транспорт составляло 5, а на доставку в повозках по земле — от 28 до 56[48]. То есть наземный транспорт был в 28 или 56 раз дороже морского либо в 5 или и раз дороже речного. Эти цифры обозначают скорее общий порядок колебания цен, чем непосредственно точное соотношение. Точные относительные издержки варьировались в зависимости от расстояния, местности, речных и морских условий, тяжести товаров, от того, какого рода животные использовались для гужевой тяги, а также от технологий. Существуют два основных фактора, объясняющих эту несоразмерность, — скорость и восполнение энергии перевозчиками. Скорость была больше в случае сплава вниз по реке и у морского транспорта, она также могла быть больше в некоторых речных условиях при движении вверх по течению. Но основной вклад все же вносила проблема восполнения энергии — фураж для вьючных животных, который не требовался в случае водного транспорта. Эта проблема не просто повышала издержки — она устанавливала конечные пределы. Такие животные, как рогатый скот, мулы, лошади и ослы, перевозившие максимально возможные грузы кормов, расходовали их уже на расстоянии около 150 километров, чтобы выжить. Большее расстояние без пополнения запасов по дороге тягловые животные пройти не могли. Точнее, это было возможно, но нерентабельно. Наземная транспортировка на расстояние от 80 до 150 километров была экономически целесообразна в Древнем мире только для товаров с высоким соотношением веса к стоимости по отношению к издержкам на корм для животных. Водная транспортировка была более целесообразна и могла осуществляться на большие расстояния без дополнительного пополнения продовольственных запасов. Основным ограничением дальности морских перевозок была необходимость в запасах пресной воды, на которые расходовалась заметная доля грузоподъемности корабля. Поэтому эффективность корабля была внушительной, учитывая даже капитальные затраты на его строительство. Смена времен года оказывала влияние на оба вида транспорта: штормы и разливы рек были основным ограничением для водного транспорта, сбор урожая и доступность продовольственных запасов ограничивали возможности сухопутного транспорта. Даже не зная практически ничего об экологии Месопотамии, важность коммуникаций в развитии Шумера очевидна. Города-государства стояли прямо на судоходных реках. Они также располагались неподалеку друг от друга и могли служить перевалочными пунктами в ходе путешествий на большие расстояния. По этой причине повозки, запряженные ослами или волами, смогли внести полезный вклад в междугороднюю коммуникацию. Судоходство вверх по течению реки было проблематичным. Обычной практикой была транспортировка товаров на больших плотах вниз по течению, а затем разборка плотов и использование дерева в поселениях, находящихся вниз по течению. Основными препятствиями была высокая стоимость дерева, а также сезонные наводнения, которые останавливали навигацию. Однако как только Саргон выдвинулся за пределы аллювиальных долин, он с необходимостью должен был столкнуться с серьезными инфраструктурными препятствиями. Они были в той или иной степени такими же, с какими сталкивались последующие правители. Поскольку Саргон был прежде всего завоевателем, давайте начнем с его военной логистики.ЛОГИСТИКА ВОЕННОЙ ВЛАСТИ
Саргон оставил после себя два хвастливых упоминания, демонстрирующих, что его достижения действительно были отчасти логистическими. На табличке в храме Ниппура читаем: «5400 солдат ежедневно принимали пищу вместе с ним [или в его замке]». И в Хрониках ранних царей мы читаем: «Он сажал своих дворцовых чиновников на расстоянии десяти часов пешей ходьбы и правил, объединяя племена земель» (указанные таблички можно прочесть у Притчард (Pritchard 1955: 266–268) и Грейсона (Grayson 1975: 153) — Эти хвастливые упоминания обнаруживают озабоченность организационными методиками, одна из которых рассматривается как превосходящая методики предшественников. Количество солдат, а также тот факт, что они регулярно получали продовольствие и снабжение этим продовольствием было постоянным и пространственно организованным, свидетельствуют об определенной степени новизны: большой профессиональной армии и администрации. Армия из 5400 солдат может и не показаться нам такой уж большой, но современников Саргона ее размер впечатлял. Ключевой единицей, необходимой для его завоеваний и правления, вероятно, было именно такое количество вооруженных вассалов и снабжавшего их обоза. На что была способна такая военная единица? Она могла защитить правителя и его двор от неожиданного предательства. Но ее могло быть недостаточно для крупного сражения против города-государства. Источники сообщают, что в битве против объединенных сил Ура и Лагаша Саргон убил 8040 солдат и взял в плен более 5460 человек. Мы скептически относимся к таким утверждениям. Два города потенциально могли вырастить максимум около 60000 мужчин военного возраста. Трудно поверить, что хотя бы треть этих крестьян-фермеров и ремесленников могли быть экипированы, мобилизованы и выдвинуты в определенный пункт назначения, чтобы вести бой минимально организованным образом. Вероятно, объединенная вражеская армия насчитывала 13500 человек — во всяком случае она, очевидно, исчислялась в цифрах именно этого порядка. Поэтому ядру армии Саргона (которое в рамках этой относительно ранней битвы не могло увеличиться более чем до 5000) по-требовалась бы поддержка новобранцев, рекрутов, а также, что впоследствии стало обычной практикой, отрядов от его правителей-клиентов и союзников. Давайте считать, что общие силы насчитывали 10000-20000 человек в случае крупных кампаний и 5000 человек для общих целей. Какой могла быть логистика их использования? Здесь я обращусь к выдающемуся исследованию военной логистики, которая существовала два тысячелетия спустя, военных кампаний Александра Великого, проведенному Дональдом В. Энгельсом (Donald W. Engels 1978). Я вынужден обратиться к такому отдаленному периоду, поскольку аналогичных исследований для промежуточного (более раннего) периода не существует. Некоторые наиболее выдающиеся открытия Энгельса релевантны для всего древнего периода в целом в силу сходства коммуникационных технологий на протяжении этого периода, другие применимы к Аккаду, поскольку этот регион Александр также пересекал. Давайте начнем с наихудшего предположения о том, что не было ни провизии, ни воды, ни корма для лошадей на протяжении всего похода армии, другими словами, что земля была бесплодной или урожай еще не созрел, а местное население бежало вместе с продовольственными излишками. Энгельс подсчитал, что по большей части независимо от размеров армии солдаты и обоз могли нести с собой еду, которой хватало бы по меньшей мере на два с половиной дня. Для того чтобы питаться в течение четырех дней, им уже требовалось определенное количество вьючных животных. Но они не могли питаться в походе более пяти дней вне зависимости от того, сколько вьючных животных с ними было. Животные и солдаты потребляли все запасы еды и затем продолжали потреблять по половине пайка. Три дня были периодом выживания армии, которая снабжала себя исключительно самостоятельно, — такое утверждение подтверждается примерами систем нормирования, которые использовались в греческой и римской армиях. Три дня — это предел вне зависимости от того, переносилось ли довольствие в виде зерна или сухарей. Это невероятно отрезвляющая основа, на которой будет базироваться наше представление о сухопутных империях, стремящихся завоевать весь мир. Как далеко они могли продвинуться в такой короткий промежуток времени? Это зависело от размеров армии: чем больше была армия, тем медленнее она двигалась. Энгельс подсчитал, что средняя скорость движения всей армии — около 65000 человек, включая обоз, — составляла 24 километра в день, но он также пришел к заключению, что малый контингент мог двигаться вдвое быстрее. Разумеется, македонская армия была самой быстрой армией своего времени. Здесь мы можем добавить некоторые оценки для более ранних периодов. Кроун (Crown 1974: 265) приводит следующие оценки скорости некоторых древних армий: египетская армия Тутмоса III (XV в. до н. э.) —24 километра в день; армия Рамзеса II (XIII в. до н. э.) —21 километр; вавилонская армия (597 г. до н. э.) —29 километров; более поздние римские армии — от 23 до 32 километров. Что касается более раннего и близкого к Саргону периода, то Кроун (Crown 1974) оценивает скорость продвижения небольших групп солдат и штаба в XVIII в. до н. э. в Месопотамии от 24 до 30 километров (ср. Hallo 1964). Единственной оценкой, превышающей эту, является оценка скорости Саггса (Saggs 1963) для ассирийской пехоты VIII–VII вв. до н. э. — 48 километров в день, хотя в главе 7 я предполагаю, что он в чем-то прав относительно ассирийской армии. Нормой до Александра Македонского была скорость до 30 километров. Нет оснований предполагать, что Саргон мог превзойти эту норму. Его армии не могли обойтись без больших шумерских повозок, кроме того, в их распоряжении были только эквиды, а не мулы или лошади. Вьючные животные Саргона были медлительными, поэтому, используя их, он не имел преимуществ в мобильности. Будем великодушными, предположив, что его армия двигалась со скоростью 30 километров в день. Максимальное расстояние, которое она могла пройти за три дня, составляло 90 километров, но действовать надо было быстро и главное — захватить как можно больше запасов. Ни один компетентный командир не стал бы рисковать своими солдатами даже ради половины этого пути. Поскольку не было никакой возможности пополнять запасы в пути, они, прежде чем попасть в армию, учитывались снабженцами. Это ничтожный плацдарм для завоевания или господства империй, хотя и не худший из возможных вариантов. В долинах, которые были целью завоеваний, Саргон мог найти воду, и это уменьшало вес припасов. Энгельс отмечает, что без запасов воды они могли увеличивать протяженность походов втрое, их продолжительность — до девяти дней и максимальную протяженность — до 300 километров. Военачальник мог рискнуть и пойти на марш-бросок на треть от возможной протяженности похода, если знал, что сразу по прибытии на место назначения должен будет вступить в бой. Вес ноши помимо прочего включал военное снаряжение, а с ним было гораздо сложнее. Энгельс рассчитал, что максимальный вес для солдата в походе составляет около 36 килограммов, хотя большинство военных пособий в настоящее время предполагает максимально допустимый вес, равный 30 килограммам. Я, например, обнаружил, что вообще не могу нести что-то более тяжелое ни на какие расстояния. Ланделс (Landels 1980) предполагал, что римские носильщики могли нести около 25 килограммов на дальние расстояния. Македонские пехотинцы несли на себе около 22 килограммов обмундирования, фактически шлем и нательный доспех (доспех было легче нести по сравнению с рюкзаком, набитым военным снаряжением, того же веса, поскольку вес лучше распределялся по поверхности тела). Аккадское снаряжение наверняка было легче, но я сомневаюсь, имело ли это какое-нибудь значение для небольшого количества солдат до македонцев, которые несли 22 килограмма снаряжения. Отец Александра Филипп сократил обоз, а также количество телег и перенес бремя этого груза на солдат, чтобы увеличить их мобильность. Позднее в Римской республике генерал Марий проделал то же самое, благодаря чему его солдаты получили прозвище «мулы Мария». Упомянутые нововведения представляли собой рутинизированное принуждение, применяемое к солдатам, и свидетельствовали о высокомилитаризи-рованных обществах. Сомнительным выглядит предположение о том, что на Ближнем Востоке солдат могли нагружать подобным образом. Там, где в армии Александра на трех бойцов приходился один человек из обоза, у его персидских противников это соотношение было 1:1 (или около того, как свидетельствуют греческие источники). Более того, на многих изображениях шумерские, аккадские и ассирийские солдаты практически никогда не были ничем обременены помимо военного снаряжения. Судя по этим изображениям, на повозки, а также слуг ложился весь остальной груз. Весьма вероятно, что солдаты Саргона не несли практически никаких запасов или корма для животных и зависели от рабов и слуг из обоза, численность которых была сопоставима с численностью армии. Общей уровень их запасов не мог превышать мои расчеты, представленные выше, а скорость их пешего продвижения за день была и того меньше. Ни источники воды в пути, ни более легкое снаряжение не помогали преодолеть расстояние, большее чем 90 километров, для тех, у кого изначально не было поддержки. Армии ранних ближневосточных монархий могли ограничиться даже 80 километрами. Из чего следует, что более крупномасштабные завоевания на большие расстояния были логистически невозможны. Передвижение по реке могло заметно расширить возможности Саргона (морей на пути его военной кампании не было). Воюя против шумеров, он двигался вниз по течению реки, а потому проблемы груза при условии тщательного планирования не было. Обитатели густонаселенных речных пойм, скованные социально и территориально, могли лишь бежать со своими зерновыми завасами в укрепленные города. Города находились на определенном расстоянии друг от друга. Саргон мог, выстроив земляной вал, подняться до уровня стен, получать запасы по реке, осаждать город и использовать награбленное в качестве запасов для следующего похода. На самом деле у городов-государств было бы больше логистических проблем при попытке разработать совместную операцию против него. Мы располагаем записями по меньшей мере о 34 победных кампаниях Саргона против городов. Он мог захватывать их один за другим. Юг был уязвим для завоевания северянином. Завоевать север было сложнее. Города располагались либо вверх по течению, либо были окружены равнинами и горами. Поэтому мы предполагаем, что никакого пополнения запасов по пути марш-броска не было. А если так, то и завоевания были практически невозможны. Нам необходимо несколько ослабить это допущение. Территории, по которым проходил Саргон, были населены оседлыми земледельцами с дополнительными пастбищами, что повышало возможности армии «жить с земли». Это подразумевало сезонный характер военных кампаний продолжительностью максимум в один месяц, когда подходила пора сбора урожая и население сохраняло излишки, чтобы накормить небольшую армию. Размер армии в этом случае был решающим — чем она больше, тем хуже ситуация со снабжением. Сезонные возможности для захвата молодых животных и поиска хорошего выпаса для стад, управляемых обозом, идущим за армией, были сходными. Если Саргон мог, как байроновские ассирияне, спуститься «как на стадо волки», он не слишком растягивал периоды жизни с земли. Но большинство излишков в это время уже хранились на защищенных складах — даже со скоростью ассириян их не удалось бы достать без осады. Мы вновь можем использовать опыт Александра на тех же самых территориях. Укрепленные хранилища, противостоявшие ему, были территориально разбросаны и различались в деревнях, оазисах, городах и провинциальных столицах Персидской империи. Александр никогда не отходил далеко от баз снабжения до тех пор, пока не получал подробного отчета о территории, которая лежала впереди: ее дорогах, доступных запасах и оборонительных возможностях. Затем он рассчитывал силы, минимально необходимые для того, чтобы посеять страх среди местных защитников, но способные перенести максимальную часть награбленных запасов. Затем он посылал эти силы, вероятно, различными маршрутами. Основная часть армии оставалась на месте до тех пор, пока передовой отряд не давал знать о победе, и только тогда основные силы двигались дальше. Местные защитники всегда оказывались в сложном положении: они получали предложение о капитуляции, от которого не могли отказаться, если помощи от их правителя не поступало. В сражении обычно не было необходимости: перестрелки демонстрировали баланс сил, мнение совета защитников разделялось, и кто-то открывал ворота. Описанное выше настолько отличается от современных военных сражений, что современные авторы часто не могут уловить сути процесса. Коммуникационные сложности древних сражений были настолько велики для обеих сторон, что их армии редко сталкивались лоб в лоб. В подобных случаях обеим армиям следовало небольшими отрядами быстро продвигаться различными путями к предполагаемому месту объединения, где были необходимые запасы воды в самый разгар сельскохозяйственного сезона и где, возможно, были заранее подготовленные хранилища, неподалеку от врага, а затем уже можно было вступить в сражение. Генералы обеих сторон обычно были заинтересованы в битве. Их методы, чувство собственного достоинства (чести) и прежде всего их способность контролировать солдат лучше подходили для битвы, даже для поражения, чем для сопротивления падению боевого духа, когда у них заканчивались запасы (за исключением разве что обороны города, окруженного стенами, с богатыми продовольственными запасами). Командующие обороной также были обязаны избегать «внутренней измены», которая уже была описана выше. За исключением этого, основные силы использовались только для того, чтобы внушить благоговейный страх жителям провинций, а также в качестве резерва, поставлявшего свежие передовые отряды. Процесс завоевания по большей части представлял собой «федерально» организованное продвижение отдельных сборных отрядов, за которым следовали принудительные переговоры и «внутренняя измена» со стороны защитников города. Как отмечает Кро-ун (Crown 1974)» наиболее развитой частью древних коммуникаций была сеть, включавшая отношения «курьер — шпион — дипломат». Курьер наделялся высоким статусом, предполагавшим множество инициатив, впечатляющие награды или наказания. Курьер был критически важен для правителя империи. У защитников городов практически не оставалось выбора. Если они оказывали сопротивление, их могли убить или обратить в рабов; если они капитулировали, то практически все имевшиеся у них запасы отнимались, а стены уничтожались. Но их раздосадованным братьям или младшим сыновьям и их группировке могла выпасть лучшая доля — на них ложилось восстановление города. Они могли примкнуть к армии завоевателя или остаться в ведении города. Их присутствие было политически целесообразным, даже если они не вносили никакого значительного военного вклада, поскольку их сохраняли как пример для последующих провинциальных столкновений. Следовательно, мы постоянно сталкиваемся с мгновенным превращением поверженных в союзнические отряды, что также удивит современных читателей. У атакующих был стимул вести переговоры быстро, чтобы армия могла продвигаться дальше к новым источникам пополнения запасов. Это был более дипломатический процесс, чем хотели представить славные императоры-завоеватели типа Саргона. Но это соответствует тому, что нам известно о начале и конце правления династий, основанных аккадцами, — большое количество быстрых военных кампаний Саргона, свидетельства провинциальных правителей в конце Третьей династии Ура, отказавшихся от своей лояльности и покорившихся амореям. Таким образом, шумеры были готовы к захвату запасов, но другие территории представляли собой огромные логистические проблемы. Саргон, вероятно, преодолевал их посредством двух тактик. Во-первых, ядро его армии составляли профессионалы, привыкшие к длительному сбору разведывательной информации и координации поставок, способные к принуждению или к выступлению в качестве отдельной военной единицы для решающих битв либо в качестве фуражирующих[49], осаждающих отрядов. Во-вторых, его дипломатическая проницательность или дипломатические способности его командующих также играли важную роль. Их позиция в качестве военных вождей пограничий, вероятно, способствовала пониманию логистических и дипломатических возможностей, доступных на различных территориях, в борьбе против местных защитников. Эти две тактики помогали им овладеть необходимым военным мастерством, чтобы создать организационные связи между плодородными, открытыми для нападения, защищаемыми, контролируемыми речными долинами и сельскохозяйственными равнинами. Любопытно, что ограничения с пополнением военных запасов не останавливали завоевания. Саргон и его последователи были ограничены территорией, площадь которой составляла около 500 квадратных километров, но эта территория ограничивалась возможностями политического контроля, а не возможностями завоевания. Когда армии выходили за естественные границы, очевидных плацдармов для восстановления сил не было. Учитывая характерную организацию — ядро армии, составлявшее 5400 человек, плюс федеральные отряды, количество которых в ходе похода возрастало, — пополнение запасов требовалось каждые 50-100 километров. В этом плане имели значение только речные линии коммуникации. «Неземные» пути не вносили никакого вклада в пополнение запасов. Укрепления не было необходимости маскировать. Иногда древние армии просто продолжали следовать пешему маршруту. Некоторые из кампаний Александра в Азии относятся к такого рода случаям, как и (вынужденное) отступление 10 тыс. греческих наемников под предводительством Ксенофонта[50], которых судьба забросила на 1500 километров от дома. Но в целом армии перемещались только для того, чтобы институционализировать завоевание, то есть чтобы управлять, в условиях ограниченных политических возможностей.ИНФРАСТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
Власть, которую Саргон мог использовать, для того чтобы править, была менее экстенсивной по сравнению с той, которую он мог использовать для завоеваний. Я возвращаюсь к концентрическим кругам экстенсивной власти Латтимора, описанным в главе 1. С этого момента мы можем наблюдать различие в способности экономических, идеологических, политических и военных организаций к интеграции экстенсивных обществ. Радиус действия политической власти был меньше, чем радиус военного завоевания. Армия достигала успеха путем концентрации своих сил. Она проходила не через мирные территории, отчаянно защищая только свои фланги и тылы, периодически оставляя без защиты свои линии коммуникации. Те, кто не мог убежать, формально подчинялись. Это происходило лишь по той причине, что их удерживала на месте тысячелетняя история заключавшего в «клетку» сельского хозяйства, к тому же радиус завоевания был слишком большим. Но управление завоеванными с помощью армии, было как раз тем, что сводило на нет военное преимущество завоевателей. Ни один завоеватель не мог избежать этого противоречия. «Нельзя управлять империей, сидя верхом на коне»[51]—эти слова приписывают Чингисхану. Существовали четыре принципиальные стратегии исправления этого и развития подлинно имперского доминирования. Первые две заключались в том, чтобы управлять через клиентов или через прямое военное правительство, самые легкие в применении, но наименее эффективные. Ниже я вернусь к ним. Две другие стратегии — «принудительная кооперация» и развитие сплоченной культуры правящего класса — давали имперским правителям огромные ресурсы, но требовали более сложных инфраструктур, которые постепенно возникли лишь позднее в ходе истории развития власти. Их я рассмотрю более подробно. В этот период мы обнаруживаем только зачатки того, что позднее наберет силу. Однако когда мы дойдем до Римской империи в главе 9, то значительный вклад «принудительной кооперации» и сплоченной культуры правящего класса в поддержание существования 500-летней империи станет очевидным. Поэтому давайте начнем с более жестких стратегий правления. Первой из четырех стратегий была стратегия управления через правителей-клиентов, покоренные местные элиты. Ранние империи пытались применять эту стратегию к бедным и менее организованным соседям. Принимая формальное подчинение и, вероятно, немного дани, они оставляли местных правителей на местах. В случае неподчинения к ним отправляли карательные отряды, заменявшие правителей, возможно, их кузенами и увеличивавшие размер дани. Такие завоевания по сути могли вестись беспорядочно и нерегулярно. В любом случае, как мы уже убедились, логистические трудности означали, что даже они подразумевали политические сделки с местными диссидентами из элиты. Однако большей власти можно было добиться путем добавления диффузной власти к этим авторитетным процессам. Это было возможно, например, путем взятия в заложники детей местной элиты, а возможно, и их родителей и их «обучения» культуре завоевателей. На тот момент репертуар методик диффузной власти был весьма ограниченным. Но если местные элиты отходили от завоевателей, цивилизация могла связать с их собственным народом. Завоеватели могли помочь им с поддержанием местного контроля, предоставив солдат, главной функцией которых в случае восстания было отступление до прибытия помощи. В действительности вплоть до самого позднего времени «территориальные империи» предположительно не имели четких границ и «внутренние» приграничные области обычно управлялись подобным опосредованным (косвенным) образом. Поэтому изображения показывают господство как персональное уничтожение мятежников и ритуальное преклонение правителей-клиентов перед их хозяевами. Правление осуществлялось через других королей, лордов, правителей. Это предоставляло дешевую (низкозатратную) безопасность, а также оставляло автономию местным элитам, способным мобилизовать ресурсы для революции или для службы более привлекательному сопернику — внешнему или внутреннему. Поэтому мы видим, как Саргон ставит аккадцев рядом с местными царями, а свою дочь назначает высшей жрицей бога Луны в завоеванном Уре. Вторая стратегия заключалась в управлении напрямую через армию, чтобы базой государства был милитаризм. Такая стратегия требовала размещения военного командования и солдат в стратегических крепостях и городах. Она также предполагала более крупномасштабное уничтожение враждебной элиты по сравнению с первой стратегией. Стратегия также требовала изъятия большего количества излишков у завоеванных земледельцев для строительства профессиональных войск, разделенных на небольшие единицы, а также для выстраивания и поддержания военной/государственной инфраструктуры крепостей, коммуникационных дорог и системы снабжения. Эта стратегия преобладала в завоеванных территориях ядра, а также в ключевых, исходя из геополитической точки зрения, областях. По всей вероятности, в этом и заключалась стратегия Саргона в областях, управляемых аккадцами и подкрепленных принудительным трудом, хотя он также использовал первую стратегию в других областях. Но прямое управление через армию сталкивается с двумя проблемами: как поддерживать лояльность и единство военных правительств и как увеличить количество излишков, добываемых завоеваниями? Авторитет центрального командования относительно легко поддерживать в завоевательной войне — это полезно для выживания и победы. Плоды завоеваний также поддерживают его авторитет, поскольку он мог распределять добычу. Этот авторитет можно поддерживать во время наведения порядка, умиротворения и институционализации, только вознаградив управленцев и солдат, зависящих от центральной власти. В неденежной экономике (о которой сейчас идет речь) вознаграждение означало землю и привилегированные должности, через которые поступали дань и налоги (натуральные и трудовые). Солдатам военное правительство давало только землю, командующим — землю вместе с теми, кто ее обрабатывает, а также государственные должности. К сожалению, эти действия децентрализовали власть, вовлекая солдат в «гражданское общество» и предоставляя им материальные ресурсы, пользование которыми больше не зависело от армии или государства. Бенефиций предполагал военную службу, к тому же дарованная земля не передавалась по наследству, но на практике подобные системы создавали независимую, наследственную, землевладельческую аристократию и крестьянство на завоеванных территориях. Таковым было происхождение военного феодализма, «сатрапии», многих приграничных «царств» и прочих социальных структур, которые эффективным образом децентрализовали власть после завоевания. Позднее средством укрепления солидарности имперских режимов стало развитие универсальной культуры высших классов, как мы увидим на примерах Персии и Рима. Но это было развитие более позднего исторического этапа. Учитывая инфраструктурные ограничения, режимы этого периода в основном полагались на более примитивные ресурсы, например страх, что завоеванное население может снова начать расти. Таким образом,парадокс состоит в том, что чем более стабильным становились наведение порядка и умиротворение, чем эффективнее была степень централизованной регуляции, тем меньше централизации исходило от армии. Умиротворение ^централизует армию. Это аргументы из работ Вебера, тем не менее их следствия не были по достоинству оценены исследователями, работавшими с подобными ранними империями. Поэтому «территориальная» модель империи встает на этот путь двояким образом: во-первых, через метафору «центральных и периферийных» территорий. Территории ядра, утверждает модель, управлялись напрямую и милитократически, периферийные территории управлялись опосредованно (косвенно) через правителей-клиентов. Но логистический результат состоял не в стабильном ядре и стабильной (или нестабильной) периферии, а в изменении паттернов правления в различное время и в разных регионах. Правящие элиты «центра» со временем стали автономными. Йоффи (Yoffee 1977) рассматривает этот процесс на примере Древнего Вавилона в правление Хаммурапи и его последователей. Этот процесс начался, когда непосредственный военный контроль вавилонского ядра был дезинтегрирован, поскольку чиновники, обладавшие наследственными правами над их учреждениями, вступали в браки с местными элитами и собирали налоги. Он заключает: «Политические и экономические системы с высокоцентрализованной бюрократией… невероятно эффективны в военном и экономическом отношении на начальных стадиях, но редко способны институционализировать и легитимировать сами себя» (Yoffee 1977: 148) — Вся целостность, а не только «периферийные» границы становится политически нестабильной. А собственно, где был этот центр? И вот уже во второй раз всплывает понятие фиксированных территорий и центров. А центром и была армия Саргона численностью 5400 человек, и этот центр был мобилен. Только постоянные военные кампании централизовали военную власть. По мере того как более серьезные угрозы становились непостоянными, империя все меньше напоминала армию, вовлеченную в единую военную кампанию под руководством центрального лидера. На провинциальные угрозы отвечали мобилизацией провинциальных армий, которые отдавали власть в руки местного командования, а не центрального государства. Чтобы противостоять фрагментации, величайшие завоеватели в доиндустриальных коммуникационных условиях вынуждены были постоянно предпринимать военные кампании. Их физическое присутствие в армейском главном командовании централизировало их власть. Как только они или их наследники возвращались в столичный царский дворец, начинали проступать трещины. В действительности после этого многие воинствующие империи распадались. Мы не видим ничего, что могло бы удержать эти рукотворные создания в целостности, за исключением эксцентричного страха и энергии их правителей. Одна из причин нестабильности империй заключалась в том, что в то время еще не было создано никаких продвинутых логистических средств для их политической консолидации. Государственные аппараты, какими они были тогда, зависели от личностных качеств и отношений правителя. Родство было наиболее важным источником постоянного авторитета (власти). Но чем шире становилось пространство завоеваний, тем более напряженным и фиктивным оказывалось родство между правящими элитами. В этот период военачальники вступали в браки с местными жителями, чтобы защитить себя, но это ослабляло связи между самими завоевателями. В этот период техники письма были ограничены прежде всего тяжестью табличек и сложностью письма. Их традиционно использовали для концентрации отношений под властью центрального дворца города. Их невозможно было легко адаптировать для более широких целей передачи сообщения и контроля на больших расстояниях. Некоторые усовершенствования были сделаны в разработке кодекса законов. Прекрасно сохранившийся свод законов Хаммурапи свидетельствует о растущих амбициях правителей, хотя, вероятно, на практике империя не управлялась на их основе. Таким образом, в рассматриваемый период военные и политические логистики не особенно способствовали «территориальным империям». Термин «империи доминирования» лучше подходит для описания неусточивых федераций наместников, правящих под общим началом Саргона и его последователей, государством которого на самом деле были 5400 солдат. Однако если мы обратимся к тому, что предположительно обладало наименьшим логистическим радиусом — к экономике, то обнаружим третью стратегию, доступную правителю. Здесь я отойду от модели Латтимора, которая четко различает три логистических радиуса, выступая, как представляется, развитием однофакторных подходов (подходов автономии того или иного фактора) в социологии, которые я критикую в главе 1. Экономические структуры ранних империй не были отделены от военных и государственных структур — экономические структуры были ими пронизаны. Связи принудительной кооперации предоставляли более внушительные логистические возможности для имперских правителей, соединяясь с четвертой стратегией, то есть с разделяемой всем правящим классом культурой, — они становятся принципиальным ресурсом власти империй.ЛОГИСТИКИ МИЛИТАРИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ: СТРАТЕГИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ
Наиболее узким радиусом охвата в модели Латтимора обладала экономическая власть. По его мнению, в древних империях существовало множество крошечных ячейкообразных (cell-like) «экономик». Подобные ячейки были хорошо различимы в воинственной империи Саргона, покрывая собой каждую из региональных экономик, недавно собранных воедино. Наиболее развитыми были ирригационные долины рек и поймы, отчасти организованные перераспределявшими центральными дворцами (бывшими городам и-государствам и). Но между ними и высокогорными областями шли торговые обмены. Эти обмены также были частично организованы бывшими политическими властями: в речных долинах — перераспределявшими центральными дворцами, в горной местности — децентрализованными лордами. Завоеватель хотел сделать отношения производства и обмена в этих местностях более интенсивными. Разумеется, до определенной степени такая интенсификация происходила сама по себе по мере наведения порядка и умиротворения. Но государство также хотело контролировать любой рост излишков. Поэтому после победы завоеватели непроизвольно двигались по направлению к определенному набору экономических отношений, для обозначения которых мы используем термин «принудительная кооперация», предложенный Гербертом Спенсером (см. его точку зрению о том, что связывает воедино «военное общество», в Spencer 1969)[52]. При таких экономических отношениях излишки, добываемые в природе, могут быть увеличены, империя — поддерживаться хрупким экономическим единством, а государство — извлекать определенную долю излишков и поддерживать единство. Но эти прибыли достигаются ценой возрастающего принуждения в экономике в целом. Отличительной чертой принудительной кооперации становится неотделимость открытых репрессий и эксплуатации от более или менее общей пользы. Эта модель, которая будет рассмотрена ниже, отходит от новейших теорий, делающих акцент лишь на одной из сторон — эксплуатации и принуждении. Они следуют либеральной точке зрения на государство, которая широко распространена в настоящее время. Согласно ей, фундаментальный социальный динамизм, включая экономический рост, проистекает из децентрализованной, конкурентной, рыночной организации. Государство держится подальше от рынка, обеспечивает основные инфраструктуры — и на этом все. Как отмечал Адам Смит, «нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении, все остальное сделает естественный ход вещей», что вполне одобрительно принимают современные теоретики экономического динамизма (Jonse 1981: 235). Эту точку зрения разделяют также многие теоретики сравнительного социального развития. Государства, особенно имперские, осуществляют принуждение и эксплуатацию до такого уровня, при котором те, на кого они направлены, держат товары подальше от рынков, ограничивают их инвестиции, способствуют накоплению и в итоге вносят свой вклад в экономическую и социальную стагнацию (Wesson 1967: 206–276; Kautsky 1982). Подобное негативное отношение к империи также широко распространено среди специалистов по древнему Ближнему Востоку, которые часто используют язык «центра» и «периферии». Они утверждают, что этот тип империи с центром в развитом, урбанизированном, промышленном, ирригационном ядре, эксплуатировал через налоги и дань более отсталую, крестьянскую, скотоводческую периферию с сельским хозяйством на землях, увлажняемых дождями. Но периферия могла нанести ответный удар своей империи путем завоевания военными вождями пограничий ядра и затем путем эксплуатации и грабежа народа и богачей ядра. Оба типа империи были паразитическими. Это порождало полемику между учеными, например между двумя наиболее выдающимися исследователями Месопотамии последних лет — советским исследователем Дьяконовым и его американским коллегой Оппенхеймом. Дьяконов отстаивал мнение об экстремальном государственном паразитизме, утверждая, что весь динамизм в области порождался отношениями частной собственности и децентрализованными классами (Diakonoff 1969: 13–32). Оппенхейм справедливо критиковал пренебрежение государственной организацией большей части экономического динамизма. Но он рассматривал государства как города-государства с их торговыми сетями. Более крупные имперские государства вырастали и разрушались как «надстройки» над этим экономическим базисом. Когда империи исчезали, вновь возникали более или менее изменившиеся города-государства (Oppenheim 1969: 33–40). Как мы вскоре убедимся, оба мнения были ошибочными. Негативный взгляд на империи разделяли, хотя и менее категорично, Экхольм и Фридман. Целесообразно привести их взгляд, разбив цитату на четыре части. 1. Империи, которые развиваются в системы ц/п (центр/периферия), являются политическими механизмами, питающиеся за счет уже существующих форм производства и аккумуляции благ. Там, где они не устанавливают чрезмерно высокие налоги и одновременно поддерживают коммуникационные сети, они увеличивают производственные и торговые возможности системы, то есть возможности всех существующих форм накопления благ. 2. Империи поддерживают и усиливают политические отношения системы ц/п путем взимания дани с завоеванных территорий и периферий. Но поскольку империи не обеспечивают новые экономические механизмы производства и циркуляции, а лишь эксплуатируют уже существующие, они могут создать условия для собственного демонтажа. 3. Это происходит там, где прибыль, получаемая от существующих циклов накопления, растет более медленными темпами по сравнению с самим накоплением. В таком случае начинается экономическая децентрализация, выливающаяся в общее ослабление центра по отношению к прочим областям… [Примером быстрой децентрализации является Рим, а более плавной децентрализации — Месопотамия]. 4. Грубо говоря, баланс империи детерминирован следующими факторами: военная добыча + дань (налоги) + прибыли от экспорта — (расходы империи + расходы на импорт), где экспорт и импорт являются соответственно теми товарами, которые вывозят из центра, и теми, которые завозят в него [Ekholm and Friedman 1979: 52–53]. Это образцовое суждение о балансе сил централизации и децентрализации. Чистое изменение в балансе происходит медленно, но постоянно относительно Месопотамии, а также более редко (но всякий раз неожиданно) относительно Рима. Однако в целом эти изменении составляют «изначальный» динамизм всей экономики в «уже существующих» свободных и децентрализованных формах накопления, представляют собой двигатель социального развития. Все государства привносят свои коммуникативные сети, поощряющие импорт и экспорт. Помимо этого стратегический «контроль» государства над накоплением паразитически извлекает излишки, но не создает их. Понятие паразитического центра, также предложенное Экхольмом и Фридманом, подверглось критике Ларсеном (Larsen 1979) и Адамсом (Adams 1979). Я хочу выдвинуть два контраргумента: (1) имперское государство способствует накоплению пятью специфическими способами; (2) децентрализация является результатом дальнейшего развития процессов, в ходе которых государство способствует экономике, а не результатом утверждения «изначально» децентрализованной власти; государство фрагментируется, содействуя развитию власти частной децентрализованной собственности.ПЯТЬ АСПЕКТОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ
Пять экономических процессов были одновременно функциональными для развития коллективной власти, хотя также предполагали репрессии. Это были военное умиротворение (наведение порядка), военный мультипликатор, авторитетное налогообложение стоимости экономических благ, повышение интенсивности труда путем принуждения, распространение и обмен технологиями путем завоевания. Хотя милитаризм имперских государств, безусловно, оказывал негативное воздействие, когда посредством пяти процессов эффективность и стабильность были отрегулированы, он мог вести к общему экономическому развитию. Проанализируем эти процессы.Военное умиротворение (наведение порядка}
Торговля, включая торговлю на большие расстояния, предшествовала возникновению милитаристических государств, как подчеркивают Фридман и Экхольм (Friedman and Eckholm 1978). Но с ростом ее объемов она все больше нуждалась в защите по двум причинам. Поскольку росли излишки, она становилась все более привлекательной и желанной добычей для грабителей; поскольку росла специализация, местное население становилось все менее самодостаточным и все более зависело от торговли. Саргон направился на север, чтобы защитить торговые маршруты. На протяжении всей письменной истории вплоть до XX в.н. э. мы наблюдаем множество сходств с подобным развитием. В течение большей части истории вообще было не так уж много «стихийности» в развитии торговли. Люди могли обладать естественной склонностью к «обмену и торговле», согласно известному утверждению Адама Смита. Доисторические события свидетельствуют в пользу этого. Но за пределами определенного порогового уровня обмены генерируют дальнейшие обмены и таким образом стимулируют производство только в случае, если «обладание» (собственность) и «стоимость» могут быть авторитетно установлены. Все это может быть достигнуто болезненно, кропотливо и диффузно через огромное количество независимых контрактов, подразумевающих нормативное понимание между торговыми партнерами. Но во многих обстоятельствах это выглядело более расточительным в терминах социальных ресурсов по сравнению со вторым методом: монополистические правила, подтверждающие право собственности и управляющие обменом, устанавливались и поддерживались внутри авторитарным государством и внешне — дипломатией между несколькими подобными государствами. Защита устанавливалась путем принуждения. Доказательством служит тот факт, что в империях торговля обычно процветала во времена стабильности империй и сокращалась, когда империи приходили в упадок. Это случалось во времена аккадцев и сразу после них. Время от времени можно наблюдать развитие альтернативных методов регуляции торговли (наиболее известные в эпоху финикийского и греческого военного превосходства, а также в христианской средневековой Европе), но в их рамках были предложены децентрализованные и иногда гораздо более диффузные формы защиты, которые не были результатом «самопроизвольной» торговли. Дипломатия, регулируемая при помощи силы, была необходима на международном уровне. Наведение порядка и умиротворение на периферии были направлены против иностранцев и приграничных народов. Порядок и мир требовались на всех торговых маршрутах, они были также необходимы в ядре. Даже в исторических цивилизациях близость к капиталу и к миру при помощи армии оставалась ненадежной. Так было отчасти из-за природных и неравномерно распределенных факторов, таких как плохая урожайность, эрозия почв или засаливание, а также из-за того, что экономику и производство мог заметно подорвать рост населения: в этом случае голодные массы одного региона могли напасть на население другого. С этим можно было справиться, объединив простые репрессии и усиленную защиту ирригации в ядре, а также перераспределяющие склады на всей территории империи. На имперских этапах ирригация расширялась, то же происходило с населением, расселявшимся древовидным образом, в силу чего система защиты при помощи старых городских стен становилась ненадежной. Повсюду для охраны и репрессий требовалась армия. Военная машина Саргона играла эту защитную роль. Она создавала минимум крепостей, охраняемых профессиональной полевой армией, выживание которой зависело от успешного выполнения ею своих защитных функций. Снабжение армии зависело от поддержания связей между речными поймами центра, высокогорными пастбищами и лесами, а также горными шахтами. В этом смысле 5400 солдат и их последователи в империях Ура, Вавилона и Ассирии, как и в более поздних государствах, были потребительским ядром экономики. Они защищали самих себя, а заодно производителей и торговцев в целом.Военный мультипликатор
Потребление армии также можно рассматривать в качестве стимулятора спроса, а следовательно, и производства. Напомню, что это были нужды в товарах первой необходимости — зерне, овощах и фруктах, а не в экзотических предметах роскоши-животных, одежде, металле, камне и дереве. Естественно, если не происходило никаких улучшений в методах производства, распределения и обмена, это был бы обыкновенный паразитизм. В таком случае армия просто реквизировала жизненно необходимые ресурсы у земледельцев и добывающих производителей, тем самым ставя под угрозу жизнеспособность производства в целом. Одно потенциальное усовершенствование, которое уже было признано Фридманом и Экхольмом, заключалось в коммуникациях. Империи строили дороги (в рамках рассматриваемого периода с использованием принудительного труда под надзором армии), улучшали речной и морской транспорт. В этом отношении невозможно отделить экономические элементы от военных. Перевалочные пункты, на которых путешественники и торговцы могли восстановить силы и пополнить запасы, были также рынками для обмена товарами; заставы, где с них могли взиматься пошлины, были небольшими гарнизонами для наведения порядка в торговле и на всей территории и перевалочными постами для военных коммуникаций. «Экономические» и «милитаристические» мотивы разделить попросту невозможно, поскольку наведение порядка и умиротворение были одинаково важными для обеспечения и тех и других потребностей. Побочная экономическая выгода для большей части общества была ощутимой. Естественно, что ценой этой выгоды были расходы на строительство и поддержание экономической инфраструктуры. Для этих древних времен мы не можем точно рассчитать отношение издержек и прибылей подобных технологий. Однако позднее на примере Римской империи я покажу и буду настаивать, что имело место полноценное «военное кейнсианство». Значительный эффект мультипликации достигался за счет потребления легионов.Власть и экономическая стоимость
По мере развития обмена то же самое происходило и с техниками измерения экономической стоимости (цены): количество товара А стоило столько же, сколько такое же количество товара В. Когда обе «стоимости» могли быть выражены в третье «стоимости», они превращались в товары. Начиная со времен первой цилиндрической печати перераспределяющее государство может часто, вероятно, даже всегда назначать меновую стоимость быстрее, эффективнее и, по всей видимости, даже справедливее, чем через реципрокность, то есть чем рынок. Обмениваемые предметы (обычно нескоропортящиеся, например металлы, зерно и финики) приобретали форму «денег», проходя сертификацию качества и количества под официальным или полуофициальным контролем. После этого их можно было одалживать под определенный процент — истоки ростовщичества. Тарифы, которые мы обнаруживаем начиная с третьего тысячелетия и далее (из которых самыми известными были части из свода законов Хаммурапи), могли быть всего лишь списками максимально допустимых цен. Но возможно, как утверждает Хейчелхейм (Heichelheim 1958; 111), это были официальные обменные курсы, хотя степень их соблюдения остается неясной. Первыми властями, способными устанавливать цену, по всей видимости, были перераспределяющие вождества, как показано в главе 2. В месопотамских речных долинах они были успешны в небольших городах-государствах, как мы убедились в главе 3. С тех пор не существовало постоянного соответствия между милитаристическими империями и установлением стоимости (цены). Соответствие было установлено только тогда, когда завоевания расширили регулярный обмен, включая в него более разнообразные товары, на большие расстояния. Военные правители стали стимулом для квазичеканки монет, поскольку обладали способностью установить определенного рода произвольную стоимость (цену) в более обширных и разнообразных областях. Но этот процесс предполагал нечто гораздо большее, чем просто «чеканка монет», — гарантированную систему мер и весов, запись контрактов грамотными государственными служащими, принуждение к исполнению контрактов и соблюдению прав собственности через установление законов. Во всех отношениях разросшееся военное государство могло навязывать экономическую стоимость (цену).Повышение интенсивности труда
В простейшей неденежной экономике извлечение большего количества излишков означает прежде всего извлечение большего количества труда. Этого легче всего добиться путем принуждения. Принудительный труд мог использоваться для строительства укреплений и коммуникационной инфраструктуры, то есть тех задач, которые требовали больших объемов труда в короткие промежутки времени. Логистические проблемы были практически такими, какие стояли перед армией: снабжение продовольствием на больших расстояниях, интенсивное принуждение, пространственная и сезонная концентрация. Военные технологии Саргона применялись в гражданско-строительной сфере. Более того, принуждение могло быть использовано в сельском хозяйстве, горном деле и ремесленном производстве, в рабстве и в прочих неоплачиваемых статусах. Как мы убедились в главе 3, подчинение труда и полное его отделение от средств производства обычно предполагали зависимость, а не свободный труд. Крупномасштабные военные завоевания способствовали расширению зависимости и рабства. Впоследствии в рабство могли попасть люди через долговую кабалу или продажу вождем их прибавочного труда более развитому обществу, но общей моделью служило именно рабство через завоевание. Нужно ли говорить, что рабы не получали никаких преимуществ от такой системы. При определенных обстоятельствах рабство также могло подорвать экономику свободно конкурирующих крестьян (как это и произошло гораздо позже в Римской республике). Но в целом рост производительности мог идти на пользу всему свободному населению, а не только хозяевам слуг или рабов. Рабство преобладало не всегда. По мере того как принуждение становилось институционализированным, необходимость в рабстве снижалась. Тогда на передний план выходили несвободные группы слуг, которые тем не менее не были порабощены. В Аккадской империи и империи Третьей династии Ура мы можем обнаружить крупномасштабные организации труда военного типа, иногда с рабами, а иногда без них. Из архивов Дрехема времен Третьей династии Ура мы узнаем о трудовой группировке общей численностью 21799 человек, находившейся в ведении государства. Эти работники были сгруппированы в бригады, каждая с руководителем из огромного количества небольших и крупных городов, местные правители которых также перечислены в этом списке. Так появляется организация принудительного труда, мигрирующая между плодородными полями и ремонтирующая дамбы и насыпи, члены которой были непропорционально в большом количестве рекрутированы с периферийных областей севера, но не были порабощены (Goetze 1963; Adams 1981: 144–147). Вместе с тем рабочую силу королевских шерстяных ремесленных цехов в количестве 9 тыс. человек составляли рабы, одни из которых располагались в центре, а другие были разбросаны по обширным пастбищам (Jacobsen 197°) Когда режим был силен и стабилен, вероятно, он был способен повышать производительность труда всего спектра свободных/рабов. Например, когда македонцы завоевали Ближний Восток, рабство, унаследованное от прежних режимов, было широко распространено, даже, по всей вероятности, было нормой (Ste Croix 1981: 150–157). Также могли существовать дальнейшие стадии институционализации принудительного труда, даже если это шло вразрез с современными представлениями об их необходимости. Это то, что мы называем «свободным» трудом, хотя «наемный» труд — более подходящее название. Там, где стратификации и частная собственность лучше защищены, а также там, где некоторые группы де-факто «владеют» средствами производства, а другие должны работать на них, чтобы выжить, рабочие «добровольно» работают на собственников. В Древнем мире наемный труд не был преобладающей формой труда. В аграрной экономике трудно отключить собравшихся вместе крестьян от прямого доступа к средствам производства — земле. Оказавшись в подчинении, они гораздо чаще принуждались напрямую через рабство или служение. В Месопотамии упоминания о наемном труде не встречаются в письменных свидетельствах (хотя он, вероятно, и существовал) вплоть до Третьей династии Ура (Gelb 1967). Наемный труд обеспечивал землевладельцев более гибким видом труда, хотя и не был широко распространенным феноменом. Эффективное интенсивное использование труда, по моему предположению, всегда проходит дорогой принуждения: от рабства к служению и к «свободному» труду.Принудительная диффузия
Четыре аспекта принудительной кооперации, рассмотренные выше, включали авторитетную власть, высокоорганизованную логистическую базу, которая наводила мосты между локальными партикуляризмами. Но большая часть этой организации оказывалась совсем ненужной, если сходные образы жизни и сходные культуры могли сами собой распространиться среди населения, устраняя локальный партикуляризм, объединяя локальные идентичности в более широкую. Ранняя шумерская культура, рассмотренная в главе 3, распространилась в аллювиях и в близлежащей периферии, результатом чего стала более экстенсивная коллективная власть, чем авторитетная власть города-государства. Хотя аккадское завоевание прервало это расширение культурной власти, оно создало возможности для новых типов диффузии власти. Завоевание приводит к наиболее внезапным, разительным и принудительным смешению и перестройке стилей жизни и практик. Там, где этот процесс не односторонний, возникают значительная диффузия и инновации. Смешение Аккада и Шумера, Греции и Персии, Рима и Греции, Германии и Рима было наиболее выразительным в своих последствиях для цивилизации, что было закреплено завоеваниями одними других, хотя инновация не была результатом исключительно пассивного принятия завоеванным социальных практик завоевателя. Сплав Аккада и Шумера, уже известный нам, внес огромный вклад в развитие письменности. Аккадский язык был флективным[53], передающим часть смысла при помощи тона и высоты звука. Аккадцы завоевали письменный народ, пиктограммы которого в целом изображали физические объекты, а не звуки. Но аккадцы были больше заинтересованы в развитии фонетического письма. Слияние аккадского языка и шумерской письменности привело в результате к упрощению письменности, которое помогло трансформировать пиктограммы в слоговое письмо. Существование меньшего количества символов было настоящим подарком для распространения письменности. Превосходство аккадского над другими ближневосточными языками было настолько велико, что к середине второго тысячелетия до новой эры, даже когда папирус заменил глиняные таблички, он стал основным международным языком дипломатии и торговли. Даже египтяне использовали его во внешней политике. Аккадская письменность возвысилась благодаря не только бюрократии империи Саргона, но и стабилизации международной торговли, дипломатии и социальному знанию в целом. Слияние через принятие изначально осуществлялось при помощи силы, поскольку нам известно о сопротивлении аккадскому языку со стороны шумерских писарей. Следовательно, завоевание аккадцами могло привести к расширению культуры, а также к способности идеологической власти обеспечить дальнейшую диффузную власть, поддерживающую целостность империи. Я более подробно разберу это в следующем разделе. Это несколько модифицирует мой прежний акцент на преобладании военной власти и принудительной кооперации. Наиболее поразительной чертой этих пяти аспектов принудительной кооперации является то, что экономическое развитие и репрессии могли идти бок о бок. Выгоды были абстрактными, они зависели не от непосредственной независимости или обменов множества производителей или посредников, а от придания им определенного единообразия и репрессий, осуществляемых военным государством. Поэтому репрессии были необходимы для поддержания их существования. Материальное производство основных классов в действительности не складывалось в общую экономику без того, чтобы внутренняя военная элита обеспечивала единство экономики как целого. Цепи практик (используя метафору из главы 1) масс сами по себе не были «путеукладчиком» (использую мою ревизию метафоры Макса Вебера, изложенную главе 1) для экономики. Хотя, разумеется, «классовое действие» могло дезинтегрировать империю и стать угрозой ее уровню развития, вернув к примитивным демократиям более ранних времен. В силу недостаточного количества источников о жизни масс в настоящий момент подобные утверждения нуждаются в доказательстве. Были периоды социальной турбулентности, возможно включающие классовый конфликт: от правителей требовали рассудить их, осуществить реформу долговой системы и системы удержаний, которые имели непосредственное отношение к классам. Но не существует доказательств и маловероятно, что классовая борьба играла роль, связанную с развитием, сравнимую с той, которую мы обнаружим в главе 7. В классической Греции различные сети власти придавали классовой борьбе огромную роль двигателя развития. В главе 9 римские источники позволяют нам увидеть упадок классовой борьбы, унаследованной от Греции, перед лицом групповых характеристик горизонтальной власти империи доминирования, какой становился Рим. Вероятно, похожий упадок классовой борьбы произошел и на древнем Ближнем Востоке, поскольку оригинальные понятия о гражданстве появились до клиентской зависимости от правящих элит и имперского государства. Утверждение о том, что общества, покоренные мечом, мечом и управляются, противоречит основным посылкам нашего времени. Современные социальные теории настроены глубоко антимилитаристски, что и понятно, учитывая события XX в. Но милитаризм даже в современное время часто добивался успеха в развитии коллективной власти (как мы увидим в томе 2). Он являлся не только паразитическим, но и продуктивным, Этим я не хочу сказать, что все милитаристические империи были продуктивными или что любой милитаризм исключительно продуктивный. В основном милитаризм всех периодов был исключительно деструктивным: приводил к человеческим жертвам, затратам материальных и культурных ресурсов, не способствовавшим социальному развитию. Мой аргумент более тонкий: между некоторыми аспектами определенного типа милитаристических империй и социально-экономическим развитием есть причинно-следственная связь. Дальнейшее развитие экономики принудительной кооперации было сложным. Вместе с ростом потребления высшей элиты, вероятно, шел исторически неотделимый от него рост экономической безопасности и рост плотности населения масс. Но эти два обстоятельства, как правило, исключают друг друга-факт, который, по мнению Мальтуса, обладает далеко идущими последствиями. Империи вели к большей безопасности жизни масс на уровне выше прожиточного минимума и к усилению разделения труда и коммуникационных систем, поэтому товары первой необходимости (соль, металл, орудия, керамика, текстиль), требующие интенсификации производства, могли транспортироваться на значительное расстояние. Но они также подрывали улучшение благосостояния, увеличивая рост населения. Более высокие жизненные стандарты означают более высокий уровень рождаемости, а рост населения истощает продовольственные ресурсы. В некоторых обстоятельствах подобная нагрузка может стимулировать дальнейшее технологическое развитие в производстве продовольствия, но обычно она ведет к контролю рождаемости через аборты и детоубийство. Альтернативой было периодическое сокращение численности взрослых вследствие катастроф, гражданских и внешних войн, что было еще хуже. И вновь все выгоды доставались репрессивному порядку. Экономическое развитие также увеличивало крутизну профиля социальной стратификации благодаря повышению уровня жизни относительно малочисленной захватнической и властвующей элиты. Хотя эти выгоды распространялись на тех, кто был в непосредственном подчинении у этой элиты, то есть слуг, домашних рабов, наемных ремесленников, администраторов и солдат, они составляли 5-10 % всего населения, проживавшего в городах, крепостях, поместьях и дворцовых комплексах. Улучшение питания, демонстративное поведение и сохранившиеся памятники этой элиты рассматриваются современными исследователями как паразитические, поскольку большая часть населения практически не принимала в них участия. Они потребляли большинство товаров, полученных благодаря торговле на большие расстояния. Имперские цивилизации были более стратифицированными по сравнению с примитивными или непосредственно предшествовавшими им городам и-государствами в терминах распределения богатства, а также индивидуальных и правовых свободы и равенства. Тем не менее развитие коллективной власти имело место. Элиты также зависели от государства. В технически-экономическом смысле элита не была автономной от государственных инфраструктур. Средства обмена по большей части находились под контролем государства. Торговые отношения купцов и ремесленников, международные торговые сделки, цены и (в меньшей степени) заработная плата регулировались государством. Иными словами, правящая элита была создана военной организацией, политической траекторией которой была фрагментация на децентрализованные земельные владения, экономически зависившие от центрального государства. В действительности, как мы убедимся далее, со временем эти отношения становились более сложными и тонкими. Это давало выгоды централизованному порядку, что было известно образованным членам империй. Месопотамских царей, правивших после Саргона, фигурирующих в уцелевших записях (вне зависимости от того, были ли они шумерами, аккадцами, вавилонянами или ассирийцами), восхваляли за порядок, который они обеспечивали (см. исследование ассирийской идеологии Ливерани (Liverani 1979) — У поздних шумеров в руководстве по ведению фермерского хозяйства подчеркивалась необходимость дисциплинирования рабочих, «особенно отмечались кнуты, бодцы[54] и прочие дисциплинирующие инструменты, необходимые для того, чтобы заставить рабочих и скот работать усердно и без перерывов», пишет Крамер, который также комментирует дисциплину в классных комнатах позднего Шумера (Kramer 1963: 105–109, 236). В этом отношении сельскохозяйственные трактаты ничем не отличались от тех, которые были распространены в других империях, например в поздней Римской республике. В империях репрессия как благодетель появляется, чтобы стать чем-то большим, чем просто идеология, и чтобы проникнуть в действительные социальные практики. Наиболее полным свидетельством важной идеологической роли принудительной кооперации является религия Месопотамии.РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВЛАСТИ: РЕЛИГИЯ МЕСОПОТАМИИ
Я опираюсь на превосходную работу Якобсена (1976), которая хронологически забегает немного вперед по отношению к тому историческому моменту, о котором я сейчас веду речь. Якобсен прослеживает развитие четырех основных религиозных метафор в месопотамской религии: 1) сила жизни, дух., постоянно пребывающий в естественных феноменах, которые обладают экономической значимостью. Умирающий бог, отражающий проблемы с плодородием, является типичным образом; 2) правители: Энлиль, «владыка воздуха» — первое шумерское персонифицированное божество; 3) родители: персонифицированные боги с непосредственным отношением к индивидуальному; 4) народные: божество отождествляется с узкими политическими устремлениями и со страхами перед посторонними колдунами и демонами. Весьма осторожно каждая из метафор соотносится с определенным тысячелетием до нашей эры, начиная с четвертого к первому. По мнению Якобсена, каждая отражает изменение в балансе между экономической, политической и военной властью. Рассуждения о четвертом тысячелетии в основном носят гипотетический характер. Но с третьего, как мы уже видели, развитие царства и дворца постепенно начинает преобладать над перераспределяющим храмом. Изменяется искусство: изображение войны и победы вытесняет ритуальные сюжеты, к мифу добавляется эпос, человек-правитель является героем, даже если это бросает вызов богам (как в эпосе о Гильгамеше). Боги получают политическую и функциональную организацию вокруг мирского разделения труда. Бог Энбибулу назначается божественным «инспектором каналов». Уту — бог правосудия несет ответственность за территориальные споры. Ниже представлен дух шумерской религиозной поэтики третьего тысячелетия, то есть периода «правителя». Энки — бог хитроумия был назначен своего рода главным управляющим высшими божествами Аном и Энлилем. Он говорит: Мой отец — царь земли и небес заставил меня явиться в мир. Мой старший брат — царь всех земель царство собрал и службы вложил их в мою десницу… Я — великий добрый правитель страны; я несу службу орошения для всех престолов; я — отец всех земель, я — старший брат богов, я делаю изобилие полным. [Цит. по: Jacobsen 1976: 110–116; Якобсен 1995: 127–128] Однако Энки не должен был справляться с этими задачами в одиночку. Бог Нимута начинал как божество грозы и весенних паводков, а следовательно, как бог распашки полей. Тем не менее в третьем тысячелетии он стал богом войны, в функциях которого смешивались война и ирригация, иногда исключая Энки. Эти изменения, исследуемые Якобсеном, отражают и тесно переплетаются с развитием политической и военной власти не как исключительно средство политической легитимации, а как истинно интеллектуальная попытка постичь природу жизни. Мирской (посюсторонний) порядок (других они не знали), отмечали священники, требовал определенных талантов: таланта ведения переговоров о границах между городами, ирригационного управления, но более всего таланта в исполнении двух ролей — искусного политика и военачальника (качества, которые, как мы могли убедиться, сочетал в себе такой завоеватель, как Саргон). Тон сохранившихся религиозных источников уверенный, мирской, придающий значение фактам. Это свидетельствует об упадке в трансцендентальной роли идеологии в ранней Месопотамии, который рассматривался в главе 3: религия стала более включенной в государство. Военная борьба продолжалась. Потомков Саргона сменил другой приграничный народ — гутьяны. Период их правления был относительно коротким, затем шумеры одержали верх над семитскими народами. Политическая структура, имитирующая государство Саргона, сдвинулась к большей централизации — появилось имперское государство Третьей династии Ура, при котором наблюдался бум в издании законов, записях, росте населения и производства. Но государство распалось. Одна из его частей стала Вавилоном и в эпоху правления семьи Хаммурапи восстановила единое государство, правящее всей территорией. Вавилонская религия реинтерпретировала предшествующую историю, создавая мифы. Мир возник как водянистый хаос, затем появились боги в виде ила. Постепенно они приняли квази-человеческий облик и затем вступили в долгую борьбу. Первым победу одержал бог Эа, но ему стали угрожать хтонические божества и монстры. Его сын Мардук предложил богам соревноваться, только если он будет назначен судьей. Девиз его копья — «Безопасность и Послушание». Он достиг победы и сотворил землю в ее настоящей форме из тела своего божественного соперника. Тогда его девиз претерпел значительное изменение:Когда они вручили Мардуку царство, Провозгласили над ним слова «Благо и Послушание»: «Отныне ты будешь хранителем наших святилищ, и всегда твои приказания мы исполним».Затем боги возвели для Мардука город, которым он стал править. Город был назван Вавилоном, и Мардук стал его богом-отцом. Творение происходило из жизненной силы Шумера и Вавилона — речного ила. Эа олицетворяет шумеров — цивилизацию прародителя. Эпические сражения, включая пугающих монстров и пылающие изображения, отражают военную ситуацию в начале второго тысячелетия. Трансформация девиза Мардука «Безопасность и Послушание» в «Благо и Послушание» была вавилонским видением того, как они управляли установившимся порядком — путем стабилизации милитаризма в централизованный, бюрократический, имперский режим. И вновь это была не просто легитимация — она включала напряжение, наилучшим образом отразившееся в теме отцеубийства, ухода от традиций шумеров. Но этот отход не был трансцендентальным. Он был имманентным/интеллектуальным, моральным и эстетическим в рамках данных отношений власти, а также в том, чтокасалось их успешного укрепления. Затем накатила новая волна приграничных народов, на территории Вавилона появились касситы (как некогда до них появились аккадцы), изначально как рабочие, затем как поселенцы и, наконец, как завоеватели. Начиная с XVI в. до н. э. их династия, адаптировавшая местный язык и религию, правила Месопотамией в течение по меньшей мере четырех веков (576 лет и 9 месяцев согласно письменной традиции). Однако здесь научное знание иссякает. Нам немного известно о последовавшем затем периоде дальнейшего роста и процветания при менее централизованном и более «феодальном» режиме, который установился в регионе (Brinkman 1968; Oates 1979) — Но с тех пор религия выглядела более стабилизированной и даже консервативной. Вавилоняне этого периода стали использовать наследственные имена, что свидетельствовало о культурном традиционализме, а религиозные тексты часто создавались в «канонической» форме. После падения касситов наступил смутный период борьбы между Эламом, Вавилоном и новыми угрозами: ассирийцами с севера, халдеями с юга и сирийцами с запада. Смута периодически прерывалась периодами подъема Вавилона, прежде всего при Навуходоносоре I. В конце концов Вавилон пал под натиском ассирийцев. Изменения в военных технологиях (о которых более подробно будет рассказано в главе 6) дали преимущество мобильным колесницам и кавалерии, а города-государства и даже империи оказались в большой опасности. В религиозных текстах вновь появляется бог войны, но теперь как смерть, бог резни без разбора, его можно было попытаться успокоить лишь путем низкой лести его угрожающему виду, хотя это и не часто удавалось. Среди воинствующих ассирийцев, как обнаружил Ливерани (Liverani 1979: З01)» война всегда была священной, поскольку «святость» в действительности означала «ассирий-скость». Теперь религия стала националистической — развитие, о котором подробнее речь пойдет в главе 8. Изменения в месопотамской религии, вероятно, соответствовали значительным изменениям в социальной жизни. Содержание религиозных текстов было глубоко правдивым. Порядок, навязываемый из центра, был объективно необходим для поддержания завоеванных цивилизаций после Саргона и по крайней мере до касситов. После первого этапа цивилизации: спонтанного появления разделения труда, рыночного обмена продуктами — трансцендентальная религиозная/дипломатическая регуляция конфликтов была менее эффективна в создании и стабилизации обладания излишками (собственности) и в связывании воедино несопоставимых экологических и экономических территорий, чем силовая военная интеграция. В свою очередь, это обстоятельство было результатом воздействия двух сил. Первая — специфическая коммуникационная инфраструктура земель, рек или каналов (но не моря) делала возможными завоевания, а также определенную степень централизованного контроля над ними. Вторая — как только полученные излишки превышали те, которыми обладали соседи, появлялась необходимость в защите от набегов и завоеваний. Успешная или неудачная, она повышала степень милитаризации и централизации общества, хотя форма милитаризации варьировалась в зависимости от типа военных технологий и используемой стратегии. Установление порядка теперь было еще более необходимым. Он проистекал напрямую не из практик самих людей, а из практики «над» ними, из централизованной политической власти. Овеществление этой власти появляется как объективная истина; обожествление, «внушающее благоговение и сияние» царя и бога, было воображаемым впечатлением. Объективное знание и предельный смысл были объединены в космологии. «Нуминозное»[55]было имманентным социальной структуре. Оно не противопоставлялось посюстороннему, не было трансцендентным, но было практическим, придавало смысл существовавшим властным реалиям, наилучший из доступных смыслов. Но все-таки кому предназначался этот смысл? Я рассматриваю народ и правящий класс обособленно. Во-первых, это, по всей видимости, не была народная религия, исходя из названия второй стадии Якобсена и последующих стадий, как мы можем предположить на основе незначительного народного участия во власти в целом. Священники были включены в «таинства», которые совершались до некоторой степени особняком от обычной повседневной жизни и были приурочены исключительно к жизни центральных институтов. Эпос могли складывать при дворе, вдали от всеобщего обозрения. Его также могли зачитывать в присутствии царя (в его личных апартаментах), обращаясь к изображениям богов. Простой народ мог лицезреть лишь разрозненные отблески этих образов, хотя обычные домовладельцы делали копии религиозных статуэток. Ученые иногда расходятся во мнениях по этому вопросу. Оппенхейм утверждает, что не было никаких следов более позднего «общения» между божеством и его почитателями наподобие тех, которые встречаются в Ветхом Завете, в греческих и хетт-ских обычаях и в мировых религиях. Месопотамское божество оставалось в стороне. Месопотамские люди, пишет он, «жили во вполне прохладном религиозном климате в рамках социально-экономической, а не культурной координации». По отношению к истории месопотамской религии Оппенхейм в целом считает, что как таковых религий цивилизаций вообще не было. Он утверждает, что сохранившиеся записи были более парти-куляристскими, чем кажется из работ исследователей, например Якобсена, о них. Ответом на это возражение может быть предположение, что исследование Якобсена выражало именно то, каким образом государства сами видели себя. Мы можем строить предположения о природе народных религий по намекам в записях. Оппенхейм полагает, что для всего древнего Ближнего Востока можно отыскать индикаторы сокрытия того, что противоречит официальной насаждаемой версии божественного порядка и воплощается в древней додеистической детерминистской концепции жизни, в которой имеют место случай, демоны, власть мертвых (Oppenheim 1977: 171–227, особенно 176, 191, 200–206). Более партикулярист-ские домашние и сельские божества, магические практики и ритуалы плодородия доисторических периодов пережили весь архаический период. Следовательно, ни одна империя, по всей вероятности, не обладала единой космологией или единой идеологической сетью власти. Недостаток знаний о народной религии (в отличие от Египта, например) выступает индикатором того, что государство не испытывало интереса к религии народа. Религия не была основным источником власти в народной среде. Правители в большей степени полагались на принудительную кооперацию, интегрирующую экономические и военные методы правления. Пока еще у них не было идеологий, которые могли бы интегрировать людей, различающихся пространственно и иерархически на таких больших дистанциях. Этническая община ранней Месопотамии, описанная в главе 3, оказалась ослабленной, ее гомогенность была разрушена ростом внутренней стратификации. С этого момента вплоть до Древней Греции я склонен утверждать, что «этнические сообщества» (за исключением Египта) были маленькими и племенными по своей природе, характерными лишь для одного народа, о котором существует множество данных, — евреев. Более крупные социальные единицы, будь то имперские или племенные конфедерации, были слишком стратифицированными, чтобы в них существовали сообщества, преодолевающие кросс-классовые барьеры. Идеологическая изобретательность, как мы увидим, отныне могла справиться лишь с более мелкой проблемой интеграции сообщества «правящего класса». Отсутствие ритуального проникновения отражало растущую стратификацию. Взаимодействие между иерархическими уровнями было относительно тонким. Там, где практиковалась интенсивная координация, она, по-видимому, вела к более плотным интенсивным отношениям между теми, кто был в них включен, хотя мы не находим примеров, где подобные отношения включали верхние эшелоны власти. Там, где военная служба основывалась на относительно равной пехотной армии, последствия для «интенсивности» социальных связей были сходными. Но это не являлось военной нормой. Более того, возникновение разделения труда происходило преимущественно в городе. Взаимодействие между правителями и массами было подорвано слабой интеграцией между городом и сельской местностью. Одним словом, это были по большей части неинтенсивные общества, требовавшие незначительной нормативной интеграции за пределами правящей группы. А извлечь у масс то немногое, что требовалось правящей группе, можно было силой. Использовалась ли вторая, «аристократическая» религия в качестве четвертой и последней стратегии имперского правления для объединения правителей в единый сплоченный правящий класс? На этот вопрос ответить гораздо сложнее. Как уже было отмечено, религия обладала «частными» элементами, которые могли отграничить ее от самого государства, отделить от «аристократии». Но мы едва ли можем провести такое четкое различие. В следующем разделе, посвященном динамике империи, мы убедимся, что «государство» и «гражданское общество», «монархия» и «аристократия» все же были взаимозависимыми. Царь зависел от богатейших семейств в городах и таких же семей во внутренних сельских землях. Они либо были частью его семейства, либо копировали подобное семейное устройство на провинциальном уровне. Соответственно, они были частью религии. Большинство исследователей убеждены, что религиозные эпосы разыгрывались, но не как европейские мистерии, хотя и при дворе, на улицах и в церквях, которые были открыты для публичного доступа, как в Европе. Официальная религия также не имела четких границ с другими религиозными и культурными практиками, которые были широко распространены среди правящих групп, особенно связанных с прорицательством. Например, прорицатель обычно сопровождал армию и часто был генералом. Мы также находим записи «диалогов», споров, подразумевавшие относительную полезность противоположных явлений («лето и зима», «пахарь и пастух» и т. п.), и они также предполагают театрализованное представление для элиты и тех, кто от нее зависел. Часть инфраструктуры религии — письменность была отдельным умением, не находившимся всецело под чьим-либо контролем. Цари, могущественные семейства, жрецы, государственные чиновники и даже судьи обычно были неграмотными и зависели от навыков, которыми обладали ремесленные гильдии с их собственными школами. Все остальные полагались на память, устную традицию и устные институты. В таких обстоятельствах соблазнительным выглядит поиск аналогий с ролью культуры в случае более позднего периода с лучшей сохранностью документов, то есть периода господства Рима. Хотя в Риме правящий класс был грамотным, он зависел от устной передачи сообщения (в театре, риторике, судах общего права и т. д.) для их культурной связки (см. главу 10). Были ли подобные культурные связки в среде месопотамского правящего класса? Очевидно, ответ будет утвердительным, хотя подобные связки были намного менее развиты по сравнению с Римом. Весьма вероятно, что писцы в суде, в дворцовых комплексах, следующие за армией, в торговых домах, в аристократических семействах были посредниками диффузии малой толики идеологической власти среди правящих групп империй. По мере того как завоевания становились институционализированными, различным местным элитам, покоряемым и покоренным, предоставлялись язык, письмо, культура и религия аккадо-шумерского ядра. Подобное «обучение» не было прямым в отличие от таких империй, как Римская или Персидская. Ранние империи не обладали собственной сплоченной культурой правящего класса. Тем не менее начало движения по направлению к ней было положено. Империи уже ассимилировали изначально отдаленные группы. Например, единственным, что в конце концов оставалось от различимо касситского происхождения, были кассит-ские имена, звучавшие на иностранный манер. Через писцов элиты обладали доступом к истории и генеалогии, науке, математике, законам, медицине и религии. Они и сами могли восстанавливать и подтверждать части этой культуры, в основном устные части, посредством судов общего права, дворцов, великих родов, храмов. Организованная власть империи, однажды институционализированная, также могла распространяться относительно универсально среди элитарных групп и таким образом делать империализм более устойчивым. В этом отношении религия/культура последующей Месопотамии была не более чем отражением реальной социальной ситуации. Это способствовало росту коллективного доверия и морали, власти и коллективной солидарности месопотамских монархов и элитарных групп. Они были отчасти федеральной империей элит местного происхождения, отчасти империй возникающего правящего класса. Эти члены «высшего общества» правили «четырьмя сторонами света» не только потому, что обладали голой военной властью, экономическими излишками, чтобы кормить армию, или были политически институционализированы, но еще и потому, что они верили в собственное цивилизационное и моральное превосходство над народными массами внутри и за пределами их земель. Они часто были разобщены (как мы скоро увидим). Но они также обладали элементами классовой идеологии. В этом смысле роль идеологической власти в этих империях была прежде всего имманентной, проявлявшейся в установлении секулярных структур власти, а не в их трансцендировании, в их укреплении, а не в разрушении. С другой стороны, это всего лишь утверждение о степени. Следы трансцендентности были заметны. Идеология империи не была четко ограниченной до появления позднего ассирийского «национализма» (и, возможно, даже с его появлением; см. главу 8). Возможность полного вхождения иностранных правящих групп в цивилизацию всецело не исключалась, в некоторых случаях она не отрицалась даже для простого народа. Обеспокоенность принудительным порядком хотя и преобладала, но не была всепроникающей за границами политических/военных реалий. Мы также находим уважение к своего рода порядку, привносимому в космос по культурным причинам. В том, что называлось «литературой мудрости», а также в значительном развитии математики и астрономии мы обнаруживаем акценты на рациональности, варьирующейся от очевидного оптимизма к скептицизму и иногда к разочарованию, которое, по всей видимости, не ограничивалось одним классом или этнической группой. Эта относительная открытость облегчала ассимиляцию иностранных завоевателей и завоеванных. Сети идеологической власти были шире, чем сети имперской принудительной кооперации. Месопотамия распространила свои идеологические практики по всему Ближнему Востоку — иногда после завоеваний, а иногда до них, что обычно облегчало распространение имперской власти. Но, как мы увидим в последующих главах, это также создавало возможность подрыва империализма. Поэтому древняя ближневосточная идеологическая власть играла двойную роль. Во-первых, различного рода имманентные идеологии усиливали моральную, интеллектуальную и атеистическую солидарность правящих групп, подрывая их внутренние партикуляристские подразделения, объединяя их в относительно гомогенный универсальный правящий класс. Это, вероятно, была доминирующая тенденция периода, хотя данному процессу препятствовал рудиментарный уровень развития коммуникационной инфраструктуры. Во-вторых, и обратное, идеология также могла быть трансцендентной. Это делало квазиправящий класс открытым для внешних соперников и ассимиляции, особенно со стороны пограничных земель, что оказывало губительное воздействие на институционализированные образцы принудительной кооперации и способствовало привнесению неофициального и подавляемого более народного уровня идеологического объяснения. Позднее мы обнаружим взрывы этих трансцендентных аспектов. Однако на данном этапе имманентное классовое усиление доминировало.[Цит. по: Jacobsen 1976: 178–180; Якобсен 1995: 205]
ДИАЛЕКТИКА ИМПЕРИИ: ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
Читатель, обладающий определенными знаниями о древней Месопотамии или чутьем на социологическое правдоподобие, уже мог ощутить некоторое несоответствие с предыдущими разделами. Исследование могло допускать, что империи были эффективными, высокоинтегрированными, упорядоченными и устойчивыми. Но это было не совсем так. Обычно династии существовали в течение от пятидесяти до двух сотен лет, а затем распадались на более мелкие воинствующие единицы. Большинство правителей сталкивались по меньшей мере с одним серьезным восстанием. Это верно и для Саргона, и для Нарам-Суэна. Я уже указывал на эту тенденцию к дезинтеграции, когда описывал политическую логистику. Военачальники и клиентелы правителя, которым удалось избежать контроля центра, растворялись в гражданском обществе и поднимали восстания. Эти тенденции были циклическими: империи создавались путем завоеваний, разрушались, вновь завоевывались, разрушались и т. д. Эта динамика не заключала в себе никакого развития, никакой реальной диалектики. Тем не менее существовала одна долгосрочная девелоп-менталистская тенденция, различимая на протяжении древней истории вплоть до падения Рима, в течение практически всех трех тысяч лет после смерти Саргона. Она-то и станет основным предметом не только этой, но и последующих четырех глав. Даже для того чтобы описать ранние этапы проявления этой тенденции, мне придется отступить от строго хронологической последовательности глав, чтобы представить важные исторические инновации, такие как распространение металлических орудий и оружия, чеканки монет или письменности. Но эти крупные трансформации были частью диалектического воздействия основных достижений принудительной кооперации. Я начну с военных технологий (поскольку с них начал и Саргон) и затем более кратко обращусь к остальным источникам власти. Саргон создал организацию, способную наносить поражения врагам на расстоянии нескольких сотен километров. До тех пор пока регион мог производить достаточное количество излишков, чтобы снабжать продовольствием подобную организацию, она обладала военным потенциалом. Ею могли распоряжаться либо военные вожди пограничий, либо ирригационное ядро. На протяжении двух последующих тысячелетий наблюдалась повсеместная военная борьба между двумя типами территорий. Эта дилемма преследовала Саргона с самого начала. С одной стороны, его собственная военная сила происходила от военных вождей пограничий и он не желал видеть никакой другой власти, проистекавшей от них же. С другой стороны, он зависел от продовольственных запасов ирригационного ядра. Таким образом, он занимал неопределенную позицию, пытаясь наладить более тесную интеграцию между ними. Но военные походы никогда не прекращались: имперский успех создавал причины для дальнейших походов, поскольку оставались пограничные народы, попадавщие в сферу влияния империи, но еще не покоренные. Во всемирной истории общепринято подчеркивать власть военных вождей пограничий. МакНилл (McNeill 1963) и Коллинз (Collins 1977) рассматривают завоевания военных вождей в качестве наиболее распространенного типа завоеваний в Древнем мире. Если мы заглянем немного вперед, то обнаружим, что этот импульс периодически давал о себе знать. Сразу после 2000 г. до н. э. произошли инновации в устройстве колесниц, повышавшие их устойчивость и скорость, а также в стрельбе. Преимущество оказалось у возничих колесниц, владевших копьем и луком. Во всей Евразии народы, конструировавшие колесницы, такие как микейцы, арийцы в Индии, гиксосы и касситы, которые, по всей видимости, были выходцами из высокогорных приграничных областей, со временем оставляли позади пехоту сельскохозяйственных городов-государств. Однако позднее пехота смогла перегруппироваться с помощью укреплений, доспехов и адаптации колесниц. Металлургическая революция, которая произошла около 1200–1000 до н. э. и благодаря которой появились дешевые металлические инструменты, оружие и нательные доспехи, положила конец превосходству колесниц. Массированная пехота, рекрутируемая из числа крестьян, возделывавших железными орудиями земли, увлажняемые дождями, могла выстоять против стрел и штурмов. Пограничные племена были первыми, кто стал использовать эти технологии. Две военные технологии-мобильные колесницы, железное оружие и доспех были разработаны высокогорными пастухами и до сих пор маргинальными крестьянами, поскольку эти техники позволяли им завоевывать речные долины и поймы рек, объединять их с центром на собственных землях и посредством этого создавать более крупные территориальные государства, чем те, которые существовали до этого. Тем не менее этот процесс не был однонаправленным. В рамках рассматриваемого периода способность цивилизованных земледельцев противостоять этому также возросла. На их стороне были преимущества в количестве излишков, более продвинутых организационных методах, большей дисциплине, а также невозможность спасаться бегством. Наиболее подходящим для их образа жизни военным типом была пехота. Как только были созданы нательные доспехи, их средства защиты возросли, как и их способность методично занимать территорию. Дифференциация форм войны также давала им преимущества, но при условии быстрого обучения. Они реагировали на новые угрозы путем диверсификации, которая увеличивала сложность организации, дисциплины и тактики. Если к тенденциям с оружием и доспехами добавить усовершенствования в технологии и увеличение издержек, то в долгосрочной перспективе преимущество оказывалось на стороне обществ с большей степенью централизации и территориальной координации, иными словами, на стороне более сильных государств. Если к этому добавить флот, крепости и осадную войну, то тенденция становится более выраженной, поскольку эти усовершенствования требовали долгосрочного производства вооружений и более сложной организации продовольственного снабжения, чем три рода войск, которые рассматривались до сих пор. Тем менее преимущества цивилизации несли с собой и противоречия: одни начинались в слабо выделявшемся центре, другие — на периферии. Эти противоречия, как правило, стирали географическую границу между ними. Противоречия центра были между развитием более сложных, координируемых из центра армий и теми условиями, которые изначально позволили цивилизациям сопротивляться врагам. Первоначально пехотная защита предполагала сплоченную социальную базу, которую в Шумере обеспечивали сходство опыта и членство в едином сообществе. Города-государства были либо демократиями, либо относительно мягкими олигархиями, и это отражалось на их военной тактике. Сплоченность и стойкость боевого духа, вера в человека, стоящего за спиной, были сущностно необходимыми для пехоты. Тем не менее рост издержек, профессионализм и разнообразие войск ослабили вклад рядовых членов сообщества. Государство обращалось либо к наемникам или к иностранным корпусам, либо к богатым людям, способным предоставить тяжеловооруженных солдат. Это ослабляло социальную сплоченность. Государство становилось менее погруженным в военную и экономическую жизнь масс, более дифференцированным как авторитарный центр и все больше ассоциировалось с крутизной профиля социальной стратификации между классами. Государство стало более уязвимым для захвата. Одна стремительная кампания по захвату столицы, убийство правителя, но сохранение жизни части его «аппарата» — и завоевание можно было считать завершенным. От масс не требовалось никакого участия в умиротворении и наведении порядка, поскольку они не были включены в события такого уровня. Государство в большей мере зависело от профессиональных солдат, преторианских охранников в центре и пограничных военачальников, амбиции которых были большими и потому они охотнее участвовали в гражданской войне. Все вышеперечисленные противоречия центра усиливались периферийными противоречиями. Чем успешнее было экономическое развитие и накопление ресурсов центрами империй, тем сильнее они стимулировали развитие периферии. У древних империй этой эпохи, то есть до Рима, Ханьского Китая, за исключением Египта, не было четких границ. Их деятельность и гегемония распространялись иногда нежестко, иногда вдоль линий контролируемого проникновения в соседние регионы. Торговая гегемония проникала на большие расстояния по коридорам, вокруг которых развивалось скотоводство. Стада королевских шерстяных цехов, упомянутые ранее, распространяли имперское господство, а также увеличивали власть локальных элит, иногда враждебных клиентов. Месопотамская идеология не отделяла элиты от цивилизации. Хотя, разумеется, она призывала подражать имперским элитам, то есть овладевать грамотой и учиться мудрости и морали. Позднее они были уже не «варварами», а боровшимися за власть при дворе, в столице, а также в пограничных областях. Их претензии не обязательно угрожали цивилизации — на самом деле также вероятным было то, что они способствовали своей энергией росту цивилизации, и то, что они уничтожали ее своей жестокостью. Царское военное присутствие не могло быть рутинным. Чем больше возрастала царская активность, тем больше военных походов со стороны его соседей она вызывала. После Саргона приграничные территории уже нельзя было оставить без присмотра, поскольку независимые приграничья таили в себе опасность. Некоторые более поздние империи инкорпорировали приграничные территории. Но как только процесс расширения границ начинался, ему не было конца, поскольку завоеватели останавливались только в том случае, когда достигали границ настоящих пустынь. Да и там таились различные опасности, например пастухи-кочевники с выносливыми лошадьми, особенно подходящими для езды. Они редко надолго оставались только кочевниками. Торговые контакты обогащали их и поднимали уровень цивилизации. Лучшим доказательством тому служат различные примеры на границе с Китаем. Успешным набегам «варварских» групп, таких как тоба, Ша-To, монголы и маньчжуры, и адаптации ими китайских административных и военных форм предшествовало переселение в их дворцы китайских советников. Их военное превосходство состояло в развитии китайской тактики использования кавалерии, чтобы быстро концентрировать силы, избегать огромных пеших армий и наносить удары по китайским штаб-квартирам. Наименее известной была группа Ша-To численностью 100 тыс. человек, 10 тыс. из которых были солдатами. Она захватила Северный Китай и правила им в X в.н. э. (Eberhard 1965, 1977) — К «варварам», развитию которых способствовала Римская империя и которые в конце концов ее разрушили, мы вернемся в главе 9. Подобной угрозы нельзя было исключать. Цивилизованные аграрные общества, использовавшие армии, которые состояли из тяжелой пехоты/кавалерии, не могли снабжать себя или воевать в пустынях или степях с разряженным населением. Все поздние евразийские империи столкнулись с кочевниками, все оказались одинаково уязвимы перед ними, за исключением египтян, границами которых были действительно необитаемые пустыни. Защита обусловливала значительный отток ресурсов — строительство защитных крепостей, войск, взятки вождям варваров, совершенствование мобильных сил. Последнее обладало тенденцией наделять автономией военных вождей пограничий, которые также создавали внутренние противоречия. Я забежал немного вперед, чтобы продемонстрировать ритмы военных сетей власти. Завоевания и принудительная кооперация несли с собой не только экономическое и социальное развитие, но и военные угрозы с приграничных территорий. Организация обороны ослабляла социальную базу первоначального успеха и потенциально вела к излишнему насилию в ущерб кооперации. Я подчеркивал опосредованную (косвенную) природу правления в ранних империях. Провинции управлялись через власть военного командования или провинциальных элит, поэтому их было нелегко принудить. Параллельные противоречия могут быть обнаружены во всех областях деятельности милитаристических государств. Представьте самую обычную процветающую провинцию империи. Она располагается в стороне от коммуникационных и торговых маршрутов из столицы в периферию, гарнизон ее главного города укомплектован двумя сотнями профессиональных солдат, усиленных местным ополчением, а командир, собирающий налог или дань для центра, обеспечивает снабжение солдат, а также поддерживает коммуникационные маршруты с помощью рабов или слуг и принудительного труда. Если он поддерживает порядок и регулярно отправляет налоги и дань, правитель оставляет его в покое и в рамках опосредованного (косвенного) правления не способен предпринять каких-либо действий без выходящей за рамки необходимого демонстрации силы. В свою очередь, этот военачальник управляет локальностью с помощью своих заместителей и местных элит. Если они регулярно поставляют ему необходимое количество излишков, он как минимум доволен, если они перевыполняют план, то он уже не просто доволен, а переходит к косвенному правлению и забирает часть излишков себе. Чем более успешным было государство, тем шире становился подобный промежуточный слой власти в провинции. Поэтому здесь не было противоречий между государством и частной собственностью или между государственными элитами и господствующим классом. Они были аспектами одних и тех же процессов развития. Прежняя традиция исследований Месопотамии пыталась выделить этапы «государственного господства» и «частного богатства» и «частной торговой деятельности». По мере накопления исторического материала подобные различия невозможно провести. Во всех известных долгосрочных периодах уровень государственного и частного богатства, а также уровень государственной заинтересованности в торговле и уровень частной торговли купцов демонстрировали положительную корреляцию (см., например, различные эссе Ховкинса (Hawkins 1977). Установки политической элиты/правящего класса становились прагматическими и, следовательно, зависящими от более широких консенсусных норм. Использовало ли государство собственные торговые организации или организации купцов, торговали ли государственные чиновники как агенты государства или от собственного имени, в основном зависело от организационных и логистических средств, которыми они располагали. Никакие крупные конфликты не детерминировали этого выбора. Инфраструктура власти, ее организация и логистика по сути имеют две стороны. Это верно практически для всего вклада государства в логистику власти. Если развивается квазичеканка монет (штампованные бруски серебра, железа или меди), это дает гарантированное богатство, «капитал» их поставщику, а также повышает его экономическую власть. В провинциальных городах гарнизонные снабженцы постепенно приобретали подобный капитал, как и местные землевладельцы, чьи поля производили излишки. Если государство пыталось осуществить более регулярный контроль, используя владевших грамотой чиновников, их грамотность становилась полезной для провинциальных купцов и лордов. Например, в период касситов школы попали в зависимость от аристократов. Проблема государства состояла в том, что ни одна из его политических техник не могла быть ограничена его внутренним политическим телом — все они распространялись в обществе. Даже его собственное тело имело тенденцию распадаться на отдельные провинциальные организмы. Если технологии принудительной кооперации были успешны, то каждый был заинтересован в том, чтобы стать частью более крупного имперского домена. И то, кому именно принадлежал этот домен, было не так уж важно, поскольку все завоеватели были вынуждены править одним и тем же опосредованным (косвенным) образом. Если воинственные группы пограничий изначально угрожали, затем инкорпорировались и появлялись, чтобы предложить большую долгосрочную защиту, местные расчеты начиняли меняться. Если наследники династии спорили, то важно было не столько проявлять лояльность, сколько оказаться на стороне победителя. Если настоящий правитель сопротивлялся подобным угрозам посредством больших налоговых и военных поборов, то провинциальные элиты концентрировались на подсчете шансов. Поскольку они обладали автономными частными ресурсами, которые были сгенерированы благодаря отчасти прошлому успеху государства, им необходимо было защитить их и извлечь выгоду из предоставления ресурсов побеждающей стороне. Период анархии и опустошения мог продолжаться до тех пор, пока враждующие фракции продолжали сражаться. Но в интересах большинства групп было развитие нового этапа имперской консолидации — только так частные ресурсы могли быть вновь сгенерированы. Этот процесс предполагает отход от традиционных теорий. Прежде всего само понятие четко разделенных «народов» могло быть продуктом династических идеологий, а не социальной реальности. Аккадцы и шумеры, амореи и поздние шумеры, касситы и вавилоняне были перемешаны друг с другом задолго до того, как династии одних народов захватили другие. Вначале они могли быть группами центра и периферии, но затем они смешивались. Можем ли мы пойти в этих рассуждениях дальше? Были ли эти ярлыки всего лишь легитимацией требований, основанных на принципах генеалогии преемственности и узурпации, о которых мы можем лишь догадываться? Все «народы» охотно утверждали, что ведут свое происхождение от Шумера, затем — что от Саргона, но никто — что от гутьянов или касситов, хотя достижения последних, казалось бы, должны способствовать обратному. Мы не знаем почему. Мы часто заполняем этот пробел с помощью идей XIX в.н. э. об этничности. В XX в. появляются более сложные модели «центра» и «периферии» с эксплицитными концепциями территории и имплицитными представлениями об этничности. Но эти понятия слишком фиксированны и статичны для социальных условий ранних обществ. В основном это гипотезы. Следующий отход от традиционных теорий, к счастью, лучше подтверждается историческими документами. Он повторяет аргумент предшествующих глав: увеличение ресурсов, находящихся в частной собственности, по большей части является результатом фрагментации коллективной социальной организации. Диалектика между ними не соответствует противопоставлению двух социальных сфер гражданского общества и государства. Это диалектика между потребностью во все большей коллективной организации определенных ресурсов власти и логистической невозможностью поддерживать коллективный контроль над ними, которая ведет к третьему и наиболее важному теоретическому отклонению — требованию различать общую диалектику в развитии принудительной кооперации, проистекающую в меньшей степени из порядка принудительной кооперации, чем из его противоречий. Сам успех принудительной кооперации ведет к ее падению и затем в целом ряде случаев к ее реконструкции на более высоких стадиях социального развития. Принудительная кооперация одновременно увеличивает власть милитаристического государства (тезис) и децентрализует элиты, которые затем уничтожают это государство (антитезис). Но элиты продолжают испытывать необходимость в поддержании порядка. Это, как правило, приводит к реконструкции государства теперь уже с большими властными возможностями (синтез), и диалектика повторяется вновь и вновь. Этот механизм развивает извечную тенденцию ко все более коллективно могущественным формам социальной организации, большинство из которых принимали форму империи. Империя Ура стала частью империию Аккад того же размера, но с возросшей плотностью населения, экономической администрацией, архитектурными амбициями, кодексом законов и, вероятно, процветанием; Вавилон обладал хотя и не более экстенсивной, но в определенном смысле более интенсивной властью; династия касситов, очевидно, принесла новый уровень процветания в регионы (за более подробным исследованием этих этапов политической истории Месопотамии обращайтесь к Oates 1979; относительно последнего этапа см. Brinkman 1968; более обстоятельный экономический анализ см. Adams 1981: 130–174). Как мы увидим в главе 8, Ассирия была территориально крупнее, а также обладала более интенсивной и экстенсивной властью по сравнению с ее предшественниками. Затем Персия и Рим во всем превосходили ее (см. главы 8 и 9). Ранние этапы этой диалектики представлены в виде диаграммы на рис. 5.1. рис. 5.1. Диалектика Месопотамской империи
рис. 5.1. Диалектика Месопотамской империи
Разумеется, мы можем описывать «одностороннее» увеличение в коллективной власти в целом только в весьма пространном смысле. В течение такого длинного промежутка времени империи существенно изменили природу своих организаций и технологий власти. В следующих главах я продолжу описание двух принципиальных стратегий власти империй: принудительной кооперации и сплачивающей культуры правящего класса. Инфраструктура первой хронологически получила развитие до второй, по этой причине я подчеркивал роль принудительной кооперации в первых империях доминирования, хотя последующие империи оказались способными к совершенно различным смешениям двух принципиальных стратегий. Рим развил обе из них до беспрецедентной степени. Правление Персии в большей степени опиралось на культурную сплоченность ее правителей. С какого момента начинается подобное разнообразие? В рамках данного периода, вероятно, справедливым будет указать на касситов, по поводу которых исследователи пока не пришли к согласию. Если их правление принесло процветание, было ли оно менее жестко организованным, более феодальным, менее зависящим от имперского принуждения, чем от сплоченной аристократии, толерантным к разнообразию, то есть была ли это империя персидского стиля? Даже если так, диалектика, описанная здесь, была уже не столько просто бурным нарастанием имперской силы и жесткости, сколько взаимодействием между «имперскими» или, возможно, «патримониальными» и «феодальными» режимами. И именно в рамках этих взаимодействий коллективная власть в широком смысле развивалась. Это сталкивает два наиболее важных понятия сравнительной социологии. Я считаю, что эти понятия в целом используются статически и поэтому упускают девелопмента-листские (и иногда диалектические) модели мировой истории.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНИХ ИМПЕРИЙ
Помимо нескольких редких обобщений я ограничил себя одним тысячелетием ближневосточной истории. Тем не менее в рамках сравнительной социологии существует целый корпус литературы, посвященный исключительно обобщениям исторических империй, существовавших в мире в течение пяти тысячелетий письменной истории. Для этого требуется выявить больше сходств между империями, существовавшими в различные времена и в различных уголках мира. «Ну не удивительно ли», риторически спрашивает Джон Каутский, что между ассирийцами, альморавидами и ацтеками, между империями македонцев, монголов и магнатов, между остроготскими королями, омейядскими халифами, между птолемеями, рыцарями Тевтонского ордена и тутси, между вандалами, вестготами и викингами должны существовать сущностные сходства? [Kautsky 1982: 15] Каутский отмечает, что основным сходством является способность завоевателей, таких как римляне или испанские конквистадоры, использовать политически слабые места их потенциально чужеземных соперников, поскольку они понимали их структуры власти. Я не буду оспаривать сущностный аргумент Каутского. Подобного рода компаративистская социология сама по себе направлена на выявление сходств между столь различными режимами. Я представлю три из них, прежде чем обратиться к принципиальным дефектам этой модели, — пренебрежение историей, неспособность к созданию теории социального развития и неспособность осознать диалектический характер процессов. Первым сходством между подобными режимами выступает тот факт, что они были, по определению Каутского, «аристократическими империями». Ими управлял правящий класс, который монополизировал земельную собственность (иногда в смысле эффективных зависимых территорий, а не законной собственности) и, следовательно, контролировал экономические, военные и политические ресурсы власти, которые производила земля. Идеологически их господство было выражено в генеалогических притязаниях на моральное и фактическое превосходство, которое давалось аристократии от рождения, поскольку она была связана с эндогенной родовой группой, восходящей к древним предкам, которые основали общество, происходили от героев или богов либо совершили другие подвиги, их прославившие. В их руках были сконцентрированы все четыре источника социальной власти, корни этого класса уходили настолько глубоко, что ни один правитель не мог обойтись без его поддержки. Это было добровольно и принудительно, поскольку многие из этих режимов выдвигали противоположные идеологические притязания, согласно которым вся власть проистекает только из их генеалогии, а также потому, что некоторые авторы этих притязаний были приняты на царство благодаря им. Внук Саргона Нарам-Суэн заявлял о собственной божественности. Его аккадские или шумерские аристократы претендовали только на генеалогические связи с божественностью — обычное дело для большинства амбициозных империй на протяжении всей истории вплоть до современного периода. Это оправдывало персоналистский деспотизм правителя, который теоретически осуществлялся через аристократию и других косвенных правителей. Некоторые доверчивые исследователи были убеждены, что это действительно могло вести к «абсолютистскому» правлению. В их число входит Виттфогель, теорию которого я отклонил в главе 3, а также некоторые социологи-компаративисты (например, Wesson 1967: 139–202). Однако на практике подобные режимы были слабыми. На этом этапе целесообразно провести различие между двумя типами государственной власти. Более обстоятельно я делаю это в статье 1984 г. «Автономная власть государства». Деспотической властью называют ряд действий, которые правитель и его приближенные могут предпринять без рутинизирован-ных институционализированных переговоров с группами гражданского общества. В наивысшей степени деспотом является, скажем, монарх, претендующий на общепринятую божественность (как в Египте или Китае на протяжении большей части их историй в качестве империй), которая дает ему возможность предпринимать практически любые действия без какой-либо «принципиальной»оппозиции. Инфраструктурная власть обозначает способность к реальному проникновению в общество и осуществлению логистических политических решений. В чем мы можем быть совершенно уверены относительно деспотов всех исторически существовавших империй, так это в слабости их инфраструктурной власти и зависимости от высшего класса аристократии, от той инфраструктуры, которой эта аристократия обладала. По сути, аристократия и была их инфраструктурой для различных целей, особенно в провинциях. Поэтому на практике империи были «территориально федеральными», как я понимаю, слабо организованными, более децентрализованными, склонными к распаду на части, чем обычно утверждала их государственная идеология. Все эти моменты, вытекающие из первого сходства режимов, вопреки различной терминологии довольно часто встречаются в современной сравнительной социологии (см., например, Bendix 1978; Kautsky 1982). Однако второе сходство между режимами ведет скорее к иному акценту. Подчеркивая власть аристократического класса, не следует забывать, что государство также обладает собственными ресурсами власти. Государства существуют, поскольку они функционально необходимы для социальной жизни за рамками ее простейшего уровня. Применительно к данному случаю важнее то, что государства представляют собой нечто весьма полезное для аристократического класса — территориальную централизацию. Целый ряд различных функций, таких как отправление правосудия и принуждение, военная организация и экономическое перераспределение, на данном уровне исторического развития более эффективны, если они централизованы. Местом сосредоточения, централизации этой деятельности и является государство. Таким образом, автономия власти, которой может достигнуть государство, проистекает из его способности использовать эту централизацию. То, как это происходит, было исследовано Эйзенштадтом (Eisenstadt 1963). Следуя веберианской традиции, он утверждал, что имперское государство требует универсализма и что эти требования являются практически обоснованными. Государство не может быть только аристократическим. Генеалогические притязания по сути являются партикуляристскими, они — антитеза централизации и государства. Общества, которые выработали парламентские государства, уже продвинулись дальше партикуляризма. Они уже рационализировали символическую сферу и начали концептуализировать обычаи по образцу общих сил, обладающих универсальным воздействием. Государство, а не аристократия выражает эту рационализированную божественность. Материально, продолжает Эйзенштадт, интересы государства лежат в содействии «свободно перетекающим ресурсам», то есть ресурсам, которые автономны от всякой партикулярной власти актора. Эйзенштадт приводит множество подобных примеров, и я вновь обращусь к ним по ходу дальнейшего повествования. Наиболее поразительным (по крайней мере для интересующихся людей) является использование государством евнухов. Как я уже отмечал, любой из государственных агентов может раствориться в гражданском обществе, выйти из-под контроля правителя. Один из способов уберечь агента от подобного растворения в аристократии заключается в предотвращении генеалогического вопроса путем кастрации. Позвольте мне выделить три из тех универсальных технологий ранних государств, которые встретятся читателю в этой и последующей главах. Во-первых, в сфере идеологии аккадские завоеватели предприняли попытку рационализации и систематизации пантеона божеств и мифов о сотворении шумерских городов. Во времена Аккадской империи религия была записана, кодифицирована, ей была придана иерархическая стройность и централизованность. Во-вторых, в сфере материальной инфраструктуры была осуществлена попытка (или по крайней мере притязание) Саргона и последующих правителей империи по улучшению и координации всей коммуникационной структуры империи. Это не были всего лишь попытки укрепить власть: они были направлены на универсализацию власти, и, преднамеренно или нет, их сила уменьшила власть местных партикуля-ристских элит. В-третьих, и это, возможно, наилучший пример, поскольку он сочетал идеологию с инфраструктурой, — введение управления на основе десятичной административно-иерархической системы (см. главу 4). На практике, разумеется, инки могли править завоеванными провинциями через локальные местные элиты. Они также могли посадить инкского правителя рядом с местными элитами, прислать некоторое количество лояльных солдат-поселенцев и построить дороги, хранилища и промежуточные блокпосты — действительно, ни один из завоевателей не был настолько изобретателен в этом отношении. Но они не могли преодолеть тех безжалостных логистических проблем управления, которые я обозначил в этой главе. Отсюда и значимость десятичной рационализации. Ее идеологической функцией и, вероятно, в определенной степени реальным эффектом (хотя конкистадоры и продемонстрировали его слабость) было донести до местных элит простую мысль: «Да, вы продолжаете править своим народом. Но запомните, что ваше правление — это часть более широкого космоса, который подчиняет племенной и религиозный партикуляризм рациональному порядку инков, центром которого является Владыка Инка». Это значит, что Эйзенштадту стоит доверять — например, если бы Лорд Инка или Саргон либо китайский или римский император вернулись из прошлого и прочли его книгу, то они согласились бы с его характеристикой политики инков и поняли бы, что подразумевалось под универсализмом, свободно перетекающими ресурсами, рационализацией символической сферы и т. д. в терминах Эйзенштадта. У компаративистской социологии я заимствую две интуиции: с одной стороны, социальную полезность деспотичного универсального государства, с другой — децентрализованную, партику-ляристскую аристократию, обладающую большей частью инфраструктурной власти в обществе. Различие между ними означает, что сравнительная социология предполагает третью интуицию: четкое описание противоречий и иногда динамики подобных режимов, поскольку имела место непрекращавшаяся борьба между универсалистским государством и партикуляристской аристократией, смягчаемая разве что (но наиболее существенно) их взаимозависимостью друг от друга ради сохранения эксплуатации населения. Наиболее известный анализ этой борьбы представлен Вебером в исследовании патримониализма «Хозяйство и общество» (Weber 1968: III, 1006–1069). Вебер различал патримониализм и феодализм как господствующие типы политических режимов в доиндустриальных обществах. Патримониализм включает ранние простейшие формы патриархальной власти в рамках семейства в условиях больших империй. При нем государственные чиновники происходят из самого королевского рода. Эта модель также применима к тем случаям, когда функции чиновников незначительно связаны с семейством. Например, командиру кавалерии часто давали титул «маршала», который изначально использовался для обозначения конюха в королевских конюшнях. Подобным образом патримониальные правители предпочитали назначать на государственную службу компетентных членов своего семейства, родственников или отпрысков. Проистекающее из этого правление является автократическим: авторитетная команда правителя предписывает права и обязанности другим индивидам и семействам. Иногда ассоциации индивидов и семейств назначаются правителем коллективно ответственными за те или иные права и обязанности. В отличие от этого феодализм обозначает контракт между примерно равными. Независимые воины-аристократы добровольно соглашаются обмениваться правами и обязанностями. Контракт предписывает одной из сторон всеобщее политическое управление, но эта сторона ограничена сроками контракта и не является автократической. Вебер выделяет две формы правления как идеальные типы и затем переходит в привычной для него манере к детальной разработке логических последствий и подтипов каждой из них. Кроме того, он также отмечает, что в действительности идеальные типы становятся расплывчатыми и могут трансформироваться друг в друга. В частности, он признает логическую невозможность «чистого» патримониализма в доиндустриаль-ных условиях. Расширение патримониального правления с необходимостью децентрализует его и запускает борьбу между правителем и его агентами, которые превращаются в местную знать с автономной базой власти. Именно такого рода борьбу я описываю в Месопотамии. Вебер подробным образом исследовал примеры Древнего Египта и Рима, древнего и современного Китая, а также средневековых Европы, ислама и Японии. Его исследования оказали настолько большое влияние на историческое мышление, что на них ссылаются даже в рамках современных исследований тех же и других примеров. Приближенные к идеально-типическим режимам плюс смешанные случаи доминировали по всему миру. Борьба между централизованными патримониальными империями и децентрализованными, слабо феодальными аристократическими монархиями составляют большую часть письменной истории вплоть до наших дней. Но если бы это была вся наша история или хотя бы вся история наших высших классов, то она была бы по сути циклической, лишенной долгосрочного социального развития. В этой главе я попытался добавить кое-что еще: представление о том, как подобная борьба постоянно революционизировала средства власти и таким образом запускала диалектику развития. Вероятно, обвинять Макса Вебера в отсутствии интереса к историческому развитию было бы ошибкой, поскольку он был обеспокоен им едва ли не больше, чем все остальные крупные социологи XX в. Однако использование этих идеальных типов делало их статичными во времени. Он противопоставлял Восток и Запад, утверждая, что огромное историческое развитие имело место в Европе, а не на Востоке в силу того, что там доминировал контрактный, децентрализованный феодализм, который (в отличие от восточного патримониализма) питал относительно рациональный дух стяжательства и деятельность, направленную на покорение природы. По его мнению, относительно феодальные или по крайней мере децентрализованные структуры были необходимой предпосылкой динамизма. Это некорректно. Как мы уже неоднократно видели, большую часть социального развития создает диалектика между централизацией и децентрализацией, и это особенно очевидно в истории Ближнего Востока, Средиземноморья и западного мира. Последующее развитие неовеберианской сравнительной социологии сделало ее еще более статичной. Открытия Бендик-са, Эйзенштадта, Каутского и других отрицали развитие. Чтобы сконцентрироваться, как это делает Каутский, на сходствах таких режимов, как империя инков и Испанская империя (обе «аристократические империи»), необходимо забыть о том, что произошло, когда 180 испанцев вторглись в империю инков с миллионным населением. Испанцы обладали ресурсами власти, о которых инки не могли и мечтать. Этими ресурсами были нательные доспехи, лошади, огнестрельное оружие, военная дисциплина, тактика, а также сплоченность в использовании орудий; письменная религия спасения; монархия и церковь, способная обеспечить соблюдение приказов на расстоянии шести тысяч километров; религиозная/национальная солидарность, способная преодолеть различия классов и кланов; даже их болезни и индивидуальный иммунитет были продуктом всемирно исторического развития в течение нескольких тысячелетий, которого не знал Американский континент. В следующих шести главах мы убедимся, что ресурсы возникали постепенно, непостоянно, но, без сомнения, кумулятивно. Амбиции сравнительной социологии следует ограничить принятием во внимание всемирно-исторического времени. Поэтому, когда неовеберианцы приступают к объяснению социального развития, они выходят за пределы своей теоретической модели. Каутский рассматривает «коммерциализацию» в качестве основного динамического процесса. Он утверждает, что она возникла благодаря городам и торговцам, которые в основном находятся вне структур «аристократических империй» и развитие которых, таким образом, нельзя объяснить. Бен-дикс, главной задачей которого является объяснение перехода от монархии к демократии, также прибегает к внешним факторам. Он считает, что имеет место ряд необъяснимых независимых переменных, таких как рост населения, технологические изменения, рост городов, коммуникационной инфраструктуры, систем образования и грамотности (Bendix 1978: 251–265). Эйзенштадт разработал более адекватную модель для объяснения социального развития. На нескольких страницах (Eisen-stadt 1963: 349“35Э) он описывает, насколько малое число империй было трансформировано в современные политические системы и общества. Для него решающим фактором была способность различных децентрализованных элит, поддерживаемых рациональными религиями спасения, присваивать универсализм и свободно перетекающие ресурсы, которые до сих пор были монополизированы государством. Как мы убедимся в последующих главах, это действительно важная часть ответа. Однако после с. 350 работы со статическими или циклическими моделями империй ему с трудом удается продвинуться на десять страниц. Все эти работы (как и значительную часть сравнительной социологии) беспорядочно объединяет материал, полученный от изучения различных этапов развития ресурсов социальной власти. Их слабость состоит в том, что они всегда пытаются однотипным образом объяснить часто весьма различающиеся вещи. Моя критика методологии сравнительной социологии древних империй — это не «типично историцистское» возражение, суть которого в том, что все примеры уникальны. Хотя это и так, уникальность не является препятствием для сравнения и обобщения. Речь идет скорее о том, что сравнительное исследование должно быть еще и историческим. Каждый случай развивается во времени, и эта динамика сама по себе должна быть частью нашего объяснения его структуры. В данном случае динамика «имперских» (или «патримониальных») или «феодальных» режимов обусловливает диалектику развития, которую игнорирует сравнительная социология.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВОЕННАЯ ВЛАСТЬ, РЕОРГАНИЗУЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Я продемонстрировал организационные возможности и политически деспотические формы первых империй, возникших на Ближнем Востоке непосредственно из реорганизовавшейся власти и развития военных отношений власти. Обычно эффективным средством социальной организации стала принудительная кооперация. Как мы убедились в главе 3, это произошло не в силу требований ирригационного сельского хозяйства, как полагал Виттфогель. Критически важным экологическим основанием было пересечение аллювиев и внутренних пограничных областей, где были сделаны определенные военные изобретения. Смешанную форму сельского хозяйства и скотоводства в высокогорных пограничных областях стимулировало экономическое развитие в речных долинах, подразумевающее торговлю со скотоводами, живущими на достаточно большом расстоянии. Те, кто контролировал пограничные регионы, могли комбинировать военные техники землепашцев и скотоводов в более крупные, разнообразные, централизованные военные наступательные силы. Начиная с 5400 воинов Саргона Аккадского, они завоевывали города-государства на поймах рек, объединяя их насколько возможно друг с другом и с высокогорными областями в милитаристические монархические государства. Единство подобных империй было крайне хрупким. Оно всецело зависело от милитаристической организации государства и экономики, включающей «принудительную кооперацию», как ее определил Спенсер. Это вело к дальнейшему прорыву в экономическом развитии, к дальнейшему имманентному распространению идеологической власти среди господствующих групп, а также к долгосрочной консолидации империи и правящего класса. Однако империя по-прежнему оставалась относительно хрупкой сетью взаимодействия, испытывающей недостаток в интенсивном контроле над ее субъектами. «Этнические сообщества» в том смысле, в каком их понимает Смит (Smith 1983)» рассмотренные в главе 3, были ослаблены. От масс требовалось немногое, за исключением сбора регулярных платежей в натуральной или трудовой форме. Контроль за ними посредством жестокости был неустойчивым. Гораздо больше требовалось от рассредоточенных правящих групп, но это только шло им на пользу. Империя не была территориальной, как не была и унитарной. Это была система федерального господства царя или императора через провинциальных военных или даже «иностранных» правителей и элиты. На то были фундаментальные логистические причины: я подсчитал, что ни один завоеватель вне зависимости от того, насколько грозным он был, не мог организовать контроль и снабжение своих солдат и административных чиновников на рутинной основе на расстоянии больше 80–90 километров пехотного марш-броска. Царь или император использовал свою профессиональную армию в качестве резерва для господства и устрашения. Но каждый знал, что необходимы внушительные логистические упражнения, чтобы ее применить. До тех пор пока местные элиты исправно платили налоги или дань, в местный контроль никто не вмешивался. В их собственных интересах было поддерживать имперскую систему принудительной кооперации. Имперская власть постоянно растворялась в гражданском обществе, генерируя частные ресурсы власти, как и государственные ресурсы. Быстрый рост частной собственности объяснялся тем, что радиус действия политической власти был меньше радиуса военных завоеваний, а также тем, что аппараты при принудительной кооперации распространяли и децентрализовали власть, хотя якобы делали ее централизованной. Государство не могло удержаться в своем теле, которое оно приобретало либо благодаря завоеванию, либо благодаря успешному развитию технологий принудительной кооперации. И поэтому в древние времена развитие носило характер диалектики между силами централизации и децентрализации, могущественных имперских государств и классов частных собственников. Оба были продуктом одного и того же сплава источников социальной власти. Я описал эту диалектику на примере одной ее фазы и одного региона — месопотамской сферы влияния к концу третьего и началу второго тысячелетия до новой эры. Я не утверждаю, что детали этой диалектики могут быть обнаружены повсеместно. Кратко рассмотрим другие примеры последующей главы. Один обладал отличительной характеристикой, непрерывной историей, которую я уже обозначил в предшествующей главе. Египетская экологическая изоляция не могла создать военных вождей пограничий или последующей имперской диалектики. Три остальных случая также пошли по другому пути, который привел их к крушению. Обстоятельства исчезновения двух из них — цивилизации долины реки Инд и Крита — до сих пор остаются неизвестными. Оба могли быть завоеваны «военными вождями пограничий», соответственно арийцами и микейцами, но нет возможности утверждать это наверняка. Последнее кратко рассматривается в начале следующей главы. Третий пример — инки Перу, разумеется, были повержены, но не военными вождями пограничий, а завоевателями, пришедшими издалека в терминах всемирно-исторического времени и географии. Два последних примера аналогичны Месопотамии, хотя и различным образом. И Китай, и Мезоамерика демонстрируют повторяющиеся циклы военных вождей пограничий, а также развитие принудительной кооперации и ее диалектики между государственной и частной собственностью. Но предмет этой книги не столько сравнительная социология, сколько специфическая история, которая была настолько важна, что оказала влияние на все последующие четыре тысячелетия. Это влияние уже прослеживалось во втором тысячелетии: к 1500 г. до н. э. эти географические регионы уже не были автономными «кейсами». Крит и Египет стали частью единой полицентричной ближневосточной цивилизации. Я не буду проводить дальнейших сравнительных аналогий. Второй этап ближневосточной истории был, таким образом, изначально переведен на другие исторические рельсы отношениями военной власти, способными создать огромные империи доминирования через завоевания. Устойчивая важная роль военной власти не была автономным «фактором» или «уровнем» общества. У завоеваний и милитаризированного правления были невоенные предпосылки, с которыми они были переплетены. Скорее военная власть создала два «момента социальной реорганизации», в которых проложила два новых пути социального развития. Первым из них было завоевание как таковое, в рамках которого логика сражения и события военной кампании определяли, какая группа будет господствовать. На этом этапе военные вожди пограничий, как правило, выходили победителями. Это повышало шансы, что результатом станут более экстенсивные общества, объединяющие ирригационное сельское хозяйство, сельское хозяйство на землях, увлажняемых дождями, и скотоводство, объединяющие город и сельские поселения. Вторым путем (эта возможность также была исторически актуализирована) были стабилизация и институционализация в течение длительного периода, поскольку военная организация смешанным образом преобладала в политических, идеологических и особенно экономических сетях отношений через механизмы принудительной кооперации. Вторая военная реорганизация делала древние империи не просто надстройкой: она перемещала их истории от имперского и циклического движения к социальному развитию. Концентрированное принуждение, обозначенное в главе 1 как фундаментальное средство военной власти, оказалось социально полезным и за пределами поля боя (где оно всегда было решающим) прежде всего для правящих классов, а также, вероятно, для широких масс населения. Древние ближневосточные имперские цивилизации, с которыми связано наше общество и перед которыми оно в долгу, развились на протяжении всего этапа в результате двух «моментов» военной реорганизации социальной жизни. Тем не менее я также обозначил пределы и диалектику подобного империализма. Империи по-прежнему не были ни территориальными, ни унитарными, а федеральными, как и их предшественники в прошлой главе. Они генерировали подрывающие силы децентрализации внутри себя, а также в их пограничных регионах. Эти силы взорвались во втором тысячелетии до новой эры, что описано в следующей главе.БИБЛИОГРАФИЯ
Adams, R.Mc С. (1979). Common concerns but different standpoints: a commentary. In Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires, ed. M.T. Larsen. Copenhagen: Akademisk Forlag. --. (1981). Heartland of Cities. Chicago: University of Chicago Press. Bendix, R. (1978). Kings or People. Berkeley: University of California Press. Brinkman, J.A. (1968). A Political History of post-Kassite Babylonia 1158-722 B.C.Rome: Pontificium Institum Biblicum (Analecta Orientalia No. 43). Collins, R. (1977). Some principles of long-term social change: the territorial power of states. In Research in Social Movements, Conflict and Change, 1. Crown, A.D. (1974). Tidings and instructions: how news travelled in the ancient Near East. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 17. Diakonoff, I. M. (1969). Main features of the economy in the monarchies of Ancient Western Asia. Third International Conference of Economic History, Munich, 1956. Paris: Mouton. Eberhard, W. (1965). Conquerors and Rulers: Social Forces in Modern China. Leiden: Brill. --. (1977). A History of China, Berkeley: University of California Press. Eisenstadt, S. (1963). The Political System of Empires. Glencoe, Ill.: Free Press. Ekholm, E., and J. Friedman (1979)- Capital, imperialism and exploitation in ancient world systems. In Larsen, Power and Propaganda. Engel, D.W. (1978). Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army. Berkeley: University of California Press. Gadd, C.J. (1971). The cities of Babylonia, and The dynasty of Agade and the Gutian invasion. In Chaps. 13 and 19, The Cambridge Ancient History, ed. I. E.S. Edwards et al. 3d ed. Vol. 1, Pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Gelb, I. (1967). Approaches to the study of ancient society. Journal of the American Oriental Society, 87. Goetze, A. (1963). Sakkanakkus of the Ur III Empire. Journal of Cuneiform Studies, 17. Grayson, A. K. (1975). Assyrian and Babylonian Chronicles. Locust Valley, N.Y.: Augustin. Hallo, W. (1964). The road to Emar. Journal of Cuneiform Studies. 18. Hawkins, J. (1977). Trade in the Ancient Near East. London: British School of Archaeology in Iraq. Heichelheim, F. M. (1958). An Ancient Economic History. Leiden: Sijthoff. Jacobsen, T. (1970). Towards the Image of Tammuz and other Essays in Mesopotamian History and Culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. --. (1976). The Treasures of Darkness. New Haven, Conn.: Yale University Press. Jones, E. L. (1981). The European Miracle. Cambridge: Cambridge University Press. Kautsky, J. H. (1982). The Politics of Aristocratic Empires. Chapel Hill: University of North Carolina Press. King, L.W. (1923). A History of Sumer and Akkad. London: Chatto <&: Windus. Kramer, S.N. (1963). The Sumerians. Chicago: University of Chicago Press. Landels, J.G. (1980). Engineering in the Ancient World. London: Chatto <&: Windus. Larsen, M.T. (1979). The traditions of empire in Mesopotamia. In Power and Propaganda, ed. M.T. Larsen. Copenhagen: Akademisk Forlag. Levine, L. P., and T.C. Young. (1977). Mountains and Lowlands: Essays in the Archaeology of Greater Mesopotamia. Malibu, Calif.: Undena. Liverani, M. (1979). The ideology of the Assyrian Empire. In Power and Propaganda, ed. M.T. Larsen. Copenhagen: Akademisk Forlag. McNeill, W. (1963). The Rise of the West. Chicago: University of Chicago Press. --. (1983). The Pursuit of Power. Oxford: Blackwell. МакНил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. М.: Территория будущего, 2008. Mann, М. (1977). States, ancient and modem. Archives Europeennes de Sociologie, 18. --. (1984). The autonomous power of the state: its nature, causes and consequences. Archives Europeennes de Sociologie. 25. Манн, M. (2004). Автономная власть государства: истоки, механизмы и результаты / пер. с англ. М. В. Масловского // М. В. Масловский. Социология политики: классические и современные теории. Учеб, пособие. М.: Новый учебник. 109–119. Oates, J. (1979)- Babylon. London: Thames &. Hudson. Oppenheim, A. L. (1969). Comment on Diakonoff’s Main Features… Third International Conference of Economic History. Munich, 1965. Paris: Mouton. --. (1970). Trade in the Ancient Near East. Fifth International Conference of Economic History, Leningrad, 1970. Paris: Mouton. --. (1977)- Ancient Mesopotamia. Chicago: University of Chicago Press. Pritchard, J. B. (1955). Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Saggs, H.W. (1963). Assyrian warfare in the Sargonic period. Iraq. 25. Smith, A. (1983). Are nations modem? Paper given to the London School of Economics Patterns of History seminar, Nov. 28, 1983. Spencer, H. (1969). Principles of Sociology. I-vol. abridged ed. London: Macmillan. Спенсер, Г. Основания социологии: в 2 т. СПб.: Издание И.И. Билибина, 1876–1877. Weber, М. (1968). Economy and Society. English ed. 3 vols. Berkeley: University of California Press. Вебер, M. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. Wesson, R. G. (1967). The Imperial Order. Berkeley: University of California Press. Westenholz, A. (1979). The Old Akkadian Empire in contemporary opinion. In Power and Propaganda, ed. M.T. Larsen. Copenhagen: Akademisk Forlag. Yadin, Y. (1963). The Art of Warfare in Biblical Lands in the Light of Archaeological Study. London: Weidenfeld <&: Nicolson. Yoffee, N. (1977). The Economic Role of the Crown in the Old Babylonian Period. Malibu, Calif.: Undena.ГЛАВА 6 «Индоевропейцы» и железо: расширение растущего разнообразия сетей власти
ВО ВТОРОМ ив начале первого тысячелетия до новой эры ближневосточные империи доминирования потрясли два решительных вызова, которые пришли извне, но причиной которых тем не менее послужили сами империи. Большинство империй не сохранились (одни исчезли, а другие были инкорпорированы как единицы в другие владения), тем же из них, кому удалось уцелеть, пришлось претерпеть глубочайшие изменения и превратиться в своего рода «мировые империи». Этими двумя вызовами были военное господство колесниц между около 1800 и 1400 гг. до н. э. и распространение изготовленных из железа орудий и оружия начиная с около 1200 до 800 г. до н. э. Революции обладали тремя сходствами: они пришли с севера, от неоседлых и бесписьменных народов. Эти факты создают сложности для исследования, поскольку нам необходимо обратиться к областям, точное месторасположение которых не известно, а также к народам, которые оставили о себе мало свидетельств и записей. В таких условиях сложно избежать ошибочной интерпретации, унаследованной историками из записей самих империй, согласно которой эти события были не чем иным, как «внезапной вспышкой» варварства и катастроф. Но реальной историей была не история столкновений двух отдельных обществ. В тот период модель унитарного общества практически не имела никакого отношения к реальности. То, что произошло, может быть выражено в терминах: (1) исходного стимула, который Ближний Восток придал постепенно расширявшейся географической области и различным сетям власти, опутывавшим ее, и (2) последующего роста в степени взаимного наложения пересекавшихся взаимодействий власти в этих областях. В конце периода, обсуждаемого в этом разделе, соответствующая географическая область значительно расширилась и стала включать большую часть Европы, Северной Африки и Центральной Азии наряду с Ближним Востоком. Части этой географической области были разбиты на общества и государства с претензией на унитарность, но большинство из них таковыми не были. Все они были включены во взаимодействие, которое зачастую простиралось за пределы границ предположительно унитарных государственных обществ.ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫЗОВ
Хотя баланс власти теперь качнулся в сторону севера, весьма вероятно, что первоначально самые влиятельные игроки переместились с юга на север[56]. Это не доводы в пользу общего преобладания диффузии с Ближнего Востока в ущерб локальной эволюции севера и запада. Речь о взаимодействии между ними, которое необходимо подчеркнуть: оба региона обладали необходимыми факторами для взаимосвязанного развития. Характеристики доисторического периода севера и запада важны (хотя в большинстве своем они носят гипотетический характер). Но к моменту, когда они осуществили прорыв в историю, они уже изредка взаимодействовали. Они были не просто чужаками, не испытавшими на себе никакого влияния практикующих ирригацию «народов». В начале третьего тысячелетия торговцы из ближневосточных империй проникли за пределы Малой Азии, Кавказских гор и Иранского плато в поисках металла, животных, рабов и других товаров роскоши. Их встретили «индоевропейцы», группы которых уже принадлежали к общему лингвистическому корню. «Индоевропейцы» восточных степей были горными скотоводами-кочевниками; «индоевропейцы» восточноевропейских и русских лесов были смешанными подсечно-огневыми земледельцами и горными пастухами. У них не было ни государства, ни трех характеристик цивилизации, указанных в начале главы 3. Тем не менее их общества были «ранговыми», а некоторые из них уже становились стратифицированными. Кочевники обладали слабой клановой/племенной структурой и, вероятно, эмбриональной частной собственностью, сконцентрированной главой рода. Подсечно-огневые земледельцы плюс пастухи обладали смешанной клановой/поселенческой структурой. Рост богатства и освоение бронзовой металлургии, которой они выучились благодаря торговле, рост и децентрализация форм стратификации способствовали развитию аристократии из глав кланов и авторитетных фигур деревень, а также усилению прав частной собственности аристократических семей. Металлургия повысила их военную отвагу, сделала аристократию военной элитой и иногда способствовала эволюции военного командования в слабые княжества. Западные индоевропейцы принесли бронзовые боевые топоры на запад, установив свое господство на современном европейском континенте. Наиболее известными из них были кельты, италоговорящие народы и греки (к ним мы еще вернемся в главах 7 и д). Но богатство и военная отвага степных народов оказали обратное влияние на Средний и Ближний Восток (в этой главе я буду обсуждать прежде всего это). Приблизительно в 1800 до н. э. появилась легкая колесница, имевшая два колеса со спицами на фиксированной оси, с упряжью, позволявшей лошади нести на себе часть веса колесницы. Это был быстрый, маневренный и сбалансированный механизм. Военная мощь колесницы впечатляла всех последующих историков. Она везла двух или трех мужчин, вооруженных копьями и блочными луками. Отряд колесниц мог быстро зайти с фланга пехоты или неуклюжих имперских повозок, вести обстрел из относительно недосягаемой, защищенной и движущейся позиции. Когда ряды пехоты были сломаны, лобовой удар мог добить их. Колесницы не могли осаждать города, но они могли нанести существенный урон оседлым земледельцам в битвах на равнине и в низинах, достаточный, чтобы покорить их. Распряженные колесницы, особенно в лагере, были уязвимы для атаки, по этой причине колесничие разбивали свои лагеря в простых четырехугольных земляных укреплениях, чтобы отразить атаку, даже если она будет конной. На открытой территории они обладали очевидным исходным преимуществом в бою. Большую часть Ближнего Востока и Центральной Азии составляли открытые территории в отличие от Европы. Поэтому колесницы распространились в двух первых областях, но не в третьей. Предположительно сначала они появились в густонаселенных оазисах Юго-Восточной и Центральной Азии, где была возможна ирригация — самое быстрое ответвление из первых двух фаз ближневосточной цивилизации. Это нашествие также было причиной практически одновременного появления упоминаний о нем в письменной истории: на востоке в Китае, на юго-востоке в Индии, на юго-западе в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Однако в настоящее время китайские колесницы династии Шан с бронзовыми доспехами и прямоугольными укреплениями рассматривают как местное изобретение. По всему миру это движение было очевидным. Арийцы завоевали Северную Индию последовательными волнами набегов где-то между 1800 и 1200 гг. до н. э. (я рассмотрю это в главе п), хетты установили собственное царство в Малой Азии к 1640 г. до н. э., ми-танни обосновались в Сирии к 1450 г. до н. э., касситы заняли большую часть Месопотамии примерно к 1500 г. до н. э., гиксо-сы захватили Египет около 1650 г. до н. э., микены обосновались в Греции к 1600 г. до н. э. К моменту появления в записях они обладали колесницами, все были аристократическими федерациями, а не народами, сконцентрированными вокруг одного государства, и у большинства из них дифференциация в частной собственности была больше той, которая превалировала среди местного населения Ближнего Востока. Вопрос, кем именно являлись некоторые из них, весьма не простой. По общему убеждению, изначальным центром этого движения были «индоевропейцы». Но основной хеттский народ (хатты и хурриты) не был индоевропейским, а гиксосы (получившие свое название от египетского слова, означающего «правитель чужеземных стран»), по всей вероятности, были смесью хурритских и семитских групп. Происхождение языка касситов также остается невыясненным. Он не был просто индоевропейским, хотя религия касситов и предполагала сходство с индоевропейской или заимствования из нее. Весьма вероятно, что все нашествия были смешанными, включая межэтнические браки и союзы единомышленников, культуры и письменности, по мере продвижения на юг. Преобладавшие смеси, известные как хурриты и хетты, состояли из немногочисленной индоевропейской аристократии, изначально правящей, а впоследствии смешавшейся с коренным народом. У нас есть исторические свидетельства только о смешанных группах, но явно недостаточно исторических сведений, чтобы работать с этническими теориями «народов» и «рас» XIX в.н. э. хотя бы потому, что потомки этих групп завоевателей, которые в конечном итоге были письменными, писали в основном на индоевропейских языках. Не существует доказательств того, что хотя бы некоторые из них были подлинно кросс-классовыми «этническими сообществами» — они были нежестко организованными военными федерациями. Вторая загадка их завоеваний также достойна внимания. Совершенно не очевидно, что они стали править занятыми ими империями исключительно благодаря военным победам. Маловероятно, что те, кто двигался на юг, и были изобретателями быстрых колесниц (на которых базировалось их военное превосходство) до тех пор, пока они не появились в Малой Азии. Вероятно, они оседали на границах или даже внутри ближневосточных цивилизаций. Например, это верно для касситов (Oates 1979: 83–90). Там они постепенно совершенствовали коневодство и техники верховой езды, а также постепенно приобретали бронзовые орудия для конструирования колесниц. Следовательно, военные колесницы были разработаны в приграничных землях, как мы и предполагали. Подобным образом военные конфликты были чересчур растянутыми. Даже после появления колесниц для систематического завоевания все еще не хватало логистических условий. Военным преимуществом колесниц была превосходящая мобильность, особенно в концентрации и рассредоточении сил. Логистические преимущества были сезонными и зависели от конкретных обстоятельств: при наличии хороших пастбищ воины, управлявшие колесницами, могли жить с земли и преодолевать гораздо большие расстояния на собственных запасах, чем пехота. Но организационные ритмы военных кампаний с использованием колесниц оставались весьма сложными: небольшие отряды, которые должны были быть рассредоточены, были растянуты по всем вражеским пастбищам, а затем они должны были быстро сконцентрироваться, чтобы атаковать позиции врага. Решение этой задачи было по силам не варварам, а военным вождям пограничий, совершенствовавших свою социальную организацию в течение долгого периода времени. Таким образом, их давление на цивилизации, расположенные на юге, должно было быть длительным и устойчивым. Это вело к напряжению, слабо напоминавшему военное наступление. К тому же некоторые империи разрушились без какой-либо посторонней помощи. Например, арийские захватчики Индии могли столкнуться с уже пребывавшей в упадке цивилизацией долины реки Инд. Аналогичным образом два упадка миной-ской цивилизации на Крите с трудом поддаются интерпретации. Не существует убедительной теории разрушения минойской цивилизации иностранными захватчиками, даже микенами. Весьма вероятно, что цивилизация Крита угасала в течение долгого периода времени, после чего микенские торговцы заменили ми-нойских на большей части Восточного Средиземноморья без какого-либо прямого военного столкновения между ними. Также вероятно, что захватчики пришли на Ближний Восток в момент относительной слабости большинства из уже существовавших там государств. Борьбе Вавилона с касситами и хурритами предшествовало отделение его южных территорий в результате гражданской войны между наследниками Хаммурапи. В любом случае за всю территорию боролся Вавилон: сначала его ассирийские правители, а затем шумерские. В Египте Второй переходный период, отсчет которого принято вести начиная с 1778 г. до н. э., ознаменовал собой начало долгого периода династической борьбы до вторжения гиксосов. Весьма занимательно искать иные, помимо военных, причины падения империй. Три такие причины могут быть обнаружены в самом устройстве империй доминирования, которое я описал в предыдущей главе. Первой и, вероятно, наиболее очевидной причиной было отсутствие безопасного места для имперских границ в Месопотамском регионе. Его границы были не природными, а искусственными — установленными военной силой. В Месопотамии различные речные долины представляли собой ядро для более чем одной империи, поскольку технологии завоевания и управления были еще недостаточно развиты, чтобы захватить и удерживать весь регион. Это соперничество между империями потенциально подрывало силы каждой из сторон. К тому же во всех империях лояльность провинций и пограничных областей была условной. Второй и более общей причиной была диалектика экономического, политического и идеологического механизмов интеграции в системе, которую я описал как систему принудительной кооперации. Интеграция между речными долинами и высокогорьем (или в случае Крита между прибрежными и высокогорными регионами) была искусственной и зависела от высокого уровня перераспределения и принуждения. Перераспределяющий механизм был уязвим для роста населения и засоления почв. Принуждение требовало постоянных сил части государства. Без этого все заканчивалось восстаниями в провинции и династической борьбой. Третья причина: результатом развития внешних пограничных народов стало не только появление военных соперников империй. Это также могло привести к экономическим трудностям для них: вероятно, падению прибылей от торговли на большие расстояния, взиманию «защитной ренты» растущей властью военных вождей пограничий. Мы можем прийти к весьма правдоподобному заключению, что империи уже были под большим напряжением, прежде чем колесницы нанесли последний сокрушительный удар. Этот феномен повторялся во всех древних империях — его обозначают, как «чрезмерную сегрегацию» (Rappaport 1978), «гиперкогерентность» и «гиперинтеграцию» (Flannery 1972; ср. Renfrew 1979), кроме того, эти понятия выражают единую природу всех империй до их крушения. Учитывая природу завоевателей, весьма маловероятно, что они смогли бы создать свои стабильные обширные империи. Править из колесницы тяжело. Колесница — это наступательное, а не оборонительное или консолидирующее оружие. Они пополняют свои запасы на просторных кормовых лугах и из сельского ремесла, а не из интенсивного сельского хозяйства и городских ремесел. Колесница принесла с собой развитие более децентрализованных аристократий со слабо очерченными границами. От богатых воинов требовалось владение обширными пастбищами, чтобы можно было содержать колесницу, лошадей, оружие, а также свободное время для тренировок. В систематической координации со стороны централизованного командования не было никакой необходимости, напротив, требовались высокий уровень индивидуального мастерства и способности к координации небольших отрядов, которые были автономны от большей части военной кампании. «Кастовая лояльность» феодалов и слава аристократов составляли хорошую социальную базу для обоих качеств (см. исследование приемов видения войны хеттов, выполненное Гойтце (Goetze 1963). Лидеры армий колесниц испытывали большие сложности в создании централизованных государств по сравнению с более ранними завоевателями, например Саргоном, который координировал пехоту, кавалерию и артиллерию. Разумеется, их правление было в первую очередь «феодальным». Арийцы сохраняли свои децентрализованные аристократические структуры и не создавали государства веками после своего прибытия в Индию. Они напоминали ближневосточных митаннийцев. Хетты установили централизованные царства около 1640 до н. э., последние были установлены в 1200 г. до н. э., но знать, свободные воинские сословия пользовались существенной автономией. Их обычно описывают как «феодальные» государства (см., например, Crossland 1967), указывая на преобладание военных феодальных поместий: за пределами центра они господствовали, используя «слабую» стратегию правления через вассалов, соотечественников и клиентов. Микены устанавливали более централизованные экономики с перераспределявшими дворцами, но таковых было немного, к тому же их эффективность упала в «темные века» — период, описанный Гомером. Его миром был не мир государств, а мир лордов и их вассалов (Greenhalgh 1973). Царство Миттани было хурритской конфедерацией. Их верховный вождь управлял через своих клиентов на всей территории с постоянно изменявшимися границами, поскольку вассалы присоединялись к конфедерации и покидали ее. Касситы основалинежесткое феодальное царство, пожаловав широкие земли своей знати и расселившись вокруг покоренного Вавилона. Основной проблемой, которую испытывали все, было то, что они не могли тягаться со своими предшественниками в том, что касалось интеграции больших территорий. У них не было письменности, опыта принудительной координации труда, каким обладали правители оседлых земледельцев. Кроме того, их военная мощь продолжала их децентрализовывать. Более успешные, особенно хетты и касситы, ответили на эти вызовы заимствованием письменности их предшественников, а также их технологий цивилизации. Но это еще больше дистанцировало правителей от их изначальных последователей. Чем менее успешными становились захватчики, тем более уязвимыми они были для контратаки. Их технологии правления были слабыми. Поэтому оседлые земледельцы могли дать им отпор, либо сев на колесницы, либо увеличив размер и сплоченность своей пехоты, а также уровень городских укреплений. В Сирии и Леване в XVII и XVIII вв. до н. э. увеличивалось количество городов-государств с более надежными укреплениями. Два старых центра власти — Египет и Вавилон и новый — Ассирия осуществляли до некоторой степени более широкое управление. В 1580 г. до н. э. египтяне игнали гиксосов и установили Новое царство. В следующем столетии египетские колесницы, корабли и торговцы были использованы для захвата Палестины и распространения египетской власти на юго-востоке Средиземноморья. Египет впервые стал империей доминирования. Вавилонские правители восстановили свою власть в XII в. до н. э. Однако основной военный отпор в Месопотамии пришел от ассирийцев. Унаследовав свою культуру от Шумера, они стали развивать торговлю до нашествия индоевропейцев. С колесницами, а также с улучшенными защитными доспехами они одержали победу над своими митаннийскими владыками около 1370 г. и двинулись покорять другие территории (см. главу 8). Таким образом, оседлые земледельцы могли выучиться новым военным технологиям. Опять же вопреки общему стереотипу не существовало общих военных преимуществ кочевых скотоводов или колесниц. Более того, общая децентрализация правления не включала разрушения более широких сетей взаимодействия. Города-государства и феодальные конфедерации научились объединять торговлю с войной, обмениваться товарами и лингвистическими элементами. Письмо упростилось и свелось к линейной модели «один знак — один звук» (которая рассматривается в следующей главе). Более широкие символы диффузной власти были уже на подходе. Они пришли в виде второй шоковой волны.ВЫЗОВ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
Около 2000 г. до н. э., вероятно, на севере Черного моря началась добыча и угольное плавление железа, опять же, вероятно, в ответ на экономические стимулы, продолжавшие поступать с юга[57]. Железо соперничало со сплавами меди, особенно с бронзой. Бронза — это сплав меди и олова, остуженный и затвердевший. Но железо создается путем обуглероживания и закаливания, позволяющим полурасплавленному железу войти в контакт с неочищенным углеродом, содержащимся в угольном топливе. Ни одна из техник, используемых в древности, не могла произвести ничего, кроме сталистого чугуна, который по прочности практически не отличался от бронзы и немного меньше поддавался коррозии. Но к 1400 г. до н. э. производство железа стало значительно дешевле производства бронзы. Поэтому стало возможным массовое производство инструментов и орудий. Хетты, расселившиеся неподалеку от Черного моря, по всей вероятности, первыми начали широко использовать железные орудия. Осуществлять политический контроль за металлургией было сложно, и секрет изготовления железа разошелся по всей Европе и Азии к 1200 г. до н. э. Железо в отличие от меди и олова находили практически по всему земному шару, поэтому его добыча практически не поддавалась контролю (в отличие от меди: вспомните, как египетское государство контролировало медные шахты). Снижение стоимости железа означало, что любой топор мог выкорчевать дерево, а железный сошник плуга был способен распахать легкие, увлажняемые дождями почвы, бывшие в пределах экономической досягаемости подсечно-огневых земледельцев, которые отныне могли производить небольшой излишек. Росли оседлое земледелие на увлажняемых дождями землях, не зависящих от искусственной ирригации, и крестьянское фермерство в качестве экономической и военной власти. Баланс власти сместился. Этот сдвиг обладал рядом аспектов: от скотоводов и ирригационных земледельцев к крестьянам, возделывавшим земли, увлажняемые дождями; от степей и речных долин к травянистым почвам; от аристократии к крестьянству; от мобильных колесниц к тесно сгруппированным массам тяжеловооруженной пехоты (или со временем к тяжелой кавалерии); от Среднего и Ближнего Востока на Запад, Север и Восток; от империй доминирования и разветвленной племенной конфедерации к деревням и индивидуальным кланам или племенам. Хотя некоторые доказали свою несостоятельность, они составляли единую технологическую революцию. Железо стало символом социальной революции — «путеукладчика» экономической и военной власти. Экономические результаты понять сравнительно легче. Любой землепашец, возделывавший земли, увлажняемые дождями, способный создавать излишки, мог обменять свою продукцию на топор или плуг. Любой преуспевающий крестьянин мог впрячь в плуг быков. В геополитических терминах экономический рост непропорционально сильно сдвинулся к увлажняемым дождями долинам Анатолии, Ассирии, Юго-Восточной Европы и Северного Средиземноморья. Этот регион развил экономику, в которой индивидуальное крестьянское домохозяйство полагалось непосредственно на развитый экономический обмен и профессиональную специализацию. Собственный труд и орудия, относительно независимые от прочих домохозяйств, создавали излишки — стимул для мелкой частной собственности, демократизации и децентрализации экономической власти. Непосредственные экономические практики (относительно «интенсивная» сторона экономической власти (что рассматривалось в главе 1) могли стать новым средством исторической организации власти, которым они стать не смогли, уступив развитию первых цивилизаций. Другим экономическим изменением было усиление локальной торговли и торговли на средние расстояния. Вспомним, что большая часть торговли на большие расстояния была торговлей металлом. Теперь же, когда доминирующий металл — железо был обнаружен, торговля практически повсеместно локализовалась. Все больший спрос исходил от крестьянских домохозяйств, требовавших полусырьевых товаров (одежды, вина и т. п.), относительно громоздких и все еще недостаточно практичных, чтобы перевозить их на большие расстояния по суше. Эти товары можно было доставить морским транспортом. Морской транспорт передвигался не по подготовленным и контролируемым коммуникационным маршрутам. Хотя власть и могла контролировать все внутренние моря (Средиземное море, Черное море, Арабский залив и т. п.), торговля продолжала децентра-лизировать и демократизировать экономическую власть. Практики крестьянских домохозяйств были теснее связаны с экстенсивными торговыми маршрутами. Мы наблюдаем усиление организационных средств экономической власти — то, что в главе 1 я назвал «цепями практик». Военные и политические последствия были более сложными и разнообразными. Крестьяне становились более критически важными и автономными акторами экономической власти, но местные традиции определяли то, как это выражалось в политических и военных терминах. На Западе, то есть в Южной Европе, за пределами Греции, до сих пор не существовало никаких государств, никакой власти, которая могла бы сдерживать торговцев и крестьян, помимо разве что слабо развитой племенной и поселенческой аристократии. Поэтому деревни и племена, весьма нестрого мобилизованные аристократией, сами развивались как военные и политические силы. Другой ближневосточной крайностью были хорошо организованные империи доминирования, подобные Ассирии, которые могли поддерживать контроль над крестьянством, мобилизуя его в пехоту, снабжая железным оружием, доспехами и осадными орудиями. Дешевое оружие и высокая продуктивность земель, увлажняемых дождями, повышали возможности экипировки и снабжения масс. Традиционным базисом для координации таких масс была империя. В долгосрочной перспективе это усиливало подобные империи. Разумеется, для традиционного государства, которое даже не обладало крестьянскими землепашцами, появился третий вариант: использовать крестьянские излишки, чтобы платить иностранным наемникам. Забегая несколько вперед, отметим, что это была стратегия, адаптированная египтянами. Хотя они были единственной державой, которая не выплавляла железо, они уцелели и даже процветали, предпочитая платить грекам за весь процесс — от выплавки до убийства! Одним словом, политические и военные сдвиги были геополитическими, трансформировавшими региональный баланс сил в большей степени, чем внутренний баланс любого конкретного государства. В геополитическом отношении подобные геополитические силы приходили в состояние насильственного конфликта. Но в силу того, что большинство сражавшихся были либо совершенно неграмотными, либо едва могли писать, нам известны лишь схематичные хроники катастроф. Раскопки города-государства Трои на побережье Черного моря демонстрируют, что он был разрушен между 1250 и 1200 гг. до н. э., вероятно, в ходе Троянской войны, описанной Гомером, или же, что также вероятно, в результате действий микенских греков. Однако незадолго до 1200 г. до н. э. защитные сооружения микенских земель также стали расти, что свидетельствовало о давлении, которое испытали их жители. Около 1200 г. укрепленные дворцы Микен, Пилоса и других центров были сожжены. Около 1150 г. до н. э. масштабы катастрофы возросли: остатки микенской дворцовой культуры были уничтожены; Хеттское царство разрушено, его столица и прочие важнейшие города были сожжены; пришел конец правлению касситов в Вавилоне. Около 1200 г. египтянам с трудом удалось отбиться от атак на дельту Нила, которые предприняли те, кого они называли народами моря. К 1165 г. Египет потерял все территории за пределами Нила и его дельты в результате атак народов моря и семитских народов, вторгшихся в Палестину из Аравии, — израильтян, ха-нанеев и других ветхозаветных народов. Точные даты этих событий чрезвычайно важны для того, чтобы понять, чем они были. В какой последовательности были разрушены Троя, Микены, Богазкей (столица хеттов) и Вавилон? Мы не знаем этого. Опираясь исключительно на египетскую хронологию и отсылки к народам моря, мы так и продолжим находиться в неведении. Мы можем добавить к ним свидетельства из Греции. Последующие греческие историки предполагали, что микенцы были свергнуты дорийцами, которые вместе с другими грекоговорящими народами, спустились из Иллирии на севере. Один из этих народов — ионийцы затем основал колонии в Малой Азии. Никто не знает, где именно располагалось это место. Дорийский и ионийский народы прослеживаются в разных областях Греции, а в центральных областях, таких как Спарта и Аргос, дорийцы правили слугами, которые были покорены недорийскими греками. Но эти завоевания могли произойти после падения Микен. У нас нет четкого представления о том, кто уничтожил Микены. Как отмечает Снодграс, все выглядело «как вторжение без захватчиков» (Snodgrass 1971: 296–327; ср. Hopper 1976: 52–66). Логический вывод состоит в том, что народы моря были слабой конфедерацией новых геополитических сил, союзом пиратов и торговцев/пиратов, прибывших из Северного Средиземноморья и берегов Черного моря с железным оружием, проникших в земли хеттов, освоивших микенские торговые маршруты и, вероятно, обучившихся лучшей организации от обоих соперников одновременно (Barnett 19755 Sandars 1978). Викинги являются более поздним их аналогом — их основной единицей разрушения и завоевания был отряд из 32–35 воинов-гребцов со слабой организацией за пределами временного союза с другими кораблями. Но это всего лишь заключения, полученные путем логического выведения и аналогии. Тем не менее морская власть была критической для этой второй волны северных завоеваний. Внутренние империи доминирования были не так сильно подвержены этой угрозе в отличие от угрозы в рамках первой волны завоеваний. Это предполагает разрыв между сухопутными и морскими властями, первые из которых были более традиционными, а последние — новыми. Более обширные территории и большее количество народов попали в отношения взаимозависимости под действием этих двух северных вызовов. Кроме того, в краткосрочной перспективе они сократили интеграционный потенциал обществ, объединенных вокруг государства. Более мелкие государства и племена соперничали, торговали и вступали в диффузные культурные отношения друг с другом. Они были пограничными народами, которых манила цивилизация и которые были заинтересованы в ее достижении. Они внесли свой вклад в экономическое и военное развитие. Выкорчевывание и рубка деревьев увеличивали их излишки, воины в железных доспехах и с железным оружием стимулировали военную власть. Таким образом, в течение первого тысячелетия до новой эры произошли три изменения в отношениях власти различных ритмов и в различных областях, которые принесли с собой вызовы с севера: 1) стимулирование интерстициальных торговых государств с их собственными отличительными политическими, военными и идеологическими механизмами власти; 2) рост власти (возможностей) крестьян и пехоты, возрождение интенсивной мобилизации экономической и военной власти в относительно небольших и демократических сообществах; 3) рост, хотя и более медленными темпами, в большинстве областей, экстенсивной и интенсивной власти крупномасштабных империй доминирования, в чем-то потенциально приближавшихся к территориальным империям. Эта сложная картина состоит из множества частично пересекающихся сетей власти. Однако эти тренды были хорошо задокументированы, поскольку основные примеры каждого типа (Финикия, 1; Греция, 1 и 2; Македония, 3; Ассирия, 2 и 3; Персия, з; Рим, 2 и 3) были письменными и исправно хранящими письменные свидетельства. Хронология их развития займет несколько глав. Их общества были цивилизованными, располагавшими существенной властью. Тем не менее ни одному из них не удалось достичь геополитической гегемонии над всем ближневосточным средиземноморским миром. Ни один из типов экономической, идеологической, военной или политической власти не был преобладающим, напротив, это была область существенного социального взаимодействия. Но давайте не будем смотреть на эту «мультигосударственную» область через оптику современного опыта. Способность любого из них к проникновению в социальную власть была рудиментарной. Их соперничество было не только «международным», но и интерстициальным. То есть различные способы организации власти, формы экономического производства и обмена, идеологии, военные методы, формы политического управления были распространены поверх государственных границ и между их жителями. На внутреннем уровне гегемония была так же недостижимой, как и на международном. Все это создало уникальный случай, выходящий за рамки ближневосточных и средиземноморских цивилизаций первого тысячелетия до новой эры. Даже в главе 4 я не был уверен в сравнительных обобщениях. Они были всего лишь горсткой примеров независимо возникших цивилизаций. Впоследствии различия между ними росли. В главе 5 я продолжил работу с несколькими широкими обобщениями, касающимися империй доминирования. Но их ядром (как обычно бывает в сравнительной социологии) было сравнение Ближнего Востока и Китая. Теперь эти два пути разошлись. К временам династии Хан Китай был единой цивилизацией. Расширяясь, он достиг полупустынных степей на севере и западе. Хотя оттуда периодически появлялись воинственные кочевники, Китай практически ничему у них не научился, за исключением военных техник. К югу раскинулись джунгли, болота и располагались менее цивилизованные и опасные народы. На своих землях Китай был гегемоном. На востоке лежали моря и потенциальные соперники, особенно Япония. Но их взаимодействия были редкими, а некоторые китайские режимы возвели барьеры для иностранцев. Цивилизованный космополитический Ближний Восток стал уникальным случаем. Поэтому сравнительная социология здесь бессильна (хотя она на мгновение возрождается в главе п) не по логическим или эпистемологическим, а по более непреодолимым причинам — в связи с отсутствием эмпирических сравнимых случаев. Основными особенностями цивилизации, наследником которой стал современный Запад, были геополитический полицентризм, космополитизм и отсутствие гегемона. У них были три экологических корня: ирригационные речные долины и ограниченные пахотные земли — ядро территорий ближневосточных империй; более открытые широкие пахотные земли в Европе, а также внутренние моря и связи между ними. Непосредственное соседство подобных экологических систем не имело аналогов в мире. Следовательно, во всемирно-исторических терминах такими же были и цивилизации, которые возникли в этих условиях.БИБЛИОГРАФИЯ
Barnett, R. D. (1975). The Sea Peoples. Chap. 28 in The Cambridge Ancient History, ed. 3d ed. Vol. II, pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Crossland, R. A. (1967). Hittite society and its economic basis. In Bulletin of the Institute of Classical Studies, 14. --. (1971). Immigrants from the North. Chap. 27 in The Cambridge Ancient History, ed. I. E. S. Edwards et al. 3d ed. Vol. I, pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Drower, M.S. (1973). Syria, c. 1550–1400 B.C., Chap. 10 in The Cambridge Ancient History, ed. I. E. S. Edwards et al. 3d ed. Vol. II, pt. 1. Cambridge: Cambridge University Press. Flannery, K. (1972). The cultural evolution of civilizations. Annual Review of Ecology and Systematics, 3. Goetze, A. (1963). Warfare in Asia Minor. Iraq, 25. Greenhalgh, P. E. L. (1973). Early Greek Warfare. Cambridge: Cambridge University Press. Gurney, O.R. (1973). Anatolia, c. 1750–1600 B.C.; and Anatolia, c. 1600–1380 В. C. Chaps. 6 and 15 in The Cambridge Ancient History, ed. I. E. S. Edwards et al. 3d ed. Vol. 11, pt. 1. Cambridge: Cambridge University Press. Heichelheim, F. M. (1958). An Ancient Economic History. Leiden: Sijthoff. Hopper, R.J. (1976). The Early Greeks. London: Weidenfeld & Nicolson. Oates, J. (1979). Babylon, London: Thames <Sc Hudson. Rappaport, R. A. (1978). Maladaptation in social systems. In the Evolution of Social Systems, ed. I. Friedman and M.J. Rowlands. London: Duckworth. Renfrew, C. (1979). Systems collapse as social transformation: catastrophe and anastrophe in early state formation. In Transformations: Mathematical Approaches to Culture Change, ed. C. Renfrew and K. Cooke. New York: Academic Press. Sandars, N. F. (1978). The Sea Peoples. London: Thames & Hudson. Snodgrass, A. M. (1971). The Dark Age of Greece. Edinburgh: Edinburgh University Press.ГЛАВА 7 Финикийцы и греки: децентрализованные цивилизации с множеством акторов власти
В этой главе я рассмотрю возникновение и развитие двух основных децентрализованных цивилизаций первого тысячелетия до новой эры — Финикии и Греции. Я сконцентрируюсь на Греции, поскольку ее развитие значительно лучше задокуменировано, в результате чего мы можем различить основные этапы диалектики ее развития. Я постулирую, что огромный вклад обоих народов в развитие социальной власти должен быть приписан децентрализованной и многоуровневой природе их цивилизаций, подходящей для извлечения преимуществ из геополитического, военного и экономического наследия их региона, особенно того, что было завещано им ближневосточными империями доминирования. Я предполагаю, что эти принципиальные диалектики можно различить в ходе превращения Финикии и Греции в «передовые фронты» власти того времени. Первая, рассматриваемая кратко и гипотетически, касается возможности того, что эти цивилизации были частью макроисторического процесса. В этом случае децентрализованные цивилизации с множеством акторов власти, располагавшиеся на границах уже установленных империй доминирования, воспользовались успехом и институциональной ригидностью этих империй для «интерстициального возникновения» и установления своих автономных организаций власти. Однако после долгого успешного процесса развития власти их организации становились институционализированными и жесткими. С этого момента они, в свою очередь, были уязвимы для новых империй доминирования, лежавших на пути их завоеваний. Подобный процесс может быть прослежен в первом тысячелетии до новой эры. К тому, в какой степени это действительно было частью макроисторического процесса, мы вернемся в заключительных главах. Вторая диалектика затрагивает «промежуточный период» успеха в развитии. Он обладал двумя принципиальными аспектами. Социальное развитие Греции будет интерпретировано, во-первых, как рост и взаимодействие трех сетей власти. Это время не столько частичного пересечения, сколько заключения в концентрические кольца: самым маленьким был город-государство, средним — геополитическая организация и лингвистическая культура, известная нам как Греция, внешним — частичное и колеблющееся понятие человечества в целом. В то же время коллегиальная демократическая природа двух первых колец также несла с собой еще одну диалектику: народные практики и классовую борьбу. Классы впервые стали способны к исторической реорганизации — с тех пор они сохраняют эту способность. Хотя Греция и Финикия в итоге разрушились до появления империй доминирования, это оставило отпечаток двух диалектик на трех взаимодействующих сетях и классах этих империй, а также, что вполне вероятно, и на нас.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ: ФИНИКИЯ — ГРАМОТНОСТЬ И ЧЕКАНКА МОНЕТ
Упадок хеттов и микенцев, а также отступление Египта обратно к Нилу привели к вакууму власти у восточных берегов Средиземного моря. Вся территория была децентрализована и состояла из мелких государств. Финикийские государства Ливанского побережья были частью этнически разнообразных ханаанских народов. Они писали вавилонской клинописью и использовали месопотамский и сирийский стиль, к тому же их расположение было стратегически выгодным для расширения торговли в западном направлении между Ближним Востоком, Египтом и стремительно растущей экономикой Европы. В указанном вакууме власти появились прибрежные города, укрепления и военно-морская сеть. Из библейской Книги Царств мы узнаем, что Хирам из Тира очень помог царю Соломону в XX в. Хирам доставил кедр и ель из Левана, за что Соломон дал ему 20 тыс. мер пшеницы и 20 мер чистого масла. Рабочие Хирама построили храм в Иерусалиме. Хирам доставлял золото и драгоценные камни в Израиль по Красному морю. Возникновение ассирийской империи доминирования (см. главу 8) разрушило израильское государство, но не финикийскую морскую державу — ассирийцы брали дань начиная с IX в., но, будучи сухопутной державой, не могли с легкостью организовать средиземноморскую торговлю. Появление ассирийцев вдобавок к непрерывному, хотя и слабому, присутствию египтян было важно, поскольку оно отделяло сухопутную власть от морской и не давало никому в регионе возможности объединить сельскохозяйственную и морскую власть. Поэтому финикийская власть была исключительно морской[58]. Финикийские корабли стали основным средством перевозки грузов начиная с IX в. и в конечном итоге вступили в ожесточенное соперничество с греческими. По всему Средиземноморью появилось множество колоний и перевалочных пунктов. Наиболее известный из них — Карфаген, основание которого обычно датируют 814–813 гг. до н. э., — создал собственную империю в Западном Средиземноморье. Вскоре финикийские прибрежные города потеряли морское превосходство над греками и политическую независимость сначала от Навуходоносора II, а затем от персов в VI в. Однако персы по-прежнему высоко ценили финикийские военно-морские силы, благодаря чему последние пользовались автономией на протяжении Греко-персидской войны. В конечном итоге эти силы потерпели сокрушительное поражение от Александра Великого в 332 г. до н. э. Карфаген и прочие западные колонии еще долгое время сохраняли политическую автономию вплоть до того, как Карфаген был уничтожен Римом в 146 г. до н. э. Таким образом, Финикия была одной из крупнейших держав в течение примерно 500 лет, и это была держава с властью нового типа. За исключением поздней карфагенской империи в Африке, Сардинии и Испании, начиная с 400 г. до н. э. эта власть распространялась только на отдельные порты и непосредственно прилегавшие к ним земли. Каждый город-государство был политически независимым: даже самые маленькие североафриканские города никогда не были включены в Карфаген. Это была исключительно морская и торговая власть — «невеста моря», объединенная слабым федеральным геополитическим союзом городов-государств. У такой морской власти были свои предпосылки. Первая заключалась в том, что Карфаген занял политический вакуум, возникший в стратегически важном регионе, расположенном между тремя основными областями социальной активности. Второй предпосылкой был рост пахотного сельского хозяйства по всему Средиземноморью, повышавший целесообразность морской торговли. Третьей предпосылкой было то обстоятельство, что ни одна из основных территориальных держав того времени не объединяла под своей властью море и сушу или ирригационные и пахотные земли. И Финикии это также было не под силу. Ее власть была исключительно морской по сравнению с властью прежних великих торговцев — минойской и микенской цивилизаций. К тому же изменилась сама природа торговли. Вне зависимости от того, перевозили ли финикийские корабли только металл, шерсть, дерево и товары роскоши между двумя цивилизованными или централизованными государствами и их пограничными землями, они могли попасть во власть империй господства, как купцы в прошлые века. Прежде торговцы, пересекавшие черту города, отправлялись на центральную торговую или рыночную площадь, где их товары взвешивались и фиксировались писцами и прочими служащими государственной бюрократии. Но финикийцы привозили заметную долю необработанного и полуобработанного сырья (злаков, вина, кожи), а также готовых изделий, которые сами изготавливали. В их городах также были цеха и мастерские, выполнявшие кирпичные, плотнические работы, производство и покраску тканей, а также обработку драгоценных металлов. Большинство готовых изделий предназначалось не для царского дворца, а для домохозяйств статусом ниже — мелких благородных землевладельцев, городских жителей, относительно преуспевавших свободных крестьянских собственников. Такого рода товары предполагали более непосредственные отношения между продавцом и покупателем, не опосредованные центральной ролью перераспределявшей экономики, а только торговыми организациями Финикии. В этом отношении финикийцы создали более диффузную децентрализованную экономику по сравнению с той, которая была у их северных соперников. Основой их власти была мобилизация динамичной, но децентрализованной экономики, в которой непосредственные производители не обладали широкой территориальной организацией. Мы называем это рынком, и (в отличие от Поланьи) редко осознаем, насколько исторически уникальным было это явление. Две отличительные черты нового диффузного децентрализованного мира — письменность и чеканка монет — заслуживают отдельного внимания. Хотя они встречались нам до финикицев, роль последних для обеих весьма велика. Империи доминирования не принесли заметных изменений в клинопись и иероглифическое письмо. Между около 1700 и 1200 гг. до н. э. в дипломатии и торговле было принято использовать аккадскую клинопись, которая на тот момент была «нейтральным» письмом, поскольку никакого аккадского государства уже не существовало. Но после развала большинства империй существование единого языка было затруднено, поскольку большинство из них не были включены в традиционные цивилизации, включая аккадскую. Письмо, которое бы просто воспроизводило звуки фонетически, то есть алфавит, как мы его называем, было бы полезным для переводов с различных языков. К счастью, мы можем ухватить суть этого всемирно-исторического момента на основе данных из раскопок в Леванте. Они демонстрируют, что в XIV–X вв. до н. э. в одних и тех же табличках одновременно использовалось множество типов письма и диалектов, например, аккадского, шумерского, хеттского, хур-ритского, египетского и киприотского языка. Одним из таких был угаритский язык, ханаанский диалект, написанный в алфавитной клинописной форме. Он передавал только согласные, каждый символ обозначал звук (за исключением гласных). Как и все клинописи, он был начертан на громоздких глиняных табличках. Немного позднее и в других левантских типах письма, особенно в иврите, финикийском и других ханаанских языках, возникли рукописные алфавитные типы письма, подходившие для начертания на папирусе. Затем мы находим примеры X в. до н. э. — финикийское письмо, состоявшее их 22 согласных (гласные отсутствовали). Оно было стандартизировано в IX в. и распространилось по всему Средиземноморью. Вскоре после 800 г. до н. э. его заимствовали греки, добавили к нему гласные и передали этот алфавит потомкам. Позвольте мне подчеркнуть два аспекта этой истории. Во-первых, хотя раннее развитие письменности было по большей части организовано государством, затем (к X в. до н. э.) их пути разошлись. Причиной последующего развития письменности была необходимость перевода между различными народами, особенно между торговцами. Во-вторых, хотя это были технические усовершенствования (они давали писцам возможность записывать и передавать сообщение быстрее и с меньшими издержками), они имели последствия для власти. Эти технологии стали доступны тем, кто обладал меньшими ресурсами по сравнению с государством, — купцам, провинциальным аристократам, ремесленникам и даже жрецам поселений. Предотвращение распространения этих технологий потребовало бы от государственных жрецов-писцов огромных усилий (и они действительно предприняли неудачную попытку в Вавилоне). МакНил отмечает: «Демократизацию обучения, которой явно поспособствовало упрощение письменности, следует рассматривать в качестве одного из поворотных моментов в истории цивилизации» (McNeill 1963: 147) — Понятие «демократизация» выделяет это намного сильнее. Изначально распространение грамотности ограничивалось узким кругом технических советников правящих элит, затем она распространилась среди элиты. Из финикийских записей и текстов уцелели лишь немногие, но они свидетельствуют о дискурсивной письменной культуре. Единственное, что можно с уверенностью утверждать о финикийцах, это то, что они были одной из нескольких групп (наряду с арамеями и греками), децентрализованные торговые структуры которых помогли осуществиться второму прорыву в истории распространения грамотности. Финикийцы также были одной из множества групп, которые медленно продвигались к чеканке монет, чтобы сделать последний шаг. Но в некоторых аспектах история с чеканкой монет весьма сходна с историей грамотности[59]. Самыми первыми системами, при помощи которых цивилизованные общества могли присвоить определенному предмету меновую стоимость, были системы весов, измерений и составления списков, контролируемых центральной дворцовой системой ирригационного государства. Но такая стоимость была «одноразовой», присваиваемой через единую охраняемую государством транзакцию, а не через генерализованные средства обмена. Империи доминирования поддерживали эту систему безо всяких изменений, и с их обрушением рухнула и она. Она сохранилась в Египте, Вавилоне и Ассирии. Однако долгое время существовали и другие «денежные» системы, использовавшие предметы со смешенной и более генерализованной потребительско-меновой стоимостью. В качестве генерализованных средств обмена чаще всего использовались шкуры крупного рогатого скота, боевые топоры, металлические бруски и инструменты. Они также могли быть повторно применены без дальнейшего приписывания им стоимости. Появление железа придало импульс использованию некоторых из подобных средств. Инструменты из закаленного железа могли отрезать и штамповать металл дешевле и с большей точностью. Стандартизация инструментов сама по себе повышала их меновую стоимость. Металлические орудия и штампованные бруски металла, по всей видимости, были среди наиболее распространенных форм «денег» на Восточном Средиземноморье между примерно 1100 и 600 гг. до н. э. Использование инструментов в качестве денег не требовало никакой центральной власти. Это было подходящим решением для пахарей, использовавших железный плуг, и преобладало в Греции этого периода. Штампованные бруски металла требовали определенного рода авторитета, гарантировавшего их пригодность, но получатели с легкостью могли проверить их качество (по крайней мере это было легче, чем с монетами), поэтому, однажды начав циркуляцию, они не требовали повторного прохождения через государственную машину — они были генерализованным средством обмена. Как мы можем ожидать, эта форма денег возникла среди торговых народов — арамеев и финикийцев. Согласно ассирийским документам VIII и VII вв. до н. э., штампованные бруски металла в целом были в ходу на Ближнем Востоке. Более того, среди финикийцев и арамеев печатями наравне с царями или городами-государствами обладали отдельные личности, что свидетельствовало о децентрализации власти и межличностном доверии по крайней мере внутри относительно небольших олигархических групп. Мелкомасштабные производители не могли прибегнуть к этой проточеканке монет. Большие, неудобные и весьма дорогие, они подходили лишь для сделок между государствами или богатыми посредниками. Возникновение первых монет, распознаваемых археологами в качестве таковых, произошло именно в месте географического пересечения двух культур, вовлеченных в обмен, — империй доминирования на Ближнем Востоке и сельских торговцев с северо-запада, то есть в Малой Азии. Греческая традиция приписывает изобретение монет полугреческому, полуазиатскому царству Лидия в VII в. до н. э. Археологи подтверждают это, но добавляют некоторые греческие города-государства Малой Азии (и, вероятно, современную Месопотамию тоже) в качестве соавторов этого изобретения. На монетах была двойная печать на лицевой и тыльной стороне с эмблемой царства или города-государства, затруднявшая их подделку и неофициальный выпуск и гарантировавшая их вес и качество. Первые монеты, как правило, обладали высокой стоимостью и потому не использовались в обмене между обыкновенными производителями и потребителями. По всей вероятности, их использовали для того, чтобы платить солдатам-наемникам, собирать налоги и дань с богатых. Поэтому в настоящий момент у нас есть две области проникновения про-томонетарной экономики: как формы кредита, во-первых, между государствами и могущественными торговыми посредниками и, во-вторых, между государством и его солдатами. Военная служба была первой и долгое время единственной формой оплачиваемого деньгами труда. Из указанного региона чеканка денег распространилась по всему пути наемников/торговцев: на восток в Персию и на запад в Грецию. Греки объединили два базиса протомонетарной экономики, будучи торговым народом и основным поставщиком наемников. Вдобавок Греция обладала демократическими городами-государствами, сильное гражданское сознание которых использовало дизайн монет как символ, своего рода флаг. Греция стала первой монетарной экономикой. Около 575 г. до н. э. Афины начали чеканить монеты низкой и высокой стоимости и тем самым стали первой монетарной экономикой. Эта часть истории — греческая, к ней мы и обратимся в следующем разделе. Чеканка монет предполагала два независимых актора власти: центральное государство и децентрализованные классы власть имущих, способные к автономной, социальной и экономической мобилизации. Ни один из них не мог быть редуцирован к другому, поскольку их взаимодействие было диалектикой развития. Империи доминирования взаимодействовали с сельскими собственниками и землепашцами для того, чтобы создать двухуровневую геополитическую структуру социальной организации. Она была создана, в частности, через организацию торговых посредников, наемников и демократические города-государства. Для того чтобы понять это, необходимо обратиться к Греции.ИСТОКИ ВЛАСТИ ГРЕЦИИ
Исторический нарратив в целом склонен к телеологии. Представления о том, чем позднее станет общество прошлого или каково общество сейчас, постоянно примешиваются к представлениям, каким было историческое общество. Когда речь идет о классической Греции, достижениях ее власти, с телеологией невозможно совладать. От классической Греции к современному миру ведут прямые исторические рельсы — язык, политические институты, философия, архитектурные стили и прочие культурные артефакты. Наша история весьма живо сохранила знания об этих рельсах. Вероятно, именно это не дает нам увидеть другие аспекты греческой жизни и закрывает глаза на достижения других современных ей народов. В этой главе я изо всех сил стараюсь вернуть Грецию в современный ей исторический мир, коснуться не только того, что нам в ней относительно близко, но и того, что относительно чуждо, хотя это и не самое благодарное дело. Три института обладают особым значением: город-государство или полис, культ человеческого разума и политическая борьба классов. Вместе они обусловливают скачок власти, революцию в организационных способностях. Если бы они не были изобретены в Греции, то даже трудно себе представить, где это могло бы произойти. Греция завещала их традиции, которые обогатили нашу цивилизацию и через нее весь мир. Поэтому Греция представляет собой важную часть истории человеческих коллективных возможностей. Как мы собираемся объяснять это? Я начну с анализа полиса и некоторых последующих шагов в его развитии. У Греции[60] не было особых экологических преимуществ. Почвы ее долин были менее плодородными, чем в европейских областях, хотя тот факт, что здесь требовалось меньше исходной расчистки, представлял собой привлекательную альтернативу для древних пахарей, использовавших железный плуг. Ее бесплодные холмы и протяженные скалистые побережья делали политическую унификацию маловероятной, точно таким же образом, каким делали весьма вероятной морскую ориентацию. Но из одной только экологии мы не можем вывести возникновение полиса, морской власти или цивилизации классической Греции; в противном случае, основываясь на экологии, мы могли бы утверждать подобное и для Бретани, и для Корнуолла. Грецию отличало ее пограничное положение между Европой и Ближним Востоком — самая близкая из всех европейских пахотных земель к ближневосточным цивилизациям с мысами и островами, Греция была первым претендентом на то, чтобы стать посредником в торговом и культурном обмене между ними. Более того, изначальное нашествие дорийцев, ионийцев и прочих (вне зависимости от того, кем именно они были) в действительности затронуло и Европу, и Азию. Начиная со своих постмикенских истоков Греция располагалась в Азии в форме множества колоний на побережье Малой Азии. Долг Запада перед греческой цивилизацией не должен позволить забыть, что разделение Востока и Запада было более поздним феноменом. Нам также ни в коем случае не следует рассматривать удивительное развитие Греции как исключительно местный феномен. В каждом из значимых аспектов греки объединяли воедино практики древних ближневосточных цивилизаций и землепашцев железного века. Хотя, разумеется, в действительности был один аспект греческого развития, который мы игнорируем, — степень неотделимости от микенской цивилизации; четыре сотни лет после ее крушения было принято называть «Темными веками»[61] [62]. Затем между 800 и 750 гг. до н. э. мы уже можем различить некоторые очертания Греции. Отношения экономической и военной власти были до определенной степени противоречивыми: с одной стороны, сельское хозяйство приносило большие излишки, как следует из данных по росту населения в Аттике между 800 и 750 гг. Демографический рост можно приписать росту интеграции между Ближним Востоком и Средиземноморским миром в целом, учитывая стратегическое положение Греции. Экспансия увеличивала благосостояние и власть средних и крупных крестьянских хозяйств в ущерб аристократии, которую составляли скотоводы, особенно те, кто разводил лошадей. С другой стороны, в военной сфере господствовали конные, защищенные доспехом аристократические воители. Двухчастная структура самых ранних политических институтов представляла собрание совершеннолетних мужчин, членов местного сообщества, которое подчинялось совету старейшин, состоявшему из глав благородных семей. Двухчастная структура была характерна и для землепашцев и скотоводов железного века, и для народов более поздних периодов. У таких народов были две основные политические переменные. Одна из них — царство (всегда сравнительно слабое), существовавшее в одних регионах. В Греции в период темных веков монархия пришла в упадок. Лишь немногие из могущественных государств на северных границах были монархиями, кроме того, в Спарте существовала уникальная система диархии (двоецарствия). Вторая переменная — степень статусной жесткости между аристократами и свободно рожденными людьми. В Греции она была низкой. Хотя происхождение было значимым и эта значимость усиливалась аристократическими нормами, оно никогда не достигало степени кастового или сословного сознания. Начиная с древнейших времен мы можем обнаружить напряженность между правами от рождения и богатством. Богатство с легкостью преодолевало различия, устанавливаемые от рождения. В этом отношении различаются две волны с севера, описанные в главе 6. Колесницы создавали жесткие различия — экстремальным случаем были арийцы, создавшие касты (см. главу п). Но использовавшие железные плуги пахари противостояли аристократам при помощи слабых, общинных и даже демократических структур власти.ГРЕЧЕСКИЙ ПОЛИС
Полис был самоуправляемым территориальным государством города и сельскохозяйственных провинций, в нем каждый мужчина, владевший землей, будь то аристократ или крестьянин, рожденный на его территории, обладал свободой и гражданством. Двумя фундаментальными понятиями были гражданское равенство собственников земли и обязанности и лояльность территориальному городу, а не семье или клану. Антитезис между территорией и родомбыл замаскирован посредством использования родового языка для обозначения единиц, которые в действительности объединяли территориальные и родовые атрибуты. Поэтому племена (phylai), как представляется, изначально были военными группировками, добровольными ассоциациями воинов. Позднее в Афинах (как и в Риме) племена были воссозданы на базе локальности. Подобным же образом братство (phratra), как и в большинстве индоевропейских языков, означало не кровное родство, а социальную группу единомышленников. В последующей истории Афин они стали политическими фракциями, возглавляемыми аристократическими кланами и иногда ограниченными ими. Кровные и родственные структуры имели большое значение в истории Греции, что привело некоторых классиков к расширению родовых структур до территориальных единиц (Davies 1978: 26). Но важность родства и его символическое использование в качестве символической модели для неродственных отношений являются практически универсальными. Даже в XIX — начале XX в.н. э. крупномасштабная территориальная единица — национальное государство концептуализировалось в качестве этнической, расовой единицы, которой оно в действительности не являлось. Греки отошли от этой нормы именно в той степени, в какой развили локальную территориальную лояльность. Аристотель откровенно говорит нам, что первым свойством полиса было наличие принадлежавшего к нему сообщества. Полис также противопоставлялся понятию аристократии, широким кровнородственным связям, которые привносили иерархическую лояльность и препятствия на пути интенсивной эгалитарной территориальной лояльности. Поэтому объяснение возникновения полиса также предполагает объяснение движения к локальной демократии, политическому участию широких масс или по крайней мере к субстанциональному «классу» собственников, слишком многочисленному и однородному, чтобы организоваться в реальные трайбалистские единицы. В свою очередь, это подразумевает мульти государственную систему маленьких полисов. Так как же возникла мульти государственная система, состоявшая из полисов? Экономика крестьянских хозяйств железного века была первым необходимым условием. Она создала широко распространенное сходство обстоятельств. Кроме того, с ростом численности и плотности населения возникла необходимость в локальной экономической организации. Однако этого было недостаточно. Крестьянское хозяйство само по себе не тяготело к коллективу — крестьяне редко создавали постоянные коллективные политические организации, как мы позже убедимся (см. главу 13). Имело место влияние ряда дополнительных причин, хотя на различных стадиях развития полиса оно было сложным и неоднозначным. Их сложные взаимодействия дополняли относительно конъюнктурный взгляд на греческую державу. Следующими двумя условиями, оказавшими определенное влияние на экономику железного века, были торговля и военная организация. Затем к ним необходимо добавить грамотность, коммерциализацию сельского хозяйства и крупномасштабные морские военные кампании.Ранняя торговля и полис
Отношения полиса и торговли были особыми. Торговля не была центральным вопросом политики. Греки не так высоко ценили торговлю (хотя и не смотрели на нее свысока). Местная торговля не давала торговцам высокого политического статуса. Торговля на большие расстояния была организована профессиональными (часто иностранными) купцами, которые обладали маргинальными позициями в сообществе. Мастера и ремесленники были изначально независимыми и зачастую финикийцами по происхождению. Поэтому политическая организация не была всего лишь ответвлением от экономической организации. Она и не могла им быть, поскольку, хотя отдельный полис был унитарным, экономика такой не была. Не было централизованного места для производственно-распределительного цикла, системы принудительной кооперации, которая бы управляла греческим миром (в Финикии ее также не было). Имел место организационный разрыв между производством и местными рыночными отношениями крестьян и более широкими торговыми сетями. Даже позднее, когда греки обеспечили контроль торговли, дуализм сохранился. Вместе с тем греки с древнейших времен устремлялись за границу в поисках сырья, такого как металлы. Обмен подобного сырья на сельскохозяйственную продукцию, например оливки, оливковое масло и вино, был основным способом использования излишков и условием их цивилизации. Они находили заграничные поселения, которые были, по сути, сельскохозяйственными плюс торговыми станциями и затем становились полисами. Система полисов была разновидностью «архипелаго-вой» структуры (в некоторых отношениях сходной со структурами древнейших цивилизаций Андской Америки, которую мы рассматривали в главе 4), благодаря чему берега Восточного Средиземноморья постепенно были колонизированы греками. Это приводило к характерной ориентации на торговлю. То, что мы называем коммерческим и свободным аспектами торговли, было вынесено подальше от жизни полиса. Но полисное и особенно межполисные отношения регулирования проникали в экономико-обменный процесс. Благодаря этому мульти-государственная геополитическая система «Греция» также развивалась как коллективная экономическая организация, стимулируемая ростом торговли. Эти два уровня — город-государство и мультигосударственная федеральная цивилизация — обрели эмбриональную форму в экономике в результате локальной экологии и региональной геополитики. Но демократические элементы многих полисов все еще нуждаются в объяснении. В конце концов именно они были поразительной греческой инновацией. Никогда прежде крестьяне не правили цивилизованным обществом (впоследствии это также было большой редкостью) путем большинства голосов после свободной дискуссии на публичных встречах (Finley 1983). В остальном мире, включая Этрурию и Рим, экономическое развитие направлялось монархическими и аристократическими городами-государствами. Территориальное и политическое равенство не обязательно было идентичным. Большинство греческих городов-государств не были демократическими полисами до тех пор, пока они не достигли определенной степени развития в VII и VI вв. до н. э. (а некоторые так никогда и не стали). Необходимы были другие импульсы в этом направлении. Первым из них по важности был военный, точнее, возникновение гоплитов. Это превратило города-государства в полисы даже скорее спартанского, а не полностью развитого афинского типа.Гоплиты и полисы
Развитие гоплитов[63] прошло два основных этапа: первый в основном касался оружия, а второй — тактики. К концу VIII в. поставка металлов, успех и форма крестьянской экономики привели к военному прорыву. Федеративная армия аристократических защитников-воителей была заменена сплоченной, тяжеловооруженной пехотной армией. Каждый ратник отныне получал стандартное обмундирование, состоявшее из бронзовых поножей (защиты ног) и лат, тяжелого бронзового шлема, тяжелого деревянного круглого щита, длинного копья с железным наконечником и короткого колющего железного меча, что означало «гоплит» (hoplite) — тяжеловооруженный. Все это снаряжение было отчасти заимствовано. Шлем и, вероятно, щит могли восходить к ранним ассирийским моделям (Геродот утверждал, что кари Малой Азии были теми, кто их принес). Но греки модифицировали их. Шлем стал более тяжелым и закрытым. Т-образное отверстие предназначалось для глаз и рта. Слышимость была затруднена, и оставался только прямой обзор. Подобным образом щит, закрывавший всю кисть и предплечье, стал шире, тяжелее и менее мобильным. К концу VI в. тяжесть военного снаряжения гоплитов достигла максимума. Ассирийская пехота не могла воспользоваться большей частью этих изобретений. Идя свободным строем, подразумевавшим сражение один на один, ассирийскому пехотинцу была необходима как защитная броня, так и мобильность. Если к остальному его снаряжению добавить поножи (греческое изобретение), то отдельно взятый ассирийский пехотинец стал бы легкой добычей для любого легковооруженного мобильного крестьянина, вооруженного копьем с металлическим наконечником. Таким образом, секрет успеха гоплитов заключался не в снаряжении и не в индивидуальных качествах самих солдат. Залогом успеха была коллективная тактика, освоенная в ходе продолжительных тренировок. На протяжении трех лет молодые юноши ежедневно упражнялись в тактике фаланги. В тренировках, а также, вероятно, в боях щит становился коллективным средством защиты. Он закрывал левую сторону самого гоплита и правую сторону его боевого товарища слева — взаимозависимая защита жизни. Фукидид ярко описывал отличительные черты, присущие тактике фаланг: Все армии были в этом похожи: они испытывали давление на правый фланг при переходе в действие, и обе стороны выходили за пределы соседнего левого крыла своим правым, поскольку страх заставлял каждого прикрывать свою незащищенную часть, насколько это возможно, за щитом человека справа от него. Следовательно, чем плотнее сомкнуты щиты, тем лучше защита. Самым ответственным за эту сплоченность был первый человек с правого крыла, который всегда пытался обезопасить от врага свое незащищенное тело; остальные следовали за ним, поскольку испытывали подобный страх [Thucydides, 1910. Book V. 71]. Эта тактика предполагала высокую лояльность группы бойцов к фаланге — необыкновенное физическое усиление социальных отношений возникавших полисов. Фаланга состояла из примерно восьми шеренг различной длины, она насчитывала сотни или даже тысячу человек. Доспех требовал умеренного изобилия, и в отсутствие могущественной государственной элиты средние и наиболее состоятельные крестьяне становились гоплитами — от Уэ до Уз самых состоятельных взрослых мужчин. Такая широкая квалификация по уровню благосостояния, а не узкая по праву рождения была революционной. Это вытолкнуло военную формацию и богатое крестьянство на территориально организованную рыночную площадь, подальше от родовых организаций, в огромную концентрацию локальной коллективной власти —гражданство. Противоречивым было мнение классиков о том, являлись ли гоплиты в действительности революционной силой. Они обращаются в основном к влиянию гоплитов на борьбу за монархическое, аристократическое, тираническое и демократическое устройство в VII и VI вв. до н. э. (Sondgrass 196; Cartledge 1977; Salmon 1977). Но это противоречие преобладает по причине имплицитного использования модели унитарного общества. Споры о гоплитах предполагали, что конституционная борьба разворачивалась в уже существовавшем «обществе», городе-государстве. Тем не менее борьба велась по поводу того, какое пространство должно занимать общество и как оно должно управляться. Должна ли политическая единица быть интенсивным территориальным полисом или более экстенсивной родовой, возможно, отчасти «племенной» федеративной единицей? Первая из альтернатив, согласно которой государство становилось более могущественным, одержала победу, и это способствовало росту «демократии» богатства, поскольку богатство в возрастающей степени было организовано на рыночных площадях. Вторая альтернатива — традиционное аристократическое решение — выжила в северных и центральных государствах. Греки называли это ethnos — «народ». В этом выборе также воплотились две другие конституционные формы. Традиционное единоличное правление — монархия сопровождала традиционную аристократию. Нетрадиционное единоличное правление — тирания возобладала лишь с появлением интенсивно организованной территории. Поэтому основной выбор был между аристократическим/монархическим федеральным ethnos и тираническим или демократическим городом-государством или полисом. Временный триумф тирании и долговременный триумф демократии были революционными, но они касались пространственной организации греческого общества в той же степени, что и его классовых структур. Демократия, которую мы рассматриваем как одно из величайших греческих достижений, не может быть выделена без отсылки к усилению территориальности, которая была общей и для рыночной площади, и для фаланги гоплитов. Позднее в этой главе я остановлюсь на классовой борьбе, созданной этим совпадением конституции (устройства) и территории. Таким образом, основной вклад фаланги заключался в усилении приверженности крестьян к конституционно-территориальному городу-государству. Для гоплита, вовлеченного в локальную экономику, политические обязательства перед его товарищами были так же важны, как его щит и меч. Тиртей из Спарты объяснял это, когда отклонял традиционные понятия добродетели — силы, красоты, богатства, происхождения, ораторского искусства. Он утверждал: Эти добродетели — наилучшее из того, чем может обладать мужчина, благороднейшая цель, к которой может стремится молодой юноша. Общее благо для города и для всех людей, когда мужчина твердо стоит и остается непреклонным в первых рядах и забывает обо всех мыслях позорного бегства от противника, очерняющих его дух и сердце, и словами подбадривает человека, стоящего за ним. Такой мужчина хорош в войне [цит. по: Murray 1980: 128–129]. Добродетели были социальными или, точнее, политическими, то есть проистекавшими из полиса. Ассирийская пехота, а также солдаты более широких, разделенных на классы территориальных империй или солдаты аристократическо-феодальных государств такими добродетелями не обладали. Эти добродетели были либо профессиональными компетенциями, либо аристократической честью, источником которых был опыт людей. Указанные выше государства не могли рассчитывать вывести на поле боя хотя бы третью часть взрослого мужского населения. Греческая армия гоплитов была армией нового типа, результатом организации свободных крестьян железного века в небольшие территориальные государства, которые располагались по соседству с изначально более цивилизованным и экстенсивным авторитетным миром. Между около 750 и 650 гг. до н. э. общинная, эгалитарная и процветавшая греческая локальность, организованная как территориальная рыночная площадь и испытывавшая распространение военных техник с Ближнего Востока, одновременно создала формы города-государства и фаланги гоплитов. Эти две формы были взаимосвязанными и взаимно подкреплявшимися. Как и всякое эффективное военное образование, армия гоплитов воспроизводила свою форму боевого духа. Приверженность к «общественному благу для города и всех людей» была не просто основой нормативной диспозиции, но интегральной частью боевого построения, в которое были организованы солдаты. Если линия оказывалась пробитой, гоплиты становились незащищенными. Гоплит мог видеть только то, что находилось непосредственно перед ним, тяжелый щит оставлял его правую сторону открытой, а его скорость (чтобы спасаться бегством) была пренебрежительной малой. Своей жизнью и страхом смерти гоплит был обязан городу-государству вне зависимости от того, был ли он аристократом или состоятельным простолюдином. Город был его «клеткой» в той же степени, в какой он был его политическим освобождением. Вернант (Vernant and Naquet 1980: 19–44) утверждает, что полис был военной машиной, а также что правители распоряжались жизнью полиса. Война публично объявлялась (не было никаких неожиданных нападений) после того, как в дебаты в ассамблее были включены все граждане. Война была продолжением риторической борьбы в ассамблее, а также серьезной и кровавой, поскольку гоплиты, потерпевшие поражение, бежали крайне медленно. Греки экономили во время войны на поставках продовольствия и на саде. Гоплит (или его слуга) нес с собой трехдневный запас еды — это был максимальный период, на который хватало самоснабжения в древних военных походах. Они не разбивали походных лагерей, а также в целом не предпринимали никаких операций по осаде городов. В этом отношении Спарта представляет собой некоторое исключение. Ее заинтересованность в завоевании соседних территорий привела к более совершенной системе продовольственного снабжения и некоторым осадным приемам. Но война не ставила под удар сельскохозяйственную производительность. Отряд гоплитов мог быстро обнаружить противника и сразу же дать короткий, кровавый и часто решающий бой. Гоплиты защищали небольшую территорию и удерживали ее, но не захватывали близлежащие поселения или города, поскольку их взять было труднее. Последовавшее мирное соглашение закрепляло гегемонию одного государства над другим и часто устанавливало собственное политическое руководство над побежденными локальными клиентами. Таким образом, война также усиливала мультигосу-дарственную систему полисов. Заметное дипломатическое регулирование военных сражений уже существовало. Греция вновь была более чем одним единым полисом. Это была более широкая культура, которая осуществляла открытую регуляцию и легитимацию мультигосударственной системы. Но гоплиты не были всемогущими ни в том, что касалось войны, ни в их способности детерминировать социальную структуру. В бою ограничения в мобильности и способности к атаке были очевидными, и реакция на это не заставила себя долго ждать. Вероятно, в результате столкновений со слабо организованными греческими формациями — федеральными ethnos северных и центральных областей стала активнее использоваться кавалерия и легкая пехота — облегченный доспех. К персидскому вторжению (490 г- до н-э.) поножи были изъяты, латы из металлических стали кожаными и стегаными, а шлем был облегчен или заменен на более легкий головной убор. Но боевой порядок все еще оставался весьма тесным. Ширина промежутка составляла всего один метр Это давало больше возможностей для атаки. Персы были изумлены (как утверждают греки), когда тяжелая пехота обратила их в бегство. Концентрированные силы одерживали верх в том случае, если бой происходил в замкнутых пространствах. До изобретения современного седла (около 200 г. до н. э.) и в силу меньшего распространения стремени[64] кавалерия не была столь устрашающей. При столкновении с отрядом пехоты кавалерии приходилось сгонять пехоту ближе друг к другу, чтобы стрелки могли нанести ей больший урон. Греки положили конец этой тактике, превратив тесноту рядов в преимущество. Досовременный мир знал всего дюжину сравнимых по значимости военных инноваций: продовольственное снабжение Саргона, колесница, кавалерия с седлом и стременем, шведская фаланга пикинеров, огнестрельное оружие. Это были параллельные изобретения, которые изменили исход войн. Как только одна из держав получала их и восстанавливала равновесие, они тут же появлялись у другой. Но даже после Персидской войны лишь немногие на Ближнем Востоке перенимали опыт гоплитов. Три державы инкорпорировали фалангу: этруски, македонцы, имевшие частично греческое происхождение, и позднее римляне (а также, вероятно, миноритарная держава, имевшая частично греческое происхождение, — карийцы Малой Азии). Вероятно, это объясняется тем, что остальные державы в большинстве своем не могли сомкнуть щиты своих солдат — им не хватало, как грекам, социальной солидарности. Поэтому их приглашали в качестве военных наемников по всему Ближнему Востоку и Средиземноморью. Греки оставались греками вне зависимости от того, сражались они за фараона Псаметиха II или захватывали Иерусалим для Навуходоносора II из Вавилона. Они по-прежнему обладали боевым духом, чтобы смыкать щиты; кроме того, Греция представляла собой не отдельный полис, поскольку ее боевой дух существовал также в восточных пустынях, среди солдат, рекрутируемых из различных полисов. Организация гоплитов не могла детерминировать устройство полиса хотя бы потому, что это была не более чем просто организация. Фаланга не обладала большой внутренней командной структурой (за исключением отрядов Спарты и Фив). Более того, армия в целом состояла из нескольких фаланг; гоплиты нуждались в сопровождении слуг; в состав армии также входило равное количество более легковооруженных солдат. Определенная форма центральной командной структуры была необходима в силу других аспектов организации полиса. Военное руководство было первой обязанностью аристократии. Там, где царство и аристократия существовали, как в Спарте, укрепление связей между царем, знатью и гоплитами могло вести к интенсивной, контролируемой, олигархической и тем не менее эгалитарной форме дисциплины, которая стала известна всему миру как спартанство. В других полисах цивилизация принимала другую форму союза между классом гоплитов и тиранами — деспотическими узурпаторами, которые захватили контроль над рядом государств в середине VII в. до н. э. Но тираны не могли институционализировать свой контроль в рамках крестьянской экономики. Власть тирана покоилась на узкой базе военного лидерства и умелой политике стравливания различных фракций между собой. Когда тирания исчезала, повсеместно вновь укреплялась демократия гоплитов. Если военная власть превосходила прочие в городе-государстве, то милитаристическая Спарта была ее основным типом. Это справедливо даже для ранней демократической стадии — вплоть до 500 г. до н. э. Все совершеннолетние мужчины Спарты были гоплитами, обладали равным количеством земли (в дополнение к тому, что они унаследовали) и правом участвовать в ассамблеях, хотя это право сосуществовало с определенной долей олигархии и аристократии. Наиболее эффективная греческая армия гоплитов из когда-либо известных использовала свою власть в VI в., чтобы помочь выдворить тиранов из других городов-государств и установить демократию гоплитов спартанского типа, называемую евномией (eunomia). Это понятие, обозначающее «хороший порядок», объединяет в себе сильную коллективную дисциплину и равенство. Комбинация равенства и контроля демонстрировала ограничения военных сил гоплитов как формы коллективной организации. Она была по сути ориентированной внутрь себя. Спарта вплоть до поздних периодов была относительно не заинтересована во внешней торговле и основании колоний. Важность морали подчеркивала различие между спартанцами и чужаками: только небольшая армия могла быть обеспечена всем необходимым и только местные территории могли быть завоеваны. Спарта рассматривала завоеванные ею народы как источник рабской силы, полезные вспомогательные иностранные войска, но никогда не включала их в число граждан. Полноценно развитый полис V в. до н. э. отличался открытостью, которой была лишена Спарта. Прототипом этого были Афины, которые объединяли внутригрупповую лояльность с большей открытостью, в широком смысле отождествляя и то и другое с Грецией и «человечеством в целом». Мы не можем вывести подобную открытость из армии гоплитов, которая усиливала лишь маленькие города-государства. Так чему же было обязано появление этих идентичностей? Давайте начнем с самого понятия «Греция».ЭЛЛАДА: ЯЗЫК, ПИСЬМЕННОСТЬ И МОРСКАЯ ВЛАСТЬ
Вопреки ожесточенности внутриполитической борьбы греки обладали общей идентичностью. Понятие «Эллада», изначально обозначавшее определенную местность, стало термином для обозначения этого единства. Греки верили, что происходили из общего этнического корня. У нас нет средств, чтобы удостовериться, так ли это было на самом деле. Их основным доказательством был язык. Ко времени достижения грамотности элит — в VIII и VII вв. до н. э. у них была правдоподобная история о едином языке, разделившемся на четыре основных диалекта. С тех пор они были единым лингвистическим «народом». Но не следует принимать эту непоколебимую этничность как изначально данную. Например, различие диалектов не совпадало с политическими границами. Лингвистические изменения — откалывание и объединение — иногда происходили намного стремительнее. Если греки обладали общим лингвистическим происхождением, почему это единообразие пережило их широкое рассредоточение в течение нескольких столетий до грамотности? Ответ часто дается в терминах греческой идеологии — единство греческой религии, особенно синтезированной Гомером, и такие общие институты, как Дельфийский оракул, Олимпийские игры и театр. К сожалению, это еще раз демонстрирует актуальность самого вопроса. Греческие боги и ритуалы были установлены к 750 г. до н. э.; нам известно, что они не были «оригинальными», но мы мало знаем об их возникновении и распространении. Мы предполагаем, что ключевую роль в этом сыграли ионийские (или эолио-ионийские) греки Малой Азии, вероятной родины Гомера и Гесиода. Мы можем гипотетически предположить почему. Эта область обладала удачным расположением для того, чтобы объединить индоевропейских богов микенской цивилизации, богов плодородия местного происхождения из примитивных религий и мистические культы и церемониал Ближнего Востока. Подобный составной характер выражает суть греческой религии и ритуала. Но почему этот сплав распространился по всему греческому миру, вместо того чтобы разделить его на восточный и западный? Большинство ответов, несомненно, должно заключаться в море. Здесь я кратко изложу морской эквивалент анализа сухопутной транспортной логистики, проделанного в главе 5. Учитывая превосходство морского транспорта над сухопутным, греки могли только казаться географически рассеянными. Давайте немного «поиграем» с географией, изменив контурные карты таким образом, что море станет сушей. Тогда пелопонесское побережье, Эгейские острова, колонии в Малой Азии и на Черном море, Крит, Кипр, Сицилия, а также южные итальянские колонии становятся приозерными и прибрежными областями большого острова, северную часть которого занимает Греция (а южную — Финикия). Благодаря железным дорогам и моторным транспортным средствам наш современный разум способен осмыслить единство греческого мира, который возник, как только железный век стал стимулом средиземноморской торговли и финикицы усовершенствовали существовавшие на тот момент морские суда. Большая часть торговли осуществлялась по морю. То же самое было верно и для миграции. Это было важно относительно Греции, поскольку проблема демографического роста населения могла быть решена благодаря миграции за море. Продовольствие могло доставляться на большие расстояния на галерах, а военная мощь греческой пехоты означала, что они могли создавать маленькие колониальные форпосты практически повсеместно в Средиземноморье и на Черном море, не закрытые для них финикийской морской силой. Греки основали около тысячи подобных городов-государств в период 750-550 гг- до н э. Не следует преувеличивать степени их интеграции и контроля над ними. Логистика все еще оставалась затрудненной. Воображаемая замена земли и моря на карте в этом отношении вводит нас в заблуждение. Современную сушу легче политически интегрировать, чем античную прибрежную линию. Колонии были практически автономны от своих метрополий между октябрем и апрелем, когда навигация между государствами была затруднена, а штормы не давали возможности положиться на море (и так было в течение последующих 2000 лет). Военные галеры преодолевали около 50 миль в день, а дистанции, которые могли преодолеть торговцы, больше зависели от того, был ли ветер попутным. Как правило, прямо через море никто не плавал. По навигационным и продовольственным причинам лучше было двигаться вдоль островов, огибая побережья и острова, заходя в порты и перевалочные пункты. Трамповое судоходство (newosxu) — современный морской термин, который очень хорошо передает это курсирование ограниченного диапазона в качестве потенциального инструмента морского контроля[65]. В каждом порту можно было пополнить запасы и обменяться товарами. Все начинали путешествие с таким большим количеством товаров, насколько было можно, в надежде нажиться на разнице в ценах между полисами на всем пути. Действительно, если они грузились на борт самой быстрой галеры, то обладали большими возможностями для наживы. Модель трампинга демонстрирует, что прямая коммуникация и контроль между, скажем, Афинами и ее колониальными городами были ослаблены серией других коммуникаций с портами и городам и-государствами, большинство из которых также были их колониями. Наконец, в силу того что Греция была дипломатически стабилизированной мультигосударственной организацией, в которой ни один полис не обладал достаточным количеством ресурсов, чтобы захватить остальные, головному городу-государству также не хватало ресурсов, чтобы вновь подчинить взбунтовавшуюся колонию. Когда век спустя римляне вышли в море, уже господствуя над территорией Италии, они смогли объединить сухопутный и морской империализм, но для греков эта задача была недостижимой. Они и не пытались: каждая колония управлялась самостоятельно; она могла получать снабжение и большее количество иммигрантов из головного города-государства, а в ответ предоставить особый статус торговли с головным городом-государством и от случая к случаю платить дань. Греческий «империализм», как и финикийский, был децентрализованным. Здесь не могло быть эффективного и единственного набора границ греческого мира, а рост флота, торговли и миграции лишь усиливал это. Политическая единица никогда не могла контролировать торговый и культурный обмен между греками, и открытость была встроена в греческий мир. Это ничем не отличалось от финикийского единства — распознаваемо общая культура, объединенная политической децентрализацией. Вероятно, около 700 г. до н. э. эти две сферы влияния совпадали. Но позднее греческая культурная интеграция распространилась намного дальше, внутри и между городами-государствами, и грамотность тому подтверждение. Греция была первой известной грамотной культурой в истории. Алфавит был заимствован из Финикии. Хотя греки добавили к нему гласные, они сделали это просто путем пересмотра финикийских согласных, которые в их собственном языке не использовались. Но революция состояла не в самой технике власти, а в ее широком распространении — до уровня средних граждан. Среди утверждений, которые Гуди и Ватт (Goody and Watt 1968) и Гуди (Goody 1968) выдвигают относительно греческой грамотности, самое сильное заключается в том, что она фиксирует и усиливает культурную идентичность. Эта была первая разделяемая различными классами стабилизирующая культура из исторически известных — разделяемая гражданами и их семьями, которые составляли примерно треть всего населения. Она также распространялась среди иностранных граждан, но предположительно не среди рабов. Почему распространение было столь широким? Вероятно, имел место двухэтапный процесс диффузии. На первом этапе грамотность распространилась из Финикии по торговым путям, вероятно, на южные малоазийские колонии, затем в течение десятилетий к самым крупным торговцам и самым богатым гражданам в каждом городе-государстве. Эта диффузия не была широкой. Список победителей Олимпийских игр начали вести с 776 г. до н. э., запись дат основания сицилийских колоний — в 734 г., список афинских магистратов — в 683 г. Важность морской торговли и открытости иностранному влиянию привели к тому, что Спарта, наиболее интровертивное и основанное на земле государство, стала отставать. По причинам, перечисленным в следующем разделе, это также отдало лидерство в грамотности восточным и центральным государствам, особенно Афинам. На втором этапе в указанной области Греции демократический полис не мог ограничивать грамотность исключительно олигархической элитой. Письменные законы стали преобладать в конце VII в. Учитывая относительную демократичность институтов политического гражданства, это свидетельствует о широком распространении грамотности. Это впечатление усиливается сохранившимися с VII в. инструкциями и упражнениями в алфавите, а также огромным количеством безграмотных записей или записей с ошибками. Вероятно, наиболее поразительной из сохранившихся является надпись на левой ноге статуи Рамсеса II в Египте, датируемая 569 г. до н. э. Проходящая группа греческих наемников, нанятых фараоном Псамметихом II, написала: Когда царь Псамметих пришел в Элефантину, это написали те, которые плыли с Псамметихом, сыном Феокла. Они продвинулись выше Керкия, насколько позволяла река. Иноязычными командовал По-тасимто, египтянами — Амасис. Это написали Архон, сын Гамэбиха, и Пелек, сын Евдама. Затем следовали шесть подписей в виде названий греческих городов, по большей части небольших, и коммерчески менее активных ионийских городов и городов без колоний. Наемники, по всей видимости, были бедными крестьянскими собственниками (или их младшими братьями). Это предполагает, что каждый средний гоплит владел грамотой в довольно ранние периоды (Murray 1980: 219–221). Институт остракизма (изгнания), существовавший в Афинах столетие спустя после нанесения надписей на ноге статуи Рамсеса II, предполагал грамотность граждан, то есть умение писать и читать, и это подтверждают археологические свидетельства тысяч письменных голосов за остракизм и т. п. Эти находки датируются периодом начиная с 480-х гг. до н. э. Примерно к тому же периоду относится упоминание о школах, в которых дети изучали буквы. Мы также обладаем письменными аллюзиями и народными пословицами, свидетельствовавшими о норме грамотности в семьях граждан, например пословицей, порицающей невежество: «Не умеешь читать — не можешь плавать» (в приморских-то государствах!). Афинская грамотность развилась раньше, чем спартанская. Харви (Harvey 1966) в исследовании свидетельств о грамотности предположил, что грамотность поощрялась демократией афинского типа. Мы можем увидеть это в письменных формах, которые оказали безусловное влияние на полис, — популярность диалогов и риторики. Но, как утверждает Страттон (Stratton 1980), неограниченная грамотность обычно способствовала развитию демократии путем «политических кризисов». Соблюдение требований грамотными людьми могло быть установлено и поддерживалось путем их объективации в письменных законах. Последние не могли основываться на традиционных нормах. Они требовали более формальной демократической политической организации. Другими словами, грамотность распространялась благодаря относительной открытости экстравертивных полисов афинского типа и одновременно усиливала их. Польза от грамотности в торговле, администрировании, усилении гражданской солидарности и демократии, вероятно, внесла свой вклад в возвышение Афин и падение Спарты. Но другие технологии также сыграли свою роль в этом сдвиге в балансе власти и доминирующей форме полиса.ГРЕЧЕСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ: КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ, МОРСКАЯ ВЛАСТЬ И РАБСТВО
Следующим этапом распространения греческой демократии была коммерциализация сельского хозяйства во второй половине VI в. до н. э. В этом разделе мы затронем сразу две темы: объединение греками пахотных земель и моря (самого прибыльного сельского хозяйства и самого дешевого транспорта) и преимущества географического положения Греции для развития монетарного обращения. В Греции, в отличие от Финикии, относительно богатые жители могли получать сельскохозяйственные излишки и собственными силами доставлять их на рынок. Цепи практики становились более жесткими, а классы, как мы убедимся, более могущественными. Землевладельцы также могли примерить на себя роль купцов в международной торговле или, выступая от лица коллектива полиса, навязать условия торговли иностранцам. Как коллектив, они могли обеспечить морскую власть для защиты купцов, а также регулирования условий торговли. Колониальная экспансия повышала торговые возможности и способствовала региональной специализации. Континентальные и островные города-государства наращивали производство двух конкретных продуктов: вина и оливкового масла, обмениваемых на зерновые с севера и из Египта, а также на товары роскоши с Востока. К этой торговле добавился обмен людьми — греческие наемники отправлялись на восток, рабы поступали из южных варварских земель. К тому же города-государства Малой Азии также имели стратегическое расположение для этой трехсторонней торговли, и вместе с полугреками Малой Азии они впервые развили техническое приспособление для этой трехсторонней торговли — монетарное обращение. К 550 до н. э. с заморской колониальной экспансией было покончено. Коммерциализация Греции шла полным ходом; в отличие от Финикии она не базировалась исключительно на торговле или даже торговле, дополненной ремесленным производством, поскольку полис объединял вместе (хотя и не воедино) сельскохозяйственных производителей, ремесленников и торговцев. Всевозможные проявления социальной напряженности в полисе происходили по причине производства огромного и неравно распределенного богатства. Тем не менее экономическая власть крестьянских собственников, уцелевшая благодаря выращиванию оливы и винограда, позволяла сохранять демократию. Коммерциализация также изменила военные требования. Растущая торговля требовала морской защиты, во-первых, от пиратов, финикийцев и персов; во-вторых, зачастую для установления сравнительно более благоприятных условий торговли. В 550 г. до н. э. Спарта все еще оставалась доминирующей сухопутной властью. Но города-государства, занимавшие восточные и северные границы, имели лучшее расположение для расширения коммерциализации, а некоторые, такие как Коринф, Эги-на, Афины на континенте, а также Хиос на побережье Эгейского моря Малой Азии, стали наращивать военно-морские силы. Афины, сохранявшие зависимость от импорта зерновых, были особенно заинтересованы в этом. Афинам также повезло в том, что на их небольшой территории располагались богатейшие залежи серебра. Благодаря им была возможной оплата развития военно-морских сил, а также производство монет. Это может послужить объяснением, почему именно Афины, а не Коринф, Эгина или даже Хиос в конце концов стали архетипом «классической Греции». Флот существенно повышал их власть. Но отношения между греческими полисами и морскими галерами были совсем не простыми. Когда Афины переживали свой подлинно демократический период — период первенства как морской власти, современники утверждали, что полис и галера были связаны. Например, ниже предложен памфлет «Старый Олигарх», написанный в 470-х гг.: Это справедливо, что обычные и бедные люди в Афинах должны обладать большей властью, чем знатные и богатые, поскольку именно обычные люди служат на флоте и приносят городу его могущество; они поставляют рулевых, боцманов, младших офицеров, дозорных и корабельных плотников; это именно те люди, которые делают город более могущественным, чем гоплиты, знать и респектабельные граждане [цит. по: Davies 1978:116]. Аристотель, подчеркивавший ту же связь, был более критичен в вопросе о том, как развитие больших галер приводит к власти «толпы гребцов»: гребцы «не должны быть внутренней частью гражданского тела» (Aristotle: Politics, V, iv, 8; vi, 6). Множество последующих авторов (включая Макса Вебера) обращались к изучению этого вопроса. Тем не менее здесь есть ряд проблем. Военно-морские суда Афин были такими же, как и суда финикийцев, которые не знали демократии. Римляне получили эту же форму галер, хотя отказались от демократии, с которой все начиналось. Финикийские гребцы обычно были свободными людьми, получавшими зарплату, но они не были активными участниками жизни полиса, поскольку этот институт был им не знаком. Римские гребцы изначально были свободными гражданами, однако затем превратились в рабов. Нет никакой непреложной связи между морской галерой и демократией. Вероятнее всего, в государствах, уже знакомых с гражданством и состоявших из морских народов, подобно Афинам, морская галера усилила дух демократии. В Афинах реформы Солона 593 г. до н. э. установили, кто обладал правом на гражданство, разделив общество на четыре имущественных класса в зависимости от количества бушелей зерна, которые каждый класс мог получить в год. Первые три получали 500, 300 и 200 бушелей на человека (последний — класс гоплитов), четвертый низший класс составляли феты — свободно рожденные бедняки. По всей видимости, в отличие от всех остальных классов феты не имели права занимать государственные должности, хотя обладали правом голоса в ассамблее. Феты составляли базис афинских галер. Их формальная конституционная власть никогда не повышалась, однако их влияние в ассамблее, по всей вероятности, росло отчасти в результате их вклада в военно-морской флот. Усиление полиса также проистекало из другой характеристики военно-морского флота — децентрализации командных структур по сравнению с командованием сухопутных армий. Отдельно взятый военный корабль был автономным, поскольку море представляло собой огромное неограниченное пространство. Во всех парусных флотилиях море подобным образом расстраивало централизованные командные структуры, сбивая корабли с курса в большинстве битв. Сначала необходимо было государство, способное к интеграции армии и флота, чтобы военно-морские силы могли оказать негативное влияние на децентрализованную демократию. Рим и Карфаген были единственными кандидатами, претендовавшими на существование подобного государства. Тем не менее по мере роста военно-морской флот создал еще одну угрозу автономии полиса. Человеческие ресурсы граждан истощались. Маленьким городам-государствам, построившим собственный флот, вскоре стало требоваться больше гребцов, чем могли предоставить граждане. Эгинцы отправили 30 трирем, (галер с тремя рядами весел) для битвы при Сала-мине в 480 г. до н. э., для которых было необходимо 6000 мужчин призывного возраста, хотя общее население острова Эгины в то время составляло всего 9000 человек. Фукидид рассказывает об интересных дипломатических переговорах, состоявшихся между Афинами и Коринфом в 432 г. до н. э. Коринф проводил политику, в соответствии с которой пытался выкупить афинских гребцов, которые, как утверждалось, все равно были наемниками. Перикл, участвовавший в переговорах со стороны Афин, утверждал, что Афины могут предоставить своим гребцам нечто большее, чем просто зарплаты. Они могли обеспечить безопасность труда и безопасность для домов гребцов в городе-государстве (на самом деле он угрожал гребцам, подчеркивая, что Афины могут отказать им в возможности вернуться на родину). Ондопускал, что большинство гребцов происходили из других греческих государств, за исключением рулевых и унтер-офицеров, которые были афинянами. Поэтому расширение военного флота несло с собой иерархию. Более крупные города-государства командовали гражданами более мелких государств: мульти государственная система давала сбои. Похожие изменения происходили и в сухопутных войсках: поскольку силы наемников возрастали, граждане бедных государств сражались как гоплиты-лшит/ (потомки свободнорожденных иностранцев) на стороне тех городов, которые были богаче. Так как рост ресурсов предполагал рост армий на поле боя, сами армии становились тактически более разнообразными. Фессалийская конница, скифские и фракийские лучники (все формы северных пограничных земель) координировались с гоплитами, повышая иерархию и централизацию. За все это приходилось платить. Афины использовали свою гегемонию для взимания дани с государств-клиентов. К 431 г. до н. э. этот источник генерировал больше доходов, чем внутренняя экономика Афин. В 450 г. права афинского гражданства были ужесточены, поэтому метеки не могли больше оставаться гражданами. С тех пор Афины политически эксплуатировали их государства-клиенты. Таким образом, рост коммерциализации и количества морских галер укреплял внутреннюю демократию, но повышал стратификацию и эксплуатацию между городами. Внутри Афин понятие свободы само по себе подразумевало навязывание господства одного города над другими (как над рабами). После вековой борьбы между аристократическими и демократическими фракциями триумф демократии был обеспечен Клисфеном. В 507 г. до н. э. он закрепил двухчастную структуру массового собрания всех граждан и исполнительного совета, 500 членов которого теперь при помощи жребия избирались из числа трех первых имущественных классов территориальных избирательных округов (демов). Афинское понятие для обозначения системы подверглось сходной демократизации: «eunomia» («хороший порядок») стала «isonomia» («равным порядком» или «равенством перед законом») и затем к 440-м гг. до н. э. — «demokratia» («властью народа»). На протяжении последующих 100 лет Афины были свидетелем, по всей вероятности, наиболее подлинной в мировой истории демократии — участия в управлении всех граждан (которые, разумеется, составляли меньшинство населения, поскольку женщины, рабы и иностранцы исключались из их числа). В ассамблее регулярно принимали участие более 6000 человек. Основной исполнительный орган — совет быстро обновлялся и избирался при помощи жребия. Каждое десятилетие от четверти до трети всех граждан в возрасте старше 30 лет принимали участие в его работе. Исегория (Isegoria) означала свободу речи не в современном негативном смысле как свобода от цензуры, а в активном смысле — право и обязанность гражданина высказывать свое мнение на собраниях по любому вопросу. Парламентер открывал собрание словами: «У кого есть хороший совет полису и пожелания?» Это, утверждал Тесей, и есть свобода (Finley 1983: 70–75,139), которая также подразумевала классовую борьбу, как мы увидим позднее в этой главе. И она, в свою очередь, зависела от афинского империализма. Империализм также распространял демократию за границу. К 420 г. до н. э. государства Эгины последовали примеру Афин и разработали сходные конституции, испытывая то же коммерческое и морское давление, а также давление афинских военных сил. Если мы рассмотрим каждый город-государство, то период конца V — начала IV в. до н. э. действительно был эрой демократии. Но это если исключить отношения между городами. Афинская гегемония основывалась на превосходящей коммерческой и военной силе, основой которых, в свою очередь, были богатство и мобилизация граждан. По успеху и внутренней демократичности афинское господство в Греции приближается к ближневосточному образцу контроля гегемонистских империй доминирования. Однако на пути подобного развития в данном случае лежали два основных препятствия. Наиболее очевидным из них была исходная геополитическая эластичность мульти государственной системы. Когда амбиции Афин проявились открыто, остальные государства оказали им успешное сопротивление в Пелопонесской войне 431–404 гг. до н. э. Противоречия между полисной демократией и «греческой» коллективной идентичностью никогда не разрешались внутренне. Это сохраняло открытой федеральную природу греческой социальной организации и в конечном итоге обеспечило ее конец под натиском военных вождей пограничий, которые не знали подобных противоречий. Второе препятствие на пути афинского империализма было более тонким. Оно касалось идеологии и того способа, которым греческие понятия культуры и разума в действительности содержали три понятия о том, чем было «общество», а оно было полисом, Элладой и даже более экстравертным понятием человечества. Поэтому греческая идеология была сложной и крайне противоречивой. Принципиальное противоречие, которое сразу же бросается в глаза современному наблюдателю, заключается в том, что одним из основных институтов греческой цивилизации было рабство. Поэтому давайте рассмотрим греческие концепции человечества и рабства.КУЛЬТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА
Культурное различие между греческими и финикийскими городами-государствами проявилось к VI в. до н. э. До тех пор, насколько нам известно, Финикия оставалась ближе к ближневосточной религиозной ортодоксии: природные процессы зависели в большей степени от сверхчеловеческих божеств. Возможно, из-за отсутствия всемогущего государства Финикия не имитировала египетские или шумерские теократические догматы. Но их основные божества Ваал, Мелькарт и Астарт (божество плодородия) были определенно «ханаанскими» и общими для всего Ближневосточного региона. Их имена изменялись по мере продвижения финикийцев на запад и включения эллинистических религиозных культов, но общий характер религии оставался традиционным. Однако изменения, произошедшие в греческих ионийских государствах Малой Азии, привели к радикальному разрыву греческой культуры в целом с этой идеологией. Скептицизм по отношению к греческой религии появляется в работах писателя Гекатея, который утверждал, что греческая мифология смешна, и Ксенофана, которому принадлежит известное высказывание: «Если бы быки могли рисовать картины, то их боги изображались бы похожими на быков». Но три «материалиста» из Милета, по всей видимости, были наиболее выдающимися. В 585 г. до н. э. Фалес стал известен благодаря точному предсказанию солнечного затмения. Это следовало из его общего научного подхода: объяснять Вселенную в терминах природы, а не в терминах сверхъестественного, «законов природы». Фалес утверждал, что исходным составляющим материи была вода, но у нас практически нет сведений о том, как он развил эту идею. Сама по себе эта идея ничем не отличается от, скажем, шумерских верований, согласно которым исходным началом материи был ил. Но затем Фалес выстроил на основе этого полностью «естественное» объяснение, вместо того чтобы вводить в него богов и героев. Нам известно больше о теоретических построениях его последователя Анаксимандра, который отошел от объяснения в терминах феноменологических объектов мира путем приписывания законов взаимодействию ряда абстрактных качеств материи, например тепла и холода, влажности и сухости и т. п. Их комбинации создавали землю, воду, воздух и огонь. Анаксимен, развивший эти идеи, считал воздух, а не воду прародителем всего. Воздух превращался путем конденсации в ветер, облака, воду и камень и путем разжижения — в огонь. Вклад трех мыслителей заключался не столько в их заключениях, сколько в методологии: истина в последней инстанции может быть открыта путем применения человеческого разума к природе самой по себе. Ничего, кроме этого, не требовалось. Это сродни тому, что мы называем наукой в наши дни. Существует масса предположений относительно того, почему философская мысль разворачивается изначально в Малой Азии и в Милете. Вероятно, три наиболее популярных объяснения необходимо объединить. Первое объяснение: греческий полис породил представление о том, что обыкновенный человек может контролировать свой мир. В конце концов это было объективно верным и следовало всего лишь как обобщение из утверждения о том, что индивидуальный человеческий разум способен понять космос. Это было обобщение того же рода, что и египетские представления о божественности фараона, поскольку объективно фараон действительно гарантировал порядок. Второе объяснение: почему Милет? Милет был хотя и богатым, но не самым стабильным полисом VI в. до н. э. Он прошел через ряд политических классовых конфликтов. Именно это, как иногда утверждают, и было отражено в теориях материалистов: мир — это равновесие между двумя борющимися силами. Противоречия или антиномии и есть «импульс», дыхание жизни в мире и даже божество, поскольку человеческий разум в конечном итоге не может преодолеть их. Таким образом, место для религии остается благодаря второму фактору — классовой борьбе. Третье объяснение: почему Малая Азия? Стратегическое положение Малой Азии между Азией и Европой служит ответом. Греческое натуралистическое искусство, инновативное и визуально приятное для западных потомков, было, вероятно, слиянием греческого желания отразить человеческие истории в искусстве (в ранний «геометрический» период) и восточной традиции изображать животных и растения натуралистическим образом (например, удивительно гибкие львы на ассирийской скульптуре). Результатом было высокохудожественное выражение уверенности в телесных возможностях, особенно человеческого тела. Интеллектуальное выражение уверенности в разуме могло иметь сходные причины. Для пущей уверенности необходима большая точность относительно места и времени. Имело ли место в этот период восточное влияние, включая персидский монотеизм, то есть зороастризм или его предшествующие монотеистические религии, как это было позднее во время завоеваний персидского царя Дария в 521 г. до н. э.? К сожалению, мы не знаем. Наиболее правдоподобным предположением является то, что традиционные политеистические, культовые, сверхъестественные ближневосточные религии начали дезинтегрироваться в более развитых областях (Персии, Лидии, Фригии) и что их могли сменить изыскания гуманистической философии греческих городов-государств в Малой Азии[66]. Методология ионийской школы быстро распространилась по всему греческому миру. Она раскололась между теми, кто полагал, что эмпирическое наблюдение было ключом к знанию, и теми, кто, как Пифагор, настаивал на математическом и дедуктивном мышлении. Но вера в человеческий разум и диалог, а также исключение из объяснений сверхъестественного оставались характерными для греческой философии (хотя, как мы увидим в главе ю, безличная концепция «божества» вернулась в греческую мысль). Кроме того, хотя философия была эзотерической и элитарной практикой, важная роль фактов может быть обнаружена и в большинстве аспектов греческих письменных произведений: в господстве функциональной прозы над поэзией и мифом, в строгом и тщательном анализе, а также в отсутствии дистанции в театре, например, между миром богов и человеческим миром. Греческая письменность в большей мере старалась передать опыт, чем сохранить «священные традиции». Это была противоречивая эпоха. Я не хочу быть похожим на тех викторианских классиков, которые считали, что греки были в точности, «как мы с вами», верны современной научной цивилизации. Их представление о науке отличалось от нашего. Они придавали большую роль божественному и подчеркивали скорее статические, чем динамические законы. Греческой культуре недоставало того, что Вебер назвал «рациональной неугомонностью», которую приписывал христианству и особенно пуританизму. Другие критики греческого разума идут дальше. Например, Доддс (Dodds 1951) утверждал, что приверженность рационализму действительно широко распространилась в IV в. до н. э. и затем постепенно отступила перед лицом возрождения народной магии. Эта оценка выглядит экстремальной. Тем не менее необходимо признать, что понятие разума содержит противоречия. Два наиболее важных и отрезвляющих противоречия представлены классом и этничностью. Все ли классы и народы были разумными? Или же разумными были только граждане и греки? ОБЛАДАЛИ ЛИ РАБЫ И ПЕРСЫ РАЗУМОМ? Как и большинство завоевателей, греки темных веков обращали покоренных туземцев в рабство или превращали в слуг. Как и везде, это прикрепляло рабов к определенным участкам земли или типам работ. Браки между свободными и рабами и ассимиляция умножали полусвободные статусы (в случае Греции — «полу-гражданские» права). Порабощение путем завоевания не могло долго поддерживать отчетливо этническую дискриминацию. Но в VI в. до н. э. коммерциализация расширила небольшое рабское население подневольными слугами (chattel slaves), которые покупались и которыми распоряжались как сырьевыми товарами, поскольку они не были связаны с фиксированными участками земли или работами и были полностью предоставлены в распоряжение своим хозяевам. Большинство из них были родом из северных областей Фракии, Иллирии, Скифии и, по всей вероятности, были проданы местными вождествами. К классическим аспектам рабства я вернусь далее в этой главе. Здесь же я намерен описать то, как оно усиливало представления греков об их превосходстве над другими. Но мы должны различать группы, с которыми контактировали греки. Народы с севера были менее цивилизованными и неграмотными. Уничижительный термин варвары (barbarian), означающий отсутствие вразумительной речи и разума, появился именно оттуда. Но даже варвары рассматривались как партнеры в социальном общении. Они были порабощены, но греческое оправдание рабства было непоследовательным. Имела место конкуренция двух концепций. Первая концепция оправдывала рабство в терминах врожденного отсутствия у порабощенных людей разума, как считал, например, Аристотель. Это было лучшим средством примирения полезности рабства с тем особым значением, которое греки придавали достоинству человеческого разума. Кроме того, оно также согласовывалось с греческим отвращением к порабощению других греков (которое, однако, время от времени имело место). Вероятно, только греки обладали разумом. Согласно второй концепции, рабство также могло быть оправдано более утилитарным образом — как всего лишь неизбежный результат военного поражения или тому подобного злоключения. На самом деле мы, по всей видимости, более заинтересованы в моральном оправдании рабства, чем греки. Мы находим рабство чрезвычайно противоестественным и, как правило, ждем морализаторства в его оправдание. Расизм, казалось бы, отвечает всем требованиям, но расизм — это современное, а не античное понятие. Рабство в Древнем мире не требовало особого обоснования. Оно в небольшом количестве было обнаружено повсюду, где происходили завоевания, и в больших количествах тем, где оно было результатом коммерциализации. Но оно было удобным и, вероятно, не имело под собой больших проблем. Восстания рабов были редкими. Греческие установки по отношению к рабству были практическими. Корнем современного непонимания этого является наша практическая рутинная ориентация на свободный труд, который мы рассматриваем как очевидную разновидность форм труда. Тем не менее в Древнем мире «свободный» труд был редким явлением и в любом случае не мог рассматриваться как свободный. Грек не работал на грека, если он не был метеком или не состоял в долговой кабале, в любом из этих случаев труд не был свободным. «Условием свободы человека выступает то, что он живет не для того, чтобы приносить выгоду другому», — утверждает Аристотель в «Риторике» (Aristotle Rhetoric 1926: I, 9). Тем не менее, чтобы одни могли быть свободными, другие должны работать на них в рамках рабства, служения или политически регулируемой зависимости. В античные времена это представлялось неизбежной правдой жизни. Более того, есть народы, которые невозможно включить в картину мира высших и низших народов. Относительно финикийцев (и, разумеется, этрусков Италии) греки говорят немного, что гораздо любопытнее, поскольку эти народы едва ли могут быть заподозрены в отсутствии разума. То же относится и к цивилизованным народам Востока. Персов часто рассматривают как варваров, но как быть с достижениями их цивилизации? Аристотель констатировал, что они не испытывали недо-стастатка в мастерстве и разумности. Они были несовершенны по духу, писал он в «Политике» (Aristotle Politics 1948: VII, vii, 2). И действительно, большинство греков утверждали, что народам Востока недостает духа независимости и что они не любят свободу так, как любят ее греки. Тем не менее греки не довольствовались подобным стереотипом. Как же тогда их города могли признать сюзеренитет Персии? Они ассимилировали много ценностей с Востока, и для этого им были необходимы пытливые, скептические и открытые установки. Никто не может служить лучшим примером этого, чем Геродот, писавший около 430 г. до н. э. Он основывался на дотошных расспросах их местных жрецов и служащих в Персии. Позвольте мне привести его известную историю о Дарии Персидском. Когда он был царем Персии, он собрал всех греков, которые в то время были при его дворе, и спросил их, что они хотят за то, чтобы съесть мертвые тела своих отцов. Они ответили, что не сделали бы этого даже за все деньги в мире. Позднее в присутствии греков и через переводчика, так, чтобы они могли понять, о чем идет речь, он попросил индийцев из племени каллаты, которые действительно поедали тела своих умерших родителей, чего они хотят, чтобы сжигать тела (как было принято у греков). С криками ужаса они умоляли царя даже не произносить вслух такие ужасные вещи. На этом примере можно убедиться, насколько сильна власть обычая, и Пиндар, по моему мнению, был прав, назвав его «царем всего» [Herodotus 1972: 219–220]. Геродот — образованный путешественник — в данном случае симпатизирует Дарию, а не с провинциальны грекам, поскольку находит персидский цивилизационный релятивизм близким по духу. Разумеется, его портрет Дария вызывает не только симпатию: Дарий — великодушный, интеллигентный, толерантный, честный и почитаемый, это также те качества, которые присущи персидским правителям в целом. Эта симпатия переживает эпическую борьбу между Грецией и Персией, в которой, позвольте заметить, Геродот был полностью на стороне греков. Трудно быть уверенным относительно мнения греков о персах в рамках Персидской войны — едва ли вообще существовало унифицированное мнение. Этот конфликт был столкновением империализмов. Экспансия Персидской империи точно совпала с периодом возглавляемой Афинами коммерческой и военно-морской экспансии Греции. В 545 г. до н. э. персидский царь Кир Великий принудил города-государства Малой Азии к капитуляции; в 512 г. до н. э. Дарий завоевал Фракию; в 490 г. до н. э. Дарий впервые вторгся в континентальную Грецию, но был отброшен при Марафоне; в 480 г. до н. э. второе вторжение Ксеркса было отброшено на земле и на море; наиболее известны сражения у Фермопил и Саламина. Одновременно завершилась неудачей атака карфагенян на Сицилию. Это положило конец основной угрозе и обезопасило гегемонию Афин. Но как много империализма на самом деле было в этой войне? Даже в разгар войны большинство греков сражались на стороне Персии. Тактика персидского наступления весьма показательна в этом отношении. Поскольку персы продвигались на запад по суше, они получали представление о греческих государствах в обычной для древних сражений переговорной манере. Греки обычно испытывали страх перед персидскими силами. Соответственно, персы тут же получали от них отряды солдат и корабли и продолжали свой военный поход. Легкость, с которой персы инкорпорировали их в свою армию, свидетельствует о том, что персидское господство не было тяжелым и особенно ненавистным для греков, что греки готовы были сражаться за кого угодно, лишь бы им платили, а также что империализм Афин и Спарты вызывал негодование. Фракия и Фивы охотно сражались на стороне персов, в то время как диссидентские фракции в Афинах обвиняли (вероятно, не без оснований) в проперсидских симпатиях. Возникало огромное количество интриг: одно государство отказывалось воевать под командованием Афин, другое — под командованием Спарты; обе стороны постоянно убеждали другие миноритарные греческие государства в необходимости дезертировать; афиняне пытались сделать так, чтобы персы перестали доверять своим греческим союзникам, подбрасывая персам фальшивые письма, адресованные им. Со стороны Греции солидарность между Афинами и Спартой была непоколебима. Все разногласия между ними исчезли перед общей угрозой их гегемонии над остальной частью Греции. Когда персидская угроза отступила, они стали сражаться друг с другом в ходе Пелопонесской войны и искать возможности союза с Персией. Греки реагировали на персов не в терминах их этнических стереотипов, а в терминах геополитических стратегий, которым они научились в рамках их собственной мультигосударствен-ной системы. Греческие граждане хотели самоуправления. Они не желали, чтобы ими правили персы, поэтому решили объединиться. Когда угроза со стороны Персии отступила, они проявили обеспокоенность о том, как избежать управления со стороны других греков. Они рассматривали Персию всего лишь как другое государство, правители которой обладали точно такой же лояльностью со стороны подданных и разумом, как это было в любом другом греческом полисе. В конечном итоге у греков не было достаточно последовательного чувства собственного превосходства. Они были слишком экстравертны, заинтересованы в характеристиках (мужского) человечества в целом, склонны проецировать вовне дипломатическую рациональность своей мультигосударственной системы. Но как обстояли дела с различными категориями людей внутри полиса, с классами, которые были сущностной частью греческого развития? До сих пор история трех сетей взаимодействия (полиса, Греции и человечества) была слишком мягкой и функционалистской. Рассмотрим классовую борьбу в качестве одной из важнейших составляющих частей этих трех сетей.КЛАСС В КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ
Классическая Греция — исторически первое общество, в котором мы можем отчетливо наблюдать классовую борьбу как устойчивую характеристику общественной жизни. Чтобы лучше это понять, можно провести различие между основными формами классовой структуры и классовой борьбы, которые можно обнаружить в человеческих обществах (это различие будет подробнее рассмотрено в томе 3). В самом широком смысле классы — это отношения экономического господства. Основным предметом социолога, исследующего классы, является не неравенство благ, а неравенство экономической власти, то есть способности людей контролировать свои жизненные шансы и жизненные шансы других через контроль за экономическими ресурсами — средствами производства, распределения и обмена. Неравенство в экономической власти существовало во всех известных нам цивилизованных обществах. Поскольку эти неравенства никогда не были полностью легитимированы, классовая борьба также была неизбежна, то есть борьба между иерархическими, «вертикально» ранжированными группами, обладавшими различным объемом экономической власти. Однако во многих обществах эта борьба оставалась на первом, латентном уровне и была лишена возможности принять какую-либо отчетливую организационную форму благодаря сосуществованию наряду с «вертикальными» классами «горизонтальных экономических» организаций, которые создавались семейными, клиентскими, племенными, локальными и прочими отношениями. Как мы уже убедились, такие «горизонтальные» отношения были характерны для позднего доисторического периода и в меньшей степени для периода самых первых цивилизаций, в которых по этой причине формирование классов оставалось на рудиментарном уровне. Хотя неклассовые горизонтальные организации продолжают существовать и в настоящее время, история свидетельствует об усилении классовых организаций за их счет. Это перемещает нас на второй уровень классовой организации — экстенсивные классы. Они существуют там, где вертикальные классовые отношения в пространственном отношении преобладают над горизонтальными организациями. Рост экстенсивных классов сам по себе был неравномерным, а потому на втором уровне мы можем провести два дополнительных различия. Экстенсивные классы могли быть одномерными, если существовал один доминирующий способ производства, распределения и обмена, или многомерными, если таковых было более одного (и они не могли быть полностью выражены друг через друга). Экстенсивные классы к тому же могли быть симметричными, если они обладали сходными организациями, или асимметричными, если таковыми обладал только один из них или лишь некоторые (обычно господствующий класс или классы). Наконец, третьим уровнем классового развития были политические классы, организованные для политической трансформации государства или политической защиты статус-кво. Это было менее вероятно в крайне многомерной структуре, но политическая организация опять же могла быть симметричной или асимметричной. В последнем случае только один класс, обычно правящий, мог быть политически организован. Это стало общим паттерном в империях доминирования, рассмотренных в главе 5, поскольку господствующие группы начали объединяться в экстенсивный организованный правящий класс, в то время как подчиненные группы, как правило, оставались организованными в горизонтальные группы, контролируемые правителями. Указанные различия в уровне классовой организации особенно полезны в случае классической Греции. Это первое из известных обществ, полностью достигшее третьего уровня классовой организации, демонстрирующее борьбу симметричных политических классов (хотя лишь в одном из двух измерений греческой классовой структуры)[67]. Классовые отношения не были преобладавшей формой отношений экономической власти в Греции. Две принципиально горизонтальные группировки сохраняли эффективное исключение огромного количества индивидов из классовой борьбы — я коротко охарактеризую каждую из них. Первой группировкой было патриархальное домохозяйство. Оно продолжало исключать из борьбы женщин (даже в большей степени, чем юношей, в некоторых городах-государствах), и, вероятно, некоторые мужчины были зависимы от более крупных и могущественных домохозяйств. Это препятствовало действительно независимому участию их в публичной жизни. Женщины были представлены в ней главой домохозяйства мужского пола. Разумеется, женщины не были гражданами, хотя если они были частью домохозяйства гражданина (или, более того, частью домохозяйства могущественного гражданина), то они принимали участие в относительно привилегированной жизни другим образом. Зависимые мужчины могли быть мобилизованы более могущественными гражданами как клиенты против движений граждан низших классов. Второй горизонтальной группировкой был местный город-государство сам по себе, который давал им привилегии за счет всех проживавших в нем «иностранцев». Если город-государство был небольшим и взаимодействие между городами — тесным, то в нем всегда присутствовало множество иностранных жителей. Ими были в основном другие греки, а также жители других «национальностей». Их также называли метеками, они были наделены политическими правами, которые представляли собой нечто среднее между правами граждан и правами их слуг и рабов. Поэтому внутри города-государства метеки составляли отдельный экстенсивный класс, но город-государство не всегда являлся наиболее подходящим предметом нашего анализа. Очевидно, граждане Афин, проживавшие в миноритарном городе-государстве, пользовались большей властью по сравнению с метеками из более скромных родных городов. Таким образом, как женщины, так и метеки предположительно разделялись по их общественному статусу. В результате лишь меньшая часть населения была непосредственно вовлечена в классовую борьбу, которая, как мы позже убедимся, в общем являлась исключением в истории. Но поскольку историю обычно творит меньшинство, нет необходимости сейчас концентрироваться на классах и классовой борьбе. Экстенсивная классовая структура в Греции была в основе своей двухуровневой. На первом уровне граждане обладали властью над негражданами, особенно над слугами и рабами. На втором уровне одни граждане обладали экономической властью над другими. Это отражает тот факт, что здесь имели место два основных способа производства — высокополити-зированные, но тем не менее различные. Первый способ — извлечение излишков свободными гражданами из производства с участием слуг или рабов; второй способ — менее прямое извлечение излишков более крупными землевладельцами-гражданами у более мелких землевладельцев-граждан. Второй способ не был отношением производства в узком смысле, но возникал из более широких цепей экономической власти, переплетенных с военной и политической властью. В таком стабильном и много повидавшем обществе, как классическая Греция, эти два способа производства были объединены в единую всеобщую экономику. К тому же на самом верху высший класс обоих уровней часто был интегрирован. Но на уровнях пониже все зачастую было наоборот, и потому мы должны исследовать два отдельных измерения экстенсивной классовой структуры. Между гражданами и рабами или слугами было качественное классовое различие. Рабы были собственностью, не обладали правом на землю или организацию и, как правило, были не греками (хотя и греки могли угодить в долговую кабалу). Граждане обладали эксклюзивным правом владения землей, а также правом на политическую организацию, к тому же они были греками и практически всегда сыновьями граждан. Хотя внутри групп рабов и граждан также существовали различия, различие между двумя группами было неизменным и его роль всегда велика. Количество рабов, вероятно, никогда не превышало количества граждан, аналогично производительность рабов не превышала производительности граждан, работавших на своих землях. Но, как отмечает де Сент-Круа, окончательной ясности в этой статистике не было. Рабы производили большую часть излишков, то есть часть продукции больше прожиточного минимума. Свободный наемный труд практически отсутствовал; граждане-греки не могли работать на других граждан; кроме того, ни наемных рабочих, ни метеков нельзя было эксплуатировать на бесконтрактной основе. Рабский труд вносил наибольший вклад в излишки, извлекаемые непосредственно у прямых производителей. Разумеется, непосредственное извлечение — это еще не вся история. Другой существенный источник излишков граждан был более косвенным, им было выгодное положение греческих городов в торговых отношениях, которое закреплялось военной и особенно военно-морской силой. Такая торговля обычно была отчасти «свободной» (и таким образом Греция получала выгоду от своих стратегических пограничных позиций, продажи вина и оливы, а также [афинского] серебра) и отчасти вооруженной торговлей. Оба аспекта тщательно регулировались полисом и гражданами. Тем не менее греческая цивилизация также сильно зависела от рабства и его излишков. Граждане хорошо это понимали. Современники, авторы исторических источников воспринимали рабство как, без сомнения, необходимую часть гражданской жизни. Поэтому по отношению к рабам граждане были политическим экстенсивным классом, полностью осознающим их общую позицию и необходимость защищать ее политические условия. Но гражданам редко приходилось делать это, поскольку рабы не были наделены сходным классовым сознанием. Рабы были завезены из различных областей и говорили на разных языках. Большинство из них были рассредоточены по отдельным домохозяйствам, мастерским и небольшим или среднего размера поместьям (за исключением серебряных шахт). Им не хватало способности к экстенсивной организации. Рабы могут быть рассмотрены абстрактно, то есть в марксистских терминах «объективности», как экстенсивный класс, но не как класс в организационном или политическом смысле (что так важно для социологии). Поэтому классовый уровень граждан-рабов не был симметричным. Граждане были организованы, рабы нет. Борьба была предположительно непрерывной, но скрытой. Она не попала в исторические свидетельства вопреки ее значимости для греческой жизни. Было исключение из этого правила — территориальный империализм спартанцев, которые поработили население Мессе-нии и Лаконии. Илоты[68] — прислужники, способные к объединению и местной организации, были постоянным источником восстаний. Это, по всей видимости, было также справедливым и для еще одного порабощенного народа — пенестов, которые были порабощены фессалийцами. Урок о том, что надо рекрутировать рабов из различных народов и препятствовать возникновению организации у них получил широкое отражение в греческих и римских источниках. Отсутствие организации у рабов также отделяло их от второго уровня классовой структуры, особенно от низших классов граждан. Последние были организованы на уровне полиса. Столкновение их основных интересов с интересами более могущественных классов граждан действительно приводило к напряжению политических усилий. Тем не менее их свобода, а также могущество полиса на самом деле зависели от рабов. Как отмечает Файнли (Finley 1960: 72), свобода и рабство развивались рука об руку. Таким образом, у союза двух крупнейших «низших классов» — рабов и низших свободных граждан было мало шансов. Подобным же образом было мало шансов у отношений между ними. У большинства низших граждан не было рабов. Их отношение к рабству было более опосредованным — признак существования двух отдельных классовых уровней в нижней части греческого общества. Рабы не были движущей силой истории, поскольку их труд с необходимостью принадлежал тем, кто ими владел. Их практики не учитывались. Напротив, даже низшие граждане обладали классовыми практиками. Обратившись ко второму классовому уровню, то есть уровням, внутри гражданского тела, мы будем иметь дело не с простым количественным разделением. Тем не менее это измерение не так уж трудно понять. Наши собственные либеральные капиталистические демократии не так уж сильно отличаются от полисов. Демократии объединяют формальное гражданское равенство с повсеместным разделением на классы. И как обладание капиталом дает нам некоторое приближение к любому качественному разделению в нашем обществе, так и обладание рабами в греческих полисах дает нам представление о разделении в греческом обществе. В Греции другие неравенства генерировались под действием таких факторов, как размер и доходность земельного владения, торговые возможности, принадлежность к аристократическому роду или прочие привилегии от рождения, удачный брак, а также военные и политические возможности. Полисы континентальной Греции с большим успехом противостояли равенствам по сравнению с полисами Малой Азии. Кроме того, и тем и другим полисам это удавалось в большей мере по сравнению с другими государствами Ближнего Востока (или исторически последовавшими государствами македонцев или римлян). Классовые неравенства также сделали узнаваемыми политические фракции: с одной стороны, демос, «рядовые» граждане, как правило не обладавшие рабами (или, возможно, одним-двумя), включая тех, которым грозил долг или процентное законодательство; посередине были сначала гоплиты, затем средние классы, которые Аристотель называл костяком полиса. С другой стороны, аристократы и крупные землевладельцы, способные при помощи рабов и опосредованной эксплуатации граждан избежать труда (и бывшие потому действительно свободными), а также мобилизовать зависящих от них клиентов. Все они сражались за процентное и долговое законодательство, пытались оказать влияние на перераспределение земли или общественного богатства города, на налоги и обязательства военной службы, получить доступ к выгодной торговле, колониальным предприятиям, государственным должностям и рабам. Поскольку большая часть труда и, соответственно, излишков проходила через государство и потому оно было демократией (или в другие времена демократия была достижимым идеалом для низших и средних классов), имела место высокополитизированная классовая борьба в отличие от современных обществ. Но в силу того что в то время была более активная и более милитаристическая форма гражданства по сравнению с современной нам формой, классовая борьба, следовательно, была более насильственной и очевидной. «Стазис» (stasis) — греческий термин для обозначения ожесточенной, насильственной, фракционной борьбы при наличии институтов, позволявших регулировать ее цели типа «все или ничего», такие как остракизм и колебание между основными формами конституционного устройства (Finley 1938). Мы можем последовать за этими приливами и отливами и их вкладом в развитие греческой цивилизации. При помощи гоплитов/средней руки фермеров победы в этой борьбе добилась вначале тирания, а затем верх над монархией и аристократией одержала демократия. Рост благосостояния, коммерциализации, рабовладений, флота и грамотности повышал силу демократии афинского типа и доверие к ней. Но он также привел к усилению экономико-классовых различий внутри и между полисами. К VI в. до н. э. процветание все в большей степени монополизировалось крупными землевладельцами. Вероятно, как мы можем предположить из предыдущих случаев, усиленные Грецией пограничные области Италии и Южной России положили конец греческим монополиям, развили сухопутные силы и привели к экономическому спаду в городах (как утверждают Ростовцев 1941 и Mosse 1962), в ходе которого выживали сильнейшие. В любом случае демократия была под давлением еще до нападения Македонии, и верхний класс мог оказать поддержку македонскому смертельному удару (coup de grace) в целях подавления революции у себя на родине. В Греции, особенно в Афинах, растущая, экстенсивная, симметричная политическая классовая борьба была ключевой составляющей греческой цивилизации. Достижения Греции на трех уровнях я суммирую в следующем разделе: мы увидим, как выдохлась диалектика классов. Во-первых, полисы были установлены после того, как аристократия и тирания были преодолены. Во-вторых, одно из наиболее распространенных чувств идентичности — быть греком, цивилизованным и рациональным — также, по всей видимости, зависело от этого демократического исхода. В-третьих, вероятно, наиболее широкая идентичность — представление о человеческом разуме как таковом — была неустойчивой и оспариваемой в этот период со стороны различных классов. Здесь уместно показать контраст между концепцией разума, которую демонстрировал Платон-представитель высшего класса, Аристотеля — защитника всего срединного и представителей демоса, о которых мы узнаем только от их оппонентов. Платон утверждал, что физический труд (от которого свободен лишь высший класс) способствует деградации разума. Аристотель считал, что сутью гражданства является моральная мудрость, которой торговцы и рабочие по большей части лишены, но которой обладают средние классы. В этом вопросе также уместна, хотя и более абстрактна, полемика о политическом значении арифметики или геометрии. Противники демократии утверждали, что арифметика была низшей, поскольку считали все числа равными, в то время как геометрическая пропорция признавала качественные различия между числами. Если соотношение между числами оставалось тем же, что и в геометрической шкале (например, 2, 4, 8, 16), качество рассматривалось как справедливо равное (Харви (Harvey 1965) излагает детали этой полемики). Критикуя этот пример, де Сент-Круа (Ste. Croix 1981: 414) действительно обосновывает свое убеждение в том, что классовая борьба пронизывала все в классической Греции. В своих крайностях классы могли ослаблять полис, но столетиями до этого они были существенной частью греческой цивилизации. И как мы убедимся в последующих главах, это наложило свой отпечаток — раскол между своего рода солидарностью высшего класса, которую представлял эллинизм, и более народными представлениями о разумности, повлиявшими на религии спасения. Начиная с этой секции, может создаться впечатление, что при рассмотрении классической Греции я стал марксистом. Я не делал акцента на классовой борьбе во всех предшествующих обществах. Но я придерживаюсь вывода, который сделал в заключении к главе 5. В силу отсутствий доказательств нельзя быть до конца уверенным, но представляется, что экстенсивная симметричная классовая борьба (будь то политическая или нет) не играла важной роли в диалектике ранних империй доминирования. Революция железного века в определенной степени увеличила могущество крестьян, предложив им экстенсивную подчиненную классовую идентичность и через нее классовую борьбу в этот определенный исторический период. «Цепи практик», то есть классовые отношения, сыграли роль «исторического путеукладчика». Этот исторический период, но не предшествующие возможно описать в марксистских терминах, поскольку они вполне ему соответствуют. Но здесь возникает вторая проблема с применением марксизма к древней истории. Одно дело — описать классы и путь их дальнейшего развития. И совсем другое — объяснить причины. Чтобы сделать это, нам необходимо отступить от нормального концептуального аппарата марксизма особенно в вопросе его применения к реалиям военной и политической власти наравне с экономической. Эмпирически Маркс и Энгельс готовы были на это пойти. Они отмечали важность военных сражений и милитаризма в вопросе рабства, распределения государственных земель, гражданства и классовой борьбы в древнем мире. В Grundrisse (Экономических рукописях 1857–1859 гг.) Маркс писал, что «в основе древнего мира лежало прямое силовое принуждение к труду» (Marx 1973: 245). Он знал, как часто такое принуждение заканчивалось порабощением или превращением в слуг покоренных народов. Его две альтернативные концепции того, что он называл «античным способомпроизводства», то есть присвоение через рабство и присвоение через гражданство, принимали во внимание милитаризм и политическое регулирование, игравшие важную роль. Действительно, как подробнее объяснено в томе 3, его общая теория настаивала на том, чтобы рассматривать милитаризм и войну как паразитические и непродуктивные. Я надеюсь, что в главе 5 мне удалось показать, что в случае ранних империй доминирования это было не так. Я также демонстрирую это на примере Греции: без военной организации гоплитов никаких полисов на основе равенства перед законом или равноправия не было бы, как не было бы никакой классовой борьбы в полном экстенсивном и политическом смысле этого слова. Без полисов и морского превосходства не было бы коммерческой монополии и рабовладельческой экономики. Без всего этого в комплексе греческая цивилизация не заслуживала ничего, кроме краткого упоминания. А без этого кто знает, как могла сложиться мировая история? Возможно, тогда мы могли бы стать потомками персидской сатрапии? Следует отметить, что де Сент-Круа (Ste. Croix 1982: 96–97) защищает материализм в терминах, отличающихся от тех, которые использовал Маркс. После частей, направленных против использования Вебером и Файнли понятия «статус» (пожалуй, самого пустого из социологических понятий, более прямую критику которого я намерен осуществить в томе 3), вместо понятия «класс» де Сент-Круа переключается на критику военных/политических теорий и делает это по двум причинам. Во-первых, он утверждает, что политическая власть — это всего лишь средство, при помощи которого институционализируются классовые различия. Они практически не обладают собственной автономной жизнью в Греции, постулирует он, политическая демократия (которую он рассматривает в качестве манифестации до определенной степени независимой политической жизни) пала, «до того как появилась основная экономическая ситуация, [которая], как обычно и бывает, утверждает себя в долгосрочной перспективе». Затем он объясняет, что демократия была разрушена классами собственников «при поддержке сначала их македонских сюзеренов и затем римских хозяев». Такая точка зрения уделяет слишком много внимания экономическим мотивам классов собственников, тогда как падение полиса было в той же степени военным процессом, в какой и экономическим (как мы сможем убедиться позднее), произошедшим до нашествия македонских и римских завоевателей. Во-вторых, де Сент-Круа отождествляет военную власть с завоеванием, чтобы отождествить отношения завоевания с распределением покоренных земель и богатства, и затем утверждает, что это было исключительным для истории явлением. Нелогичность этих заключений бросается в глаза; аргумент ложен. Организации военной и политической власти, не связанные с завоеванием, были необходимы для объяснения возвышения, зрелости и падения Греции. Я не намерен просто перефразировать Вебера в том, что касается замены одностороннего материализма подобного же рода односторонней военной/политической теорией. Разумеется, военные/политические формы обладали своими экономическими предпосылками. Но если милитаризм и государства могли быть продуктивными, то их результирующие формы могли выступать причинной детерминантой дальнейшего экономического развития и, следовательно, экономические формы также имели свои военные и политические условия. Мы должны изучать их взаимодействие, развивать понятия, которые в равной мере учитывают их роль, применять их к эмпирическим случаям и выявлять, какие возникают (и возникают ли) более широкие образцы взаимодействия. Такова моя методология в этой работе. Я сделаю обобщения об этих паттернах в заключении к тому 1 и в томе 3. В данный момент на этом специфическом примере Греции все выглядит так, как если бы военные и экономические отношения власти были изначально слитыми воедино. Поскольку мы не можем полностью разделить их, мы можем заключить, что эти отношения власти в их взаимодействии были необходимыми (а возможно, даже достаточными) предпосылками возникновения греческой цивилизации. Их взаимодействие было институционализировано в особой форме организации политической власти — маленьких полисах, составлявших мульти государственную систему, которая позднее, во времена зрелой Греции, также стала решающей автономной каузальной организующей силой. Наконец, идеологическая власть, дополненная инфраструктурой грамотности, также стала важной каузальной переменной наряду с теми, которые я описал выше. Все четыре идеально-типических источника социальной власти необходимы для разработки причинно-следственного объяснения вершины расцвета греческой цивилизации, которое впервые оправдывает использование всех этих идеальных типов.ГРЕЧЕСКАЯ ТРОЙСТВЕННАЯ СЕТЬ ВЛАСТИ И ЕЕ ДИАЛЕКТИКА
Греческая социальная организация включала три различные, частично пересекающиеся сети власти. Самой сильной и наиболее интенсивной сетью были демократические полисы — уникальный продукт крестьянских собственников с железными орудиями и оружием, объединенных на рыночных площадях и в фалангах гоплитов, затем развивших коммерческое объединение сельскохозяйственного производства и торговли и в конечном итоге создавших военно-морской флот, состоявший из гребцов-граждан. Ничего подобного прежде не было: необходимо было историческое совпадение инноваций железного века с уникальным экологическим и геополитическим расположением Греции между морскими торговыми путями, связывавшими полуварварские пахотные земли с цивилизованными империями доминирования. Полис создал самую интенсивную и демократическую организацию коллективной власти на небольшом пространстве, которая существовала вплоть до капиталистической промышленной революции. Такая организация с необходимостью должна была быть маленькой. Многие политологи до сих пор убеждены, что крошечный размер по-прежнему являлся необходимым условием настоящей демократии участия. Но для античных демократий небольшой размер был важен вдвойне, учитывая существовавшие в то время логистические проблемы коммуникации и контроля. Афины были самым большим полисом. Во времена наибольшего расцвета территория, занимаемая Афинами, составляла чуть больше 2,5 тыс. квадратных километров, то есть это была территория, эквивалентная окружности с радиусом чуть более 50 километров. Максимальное население Афин около 360 г. до н. э. составляло 250 тыс. человек, из которых около 30 тыс. были совершеннолетние граждане-мужчины и около 80-100 тыс. — рабы. Нам известно, что в среднем количество присутствовавших на ассамблее составляло 6 тыс. (кворум) — внушительное свидетельство массовой демократии и интенсивной социальной организации. Спарта была крупнее в территориальном отношении (около 8,5 тыс. кв. км) в силу господства над территориями Лаконии и Мессении. Ее население в тот же период насчитывало в общей сложности около 250 тыс. человек с меньшим количеством граждан — до 3 тыс. полноправных граждан плюс до 2 тыс. обладавших частичными гражданскими правами. Это был один из самых маленьких городов-государств, достижения которого нашли отражение в письменной истории, но это мог быть типичный пример большинства тех городов, достижения которых не были упомянуты. Некоторые из них демонстрировали тенденцию к объединению (более подробное описание этих федеральных государств см. у Ларсена (Larsen 1968). Наиболее важным из таких государств была Бое-тия, которая, объединив 22 полиса, все равно занимала территорию около 5 тыс. квадратных километров и население которой составляло 150 тыс. человек (см. графики в Ehrenburg 1969: 27–38). Территория, занимаемая Афинами, была примерно такой же, как у современного Люксембурга, хотя население первых составляло лишь две трети населения последнего. Территория Спарты была такой же, как у современного Пуэрто-Рико, хотя население первой составляло лишь десятую часть населения последнего. В отношении населения эти две основные античные державы были немногим меньше Ноттингема в Англии или Акрона в штате Огайо США, но их граждане взаимодействовали как жители гораздо меньших провинциальных городков. Достижением полисов была организационная интенсивность, а не экстенсивность таких отношений. Они представляли собой существенный шаг вперед на пути демократизации человеческих отношений власти не только потому, что они были такими маленькими политическими единицами по отношению к ближневосточным империям доминирования, которые им предшествовали, но также потому, что их внутренняя структура предполагала более экстенсивные децентрализованные социальные сети. В соответствии своему названию полис был единицей политической власти, централизующей и координирующей деятельность на этом небольшом территориальном пространстве. Как мы уже убедились, он был по большей части продуктом объединения отношений экономической и военной власти. Невозможно определить относительный вклад каждого из двух необходимых и тесно взаимосвязанных сфер. Полис создал практически весь спектр категорий, при помощи которых мы до сих пор обсуждаем политику в современном мире: демократию, аристократию, олигархию, тиранию, монархию и т. п. Все три стадии развития полиса (гоплитская рыночная площадь, грамотная торговля и морская экспансия) были присущи современным Ближнему Востоку и Средиземноморью. Второй сетью власти была греческая культурная идентичность и мультигосударственная система в целом, размеры которой превышали размер любой отдельно взятой политической единицы. Эта сеть окутывала огромные территориальные пространства (включая моря) и объединяла, вероятно, до 3 млн человек. Это была геополитическая, дипломатическая, культурная и лингвистическая единица с собственной инфраструктурой властью. Ее непрерывность в значительной степени проистекала из единения, которое создавали торговые и колониальные связи между по сути сходными демократическими полисами или эгалитарно-федеральными этносами (ethne). Таким образом, грамотность, дипломатия, торговля и движение населения могли впервые в истории стабилизировать лингвистическую общность в устойчивое, разделяемое всеми экстенсивное сообщество. Часть этого сообщества была достаточно сплоченной, чтобы выстоять (с некоторыми колебаниями) против атаки, возглавляемой, по всей вероятности, самым могущественным государством в мире того времени — персидской империей доминирования. Но эта сплоченность не может быть приписана политическому единству. Война между городами-государствами не рассматривалась как гражданская война. Даже самые широкие федерации были прагматичной дипломатической и военной необходимостью, а не стадиями на пути к «государству-нации». «Национальность» в тот период никогда не была такой абсолютной, как в нашем современном мире (Walbank 1951). Эта вторая сеть была децентрализованной и «федеральной» по сути продуктом геополитической возможности для народов, занимавшихся морской торговлей, функционировать в пространстве между империями Ближнего Востока и крестьянами пахотных земель. Как и в случае Финикии, греческий федеральный механизм включал автономные морские галеры, колонизацию, монетарное обращение и письменность. Но в отличие от Финикии федерация в Греции выстраивалась на основе демократических полисов и поэтому стала более влиятельной и объединявшей формой организации. Ее инфраструктурная власть была скорее диффузной, а не авторитетной: ее элементы распространились «универсально», практически по всему гражданскому телу без какой-либо авторитетной централизованной организации (за исключением нескольких периодов гегемонии в Афинах и Спарте). Третья сеть была даже более экстенсивной. По форме она была идеологической, хотя у нее, естественно, находились социальные предпосылки. В главе 5 я обращался к экстравертному, не связанному границами элементу поздней месопотамской идеологии — готовности наделить базовой гуманностью и достоинством любого выходца мужского пола из высшего класса, способного развивать разум цивилизации. Это могло быть общей чертой всех ранних цивилизаций. Поскольку мы все еще отягощены лингвистическим багажом конца XIX в., делавшим особый акцент на «этничности», и слишком часто прибегаем к моделям унитарного ограниченного общества, трудно быть в этом уверенным. Но безотносительно к примерам самых ранних народов многие греки провозглашали единство человечества в целом и в отличие от предшественников распространяли его поверх классовых барьеров. Это было проблематично для греков, учитывая интенсивность их военной борьбы с другими народами и нормальность рабства. Но они воспринимали эту проблему открыто. «Терей» Софокла — это трагедия (из которой сохранились лишь фрагменты), повествующая о конфликте с иностранцами. В совместном пении граждан была представлена эгалитарная объединяющая идеология: «Есть лишь одна человеческая раса, однажды порожденная от наших отца и матери. Ни один человек от рождения не лучше другого. Но один человек обречен на неудачи, а другой — на успех, а на долю третьего выпало рабское иго» (цит. по: Baldry 1965: 37). Противоречие между идеальным видением и практическими тяготами полностью осознавалось. Фукидид говорит о единой «природе людей», в которой греки и варвары являются всего лишь переходными вариантами. Греческое самосознание было экстраординарным и противоречивым. С одной стороны, постулировалось «единство человеческого рода» (как в заглавии книги Брэдли), объединенное разумом и регулирующее большую часть насильственных столкновений между государствами и классами. С другой — признавались противоречащие этому практики: наделенность разумом только свободных цивилизованных мужчин, то есть не рабов, предположительно подданных восточных правителей, не женщин, детей или варваров. Позднее для этой проблемы было найдено частичное решение: быть греком, эллином означало развивать свой разум через «упражнения в мудрости и красноречии», как сказал Исократ. После завоеваний Александра Македонского это определение использовалось как политическое. Греки, а также представители высших классов из Персии и других стран стали подражать правителям эллинистического мира, из которого негреческие коренные народы были исключены. Указанное определение использовалось как механизм ограничения доступа в правящий класс в течение определенного времени. Но в конце концов греческое «человечество в целом» претерпело трансформации в рамках ближневосточных религий спасения и объединилось с другими силами. Вернемся к главе 2 и основному заключению доисторической археологии: человечество развивалось как один вид, локальные адаптации которого были результатом не появления подвидов, а глобальной диффузии культуры. В доисторические времена процесс диффузии всегда был более экстенсивным, чем способности любой авторитетной социальной организации. В исторических записях мы обнаруживаем свидетельства развития различного рода организованных властей, заключавших в «клетку». Ничто не могло в большей степени заключать в «клетку», чем гоплитское гражданство. Даже если баланс движения склонялся к более авторитетным, принудительным, ограниченным обществам, они также создавали силы, распространявшиеся на более обширные области, чем те, которые они сами могли авторитетно организовать. Больший потенциал единства человечества по сравнению с единством всякого данного общества был очевиден участникам исторического процесса, описанным выше. Греки, следовавшие этому потенциалу единства человечества, но добавлявшие к нему концепции инаковости, придавали этому потенциалу отчетливо идеологическое выражение, что играло важную роль в развитии их социальных форм. Это также оказало заметное влияние на прежде не существовавшие, универсальные религии, которые вскоре возникли с меньшим практическим ограничением понятия этого единства. Таким образом, в греческом обществе выделялись три основные сети власти. Кроме того, каждую из них раздирала и направляла явная классовая борьба, которую я описал в терминах экстенсивной, в значительной мере симметричной, политизированной классовой борьбы, впервые встречающейся в истории. Но между тремя сетями власти также имела место диалектика. По всей видимости, существование каждой зависело от жизнеспособности других, а выживание и динамизм Греции зависели от их взаимодействия. Без экстравертной второй и третьей сетей полис затормозился бы в своем развитии на гоплитской фазе (демократической, но жестко дисциплинированной, милитаристической по духу с недостатком рациональной философии и науки), какой была Спарта. Без потенциала к греческому единению полис попал бы под персидское господство. Без полиса греческие идентичность и культура не стали бы трансцендентными. Без направленного вовне любопытства и веры в силы разума греки не были бы столь успешными в развитии полиса и национальной идентичности и их цивилизация не пережила бы македонского и римского завоевания. Без демократических полисов и локально трансцендентной идентичности вера в разум не была бы настолько всеобъемлющей. То есть взаимоотношения между этими уровнями социальной организации были чрезвычайно сложными. Я сделал лишь набросок их историй — более адекватное исследование потребовало бы понимания основных городов-государств, а не только моего достаточно конвенционального обзора Афин и Спарты. Сложность и множественность сетей власти с очевидностью делают греческие достижения «исторической случайностью», а не эволюционной стадией в мировой истории. Хотя они были основаны на наивысших долгосрочных достижениях развития средиземноморского мира, описанных в предыдущей главе, ряд возможностей совпал в этом одном месте весьма экстраординарным образом. Тем не менее одно обобщение может быть сделано, хотя (на данный момент) его следует ограничить одним этим примером. Греческие достижения в свободе и динамизме были результатом именно того, что границы трех сетей власти не совпадали. Ни один из трех видов отношений власти не мог установить господство и стабилизировать себя. Не было государства, способного институционализировать прошлые достижения и выстраивать свое содержание на них. Не было единой власти, способной использовать инновации для своих частных целей. Не было единого класса или государства, способного господствовать над остальными. Цивилизации с множеством акторов власти вновь доказали свою способность стать «передовым фронтом» власти.ФИНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И ЗАКАТ
Несовпадение границ сетей власти также предполагало противоречия, которые в конечном итоге привели к падению Греции. Я коротко опишу их. Продолжавшееся преуспевание, неравномерно распределенное среди городов-государств, и привело к иерархическим отношениям «классового типа» между ними. По мере роста экономических и военных ресурсов они в возрастающей степени монополизировались и скрыто централизовались высшими классами основных городов. Это было практически неизбежным, поскольку греческое процветание в IV в. до н. э. нуждалось в защите по крайней мере на региональной основе от Персии на Востоке и Карфагена на Западе. Афины не собирались отказываться от достигнутой гегемонии, но они не были достаточно сильны, чтобы использовать ее против восстания, возглавляемого Спартой во время Пелопонесской войны. В свою очередь, победа Спарты установила ее непродолжительную гегемонию начиная с 413 г. до н. э. Фивы и Афины сбросили ее уже после 380 г. до н. э. Впоследствии ни один город-государство не обладал гегемонией и не координировал региональной защиты. С тех пор противоречия стали вопиющими. С одной стороны, города-государства были политически автономными и экономически процветавшими. По всей видимости, то же происходило с их идеологической жизнью, поскольку период 430–420 гг. является временем жизни самых известных философов: Сократа, Платона и Аристотеля. Но мы обнаруживаем в их произведениях культуру высшего класса, которая отражала и усиливала ослабление традиционной демократической сплоченности полиса. С другой стороны, возможности военных отношений власти оказывали удушающее воздействие на небольшие города-государств а. Здесь требуется больше детализации. Это важно, поскольку упадок античной Греции принял военную форму. Когда различные иностранные державы обнаружили, что греческие гоплиты хорошо сражаются как наемники, это в конечном итоге подорвало жизнеспособность традиционного гражданского ополчения. Большинство лидировавших греческих городов-государств были богаче в отношении средств, чем в отношении человеческих ресурсов граждан. В IV в. города-государства начинают привлекать наемных гоплитов. К 360 г. до н. э. даже Спарта использовала наемников в Пелопонесской войне. Наемники и их командиры не были гражданами и не имели больших обязательств перед полисом. Рост численности армии в Персидской войне также привел к развитию более разнообразных родов войск и военных тактик: гоплиты, стрелки, кавалерия, легкая пехота, осадные орудия — все это требовало более централизованной координации, которая, в свою очередь, вновь подрывала внутреннюю демократию полиса. Военные правила (изначально существенные для полисной системы) исчезали. В IV в. до н. э. также произошли тактические изменения в связи с тем, что легкая пехота проходила более тщательную подготовку и была вооружена длинными мечами и дротиками. Этим пельтастам (peltasts) северных пограничных земель периодически удавалось разгромить в пух и прах даже спартанских гоплитов. Военно-морские силы оставались сравнительно неизменными. С запоздалым развитием спартанского флота IV в. до н. э. сложился трехсторонний баланс власти между Афинами, Спартой и Персией, которая использовала финикийские суда. Но изменения, обладавшие решающим потенциалом, произошли на суше. Военные расходы росли. Небольшие города-государства и даже Афины теперь не могли себе этого позволить, как не могли они с легкостью осуществлять центральное координирование крупных разнообразных сил без уничтожения своих политических и классовых структур. Более экстенсивным и авторитетным государствам, напротив, было легче в этом отношении. Два типа военачальников все больше чувствовали свою власть — воинственный генерал/тиран и царь северных пограничных земель, способный мобилизовать «национальные племенные» силы. Сицилийский генерал Дионисий был прототипом первого, Ясон Фессалийский — второго. Ряд членов высших классов стали предавать демократию и вступать в переговоры. Когда Филипп, царь Македонии, понял, как объединить эти три роли — координировать и дисциплинировать наемников и македонцев, превратить их в мулов, но вознаграждать их добычей и вступить в панэллинистический альянс высших классов, — его дальнейшее восхождение стало питать его собственный успех (подробнее см. Ellis 1976). Его царство стало больше напоминать империю доминирования, чем греческий этнос (ethnos). Давление на города-государства закончилось полной победой при Херонее в 338 г. до н. э. Филипп объединил их под эгидой Коринфского союза и затем отправился в военный поход в Азию. Его внезапное убийство в 336 г. представляло лишь небольшую заминку для македонского империализма, поскольку его сыном был Александр Великий. Греческие города никогда уже не были полностью автономными государствами. В течение более чем тысячелетия они были муниципалитетами и клиентами империй доминирования.БИБЛИОГРАФИЯ
Albright, W. (1946). From Stone Age to Christianity. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Anderson, J. K. (1970). Military Theory and Practice in the Age of Xenophon. Berkeley: University of California Press. Aristotle (1926). The «Art» of Rhetoric, ed. J. H. Freese. London: Heinemann. --. (1948). Politics, ed. E. Barker. Oxford: Clarendon Press. Austin, M.M., and P. Vidal-Naque (1977). Economic and Social History of Ancient Greece: An Introduction. London: Batsford. Baldry, H.C. (1965). The Unity of Mankind in Greek Thought. Cambridge: Cambridge University Press. Barker, P. (1979)- Alexander the Great’s Campaigns. Cambridge: Patrick Stephens. Braudel, F. (1975). The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. 2 vols. London: Fontana; Бродель, Ф. (2003). Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа. Ч. 2. Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. М.: Языки славянской культуры. Cartledge, Р. А. (1977). Hoplites and heroes: Sparta’s contribution to the techniques of ancient warfare. Journal of Hellenic Studies. 97. Davies, J. K. (1978). Democracy and Classical Greece. London: Fontana. Dodds, E. R. (1951). The Greeks and the Irrational. Berkeley: University of California Press. Ehrenburg, V. (1969). The Greek State. London: Methuen. Ellis, J. R. (1976). Philip II and Macedonian Imperialism. London: Thames & Hudson. Finley, M. (i960). Slavery in Classical Antiquity: Views and Controversies. Cambridge: Heffer. --. (1978). The fifth-century Athenian empire: a balance sheet. In Imperialism in the Ancient World, ed. P. D.A. Garnsey and C. R. Whittaker. Cambridge: Cambridge University Press. --. (1983). Politics in the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press. Frankenstein, S. (1979). The Phoenicians in the Far West: a function of Neo-Assyrian imperialism. In Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires, ed. M.T. Larsen. Copenhagen: Akademisk Forlag. Goody, J. (1968). Introduction. In his Literacy in Traditional Societies. Cambridge: Cambridge University Press. Goody, J., and I. Watt (1968). The Consequences of literacy. In ibid. Gray, J. (1964). The Canaanites. London: Thames & Hudson. Grierson, P. (1977). The Origins of Money. London: Athlone Press. Hammond, N.G.L. (1975). The Classical Age of Greece. London: Weidenfeld & Nicolson. Harden, D. (1971). The Phoenicians. Harmondsworth, England: Penguin Books. Harvey, F. D. (1965). Two kinds of equality. In Classica et Mediaevalia. 26 and 27. --. (1966). Literacy in the Athenian democracy. Revue des Etudes Grecques, 79. Heichelheim, F. M. (1958). An Ancient Economic History. Leiden: Sijthoff. Herodotus (1972). The Histories, ed. A. R. Bum. Harmondsworth, England: Penguin Books. Геродот. История. Л.: Наука, 1972. Hopper, R.J. (1976). The Early Greeks. London: Weidenfeld & Nicolson. Larsen, J.А. О. (1968). Greek Federal States. Oxford: Clarendon Press. McNeill, W. (1963). The Rise of the West. Chicago: University of Chicago Press. Marx, K. (1973). The Grundrisse, ed. M. Nicolaus. Harmondsworth, England: Penguin Books. Маркс, К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. М.: Академический проект, 2010. Mciggs, R. (1972). The Athenian Empire. Oxford: Oxford University Press. Momigliano, A. (1975). Alien Wisdom: The Limits of Hellenization. Cambridge: Cambridge University Press. Mosse, C. (1962). La fin de la democratic athenienne. Paris: Publications de la Faculte des lettres et Sciences Humaines de Clennont-Ferrand. Murray, O. (1980). Early Greece. London: Fontana. Pritchett, W. K. (1971). Ancient Greek Military Practices, pt. 1. Berkeley: University of California Classical Studies, 7. Rostovtzeff, M. (1941). Social and Economic History of the Hellenistic World. 3 vols. Oxford: Clarendon Press. Runciman, W.G. (1982). Origins of states: the case of Archaic Greece. Comparative Studies in Society and History, 24. Ste. Croix, G. E.M. de. (1981). The Class Struggle in the Ancient Greek World. London: Duckworth. Salmon, J. (1977). Political hoplites. Journal of Hellenic Studies, 97. Snodgrass, A. M. (1965). The hoplite reform and history. Journal of Hellenic Studies, 85. --. (1967). Arms and Armour of the Greeks. London: Thames & Hudson. --. (1971). The Dark Age of Greece. Edinburgh: Edinburgh University Press. Stratton, J. (1980). Writing and the concept of law in ancient Greece. Visible Language, 14. Thucydides. (1910). The History of the Peloponnesian War. London: Dent. Vernant, J.-P., and P. Vidal-Naquet (1981). Tragedy and Myth in Ancient Greece. Brighton: Harvester Press. Walbank, F. W. (1951). The problem of Greek nationality. Phoenix, 5. --. (1981). The Hellenistic World. London: Fontana. Warmington, B.H. (1969). Carthage. Hannondsworth, England: Penguin Books. West, M. L. (1971). Early Greek Philosophy and the Orient. Oxford: Oxford University Press. Whittaker, C. R. (1978). Carthaginian imperialism in the 5th and 4th centuries. In Imperialism in the Ancient World, ed. P. D.A. Garnsey and C. R. Whittaker. Cambridge: Cambridge University Press.ГЛАВА 8 Возрожденные империи доминирования: Ассирия и Персия
Греция была одним из альтернативных ответов на вызовы с севера, которые рассматривались в главе 6. Другим ответом было возрождение империй доминирования. Основными империями, существовавшими в то же время, что и Финикия и Греция, были Ассирия и Персия. Мое обращение к ним будет кратким и не таким отчетливым, поскольку многие источники дошли до нас не в таком хорошем состоянии, как греческие. Очевидно, что большинство наших знаний о Персии почерпнуты из греческих свидетельств об их великом противостоянии — это наиболее очевидный источник. В главе 5 я перечислил четыре основные стратегии правления, доступные древним империям: правление через покоренные элиты, правление через армию, обращение к более высокому уровню власти и правление через смесь принудительной кооперации милитаризированной экономики и незрелой диффузной культуры высшего класса. С одной стороны, появление металлического плуга и расширение локальной торговли, монетарное обращение и грамотность имели тенденцию к децентрализации экономического развития, делая стратегию принудительной кооперации несколько менее продуктивной и привлекательной. С другой стороны, все более космополитический характер этих процессов способствовал распространению широких классово-культурных идентичностей, которые также могли быть использованы как инструмент правления. Стратегии правления двух империй различались в рамках этого континуума ограничений и возможностей. В общем ассирийцы объединяли правление через армию и определенную степень принудительной кооперации с диффузным «национализмом» высшего класса, происходящим из их ядра. Персы, со временем ставшие большими космополитами, сочетали правление через покоренную элиту с широкой и более универсальной культурой высшего класса. Указанные различия еще раз свидетельствуют о том, что, какими бы широкими ни были сходства, империи доминирования тем не менее существенным образом отличались вследствие различия локальных и всемирно-исторических обстоятельств. Ресурсы власти, особенно идеологические, получили широкое развитие в первом тысячелетии до новой эры. Сначала Ассирия, затем Персия и, наконец, Александр Великий и его эллинские наследники смогли расширить инфраструктуры имперского и классового правления.АССИРИЯ
Ассирийцы[69] получили свое название от Асура — города Северной Месопотамии, расположенного на Тигре. Они говорили на диалекте аккадского языка и обладали стратегическим расположением на пересечении основного торгового маршрута между аккадцами и шумерами к югу от Анатолии и к северу от Сирии. Первоначально они появляются в истории как торговцы, раскинувшие торговые колонии из Асура и установившие в «древней Ассирии» неустойчивые, плюралистические, олигархические формы правления, которые, по всей видимости, были типичными для древних торговых народов. Своей славой ассирийцы обязаны заметной трансформации их социальной структуры. В четвертом тысячелетии до новой эры они стали проводить политику имперского расширения и в период Средней империи (1375–1047 гг. до н. э.) и Новой империи (883–608 гг. до н. э.) для современников стали синонимом милитаризма. Нам известно немного об этой трансформации, но она включала сопротивление митаннийским и кас-ситским правителям. Позднее ассирийцы захватили контроль над обширными, увлажняемыми дождями пашнями и залежами железных руд. Ассирийские цари обнаружили, что их солдат легко и дешево вооружать железным оружием, что также способствовало распространению железных сельскохозяйственных орудий среди крестьян на севере месопотамской равнины. Геополитическое воздействие железного века на Ассирийскую империю было весьма заметным. Поскольку центральные земли империи располагались далеко от речных торговых маршрутов (так же как и их предшественники), они получали большую часть излишков от земель, увлажняемых дождями, отданных под распашку и пастбища. Роль крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство, и крестьян-солдат была практически такой же, какой позднее она была в Риме. Ядром Ассирийской империи (а позднее и Персидской империи на той же территории) были пахотные равнины. Учитывая нашу библейскую традицию, едва ли нужно упоминать, что Ассирийская империя была милитаристической. Ассирийские записи и скульптуры, а также крики ужаса и отчаяния, зафиксированные летописями, их жертв, лишний раз свидетельствуют об этом. Однако необходимо проводить различие между реальностью и военной пропагандой, несмотря на то что они тесным образом связаны. Их связь была логичным последствием попыток правления в основном через армию. Я уже упоминал, что правление через армию в империях доминирования заключалось в запугивании покоренных врагов настолько жестокими и внезапными вспышками беспощадных репрессий, что они начинали подчиняться по собственной воле. Но лишь часть ассирийского хвастовства заслуживает доверия. Это особенно верно в вопросе, в котором ученые иногда демонстрируют излишнюю доверчивость, — о размере ассирийской армии периода Новой империи. Манишус и Саггс (Manitius and Saggs 1963) утверждают, что ассирийская армия состояла из двух частей: ополчений провинциальных правителей и постоянной армии центра. Типичное, отдельно взятое провинциальное ополчение включало 1,5 тыс. кавалеристов и 20 тыс. стрелков и пехотинцев, и таких отрядов было несколько (по меньшей мере 20 на всю империю). Постоянная центральная армия была значительно больше, чтобы можно было подавить чрезмерно амбициозных провинциальных правителей. Следовательно, она в два раза превышала численность любого из ополчений. Таким образом, ассирийская армия насчитывала несколько сотен тысяч человек, возможно, более полумиллиона. Это также согласуется с ассирийскими свидетельствами о потерях их врагов — 20 тыс. убитыми, а также сотни тысяч пленных. С чем эти цифры действительно согласуются, так это с ассирийской пропагандой, а логистическими реалиями никак не подтверждаются. Как вообще древняя армия в «сотни тысяч» могла быть собрана в одном месте, как можно было указать ей на вражеские силы? Как их удалось экипировать и как они снабжались продовольствием? Как могли двигаться вместе? Ответ в том, что их невозможно было собрать, координировать, экипировать и снабжать или перемещать. Предшественники ассирийцев в этом регионе — хетты обладали превосходной военной организацией. На пике своего могущества они отправляли на фронт 30 тыс. человек, хотя посылали их для встречи в условленном месте разрозненными отрядами под командованием отдельных правителей. Последователи ассирийцев — персы управлялись с большей по численностью армией (как мы позднее увидим), возможно насчитывавшей около 40–80 тыс. человек. При вторжении в Грецию, где ситуация со снабжением была особенно благополучной, сухопутные силы персов могли насчитывать несколько большее количество солдат плюс такие же по численности военно-морские силы. Даже в этом случае лишь небольшая часть таких сил могла быть вовлечена в отдельную битву. Позднее римляне могли направить на фронт около 70 тыс., хотя обычно управляли силами вдвое меньше этого. Персидские и римские данные о численности были осложнены системой крестьянской воинской повинности [приписными войсками]. Условно говоря, каждый римский гражданин мог быть «поставлен под ружье», и, по всей видимости, это также касалось большинства персидских крестьян. Появление воинской повинности могло быть единственным реалистичным объяснением предполагаемой численности ассирийских сил. Теоретически воинская повинность крестьян могла довести общую численность войск до огромной цифры, а ассирийские лидеры поддерживали идеологическое обоснование применения универсальной воинской повинности. Почему это вообще казалось ассирийцам возможным? Во-первых, никто в действительности не вел подсчета численности воинов армий по той простой причине, что они собирались ненадолго и обычно были разделены на множество отрядов. Вероятно, даже ассирийский царь не имел понятия об общей численности войск. Во-вторых, соперник по ошибке принимал мобильность за численность (как позднее случалось с теми, на кого нападали монголы). У ассирийцев было два военных достижения. Они вывели более тяжелые, но более быстрые породы лошадей, которые были угнаны с севера и востока и разводились на богатых травой равнинных пастбищах. Их кавалерия, вероятно, была первой организованной кавалерией, а не колесницами во всей ближневосточной истории. Кроме того, они разработали отчетливую полковую структуру, позволявшую лучше координировать пехоту, кавалерию и стрелков (позднее эту структуру заимствовали персы). Их линия фронта была сама по себе весьма нечеткой и мобильной: она объединяла пары пехотинцев (состоявшие из стрелка, защищенного доспехом, вооруженных копьями щитоносцев) со всадниками, колесницами и пращниками. Важно отметить, что ассирийская военная пропаганда смешивала понятия скорости и массы, ведь в конце концов именно их комбинация оказывалась решающей в бою. Атаки ассирийцев заставали врага врасплох. Записи Саргона II (722–705 гг. до н. э.) также предполагали, что новая постоянная армия была готова к действиям круглый год. Оба эти факта свидетельствуют о том, что ассирийская армия должна была превосходно снабжаться продовольствием. Одним словом, логистически возможные для ассирийцев улучшения в организационных деталях и кавалерийских лошадях, по всей вероятности, зависели от кумулятивных улучшений в сельскохозяйственном производстве, которые принес с собой железный век. Но ассирийцы не были свободны от общих для всех древних империй ограничений. Если бы ассирийцы действительно совершали то, о чем любили похвастаться, а так иногда и было, долго они не протянули бы. Ниже представлен типичный отрывок из ассирийских королевских анналов, хваставшийся тем, что произошло в одном побежденном городе-государстве: Я уложил 3 тыс. их воинов мечом. Я забрал у них заключенных, пожитки, волов [и] скот. Я сжег много пленников. Я взял многих их солдат живыми: я срезал некоторые доспехи [и] руки, у других я отрезал носы, уши [и] конечности. Я выколол глаза многим солдатам. Я сделал одну кучу из живых [и] другую из голов. Я развесил их головы на деревьях вокруг города. Я сжег их подростков-юношей [и] девушек. Я разрушил, уничтожил, сжег [и] истребил город. Вместе с тем анналы говорят, что в некоторых случаях ассирийцы позитивно встретили вавилонян. Они дали им «еду и вино, одели их в яркие цветные одеяния и одарили их подарками» (отрывки из анналов приводятся по Grayson 1972, 1976). Они также проявляли разнообразие в выборе вассалов — иногда ассирийские правители, иногда клиенты-короли под их сюзеренитетом. Если вы исправно платили дань и признавали ассирийский сюзеренитет, к вам были снисходительны. При таких условиях местные жители месопотамских городов часто приветствовали ассирийский порядок и защиту. Но если вы восставали или бунтовали: тем людям… которые готовили зло против меня, я вырывал языки и уничтожал их полностью. Прочих выживших я забивал теми же статуями защитных божеств, которыми они забили моего деда Сен-нахирима, наконец, как запоздалую жертву для успокоения его души. Я скармливал их тела, порубленные на мелкие кусочки, псам, свиньям, птицам зибу, грифам, птицам в небе и рыбам в океане [цит. по: Oates 1979: 123]. Так говорил царь Ассурбанипал (668–626 гг. до н. э.). Эта было «военное правление», достигшее своих самых кошмарных масштабов, известных в исторической традиции. Изобретательные военные группы были способны на крупномасштабные завоевания и удерживание терроризируемого населения при помощи угроз и периодического использования безжалостного милитаризма. Подобные тенденции распространялись на политику, но не были новым (хеттские государства включали множество «изгнанников») и проявлялись гораздо шире: принудительное изгнание целых народов, включая, как мы знаем из Библии, десять колен израилевых. Ассирийцы прибегали к подобной политике весьма часто. Но в ассирийском милитаризме мы также можем различить принудительную кооперацию. Когда царские анналы перестают хвастаться насилием, они переходят к постулированию выгод от ассирийского правления. Навязанное военной силой правление, заявляют они, ведет к сельскохозяйственному процветанию четырьмя путями: (1) строительство «дворцов», административных и военных центров (которые обеспечивают безопасность и «военное кейнсианство»); (2) обеспечение крестьян плугами (по-видимому, финансируемая государством инвестиция); (3) приобретение ломовых лошадей (используемых и в кавалерии, и в сельском хозяйстве); (4) резервные хранилища зерна. Постгейт (Postgate 1974а, 1980) рассматривает это как исторический факт и как хвастовство. Поскольку ассирийцы развивались, они увеличивали плотность населения и расширяли возделываемые области вплоть до «пустынных» земель — даже политика принудительной депортации была, по всей видимости, частью этой стратегии колонизации. Милитаристический порядок все еще был полезен для (растущего) уцелевшего населения. Но ассирийцы демонстрировали изобретательность и в других областях. Как я отметил в главе 5, принципиальная опасность военного правления заключалась не только в ненависти со стороны завоеванных. Большую угрозу представляло то, что удерживать единство армии в мирных политических условиях было куда труднее. Ассирийцы использовали проверенный веками способ, который мы нестрого называем феодальным: гарантия завоеванных земель, людей и должностей военному командованию и солдатам в обмен на военную службу. И позднее они сохраняли мобильную полевую армию, чтобы за всем следить. Но, разумеется, завоевателей невозможно было изолировать от «гражданского общества». Тем не менее ассирийские завоеватели не растворились в обществе, или по крайней мере в их случае было меньше периодов гражданских войн, борьбы за наследства и внутренней анархии, чем для древних империй подобных размеров и просуществовавших так же долго. Причиной этого, как представляется, была ассирийская форма национализма. Это не вполне верный термин. Он обозначает сплоченную идеологию, которая распространяется вертикально по всем классам данной «нации». У нас нет ни малейшего доказательства, было ли так в Ассирии. Для такого древнего общества это маловероятно. Греческий «национализм» зависел от грубого равенства и степени политической демократии, которые отсутствовали у ассирийцев. Более обоснованным выглядит утверждение о том, что ассирийский высший класс (знать, землевладельцы, торговцы, офицеры) действительно ощущали себя принадлежавшими к одной и той же нации. В начале XIV и XIII вв. до н. э. начался постепенный сдвиг к национальному сознанию. Стандартная отсылка к «городу Ассур» была заменена отсылкой к «землям Ассур». В главе 4 я уже отмечал, что Ли-верани (Liverani 1979) характеризовал ассирийскую религию новой империи как националистическую, поскольку само слово «ассириец» стало означать «священный». То, что мы понимаем под ассирийской религией, разумеется, было государственной пропагандой, которая по большей части сохранилась и дошла до нас в виде скульптурных надписей и, к счастью, сохранившейся библиотеки Ассурбанипала. Тем не менее эта пропаганда была нацелена на то, чтобы убеждать и призывать, в этом случае наиболее важный столп власти — ассирийский высший класс и армия. Они, по всей видимости, принимали участие в общей идеологии, нормативном сообществе, которое было универсально распространено среди высших классов. Как и римская элита, онипо большей части были землевладельцами, жившими вне своего владения, в столичных городах, а также предположительно, как и римляне, разделяли закрытую социальную и культурную жизнь. Их сообщество, по всей видимости, резко обрывалось на границах того, что могло быть названо ассирийской нацией, наделяя внешние провинции отчетливо подчиненным периферийным статусом. Это, вероятно, была самая новая технология правления, добавившая имперскому ядру сплоченности. В этот момент идеологическая власть как имманентная мораль правящего класса впервые явно выходит на сцену истории с самого начала повествования. Квазинационализм в то время также не был чем-то уникальным для ассирийцев. В главе 5 я обращался к исследованию религий первого тысячелетия до новой эры (на Ближнем Востоке) Якобсена, который рассматривает их как националистические. Банальным примером выступает иудаизм. Якобсен утверждает, что это был ответ на угрозы, неопределенность и насильственные условия того времени. Но возможно и обратное: насилие само по себе могло быть связано с националистическими чувствами. Вырывать языки людей, прежде чем забить их до смерти своими идолами, — это совсем не очевидный ответ на условия опасности. Здесь в распространении национализма появляется нечто новое, что необходимо объяснить. Но мы не можем объяснить это при помощи исторических фактов, поскольку последних чрезвычайно мало. Здесь я обращаюсь к догадкам. С ростом грамотности, локальной и региональной торговли, а также рудиментарных форм монетарного обращения и сельскохозяйственных излишков в центральных районах государств партикуляристские и локальные источники социальной идентичности стали уступать более диффузным, универсальным (вторые усиливались ценой ослабления первых). Это были не просто большие империи, олицетворявшие подобный универсализм, как утверждает Эйзенштадт (идеи которого рассмотрены в главе 5). В других условиях могли распространиться более децентрализованные формы универсализма. Вероятно, такие формы стали возникать в начале первого тысячелетия до новой эры. Вайсман (Wiseman 1975) обнаруживает рост космополитизма в Ассирии и Вавилоне в период 1200–1000 гг. до н. э., слияние ассирийских, вавилонских и хурритских практик. Я не могу объяснить, почему более широкие, диффузные идентичности сформировали два отдельных уровня, то есть синкретическую космополитическую и протонациональную культуру, которая существовала у ассирийцев или евреев. Обе двигались по направлению к более экстенсивным диффузным идентичностям. Однажды возникшее растущее ассирийское чувство идентичности уже не так трудно объяснить: его подпитывал их успешный милитаризм, как в большей или меньшей степени и более наглядно это происходило позднее у римлян ранней и зрелой республики. Но в отличие от римлян или персов ассирийцы не заходили так далеко в распространении ассирийской «гражданской/ национальной идентичности» среди правящего класса покоренных народов. Ассирийцы были необыкновенно успешными завоевателями, вероятно, именно благодаря их эксклюзивному национализму. Но он также стал причиной их уничтожения. Ресурсы ассирийцев стали слишком растянутыми в силу обязанностей милитаристического правления. Империя разрушилась в своем ассирийском ядре в ответ на давление семитских народов из Аравии, которых ассирийцы называли арамеями. В конечном счете на месте прежней возникла Новая империя, вдвое превосходившая по размерам предшествовавшую. К моменту, когда Новая империя была институционализирована около 745 г. до н. э., произошли существенные изменения. Упрощенная письменность арамейского языка (от которого происходит письменность арабского и иврита) начала распространяться по всей империи, подразумевая, что под военным и идеологическим национализмом ассирийцев стремительно и интерстициально развивался региональный космополитизм. Множество разных покоренных народов было вовлечено в определенной интенсивности идеологический и экономический обмен. Этому способствовала политика массовой депортации. Ассирийцы развили довольно узкую военную/политическую форму власти. Их собственная социальная структура, поддерживавшая милитаризм, трансформировалась в соответствии с его нуждами, так что, например, военный феодализм возник как способ награждения солдат, а также способ поддержания их в качестве активной резервной силы. Что касается остальных источников власти, ассирийцы были относительно плохо оснащены. Их торговое влияние сократилось, поскольку большая часть внешней торговли осуществлялась финикийцами, а некоторую часть внутренней торговли захватили арамеи. Грамотность могла способствовать интеграции больших областей, но не под их эксклюзивным контролем. Беспощадная политика ассирийцев раздавила военные/политические претензии соперников в захватываемых областях, но оставила ряд из них, чтобы они вносили особые и специальные вклады в существование Ассирийской империи. Результатом стал возникающий космополитизм, хотя рассмотреть его под ассирийскими копьями было нелегко. Даже эта свирепая империя не была унитарной. Она состояла из двух отдельных уровней взаимодействия, которые подпитывали друг друга в ходе возвышения Ассирии, но которые стали противоположными или взаимно подрывающими во время заката Ассирийской империи. Это вполне мог быть тот же тип процессов, гораздо более отчетливо наблюдавшихся позднее в Риме, которому посвящены главы g и ю. И если так, то ассирийцы, как и римляне, потеряли контроль над силами «гражданского общества», которое сами же и породили. Первоначальный ответ скорее сделал их сцепление более плотным, а не более слабым через дальнейший культурный синкретизм. Столкнувшись с военной угрозой, Ассирия оказалась не способна поглощать и объединять. Она могла лишь сражаться насмерть. В конце концов так и произошло — стремительно и, по всей вероятности, непредвиденно. После, как представляется, успешной расправы над скифскими вторжениями с севера и внутренними беспорядками Ассирия не смогла объединить силы Мидии и Вавилона между 614 и 6°8 гг. до н. э. Ее города были разрушены в ходе бунта угнетенных. Ассирия и ее народ исчезают из наших исторических записей. В отличие от прочих основных древних империй на Ассирию никто не оглядывался с почтением, даже несмотря на выявленное выше ассирийское влияние на последующие имперские организации.ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ
В течение короткого промежутка времени на Ближнем Востоке существовал баланс в геополитической власти между двумя государствами-завоевателями: Мидией и Вавилоном, с одной стороны, и Египтом — с другой. Мидийцы, вероятно, были теми же персами, над которыми они изначально установили сюзеренитет. Оба государства были расположены на Иранском плоскогорье, и оба адаптировали военные техники конных лучников степных народов в дополнение к организации ассирийцев. Геродот повествует о том, что царь Мидии был первым, кто организовал азиатские армии в отдельные отряды копейщиков, лучников и кавалерии — явная имитация ассирийской организации. Но затем персидский подчиненный король Кир II восстал, используя отряды мидийцев, и захватил Мидийское царство в 550_549 гг- до н э- в 547 г. Кир отправился в военный поход на запад и завоевал земли царя Лидии Креза, достигнув тем самым континентальной части Малой Азии. Затем его генералы захватили один за другим греческие города-государства Малой Азии. В 539 г. был покорен Вавилон. Установленная Персидская империя в территориальном отношении стала больше Новой Ассирийской империи и фактически на тот момент стала самой большой империей в мире. На вершине своего могущества Персидская империя включала индийскую и египетскую сатрапии наряду со всем Ближним Востоком и Малой Азией. Ее протяженность с востока на запад превышала 3 тыс. километров; протяженность с севера на юг составлял 1,5 тыс. километров. Ее территория превышала 5 млн квадратных километров с населением около 35 млн человек, из которых 6–7 млн проживали в густонаселенных египетских провинциях. Эта империя просуществовала 200 в целом мирных лет под правлением династии Ахеменидов вплоть до завоевания Александром. Необходимо особенно подчеркнуть необычайный размер и экологическое разнообразие этой империи. Ни одна из прежних древних империй не включала в свой состав настолько разнообразные в экологическом отношении провинции. Равнины, горные хребты, джунгли, пустыни и ирригационные комплексы от юга России до Месопотамии, побережья Индийского, Аравийского, Красного, Средиземноморского и Черного морей — удивительная, но также, очевидно, ветхая имперская структура. Ее невозможно было связать воедино относительно жесткими ассирийскими, римскими и даже аккадскими методами правления. На самом деле персидское господство над частями этой империи было весьма условным (нежестким). Множество горных регионов оставались неподконтрольными и даже перед лицом превосходящей персидской мощи признавали лишь самый общий тип сюзеренитета. Районы Центральной Азии, Южной России, Индии и Аравии были скорее автономными государствами-клиентами, чем имперскими провинциями. Логистики любого высокоцентрализованного режима в данном случае были абсолютно неприменимы. Но, несмотря на это, персы все же требовали одной специфической формы подчинения. Был лишь один царь — Великий царь. В отличие от ассирийцев они не признавали царей-клиентов — только вассалов-клиентов и зависимых правителей. В религиозных терминах Великий царь не был божеством, но он был владыкой, помазанным на правление всем миром. В персидской традиции это означало помазание Ахурамазды, и оно же, по всей вероятности, было условием религиозной толерантности, в соответствии с которой другие религии также помазывали его на царство. Таким образом, персидские требования о верховенстве не обсуждались и формально принимались всеми провинциями. Двигаясь вниз по этой политической структуре, мы также обнаруживаем претензии на универсальную империю, даже если ее инфраструктура не всегда могла их удовлетворить. Система сатрапий напоминает инкскую десятичную систему — отчетливый признак того, что эта империя создавалась в качестве империи, центрированной вокруг своего правителя. Вся империя была разделена зятем Кира Дарием (521–486 гг. до н. э.) на 20 сатрапий, каждая из которых была микрокосмосом царской администрации. Каждая объединяла гражданские и военные власти, которые собирали дань и ополченцев, а также отвечали за отправление правосудия и безопасность. В каждой сатрапии была своя канцелярия, укомплектованная арамейскими, эламскими и вавилонскими писцами под персидским началом. Также существовали казначейский и производственный отделы. Канцелярия поддерживала обмен корреспонденцией с вышестоящим королевским двором и нижестоящими провинциальными местными властями. Более того, вполне последовательной была попытка обеспечить имперскую инфраструктуру путем приспособления к ней всех органов власти вне зависимости от того, где они находились в космополитической империи. Как и ассирийская, Персидская империя была установлена путем исходного военного превосходства. Их собственные культурные и политические традиции, по-видимому, были слабыми. Даже их военные структуры были нежесткими, а их военные победы, хотя и зрелищные, были в меньшей степени основаны на ошеломляющей силе или военной тактике, чем на оппортунизме и необычайно развитой способности разделять своих врагов. Отсутствие традиций и оппортунизм в этом контексте были их сильной стороной. Последующим достижением империи была способность нежестко восседать на вершине растущего ближневосточного космополитизма, проявляя уважение к традициям покоренных народов и заимствуя у них все, что было полезным. Их собственные произведения искусства изображали иностранцев внутри империи как свободных, обладавших чувством собственного достоинства людей, которым было позволено носить оружие в присутствии Великого царя. Сами иностранцы также это подтверждали. Их благодарность завоевателям за мягкость правления была несомненна. Я уже цитировал Геродота в главе 7. Вавилонские хроники повествуют: «В третий день месяца Арахшамну Кир вошел в Вавилон, зеленые ветви разбрасывались перед ним — в городе воцарился мир. Кир послал поздравления всем вавилонянам» (цит. по: Pritchard 1955: 306). Евреям была предоставлена защита в качестве противовеса Вавилону, их отправили на родину в Израиль. Форма эдикта Кира, сохраненная Ездрой[70], обладает особым значением: Так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный и повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, — да будет Бог его с ним, — и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, который в Иерусалиме [Ezra 1: 2–4]. Кир хотел положиться на Бога евреев по политическим причинам, поскольку они оба были богами. В ответ евреи должны были рассматривать его как «помазанника божьего» (Isaiah 45:1). Толерантность и оппортунизм также проявляются в основе коммуникационной инфраструктуры, грамотности. Персидские официальные записи, как правило, передавали властные требования к различным классам элит империи. Они были написаны на трех различных клинописных видах письма: эламском (язык, сосредоточенный в Сузах), аккадском (язык и официальная письменность Вавилона и некоторых ассирийцев) и на упрощенном древнеперсидском, изобретенном во время правления Дария. Там, где это было необходимо, указы дублировались на египетском, арамейском и, вероятно, греческом. Но для большей гибкости государственной корреспонденции требовалось использование арамейского. Этот язык стал общим языком империи и всего Ближнего Востока для записи проповедей Иисуса. Он использовался, но не контролировался персами. Это не был их универсализм. Заимствования были очевидны во всей инфраструктуре. Чеканка монеты, «золотого дарика», изображавшей коронованного бегущего стрелка (Дария), объединила персидское государство с торговыми сетями Малой Азии и Греции и была, вероятно, заимствована из образцов их монет. Государственные дороги были построены по ассирийскому образцу и были усеяны системами перевалочных пунктов (которые восходят к аккадским временам), снабжавших всем необходимым государственных посыльных, а также чужеземцев. Персидская кавалерия и пехота с копьями и луками координировались греческими наемниками-гоплитами; финикийский флот также был присоединен к армии. У персидской толерантности были свои пределы. Они давали определенные преференции тем местным структурам, которые по своей форме напоминали их собственные. Поэтому с греческими полисами и установлением там правления тиранов-клиентов им пришлось нелегко. Сам по себе личный состав сатрапов был компромиссом. В некоторых областях персидская знать назначалась в качестве сатрапов, в других — местным правителям просто присваивался новый титул. Если они исправно платили дань, предоставляли военных рекрутов, обеспечивали порядок и проявляли уважение к имперским формам, то были сами себе хозяевами. Это означало, что в провинциях с глубоко укорененными административными органами, например в Египте или Месопотамии, сатрап, даже если он был персом, должен был править в большей или меньшей степени так, как правили местные элиты до него. На задворках империи сатрапам приходилось вести переговоры с его подчиненными (шейхами, вождями племен, старейшинами деревень) весьма тесным образом. Во всех отношениях Персидская империя не соответствует идеальному типу имперского или патримониального режима сравнительной социологии, анализированному в главе 5. Центр Персидской империи был деспотическим с сильными претензиями на универсальность, но его инфраструктурная власть была слабой. Эти контрасты наиболее отчетливо проступают в греческих источниках. Они росли, что приводило в ужас, хотя и восхищало, в ритуалах преклонения перед царем, в блеске его наряда и свиты, в дистанции, которой он отделяет себя от своих подданных. В то же время греческие свидетельства показывают: то, что происходило при дворе, обычно полностью отличалось от того, что происходило в провинциальной глубинке. Ксенофонт в своем эпосе об отступлении 10 тыс. греческих наемников из Азии на родину упоминает области, местные жители которых имели смутное представление о существовании Персидской империи. Но это еще не вся истории. Персидская империя вынесла даже военное поражение Великих царей: Дарий потерпел поражение от скифов, Ксеркс — от греков. Как и ассирийцы, персы внесли свой вклад в развитие ресурсов власти империи. Как и в случае ассирийцев, решающая инновация, как представляется, была осуществлена в сфере идеологической власти как форме морали правящего класса. Но персы развили более «интернациональную» идеологию высшего класса, а не национальную, как их предшественники — ассирийцы. Персы расширили преимущественно ассирийские формы образования для детей покоренных и союзных элит, так же как и для своих высших классов. В соответствии с персидской традицией мальчиков (о девочках известно лишь немногое) забирали из гарема в возрасте пяти лет. Вплоть до двадцатилетнего возраста они воспитывались при царском дворе или дворе сатрапа. Их обучали персидской истории, религии и традициям, хотя исключительно на устной основе. Даже Дарий не мог писать или читать, поэтому он прокламировал. Более старшие мальчики принимали участие в жизни двора и слушали судебные дела. Они обучались музыке и другим искусствам. Огромное внимание уделялось физической и военной подготовке. Образование имело тенденцию к универсализации этого класса, делало его действительно экстенсивным и политизированным по всей империи. Поощрение смешанных браков между прежде разрозненной знатью, а также предоставление людям феодов, расположенных далеко от их родных земель, также усиливало широкую классовую идентичность против локального партикуляризма. Империю возглавляли персы на высших государственных должностях и в культуре, она всегда зависела от персидского ядра, хотя, разумеется, существовало много областей, традиции которых были слишком живучими для инкорпорирования. Но тем, что удерживало империю в целостности вопреки династическим интригам, борьбе между наследниками, иностранным катастрофам и огромному региональному разнообразию, которое в первую очередь казалось синкретическим, была идеологическая солидарность правящего класса знати. Двумя центрами универсализма были Великий царь и его знать. Хотя они периодически конфликтовали и боролись друг против друга, оставались едиными в своей лояльности против любых потенциальных угроз снизу или из-за границы, до тех пор пока не появлялся другой, кто мог предоставить большую поддержку их классовому правлению. Им стал Александр. И вновь процесс становился диалектическим. У каждой из этих (относительно успешных) империй было больше ресурсов власти, чем у их предшественниц, и каждая последующая империя получала превосходящие ресурсы власти в результате коллапса предшествующей. Существует еще один важный аспект персидской идеологии. К сожалению, относительно него нет твердой уверенности. Речь о религии — зороастризме. Нам очень хотелось бы датировать возникновение и развитие зороастризма, но мы не можем. У Зороастра был правящий покровитель, вероятно, им был персидский царь Теисп (около 675–640 до н. э.), возможно, предшествующий ему правитель. Вероятно, в основном в условиях животноводства (Зороастр — «погонщик старых верблюдов», а имя его отца означало «погонщик серых лошадей») он стал проповедовать и писать о своем религиозном опыте. Его послания были сосредоточены на божественных откровениях, общении с «Господь премудрым», Ахура-Маздой, который повелел Зороастру нести его истину миру. Среди этих истин были следующие: Оба Духа, которые уже изначально в сновидении были подобны близнецам, и поныне пребывают во всех мыслях, словах и делах, суть Добро и Зло. Из них обоих благомыслящие правильный выбор сделали. [И] Я провозглашу то, что мне изрекает Святейший, — слово, наилучшее, чтобы слушали смертные. Любой, кто воздаст этому моему (слову) [то есть Зороастра] послушание, достигнет Целостности и Бессмертия деяниями Благого Помысла Ахура, (является) Маздой [Из Гат, Ясны 30 и 45: полностью текст представлен в Moulton 1913]. В этих простых доктринах мы имеем ядро религий спасения, а также противоречия, которые они будут выражать в течение последующих двух тысяч лет. Единый Бог — воплощающий рациональность владыка Вселенной, которого все люди способны открыть для себя. У них есть возможность выбирать между светом и тьмой. Если они выберут свет, то достигнут бессмертия и избавления от страданий. Мы можем это интерпретировать как потенциально универсальную, этическую, радикально эгалитарную доктрину. Она, вероятно, отменяет все вертикальные и горизонтальные различия, доступна для всех политических государств и классов, не зависит от специалистов ритуала. В то же время она воплощает господство — господство пророка Зороастра, которому впервые были открыты истины и рациональность которого была возвышена над рациональностями прочих смертных. Подобная двойственная доктрина не была уникальной в первом тысячелетии до новой эры, религия израильских племен претерпевала медленное преобразование по направлению к монотеизму. Иегова стал единственным Богом и был противопоставлен соперничавшим между собой культам плодородия, он стал относительно абстрактным универсальным богом — Богом истины. Хотя израильтяне были избранным народом, он был Богом всех людей безотносительно к особенностям их аграрного образа жизни. И будучи непосредственно доступным для всех людей, он тем не менее вступал в общение исключительно через пророков. Сходство этого учения с зороастризмом проявляется в специфике (например, вере в ангелов), также вероятно, что персидская религия оказала влияние на развитие иудаизма. В конце концов персы вернули евреев в Иерусалим, и Израиль долгое время существовал как государство-клиент. Возможно, были другие монотеистические, потенциально универсальные религии спасения, распространившиеся на всем огромном пространстве, упорядоченном Персидской империей. Но полностью доктрину легче обнаружить, чем конкретные практики или влияние. В этом отношении религия Зороастра особенно загадочна. Была ли она действительно передана через посредничество (это намеренный повтор) священных таинственных магов? Существовавшие маги, возможно, мидийского происхождения, по всей видимости, были экспертами по ритуалам. Но они не обладали религиозной монополией и еще в меньшей степени были единой кастой в отличие от их индийских коллег — брахманов. Их особый статус, например, священников племени мог быть утерян в период персидского владычества. Была ли это народная религия или, что более вероятно, религия знати? Был ли это рост или, напротив, упадок монотеизма? В какой степени Дарий и его последователи использовали ее в качестве опоры своего правления? Ее польза для царя была очевидной. И Дарий, и Ксеркс определяли своего основного врага как ложь, а также как врага Ахура-Мазды. Более правдоподобным выглядит то, что зороастризм предоставил возможность для действительно универсальных религий спасения, но в практиках Великого царя и его знати он использовался в качестве идеологического оправдания, а также подлинного интеллектуального и морального объяснения их совместного правления. Но это не был единственный тип подобной идеологии. А доктрины, которые он в себе содержал, были способны к дальнейшему распространению поверх классовых и государственных границ. Серьезным испытанием персидской державы стали два значительных столкновений с Грецией. Этот период также является наиболее задокументированным в истории Персии. Можно начать с греческой оценки военной мощи Персии в ходе первого столкновения — во время вторжения Ксеркса в Грецию в 480 г. до н. э. Разумеется, грекам нравилось существенно преувеличивать численность их основного врага. Предполагалось (Hignett 1963), что причиной этого отчасти было ошибочное представление о размере основных персидских единиц при подсчете их сил. Если мы сократим их число в десять раз, то будем ближе к истине. Но как мы можем установить истину, если вынуждены не доверять источникам? Один из способов заключается в исследовании логистических ограничений дистанции марш-бросков и поставок воды. Например, генерал Фредерик Морис прошел большую часть пути Ксеркса и подсчитал запасы пресной воды, доступные в реках и родниках региона. Он пришел к заключению, что максимальное количество солдат, снабжение которых было возможно, составляло 200 тыс. плюс 75 тыс. животных (Maurice 193°) — Потрясающая острота мышления, но это всего лишь теоретический максимум! На самом деле другие ограничения, связанные с поставками продовольствия, не обязательно значительно сократят это количество в силу легкости поставок морем на всем пути вторжения. Геродот предоставляет отчет о четырех годах подготовки и сборе хранилищ на всем пути в портах, контролируемых местными правителями-клиентами. Нет причин не доверять ему и, следовательно, сомневаться в возможностях продовольственного снабжения, а следовательно, и размер силы должен быть «очень велик». Некоторые власти поэтому предполагают, что персы провели от 100 до 200 тыс. человек через Геллеспонт, хотя лишь часть из них была воинами. К этому необходимо добавить персидские военно-морские силы. Относительно их размера существует меньше расхождений: до 600 кораблей со 100 тыс. человек на борту. Поскольку это была комбинация сухопутной и морской операции в несложных для снабжения условиях, она могла быть самой крупной из тех, что были до сих пор, и более крупной, чем персы могли мобилизовать в своих центральных районах. Тем не менее количество воинов, которые могли были одновременно задействованы в битве, было меньше. Размер эллинистических армий последующих периодов, рекрутируемых из тех же областей, не превышал 80 тыс. солдат. Таким образом, большинство исследователей в настоящее время считают, что численность армии, задействованной в сражении, составляла от 50 до 8 о тыс. солдат, такой же была численность военноморских сил (Burn 1962: 326–332; Hignett 1963; Robertson 1976). С греческой точки зрения это означало нечто невиданное, поскольку они могли управлять лишь армией в 26 тыс. человек плюс флот, что было гораздо меньше по сравнению с военными силами персов. Силы персов, а также их шансы против греков все еще были огромными. Но персы потерпели поражение вначале от греческих городов-государств и позднее от Александра. Первое поражение было неожиданным, и конфликт быстро разрешился. Все могло пойти иначе и, таким образом, изменить ход (нашей) истории. Но имела место глубоко укорененная слабость Персии. Поражение выявило узкие места в состоянии социальной организации. Тому, по всей видимости, было три причины, две из которых обозначились непосредственно во время сражения, а третья лежала гораздо глубже — в персидской социальной организации. Первой и основной причиной поражения была персидская неспособность к концентрации боевой мощи так, как могли греки. Концентрация, разумеется, является основным средством военной власти. В Фермопильском сражении они численно превосходили греков во много раз. В Битве при Платеях и Марафоне персы превосходили греков в соотношении 2:1. Позднее Александр смог увеличить количество воинов, участвовавших в битве, до 40 тыс., и тем не менее персы все равно превосходили его в том же соотношении. Но персы не могли одновременно развернуть всех солдат. Даже если бы это им удалось, они не могли противопоставить грекам концентрацию военных сил, сопоставимую с фалангой гоплитов. Греки были осведомлены об их превосходстве и старались использовать его на относительно закрытой местности — Фермопильское ущелье было идеальным в этом отношении. Они приписывали это отчасти их тяжелому доспеху и вооружению и отчасти — источнику их дисциплины и послушания, верности свободного человека своему городу-государству. Знаменитая эпитафия на могильной плите Фермопильского сражения резюмирует различия с персами, вступившими в битву, как утверждают греки, с кнутами. 300 лакедемонянам, то есть спартанцам, было приказано защищать ущелье. И они стояли насмерть:Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.Вторым слабым местом персов был флот. Они использовали флотилии союзников по конфедерации, финикийцев и греческих городов-государств Малой Азии, которые сражались с разной степенью верности своему долгу. Военно-морские силы были приблизительно равны по мощи — персидское преимущество в численности компенсировалось тем, что борьбу приходилось вести на большом расстоянии от военно-морских баз. Ядро империи практически не имело выхода к морю. Поскольку персы не выходили к морю, они не могли использовать все преимущества расширения античной экономики в западном направлении. Слабости в сухопутных и морских битвах обозначили третью и решающую слабость Персии. Империя была приемлемой для ближневосточных сухопутных просторов: она была растянутой конфедерацией правителей и государств-клиентов под гегемонией господствовавшего персидского и мидийского ядра и ряда аристократических отростков. Высший класс обладал достаточной сплоченностью, чтобы править этой империей. Но сражаться в таком тесном военном и моральном строю, каким был греческий, оказалось неожиданным требованием, которое выходило за рамки их возможностей. Среди союзников лояльность демонстрировали финикийцы, поскольку их собственное выживание в качестве державы зависело от победы над Грецией. В то время как другие союзники предпочитали быть на стороне тех, кто выглядел победителем. Кроме того, персидское ядро не было так интегрировано, как греческое. Сатрапы были частично независимыми правителями в командовании военными силами, способными на имперские амбиции и восстания. Кир и сам пришел к власти подобным образом; его предшественник Камбиз убил своего брата, чтобы взойти на трон, и перед смертью он столкнулся с серьезными восстаниями соперников, выдавших себя за его брата; Дарий подавил эти восстания и расправился с другими восстаниями в греческих городах-государствах Малой Азии; Ксеркс подавил восстания в Вавилоне и Египте, а после его изгнания из Греции столкнулся с дальнейшими многочисленными восстаниями. Впоследствии по мере уменьшения персидской власти гражданские войны (при участии греков в качестве солдат на обеих сторонах) участились. Эти проблемы имели военные последствия в кампаниях против греков. Нам известно, что Великий царь предпочитал ограничивать количество войск его сатрапов. У него было 10 тыс. персидской пехоты, «бессмертных», и 10 тыс. персидской кавалерии. Он, как правило, не позволял сатрапу иметь более тысячи солдат персидского происхождения. Поэтому огромная армия обладала относительно небольшим профессиональным ядром, остальная ее часть укомплектовывалась ополчениями различных народов империи. Греки были далеки от этого, по крайней мере от последнего. Они понимали, что их защита должна включать две стадии. Сначала они должны были устроить своему врагу суровую проверку боем для того, чтобы персидские союзники стали сомневаться в непобедимости их лидера. Это ослабление верности последних вынудило царя задействовать его персидские отряды ядра, которые выполняли практически всю тяжелую работу в основных битвах. Хотя персы сражались храбро и настойчиво, в ограниченных пространствах и ближнем бою они не могли тягаться с гоплитами (хотя позднее гоплитам потребовалась помощь кавалерии и стрелков на открытых персидских землях). На самом деле армия Великого царя выполняла политическую функцию в той же мере, в какой и военную. Это были удивительно разнородные силы, включавшие отряды со всей империи и потому с трудом управляемые как единая армия. Но сам факт объединения такой армии был весьма впечатляющим способом мобилизации своего господства над сатрапами и союзниками. Когда Великий царь осматривал свою армию, ее количество и зрелищность производили впечатление на современников. Геродот рассказывает нам историю о том, как персидскую армию подсчитывали путем разделения на отряды, которые затем помещали в загон, вмещавший 10 тыс. человек. Мы можем сами выбирать, верить этому или нет (даже если мы сократим полученную цифру). Но цель истории в том, чтобы выразить изумление по поводу того, что правитель имел даже больше сил, чем он сам мог предполагать или кто-либо сосчитать. Как было показано на примере Ассирии, это было даже более широко распространено, чем зафиксировали греки. Логистические щупальца такой армии должны были растянуться через каждый город и деревню в империи. Лишь немногие могли ничего не знать о могуществе Великого царя. Мобилизация давала ему большую власть над сатрапами, союзниками и народами, чем могло дать мирное время. К сожалению, он собирался использовать ее против греков на их родной территории — территории врага с невероятной концентрацией ресурсов. Демонстрация власти привела к обратному эффекту и вызвала восстание. Проблема Великого царя состояла в том, что большая часть инфраструктуры системы сатрапов не могла легко децентрализовать власть. Грамотность оказалась неподконтрольной государству. Монетарное обращение предполагало двойственную структуру власти, разделенную между государством и местными богачами. Разумеется, в Персии эта двойственность обладала специфическими характеристиками. По всей видимости, монетарное обращение была налажено в основном как средство организации поставок провизии солдатам. Поскольку организация чеканки монет находилась частично под властью царя, приближенных военачальников и частично под властью сатрапов, проблем не возникало. Кто должен был выпускать монеты? На самом деле серебряные и медные монеты выпускались и царем, и сатрапами, но на выпуск золотого дарика была установлена царская монополия. Когда сатрапы иногда выпускали золотые монеты, это рассматривалось как объявление о восстании (Frye 1976: 123). Монетарное обращение также могло децентрализовать власть чуть больше, когда использовалось в общих торговых целях. В Персии внутренняя и внешняя торговля по большей части находилась под контролем трех иностранных народов. Два из них — арамеи и финикийцы находились под формальным контролем империи, но оба сохраняли заметную степень автономии. Как мы уже видели, персы всего лишь использовали существовавшие структуры арамейского языка и финикийского флота. Родина третьего торгового народа — греков была политически автономной. Они также составили ядро персидских армий последующих периодов. Как я уже отмечал, фаланга гоплитов не обязательно усиливала авторитет очень большой власти — ее оптимальный размер был менее 10 тыс. человек. Даже зороастризм был палкой о двух концах. Хотя его использовали для поддержания авторитета Великого царя, он также укреплял рациональное самосознание верующих индивидов, ядром которых, по всей вероятности, был персидский высший класс в целом. Дороги, «глаза царя» (королевские шпионы) и даже культурная солидарность аристократии не могли дать концентрированной интеграции, необходимой для борьбы с греками. Достоинство персидской власти заключалось в ее более свободном характере, в том, что она могла использовать преимущества децентрализованных космополитических сил, которые начинали действовать на Ближнем Востоке. Даже до прибытия Александра Персия продолжала оставаться во власти этих сил. Но теперь политический беспорядок в центре не обязательно приводил к коллапсу всего социального порядка в целом. Саргон и его принудительная кооперация больше не требовались. Ни греки, ни римляне, ни даже их западные наследники не оценили этого. Греки не смогли понять то, что они принимали за презренное раболепство, любовь к деспотизму и страх перед свободой восточных народов. Эта карикатура имела под собой один эмпирический факт: уважение, выказываемое многими ближневосточными народами к деспотической монархии. Но как мы убедились на примере Персии, деспотизм был лишь конституционным, а не реальным. Инфраструктурная власть подобных деспотий была гораздо меньше власти греческих полисов. Способность греков к мобилизации и координации обязательств своих подчиненных была ниже. Хотя их экстенсивная власть была намного больше, они существенно уступали в интенсивной власти. Персидские подданные могли более эффективно скрываться, уклоняться от власти государства по сравнению с возможностями уклонения греческих граждан от их государств. В определенном смысле персы были свободнее. Свобода не является чем-то неделимым. В наше время существуют две основные концепции свободы: либеральная и социалистически консервативная. Либеральный идеал — это свобода от государства, приватность, защищенная от его надзора и власти. Объединенный идеал консерваторов и социалистов утверждает, что свобода достижима только через государство, участие в его жизни. Обе концепции включают, очевидно, достойные вещи. Если для пущего эффекта мы введем эти категории обратно в древнюю историю, то обнаружим, что греческий полис является великолепным примером консервативно-социалистического идеала свободы и, что удивительно, Персия в определенной степени соответствует либеральному идеалу. Последняя аналогия всего лишь частична, поскольку, в то время как современные либеральные свободы (парадоксальным образом) конституционно гарантирует государство, персидские свободы были неконституционными и тайными. Они также дольше просуществовали. Греция подверглась последовательным нашествиям завоевателей — македонцев и римлян. Персия была покорена только Александром. Завоевателем Персии был жестокий, пьющий, эмоционально нестабильный Александр, которого мы также справедливо называем Великим. Со смешанными силами македонских и греческих солдат, вероятно достигавшими 48 тыс. человек, он пересек Геллеспонт в 334 г. до н. э. За восемь лет он завоевал всю Персидскую империю и небольшую часть Индии. Как персидский царь, он подавлял греческие и македонские протесты против получения восточных титулов, дал персам, македонцам и грекам равные права и восстановил систему сатрапов. Посредством этого он заручился лояльностью персидской знати. Но к этому он добавил более жесткую македонскую организацию: более маленькую, более дисциплинированную и методичную армию, унифицированную налоговую систему и монетарную экономику, основанную на аттической серебряной монете, и греческий язык. Объединение Греции и Персии было символически ознаменовано свадебной церемонией, на которой Александр и 10 тыс. его солдат взяли персидских девушек в жены. Александр умер в 323 г. до н. э. от запоя в Вавилоне. Его смерть продемонстрировала, что персидские течения продолжали свой ход. Его завоевательный импульс был направлен не в сторону большей имперской централизации, а в сторону космополитической децентрализации. Никакой имперской преемственности не было установлено, и его военачальники превратили сатрапов в ряд независимых монархов восточного стиля. В 281 г. после множества войн были появились три монархии: в Македонии под властью династии Антигона, в Малой Азии под властью династии Селевкидов и в Египте под властью династии Птолемеев. Они были свободными персидского типа государствами, хотя греческие правители постепенно выталкивали персидскую и прочие элиты из позиций независимой власти внутри государства (Walbank 1981). Это действительно были эллинистические государства, грекоговорящие и греческие по образованию и культуре. Но изменилась сама Эллада. За пределами Греции (и даже до определенной степени внутри нее) развитие разума, существенная часть того, что означало быть «человеком», отныне официально ограничивалось правящим классом. Во всяком случае греческое завоевание означало усиление традиционно персидской основы власти, идеологической морали правящего класса. Персия без персов, греки без Греции, но их слияние создало более сплоченный диффузный базис для правления правящего класса, чем Ближний Восток (или какой-либо иной регион, за исключением Китая, где в это же время происходили сходные процессы). Тем не менее ограниченная власть этих государств означала, что могли появиться другие, более скрытые течения. Государства существовали в больших, частично усмиренных экономических и культурных пространствах. Их внутренние возможности интенсивной мобилизации были также ограниченны не только в теории, но и на практике. За исключением все еще уникальным образом сконцентрированного Египта, они были федеральными, включавшими многочисленные укрытия и возможности для неофициальных космополитических связей, в которых важную роль играли греческие «демократические» традиции. Из них, а также из соответствовавших им последовавших провинций Римской империи произошло множество децентрализующих сил, которые будут описаны в главах 10 и 11, из них же произошли религии спасения. На самом деле ближневосточные империи, теперь ставшие Грецией, сдвинули центр геополитической власти на запад. Но у своих западных рубежей греческий мир столкнулся с различными силами. То, что я описал как традиционное греческое «консервативно-социалистическое» понятие свободы, могло гораздо легче распространиться среди крестьян и торговцев с железными орудиями и оружием. Греческие события и противоречия были вновь разыграны в других формах и с другими результатами на итальянском полуострове. Результатом стала Римская империя — наиболее развитый пример спенсеровской принудительной кооперации, который когда-либо знала доиндустриальная история, завоеватель, а также преемник эллинизма и первая территориальная империя, а не империя доминирования.
БИБЛИОГРАФИЯ
Bum, A. R. (1962). Persia and the Greeks. London: Arnold. Cook, J. M. (1983). The Persian Empire. London: Dent. Driel, G. van (1970). Land and people in Assyria. Bibliotecha Orientalis, 27. Frye, R. N. (1976). The Heritage of Persia. London: Weidenfeld & Nicolson. Ghirshman, R. (1964). Persia from the Origins to Alexander the Great. London: Thames & Hudson. Goetze, A. (1975). Anatolia from Shuppiluliumash to the Egyptian War of Murvatallish; and The Hittites and Syria (1300–1200B.C.). Chap. 21 and 24 in The Cambridge Ancient History, ed. I.E. S. Edwards et al. 3d ed. Vol. II, pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Grayson, A.K. (1972–1976). Assyrian Royal Inscriptions. 2 vols. Wiesbaden: Harrassowitz. Hignett, C. (1963). Xerxes’ Invasion of Greece. Oxford: Clarendon Press. Larsen, M.T. (1976). The Old Assyrian City-State and Its Colonies. Copenhagen: Akade-misk Forlag. Liverani, M. (1979). The ideology of the Assyrian Empire. In Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires, ed. M.T. Larsen. Copenhagen: Akademisk Forlag. Maurice, F. (1930). The size of the army of Xerxes. Journal of Hellenic Studies, 50. Moulton, J. H. (1913). Early Zoroastrianism. London: Williams and Norgate. Munn-Rankin, J. M. (1975). Assyrian Military Power 1300–1200 B.C.Chap. 25 in The Cambridge Ancient History, ed. I. E. S. Edwards et al. 3d ed. Vol. II, pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Nylander, C. (1979). Achaemenid Imperial Art. In Larsen, Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires, ed. M.T. Larsen. Copenhagen: Akademisk Forlag. Oates, J. (1979). Babylon. London: Thames & Hudson. Olmstead, A.T. (1923). A History of Assyria. New York: Scribner. --. (1948). A History of the Persian Empire. Chicago: University of Chicago Press. Postgate, J. N. (1974a). Some remarks on conditions in the Assyrian countryside. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 17. --. (1974b). Taxation and Conscription in the Assyrian Empire. Rome: Biblical Institute Press. --. (1979). The economic structure of the Assyrian Empire. In Power and Propaganda: A Symposium on Ancient Empires, ed. M.T. Larsen. Copenhagen: Akademisk Forlag. --. (1980). The Assyrian Empire. In the Cambridge Encyclopedia of Archaeology, ed. A.Sherratt. Cambridge: Cambridge University Press. Pritchard, J. B. (1955). Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Reade, J. E. (1972). The Neo-Assyrian court and army: evidence from the sculptures. Iraq, 34. Robertson, N. (1976). The Thessalian expedition of 480 B.C.Journal of Hellenic Studies, 96. Saggs, H.W. (1963). Assyrian warfare in the Sargonic Period. Iraq, 25. Walbank, F.W. (1981). The Hellenistic World. London: Fontana. Wiseman, D.J. (1975). Assyria and Babylonia —1200–1000 B.C.Chap. 31 in The Cambridge Ancient History, ed. I. E. S. Edwards et al. 3d ed. Vol. II, pt. 2. Cambridge: Cambridge University Press. Zaehner, R. C. (1961). The Dawn and Twilight o/Zoroastrianism. London: Weidenfeld & Nicolson.ГЛАВА 9 Римская территориальная империя
История Рима — это интереснейшая историческая лаборатория, которая доступна социологам. Она составляет 700-летний отрезок письменной истории и археологических находок, указывающие, по сути, на одно и то же общество, которое оставалось тождественным самому себе на протяжении всего этого периода и тем не менее постоянно адаптировалось к возмущениям, вызванным его внутренними силами, а также действиями соседей. Многие из процессов, которые будут рассматриваться в этой главе, уже, вероятно, встречались в предшествующих обществах. Теперь впервые мы можем четко проследить их развитие. Рим интересен его империализмом. Это было одно из наиболее успешных воинственных государств за всю историю, но помимо этого он также лучше предшественников умел удерживать завоеванные территории. Рим институционализировал правление своих легионов более стабильно и в течение более длительного периода времени, чем любое другое общество до него. Я собираюсь доказать, что эта империя доминирования действительно стала настоящей территориальной империей или по крайней мере поддерживала наивысший уровень и территориальный контроль, который вообще мог быть достигнут в рамках логистических ограничений, налагаемых аграрными обществами. Основа его власти была двухчастной, вобравшей в себя и распространившей два основных лейтмотива развития власти предшествовавших империй. Во-первых, Рим развил особую организационную форму принудительной кооперации, которую я называю легионерской экономикой. Во-вторых, он развил авторитетную власть классовой культуры до такого уровня, на котором все покоренные элиты могли быть инкорпорированы в римский правящий класс. Одно было основной иерархической дистрибутивной формой римской власти, другое — основной горизонтальной коллективной формой. Благодаря их объединению, которого Риму удалось достигнуть, Римская империя просуществовал так долго. Поэтому основная задача данной главы в том, чтобы объяснить возникновение и упадок новых форм социальной власти.ИСТОКИ РИМСКОЙ ВЛАСТИ
Греки, финикийцы и карфагеняне способствовали тому, что пограничные регионы между пахарями железного века и цивилизациями Восточного Средиземноморья сместились на запад. В Центральном и Северном Средиземноморье произошло «перекрестное опыление»[71]. На западном побережье Италии его основными агентами были этруски, вероятно, морские иммигранты с Балкан и Малой Азии, слившиеся с местными, коренными жителями. Около 600 г. до н. э. их культурное влияние на соседей превратило деревни на холмах в небольшие города-государства. Одним из них был Рим. Таким образом, две позиции отличали Грецию от Италии: последняя раньше получила преимущества от распространения инноваций цивилизованных торговых народов — грамотности, монетарного обращения, гоплитов, города-государства. К тому же Италия испытывала заметное и решающее давление народов, контролировавших моря. У италийских народов не было доступа к морской власти, крупной морской торговле и миграции морем. Первый из сохранившихся документов Рима, воспроизведенный Полибием, — это договор 508–507 гг. до н. э. с Карфагеном. Он подтверждает торговую монополию Карфагена в Западном Средиземноморье в ответ на гарантию территориальной гегемонии Рима в этой области. Земля и море были разделены. Восточное влияние на Рим или на любой другой латинский народ будет рассматриваться в ключе его влияния на развитие сухопутной власти. До конца не ясно, почему именно Рим достиг гегемонии и почему этруски не смогли сохранить свое региональное доминирование. Достоверно известна польза определенных римских соглашений, после того как его региональная гегемония уже была по большей части достигнута. Большую роль в военном возвышении Рима сыграл нежесткий тип армии гоплитов с кавалерийской поддержкой в относительно открытом пространстве. Этруски переняли гоплитскую форму начиная с 650 гг. до н. э., а римляне, в свою очередь, позаимствовали у них. Реформы царя Сервия Туллия (около 550 г. до н. э.) объединили тяжелую пехоту и кавалерию. Его пехотный легион, насчитывавший, вероятно, 3–4 тыс. человек, был организован в независимые центурии со щитами и длинными мечами, сопровождаемые 200 или 300 кавалеристами и вспомогательными отрядами. Легион составляли крестьяне, которые вели самостоятельное хозяйство и были менее политически сконцентрированы и эгалитарны, чем крестьяне в греческом полисе. Рим, вероятно, смешивал сильную трайбалистскую организацию с городом-государством. Три «дуализма» сохранялись и в более позднем римском обществе. Во-первых, сфера «частного» патриархального домохозяйства продолжала играть заметную роль наряду со сферой публичной политики: разделение между res public (государство) и res privata (частными делами). В каждой из сфер позднее развилось собственное, гражданское и частное право. Частное право распространялось на законные отношения между семьями. Во-вторых, наряду с официальными отношениями граждан и их разделением на сословия и «классы» сохранялись сильный клиентелизм, политические фракции и клики. Это, вероятно, возвращало их обратно к кланам и квазиродственным альянсам. В-третьих, в Риме также имел место дуализм государственно-политических структур между сенатом, вероятно выполнявшим роль собрания старейшин кланов и родов, и народом, суммированный в знаменитом девизе Рима — Senatus Ро-pulusque Romanus S.P.Q.R.[72] («Сенат и граждане Рима»). Этот характерный римский дуализм племени (рода) и города-государства предполагал модификацию греческой федерации сильных полисов в соответствии с нуждами сухопутной экспансии. Государственно-политические структуры включали два основных элемента. Первым был дуализм сената против народных собраний. Таково было происхождение «сословий» — сенаторских и всаднических, а также политических фракций: народной фракции и фракции лучших (то есть олигархической), которые были важны и в поздней республике. Наряду с этой иерархией существовала вторая иерархия классов в латинском смысле этого слова. Наше понятие «класс» происходит от римского elassis — ранжирование обязательств воинской службы в соответствии с имущественным критерием. Позднее римляне приписывали создание ранжирования Сервию Туллию. В те времена имущество измерялось в количестве голов крупного рогатого скота и овец. Самой древней формой, дошедшей до нас благодаря Титу Ливию и Цицерону, была форма из четырех типов центурий. Она измеряла имущество в весе бронзы. Самый богатый класс (разумеется, всадническое сословие) предоставлял 18 центурий (каждая центурия состояла из 100 человек) кавалерии; следующий класс —80 центурий гоплитов; следующий —20 центурий пехоты без кольчуг или щитов; следующий — 20 центурий без поножей; следующий — 20 центурий, экипированных только длинными копьями и метательными копьями; следующий — 30 центурий носильщиков. Они назывались assidui, поскольку предоставляли финансовую помощь государству. Ниже их были пролетарии (proletarii)., которые могли предоставить государству только детей (proles), составлявших одну номинальную центурию без обязательств воинской службы. Каждая центурия обладала равным правом голоса в основных народных собраниях — центуриатных комициях (comitia centuriata). Эта система проводила имущественный ценз на гражданство, наделяя правом голоса лишь мужчин, даже из числа пролетариев. С самого начала коллективная организация римской власти смешивала экономические и военные отношения. Это также была действительно «классовая» система в социологическом смысле (рассмотренном в главе 7). Классы были экстенсивно организованы вокруг государства в целом, они также были симметричными в этом отношении, хотя клиентелизм предоставлял «горизонтальные» организации, которые ослабляли вертикальную классовую борьбу. Но, как и в Греции, значительный вклад военных/политических сил делал эту систему отличной от современных классовых систем. Римский успех базировался на сплаве военной и экономической организации в государстве, связывающем стратификацию и гражданство с необходимостью ведения сухопутной войны. Римский милитаризм объединял два элемента, которые (вплоть до греческих гоплитов) были антагонистическими в древних обществах: разделяемое чувство «этнической общности» и социальную стратификацию. Это объединение было также полно созидательного напряжения. Оно вызвало два противоречащих социальных тренда. В отличие от Греции, где кавалерия были заменена тяжелой пехотой, в Риме одновременное развитие получили тяжелая кавалерия и тяжелая пехота. Роль легкой пехоты, набираемой из низших классов, была передана вспомогательным отрядам союзных народов. Сами римляне стали тяжеловооруженными гоплитами со снаряжением, предоставляемым государством. Но классовая борьба сохранила элементы социальной базы тяжелой пехоты и кавалерии. Последние были вынуждены принимать богатых плебеев (простолюдинов), тем самым пополняя свои ряды. Тем временем в 494 г. до н. э. крестьянские собственники поднялись на, возможно, первую из пяти военных забастовок, отказываясь нести военную службу до тех пор, пока им не будет позволено избирать трибунов от народа, которые должны были стать посредниками между ними и магистратами патрициев. Так была зафиксирована первая в письменной истории забастовка большинства. Классовая борьба внесла огромный вклад в военную эффективность Римской республики. Сочетание трайбалистских форм и форм города-государства, а также гражданского равенства и стратификации позволили римлянам гибко и конструктивно решать вопросы с покоренными и народами-клиентами в Италии. Одним давали гражданство, но без права голоса (которым они могли воспользоваться, только если эмигрировали в Рим), других рассматривали как автономных союзников. Основной целью был демонтаж потенциально враждебных лиг государств. В каждом государстве сохранялась своя классовая система, которая препятствовала созданию организаций против Рима на широкой «национальной» основе. Федеральные союзники играли важную роль на протяжении Пунических войн, предоставляя огромное количество вспомогательных отрядов вместо налогов и дани. Пока Рим оставался (маленькой) империей доминирования, а не территориальной империей, осуществляя господство через своих союзников и государства-клиенты без территориального проникновения. Эти тактики — военная и политическая — позволили Риму доминировать на юге Италии в течение нескольких веков. К 272 г. до н. э. Рим был слабо организованным федеративным государством с ядром, насчитывающим около 300 тыс. граждан, теоретически способных нести оружие, правившим территорией в 100 тыс. квадратных километров, с грамотной администрацией, регулярными переписями, развитой конституцией и правом. Около 290 г. до н. э. появились первые дворы для чеканки монет. Но пока Рим все еще был провинциальным отростком Восточного Средиземноморья. Первые трансформации произошли в ходе долгого конфликта с карфагенянами, которые препятствовали морской экспансии Рима, в том числе в южном направлении. В Пунических войнах, которые с перерывами велись начиная с 264 до 146 г., Рим построил флот и практически полностью уничтожил Карфаген, присвоив всю его наземную и морскую территорию. Вторая Пуническая война (218–201 гг. до н. э.) была эпической и решающей. Поворотным моментом было внезапное вторжение Ганнибала с небольшой армией в Италию, кульминацией которого стала его сокрушительная победа при Каннах в 216 г. до н. э. В этот момент карфагеняне не смогли снабдить его подкреплением для решающей атаки на Рим. Римская способность к самопожертвованию продемонстрировала милитаризм социальной структуры. В течение около 200 лет до 13 % граждан были единовременно «поставлены под ружье» и по крайней мере половина из них служили минимум семь лет (Hopkins 1978: 30_33) — Они вели войну на истощение против Карфагена, последовательно посылая многочисленные войска на фронт, заменяя убитых и раненых быстрее, чем это делал Карфаген. Постепенно они выбили карфагенян из Италии и Испании. По пути они свели счеты с кельтскими народами — союзниками Ганнибала, поскольку они были врагами Рима. Север и Запад теперь были открыты для имперских завоеваний. Затем они вторглись в Африку, разгромив армию Ганнибала в битве при Заме в 202 г. до н. э. Условия заключенного мира были унизительными для Карфагена и включали изгнание Ганнибала. Западное Средиземноморье теперь было открыто. В конце концов в Карфагене вспыхнул мятеж, и в 146 г. до н. э. город был уничтожен, его столицу сровняли с землей, а библиотека была символически пожертвована царю варваров Нумидии. Нам ничего не известно о карфагенской версии этих событий. Общепринято приписывать победу Рима большей сплоченности и гражданской верности крестьян-солдат по сравнению с олигархическими торговцами и купцами Карфагена — частичное повторение конфликта Греции против Персии и Финикии. Мы можем лишь предположить, что карфагеняне не могли восполнять свои потери в личном составе столь же быстро. Весьма показательным было различие в численности армий, которое приводит наш основной источник — Полибий: армия карфагенян насчитывала около 20 тыс. человек, а численность всех римлян и их союзников, способных держать оружие, составляла 770 тыс. человек. Полибий был греком, взятым в заложники в Риме в 167 г. до н. э. и преподававшим там. Симпатизировавший Риму, все более обеспокоенный угрозой со стороны Карфагена (он присутствовал при его разрушении), он описывает характерное для римлян милитаристическое видение их собственного общества (Momigli-апо 1975: 22–49). Размер римских сухопутных армий хотя и превышал размер армии Ганнибала, однако не являлся чем-то необычным, вероятно потери 45 тыс. убитыми в битве при Каннах были крупнейшими, но это составляло лишь две трети от того, что собирали эллинистические монархии Востока. Но центральная роль этих армий в развитии римского общества была несравнимо большей. Таким образом, в смешанных цифрах Полибия есть определенный смысл: все римские граждане сделали для нужд фронта больше, чем карфагеняне. Также необходимо прокомментировать ту легкость, с которой римляне достигли морского могущества. Полибий приписывает это мужеству моряков, которое компенсировало превосходство карфагенян в военно-морском деле. Военно-морской флот не развивался здесь в течение весьма долгого периода. Полибий рассказывает о том, как римляне захватывали карфагенские галеры и строили точно такие же. Баланс власти вновь качнулся в сторону сухопутных держав, которые (например, Рим) смогли выйти в море. Карфагеняне попытались предпринять обратное — высадить военно-морские силы на сушу — и потерпели поражение из-за более низкого качества и более легкой защиты основных пехотных сил. В экономических терминах они, как утверждается, удерживали все земли империи при помощи института рабства в шахтах и на обширных плантациях. Такое положение дел не могло породить боевой дух, эффективный для защиты своих территорий. Но передовым фронтом могла быть именно политическая власть Рима. Римляне постепенно, шаг за шагом пришли к изобретению экстенсивного территориального гражданства. Такое гражданство гарантировалось лояльным союзникам и было дополнением к интенсивному, греческого типа гражданству самого Рима, чтобы в итоге дать то, что, по всей вероятности, было самой высокой степенью коллективной приверженности, которую тогда можно было мобилизовать. На практике это изобретение обернулось против самой Греции. Используя конфликты между городами-государствами и македонским царством, Рим подчинил обоих. Этот процесс вызывает споры между исследователями, многие из которых озадачены тем, что римляне сначала не стали превращать Македонию в провинцию после ее поражения в 168 г. до н. э. Они задаются вопросом: существовали ли в самом Риме сомнения относительно империализма (Badian 1968; Whittaker 1978; Harris 1979)? Но это предполагало бы применение более поздней и решительно территориальной концепции империализма к ранним этапам римской истории. Как мы видели в прошлых главах, предшествовавшие империи правили с помощью местных элит и своих людей. Именно этим долгое время и занимались римляне, хотя затем они стали отчасти преднамеренно переходить к другим структурам. Практически полное уничтожение карфагенского правления в Испании, Сардинии, Сицилии и, наконец, в Северной Африке было мотивировано жаждой мести за унижения, которые они потерпели от Ганнибала и его предшественников. Но предсказуемым результатом такой политики были не союзники, над которыми осуществлялось доминирование и через которых можно было править, как было прежде, а провинции, захваченные территории. Они управлялись напрямую назначенными магистратами при поддержке гарнизонов легионеров. Это привело к новым имперским возможностям, а также внутренним политическим проблемам в самом Риме, а также среди его союзников. Такого рода прямое управление также было убыточным до тех пор, пока не были созданы провинциальные аппараты, способные собирать налоги, необходимые для обеспечения легионов. Для создания подобных аппаратов Риму потребовалось некоторое время, поскольку сначала было необходимо разрешить политические проблемы, причина которых заключалась в том, что эти завоевания подорвали всю структуру традиционного государства. Во-первых, войны положили конец добровольческой (призывной) армии граждан. Легионы стали практически постоянными, а служба в них — оплачиваемой (Gabba 1976; 1-20). Военная служба плюс сражения, происходившие на территории Италии, подорвали множество индивидуальных крестьянских хозяйств, загоняя их в долги. Их земли выкупили более крупные землевладельцы, а крестьяне мигрировали в Рим. Там они вынуждены были спуститься на класс ниже в иерархии обязательств воинской службы — в класс пролетариев. Сокращение крестьянских собственников означало, что теперь пролетарии поставляли солдат, чего не было прежде. Внутри самой армии иерархия росла потому, что солдаты потеряли свою политически автономную базу. Будь то завоеватель Испании и Северной Африки Сципион Африканский или другие генералы вскоре после него, которые снискали зловещую славу и триумф, достойные imperator (почетный титул полководца-победителя в Древнем Риме), сначала в качестве «генерала», а затем, разумеется, уже в качестве «императора». Во-вторых, в течение последующих полутора веков шел рост стратификации. Поздние римские авторы часто преувеличивали степень равенства в раннем Риме. Плиний повествует, что, когда в 510 г. до н. э. был изгнан последний царь, люди получили по наделу земли в семь югеров (древнеримская мера площади, равная примерно 1,75 гектара, то есть площадь, которую можно было вспахать за один день парой волов). Этого было недостаточно для прожиточного минимума семьи. Тем не менее образ равенства, по всей вероятности, базировался на определенной реальности. Но затем в результате успешной имперской экспансии имущество частных лиц и плата за службу в армии расширили масштабы неравенства. В IV в. до н. э. Красс, по общему убеждению самый богатый человек своего времени, обладал состоянием в 192 млн сестерциев (HS)[73], чего было вполне достаточно, чтобы прокормить 400 тыс. семей в год. Другой, хорошо известный римлянам подсчет гласит, что 100 тыс. HS в год нужно, чтобы жить безбедно, и 600 тыс. HS — чтобы жить хорошо. Такие доходы в 200 и 1,2 тыс. раз превышали прожиточный минимум семьи. В армии дифференциация доходов также росла. Около 200 г. до н. э. центурион получал в два раза больше трофеев, чем обычный солдат, но в I в. при Помпеях центурионы получили в 20 раз больше, чем солдаты, а старшие офицеры — в 500 раз больше. Различия в регулярных выплатах также возросли: центурион получал в 5 раз больше солдата, а к концу республики — в 16—60 раз больше, чем при царствовании Августа (Hopkins 1978: глава 1). Объяснение такого роста неравенства заключается в том, что прибыли империи были доступны лишь для немногих. В Испании бывшие владения Карфагена включали богатые серебром шахты, а также большие сельскохозяйственные плантации, возделываемые рабами. Кто бы ни контролировал римское государство, он мог пожинать все плоды завоеваний, занимать новые административные должности и получать доходы от них. Народные элементы римской конституции служили защите людей от произвола чиновников. Однако возникавшие властные, военные и гражданские должности за рубежом были сконцентрированы в руках двух высших сословий: сенаторов и всадников. Сбор налогов, например, отдавался на откуп сборщикам налогов, зачастую происходившим из сословия всадников. Прибыли империи были огромными и распределялись неравномерно. В-третьих, рост рабства в результате завоеваний создавал политические проблемы. Разумеется, они, в свою очередь, провоцировали конфликты, нуждавшиеся в разрешении. Рим имел огромное количество рабов, сосредоточенных в одном месте. Такие рабы были способны к коллективной организации. В 135 г. первое значимое восстание рабов разразилось на Сицилии. В него были вовлечены до 200 тыс. рабов. После четырех лет борьбы восстание было жестоко подавлено, не распространившись на другие территории. Такая жестокость была характерна для римлян и не вызывала вопросов. Но рабство оказало катастрофическое воздействие на беднейших римских граждан. Их спикером стал Тиберий Гракх — выдающийся римский сенатор. Он вернулся в Италию в 133 г. до н. э. после долгой службы за границей и был поражен уровнем рабства и исчезновением свободных крестьян. Гракх предложил восстановить старый порядок, в соответствии с которым земли, приобретенные в результате завоеваний, распределялись между пролетариями. Это должно было облегчить их страдания и увеличить количество мелких землевладельцев, подлежавших призыву на военную службу. Он требовал, чтобы никто не мог присвоить более 500 югеров государственных земель. Это противоречило интересам богачей, которые получали общественную землю еще больших размеров. Тиберий Гракх был безжалостным политиком и сильным оратором. Он использовал данные о недавних восстаниях рабов в своей речи, перефразированной Аппианом в «Гражданских войнах»: С негодованием говорил Гракх о массе рабов, непригодных для военной службы, всегда неверной по отношению к своим господам. Он напомнил о том, как незадолго до того в Сицилии господа пострадали от рабов, сильно увеличившихся в числе из-за нужды в рабских руках для земледельческих работ, как трудно и долго римлянам пришлось бороться с этими рабами, как затянулась эта борьба и сколько разнообразных и опасных перипетий она имела [Appian 1913: I.g; Ап-пиан., 1935]. Но его интересовали вовсе не рабы, а граждане. Именно их тяготы вызвали великолепную тираду, переданную Плутархом в его «Жизнеописании Тиберия Гракха»: Дикие животные имеют пещеры и логовища, а у граждан, сражающихся за Италию, не осталось ничего, кроме воздуха и солнечного света; бесприютно скитаются они с семействами по стране, которую завоевали их предки и защищают их сыновья. Полководцы произносят пустые лживые фразы, когда перед началом битвы убеждают воинов сражаться за могилы предков и домашние жертвенники, ни у одного нет могильной насыпи, на которой он мог бы совершить возлияния теням предков; эти воины сражаются и умирают для приобретения роскоши и богатства другими; их называют владыками всего мира, а между тем нет у них ни малейшего клочка земли [Plutarch 1927:10]. На фоне растущей напряженности, когда Рим был исписан призывами на стенах домов, свидетельствовавших в том числе о широком распространении грамотности, Тиберий Гракх был незамедлительно избран народным трибуном. Пренебрегая традиционными процедурами, он обошел вето своего товарища — консервативного трибуна[74], издал закон о земле и попытался распределить царские сокровища Пер гама (см. далее в этой главе) между новыми фермерами. В следующем году он вновь попытался нарушить традиции, выставив свою кандидатуру на должность трибуна второй раз подряд. Разумеется, на кон было поставлено нечто гораздо большее, чем публичные земли сами по себе, — вопрос о том, будут ли простые люди участвовать в распределении прибылей империи. Ответ был насильственным. В день выборов группа сенаторов под предводительством первосвященника, который сам захватил большие участки государственной земли, убила Тиберия Гракха и его невооруженных сторонников. Борьба Гракха была подхвачена младшим братом Гаем, которому удалось поддерживать схему распределения земли до своей смерти во время гражданских беспорядков в 121 г. до н. э. Распределение земли было отменено в ng г. до н. э., когда консерваторам удалось восстановить политический контроль над сенатом. Демократия участия потерпела поражение. Политический конфликт внутри Рима проявился в виде двух вспышек насилия — первого организованного насилия на улицах Рима в истории республики. Господство высших сословий было закреплено и усилено. От бедняков откупились сначала субсидиями на зерно, затем достаточно свободным распределением зерна и путем установления крестьянских военных поселений сначала в Италии, а затем во всех покоренных землях, что означало верность курсу дальнейшей имперской экспансии. На самом деле это привело к своего рода «империалистическому государству всеобщего благоденствия», сравнимому с аналогичным феноменом XX в. в двух отношениях: необходимость отвечать на требования, вызванные империалистической экспансией и войной с мобилизацией масс, и способность отводить эти требования в сторону от фундаментальных структур власти. Обычные граждане больше не играли важной роли в центральных политических институтах. Рим все в меньшей степени управлялся «этническим сообществом» и все в большей — эксплуататорским «классом». Империализм набирал обороты. Ощущалась настоятельная необходимость в профессиональной армии. Поражения в Галлии привели к панике в Риме и военной реформе консула Гая Мария в 108 г. до н. э. Марий узаконил политику набора в армию волонтеров из пролетариев, им платили зарплаты и обещали земли в качестве пенсии после 16 лет службы. Союзники предоставляли практически всю кавалерию, а также вспомогательные отряды. Связь межу армией и классовой градацией римских граждан была сломлена. Высшее командование по-прежнему состояло из выходцев из высших классов и сословий, но теперь командные структуры сами по себе больше не были основанием гражданской иерархии. Армия стала автономной. Но реформы Мария выявили вторую важную проблему. Что делать с союзниками? К тому моменту, когда мы можем подсчитать реальный размер союзных отрядов в армиях, они уже превосходили по численности сами легионы. Брант (Brunt 1971а: 424) приводит следующие цифры: 44 тыс. легионеров и 83,5 тыс. союзников в 200 г. до н. э. Хотя это и является самой большой диспропорцией за все время, Брант демонстрирует, что количество союзнических войск постоянно превышало количество легионеров. Соответственно, союзники стали требовать полных гражданских прав. В рамках «союзнических войн» (Social Wars) (хотя более адекватным переводом с латинского было бы «войны между союзниками») между Римом и некоторыми его итальянскими союзниками в 91–89 гг. до н. э. эти права были дарованы, чтобы избежать дальнейших проблем. Это согласовывалось с римскими традициями править, сотрудничая с местными элитами. Предоставление гражданских прав итальянским элитам не было опасным в данный момент, когда стратификация внутри гражданского тела возросла. Когда римские права и обязанности были распространены и на другие города, municipia (муниципии) и солдатские со-loniae (поселения, колонии), Италия стала более единообразной по своей структуре, а при Цезаре — и вся империя в целом. Как только стало очевидно, что с другими могут поступить как с союзниками, а не как с Карфагеном, антипатия к Риму среди местных элит уменьшилась. Греческие города адаптировались к римскому господству. Северо-западное побережье Малой Азии было также завещано Риму в 133 г. до н. э. бездетным царем Пергама Атталом III, поскольку местные элиты боялись революции и искали защиты у Рима. Римляне постепенно развили политическое единство среди высших классов на всей территории республики-империи. Теперь, когда прибыли империи были огромными, когда итальянские высшие слои были разделены на фракции, а низшие слои больше не представляли угрозы, политическая фракционная борьба между высшими классами стала более интенсивной. Безусловно, эта борьба могла ограничиваться рамками традиционных политических структур, особенно учитывая изменившуюся природу армии. Армия в целом была основным инструментом контроля над республикой/империей. Поскольку армия лишилась привязки к гражданству в республике, ей суждено было стать автономным фактором в сложившийся ситуации. Более того, само внутреннее единство армии становилось проблематичным. Марий немного расширил численность легиона до 6,2 тыс. человек плюс когорта из 600 кавалеристов. Он также сократил размер обоза, тем самым нагрузив своих солдат («мулов Мария») продовольственными запасами, снаряжением и инструментами, необходимыми для строительства дорог. Отдельно взятый легион стал эффективной единицей политической консолидации, улучшавшей системы коммуникации по мере завоеваний (более всего последнее). Но межрегиональная интеграция оставалась проблематичной. Легионы размещались индивидуально или целыми армиями, включавшими до шести легионов, на расстоянии сотен миль друг от друга. Ими едва ли можно было управлять при помощи единой командной структуры, учитывая ограничения, накладываемые существовавшими на тот период средствами коммуникации. Традиционный контроль со стороны сенаторов и граждан был ослаблен, поэтому государству было не под силу поддерживать единство армии. Имела место тенденция к фрагментации ее на отдельные армии, возглавляемые генералами, разделенными между собой личными амбициями, фракционной борьбой верхов и исходным расхождением в политических взглядах. Все генералы были сенаторами, но покровителем одних выступал сенат, а других — народные собрания (партия лучших, избранных и народная партия); иные вовсе не связывали себя с какой-то одной политической или классовой фракцией. Но ни один из них не командовал или не мог командовать без политической легитимации. Все получали разрешение, особенно если при помощи консульской власти необходимо было навести порядок или разобраться с восстанием в завоеванных провинциях либо завоевать новые провинции. Политическая структура, которая сдерживала их, была описана Полибием как «смешанная форма государственного строя». Он утверждал: Даже для коренных жителей невозможно было понять, была ли система аристократической, демократической или монархической. В самом деле: если мы сосредоточим внимание на власти консулов, государство покажется вполне монархическим и царским, если на сенате — аристократическим, если, наконец, кто-либо примет во внимание только положение народа, он, наверное, признает римское государство демократией [Polybius 1922-7: VI, 11]. Но власть и необходимость отдавать приказы находились в руках генералов консула, а потому происходило постепенное скатывание к монархии. Генералам приходилось вмешиваться в политику. Лояльность солдат зависела от их способности защищать пенсионное законодательство в форме жалования земли. А как мы уже успели убедиться, земельное законодательство было противоречивым. Консул, занимая свой пост в течение всего лишь одного года, должен был выстроить политическую фракцию и, используя насилие, взятки или угрозу насилия, добиться необходимого законодательства. Противоречие между военной и политической властью было разрешено генералами. В течение следующих 100 лет генерал с зависевшими от него легионами был арбитром римской власти иногда единолично в качестве диктатора, иногда в рамках непростого союза в качестве консула с соперничавшими с ним генералами, иногда в рамках открытой гражданской войны с ними. История данного периода — это действительно одновременно история Мария и Суллы, Помпея, Красса и Цезаря, Антония и Октавиана. Такая история могла иметь, вероятно, два альтернативных исхода: империя могла быть фрагментирована (как случилось после смерти Александра Македонского) на несколько княжеств или же один из генералов мог стать верховным главнокомандующим, императором, Когда Октавиван получил титул Августа в 27 г. до н. э., он действительно стал императором и его наследники в конечном счете также стали рассматриваться в качестве таковых. Республика/империя наконец стала империей.РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ — С ИМПЕРАТОРОМ ИЛИ БЕЗ
Основанием для большинства периодизаций истории Рима служит изменение государственного устройства. Республика просуществовала вплоть до возвышения Августов[75] между 31 и 23 гг. до н. э. Затем приход к власти Диоклетиана в 284 г.н. э. ознаменовал смену принципата (первый среди равных) на доминат. Однако основообразующие структуры Рима оставались теми же в течение конституционных изменений начиная с 100 г. до н. э. до начала их упадка после 200 г. н. э. и, вероятно, вплоть до 350 г. н. э. В течение этого периода Рим был империей с «императором» или без него, правившей огромными территориями при помощи потенциально централизованной армии и бюрократии, включавшей колоссальные неравенства в собственности и власти, которые эффективно лишали власти обычных граждан. Это была империя доминирования, тем не менее она также включала характеристики железного века, которые повсеместно подрывали структуры принудительной кооперации. Это была монетарная экономика и грамотное общество. Империя включала частных собственников. Она была космополитической и во многих отношениях слабо централизующей огромное количество децентрализованных провинциальных отношений власти. Тем не менее Рим не пошел по пути Персидской империи. Римская империя инкорпорировала в состав своих правящих классов все местные элиты империи и навязала наиболее интенсивные и экстенсивные формы принудительной кооперации в Древнем мире, которые я называю легионерской экономикой. Эти формы власти сделали из Рима первую в истории территориальную империю начиная примерно с 100 г. до н. э. и далее. Мой подход к изучению уникальных конфигураций римской власти заключается в последовательном исследовании основных властных (или безвластных) акторов, включенных в империю. Таковых изначально было четыре: рабы, свободные граждане, высшие классы землевладельцев, по большей части состоявшие из сенаторского сословия и сословия всадников, местные элиты провинций и государственная элита[76]. Однако со временем два первых класса акторов слились в одну группу — массы. С них я и начну.МАССЫ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ: СВОБОДНЫЕ И РАБЫ
Истоки римского рабства весьма сходны с истоками рабства в Греции. И Рим, и Греция имели небольшие источники рабов, как правило, это были завоеванные народы. Ни у греков, ни у римлян свободные граждане на регулярной основе не работали на других свободных граждан. И те и другие испытывали нехватку рабочих рук в силу требований политического гражданства и военной службы. Оба государства получили огромное количество рабов, хотя Рим, в отличие от Греции, приобретал своих рабов в результате завоеваний. Карфагенские плантации рабов продемонстрировали, что интенсивное земледелие создает больше излишков, чем небольшой крестьянский надел. Римские трактаты по земледелию начали рекомендовать небольшие рабочие бригады для обработки поместий размером в несколько сотен югеров. Граждан таким образом использовать было нельзя, другое дело — рабы. Хотя завоевания прекратились, рабы были недороги. Экономические преимущества рабства использовались с большим удовольствием. Поскольку рабами обычно становились отдельные люди, а не семьи (как это было со свободным трудом), поддержание их существования стоило меньше, к тому же это не вело к чрезмерно большой занятости в сельском хозяйстве. Нам не известно, насколько широко в действительности было распространено рабство. Оценки наивысшего уровня рабства в римской Италии в конце I в. до н. э. варьируются от 30 до 40 % от общей численности населения (Westermann 1955; Brunt 1917а: 124; Hopkins 1978: 102). Сведений о провинциях, естественно, недостаточно, но доля рабов здесь почти всегда была значительно меньше. Из данных переписи в Египте известно только о 10% рабов за пределами Александрии (где эта доля должна была быть больше). Известный доктор Гален рассказывает о том, что рабы составляли около 22 % населения территории Пергама. Доля рабов в населении оставалась приблизительно на том же уровне в течение 100, возможно, 150 лет начиная с 50 г. до н. э. до 50 или 100 г.н. э., затем их количество сократилось, поскольку завоевания прекратились. Римляне не покупали рабов в таких масштабах, как греки, они также не покупали рабов в большом количестве (как это было в Америке нашей эры). И возможность содержать рабов в таком количестве, и коммерческое рабство были явно жизнеспособными. Поэтому встает закономерный вопрос: почему рабство исчезло? Ответ заключается не в гуманизации разума или в страхе перед восстаниями рабов. Великое восстание Спартака было повержено в 70 г. до н. э., и из записей нам известно многое о том, как подавление этого восстания Крассом повлияло на его политическую карьеру, и лишь немногое о Спартаке и его последователях. Известно, что Красс уничтожил 6 тыс. мятежников. После этого не произошло ни одного восстания рабов. Сельскохозяйственные рабы, утверждает Варрон[77], были «говорящими орудиями», волы были «полуговорящими орудиями», а телеги были «немыми орудиями». Подобная фигура речи была необходима, поскольку рабами владели как частной собственностью. Отсутствие в римской традиции постоянного труда свободных людей с легкостью позволяло легитимировать собственность на землю и орудия. Сельскохозяйственным рабам (и рабам-шахтерам) отказывали в принадлежности к человеческой расе. Вместе с тем не все рабы рассматривались подобным образом. Особые трудности создало завоевание Греции. Многие из тех, кто попал в рабство, обладали более высоким уровнем развития, чем их завоеватели. Теперь на Западе можно было обнаружить рабов-профессоров, докторов и даже государственных служащих. Некоторые из них действительно попали в центральную администрацию с началом утверждения принципата и ранней империи. Теорию Варрона было тяжело или практически невозможно применить к таким людям без коллизий. Некоторые рабы были способны вступать в контрактные отношения, получать зарплату и выкупать свою свободу на условиях, которые иногда были оговорены де-юре, иногда де-факто, а часто ad hoc. Рабство разбавлялось свободой и свободным наемным трудом. Подобное разбавление и размывание также набрало обороты со стороны свободного труда, и, что важнее, — в сельском хозяйстве. Рабство было одной из составляющей процесса, посредством которого разделались с крестьянскими собственниками. Некоторые из них, залезшие в долги и потерявшие свою землю, мигрировали в Рим или в колонии крестьян-солдат в провинциях. Другие сохранили свою землю, но в качестве арендаторов земли должны были крупным землевладельцам отработки. Третьи сохранили права собственности на землю, но работали на землевладельцев в качестве временных рабочих во время жатвы и в сезонные периоды. Аренда и временный наем создали альтернативные рабству формы эксплуатации труда граждан. Поскольку рабство росло, то же происходило и с этими формами с небольшим временным лагом. Они достигли четкого законодательного закрепления, даже несмотря на то, что рабство было в зените своего расцвета (этот процесс подробно описан у Jones 1964: II, 773–802; Finey 1973: 85–87; Ste. Croix 1981: 205–259). Это было крайне важно, поскольку в античной крестьянской экономике увеличить производство излишков означало заставить крестьян работать больше и лучше — этого требовало дальнейшее экономическое развитие, которое вело к большему слиянию свободных и рабов в целом. Контроль за трудом других, будь то в форме свободного наемного труда или арендной зависимости, рассматривался как сочетаемый с общим членством в одном и том же сообществе власти. Даже если гражданство стало номинальным, наемные рабочие и арендаторы обладали законными правами и обязанностями. Членам одной и той же группы теперь было гораздо легче эксплуатировать друг друга, чем в предшествовавших империях. Рабство больше не было основообразующим; развивались другие интенсивные формы эксплуатации труда. Один из двух альтернативных статусов — зависимые арендаторы — постепенно становился доминирующим, вероятно, в силу продолжавшегося экономического давления на свободных крестьян. Существует мало непосредственных свидетельств, однако считалось, что при принципате статус колона (colonus), то есть крестьянина-арендатора, связанного с землевладельцем пятилетней арендой, начал преобладать. Позднее зависимость стала постоянной и наследуемой. Из-за долгов свободные крестьяне стали крепостными. После 200 г.н. э. большие группы варваров-пленников распределялись не как рабы, а как колоны. Для интенсивной эксплуатации труда рабы больше не требовались. Два изначально различных статуса — свободные граждане и рабы — практически повсеместно слились в Римской империи. Вероятно, величайшим символом, отразившим это слияние, был знаменитый эдикт императора Каракаллы 212–213 гг. до н. э.: «Я дарую римское гражданство всем иностранцам по всему миру, сохраняя все муниципальные права без изменений… Отныне массы будут разделять не только все наши тяготы, но и плоды наших побед» (цит. по: Jones 1970: II, 292). Все, за исключением рабов, происходивших от «сдавшихся», теперь стали гражданами. Но их количество, а также неравенство между ними были слишком велики для реального участия в политике. Это означало равенство перед законом, государством, высшим классом — разделение «тягот», а не «плодов побед», обещанных Каракаллой. С партиципаторным активным гражданином было покончено. Таким образом, о людях, проживавших на территории Римской империи, стали говорить (за исключением или в меньшей степени рабов) как о массифицированных, разделивших общий опыт и общую судьбу. Различия в национальности, гражданстве и владении землей были до определенной степени размыты. Но массы не были активной действующей силой в римских структурах власти. Они даже не были «экстенсивным классом», не говоря уж о политическом классе. К концу республики даже столичное простонародье было исключено практически из всех политических институтов государства. Что касается неофициальных действий, то исследователи часто отмечают «поразительное» отсутствие крестьянских восстаний в имперском Риме (Jones 1964: II, 811; MacMullen 1974: 123–124). На самом деле мы не можем быть уверены, отсутствовали ли восстания или записи о них. Владевшие грамотой классы, по всей видимости, не хотели фиксировать и описывать неповиновение своих подданных. Однако там, где они это делали, подданные редко угрожали их правам и имели отношение только к борьбе между имущими классами. Это отражает подлинную причину большинства восстаний. Острые социальные конфликты постоянно сотрясали Римскую империю, как и все древние империи. В недавно завоеванных обществах, расположенных вдалеке от коммуникационных путей, где только недавно навели порядок, те, кто мог позволить себе укрепить свои дома, так и поступали. Бандитов никогда нельзя было сбрасывать со счетов. В определенном смысле бандитизм был извращенной классовой борьбой. Членами банд обычно становились сбежавшие рабы, крестьяне и солдаты, для которых эксплуатация стала непосильной. Но они не противостояли сборщикам ренты или налогов — они либо сбегали, либо сотрудничали с ними. На самом деле, как отмечает Шоу (Shaw 1984), бандиты иногда были «полуофициальными» союзниками местных землевладельцев или даже местных властей, альтернативным источником репрессий в обществе, которому не хватало сил гражданской полиции. Более организованные конфликты, включавшие классовые вопросы и трансформационные цели, также нетрудно найти. Выделим четыре основных типа таких конфликтов. Первым и наиболее распространенным были городские беспорядки, не столько восстания, сколько призывы к государственной помощи и правосудию, как правило, против местных элит и чиновников (Cameron 1976; de Ste. Croix 1981: 318–321). В дополнение к полуинституционализированным процессам выделяются еще три более угрожавших типа беспорядков. Наиболее частым были восстания рабов, как правило, недавно порабощенных групп, а потому гораздо более редкие в империи, чем в республике. Эти восстания были направлены на физическую расправу (или, возможно, порабощение) владельцев поместий и восстановление свободной обработки земли. К сожалению, нам больше ничего не известно о форме производства, которую они устанавливали. Конфликты были нацелены на искоренение экономической эксплуатации, но они были локальными и редко широко распространялись (Thompson 1952; Mac Mullen 1966: 194–199, 211–216; Mac Mullen 1974). Двумя другими разновидностями конфликта, достигавшими широкой организованной формы, являются те династические гражданские войны, которые включали элемент классового недовольства (меньшая часть из них). Ростовцев (Rostovtzeff 1975) утверждает, что гражданские войны III в.н. э. были местью крестьянских солдат классовым врагам в городах. Хотя в настоящее время эта точка зрения непопулярна, возможно, два верных момента в ней все же были: армия была основным каналом восходящей социальной мобильности, к тому же ограбить горожан было неплохим способом для крестьян поправить свое материальное положение. Однако, чтобы достичь этого, крестьянин-солдат должен был подчиняться авторитету командира, практически всегда богатого землевладельца. Второй формой конфликта, характерного в основном для поздней империи, была религиозная ересь. Некоторые из таких движений, особенно донатисты из Нумидии в начале IV в.н. э., преследовали социальные и перераспределительные цели, хотя они и сосуществовали с региональными и религиозными сепаратистскими тенденциями, к обсуждению которых я перейду в следующей главе. Универсально-классовые аспекты этих беспорядков подрывались склонностью крестьян определенной местности к подчинению локальной власти ради защиты от налогообложения государства. Иными словами, горизонтальная борьба в патрон-клиентских организациях подрывала «вертикальную» классовую борьбу. Кроме того, крестьяне также зависели от неэкономических форм организации изначально существовавшей армии или церкви/секты. Обычно результатом таких конфликтов была либо дезинтеграция (обращение к региональной власти), либо воспроизводство государства без каких-либо изменений (в случае удавшихся династических распрей). Они не приводили к трансформациям в государстве или экономике, не считая откатов в регрессивном направлении. Когда народ был политически активным, это было, как правило, в рамках клиентской группировки, а не классовой организации. Классовая борьба была в основном «латентной», классовое недовольство перенаправлялось в горизонтальный конфликт. Применительно к народной борьбе в рамках ранней республики классовый анализ современного социологического типа применим лишь с определенными ограничениями, а затем его релевантность снижается. Ничто из этого не вызывает удивления, если мы тщательно проанализируем размеры и природу крестьянской экономики. Как и практически во всех доиндустриальных экономиках, около 80–90 % населения работало на земле. 90 % сельскохозяйственной продукции уходило на то, чтобы удовлетворить спрос оставшихся городских и элитных групп. Уровень потребления крестьян стремился к прожиточному минимуму, в основном они потребляли то, что сами же производили. Поэтому большая часть экономики была локализована. С точки зрения главы крестьянского домохозяйства, экономика была по большей части клеточной, то есть отношения обмена были ограничены пространством в несколько миль, внутри которого было целесообразно выставлять продукцию домохозяйства на обмен или продажу. Транспортные технологии и издержки (к которым я скоро перейду) вносили в это основной вклад. Клеточная структура могла быть модифицирована близостью к морю и судоходной реке. В подобных областях больший контакт с миром был возможен. Тем не менее даже города, обычно расположенные на реках или средиземноморском побережье, всецело зависели от прилегавших к ним пригородов (Jones 964: II, 714). Даже учитывая такие локальные рынки, объем торговли был низок: согласно одной, хотя, возможно, сомнительной оценке, в IV в.н. э. поступления от нового налога Константина в городскую торговлю составили только 5 % от налога на землю (Jones 1964: I, 466; для более тщательного изучения торговли см. Hopkins 1977). Таким образом, сети экономического взаимодействия населения ограничивались их местностью, что было достаточно для удовлетворения их экономических потребностей. Какого рода классовых действий можно ожидать от них в экстенсивной империи? «Экстенсивные классы» могли существовать только в случае, если существовали соответствующие взаимодействия. Поэтому до известной степени Рим был основан на определенном количестве практически самодостаточных производственных единиц, он мог включать множество локальных, маленьких, подобных друг другу «классов» непосредственных производителей, а не распространенный на все общество производственный класс, способный преследовать свои интересы. Массы были пойманы в ловушку правителями более экстенсивных «организационных структур», которые в организационном отношении их превосходили. В крестьянских экономиках, которые мы до сих пор исследовали, коллективное действие было возможно лишь в рамках небольших сконцентрированных сообществ, усиленных военной организацией граждан (особенно в Греции и раннем Риме). По мере расширения империй и исключения людей из имперских политических структур их способность к экстенсивной организации снижалась. Римские классовые структуры стали менее «симметричными», и нелатентная классовая борьба стала оказывать меньшее влияние на социальное развитие Рима. Я называю народ именно «массами», вместо того чтобы дать ему обозначение «класс». Но прослойка с достатком выше уровня прожиточного минимума и самообеспечения, какой бы узкой она ни была, также представляет для нас интерес. В конце концов Рим интересен только тем, что он был не просто примитивным сообществом самодостаточных фермеров, что крестьяне были соединены, хотя и весьма тонкой связью, с более процветавшим и «цивилизованным» миром. Пришло время вернуться к преимуществам империи, описанным в главе 5, на конкретном примере Рима и попытаться оценить их количественно.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПЕРИИ ДЛЯ МАСС
Рост урожайности зерновых (yield ratio) — один из пяти признаков, свидетельствующих о росте материального благосостояния с установлением империи, и, наоборот, урожайность снизилась, когда империи не стало. Зерновые были товарами первой необходимости практически во всех аграрных экономиках. Часть зерна оставляли в качестве семенного фонда на следующий год. Отношение общего объема урожая к семенному фонду (harvest-to-seed ratio) дает нам индекс уровня развития производительных сил, поскольку уже включает в себя все технологические усовершенствования. Вместо того чтобы долго обсуждать различные пахотные технологии, системы севооборота и тому подобное, я лучше представлю отношения урожая к семенам. Существующие данные отрывочные и спорные, но некоторые сравнительные заключения могут быть сделаны для всей европейской истории. Римские данные относятся к периоду начиная с I в. до н. э. до II в.н. э. — пику могущества Рима. Данные, однако, различаются. Цицерон показывает, что урожайность лучших земель в Сицилии находилась между 8:1 и 10:1, что, разумеется, обусловлено хорошими вулканическими почвами. Варрон утверждает, что урожайность Этрурии находилась между 10:1 и 15:1. Это, как следует из его слов, также был весьма плодородный регион, поскольку Колумелла пишет, что урожайность Италии в целом составляла 4:1. Большинство исследователей полагаются именно на эти оценки. Какой бы ни была точность этих римских данных, после исчезновения Западной Римской империи наблюдалось заметное снижение урожайности. Разумеется, того же следовало ожидать и в отношении прочих земель, и данные об урожайности подтверждают это. В VIII и IX вв.н. э. данные доступны для двух французских и одного итальянского феодов, которые, согласно Дюби (Duby 1974: 37_39), демонстрируют урожайность не более чем 2,2:1, а некоторые цифры и того меньше. Это означало, что около половины урожая оставляли на семена, а такое отношение весьма близко к уровню голода. Однако Слихер ван Бас (Slicher van Bath 1963: 17) убежден, что Дюби ошибся в расчетах и настоящие данные IX в. составляют около 2,8:1, что все еще значительно ниже римских показателей урожайности. Многочисленные данные по двум следующим столетиям демонстрируют медленный, но устойчивый рост урожайности. Данные об урожайности XIII в. (зачастую по Англии) варьируются в диапазоне от 2,9:1 до 4,2:1; урожайности XIV в. (включая Францию и Италию) варьируются между 3,9 и 6,5 (Slicher van Bath 1963; Titow 1972; см. также табл. 12.1). Для XVI и XVII вв. мы можем использовать итальянские данные, которые проще сравнивать с данными периода Римской империи. Они лишь немного превышают данные Римской империи, варьируясь между 1:1 для беднейших регионов и 10:1 для самых плодородных областей со средним значением около 6:1 (Cipolla 1976: 118–123). Эти данные свидетельствуют о значительных экономических достижениях Римской империи, не имеющей себе равных в сельскохозяйственном отношении в своих центральных областях на протяжении тысячи лет. Второй признак сравнительного материального благосостояния следует из конвенционального допущения о том, что денежный расчет свидетельствует о более высоком уровне жизни, чем натуральный расчет, поскольку предполагает большее разнообразие продуктов, которые могут быть обменены как товары. Эдикт о ценах римского императора Диоклетиана 301 г.н. э. предписывал нижеследующее распределение частей заработка городских рабочих: одна часть в натуральном расчете и от полутора до трех частей в денежном выражении. Похожий государственный указ в Англии XVI в. предполагал, что на материальное содержание должна уходить по меньшей мере половина зарплаты рабочего. Это может свидетельствовать в пользу более высокого уровня жизни в Риме и городских областях империи, чем в Англии (Duncan-Jones 1974: u_i2, 39“5Э) — Сбор ренты или налога в денежном выражении оказывал благоприятное экономическое воздействие на торговлю, поскольку, чтобы заработать деньги, приходилось обмениваться продуктами, тогда как рента или налоги в натуральном выражении были просто односторонним изъятием, не ведущим к дальнейшему обмену. Римская система налогообложения подразумевала существенно более широкое денежное обращение, чем в предшествовавших государствах, за исключением налоговой системы Греции. Третий признак — археологический. Хопкинс пришел к заключению, что «римские археологические находки насчитывают больше артефактов, чем доримские: больше монет, горшков, ламп, орудий, больше резьбы по камню и орнаментов, что в итоге свидетельствует о более высоком уровне жизни» (Hopkins 1980: 104). В отношении провинций, присоединенных намного позже, таких как Бретань, также обнаруживают рост сельскохозяйственной активности, включая огромные области, которые стали обрабатываться впервые. Четвертый признак касается совершенствования сельскохозяйственных технологий. В рамках существования поздней республики и раннего принципата наблюдается постепенное распространение огромного разнообразия культур (овощей, фруктов и поголовья скота) и удобрений (White 1970). Однако были и индикаторы последующей технологической стагнации, к которой я вернусь далее в этой главе. Пятым признаком был размер и плотность населения. Источники по Италии, прежде всего переписи поздней республики, вполне убедительны, хотя об остальном населении империи имеются только предположения. Классическое исследование К. Ю. Белоха (результаты которого на английском были обобщены Расселом (Russell 1958) было дополнено современными работами (особенно исследованием Бранта (Brunt 1971). Итальянское население в 225 г. до н. э. составляло 5–5,5 млн человек с плотностью 22 человека на квадратный километр. К 14 г. н. э. оно выросло по меньшей мере до 7 млн с плотностью 28 человек на квадратный километр. Согласно Расселу, эти цифры снизились во время упадка и исчезновения Западной Римской империи до примерно 4 млн к 500 г.н. э. Затем около 600 г. н. э. наблюдалось небольшое увеличение, которое вернулось к античному максимуму только к XIII в. Уровень населения империи в целом не так очевиден. Белох оценивает его в 54 млн в 14 г.н. э., хотя в настоящее время эта оценка рассматривается как заниженная, особенно по отношению к западной части империи (особенно Испании). По последним оценкам, среднее значение составляло около 70 млн с плотностью 21 человек на квадратный километр. Прослеживание хронологии последующего снижения и затем восстановления численности населения империи в целом невозможно, но оно, вероятно, соответствует итальянскому образцу. Имеют место два интересных момента. Во-первых, численность населения росла с возвышением республики/империи и сокращалась по мере ее упадка. Римляне успешнее поддерживали растущее население, чем это было возможно раньше или чем это удавалось в течение более чем 500 лет после политического исчезновения Римской империи. Во-вторых, их успех был по сути экстенсивным., распространенным на огромные территории, превышавшие 3 млн квадратных километров. Существовала одна провинция с экстраординарно высокой плотностью населения (Египет с типично высокой для него плотностью населения —180 человек на 1 кв. км), а также две провинции с экстраординарной низкой плотностью населения — Дунай и Галлия (хотя последнее было оспорено французскими историками). Города вносили непропорционально большой вклад в данные о плотности населения, но они были широко рассредоточены по всей территории империи. Поселения по большей части растянулись на огромных просторах суши. В свете этих существенных преимуществ было бы ошибкой описывать империю как просто эксплуататорскую, будь то эксплуатация одного класса другим или эксплуатация деревни городом, как это делают некоторые классики (de Ste. Croix 1981: 13). Разумеется, там не обходилось без эксплуатации, но в формах принудительной кооперации. Какими были эти тонкие связи эксплуатации и преимуществ между крестьянскими производителями и внешним миром, который включал их в большом количестве и концентрации, и при этом крестьяне были широко расселены и уровень их благосостояния был выше прожиточного минимума? Имели место два вида подобных связей — горизонтальные «добровольные» связи в форме обмена и торговли товарами и вертикальные принудительные связи в форме изъятия ренты и налогов. Каков был относительный вес этих связей? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть природу второго основного актора власти — правящего класса.РАСШИРЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВЯЩЕГО КЛАССА
То, что в имперском Риме существовал правящий класс, не вызывает сомнений, но природа его власти была комплексной, изменчивой и даже противоречивой. Загадка состоит не в отношении правящего класса к массам, которое было институционализировано еще в ранней республике и затем становилось лишь более очевидным, а в его отношении к государству. Центральным противоречием было следующее: «высшие слои» стали чрезвычайно похожими на класс в современном смысле (то есть с властью над «гражданским обществом», обладающей частной собственностью и де-факто автономией от государства), тем не менее их позиция по большей части была установлена с помощью государства и ее поддержание также продолжало зависеть от государства. Рассмотрим, как возник правящий класс. Частная собственность возникла в раннем Риме, но она слабела в результате того, что государство забирало себе долю от завоеваний, которые позволили богатству и контролю над трудом уничтожить основной изначальный коллективный институт — партиципаторное гражданство. Это было сделано с помощью военных и гражданских государственных должностей. Все генералы изначально были выходцами из сенаторского сословия, которое обладало властью над магистратами. Поскольку они избирались путем жребия, можно проследить тесную связь между высшим военным командованием и высшим классом в целом. Эти люди контролировали распределение трофеев и рабов. Управление завоеванными провинциями создавало даже более ликвидное богатство. Правителей, квесторов[78] и прочих магистратов набирали из сенаторского сословия, а сборщиков налогов и армейских подрядчиков — из сословия всадников. До нас дошло множество изобилующих циничностью источников относительно их деятельности. Например, жалоба, относящаяся ко второй половине II в. до н. э.: «Что касается меня, то мне нужен квестор или поставщик, который бы снабдил меня золотом из государственных мешков для денег». В I в. до н. э. крылатым стало выражение, согласно которому провинциальный правитель должен разбогатеть настолько, чтобы, во-первых, окупить свои электоральные издержки, во-вторых, дать взятку присяжным, обвиняющим его в неправильном управлении, и, в-третьих, чтобы хватило на старость. Цицерон фиксирует это следующим образом: «Наконец-то стало понятно, что все покупается и продается» (цит. по: Crawford 1978: 78,172). Такие люди и были государством. Как мы увидим, даже с установлением принципата как отдельной центральной бюрократии способность государства контролировать управленцев из высшего класса была весьма ограниченной. Богатство государства нарастало в результате грабежей и налогов с завоеванных народов, а затем оно покупалось децентрализованными классами. Их права на излишки были институционализированы в виде «абсолютных» прав частной собственности, гарантируемых государством, но выполнявшихся квазиавтономными группами аристократических судей. Между государством и правящим классом существовала деликатная реципрокность. Что вносило необходимую долю интеграции в этот класс? Почему Рим не дезинтегрировался на систему множественных городов-государств или совокупность сатрапий? Этот вопрос затрагивает основное достижение римской власти: институционализацию империи на территорию более 3 млн квадратных километров с населением около 70 млн человек. Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что ядром Римской империи было Средиземноморье, хотя она и распространялась на большие расстояния от Средиземного моря, особенно распространено по всей империи, как была распространена имперская преемственность. Имперский пурпур распространился от римских аристократов к итальянским «буржуа», итальянским поселенцам в Испании и Южной Галлии, африканцам и сирийцам, а затем к населению дунайских и балканских областей. В отличие от насилия, сопровождавшего реальный процесс завоевания, эта диффузия была выдающимся исторически беспрецедентным процессом, который способствовал сплочению империи. Ни один из борцов за власть не был провинциальным «национальным» лидером, стремящимся либо к изоляции провинции, либо к завоеванию, которое бы установило господство провинции над всей империей. Господство Рима было незыблемым. Это также было ново, поскольку в предшествовавших империях гегемония смещалась от провинциальных городов к столичным и наоборот в результате гражданской и династической борьбы. Грамотность стала критически важной. В предшествовавших империях идеологическая интеграция была невозможной в силу отсутствия необходимой инфраструктуры. До тех пор пока послания не могли быть отправлены и стабилизированы на огромные территории посредством письменной грамотности, сходство мысли и повседневных привычек в больших империях развивалось чрезвычайно медленно. Благодаря грамотности элитарная культура уже получала развитие у греков и персов. Детали римской грамотности будут представлены в следующей главе, но у нее были две основные характеристики. Во-первых, это была сплошная грамотность высшего класса, разумеется, мужчин, хотя, вероятно, и женщин, официально обучавшая этот класс и распространявшаяся также на другие классы. Во-вторых, она использовалась в рамках в первую очередь устного информационного контекста взаимодействия членов высшего класса. Поэтому культурная солидарность, которую эта грамотность передавала, по большей части ограничивалась высшим классом. Массы были исключены. Письменность не была широко распространена за пределами неформальных институтов высшего класса. Развитие записей и списков было рудиментарным: ни государство, ни индивиды не развили систем одинарной или двойной бухгалтерской записи (Ste. Croix 1956). Государство обладало четырьмя ресурсами власти, которые были независимы от индивидов высшего класса. В рамках предыдущих периодов мы отмечали, как грамотность играет две «имманентные» идеологические роли — инструмента государственной власти и связки для классовой солидарности. В Риме они переплелись гораздо сильнее, чем где-либо прежде. Таким образом, здесь возник универсальный правящий класс — экстенсивный, монополизировавший землю и труд других, политически организованный и обладавший культурным самосознанием. Высокоразвитая республика/империя управлялась не множеством отдельных локальных правителей, или римским ядром завоевателей, или с помощью местной элиты, а именно классом. Классовая структура Рима была того типа, который в главе 7 я назвал ассиметричным: экстенсивный и политически правящий класс существует, но без подобного подчиненного класса. Современным авторам тяжело принять такое положение дел. Мы привыкли к симметричности современной классовой структуры, где господствующий и подчиненный классы организованы на одном и том же социальном пространстве борьбы и компромиссов. Поскольку мы не находим ничего подобного в Риме, за исключением его раннего периода, многие авторы заключают, что там классы не существовали вовсе (Finely 1973: гл.3; Runciman 1983). Римские землевладельческие элиты были такими же «классоподобными», какими любые группы в любом известном обществе прошлого или настоящего. Заключение скорее состоит в том, что классовая структура чрезвычайно изменчива и лишь в некоторых случаях предстает симметричной и через это оспаривается благодаря такому типу классовой борьбы, какой описал Маркс. Но одну оговорку все же необходимо сделать: письменная культура римского высшего класса содержала одну основную линию разлома — разделение на латинскую и греческую культуры. В итоге это разломило империю на две половины. Усиленная геополитическими различиями, эта линия разлома обозначила устойчивое различие между европейской цивилизацией и ее восточными соседями. Будучи исторически уникальным, Рим не был уникальным для своего времени. Современная ему династия Хань в Китае также создала гомогенную культуру правящего класса, на самом деле, вероятно, даже более гомогенную, чем римская. Она также базировалась на передаче преимущественно секулярной культуры (конфуцианства) в ходе обучения грамоте. Развитие грамотности продолжило играть основную роль в оформлении и устойчивости отношений власти. Она была логистической инфраструктурой идеологической власти, способной к консолидации экстенсивного правящего класса. Ее развитие вскоре охватило и другие классы, дестабилизировав римский режим, которому она изначально служила опорой. Эта история об идеологической трансцендентности ждет читателя в следующей главе. Другой основной формой власти, включенной в интеграцию Рима, была территориальная организация, которую в предшествующих главах я называл принудительной кооперацией. Она приняла форму легионерской экономики, логистической инфраструктуры, которую обеспечивала милитаризованная экономика и которая начала приближаться к действительно территориальным формам. Принудительная кооперация была исторически первичной по отношению к идеологической классовой интеграции, поскольку последняя была применима только к территориям, уже подчиненным силой. Римляне не применяли ассимиляционных стратегий за пределами своих границ. Лучшими исследованиями римской имперской экономики являются исследования Кита Хопкинса. Я начну с его исследования торговли (Hopkins 1980). Используя работу Паркера о кораблекрушениях в Средиземном море (Parker 1980), он пришел к выводу о невероятном росте (почти троекратном) морской торговли после 200 г. до н. э. Затем объемы торговли перестали расти вплоть до 200 г. н. э. Подобным образом, используя работу Кроуфорда (Crawford 1974) 0 трафаретах для чеканки монет, он приходит к выводу, что монетарный рынок оставался на весьма стабильном уровне в течение сотен лет, предшествовавших 157 г. до н. э., а затем более или менее устойчиво рос до достижения наивысшего уровня, превышавшего более чем в десять раз уровень 157 г. до н. э., в 80 г. до н. э. На этом уровне монетарный рынок оставался до 200 г.н. э., когда порча монет сделала все выводы об уровне торговли недействительными. Он также имел возможность сравнить запасы монет, найденные в семи различных провинциях, относившихся к периоду 40-260 гг.н. э., и тем самым сделать выводы о единообразии использования монет по всей империи. Учитывая возможные погрешности в методах, полагавшихся на случайность находок запасов монет, поразительно, что Кроуфорд обнаруживает сходные тренды во всех провинциях вплоть до 200 г.н. э. В течение этого периода империя была единой монетарной экономикой. Это также не отрицает, что она была связана с экономической деятельностью за пределами империи, а скорее заостряет внимание на систематической природе экономического взаимодействия внутри границ империи. В предшествовавших империях эта систематичность не достигала такой высокой степени. Мы подходим близко к модели «унитарного общества», как никогда прежде. Монетарная система — это лишь медиум обмена; торговля — всего лишь его форма. Но что в действительности создавало эту экономику с присущими ей монетарной системой и обменом? «Завоевание» — это исходный ответ, но как завоевание превращали в экономическую интеграцию? Существуют три возможные формы интеграции: налоги, подразумевающие вертикальную интеграцию между гражданами и государством; рента, подразумевающая вертикальную интеграцию между землевладельцами и крестьянами; торговля, которая сама по себе подразумевает горизонтальную интеграцию и может быть продуктом первых двух или независимой от них. Во-первых, рассмотрим спонтанное развитие торговли. Римские завоевания уничтожали политические границы в Средиземноморье и открыли северо-запад для общераспространенных благ и автономных торговых сетей юга и востока. Это было особенно заметно в обмене товарами роскоши и рабами, в который государство было в меньшей степени вовлечено после изначального завоевания. Римская элита на родине и в провинциях использовала военные трофеи империи для покупки товаров роскоши и рабов, и это стимулировало отношения обмена в «гражданском обществе». Во-вторых, рассмотрим ренту: использование рабов, слуг и свободных рабочих со стороны землевладельцев также увеличивало уровень излишков, денежных потоков и торговли империи. Мы не знаем насколько. Но, в-третьих, мы не можем с уверенностью утверждать, что две формы интеграции внутри гражданского общества были менее важны, чем интеграция, производимая государственным налогообложением. В этом можно убедиться, исследуя всеобщие торговые потоки. Я приведу заключение из статьи Хопкинса, упомянутой выше: Первопричиной этой монетарной унификации всей империи были взаимодополняющие друг друга потоки налогов и торговли. Богатейшие провинции империи (Испания, Северная Африка, Египет, Южная Галлия и Малая Азия) платили налоги в денежной форме, большая часть которых отправлялась и тратилась либо непосредственно в Италии, либо в приграничных провинциях империи, где были размещены армии. Затем богатые центральные провинции возвращали свои налоговые деньги обратно, продавая продукты или товары регионам, импортирующим налоги… Таким образом, основным стимулом торговли на большие расстояния в Римской империи были налоговые требования центрального правительства и дистанции между наиболее производительными регионами (налогоплательщиками) и регионами, в которых находилась большая часть государственных реципиентов (солдат и офицеров) [Hopkins 1977: 5]. Рим создал экономическую систему государственного регулирования. Следовательно, в этом отношении понятие «капиталистическая экономика» является неподходящим для Рима, как утверждает Рансиман (Runciman 1983), хотя там были частная собственность и монетарные институты. Но экономика с государственным регулированием не имела соответствующей банковской инфраструктуры, чтобы при необходимости вливать деньги в экономику (как делают современные государства). Это был только механизм оплаты своих расходов. Как и большинство древних государств, Рим не рассматривал деньги как медиум обмена между своими субъектами, а лишь как средство накопления государственных доходов, оплаты расходов, а также хранения резервов. Государство ревностно охраняло свою функцию. Когда император Валенс узнал, что частные лица чеканят свои золотые монеты, он их конфисковал: имперская чеканка монет существовала только для обеспечения государственных нужд, а не для удобства населения (Jones 1964: I, 441). Роль денежного обращения в торговле и городской жизни в целом была побочным продуктом государственных административных нужд (Crawford 197°; 47–84; 1974: f>33). Таким образом, вопреки огромному накоплению частной собственности и де-факто политической автономии высший класс зависел от государства в том, что касалось поддержания экономической системы, которая приносила ему выгоды. Они секвестрировали активы государственных завоеваний, но государство все еще оставалось необходимым для их существования. Мы также разрешим проблему экономического благосостояния масс, поставленную в предыдущем разделе. Поскольку они потребляли специализированные товары (например, одежду, ножи, соль или вино), они также зависели от регулируемой государством монетарной экономики. Мы не можем полностью отделить от «государства» также и основную группу «гражданского общества». Вслед за периодом, в который римское воинственное государство угрожало дезинтеграции социального порядка, Рим восстановился в форме централизованного деспотичного имперского государства. В этом было больше от принудительной кооперации, характерной для ранних империй доминирования, описанных в главе 5. Поэтому давайте обратимся к последнему и ключевому актору власти — государству.ИМПЕРСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЛЕГИОНЕРСКАЯ ЭКОНОМИКА
В период с 100 г. до н. э. по 200 г. н. э. конституционная форма римских владений (республика, принципат или империя) значила гораздо меньше, чем лежавшие в ее основе единство и целостность. Попытка описать «реальное» политическое устройство Рима, отыскать настоящее место расположения политической власти — тяжелое и трудоемкое предприятие, поскольку оно предполагает работу не только с формальными, но и с неформальными соглашениями, часть из которых неписаные. Однако я пойду коротким путем, используя простое средство измерения государственной власти — его финансы: расходная часть позволяет оценить государственные функции, доходная — расскажет об относительной автономии или зависимости государства от групп гражданского общества. Разумеется, сохранившихся записей не так много. Эта методология будет применена и в следующих главах: когда мы будем рассматривать государства, оставившие после себя более систематические записи, я более детально рассмотрю основания и ограничения этой методологии. А пока я процитирую общее обоснование этого метода Шумпетера: Государственные финансы являются одним из лучших отправных пунктов для изучения общества… Дух людей, их культурный уровень, их социальная структура, деяния, подготавливаемые их политиками, — все это и даже более записано в их финансовой истории. Тот, кто знает, как слушать, различит здесь гром мировой истории более четко, чем где бы то ни было еще [Schumpeter 1954: 7]. Или, как это более лаконично отметил Жан Боден, финансы — это нервы государства. Мы располагаем нюансами структуры императорских финансов только для одного момента истории. Эти данные сохранились благодаря уцелевшему завещанию императора Августа—Res Augustae, воспроизведенному Франком (Frank 1940: 4-17). Оно исследуется в работе Миллара и соавторов (Millar et al. 1977: 154–155,189-201). Нам придется предположить, что два счета, — эрарий (aerarium — государственная казна) и личное богатство Августа — на самом деле различались. Франк убежден, что так оно и было. Расходы эрария в сумме составляли около 400 млн сестерциев (основной римской монеты) в год. Около 70 % уходило на вооруженные силы (60% — на легионы и флот, 10% — на преторианские и городские когорты вокруг Рима); около 15 % — на распределение зерна среди римского народа (dole или пособие):, около 13 % — на государственную службу и небольшой остаток — на содержание государственных зданий, строительство дорог и организацию народных развлечений. Личные расходы Августа в сумме составляли около 100 млн сестерциев, из которых 62 % шли на денежные и земельные дотации, а также на пенсии солдатам; 20 % распределялись среди римского населения в виде денег или хлеба; 12 % — на покупку земель для себя, а небольшой остаток расходовался на строительство храмов и народные развлечения. Сходство этих двух бюджетов вопреки нашим предположениям означает отсутствие реального разделения между «государственными» и «частными» функциями Августа. Поскольку большая часть расходовалась на армию и иные способы поддержания порядка среди населения Рима, Август обеспечивал себе, а также государству определенную гарантированную степень лояльности. Это не было широко институционализированное государство. Размер армии оставался практически неизменным в течение следующих трех столетий и составлял около 300 тыс. человек. У нас нет свидетельств о каком-либо увеличении численности государственных служащих или функций в этот период. Поэтому военные расходы оставались основной статьей расходов. Среди прочих расходов умиротворение населения Рима буквально посредством хлеба и зрелищ (а также посредством преторианцев и городских когорт) было самым важным, тогда как более позитивные государственные функции выполнялись по остаточному принципу. Эти расходы демонстрируют милитаризм римского государства. Как мы могли убедиться в предыдущих главах, подобные государства отличались от средневековых и раннесовременных государств неослабевающей устойчивостью их милитаризма — римское государство, в отличие от пришедших ему на смену, никогда не испытывало аномального роста или падения в финансовом отношении, поскольку оно постоянно пребывало в состоянии войны. Подобные государства заметно отличались от современных малой значимостью их государственных функций и функционеров. Действующая бюрократия была довольно малочисленной, возможно, 150 государственных служащих в Риме и 150 сенаторов и управленцев из сословия всадников плюс небольшой штат их государственных подчиненных в провинциях. Государство по большей части было армией. Регулируемая государством экономика была на самом деле регулируемой армией экономикой. Поэтому мы должны быть внимательнее к первостепенной роли армии. Каковы были ее функции? Далее я объединю экономическое исследование первой части этого раздела со стратегическим анализом армии, позаимствованным из работы Эдварда Люттвака «Великая стратегия Римской империи» (Luttwak 1976). Рисунки, которые будут представлены ниже, основаны на его графиках. В рамках периода с 100 г. до н. э. до 200 г.н. э. выделяются два стратегических этапа. Первый этап, который Люттвак называет этапом «гегемонистской империи» (примерно то же самое, что и мои «империи доминирования»), продолжался вплоть до 100 г.н. э. На этом этапе (рис. 9.1) не существовало отчетливых внешних пределов империи, а также никаких пограничных укреплений. Ударная сила легионов была больше консолидированной силы государства (как можно было ожидать исходя из работы Латтимора). Более целесообразным было использование государства-клиента для влияния и изъятия трофеев у внешних регионов. Это было легче в восточных частях империи, где цивилизованные государства частично контролировали их собственные территории, и более проблематично в Европе, не имевшей государств, где мир требовал присутствия римских легионов. На первом этапе большинство легионов не были размещены на границах. Их функцией было поддержание внутреннего порядка. Покорение зоны непосредственного контроля легионерами достигалось прокладыванием пути через вражеские территории и захватом самых густонаселенных центров и политических столиц. Следующим шагом было распространение этого проникновения без потери военных преимуществ легионов: концентрированной, дисциплинированной боевой мощи 5 тыс. человек плюс вспомогательных войск. Некоторый разброс гарнизонов уничтожил бы эти преимущества. Решением стал походный лагерь. Легион продолжал свое продвижение, но медленным и методичным образом, возводя собственные укрепления и создавая собственные коммуникационные маршруты. Реформы Мария законодательно закрепили эту стратегию, превратив тяжелую пехоту в двойственную боевую и гражданско-инженерную единицу. Это отчетливо продемонстрировано на картинах и в описаниях солдат легионов. Еврейский историк Иосиф Флавий дает прекрасное описание глазами очевидца организации римских солдат: он превозносит их сплоченность, дисциплину, ежедневные тренировки, методы строительства лагеря и даже их коллективные традиции приема пищи. Затем он описывает их военные чины и обмундирование: «Отборная часть пехоты, окружающая особу полководца, носит копья и круглые щиты; остальная часть пехоты — пики, продолговатые щиты, пилы, корзины, лопаты и топоры и, кроме того, ремни, серпы, цепи и на три дня провизии; таким образом, пешие солдаты носят почти столько же тяжести, сколько вьючные животные» (Josephus 1854: book III, chap. V, 5).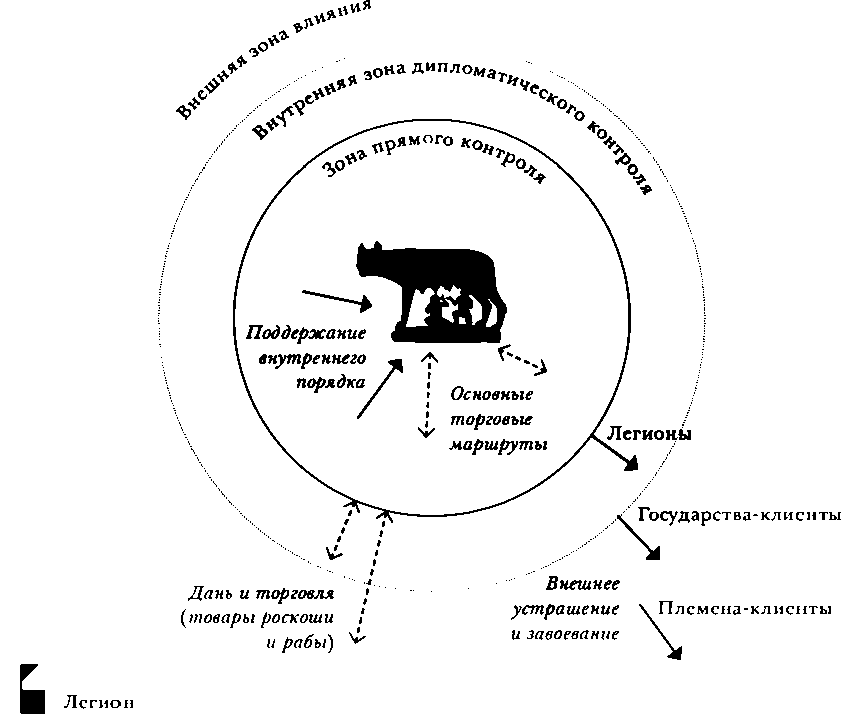 РИС. 9.1. Первый этап Римской империи: империя доминирования (после Luttwak 1976)
РИС. 9.1. Первый этап Римской империи: империя доминирования (после Luttwak 1976)
Этот разнородный ассортимент был перевязан вокруг длинного шеста, который несли как пику, который разработали снабженцы Мария. Только копье и щит были боевым снаряжением. Все остальное было «логистическими орудиями»,разработанными для распространения инфраструктуры римского правления. Большинство орудий использовались для строительства укреплений и коммуникационных путей: корзина предназначалась для земляных работ, кожаный ремень — для того, чтобы двигать дерн, киркомотыга с двумя разными наконечниками — для лесоповала и рытья котлованов. Все прочие орудия были для пополнения запасов: серп — для среза зерновых, пила — для деревянного оборудования и дров (более подробно см. Watson 1969: 63; Webster 1979: 130-131) — Это заметно отличалось от снаряжения солдат большинства империй или городов-государств, которые имели при себе только военное снаряжение. Римляне были первыми, кто правил через армию не только с помощью террора, но и с помощью гражданско-инженерных проектов. Солдаты не полагались на чрезвычайно большие вещевые обозы, как не требовали они барщинного труда местных жителей для строительства дорог. Необходимость вступления в сложные отношения с теми, кто контролировал местные продовольственные излишки, была сокращена. Она зависела от монетарной экономики, доступной лишь немногим из ранних империй. Учитывая это, легион мог двигаться медленно, как независимая единица, по всем территориям, которые обладали сельскохозяйственными излишками (как мы убедились, ими обладали практически все территории империи), укрепляя их правление и тыл по мере продвижения легионов. Снаряжение, обвязанное вокруг шеста Мария, было последним вкладом железного века в экстенсивное правление. Легионы сооружали дороги, каналы и стены по мере продвижения, и однажды построенные коммуникационные пути увеличивали скорость их движения. Как только провинция была пройдена, налоги и воинские повинности союзников, а затем и легионеров были рутинизированы, следствием чего стали крупные восстания местного населения, которые подавлялись с максимальной жестокостью. Впоследствии военное давление ослаблялось и римское политическое правление было институционализировано. Новые коммуникационные маршруты и государственное регулирование экономики могли генерировать экономический рост. Это было не реальное государственное регулирование экономики в современном смысле, а военное регулирование экономики — легионерская экономика. Как только внутренний порядок восстанавливался и воцарялся мир, большая часть легионов высвобождалась для дальнейшей заграничной экспансии. Однако возможности для нее были небезграничными. Римские легионы были эффективны в высокоинтенсивных боевых действиях против оседлых и сконцентрированных народов. Как только они сталкивались с кочевыми народами на слабо заселенных территориях, их преимущества, способность и желание завоевывать уменьшались. Они были практически бесполезны в попытке проникнуть на юг через Сахару, на севере германские леса, которые не были непроходимыми, создавали много трудностей для военной организации. Римляне умерили свои амбиции после битвы в Тевтобургском лесу в 9 г. н. э., когда Квинтилия Вара с тремя легионами застигли врасплох и разбили германцы, возглавляемые бывшим союзным командиром Германом. С тех пор угроза со стороны полуварваров всегда ощущалась на северных границах. На востоке лежало другое препятствие: единственным крупным цивилизованным государством, оставшимся на границах Рима, была Парфия, покоренная эллинистической персидской династией Селевкидов около 240 г. до н. э. В силу использования государств-клиентов на востоке римские солдаты были плохо обучены, кроме того, как и во всех римских армиях, ощущался недостаток в кавалерии, которая была необходима в восточных пустынях. Красс был плохо подготовлен к войне с парфянами в рамках его кампании 53 г. до н. э., поэтому его и семь легионов римляне уничтожили в битве при Каррах на севере Сирии.
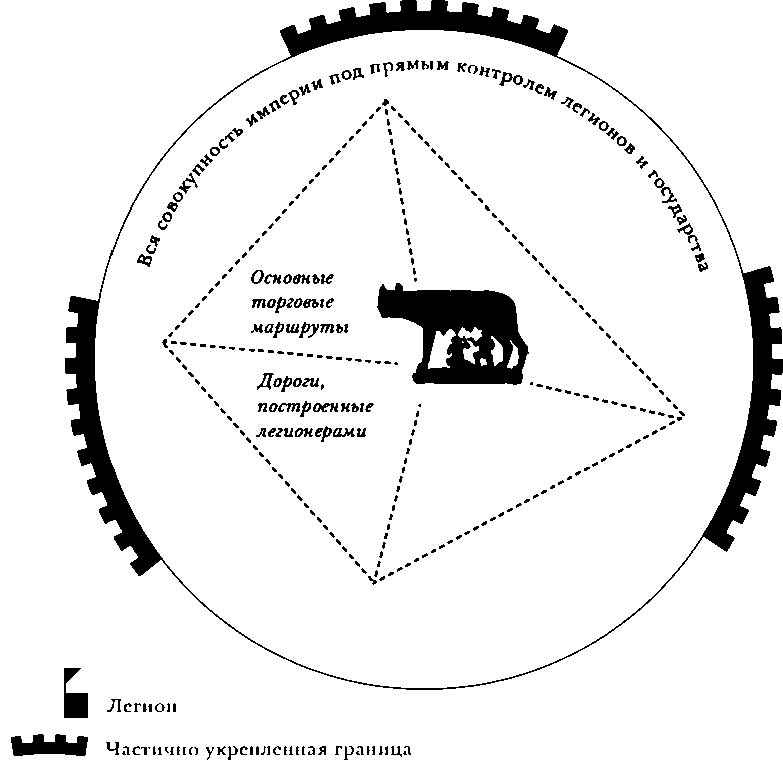 рис. 9.2. Второй этап Римской империи: территориальная империя (после Luttwak 1976)
рис. 9.2. Второй этап Римской империи: территориальная империя (после Luttwak 1976)
Парфяне сочетали тяжелую кавалерию с конными лучниками: кавалерия зажала римлян в узком месте, а лучники расстреляли остальных. Римляне могли отыграться за это поражение, когда были защищены кавалерией и стрелками. Но парфяне впоследствии не осуществляли никакой экспансии и поэтому не были угрозой. Чтобы завоевать их, требовались серьезные усилия, которых не последовало. По мере умиротворения завоеванных территорий легионы больше требовались на границах империи. Рим двигался ко второму этапу — территориальной империи, представленной на рис. 9.2. На этом этапе основная угроза исходила от иностранцев, предпринимавших набеги на мирные провинции. Их было невозможно полностью искоренить из-за отсутствия у них собственных поселений, поэтому сдерживание было единственной стратегией. К сожалению, это требовало наличия солдат по всему периметру. Пограничные укрепления могли способствовать сокращению затрат на содержание солдат. Целью строительства укреплений было не только сдерживание варваров по ту сторону стен, но и улучшение коммуникации и принуждение захватчиков к концентрации в момент их входа и выхода, благодаря чему их было легче отрезать на обратном пути (поэтому строительство больших рвов внутри., чем снаружи Адрианова вала[79] кажется странным лишь на первый взгляд). Сохранение легионерской экономики требовало огромных и постоянных затрат и рабочей силы. Римский милитаризм вполне мог пережить изменение стратегии. Принудительная кооперация в ранних империях доминирования, описанная в главе 5, включала пять элементов: умиротворение, военный мультипликатор, установление экономической стоимости, интенсификацию трудовых процессов, принудительные диффузию и инновации. Легионерская экономика включала те же пять компонентов, которые интенсифицировали и придавали неприступность внешним границам. Умиротворение. Умиротворение или наведение внутреннего порядка преобладало на этапе гегемонии/доминирования, наведение внешнего порядка — на этапе территориальной империи. И в том и в другом случае результатом была стабильная защищенная среда для рациональной экономической деятельности, и умиротворение приобретало все более территориальный характер. Военный мультипликатор. Вторжение насилия в экономику предоставляло коммуникационную и торговую инфраструктуру, а также рынки сбыта в лице легионов и Рима, стимулирующие денежное обращение, торговлю и экономическое развитие. «Военное кейнсианство» было в самом центре легионерской экономики. Установление экономической стоимости. Этот элемент претерпел значительные изменения со времен первых империй доминирования. Как мы видели в предыдущих главах, рост экономической власти индивидуальных крестьянских хозяйств и торговцев, а также развитие денежного обращения разрушили централизованную экономику. Теперь стоимость устанавливалась через баланс власти между государством и «гражданским обществом» в рамках смешанного государственного и частного спроса и предложения. Римское государство чеканило монеты, которые распространялись для решения потребительских задач. Поскольку государство было основным потребителем в монетарном секторе экономики, его потребности обладали огромным воздействием на относительно дефицитные и ценные товары. Но производители, торговцы-посредники и поставщики представляли собой частную власть (частный сектор), их права надежно охранялись законом и стоимостью в монетарной экономике. Государство и частный сектор сплетались в гигантский общий рынок, проникавший во все уголки империи, а границы империи создавали определенную степень разряжения в торговых сетях. Монетарная экономика вносила заметный вклад в развитие территориальной империи. Интенсификация трудовых процессов. Она происходила посредством сначала рабства, затем служения и наемного труда. Являясь результатом завоеваний государства, интенсификация труда была децентрализована под контролем высших классов в целом. Как отмечает Файнли, чем свободнее был крестьянин, тем более шатким было его экономическое положение. Сельскохозяйственные трактаты предлагали советы, отражавшие «точку зрения полицейского, а не предпринимателя» (Finley 1973- 106-113). Принудительные диффузия и инновации. Этот элемент был особенно ярко выражен на этапе гегемонии/доминирования и затем заметно поблек на этапе территориальной империи. Диффузия была чем-то вроде однонаправленного процесса с востока на запад, поскольку римляне учились у цивилизаций Греции и Ближнего Востока. Но они насильственно принесли это и на Атлантическое побережье. В рамках Пакс Романа стала распространяться общая культура. Однако возведение пограничных укреплений символизировало начало оборонительной ориентации по отношению к внешнему миру и было частью стагнации империи, которая будет расмотрена далее. Пять элементов, составлявших легионерскую экономику, распространили империю через взаимозависимые потоки труда, экономического обмена, монетную систему, законодательство, письменность и другие аппараты римского государства, которые были чем-то большим, нежели просто комитетом по общественным делам, управлявшим легионами. Теперь давайте более систематически обратимся к логистике коммуникаций и тем ограничениям, которые они традиционно накладывают на возможности территориального контроля. Хотя транспортные ограничения практически не изменились со времен предшествовавших империй, римляне внесли в логистику транспортных коммуникаций три выдающихся усовершенствования. Первое состояло в том, что был достигнут настолько высокий уровень излишков и сохранения их части для себя, что римская элита (частично государственная, частично землевладельческая) отныне могла позволить себе намного больше расходов на инфраструктуру, чем прежние государства. Наземный транспорт, например, для снабжения легионов мог быть чрезвычайно дорогим, но если в нем была существенная необходимость, то за ценой не стояли. В этом отношении Эдикт Диоклетиана о ценах весьма показателен. Эдикт представляет нам данные, которые позволяют подсчитать издержки различных форм транспортировки (Frank 1940: 310–421; Duncan-Jones 1974: 33^“339- Но одна проблема все же есть: интерпретации kastrensis modus (меры веса) могут быть больше или меньше в 2 раза. Если издержки транспортировки морем принять равными 1, то издержки транспортировки речным транспортом в 4,9 раза больше, а издержки дорожной транспортировки на телеге в 28 или 56 раз больше (транспортировка на верблюдах на 20 % дешевле транспортировки на телеге). Учитывая данные опции, государство использовало водное снабжение. В случае если оно было невозможно (например, зимой), применялся наземный транспорт, как бы это ни было затратно, лишь бы его использование было физически возможным. Эдикт Диоклетиана показывает, что транспортные расходы доставки зерна на 100 миль составляли от 37 до 74 % стоимости этого зерна, что существенно увеличивало конечную стоимость, но первая оценка была все еще приемлемой. О транспортировках на большие расстояния ничего не говорилось, так как предполагалось, что они не были сухопутными. Работая с римлянами, важно отличать прибыль (экономическую целесообразность) от осуществимости (практической целесообразности). Транспорт создавался в первую очередь для наведения порядка и умиротворения, а не для получения прибылей. Если доставка снабжения была необходима для умиротворения завоеванных регионов и практически реализуема, она производилась независимо от издержек. Существовавшая организация позволяла делать это на более высоком логистическом уровне, чем в предшествовавших обществах. Вопреки расходам это был прекрасный инструмент для разрешения чрезвычайных ситуаций. Но в качестве рутинной практики это съедало бы все прибыли империи, что в конечном счете так и было. Вторым усовершенствованием было увеличение пространства, на котором можно было пополнять запасы. Согласно данным Диоклетиана, мулы и волы нуждались в корме на протяжении всего пути. Если для них не было иного фуража, их кормили зерном, которое они перевозили. В империи, где каждая непустынная область экстенсивно возделывалась, возможность пополнить запасы продовольствия была везде. В хорошо организованной монетарной экономике волов и мулов можно было кормить дешевле кормом невысокого качества, тем самым поддерживая транспортные издержки на уровне, который был значительно ниже стопроцентного. В силу общих для античности ограничений (которые продолжали действовать) система была способна к эффективной транспортировке только на средние дистанции — например, 80-200 километров. Для транспортировки на большие дистанции были необходимы морские или речные маршруты. Объединенные вместе, они распространялись на всю империю. Регионов, которые не могли предоставить достаточно излишков для снабжения перевалочных пунктов, организованных в непрерывные сети, практически не было. Это отличало Рим от предшествовавших империй, территории которых с низкой плодородностью почв всегда создавали большие логистические дыры в системах снабжения. Третий шаг вперед — организация пополнения запасов. Источником этого усовершенствования была логистическая структура легионерской экономики. Каждый муниципий (municipium) империи должен был снабжать местных солдат. Провинциальные правители и командующие легионами могли реквизировать земли и морской транспорт, чтобы сконцентрировать снабжение, поэтому легион, вооруженная группа, состоявшая из 5 тыс. человек, была маневренной единицей даже в зимний период. Более крупные силы могли быть сконцентрированы и выдвинуты только с некоторой предварительной подготовкой, но передислокация армий приблизительно из 20 тыс. человек была, как представляется, наиболее распространенной логистической операцией того времени. Организация легионов пронизывала всю территорию империи.
СЛАБОСТИ ЛЕГИОНЕРСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ЗАЗОРЫ ВЛАСТИ
Но у легионерской экономики также были свои противоречия. С одной стороны, благосостояние и народа, и высшего класса, а во многих отношениях их выживание зависели от легионерской экономики, снабжаемой имперским государством. Деятельность и практики не могли обеспечить их всем необходимым для выживания без посторонней помощи. И тем не менее в то же время государство частично децентрализовало и перераспределило многие из своих функций в пользу высшего класса. Эффективность всей структуры в целом зависела от успешной институционализации этих противоречивых тенденций. Но на основе исследования государственных доходов можно убедиться, что успех был только частичным. Вернемся к завещанию Августа. Ежегодный доход аэрария (aerarium) при Августе составлял около 440 млн сестерциев. Его ежегодный доход, вероятно, составлял около 100 млн сестерциев[80]. Основным источником государственных доходов были налоги и дань, которые платили провинции (римские граждане в Италии были освобождены от необходимости платить налоги с 167 г. до н. э. вплоть до конца III в.н. э.). Двумя основными источниками личного дохода были военные трофеи гражданских и заграничных войн, деньги и земли, завещанные богачами (в форме взятки для сохранения государственных должностей и протекции их сыновей), плюс менее существенные источники из собственных землевладений Августа. Следовательно, на этой стадии римское государство по большей части финансировало свои расходы с помощью завоеваний. Военные трофеи, за которыми следовала дань, затем налоги с захваченных территорий и взятки за государственные должности составляли самые большие прибыли от войны. Впоследствии этот паттерн не воспроизводился, поскольку в отсутствие беспрерывной экспансии это было невозможно. Мы не располагаем точными данными для последующего периода, но знаем о трех изменениях, произошедших в последовавшие два столетия. Во-первых, даже современникам становилось все труднее проводить различие между императорскими и государственными деньгами. Во-вторых, налогообложение было постепенно институционализировано. Италия снова стала облагаться налогом, а затем без публичного обсуждения (и, вероятно, без увеличения) ставки налогообложения поддерживали на уровне, не превышавшем 10% от стоимости произведенной за год продукции. Эти поступления были основным источником прибыли. В-третьих, огромными темпами росли императорские поместья — к 300 г. н. э. Джонс (Jones 1964: 416) оценивает их в размере 15 % от всех земель. Доходы от них стали вторым по значимости источником прибыли. В середине III в. н. э. вновь объединенные фонды управлялись одной имперской казной (fiscus), подконтрольной только императору. На обеих стадиях присутствовали нерешенные противоречия. Во времена Августа основной функцией императора было верховное командование огромными военными силами. Его власть была ограничена лояльностью военных союзников и подчиненных, но никак не властями, институционализированными в гражданском обществе. В то же время прибыли от его земель и наследства, которые также проистекали в основном от поместий великих семейств, наделяли его властью в терминах отношений собственности гражданского общества. Первое давало императору автономную власть, второе — власть, ограниченную зависимостью от гражданского общества. Начиная с Августа ощутимые противоречия также присутствовали в системе сбора налогов. Установление налоговых ставок обычно было разделено между императором и сенатом, но с уменьшением реальной власти сената Август и его последователи получили всю полноту власти. Тем не менее их возможность собирать налоги была весьма слабой. Сборщикам податей (и позднее землевладельцам и городским советам) устанавливали общий размер налога, который необходимо было собрать с их области, а в остальном они сами распределяли налоговое бремя и собирали налоги. До тех пор пока они предоставляли все, что от них требовали, методы изъятия были их личным делом, связанным постфактум с обращениями к императору по вопросам коррупции. Хотя налоги росли, методы их сбора не менялись. На последней стадии полнота власти императора росла, поскольку он получил полный контроль над государственной казной (fiscus) и ее расходами, но большего контроля над источниками доходов он получить не мог. Это было неразрешимое противоречие — зазор власти между императором и высшим слоем. Система исправно работала, предоставляя относительно постоянную сумму год от года для бюджета с затратами, которыми можно было пренебречь. Но, не институционализируя ни деспотизм, ни совещательные отношения между центром и местными уровнями, этой системе было трудно адаптироваться к изменениям. После 200 г.н. э. она начала дезинтегрироваться под внешним давлением. Таким образом, на вершине своего развития Римская империя не была особенно сплоченной структурой. Три составляющих ее элемента — народ, высший класс и государство — обладали определенной степенью автономии. Римский народ опустился до уровня полусвободного статуса и отчуждения от участия в жизни государства, стал в основном провинциальным и контролируемым со стороны местного высшего класса. Кроме того, клики высшего класса или официальные чиновники государства могли мобилизовать бедных молодых людей из народа в армию, что также препятствовало их доступу к стабильным институтам власти. Это разительно контрастировало с римскими традициями, потеря которых вызывала недовольство, но которые частично остались — гражданство, права перед законом, денежное обращение, а также определенная степень грамотности. Все эти традиции давали людям определенную власть и уверенность, которые теперь не служили римскому императору. Мы увидим, как эта власть использовалась в служении другому божеству в следующей главе. Члены высшего класса получили надежный контроль над своими локальностями, включая людей, проживавших там, но были исключены из коллективной, институционализированной власти центра. Стабильное влияние на центр зависело от членства в правой неформальной фракции, то есть от того, становились ли они amici (друзьями) императора. Большая власть могла быть достигнута с помощью насилия в ходе гражданской войны. Насилие могло вести к военной победе, но не к надежной институционализированной власти. Государственная элита в лице императора и его армий была неотделима от целей народа и высшего класса, а также от неоспоримого контроля центра. Способность власти римской элиты проникать в гражданское общество была гораздо выше аналогичной способности власти элит Персии, но все еще далека от современных стандартов. Армии как таковые дезинтегрировались под давлением фракционной борьбы между высшими классами и провинциализма среди народа. Ни одно из этих отношений не было полностью институционализировано. Права и обязанности, кроме тех, которые обычно исполнялись, были неясными. Не существовало рамок для работы в продолжавшихся длительное время аномальных ситуациях. Это была ситуация, прямо противоположная той, которая была характерна для республики, существовавшей около 200 г. до н. э., чей успех был основан на способности к глубокому проникновению к резервам общественного самопожертвования перед лицом опасности, присутствовавшей в течение очень долгого периода. Этот успех разрушил институты общественного самопожертвования и взамен них привел к институционализации зазор власти между государством, высшим классом и народом. Поэтому легионерская экономика хотя и сочетала наиболее интенсивные и экстенсивные показатели социальной организации из тех, что на тот момент были известны, но по сути была не гибкой, поскольку в ней отсутствовал единый локус легитимации для принятия окончательных решений.УПАДОК И РАСПАД ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Падение Рима — величайшая трагедия и величайший урок западной культуры11. Наиболее известными историками этого распада являются те, которые объединили ощущение трагедии как таковой с ясной и громогласной моралью для своих эпох. Эдвард Гиббон, приписывавший падение триумфу варварства и религии, звучал как отчетливый призыв к Просвещению XVIII в.: доверяйте разуму, а не предрассудкам, неотделимым от дикости! Различные этапы и фракции последовавшей демократической эпохи стремились сфокусировать свою мораль на упадке политической и экономической демократии, отдавая предпочтение без каких бы то ни было сомнений ранней республиканской форме перед поздней имперской. Марксистская традиция от Маркса до Перри Андерсона и де Сент-Круа во всем обвиняла рабство и подрыв свободного крестьянства (как основы гражданства). «Буржуазно-демократическая» традиция, представленная Ростовцевым, винила государство в препятствовании развитию декурионов (decurions) «среднего класса» провинциальной администрации. «Буржуазно-индустриальная» традиция подчеркивала отсутствие технологических инноваций в империи. Это было распространено среди авторов XX в., хотя и не в экстремальной форме, когда падение приписывалось слабости римской ремесленной индустрии, что было менее распространенным. Все эти истории содержат две ошибки. Первая состоит в том, что реальность, которую описывали и о которой морализировали, очень часто соответствовала реальности XVIII и XX вв.н. э., а не исторической реальности Рима. Это, разумеется, наиболее отчетливо продемонстрировано в самых ранних проявлениях. Замыслы Гиббона и его ошибки выступают архетипическим примером этого. С авторами XX в. все не так очевидно. Но существует также и вторая ошибка, которой удалось избежать Гиббону. Фиксируя преемственность между нашей эпохой и эпохой Рима, историки чрезмерно подчеркивают непрерывность римской эпохи. Практически все авторы XIX и XX вв. в качестве наиболее эффективной и прогрессивной формы сложного общества с необходимостью принимают демократию того или иного рода. Демократическая эра Рима приходится на республиканский период. Следовательно, причины потери эффективности [81] и прогресса в более поздней империи могут быть приписаны исчезновению республиканских институтов. Гиббон — единственный, кто с этим не согласен. Он приписывал падение Рима появлению новых сил, особенно христианства и позднего варварского давления, а потому резкий разрыв он датировал примерно 200 г.н. э., после которого начинался упадок. В этом Гиббон был прав, даже если его общие выводы и не всегда были верными. Сплоченность Рима зависела от интеграции правящего класса и сдвоенных функций легионерской экономики — победа над врагами Рима в войне и затем институционализация определенной степени экономического развития и порядка. Мало что могло нарушить эту сплоченность между 100 до н. э. и 200 г. н. э. Это был период развития культуры единого правящего класса. Рост торговли и денежного обращения постепенно прекратился и застыл на достигнутом уровне в течение всего периода. То же было и с защитой территорий Рима, границы которых стабилизировались в 117 г.н. э. В сохранившихся политических записях существуют упоминания о множественных вспышках гражданских войн, но при этом ситуация была не хуже, чем в поздней республике. Ничто не угрожало существованию Рима на достигнутых уровнях экономического развития и территориальной интеграции. Ничего не предвещало упадка вплоть до правления Марка Аврелия (161–180 гг. н. э.), в период которого порча монет впервые приобрела угрожающие масштабы, произошли крупные эпидемии чумы, сократилась численность населения в ряде областей, вызвавшие беспокойство империи, а на границах стали появляться германские племена[82]. Но все это было случайной, а не постоянной угрозой. Большинство индикаторов падения стали проявляться с середины III в.н. э. Но вторая характеристика, которую часто приписывают периоду 100 г. до н. э. — 200 г.н. э., обладала определенной силой. Речь идет о статичности большей части Римской империи после того, как она сместила братьев Гракхов, подавила восстание Спартака и даровала гражданство союзникам. Широко обсуждается технологическая стагнация. Этот же аргумент иногда применяют ко всему классическому миру в целом, но относительно Рима он обладает наибольшей силой. Римляне не ценили технологические изобретения, как их ценим мы, они также не спешили к практической адаптации результатов научных открытий, как делаем мы. В этом отношении исторические источники не дают однозначных свидетельств. Как можно предположить, они отличались изобретательностью в военной сфере. Например, развитие осадных орудий было стремительным на протяжении всего периода существования империи. Но в сфере, которая обладала первостепенной значимостью для их экономик, — в сельском хозяйстве, они отставали. Выдающимися примерами являлись водяная мельница, известная в Палестине уже в I в.н. э., и жатвенная машина, которая в то же время была известна в Галлии, не получили широкого или быстрого распространения. Но историки технологий могут привести множество других примеров: болт, рычаг, шкив и тому подобные изобретения, не получившие широкого распространения (Plekert 1973: 3°3“334) — Почему? Один из традиционных ответов — рабство. Этот ответ до сих пор популярен среди некоторых марксистов (Anderson 1974а: 76–82), но он не выглядит правдоподобным. Как отмечает Кайкл (Kieckle 1973: 335_34б) расцвет рабства в период 500-х гг. до н. э. —100-х гг.н. э. был более плодотворным в отношении технических изобретений и их использования, чем последующий период, когда рабство исчезло. Более правдоподобный аргумент, разработанный Файнли (Finley 1965: 29–25), встраивает рабство в более широкое объяснение. Зависимый труд был широко распространен в Древнем мире. Поэтому изобретения, которые заменяли силу человеческих мускул машинами, пользовались небольшим спросом, поскольку в мышечной силе не было недостатка ни в количестве, ни в мотивации (роль которой выполняло принуждение). Это более убедительно. Одним из сильных моментов такого аргумента было то, что он мог справиться с возражением Кайкл против влияния рабства. Как мы убедились, проблема труда была решена посредством рабства в меньшей степени, чем посредством рабочих статусов — колон (colom), сословия полусвободных оплачиваемых рабочих, которые трудились за пропитание, и т. п. В рамках рабского периода необходимость в изобретательности была более настоятельной в силу неравномерного распределения рабства и его губительного воздействия на независимых крестьян в центральных регионах. Но это все еще неполное объяснение, поскольку машины также не заменяли мышечную силу животных, хотя животные были дороги и дефицитны. Почему нет? Изобретательность, как мы обычно ее понимаем, является лишь партикулярной и ограниченной формой изобретательности. Ее интенсивность направлена на извлечение больших результатов при меньших затратах энергии и ресурсов, в частности меньших трудозатрат. Напротив, большинство римских изобретений были экстенсивными, направленными на достижение больших результатов путем более координируемых организованных затрат. Римляне преуспели в экстенсивной социальной организации. Это не просто дихотомия современной и древней истории. Технологии, привнесенные революцией железного века (описанной в главе 6) были интенсивными — физическое проникновение в почву на большую глубину с сокращением степени авторитетной социальной организации. Как мы неоднократно убеждались, римляне увеличивали свои прибыли на основе расширения вовне, умиротворения пространства и его организации. Вспомните, что висело на шесте Мария! Отдельные части экипировки легионеров не рассматривались как изобретения (хотя один генерал приписывал свои победы dolab-гит, то есть киркомотыгам). Что было примечательным, так это их объединение в сложную экстенсивную социальную организацию. Снабженцы Мария мыслили не интенсивно, а экстенсивно. Неудивительно, что результатом была первая в истории человеческой изобретательности территориальная империя. Одержимость римлян экстенсивной организацией оставляла их относительно равнодушными к изобретениям, которые ценим мы, как пишут современные авторы. Они были не заинтересованы в замене машинами мышечной силы животных или людей (хотя экономия была очевидна и не подразумевалось никаких расходов). По стечению обстоятельств они двигались (как никогда не случалось нам) в обратном направлении — в вопросе снабжения армии от мулов к людям, если в результате это давало прирост в степени экстенсивной организации. Они были плохо оснащены для того, что мы называем технологическим развитием, поскольку все основные их достижения базировались не на сокращении затрат, а на их растягивании и организации. Эта модель предполагает вопрос, на который я не могу ответить. Замедлялись ли римляне также и в степени экстенсивной креативности? Ответ, вероятно, утвердительный, поскольку к 100 г. н. э. они достигли границ, которые считали естественными, использовали большую часть земель, пригодных для сельского хозяйства, а их политические и фискальные организации пронизывали всю империю. Полноценный ответ подразумевает новый вопрос об оригинальном источнике материала, касающегося логистики организации. Но в конце концов выявить замедление в развитии империи около 200 г. н. э. еще не значит ответить на вопрос об «упадке и разрушении». Отныне внутренние дела римлян уже никогда не были безоблачными. Но к концу II в.н. э. мы можем, как могли и сами римляне, различить возникновение новых внешних угроз. Из схем строения укреплений нам известно, что им не хватало уверенности в защищенности одной-единственной линии вдоль промежутка между верховьями Рейна и Дуная. Между 167 и 180 гг.н. э. Рим дважды участвовал в тяжелых сражениях, чтобы защитить Дунай от нашествия конфедерации немецких племен — маркоманов. Римляне не могли удержать приграничные провинции без массовой переброски солдат с востока, где еще недавно успешно завершилась война против парфян. Это было вдвойне зловещим предзнаменованием, которое демонстрировало, как опасна может быть одновременная война на востоке и западе, а также показывало, что маркоманы были показателем роста организационного потенциала северных «варваров». Римская империя способствовала повышению уровня развития воинственных вождей пограничий, как было и в случае предшествовавших империй. Это происходило различными путями (Todd 1975). Во-первых, сельскохозяйственные инновации Рима не зависели от крупномасштабной социальной организации: огромное количество разнообразных растений, простейших приспособлений и удобрений распространилось по всей Евразии и Африке. После 200 г. до н. э. сельскохозяйственное производство этих областей стало составлять серьезную конкуренцию римскому сельскому хозяйству. Во-вторых, распространение получили военные технологии. Так, командиры вспомогательных отрядов и некоторые лидеры варваров использовали римские технологии. Он знали о недостатке кавалерии у римлян, поэтому могли намеренно использовать свое превосходство в мобильности. Но, в-третьих (в качестве ответа на успешные набеги), их социальные структуры стали более централизованными. Путем сравнения государственных расходов Цезаря, записанных в середине I в. до н. э., и Тацита, записанных во II в.н. э., Томпсон (Thompson 1965) представил хронологию развития прав частной собственности, а также тенденций к царству. И то и другое было основано на власти в войне, целенаправленно поддерживалось римлянами для дипломатической безопасности и торговлей с римлянами, которая подразумевала более организованные военные походы за рабами со стороны германцев, чтобы платить за римский импорт. Германская социальная организация получила заметное развитие. Возникали укрепленные города, занимавшие 10-35 гектаров с населением немногим меньше населения римских провинциальных городов. Римские сети взаимодействия распространились за пределы укрепленных границ. Даже римское общество не было унитарным. Римская реорганизация становится особенно наглядной в течение двадцати лет, последовавших за провозглашением императора Септимия Севера в 193 г.н. э. Север начал выводить отборные легионы с границ, чтобы заполнить освободившиеся позиции преторианцев, заменяя их на границе милицией поселений. Это была более оборонительная и менее уверенная стратегия. Она также требовала больших затрат, а потому он пытался финансировать реформу, отменив налоговые откупы и льготы для Рима и Италии. Хватило ли этого? По всей видимости, нет, поскольку он обратился к порче серебряных монет (как до него уже поступал Марк Аврелий), которая набрала обороты. Его сын Каракалла проводил похожую политику. Предоставление гражданства всем жителям Римской империи имело финансовый мотив, а целью была мобилизация политической лояльности народа. Он также прибег к порче монет и увеличил их выпуск. Хопкинс подсчитал, что между 180 и 210 гг.н. э. содержание серебра в денарии (denarii), который чеканился в Риме, упало на 43 % (Hopkins 1980b: 115). Хотелось бы иметь больше достоверных данных об этом важном периоде, а также о смеси из хорошо продуманных и совершенно тупых политических изменений. Север преследовал хитроумную двустороннюю фискальную и военную стратегию: восстанавливал армию, состоявшую из граждан-крестьян на границах, и объединял ее с более профессиональной резервной армией, обеспечиваемой на доходы от более справедливой налоговой системы. Отмена откупов даже предполагала попытку разрешить ключевую проблему изъятия. Но предположительно краткосрочные дыры в бюджете, возникавшие иногда в результате борьбы с соперничавшими претендентами на трон, иногда в результате стремительных нашествий на Рейне, Дунае и на Востоке, привели к порче монеты — самой ужасной политике, какую только можно было себе представить в подобной экономике. Государство, которое чеканило монету для проведения военных экспедиций, а снабжение оставляло на откуп частным производителям и посредникам, не могло сделать ничего хуже, чем подорвать доверие к своей монете. Если о порче становилось известно, то сокрытие запасов и инфляция были обеспечены. Использование большего количества серебра при чеканке могло не оказать подобного эффекта (я не претендую на то, чтобы этим рассудить спор современных монетаристов и кейнсианцев), но уменьшение количества серебра в монете означало девальвацию основной функции государства в глазах его граждан. Иногда утверждают, что императоры не осознавали последствий своих действий. Они действительно могли не предполагать о существовании технической связи между порчей монеты и инфляцией. Но, поскольку они были убеждены, что стоимость монеты зависит только от составлявших ее металлов, порча монеты могла быть лишь осознанной попыткой обмануть тех, для кого эти монеты предназначались. Они должны были понимать, что в конечном итоге раскрытие обмана и недовольство были неизбежны. Порча монеты могла быть рациональной стратегией только для безопасной передышки. Но и она была недоступна. Дефекты римской оборонительной системы послужили дополнительным мотивом для германцев, которые уже были способны к крупномасштабному вторжению. Но что было хуже и более внешним по отношению к действиям Рима, это то, как разворачивались события на Ближнем Востоке. В 224–226 гг.н. э. парфянское государство было разрушено персидскими завоевателями, возглавляемыми династией Сасанидов, правление которых продлилось в течение следующих 400 лет. Более централизованные, чем было парфянское государство, способные к более продолжительным военным кампаниям и осадным действиям, саса-ниды помимо всего прочего были экспансионистами. Разумеется, римляне (и другие соседи) научились использовать их слабость — неразрешенные противоречия между государством и феодальной знатью. Но практически в течение века Рим был вынужден держать оборону своих восточных провинций и одновременно своих рейнско-дунайских границ. Оборонные расходы чрезвычайно выросли в эти пятьдесят лет после 175 г. н. э. Чтобы справиться с ними без изменений социальной структуры, потребовались огромные коллективные жертвы. Зазор между государством, высшим слоем и народом необходимо было преодолеть. Политика Севера была направлена именно на это. Но для этого было не самое подходящее время. Императоры извлекали деньги в результате порчи монет, из конфискации, но не из общего увеличения налоговых ставок, для которого еще не были сконструированы необходимые политические механизмы. Конец Севера был соответствующим — безрезультатная война с персами в 231 г.н. э., за которой последовало нашествие маркоманов. Армия Рейна, не получавшая жалованья, взбунтовалась в 235 г., убила Александра Севера и заменила его генералом Максимином Фракийцем — первым из числа «солдатских императоров». Между 235 и 284 гг.н. э. обрушение римской фискально-военной системы оказало катастрофическое воздействие на экономику в целом. Содержание серебра в монетах упало с 40 % в 250 г. до менее чем 4 % в 270 г. Иногда встречаются упоминания о провинциях, которые отказались принимать такие имперские монеты. Цены росли, хотя трудно сказать, когда именно начался этот рост и насколько резким он был. Доказательством упадка городов может служить сокращение именных камней, приуроченных к новым постройкам, благотворительности, подаркам и освобождению от рабства. Уменьшилось количество кораблекрушений, свидетельствовавшее, как мы предполагаем, о сокращении торговли, а не об улучшении погоды. Недовольство жителей опустошенных деревень началось в середине века. На пограничных землях наблюдалась существенная убыль населения, в регионах ближе к центру она была гораздо меньше, что является косвенным признаком agri deserti (полей в запустении). Хотя в этом и нет полной уверенности. Наихудшим аспектом упадка было то, что это была самораскручивавшаяся нисходящая спираль. Поскольку солдат становилось все труднее снабжать, они бунтовали. Из последующих двадцати императоров восемнадцать умерли насильственной смертью, один погиб в персидском плену и один — от чумы. Поэтому вторгавшимся на территорию империи захватчикам было легче грабить, что, в свою очередь, служило причиной дальнейших экономических нарушений. 260-е гг. н. э. были дном, поскольку Рим одновременно подвергся атакам готов на севере и персов на юге. Римляне утверждали, что количество готов составляло 320 тыс. воинов, а количество кораблей —2 тыс. Эти цифры преувеличены, но они тем не менее демонстрируют, насколько серьезной была эта угроза. Готы продвинулись вплоть до Афин, которые они разграбили прежде, чем были побеждены, тогда как персы победили, пленили императора Валериана и разграбили Антиохию. В этот момент империи грозил распад либо полностью, либо на несколько латинских и греческих княжеств (как это произошло с империей Александра Великого). Общая численность населения и уровень экономической активности продолжали снижаться, и могли возникнуть фискально-военные отношения феодального типа. Но «солдатские императоры» одержали ряд побед в 270-80-х гг., которые, по всей видимости, предоставили передышку примерно на пятьдесят лет. Диоклетиан (284–305 гг.) и его последователи, прежде всего Константин Великий (324–337 гг.), пожинали плоды этой передышки. Великие реформы Диоклетиана поражают воображение, поскольку они отражают глубокое понимание социальной структуры Рима, а также снижение ее способностей противостоять внешним угрозам. Они были радикальным разрывом с прошлым, учитывая нисходящую спираль последнего столетия, а также тот факт, что структуры общественного самопожертвования не подлежали восстановлению. Диоклетиан предпринял попытку сломать автономную власть традиционного высшего класса, разделив сенаторское сословие и сословие всадников и лишив тех и других военных и гражданских постов. Разумеется, успех этой стратегии зависел от способности государства к проникновению в «гражданское общество», что в прошлом удавалось лишь отчасти. Эта попытка была систематической. Призыв на воинскую службу был установлен на постоянной основе, а размер армии практически удвоен. Но хотя пограничные и резервные армии были усилены, это численное увеличение не отрицало отсутствия улучшений в организационных способностях армии. Были созданы более независимые армии примерно такого же размера, как и прежде. Военные силы Юлиана,насчитывавшие 65 тыс. человек, против персов в 363 г. были, вероятно, крупнейшими, но не превышали самые многочисленные армии поздней республики. Более того, прибывшие новобранцы размещались относительно небольшими отрядами вдоль основных коммуникационных путей империи. Они использовались для патрулирования и умиротворения во всех центральных областях, в частности оказывали помощь при сборе налогов. Подобным образом была увеличена государственная бюрократия (по всей видимости, ее численность была удвоена). Провинции были разделены на более мелкие административные единицы, вероятно, более управляемые, но, что самое главное, в меньшей степени способные к автономному действию (включая восстания). Налоговая система была рационализирована и объединяла земельный и подушный налоги. Цензы были возобновлены и проводились регулярно. Налоговые ставки устанавливались ежегодно в соответствии с оценками расходов бюджета. Это ежегодное определение ставок, проводимое заранее, вероятно, было первым настоящим бюджетом в истории государств. Все это может выглядеть как благоразумная рационализация, но в условиях Древнего мира она требовала огромного насилия. Большая часть материальных ценностей, прежде всего собственность крестьян, никогда не имела установленной стоимости. Как она могла быть обложена налогом, который затем еще необходимо было собрать? Что касается оценки стоимости налоговой базы, то Лактанций сохранил для нас результаты одного из цензов Диоклетиана: Толпа налоговых чиновников низвергалась отовсюду и привела всех в смятение. Это были картины ужаса, как при нападении врагов и уводе пленных. Измерялись поля, подсчитывались виноградные лозы и деревья, вносились в списки все домашние животные, отмечалось число жителей. Каждый был на месте с детьми и рабами. Пытали и били сыновей перед отцами, вернейших рабов — перед хозяевами, жен — перед мужьями. Если же все это было безуспешно, пытали самого собственника, и, если он не выдерживал боли, он записывал в собственность то, чего вообще не существовало… Не доверяли одним оценщикам и снова посылали других, как будто они могли записать больше; все время удваивались взносы. Тем временем уменьшалось число животных, умирали люди, но, несмотря на это, налог накладывался и на умерших. Короче, бесплатно нельзя было больше ни жить, ни умереть. Остались только нищие, с которых нечего было взять [цит. по: Jones 1970: II 266-7]. Разумеется, это преувеличение, но оно тем не менее показательно. Диоклетиан, как и всякий сборщик налогов до XIX в., имел в своем арсенале три стратегии. Первые две — изымать налоги, опираясь на местные знания и власть крупных землевладельцев, или же изымать налоги, обращаясь за помощью к местному населению, — не приносили денег, достаточных для покрытия бюджетных расходов. Землевладельцы собирали налоги, забирая часть себе, и те, кого они обирали, знали об этом. Стратегия сбора налога с опорой на землевладельцев была именно той, от которой отказались, несмотря на то что никаких институтов консультаций с населением не существовало со времен ранней республики. Оставалась лишь третья стратегия — силой забирать все что можно, оставляя населению лишь минимум, необходимый для существования и производства. Важная часть такой стратегии, пишет Лактанций, — прийти к государственным чиновникам, прежде чем им удавалось найти компромисс с местными жителями о размере персональной взятки. Это была продвинутая форма принудительной кооперации, в результате которой принуждение усиливалось, а кооперация становилась более пассивной. Отсутствие восстаний демонстрировало, что необходимость в большой армии, бюрократии и налогообложении в целом была оправданной, но участие народа и высших слоев в их организации снизилось. Усиление принуждения предполагало не только военную силу, но и социальную и территориальную фиксацию. Как мы могли убедиться в главах, посвященных более ранним обществам, власть государства в большей мере зависит от способности заключить своих субъектов в «клетку» определенных пространств и ролей. Реформы Диоклетиана подразумевали те же самые процессы не в качестве осознанной политической стратегии, а в качестве побочного продукта новой системы. Налоговая система работала лучше, с меньшей необходимостью ценза и политического надзора, если крестьяне были привязаны к одному конкретному центру для цензовых целей. Они были приписаны к деревням или городам и принуждены платить налоги и собираться для ценза. Это было традицией (как нам известно из истории о рождении Христа), но теперь эти цензы были более регулярными, а изъятие налогов — ежегодным, что привязывало крестьян (а также их детей) к родным деревням. Те же условия были созданы в городах и ремесленных секторах, где люди были привязаны к определенному месту жительства. Это пересекалось со спросом и предложением — силами, о действии которых в то время не знали. Разумеется, тенденции принудительной регуляции были движением от децентрализованной рыночной экономики с денежным обращением к централизованному авторитетному приписыванию стоимостей. Инфляция затрагивала продукт, а не экономику в целом, она была результатом алчности тех, кто наживался на разных урожаях. С этой проблемой можно было справиться только посредством силы, поскольку в терминах эдикта Диоклетиана устанавливалась максимальная цена на сотни товаров, а «…вразумительный страх почитался наилучшим наставником долга. Поэтому мы постановляем, что, если кто дерзко воспротивится этому, тот рискует своей головой» (цит. по: Jones 1970: II, 311). Результатом роста цен становилась смерть от государства, обладавшего ресурсами, чтобы встать за каждой монетарной транзакцией в империи. Централизованная экономика имела альтернативную возможность усилить инфляцию, если не могла ее сократить (как намеревалась). Это должно было вывести покупательную способность государства из механизма ценообразования в целом, чтобы требовать снабжения в натуральной форме. Некоторые шаги были сделаны, хотя непосредственная широта их распространения не очевидна. Это, разумеется, подразумевало децентрализацию военных лагерей солдат и небольших административных единиц — каждый лагерь мог получать снабжение непосредственно в местности, где стоял. Если судить по намерениям, то система Диоклетиана не могла работать, поскольку государство не обладало достаточным количеством контролировавших и принудительных сил. Экономика была достаточно децентрализованной, для того чтобы покупатели могли заплатить более высокую цену, вместо того чтобы пожаловаться на продавца ближайшему чиновнику с солдатами. На практике распределение налогов опиралось на местную знать. Это был самый интересный аспект системы. Влияние, которое налоговая система оказала на развитие крестьянских колон (colonus), заключалось в привязке к клочку земли и землевладельцу. Как на практике сельского налогоплательщика привязывали к городу или деревне? Это было особенно запутанным делом в относительно неурбанизированных провинциях, таких как большая часть Северной Африки. Но ответ был очевиден — путем помещения его под контроль сословия. Последовавшие эдикты представляли собой хронологию эволюции этого решения. Эдикт Константина 332 г. скорее демонстрирует последствия административного удобства, а также необходимость насилия для сохранения свободы: Тот, у кого будет найден чужой колон, должен не только вернуть его к месту его происхождения, но и заплатить за него подушную подать за то время, которое колон у него находился. А самих колонов, которые вздумают бежать, заковывать в кандалы как находящихся в рабском положении, чтобы они были принуждены в наказание исполнять рабским способом обязанности, приличествующие свободным [цит. по: Jones 1970: 11,312]. В конце концов крестьянина необходимо было передавать из рук в руки с помощью государства[83]. Зазор [между государством, высшими классами и народом] был модифицирован, но не устранен. Высший класс гражданского общества лишился своих военных и политических функций, получив обратно местные экономические функции. Первое было намеренным политическим действием, а второе — непреднамеренным последствием военно-фискальных нужд государства. Более народная демократия — консультативная политика никогда более не рассматривалась в качестве серьезной альтернативы, поскольку означала бы изменение направления государственных тенденций большего принуждения. В той степени, в какой система Диоклетиана провалилась, она, вероятно, потянула за собой и возможности для дальнейшего экономического развития. В наш капиталистический век принято считать, что даже если бы Диоклетиану удалось достичь своих целей, то результат был бы тем же самым. Это демонстрирует предубеждение, существующее среди классиков, о неспособности централизованных государств к инновациям. Мне кажется, что у римской администрации, особенно учитывая ее отчаянную потребность в налоговых поступлениях, было не меньше стимулов к улучшению сельскохозяйственных технологий, чем у частных землевладельцев, капиталистов и др. Развитие в сфере сельскохозяйственного производства было задушено скорее по той причине, что администрация его не контролировала. В конце концов, как часто отмечают исследователи (Jones 1964: II, 1048–1053), существенные инновации происходили в тех сферах, которые государственная администрация контролировала: распространение водяной мельницы было первоначально связано с распиливанием мрамора для мо-нумеитов и только впоследствии с помолом зерна, к тому же ни одна сельскохозяйственная машина не могла соревноваться с осадными орудиями по своей сложности. Сельскохозяйственное развитие отныне проходило украдкой, скрытно от государства и потому распространялось медленно. В соответствии с более скромным стандартом выживания система Диоклетиана была успешной. Она, как представляется, была чем-то вроде «возрождения четвертого века» (детали которого не ясны). Всякое возрождение следует рассматривать как нечто выдающееся, учитывая, что государство продолжало облагать растущими налогами все ту же базовую экономику. Численность армии достигла 650 тыс. человек, что примерно в четыре раза больше вооруженных сил Августа. Бюджетные показатели удвоились между 324 и 364 гг. Однако воинственные вожди пограничий и персы никуда не делись. Германскими племенами все больше пользовались как военными союзниками, им также было позволено расселяться в приграничных регионах. И вновь внешняя угроза усугубила ситуацию. Около 375 г. остготское царство на юге России было разрушено гуннами из Центральной Азии — это оказало давление на германские народы, а через них на империю. Целью германских народов было строительство поселений, а не военные набеги. Вместо того чтобы сражаться с ними, Валент разрешил вестготам остаться. В 378 г. они восстали. Кавалерия Валента была прижата к стенам Адрианополя, в результате он и его армия были уничтожены. Последующим поселениям вестготов, остготов и других «народов» невозможно было препятствовать, кроме того, отныне Рим полагался на них в защите северных границ. Они стали вооруженными силами, содержание которых не требовало налогообложения, сохраняя деньги бюджета, но в политических терминах это был откат к «феодализму». К 400 г. военные отряды, называемые легионами, все еще существовали, но в реальности они были региональными силами, занимавшими хорошо укрепленные оборонительные позиции и обычно испытывавшими недостаток в инженерных кадрах для закрепления завоеваний. Единственная полевая армия, сохранившая боеспособность, защищала императора. Легионерская экономика прекратила свое существование. Внутренне процесс упадка ускорился после 370 г.н. э. Началось сокращение численности населения городов. Сельские земли постепенно приходили в запустение, и, без сомнения, люди погибали от недоедания и эпидемий. Вероятно, как реакция на это давление произошли две важнейшие социальные трансформации. Во-первых, с этого момента все свободные люди становились колонами (coloni) под патронажем местного землевладельца, защищавшего их от имперских сборщиков налогов. Деревни попали в руки патронов начиная с 400 г. и далее. Отныне численность колонов росла вопреки государственным интересам. Во-вторых, происходила децентрализация экономики, поскольку местные землевладельцы пытались увеличить их независимость от имперских сил через самодостаточность поместной экономики (oikos). Снижение объемов торговли между провинциями ускорялось самими захватчиками, поскольку дороги стали небезопасными. Местные землевладельцы и колоны рассматривали имперские власти как эксплуататорские и создали социальную структуру, которая сближалась с феодальным поместьем, обрабатываемым крепостными. Принудительная политика Диоклетиана оставила возможность возвращения к локальной экономике, контролируемой квазифеодалами. Соответственно, в последнее столетие своего существования римское государство изменило направление своей политики по отношению к высшему классу; неспособные организовать локальное принуждение против них, имперские власти были вынуждены вернуть местную власть в руки гражданской администрации. Они намеревались поддержать землевладельцев и декурионов в исполнении гражданских обязанностей, а не в уклонении от них. Но у власти больше не было стимула к этому, поскольку легионерская экономика окончательно развалилась. В некоторых областях массы и в меньшей степени местные элиты готовы были пригласить варварских правителей. Основной вопрос, по которому у исследователей больше всего разногласий, заключается в том, оказал ли этот развал столь катастрофический эффект на крестьянство. Бернарди (Bernardi 1970: 78–80) утверждает, что крестьянство не обнищало, скорее в союзе с землевладельцами ему удалось избежать непомерных налогов. Таким образом, «политическая организация пала, но не рамки крестьянской жизни, формы собственности и методы эксплуатации». Файнли (Finley 1973: 152) также выражает сомнения относительно того, были ли римские крестьяне более забитыми или голодными, чем современные крестьяне третьего мира, которые тем не менее были довольны своим положением. Объяснения Файнли состоят в том, что экономика империи базировалась «практически целиком на мышечной силе людей», у которых помимо самого необходимого для существования не было ничего, чтобы внести свой вклад в «программу жесткой экономии», продолжавшейся в течение двухсот лет нашествия варваров. Поэтому увеличение потребительских запросов армии и бюрократии (а также паразитизм христианской церкви — вновь вспомним Гиббона) привело к дефициту труда. Данный аргумент применим лишь к непосредственному историческому моменту коллапса. Политический и военный коллапс четко датирован: в 476 г. н. э. последний император на западе, которого по иронии звали Ромул Август, был низложен. Он был свергнут вождем смешанных германских групп Одоа-кром, провозглашенным не императором, а королем в соответствии с германскими традициями. Экономический коллапс предположительно датируется более ранними и более поздними датами, чем это событие. В описании упадка и разрушения в качестве катализатора этих событий я указываю на военное давление варваров. Его влияние было существенным, начиная с внезапного возникновения около 200 г.н. э. до некоторого ослабления только к 280–330 гг.н. э. Без этого геополитического сдвига никаких рассуждений о многочисленных внутренних «провалах» Рима (демократия, свободный труд, промышленность, средний класс или что бы то ни было еще) не возникло бы. Вплоть до 200 г. н. э. имперские структуры адекватно справлялись как с внутренними, так и с внешними трудностями, демонстрируя при этом наивысший уровень идеологической, экономической, политической и военной коллективной власти из тех, что знал мир, за исключением династии Хань в Китае. Более того, как утверждает Джонс (Jones 1964: II, 102–168), различные уровни внешнего давления, по всей вероятности, служат объяснением того, что Восточная Римская империя со столицей в Константинополе продолжила свое существование в течение последующей тысячи лет. После административного разделения империи западной империи пришлось защищать по меньшей мере 500 километров подвижной рейнско-дунайской границы. Сильная восточная оборона вдоль этого небольшого расстояния, как правило, отклоняла завоевателей с севера на запад. На долю восточной империи выпала защита от персов, которую можно было обеспечить путем упорядоченного чередования войн, мирных договоров и дипломатии. Персы страдали от тех же организационных и количественных проблем, что и римляне. Справиться подобным образом с германскими народами было невозможно — их было слишком много в терминах количества политических организаций, с которыми римлянам приходилось иметь дело. Мы не можем быть полностью уверены в подобного рода аргументе, поскольку западная часть империи также отличалась по своей социальной структуре (как признает Джонс; см. также Anderson 1974а: 97-103). Тем не менее в качестве заключения можно лишь повторить известные слова Пиганьоля: «Римская цивилизация погибла не естественной смертью, она была убита» (Piganiol 1947; 422). Разумеется, останавливаться на этом нельзя. Как я уже не раз подчеркивал, внешнее давление редко бывает действительно чужеродным. Лишь два события из всего устойчивого внешнего давления возникли как относительно экзогенные по отношению к истории Рима — завоевание Парфии Сасанидами и давление гуннов на готов. Если влияние Рима ощущается даже в них, то оно по крайней мере было косвенным. Но остальное давление, особенно германское, не было внешним в полном смысле слова, поскольку предшествовавшее воздействие римлян на германцев было сильным и решительным. Рим дал своим северным врагам военную организацию, которая впоследствии его сокрушила. Рим также поделился большей частью экономических технологий, которые также способствовали его уничтожению. Кроме того, римский уровень развития мотивировал германцев. Они адаптировали римское влияние, чтобы выработать социальную структуру, пригодную для завоевания. Вопреки римской пропаганде они не были варварами в полном смысле слова — они были полуцивилизованными воинственными народами пограничий. Поэтому это была неспособность ответить на вызовы, которые Рим создал на своих границах. Причины этой неспособности были внутренними, но они должны были быть связанными с римской внешней политикой. Перед Римом были открыты две властные стратегии — военная и идеологическая. Военная стратегия состояла в подавлении варваров традиционным путем, то есть путем организации завоевательных походов по всей Европе, которые остановились бы только перед русскими степями. Римские приграничные проблемы тогда стали бы походить на те, которые стояли перед Китаем, они стали бы управляемыми, поскольку им противостояли относительно малочисленные скотоводы-кочевники. Но такая стратегия предполагала то, чем Рим не обладал со времен Пунических войн, — способностью к коллективному военному самопожертвованию, источником которой некогда были относительно эгалитарные граждане. В 200 г. н. э. такая стратегия была невозможна, поскольку требовала глубоких продолжительных изменений в социальной структуре. Идеологическую стратегию можно было применить к приграничным местностям, но только чтобы сделать захватчиков цивилизованными, и, таким образом, возможное военное поражение от них не означало бы полного уничтожения Рима. Идеологическая стратегия могла принять элитистскую или демократическую форму — либо германская династия могла править империей (или несколькими цивилизованными римскими государствами), либо народы могли слиться. Элитистский вариант был успешно применен китайцами для инкорпорирования завоевателей; демократический вариант присутствовал как актуальная возможность, но не был реализован в ходе распространения христианства. Рим никогда всерьез не распространял свою культуру на внешние области, которые прежде не были умиротворены его легионами. Вновь требовалась революция в политическом мышлении. Не удивительно, что ни элитистский, ни демократический варианты не были задействованы. Стилихон и его вандальские народы были настоящими защитниками Рима около 400 г.н. э.: было немыслимо, что Стилихон наденет имперский пурпур, но тот факт, что он этого не сделал, обернулся катастрофой для Рима. Столь же катастрофичным было то, что практически никто из германцев не обратился в христианство до их завоеваний (как утверждает Brown 1967). И вновь причины этого были по большей части внешними: Рим так и не разработал никакой единой стратегии для собственных элит или народа. Трехсторонний зазор, который я уже описывал, означал, что интеграция государства и элит в единый цивилизованный правящий класс была ограниченной, к тому же народ в массе не имел никакого отношения к имперским структурам. В Китае символом гомогенности элит было конфуцианство; в Риме христианство открыло возможность для гомогенности народа. Разумеется, этот вопрос вынуждает нас обратиться к более подробному исследованию мировых религий спасения — этим важнейшим носителям идеологической власти. Это тема следующих глав. В настоящий момент можно заключить, что причина неспособности Рима справиться с высоким уровнем внешнего давления после 200 г.н. э. лежала в трехстороннем зазоре власти между государственной элитой, высшим классом и народом. Чтобы справиться с полуварварами военным или мирным путем, требовалось закрыть эти дыры власти. Они не были закрыты, несмотря на три попытки. Север предпринял первую неуверенную попытку, Диоклетиан — вторую, Константин и христианские императоры — третью. Но их неудачи не были неизбежными: они были сокрушены различными непредвиденными событиями. Поэтому наше мнение относительно всех возможностей первой территориальной империи с ее идеологически сплоченной элитой и легионерской экономикой как разновидности принудительной кооперации остается неопределенным. Подобные формы власти никогда вновь не появлялись на территории, которую занимала Римская империя или на которую распространялось ее влияние. Напротив, как и в случае Персидской империи доминирования, истоки социального развития лежали в интерстициальных аспектах социальной структуры, особенно в силах, которые породили христианство.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ РИМЛЯН
Центральным римским институтом всегда был легион. К тому же легион никогда не был исключительно военной организацией. Его способность к мобилизации экономических, политических и на время идеологических обязательств была основной причиной его неповторимого успеха. Тем не менее, хотя он и доказал свою успешность, его социальная мобилизация претерпела ряд изменений, которые были рассмотрены в этой главе. Изменения представляют собой ключ ко всему процессу социального развития Рима. На первом этапе завоеваний римляне предстают расширяющимся городом-государством. Они обладают определенной степенью коллективных обязательств между индивидуальными крестьянами железного века, сравнимой с греками, корни которых уходят в объединение относительно интенсивной экономической и военной власти. Но, как можно предположить, они адаптируют более экстенсивные македонские военные технологии, а также обладают трайбалистскими элементами в ранней социальной структуре. В результате появились легионы, состоявшие из граждан, интегрировавшие римскую классовую структуру (в латинском понимании классов) в эффективный инструмент военных завоеваний. По всей вероятности, такие легионы были наиболее эффективной сухопутной военной машиной во всем Средиземноморье (а возможно, и во всем мире) вплоть до поражения Карфагена и установления империи. Но военный успех имел обратное воздействие на римскую социальную структуру. Непрекращавшиеся войны в течение двух столетий создали профессиональную армию, обособившуюся от гражданских классов. Экстраординарный приток трофеев, рабов и экспроприированных поместий усугубил неравенство и увеличил частную собственность элит из сословия сенаторов и всадников. Разумеется, во II и I вв. до н. э. произошли все трансформации, которые обычно происходят с государством-завоевателем: расширение неравенства, сокращение народного участия в управлении, диалектика между централизованным милитаристическим контролем и последующей фрагментацией государства на генералов, правителей и откупщиков, «растворившихся» в провинциальном «гражданском обществе», забиравших себе все плоды государственных завоеваний в качестве «частной» собственности. Как всегда, инфраструктура этой империи доминирования оказалась гораздо меньше ее военных амбиций, и эта слабость создала обычные конфликты с военными союзниками, населением и генералами. Тем не менее Рим не был обычной империей доминирования, как доказала его способность стабилизировать свое правление и разрешить по меньшей мере два из вышеупомянутых конфликтов. Имели место два ключевых усовершенствования. (Я не рассматриваю в качестве еще одного основного достижения репрессию изначальной народной и гражданской базы Рима, поскольку государства-завоеватели обычно «организационно превосходили» низшие классы путем, который я описал в этой главе. В экстенсивных обществах правящие группы зачастую обладают более широкой организационной базой, чем та, которой обладают подчиненные группы. Массы оказываются в ловушке «организационных структур» своих правителей.) Первым основным достижением Рима было обращение со своими союзниками (socii). Избрав персидский, а не ассирийский путь, Рим был готов править через покоренные элиты (с известным исключением жестокой мести карфагенянам). Но затем большинство местных элит стали такими романизированными, что установить их происхождение после века римского правления было уже практически невозможно. Поэтому, например, когда республика стала империей по своему политическому устройству, а также и в реальности, имперская преемственность охватила большую часть провинций. Таким образом, socius, изначально означавшее федерацию союзников, стало ближе к «обществу» в современном квазиунитарном смысле. Или, что более точно, оно стало «обществом правящего класса», поскольку только элиты допускались к реальному участию в нем. Верно, что у общества правящего класса была своя слабость. Оно включало определенной величины зазор власти между государственной бюрократией и провинциальными землевладельцами, чиновниками, то есть провинциальным правящим классом. Рим никогда не стремился к стабильной институционализации этих отношений, в результате часто возникали внутренние конфликты и гражданские войны. Но лишь после 200 г.н. э. это привело к появлению серьезной уязвимости, хотя сама степень единства правящего класса была впечатляющей по стандартам других империй доминирования. Ресурсы идеологической власти, особенно грамотность и эллинистическая рациональность, теперь предоставляли своего рода инфраструктуру для культурной солидарности между элитами. Я подробнее разберу эти ресурсы в следующей главе в связи с распространением христианства. Но присутствие второго набора инфраструктурных ресурсов было отчетливо продемонстрировано уже и в этой главе. Я имею в виду то, что называю легионерской экономикой — римской разновидностью принудительной кооперации. В этом и состояло второе достижение Рима. Я выделил один ключевой символ легионерской экономики: шест, разработанный логистами генерала Мария около 109 г. до н. э. Вокруг этого шеста, который несли с собой большинство пехотинцев, было намотано множество гражданско-инженерных инструментов, которые существенно перевешивали переносимое ими боевое снаряжение. При помощи этих инструментов легионы систематически умиротворяли территории, которые они завоевывали, строя коммуникационные пути, укрепления и базы снабжения. Как только на завоеванной территории воцарялись мир и порядок, сельскохозяйственные излишки и численность населения начинали расти. Легионы были производительными, а потому их потребление стимулировало своего рода «военное кейнсианство». В частности, государственные военные экспедиции стимулировали монетарную экономику. По мере того как все больше смежных пространств вовлекались в эту экономику, римское правление становилось территориально непрерывным, в ресурсном, экономическом и прочих отношениях равномерно распространенным на всем огромном пространстве империи. Существование унифицированной экономики между 100 г. до н. э. и 200 г.н. э. имело огромное значение, даже если в ее рамках обращался весьма узкий спектр товаров, не относившихся к товарам первой необходимости. Это было первое экстенсивное гражданское общество в современном смысле этого слова[84]. После распада Рима подобное общество вновь возникало только в конце Средних веков в Европе (см. главу 14). Таким образом, Рим был первой территориальной империей, первым по большей части несег-ментированным экстенсивным обществом, по крайней мере на высшей стадии своего развития. На основе анализа, предложенного в этой главе, я смог выдвинуть контраргумент против широко распространенных убеждений, предполагающих технологическую стагнацию Рима. Рим действительно был слишком заинтересован в том, что я назвал интенсивными технологиями, увеличивающими результаты без сопутствующего роста затрат. Но Рим сделал огромный вклад в развитие экстенсивных технологий, увеличивающих результаты путем экстенсивной организации большего количества затрат. Шест Мария был превосходным примером подобного рода изобретательности. Я приведу больше доказательств по этому вопросу в главе 12, когда буду противопоставлять римские и средневековые архитектурные технологии. Римские экстенсивные власти были беспрецедентными. Они объясняют и долговечность империи. Но, не возвращаясь вновь к комплексному заключению относительно вопроса об «упадке и разрушении», они также помогают объяснить насильственный характер ее окончательного исчезновения. У федеральных империй доминирования всегда были большие проблемы с их приграничными регионами, хотя в принципе любым соседям можно было приписать статус пограничья (то есть «получленов»). Но римский экстенсивный территориальный контроль особенно подчеркивал пропасть между цивилизацией и варварством. Границы Рима были более четкими, чем у остальных древних империй. Римские достижения в идеологической власти также способствовали фиксации его границ. Как мы увидим в следующей главе, его элитарная культура была эксклюзивной и исключительно интровертивной. Варвары не могли быть полностью цивилизованы, даже несмотря на то что легионы сначала расчищали путь для этого силой. Но, как и в случае прочих цивилизаций, чем успешнее был Рим, тем больше зависти он вызывал у соседей. Для Рима было трудно институционализировать эту зависть, и он мог лишь бороться с ней. Постепенно, под воздействием перенапряжения экономика стала давать сбои, а принуждение — преобладать над кооперацией. Поскольку реального гражданства больше не существовало, массы невозможно было организовать для больших жертв (какие они понесли, чтобы победить Карфаген веком ранее). Подобным же образом разрыв власти между государством и правящим классом делал тщетными серьезные попытки по мобилизации элит. Легионерская экономика не была гибким инструментом. Как только заведенный порядок был сломлен, Рим скатился до уровня прочих империй доминирования, и в том, что касалось принуждения, его оппортунистические способности не были примечательными. Если его наследство миру было больше по сравнению с наследством практически всех других империй, то только благодаря его достижениям в идеологической власти, которые были переданы новым способом — через мировую религию.БИБЛИОГРАФИЯ
Anderson, Р. (1974а). Passages from Antiquity to Feudalism. London: New Left Books; Андерсон, П. (2007). Переходы от античности к феодализму. М.: Территория будущего. Appian. (1913). The Civil Wars. Vol. 3 of his Roman History. Loeb edition. London: Heinemann; Аппиан (1994). Гражданские войны. M.: Российская политическая энциклопедия, Селена. Badian, E. (1968). Roman Imperialism. Oxford: Blackwell. Bernardi, A. (1970). The economic problems of the Roman Empire at the time of its decline. In the Economic Decline of Empires. C. M.Cipolla. ed. London: Methuen. Brown, P. (1967). Review of A.H.M.Jones, The Later Roman Empire. Economic History Review, 20. Brunt, P. A. (1971a). Italian Manpower. 225 b.c. —a.d. 14. Oxford: Clarendon Press.--. (1971b). Social Conflicts in the Roman Republic. London: Chatto & Windus. Cameron, A. (1976). Bread and Circuses: The Roman Emperor and his People. Inaugural Lecture. Kings College. London: Kings College. Cipolla, C.M. (1976). Before the Industrial Revolution. London: Methuen. Crawford, M. (1970). Money and exchange in the Roman world. Journal of Roman Studies. 60.--. (1974). Roman Republican Coinage. Cambridge: Cambridge University Press.--. (1978). The Roman Republic. London: Fontana. Duby, G. (1974). The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Centuries. London: Weidenfeld & Nicolson. Duncan-Jones, R. (1974). The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies. Cambridge: Cambridge University Press. Finley, M.I. (1965). Technical innovation and economic progress in the ancient world. Economic History Review, 18.--. (1973). The Ancient Economy. London: Chatto & Windus. Frank, T. (1940). An Economic Survey of Ancient Rome. Vol. V, Rome and Italy of the Empire. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Gabba, E. (1976). Republican Rome, the Army and the Allies. Oxford: Blackwell. Garn-sey, P. D.A., and C. R. Whittaker. 1978. Imperialism in the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press. Gelzer, M. (1969). The Roman Nobility. Oxford: Blackwell. Goffart, W. (1974). Caput and Colonate: Towards a History of Late Roman Taxation. Toronto: University of Toronto Press. Gruen, E.S. (1974). The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley: University of California Press. Harris, W. V. (1979). War and Imperialism in Republican Rome. Oxford: Clarendon Press. Hopkins, K. (1977). Economic growth and towns in classical antiquity. In Towns in Societies: Essays in Economic History and Historical Sociology, P. Abrams and E. A. Wrigley eds. Cambridge: Cambridge University Press.--. (1978). Conquerors and Slaves: Sociological Studies in Roman History. Cambridge: Cambridge University Press.--. (1980). Taxes and trade in the Roman Empire (200 B.c. —a.d.400). Journal of Roman Studies, 70. Jones, A. H. M. (1964). The Later Roman Empire 284–602. Oxford: Blackwell.--. (1970). A History of Rome through the Fifth Century, Selected Documents. London: Macmillan. Josephus, Flavius. (1854). Works. Trans. W. Whiston. London: Bohn. Иосиф Флавий. Иудейская война. М.: Мосты культуры — Иерусалим: Гешарим, 1992. Kieckle, F. К. (1973). Technical progress in the main period of ancient slavery. In Fourth International Conference of Economic History. Bloomington, Ind., 1968. Paris: Mouton. Luttwak, E. N. (1976). The Grand Strategy of the Roman Empire. Baltimore: Johns Hopkins University Press. MacMullen, R. (1966). Enemies of the Roman Order. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.--. (1974). Roman Social Relations. New Haven, Conn.: Yale University Press. Millar, E, et al. (1967). The Roman Empire and its Neighbours. London: Weidenfeld & Nicolson.--. (1977). The Emperor in the Roman World. London: Duckworth. Momigliano, A. (1975). Alien Wisdom: The Limits of Hellenization. Cambridge: Cambridge University Press. Ogilvie, R. M. (1976). Early Rome and the Etruscans. London: Fontana. Parker, A. J. (1980). Ancient shipwrecks in the Mediterranean and the Roman Provinces. British Archaeological Reports, Supplementary Series. Piganiol, A. (1947). L’Empire Chretien 325–395. Paris: Presses Universitaires de France. Plutarch. (1921). Life of Tiberius Gracchus. Vol. 10 of his Lives. Loeb edition. London: Heinemann. Плутарх. Тиберий и Гай Гракхи // Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М.: Наука, 1964. Polybius. (1922-7). The Histories. Loeb edition. London: Heinemann. Полибий. Всеобщая история. СПб.: Ювента, 1994_1995 Plekert, H.W. (1973). Technology in the Greco-Roman World. In Fourth International Conference of Economic History, Bloomington, Ind., 1968. Paris: Mouton. RostovtzefT, M. (1957). The Social and Economic History of the Roman Empire. Oxford: Clarendon Press. Ростовцев, М.И. (2000, 2001). Общество и хозяйство в Римской империи. В 2 т. М.: Наука. Runciman, W. G. (1983). Capitalism without classes: the case of classical Rome. British Journal of Sociology, 24. Russell, J. C. (1958). Late ancient and medieval population. Transactions of the American Philosophical Society, vol. 48, part 3. Ste. Croix, G. E. M. de. (1956). Greek and Roman accounting. In Studies in the History of Accounting. ed. A. C. Littleton and B.S.Yamey. London: Sweet and Maxwell. --. (1981). The Class Struggle in the Ancient Greek World. London: Duckworth. Schumpeter, J. (1954). The crisis of the tax state. In International Economic Papers: Translations Prepared for the International Economic Association, ed. A. Peacock et al. New York: Macmillan. Scullard, H.H. (1961). A History of the Roman World, 753 to 146 B.C. London: Methuen. Shaw, B.D. (1979). Rural periodic markets in Roman North Africa as mechanisms of social integration and control. Research in Economic Anthropology, 2. --. (1984). Bandits in the Roman Empire. Past and Present, 105. Slicher van Bath, В. H. (1963). Yield ratios, 810-1820. A. A. G. Bijdragen, 10. Thompson, E. A. (1952). Peasant revolts in Late Roman Gaul and Spain. Past and Present, 7. --. (1965). The Early Germans. Oxford: Clarendon Press. Titow, J.Z. (1972). Winchester Yields: A Study in Medieval Agricultural Productivity. Cambridge: Cambridge University Press. Todd, M. (1975). The Northern Barbarians 100 b.c. — a.d. 300. London: Hutchinson. Vogt, J. (1967). The Decline of Rome. London: Weidenfeld & Nicolson. Watson, G. R. (1969). The Roman Soldier. London: Thames & Hudson. Webster, G. (1979). The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D. London: Black. Westermann, W. L. (1955). The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity. Philadelphia: American Philosophical Society. White, K.D. (1970). Roman Farming. London: Thames & Hudson. Whittaker, C. (1978). Carthaginian imperialism in the fifth and fourth centuries. In Imperialism in the Ancient World, ed P. Garnsey and C. Whittaker. Cambridge: Cambridge University Press.ГЛАВА 10 Трансцендентная идеология: христианская ойкумена
ВВЕДЕНИЕ
В предыдущих главах мы лишь мельком коснулись обеих конфигураций идеологической власти, выделенных в главе 1. На примерах ассирийской и персидской империй мы рассматривали идеологию как имманентную и повышающую мораль, то есть как сплачивающую государства и господствующие классы посредством инфраструктур идеологической власти — коммуникаций, образования и стиля жизни. Это была преимущественно устная инфраструктура. Ранее на примере возникновения первых цивилизаций мы рассматривали идеологию в качестве трансцендентной власти, то есть власти, которая проходит прямо через существующие сети экономической, военной и политической власти, и, легитимируя себя посредством божественной власти, тем не менее служит для реализации реальных социальных потребностей. Однако исторические свидетельства, сохранившиеся от самых ранних цивилизаций, отчасти носят фрагментарный характер. В ходе последующей истории, о которой сохранилось больше свидетельств, подобные процессы, связанные с действием трансцендентной идеологической власти, наблюдаются более отчетливо. В этой главе представлены свидетельства «конкуренции» между двумя конфигурациями идеологической власти в поздней Римской империи. С одной стороны, идеология сплотила имманентную мораль римского правящего класса, а с другой — возникла трансцендентная власть христианства — то, что я называю христианской ойкуменой. Это был инновационный тип власти, который сочетал в себе экстенсивную и интенсивную власть, скорее диффузного, чем авторитетного толка, и в итоге получил распространение во всех основных классах экстенсивного общества. Подобная трансцендентность класса, хотя и частичная, была всемирно-исторической по своему влиянию. Обе конфигурации идеологической власти [имманентная и трансцендентная] отвечали реальным социальным потребностям, обе в огромной степени зависели от инфраструктур власти. После периода конфликта эти две конфигурации идеологической власти пришли к частичному компромиссу, который просуществовал (практически) на протяжении всех Темных веков раннего Средневековья и стал одной из основных составляющих последующего европейского динамизма, рассмотренного в главе 12. Тем не менее внезапное возникновение значительно более могущественных в смысле их трансцендентности религий не было уникальным событием. В течение тысячи лет — от рождения Будды до смерти Мухаммеда — возникли четыре великие «религии книг», которые до сих пор доминируют в мире: христианство, индуизм, буддизм и ислам. Можно еще больше сократить этот отрезок исторического времени до семи столетий, если учесть, что буддизм и индуизм окончательно оформились в период около I в. до н. э. Начиная с этого времени они, как и другие две религии, в наивысшей степени сосредоточились на индивидуальном универсальном спасении, цель которого — освобождение от земных страданий через определенного рода систематический план нравственной жизни, доступный для всех вне зависимости от класса или партикуляристской идентичности[85]. В этой главе будет затронута лишь одна религия спасения — христианство. В следующей главе я очень кратко рассмотрю ислам и конфуцианство. Затем последует более подробный анализ индуизма и буддизма с большим акцентом на первой религии. Я буду отстаивать мнение, согласно которому индуизм представляет собой апофеоз (апогей) идеологической власти, какой только знало человечество. Я рассматриваю эти религии в качестве основных воплощений автономной трансцендентной идеологической власти в истории человечества. Природа власти является основным предметом этой и следующей глав. Христианство было формой идеологической власти. Его не распространяли силой оружия, в течение нескольких веков оно не было институционализировано и не служило опорой власти государства, практически не представляло собой экономических стимулов или ограничений. Оно провозглашало монополию божественной власти на знание конечных «смысла» и «предназначения» жизни и распространялось, когда люди верили, что это правда. Из такой перспективы жить действительно осмысленной жизнью можно было, только обратившись в христианство. Таким образом, власть христианства изначально покоилась на соответствии между христианским посланием, мотивацией и потребностями вновь обращенных. Именно это уравнение нам необходимо реконструировать, если мы хотим объяснить власть христианства. Само христианство помогает нам реконструировать только одну часть этого уравнения. Оно, как первым заметил Мухаммед, — одна из «религий книги». Практически с появления христианства верующие записали его послание и комментарии о нем. Кроме того, доктрина затрагивает проблему реального (или постулируемого в качестве реального) исторического процесса. Христианство легитимирует себя при помощи исторических документов, важнейшие из которых составляют Новый Завет. С некоторыми историческими и лингвистическими оговорками исследователи используют эти документы, чтобы проследить развитие христианских доктрин. Но другая часть уравнения — потребности и мотивация верующих — оставляет массу сомнений. Исследователи пренебрегают ими в силу других аспектов христианской истории. Это история великого, практически невероятного успеха. Христианство распространилось настолько быстро и широко, что процесс распространения выглядел практически «естественным». Господство христианства над нашей культурой ослабело в последние несколько столетий, но парадоксальным образом это лишь усилило склонность исследователей рассматривать распространение христианства как «естественное». В этом смысле большинство скептиков последних столетий не переняли эстафету Гиббона. Они проигнорировали церковную историю, оставив ее священнослужителям, которые пишут книги о христианстве одного из двух типов. Первый тип — это вдохновляющая книга о послании Христа, о мужестве и вере его последователей, которыеактуальны и по сей день. Актуальность означает установление базового сходства между человеческими потребностями тогда и сейчас, так что христианство находит (или должно находить) готовые ответы в самой «природе человека». Второй тип — это теологические книги о доктринальных проблемах, уделяющих мало внимания мотивации и потребностям, за исключением тех, которые могут быть выведены из популярности определенных доктрин. В основе отсутствия интереса к реципиентам христианства лежит исходное и простое убеждение в том, что христианство распространилось, поскольку оно истинно. В результате мы имеем разнородную литературу по вопросу власти христианства, типичным примером которой является хорошо известная вводная книга по раннему христианству Г.Чедвика (Chadwick 1968), полезная тем, что рассматривает доктринальное воздействие и развитие, однако поверхностная в исследовании причин его распространения. Это предметное поле содержит меньше социологической сложности, поэтому мое исследование придется начать издалека, дальше, чем мне бы хотелось. Вторая сложность состоит в двойственной природе призывов раннего христианства. Его послание распространилось в целом ряде отдельных областей, начиная с крестьян — говоривших на арамейском палестинцев, к городским евреям — говорившим на греческом сообществам, греческим городским сообществам, римским городам, императорскому двору и сельской местности. Сначала оно появилось на востоке и юге, затем на западе и севере и, наконец, среди варваров. За это время его значение претерпело едва ощутимые изменения. Даже исследования доктрин допускают заключения, что потребности верующих также должны были различаться. Тем не менее вопреки такому нелегкому путешествию послание не изменилось и никогда не теряло своих адресатов (сохранило в определенной степени первые два). Это второй универсальный уровень обращения, который еще больше убеждает, что обращение христианства было простым и естественным. Но этот «универсальный» призыв практически полностью ограничивался границами или сферой влияния Римской империи. Поэтому, чтобы работать с подобного рода партикуляризмом и универсализмом, необходимо обратиться к этой империи.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ ХРИСТИАНСТВА В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Существуют три части доктринального доказательства в пользу относительной универсальности призыва христианства. Первая часть доказательства относится к событиям, предшествовавшим рождению Христа: рост монотеистических, синкретических, проповедующих спасение течений на Ближнем Востоке в течение нескольких веков, начиная со времен Зороастра. Как следует из главы 8, это был не постепенный рост, когда тенденции к монотеизму и спасению, характерные для зороастризма, ослабли в связи с сопротивлением традиционных иранских религий. Но эти тенденции быстро возродились в столетие, предшествующее появлению Христа. Первые древнегреческие философы развили представления о едином перводвигателе. В более поздние, классические времена они стали более «религиозными», например концепция «чистой формы» Платона подразумевала наличие сверхъестественной трансцендентной силы. В эллинистическую эпоху спекулятивная философия часто сливалась с народными мистическими культами, одни из которых были греческими (например, культы Орфея, Диониса, Элев-синские мистерии), другие — персидскими (например, митра-изм — культ бога света). Участие в них могло обещать верующим воскрешение после смерти и спасение. Такие культы были распространены, подобно греческой философии, во всей Римской империи. Слияние культов с философией было лишь частичным, поскольку спасение было результатом участия в ритуалах, иногда в экстатическом опыте, а не результатом систематического рационального постижения мира или производных от него этических форм, моральных кодов поведения. Другим основным элементом синкретического роста был религиозный монотеизм иудаизма. Его развитие было в известной степени исконным (последствием исходного персидского влияния). Лишь позднее, во II в. до н. э., евреи столкнулись с вызовом со стороны греческой культуры. Они раскололись надвое: одна группа стала относительно эллинизированной (саддукеи), другая отстаивала самобытность евреев (фарисеи). Фарисеи были народно-демократической группой, поэтому, чтобы противостоять влиянию сотрудничавших с римлянами аристократов, они стали выдвигать достаточно жесткие этические требования к индивидуальным семейным отношениям в противоположность саддукеям, апеллировавшим к более широкой цивилизации. Но общим для обеих групп было то, что они все больше полагались на письменное слово, сакральные тексты и комментарии, что, как следствие, стимулировало грамотность и обучение. Эти движения объединяло множество особенностей, связанных с потребностями конкретных народов, своеобразием исторических мест и времен. Это особенно касалось евреев, подчинявшихся римлянам, но все еще не смирившихся с эллинизмом, а потому испытывавших национальный стимул в той же мере, в какой религиозный и философский стимулы. Тем не менее для всего средиземноморского мира прослеживались тенденции к росту и слиянию тенденций к монотеизму, этической морали и спасению, которые все больше использовали письменное слово[86]. Вторая часть доказательства относится к событиям после жизни Христа. После появления христианских общин, но до возникновения «католической» ортодоксии христиан часто было трудно отличить от приверженцев других философий, религий и культов. Между 80 и 150 гг.н. э. по меньшей мере дюжина сект откололась от христианства. Большинство из них известны нам как гностики; gnosis — греческий термин, использовавшийся для обозначения эмпирического и даже интуитивного знания, но не знания рационального. Они, как правило, объединяли философские и культурные течения, вероятно испытав влияние издалека, как брахманы и буддисты. Хотя ранние культы и различались, у них было больше общего друг с другом, чем с христианством. Обряды инициации и мистический опыт были очень важны. Одни практиковали магию как противоядие от мирского зла, другие — аскетизм и подавление плоти, а некоторые становились разнузданными, хотя свидетельства об этом происходили от их врагов. Соперники использовали спасение как решение проблемы земного зла и страдания в большей степени, чем ортодоксальные христиане. Таким образом, имело место именно ощущение совпадавших потребностей, которое разделялось более широко по сравнению с любой отдельно взятой ортодоксией и которое осталось неизменным даже после установления церкви[87]. Третьей частью доказательства является сам Христос. Я придерживаюсь существующих среди современных исследователей ортодоксальных взглядов о том, что подобный человек — пророк существовал, даже если утверждения о его божественности появились позднее[88]. Послание, переданное его последователями (это самый близкий источник из тех, что мы имеем), было простым и ясным, по различным каналам оно распространилось среди огромного количества людей. Христос проповедовал приход Царства Божьего, как делали все пророки, но добавлял, что любой мог туда попасть, только если очистит сердце и будет верить в единого трансцендентного Бога. Никаких социальных изменений, эзотерического знания, ритуалов или экстраординарного опыта для этого не требовалось. Очищение не предполагало предшествовавшего этического поведения — сама связь, близость к Богу (при условии ее подлинности) была очищающей. Трудно себе даже представить что-то более простое, радикальное и эгалитарное. Несмотря на то что Христос, вероятно, никогда и не думал обо всем мире за пределами Палестины, косвенно его послание могло представлять собой универсальное обращение. Согласно Евангелию, Христос упоминал большинство типов людей, из числа которых предположительно могли происходить его последователи: дети (даже младенцы), женщины, языческие солдаты, сборщики налогов и дани (которые, как мы уже говорили, рассматривались как грешники), грешники и преступники (мужчины и женщины), отверженные прокаженные. «Ибо так возлюбил Бог мир, — сказано в Евангелии, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (John 3:16). Наша эпоха уже привыкла к противопоставлению веры и разума. Но эпоха Христа была иной. Греческие философы двигались к объединению веры и разума. Действительно, путем отбрасывания таинств, ритуалов и магии Христос (или его евангелисты) апеллировал к рациональным формам веры. Связь между верой и этическим поведением была также популярной и рациональной. Если вера предполагала нравственность, то сделать людей верующими означало сделать их нравственными. Если христианин постоянно грешил, то он был не способен более слышать Бога. Следовательно, вес сообщества использовался для усиления веры и нравственности. Сообщество было заинтересовано в том, чтобы присматривать за людьми, а не в том, чтобы исключать их — эксклюзия была редким явлением (Forkman 1972). И наоборот, под воздействием социального давления, большинство христиан становились на путь исправления (вопрос, к которому я еще вернусь). В соответствии с тремя причинами, если учение Христа восприняло большинство групп населения, христианское учение находило сочувствующий отклик в империи. Ранние христиане понимали, что их послание было обращено к жителям империи и что они зависели от их расположения, а также от заведенного в Риме порядка и римских коммуникаций. Следовательно, это универсальное обращение должно было соответствовать определенным потребностям римлян. Римский мир в некоторых отношениях не смог удовлетворить своих граждан — в каких именно? С этого вопроса начинаются многие исследования. Но в определенном смысле это неправильный вопрос. Как было показано в предшествующей главе, империя демонстрировала поразительные успехи во времена Христа. Как и другие в широком смысле современные ей империи (Персия и династия Хань в Китае), Рим вносил заметный вклад в социальное и экономическое развитие. Скорее сам успех империй приводил к проблемам, которые требовали решения. Все империи испытали воздействие религий спасения, хотя они и отвечали на него различным образом. Религии предложили решение имперских противоречий, которыми больше других отличался Рим, поскольку его имперские достижения были самыми выдающимися.ХРИСТИАНСТВО И РЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ ИМПЕРИИ
Для Рима, как и для прочих современных ему империй, были характерны пять основных противоречий. Универсализм vs. партикуляризм. Чем более централизованной и территориальной становилась империя, тем больше это способствовало универсальным связям членства и привязанности к ним. В Риме универсализм существовал в форме активного членства — гражданин; в Персии и Китае членство было пассивным — подданный. И подданный, и гражданин были относительно независимы от партикуляристских связей с родом, классом, племенем, деревней и т. п. Тем не менее универсализм подрывал власть государства с помощью партикуляризма родовой солидарности потомственной аристократии, которая была отрицанием представлений об универсальном членстве. На самом высоком уровне эта проблема могла быть решена путем превращения аристократии в универсальный правящий класс. Но для промежуточных групп внутри империи решить ее было сложнее. Равенство vs. иерархия. Активный универсализм гражданства создал представления о политическом участии и равенстве. Как мы видели в главе 9, эти представления были обмануты иерархией римского государства, тем не менее гражданство, как представляется, оставалось центральным для римского правления. Истинное гражданство Греции и ранее гражданство Римской республики также оставалось важным в средиземноморских культурных традициях (хотя и не в традициях Китая или Персии). Децентрализация vs. централизация. Как мы убедились, формальная конституция империй выглядела крайне централизованной и деспотичной, в то время как реальная инфраструктурная власть оставалась гораздо более слабой. Ресурсы, которые поступали в государство, с той же легкостью перетекали обратно под контроль децентрализованных групп «гражданского общества». Поскольку достижения римского государства, связанные с централизацией (гомогенной культурой правящего класса, легионерской экономикой, территориальной империей), были более значительными по сравнению с достижениями Персии, это означало, что в Риме действовали гораздо более грозные силы децентрализации. Среди последних наиболее важными были практически абсолютные права частной собственности, денежное обращение и грамотность, которые наделяли отдельных граждан значительной властью. Самая большая из сил децентрализации исходила от провинциальной аристократии, но подобная власть также происходила от жителей городов, торговцев, ремесленников и этнических групп, таких как греки или евреи, занимавших стратегическое положение в городах. Эти группы могли развить и индивидуальную уверенность в собственных силах, и сети социального взаимодействия, которые были способны пересекать вдоль и поперек официальные сети централизованного государства. Космополитизм vs. единообразие. Рост территорий империй повышал их космополитический характер, поскольку в их состав включали более разнообразную смесь языков, культур и религий. Успех территорий обладал тенденцией к уничтожению существовавших до этого этнических и тому подобных объединений. Тем не менее, по мере того как о себе давали знать три первых противоречия, эти идентичности не могли быть просто заменены новым «официальным» единообразием, которое было универсальным, эгалитарным или иерархическим и централизованным. Империи исключали массы из своих официальных культурных сообществ. Существовала возможность для возникновения соперника, более космополитического в смысле нормативного присоединения, — сообщества. Цивилизация vs. милитаризм. Это противоречие касалось лишь отдельных регионов империи: что делать с приграничными варварами и иностранцами? Империи расширялись с помощью военного господства. Тем не менее они также несли с собой цивилизацию, которую всегда желали аутсайдеры. Если военная власть империи снижалась, аутсайдеры могли покорить ее граждан и субъектов. Как бы то ни было, цивилизацию можно было отделить от милитаризма и передать аутсайдерам мирным путем. Некоторые внутри империй намеревались осуществить это путем перехода от милитаризма к умиротворяющей функции цивилизации, хотя (в Риме и в Китае, но не в Персии) это противоречило государственному милитаризму. Мое объяснение универсального аспекта христианского послания состоит в том, что оно показывало хотя и несовершенное, но решение этих противоречий, которое в течение долгого периода борьбы оказалось лучше, чем предложенное Римской империей. Два других примера империй отличались своими результатами, и до следующей главы я не буду их касаться. Но указанные противоречия не следует рассматривать по отдельности, поскольку христианство нашло решение для их комбинации: универсалистское, эгалитарное, децентрализованное, цивилизующее сообщество — ойкумена. Однако существует и вторая стадия этой истории. Отыскав решение, позволившее захватить официальную власть, христианство впоследствии инкорпорировало все перечисленные противоречия в свое тело. На Западе оно не справилось с этими противоречиями и в конечном итоге способствовало катастрофе, практически полному коллапсу древних цивилизаций Западного Средиземноморья. Модели «противоречий» весьма распространены среди исследователей, например Гарнак использовал подобную отправную точку в своем классическом на настоящий момент исследовании распространения христианства (Harnack 1908: 19–23). Детали этих противоречий позволяют нам гораздо точнее обозначить потребности верующих, особенно природу «страданий», под тяжестью которых римляне обратились к спасению. Однако там мы достигаем самого низкого уровня конвенционального исследования раннего христианства — понятие «земного страдания». Разумеется, критически важным для христианской доктрины выступает то, что это спасение избавляет от земных страданий, а потому можно предположить, что большинство из вновь обращенных руководствовались обещанием подобного избавления, но избавления от чего? К сожалению, наша эпоха отвечает на этот вопрос в терминах «материальных страданий». На самом деле существуют две версии. Первая версия связывает рост христианства с экономическим кризисом и последующими за ним политическими репрессиями. Такой ответ на вопрос о природе римских страданий широко распространен среди марксистских авторов и проистекает из общего стремления Маркса объяснить распространение религий как «опиум народа». Каутский (Kautsky 1925) дает наиболее полное объяснение роста христианства в этих терминах. Такое объяснение очень просто опровергнуть. Если экономический кризис и последующие политические репрессии играли основную роль в распространении христианства, то оно должно было распространиться по большей части только после 200 г. н. э. До этой даты кризисов не было, на самом деле никаких серьезных кризисов не было вплоть до 250 г.н. э. Тем не менее свидетельства указывают на непрерывное распространение христианства вскоре после распятия Христа на кресте. Самая большая роль экономического и политического кризиса может быть приписана только финальной стадии распространения христианства из города в сельскую местность начиная с 250 г. Мы увидим, что даже этот процесс был более сложным, чем тот, который предполагает модель «экономического кризиса». Эта точка зрения в настоящий момент практически не обсуждается исследователями. Но теория экономического кризиса существует и в другом виде. Она постулирует, что христианство в целом распространялось непропорционально широко среди самых бедных классов, «бедных и угнетенных». Эта гипотеза будет более подробно рассмотрена далее в этой главе, где также будет продемонстрировано, что она не верна. Но сама популярность таких представлений отражает трудности, которые наша эпоха испытывает в работе с неэкономическими невзгодами. Однако религиозная часть нашего века выработала специфический способ справляться с этими трудностями, утверждая, что материализм является формой страданий, от которых люди хотят избавиться. Это известное объяснение Трельча, который первым вышел за пределы экономических аргументов, отметив, что ранние христианские сообщества располагались в городах, «участвуя в постепенном улучшении социальных условий, которое имело место в городской жизни». Вместе с тем он находит «неоспоримым» то, что христианство обращало свое послание в основном к экономически и политически «угнетенным» (ниже в данной главе я отрицаю и это). Поэтому он предпочитает говорить о «широком социальном кризисе» позднего античного мира в терминах духовности: «движение от материализма и тоска по исключительно мистическим и религиозным ценностям жизни» (Troeltsch 1931: 39_4^) — Мирское само по себе в данном случае отвергается. И это распространенный аргумент. Нэйлл (Neill 1965: 28,33, 40), например, пишет: «Второй век был тревожным и проблемным временем» в «загнивающей Римской империи», особенно среди «беднейших классов», из которых церковь первоначально «черпала своих членов». Беспокойство было результатом «бренности всех вещей и стремления к бессмертию». Оба автора выражают это двумя способами: если имеет место кризис или «упадок» в материальном смысле, люди, естественно, хотят его избежать, но, если никакого кризиса нет, они хотят уйти от материализма. Подобный анализ не приводит нас ни к чему, в том числе к объяснению, почему определенная религия зарождается в определенном месте и в определенное время. Он и не может, до тех пор пока мы не разрешим для себя проблему материализма-идеализма, лежащую в основе подобных аргументов. В этом они следуют проповеди Иисуса, призывающей основывать его церковь на идеальном, а не на материальном базисе. Но ни одно социальное движение не могло быть основано на таком разделении. Точно так же как группа людей не может жить «материально» без нужды в «духовной» инфраструктуре, а религиозное «духовное» движение не может отбросить все «материальные» инфраструктуры. Поэтому настоящим достижением ранней христианской религии было не установление отдельной «духовной» реальности, а новое слияние двух реальностей в трансцендентное нормативное сообщество — ойкумену. Христианство не было ответом на материальный кризис, как не было оно и духовной альтернативой материальному миру. Нарастающий в Риме кризис был кризисом социальной идентичности: к какому обществу я принадлежу? Он был результатом успеха Римской империи и эллинистической цивилизации, которые создали трансцендентные принципы социальной организации интерстициально по отношению к их внутренним социальным структурам. Таким образом, не было никакого «глубинного кризиса» античного общества. Рассуждения о противоречиях могут оказаться ошибкой, поскольку они были всего лишь противоположными принципами. Империи могли выбирать, подавлять одну или другу часть противоречия, достигать компромисса между ними или просто каким-либо образом балансировать между ними. Не было никакого общего кризиса, объективно или субъективно воспринимаемого в Риме во времена Христа. Следовательно, подобный кризис не мог сыграть сколько-нибудь значимой роли в изначальном распространении христианства. На самом деле первые христиане были относительно счастливыми и преуспевающими людьми, осознававшими приобретенное богатство, власть и жизненные силы, пытавшимися артикулировать свое появление, интерстициальную социальность и индивидуальную идентичность в философии, этике и ритуалах. Их «страдания» ограничивались нормативной сферой или необходимостью решать, к какому сообществу они принадлежат. Это (как могут отметить искушенные в социологических проблемах) не что иное, как модель Дюркгейма, — тезис, к которому я вернусь в конце следующей главы. Но ни одна концепция страдания не может объяснить рост социального движения. Сведения о том, были ли римляне несчастными или счастливыми, богатыми или бедными, мало что говорит нам. Ни страдание, ни счастье, ни экономический, политический или духовный кризис, ни даже репрессии не являются необходимыми причинами возникновения новых общественных движений. Иногда экономический кризис и политические репрессии могут создать сплоченное реактивное движение среди людей; иногда они, напротив, разделяют их. Иногда они приводят к политической революции, реакции или реформе, иногда — к религиозной революции, реакции или реформе. Зачастую они не имеют иного результата, кроме роста разочарования в общей жестокости жизни. Результат зависит не от глубины кризиса, а от организационных форм, к которым придут люди, пострадавшие от него. Кто именно стал жертвой кризиса? С кем жертвы взаимодействовали и должны были разделить нормативные обязательства и запас знаний о мире? Какие контакты и социальные знания привели их к обвинению своих правителей в кризисе и поиску конкретных альтернатив? Какие ресурсы власти и против кого они могли мобилизовать? Вот решающие вопросы, касающиеся кризиса и других глобальных социальных трансформаций, будь то политические, духовные или какие бы то ни было еще. Организация ресурсов власти — основная тема этой книги — является решающей детерминантой роста религиозных движений, а также общественных движений всех других типов. Противоречия Рима были по сути организационными — заключались в неспособности найти решение для ряда организационных альтернатив. Поэтому анализ власти христианства должен быть по сути таким же, как и анализ остальных властей. Следует начать с инфраструктуры, на которую власть опиралась. В данном случае в центре внимания оказывается инфраструктура идеологической власти. Изначально христианство не было военным завоеванием или экспансией производства или торговли, а процессом трансформации убеждений. Оно также было (не сразу, но весьма скоро) книжной религией — религией Библии. Следовательно, связь идей и культурных практик со специфическими сетями грамотности обладала огромным значением.ИНФРАСТРУКТУРА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Передача идей и культурных практик сталкивалась с ограничениями, накладываемыми коммуникационными технологиями, которые, вероятно, к настоящему моменту хорошо знакомы читателю. Морские и речные коммуникационные пути были самыми быстрыми и протяженными, но не функционировали зимой. Дорожные пути были более медленными и обеспечивали только относительно локальную коммуникацию. Других средств коммуникации не было. В рамках этих ограничений мы можем обозначить пять основных возможностей. Я называю их каналами идеологической власти. Первый канал был составлен из мозаики деревень, городов, племен и народов, над которыми римляне установили свое правление. Самые маленькие сущности с историей общего опыта, смешанного брака, языка, ритуала и верований были интегрированы в одну культуру. Учитывая солидарного кую историю, подобные сущности могли достигать размеров «этнической общности», наилучшим примером которой выступают евреи. Большинство были намного меньше. Их интенсивный локализованный религиозный опыт был глубоко укорен во множестве локальных, племенных, семейных, городогосударственных культов, но отличался незначительной способностью к обращению в свою веру людей из других локальностей. Однако новое послание, которое появлялось в локальности, могло быть быстро распространено среди ее пределов, если воспринималось как истинное и полезное для локального опыта. Поскольку римляне почти не вмешивались во внутреннее устройство их локальностей, они все еще были полезны как переносчики сообщения внутри узких границ локальности. Тем не менее передача через слой из подобных единиц (скажем, через народ, такой как евреи, или отдаленный регион, такой как провинции Северной Африки) отчасти зависела от трех других логистических каналов, которые приходилось для этого использовать. «Культурные традиции» могли единообразно передавать сообщение только на маленькие расстояния. Связи между такими пространствами и культурами, которые обычно весьма различались по своему характеру, были основной проблемой древней коммуникации в целом. Второй канал был авторитетным официальным каналом политической коммуникации империи. Он связывал правителей всех локальностей, которые были только что упомянуты, сверху донизу, а также организовывал их в города и территории. Канал предполагал, хотя по большей части был незадейство-ванным, иерархический контроль систем города и его территории как таковых. Политический канал был чрезвычайно усилен культурной гомогенностью правящего класса, которая уже упоминалась в предыдущей главе. Спустя буквально век после завоевания местные правящие элиты были практически неотличимы друг от друга по языку, верованиям и обычаям. Ниже в этой главе я объясню ту инфраструктурно универсализирующую и распространяющую роль, которую играла грамотность по отношению к сплочению правящего класса. Первые два канала были «официальными» каналами империи, обеспечивавшими двухступенчатую идеологическую поддержку власти. До тех пор пока провинциальный правящий класс рассматривал себя в качестве римлян или римлян-греков и сохранял контроль над своими локальностями, имперское здание было укреплено. Романизированные провинциальные элиты могли лишиться идеологического контроля, если бы массы не были романизированы подобным же образом. Так было, вероятно, в сельских областях, поскольку деревня (и ее культы) не обладала признанным статусом в официальных структурах Рима, где преобладал город. В конечном итоге в сельских областях местные элиты могли откатиться обратно к контролю путем прямых репрессий, поскольку каждый человек был «заперт» в собственной локальности и культуре без каких-либо намеков на транслокальную идеологию или организацию. Такое положение могло создавать организационное преимущество для использования авторитетной власти. Но третий и особенно четвертый каналы были потенциально не привязаны к локальности. Они включали альтернативные связи между людьми. Третьим каналом была армия. В предыдущей главе я подчеркивал роль легионеров в установлении коммуникационной инфраструктуры империи. К тому же армия была единственным путем, посредством которого обычные люди, как правило крестьяне, вырывались из своих культурных позиций и вступали в контакт с остальным миром. Это не создавало революционных идеологий среди солдат. Несмотря ни на что, они были ядром римского государства. Смесь из строгой армейской иерархии и дисциплины, регулярного жалованья, а также набора по региональному принципу и практик расквартировки в целом делали из армии своего рода микрокосмос той самой двухступенчатой структуры, которая уже была описана, — офицерский класс разделял гомогенную культуру и осуществлял строгий контроль над местными отрядами. Однако там, где перемешивались солдаты из различных регионов, возникали новые (доставлявшие некоторое беспокойство правящим классам) солдатские культы. Культ Митры — древнего иранского бога света — был наиболее широко распространен. Это демонстрировало, что относительно эгалитарное распространение коммуникационных сетей через медиум армии могло привести к культурным инновациям. Солдаты, смешивавшие свои знания, ценности и нормы, не довольствовались изолированным провинциализмом, как не были они удовлетворены и официальными культами государства. Империя должна была бороться с культурной инновацией даже в армейском ядре. Четвертый и наиболее важный с точки зрения христианства канал составляли торговые сети империи. Сельскохозяйственное производство было фрагментировано либо на небольшие наделы и деревни, либо контролировалось крупными землевладельцами, которые также были местными политическими правителями. Поэтому отношения сельскохозяйственного производства были в основном частью официальной двухступенчатой коммуникационной системы. Но торговые и ремесленнические отношения были в определенной степени интерстициальными по отношению к этому потоку сообщений, несмотря на то что они использовали те же созданные и охраняемые властями коммуникационные маршруты. Торговцы и ремесленники обладали собственными социальными организациями — гильдиями. И хотя они жили в городах, не пользовались такой же властью в городской политике, какой обладали крупнейшие землевладельцы. Таким образом, город — центр официальных коммуникаций и контроля за системой также включал своего рода «альтернативные инфраструктуры» торговых и ремесленнических отношений, которые также распространились по всей империи и даже за ее пределы. Среди них непропорционально широко были представлены традиционные торговые народы, такие как греки и евреи. Их идеи были чрезмерно широко распространены во всех коммуникационных потоках этой инфраструктуры. Торговый и ремесленнический сектор непосредственно зависел от авторитетной власти легионерской экономики римского государства. Но чем более институционализированной становилась эта экономика, тем больше ее ресурсы распространялись в гражданском обществе. Ко временам Христа экономика Средиземноморского бассейна была вполне институционализированной. Ремесленники и торговцы обладали правами частной собственности, подкрепленными гражданским правом (или, если они были иностранцами, расширением этого права, iusgentium — правом народов). Они владели такими движимыми активами, как орудия, корабли и мулы, которые (как я отметил в главе 2, когда работал с доисторическим периодом) по сути были «частными». У них были мастерские и торговые лавки, которые, подобно домам, обычно рассматривались в качестве частной собственности даже в сравнительно коммунальных обществах, ликвидные активы в форме монет, которые можно было обменять на сырье или готовые продукты, а также накапливать в частном порядке. Во всем этом государство функционировало просто как задний план по отношению к «частной» деятельности (частной — в латинском смысле как скрытой от публичного взора). Закон гарантировал права частной собственности, государство устанавливало параметры, в которых функционировала гильдия, но за самим процессом взаимодействия наблюдали лишь глаза императора, изображенного на монете. Транзакции были, по сути, неавторитетными между автономными свободными индивидами или семьями либо маленькими «фирмами» и потому отличались от внутренних, авторитетных, иерархических структур других каналов. Если этот сектор разрабатывал собственную идеологию, она могла быть направлена на то, чтобы сделать осмысленными и ценными две вещи, которые отвергала «официальная» идеология: что представляет собой индивидуальный опыт (или, возможно, опыт семьи или «маленькой фирмы») и как возможны нормативные этические отношения между подобными индивидами. «Избирательное сродство», по Веберу, между подобными индивидуальными и надындивидуальными потребностями и христианством является очевидным (я надеюсь, оно настолько очевидно, что нет необходимости оглядываться в прошлое). Более того, этот канал коммуникации содержит второй, нижний уровень, параллельный уровню чиновничества. Речь идет о взаимодействии сектора торговцев и ремесленников с низшими социальными слоями, особенно с городскими пролетариями, а также с крестьянами. Связи с крестьянством не были особенно тесными или интенсивными. Крестьянство было в большей мере открыто для надзора со стороны сельских элит, чем со стороны торговцев и ремесленников. Тем не менее эти связи существовали, поскольку сети монетаризованного обмена пронизывали всю империю. Одним словом, они представляли собой прямую альтернативу инфраструктурам, через которые могла диффузно передаваться идеология, то есть инфраструктуру, которая была вызвана к жизни достижениями империи, а не ее провалами. Чем более успешной в экономическом и политическом отношении она становилась, тем более ярко выраженной становилась «пятая колонна». По четырем каналам проходили сообщения и контроль. Один из конкретных медиумов коммуникации, которым являлась письменность, был особенно важен во всех каналах. Она была широко распространена в силу того, что материалы, перья и папирусный пергамент являлись доступными, поскольку большая часть населения была грамотной. Трудно сказать конкретно, кто именно владел грамотой и насколько, но это необходимо для понимания инфраструктуры, доступной для «религии книги»[89]. Я начну со второго канала — коммуникации между членами правящего класса. Они были практически все грамотными, причем это была грамотность весьма высокой степени, что, вероятно, справедливо как для мужчин, так и для женщин. Политические практики в каждом городе требовали определенного уровня навыка чтения, того же требовало активное участие в правовых вопросах собственности и брака. Литература была очень важна, и начиная с 100 г. до н. э. самые известные авторы, особенно историки и поэты (например, Гораций, Вергилий, Цезарь, Ливий и Тацит) писали и читали вслух для огромных аудиторий на всей территории республики/империи. Инфраструктурой была универсальная система образования по образцу эллинистической системы, состоявшей из трех частей: начальной школы, обучавшей чтению, письму и арифметике с 7 до 11 или 12 лет, средней школы, обучавшей в основном грамматике и классической литературе вплоть до 16 лет, и (обычно после перерыва на военную службу) высшей школы, фокусировавшейся в основном на риторике между 17 и 20 годами. Школы обычно финансировались на частной основе ассоциациями родителей каждого города, хотя в период империи имел место рост государственного регулирования. Универсальность обучения среди правящего класса обычно снижалась на самой верхней ступени образования, где богатые предпочитали пользоваться услугами частных репетиторов, особенно для дочерей. Не ясно, как много детей из этого класса поступали в высшую школу, а затем в университеты, особенно девочек. Рассмотренная выше система образования весьма напоминает нашу систему. Но есть два основных отличия: содержание обучения было удивительно литературным, и процесс обучения был привязан к устному режиму передачи знаний. Литература, грамматика и риторика учили вербальным навыкам, используемым в публичных дебатах, правовой защите и публичном чтении вслух. Стреттон (Stratton 1978: 60-102) утверждает, что римская литература была не просто широкой мнемонической системой, она была техническим средством хранения культурных значений и смыслов и восстановления их посредством коммуникационной деятельности письма и проговаривания. В предыдущей главе я подчеркивал экстенсивность римской цивилизации. Чтобы сплотить огромную империю, понадобились большие инвестиции в коммуникационные технологии. Грамотность была важной частью этого процесса. Отсюда и одержимость римлян своим языком, его грамматикой, стилем и соединением его с литературными и историческими текстами, описывавшими рост римского могущества, и их любовь к риторике, искусству коммуникации и ведения споров. Грамотность также имела практическую связь с законодательством и аристократической профессией юриста. Но мы по-прежнему задаемся вопросом: почему их профессиональное образование было риторическим, а не образованием в статутном («писаном») праве или прецедентом праве? Ответ лежит в важности письменной, но мнемонической связи в придании морали правящему классу империи, дающей ему общий доступ к хранилищу культурного знания и усиливающей его культурную солидарность через деятельность, связанную с публичным чтением и обсуждением. Участие в этих общественных мероприятиях было, как правило, аскриптивным, состав участников ограничивался только сенаторским и всадническим сословиями, декурионами и другими высокостатусными рангами имперского общества. Массы в этом не участвовали. Этот аспект письменной культуры был эксклюзивным, полезным для консервации экстенсивной власти правящего класса. Землевладельцы, проживавшие вне своего поместья, встречались друг с другом в гражданских условиях, управляли местностью с помощью дебатов и писали (и особенно путешествовали) в другие города. Это был «приватный» правящий класс, довольно закрытый для аутсайдеров благодаря своим культурным практикам и целенаправленной политике. Тем не менее массы не были исключены из всей письменной деятельности. Как и в отношении греков, целью письменной культуры было не сохранение сакральной догмы, а отражение и комментарии реального жизненного опыта. Знание само по себе не было ограниченным, как и образование. Начальное образование было широко распространено даже в некоторых деревнях. Учителя имели низкий статус. Согласно бесценному эдикту Диоклетиана, установление зарплаты и гонорара для учителя начальных школ, чтобы он зарабатывал не меньше каменщика или плотника, предполагало класс из тридцати учеников. Это означало, что начальные классы были довольно многочисленными. Было также много грамотных мужчин самого низкого происхождения, которые достигали высших ступеней грамотности, либо обучаясь в высших школах, либо перенимая знания от своих отцов. Затем следовало поступление в армию в надежде использовать свои навыки для продвижения по службе. Например, египетский военно-морской новобранец времен правления Августов пишет своему отцу, что хотел «преклониться перед твоим подчерком, поскольку ты хорошо меня научил, я надеюсь благодаря этому на быстрое повышение» (цит. по: Jones 1970: II, 151, где это письмо приводится полностью). Это письмо свидетельствует о домашнем обучении среди части простого народа, но не среди всех, поскольку новобранец надеется на повышение именно благодаря своей грамотности. От Петрония мы также узнаем о школах среднего уровня, когда он рассказывает про мальчика, который мог бегло читать и был чудом в своем классе. Многие, утверждает он, «не учили геометрию или литературу либо иные бессмысленные вещи типа этих, но были весьма довольны умением читать большими буквами и понимать дроби, веса и единицы измерения» (Petro-nius 1930: 59, 7). Образование требовало денег, обычно монет, чтобы платить учителю. Каменщик или плотник мог позволить себе потратить одну тридцатую заработанных денег на оплату начального образования одного ребенка, но обычный крестьянин не мог позволить и одну двадцатую часть своего низкого заработка, тем более в монетах. Маловероятно, чтобы двое или более детей из простых семей могли получить начальное образование. В целом начальное образование также ведет к тому, что Петроний называет «большой беглостью», но не в культурных достижениях. Для этого требовалось второе образование, но в этом возрасте ребенок уже становился полезным работником в семье. Требовалось существенное богатство, чтобы поддержать ленивую молодежь. По этой причине в попытке дать оценку грамотности среди римлян нет смысла (за исключением утверждения о том, что она была гораздо большей, чем в любом из обществ, рассмотренных до сих пор, исключая Грецию), поскольку она значительно различалась. Мы можем выделить три различных уровня. К первому уровню принадлежал высокограмотный, обученный счету и культурно сплоченный класс. Его грамотность была важной частью морали правящего класса. Второй уровень составляли выходцы из числа функционально грамотных и обученных счету людей, которые не являлись полноправными членами письменной культуры и были исключены из власти. Они могли стать чиновниками в бюрократии, у землевладельцев, в армии и у купцов учителями начального образования, оказывать помощь в составлении завещаний, петиций и контрактов, вероятно, даже могли понимать смысл некоторых понятий, которые лежали в основе произведений римской и греческой классической литературы, но, очевидно, не могли читать этих произведений и в обычной жизни не сталкивались сними. Расположение и ширина второго уровня зависели от письменных традиций инородцев (что предположительно показывает, как могло передаваться домашнее образование). Греки, народы арамейского происхождения (особенно евреи) и некоторые египтяне были непропорционально высоко представлены на втором уровне образования. Этот уровень также зависел от городов, где функции грамотности были в цене и где протекали денежные потоки. По тем же причинам в городах грамотность была сконцентрирована среди купцов и ремесленников. Те, кто принадлежал к третьему уровню, были либо безграмотными, либо частично грамотными на уровне, описанном Петронием: массы крестьянского населения и городской пролетариат, а также их младшие сыновья и дочери, находившиеся несколько выше на социальной лестнице. Они были полностью исключены из письменной культуры республики/империи. Эти уровни отличались по своему социальному расположению, кроме того, между правящим классом и остальными существовал огромный культурный разрыв. Тем не менее определенное пересечение было различимо. Пересечение на высшем уровне происходило между грамотными людьми, которые обладали более демократическими и менее эксклюзивными институтами. Греки и евреи разного уровня грамотности обменивались более диффузными культурными сообщениями, чем большинство провинциального населения. Область пересечения между вторым и третьим уровнем была более широкой, особенно среди упомянутых народов в городах. Кроме того, какой бы ни была культурная эксклюзия высшего уровня, образцы грамотности ниже могли быть лишь результатом стремления к более широкому доступу к образованию и культурному миру. Поэтому письменная культура наделяла властью', чем больший доступ к ней имел человек, тем больший контроль над жизнью он мог осуществлять. Это было не убеждением, а объективной реальностью, поскольку власть в империи основывалась на грамотности и культурной коммуникации. Если участию в официальной культуре могли препятствовать, то возникали неофициальные и, возможно, радикальные контркультуры. В Новое время грамотность была широко распространена повсеместно. Стоун (Stone 1969) отметил, что три великие революции современности — Гражданская война в Англии, Французская и Русская революции — произошли, когда половина населения была грамотной. Маловероятно, что уровень грамотности римлян был столь же высоким. Но массы могли участвовать в устной передаче «радикальной» письменной информации, созданной при помощи контрэлит. В исследованиях коммуникационных сетей народов с высоким уровнем грамотности в XX в. может быть обнаружен «двухступенчатый» поток коммуникации. Декейтер в штате Иллинойс 1945 г. от нашего предмета отделяют 8 тыс. километров и 2 тыс. лет. Но Катц и Лазарсфельд (Katz and Lazarsfeld 1955) обнаружили, что современные массмедиа обладают небольшим непосредственным воздействием на большую выборку американских женщин. Напротив, влияние медиа было по большей части косвенным, опосредованным сообществом «лидеров мнений», которые реинтерпретировали медийные послания, прежде чем посылать их своим знакомым. Вопреки определенным оговоркам и критике двухступенчатая теория потока прочно держала свои позиции и в последующих исследованиях (Katz 19575 McQuail 1969: 52—57) — Но насколько уместно применение двухступенчатой модели к римскому контексту частично грамотных сообществ? Когда полезная информация попадала в такое сообщество в письменной форме, ее могли прочитать вслух остальным лишь люди, владеющие грамотой. Позднее в данной главе мы убедимся, что это, по сути, и было нормой в христианских сообществах, когда они только устанавливались, и оставалось нормой на протяжении Средних веков. Маловероятно, что эту роль информационного лидера (лидера мнения) играл правящий класс империи, живший замкнутой культурной жизнью и испытывавший презрение к интеллектуалам, находившимся ниже. Вместе с тем для владевших грамотой на втором уровне были характерны более эгалитарные отношения обмена с теми, кто преуспел меньше, к тому же их большая грамотность не была качественно разделена культурой. Они были потенциальными устными передатчиками. Медийное свойство грамотности усиливало природу коммуникативных каналов. Я уже отмечал наличие в Римской империи альтернативной интерстициальной коммуникационной системы, которая использовалась прежде всего для экономических отношений, но которая могла передавать идеологию через двухуровневый поток, где первым уровнем было распространение сообщений среди горожан, а вторым — распространение сообщения в конечном счете среди большей части народов империи. Эта альтернативная коммуникационная система усиливалась благодаря медиуму грамотности, которую она (в отличие от культурных аспектов официальных коммуникационных систем) не хотела ограничивать. Теперь мы можем проследить активизацию этой системы, поскольку христианство начало свое распространение, опираясь на особенности Римской империи. В качестве предварительного аргумента я предлагаю рис. 10.1, который графически изображает два информационных канала и демонстрирует, что вторым неофициальным каналом стало христианство (христианский канал).РАННИЙ ЭТАП РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА
Последующие контуры распространения христианства хорошо известны. За исключением его классовой основы и последующего распространения в сельской местности, эти контуры не представляют особых проблем для исследования. Доказательство в пользу распространения христианства могут быть найдены в классическом исследовании Гарнака (Harnack 1908), которое по-прежнему остается непревзойденным, а также в других ранних исследованиях (например, Glover 1909: 141–166; Latourette 1938: 1,114–170). Христос рассматривался как мессия евреев, игравший отчетливо пророческую (а не божественную) роль в сельской, говорящей на арамейском языке Палестине, где он появился. Он был предположительно выдающимся человеком, и то, о чем он в соответствии с историческими свидетельствами проповедовал, имело огромное значение. Христос пообещал рациональный моральный порядок затронутой политическими проблемами области, волнения в которой могли также привести к локальному экономическому кризису. В этом, вероятно, и заключались «страдания», как их обычно понимают. Христос также предложил компромисс между эллинизацией и национализмом евреев, предположительно сознательно избегая потенциальной роли национального лидера в борьбе против Рима. Тем не менее его последователи, вероятно, были весьма удивлены, когда обнаружили отклик на послание Христа среди эллинизированных евреев таких городов, как Палестина, Кей-сария, Яффа, Дамаск и даже Антиохия — третий по величине город империи. Это могло способствовать их представлению о божественности Христа. Чудеса и история о воскрешении, а также другие божественные элементы могли быть добавлены к легенде о нем. Обращение в христианство в городах означало огромную приверженность письменным текстам, а также греческому языку — языку большинства городских евреев. Около 45 г.н. э. в христианство был обращен Павел — глава фарисеев. Его организационные способности распространялись за пределы эллинистических городов Ближнего Востока. Поскольку возникновение первых споров между сторонниками христианства обычно связывают с греческой версией Ветхого Завета (Септуа-гинта), изначальная, говорящая на арамейском сельская база Палестины была оставлена. Говорящие на греческом евреи, вовлеченные в торговлю и ремесла во времена процветания, не испытывали бедности, притеснений или страданий. Учение Христа, вероятно, было модифицировано, объединив в себе греческую философию и иудейскую этику в лучшее, более свободное и освободительное объяснение его жизненного пути, чем то, которое предлагал традиционный иудаизм. Оно также было применимо к язычникам — в массе своей грекам, принадлежавшим к той же среде. «Любите врагов ваших и молитесь за преследующих вас» (Matthew 5:44) было в наивысшей степени экстравертным посланием. Поэтому, по мере того как началась городская миссионерская деятельность, возникли противоречия между иудеями и греками относительно вопроса, необходимо ли христианам совершать обрезание. Согласно «Деяниям святых апостолов» (глава 15), Павел и его сподвижник Варнава Кипрский не считали это необходимым и создали смешанную общину из иудеев и язычников в Антиохии и других городах. «Люди из Иудеи» (вероятно, и родственники Иисуса) возражали, и в Иерусалиме был созван Апостольский собор, на котором Павел и его последователи предположительно одержали победу. Гонцы с посланием были отправлены в новые общины для подтверждения их легитимности. Смешанная община Аниохии была собрана, письмо было зачитано, и слушатели ликовали — так говорят наши паулинистские источники. Победа фракции мировой религии в конечном счете оказалась решающей. «Апологеты обрезания», закрепившиеся в Иерусалиме, были, по всей видимости, сокрушены в ходе подавления еврейских восстаний 70 и 133 гг. н. э. Отныне письменные тексты передавали сообщения между общинами, внутри общин они зачитывались вслух и обсуждались. Двухступенчатые средства коммуникации стали преобладающими. Поскольку апостольские послания циркулировали между греческими сообществами, их содержание становилось все более греческим. Вызов гностиков привнес больше синкретического философствования в христианство. Однако христианская философия была не изотерической философией, а философией «простых мужчин и женщин». рис. 10.1. Римская империя: официальные и христианские каналы коммуникации и контроля (на примере двух провинций)
рис. 10.1. Римская империя: официальные и христианские каналы коммуникации и контроля (на примере двух провинций)
Самым древним датируемым христианским документом после апостольских времен было длинное письмо, отправленное Климентом Римским христианам из Коринфа в go-х гг.н. э. Коринфяне расходились в доктринальных и организационных вопросах. Климент использовал риторические методы классической литературы, чтобы привести их к единению. Послание было простым: дисциплинированная координация необходима для единства тела Христова в той же степени, в какой она необходима полису, римскому легиону и человеческому телу как таковому. Настоящая этическая община основана не на формальной теологической доктрине, а на общем «дыхании», общем духе. Это означало смирение перед властью, что, как он утверждал, было основной частью послания Христа. Послание Климента оказало огромное влияние на коринфян и часто зачитывалось на их службах в течение последующего столетия[90]. Неявные по своему стилю аллюзии и основной аргумент содержали невероятные претензии: истинными наследниками афинских и спартанских гражданских добродетелей и римских военных добродетелей (virtu) были именно христиане. Это послание апеллировало к грекам, точнее, к их самому широкому представлению о себе: не как к ограниченной этическим происхождением или языком группе, а как к рациональным человеческим существам, принесшим цивилизацию. Третий уровень достижений классической Греции, рассмотренный в главе 7, не мог быть возобновлен в силу стратегического рассредоточения греков по всей империи. Но к середине II в. христианские общины были созданы в каждом городе восточных провинций, в большинстве городов центральных и в некоторых городах западных провинций. В этих общинах доминировал греческий язык. Также существовало незначительное количество сельских христианских организаций. Каждое сообщество было по большей части автономным ecclesia (собранием), к тому же они обладали весьма сходной организационной структурой, обменивались посланиями и начинали приходить к согласию об общем наборе евангелий и общих доктринах. Чувство общности каждой ecclesia усиливалось ужасом периодических преследований. Свидетельства мученичества быстро фиксировались и циркулировали среди общин. Коммуникационная система была активизирована, а христианское население мобилизовано.
ПОЧЕМУ ХРИСТИАН ПРЕСЛЕДОВАЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ НАРОДНОЙ ОЙКУМЕНЫ
Христиане привлекали внимание властей. История их преследования сложна и противоречива[91]. Часть этой сложности была создана двумя конъюнктурными факторами. Во-первых, христианская религия была сильно скомпрометирована в глазах императоров постоянными беспорядками в Палестине. Во-вторых, идиосинкратически Нейрон преследовал христиан в 64 г.н. э. по ошибочному обвинению в том, что это они (а не он сам, как предполагалось в то время) начали великий пожар в Риме. Даже если не брать во внимание эти факторы, преследования христиан происходили довольно систематически. Быть христианином во времена Траяна было преступлением, хотя власти не были всецело заинтересованы в их преследовании. Но примерно каждые пятьдесят лет они начинали повсеместные и беспощадные преследования, и так продолжалось вплоть до обращения в христианство Константина в 312 г. н. э. Почему? По всей видимости, имели место три основных мотива преследования. Во-первых, христиан обвиняли во всевозможных «мерзостях». Их называли преступниками в моральном смысле (malt homines — «плохие люди») и расправлялись с ними при помощи уголовного права. В свою защиту христиане объясняли, что причастие (евхаристия) не было каннибализмом, что они не были атеистами, несмотря на отказ поклоняться языческим богам, и что предпочтение брака среди их последователей не подразумевало инцеста, точно так же как их доктрина универсальной любви не подразумевала сексуальных оргий. Вплоть до начала III в. эти нападки, по всеобщему убеждению, продолжали «политику козлов отпущения» Нейрона. Как отмечал Тертуллиан, «если Тибр вошел в стены, если Нил не разлился по полям, если небо не дало дождя, если произошло землетрясение, если случился голод или эпидемия, тотчас кричат: христиан ко льву». Источником других мотивов преследований был монотеизм христианства. Отказ признавать божественное происхождение императора, по всей видимости, был достаточно серьезным поводом для преследований со стороны Домициана (81–96 гг.), поскольку он был одним из немногих императоров, обожествивших себя. Но третий мотив был еще более важным, поскольку монотеизм заставлял христиан отвергать поклонение всем языческим богам. Это было решающим фактором, идущим вразрез с официальной римской идеологией. Римские правящие классы не были фанатичными по отношению к их богам. Религия римлян была в меньшей степени системой верований, чем серией гражданских ритуалов и демонстраций, возобновлявших солидарность граждан перед ликами богов. С имперскими завоеваниями религия развила двухуровневые ритуалы социального контроля: локальные религии могли быть приняты с толерантностью и даже практиковаться путем встраивания своих богов и ритуалов в рамки пантеона богов и ритуалов государства в целом. Интеграция империи идеологически зависела от pax deorum — мира между богами, то есть от уважения к другим богам, а не просто принятия их. Но когда Христос столкнулся с проблемой лояльности империи, он, как пишут, сказал: «Стало быть, цезарево отдайте цезарю, а Божье — Богу» (Matthew 22: 21). Только в духовных вопросах звучало: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Светскими вопросами занимался Цезарь. Но Рим не разделял духовной и светской власти, как не разделяли их полностью и сами христиане. Поэтому отказ уважать богов сообщества был политическим вызовом Риму и нечестивым поступком. Существовал список основных обвинений против христиан, которые власти рассматривали как истинные и серьезные (см. перекрестные допросы, зафиксированные в «Актах мучеников» [Mursurillo 1972]). Но до тех пор пока мы остаемся на уровне доктрины, удовлетворительное объяснение преследования не может быть найдено. Акцент на автономии веры был сделан христианами, а не Римом. Поскольку вера не была настолько значимой для римских властей, они могли найти обходной путь для трудностей монотеизма. В конце концов персидские цари управляли, используя монотеизм Зороастра для поддержания своей власти, и поздние римские императоры поступили точно так же. Плиний Младший в недоумении писал Траяну[92], надеясь получить от него руководство к действию. Он обнаружил, что христиане не практиковали «всяких мерзостей», что у них не было недостатка в уважении к императору, что они послушно прекратили устраивать общие трапезы, после того как он запретил тайные общества. Плиний также не любил иметь дело с доносчиками и потоками памфлетов, которые были результатом публичных гонений. Того же мнения придерживался и Траян, который советовал ему ничего не предпринимать. По прагматическим причинам Рим мог стремиться к компромиссу, как и Христос. Если компромисса не было (до самого последнего момента), наиболее вероятным объяснением было то, что идея монотеизма распространялась по каналам, которые соперничали с официальными каналами империи. Альтернативные сети коммуникации и контроля, которые были упомянуты ранее, были активированы в целях создания конкурирующего набора взаимосвязанных интерстициальных сообществ, что угрожало империи. Все соответствовало этому объяснению. Религия сообщалась через интерстициальные торговые сети и интерстициальные народы, особенно греков. Эта деятельность по большей части была скрыта от государства. Христианские общины возникали внезапно — отсюда и тревожные сигналы о «тайных обществах» и слухи «о всяких мерзостях». Они были небольшими, тесно связанными с сообществами, обладавшими большей лояльностью по отношению друг к другу, чем та, которой обладали подгруппы, расположенные в городском центре империи. Языческий автор Цельсий писал примерно о 180 таких общинах и находил их внутреннюю сплоченность примечательной (хотя он приписывал ее гонениям). В соответствии с термином ecclesia, изначально обозначавшим «собрание греческого полиса», эти частные общины были политическими собраниями, которые создавали барьеры для проникновения государственной власти и контроля. Более того, внутренняя организация каждой ecclesia была неупорядоченной, поскольку она отменяла вертикальное и горизонтальное разделение. Бог превосходил социальную структуру, а не выражал ее, как это было в ранних религиях. Спасение после индивидуальных усилий было открыто для всех. Возможность заслужить спасение зависела от индивидуальных усилий через прямую связь с богом. Евангелия всегда были необычайно точны в том, что касалось этого вопроса, и тем самым содержали исключительно универсальный и радикальный элемент. Современников поражало, что церковь была особенно активной в рекрутировании в свои ряды женщин, рабов и свободных простолюдинов. Это преподносилось критиками как упрек, но это же с гордостью демонстрировали апологеты христианства. Таким образом, появилось мнение, что церковь в огромном количестве рекрутировала «бедных и угнетенных» (например, Harnack 1908: II, 33–84 и др) — Но это едва ли соответствовало действительности. Во-первых, после смерти Христа и вплоть до 250 г. н. э. христианство было практически исключительно городским. Горожане составляли основную часть христиан и всего 5-10 % всего населения, которая была освобождена от тяжелого сельскохозяйственного труда для обеспечения прожиточного минимума. Они были привилегированными в экономическом смысле, в частности, потому, что в городах бесплатно раздавали зерно. Во-вторых, современные представления о практиках рекрутирования неоднозначны. Языческие обвинители выражали не столько реальную статистику, сколько удивление тем, что христиане должны были быть активными среди простолюдинов. Христианские апологеты объясняли, что обращение к народу и было смыслом их послания, но добавляли, что они также рекрутировали тех, кто находился выше на социальной лестнице. В-третьих, имеющиеся данные подтверждают различные заключения. Даже на своей первой сельской палестинской стадии христианские активисты обычно были сельскими ремесленниками, а не крестьянами или рабочими. Эта ремесленническая база пережила перемещение в города. Исследуя уцелевшие могильные камни ранних христиан, ученые пришли к выводу о многообразии профессий, упомянутых на них: это был огромный список ремесленников, умевших все — от изготовления барельефов до врачевания мулов; торговцев, продававших множество товаров, начиная от ладана и заканчивая костью; чиновников и наемных рабочих, например сборщиков долгов и переписчиков; артистов, таких как хористы, трубачи или гимнасты. Эти профессии встречаются наряду со скромными профессиями сферы обслуживания, такими как горничные или конюхи, и трудовыми профессиями, такими как землекопы или садовники. Встречались также квалифицированные профессии, такие как магистраты или врачи (Case 1993: Это скорее показывает различные срезы городской жизни, чем бедных и угнетенных. Речь идет о такого рода профессиях, которые преобладают среди средних слоев современных нам классовых структур (их всегда трудно отнести к определенному промежуточному «социальному классу»). Вывод Гранта (Grant 1978: 88) заключается в том, что большинство христиан принадлежали к «среднему классу». Но весьма вероятно, что христиане были широко представлены среди городского народа, выходцы из которого не могли позволить себе могильных камней. Так или иначе, апелляция к «среднему классу» скорее относится к нашей эпохе, чем к римской. Христиане, как и их оппоненты, говорили в основном в терминах «народа», populus — и в этом ключ к пониманию их социальной базы. Христиан рекрутировали из народа, противопоставленного правящему классу. Следовательно, в экономических и профессиональных терминах они были чрезвычайно разнородны. И если мы вспомним, что городской «народ» включал, вероятно, 20–30 % рабов или свободных людей практически того же спектра профессий (исключая только магистратов), то мы увидим, что эти категории не свидетельствуют о бедности и угнетении, как, разумеется, не свидетельствует о ней и категория «женщины». Более того, христианские общины добились заметных экономических излишков, поскольку они нанимали значительное количество служащих, работавших полный рабочий день, а также занимались благотворительностью, которая свидетельствовала об определенной степени бедности среди них. Как отмечает Кейс в обсуждении социальной догмы, передвижение в города включало отказ от изначального безразличия членов к мирскому богатству, а также от идеологической идентификации со смирением, бедностью и нищетой. Лишь немногие ученые, все еще исследующие материальное понимание «страдания», обращаются к «относительной депривации». Гейджер (Gager 1975: 27, 95) утверждает, что христиане были не абсолютно убогими, а скорее бедными и угнетенными по отношению к своим ожиданиям или стремлениям. Поскольку Гейджер уходит от исключительно экономической концепции депривации, с необходимостью возникает вопрос: «А чего они были лишены?» Ответа на этот вопрос он так и не дает. Но, установив более точно, кем были ранние христиане, мы, вероятно, сможем более внятно ответить на вопрос об их депривации. Это была не экономическая депривация: их профессиональная база, общинная собственность и доктрина свидетельствуют в пользу того, что по современным им стандартам они были даже зажиточными. Если же они желали большего богатства, но им не позволяли его достигнуть (относительная экономическая депривация), христиане никогда не выражали этого письменно. И действительно, их доктринальный сдвиг по направлению к очень скромному богатству, не к роскоши свидетельствует об обратном. Но все горожане, возможно, именно потому, что они были выходцами из простого народа, разделяли одну характеристику депривации — исключение из официальной власти. Они не были частью правительства империи или их собственных городов. В этих промежуточных городских группах именно в момент наибольшего процветания империи во времена правления Траяна и Адриана мы узнаем о протестах и восстаниях против политической эксклюзии в восточных городах. Дион Хрисостом[93] повествует о том, что ремесленников «державшихся в стороне от общих интересов, поносили и рассматривали как аутсайдеров» (цит. по: Lee 1972: 130) — Тем не менее Ли отмечает, что такие «лишние» люди едва ли сами хотели стать еще более исключенными из гражданского участия, обращаясь в христианство. Это серьезное возражение, но оно касается лишь узкого понятия политической эксклюзии. Напомним, что империя жестко контролировала общинные организации. Переписка на тему коллегий пожарных между Плинием Младшим и императором Траяном — известный тому пример (она воспроизведена в Jones 1970: II, 244–245). Плиний — правитель провинции Вифиния в Малой Азии докладывал, что огромный пожар недавно нанес ущерб городу Никомедия. Пожарных коллегий в этом городе не существовало, поэтому Плиний просил основать одну коллегию. Довольно странно, что ему приходилось спрашивать разрешения, столь же странными выглядят его уговоры относительно того, что все предосторожности для регулирования пожарных коллегий будут предприняты и что он проследит, чтобы они занимались только делами, связанными с пожарами. Но ответ Траяна выглядит еще более странно. Он утверждает, что, будучи основанными, «именно союзы подобного рода не давали покоя… Какое бы имя и по каким бы основаниям мы ни давали тем, кто будет вовлечен в такой союз, он в скором времени превратится в гетерию». Таким образом, он отказывает в организации коллегии и советует подготовить пожарное оборудование, которое могло бы быть использовано владельцами загоревшихся домов. Эксклюзия применялась ко всем формам общинных ассоциаций. Городские массы были полностью исключены из общественной коллективной жизни, из всех официально разрешенных нормативных сообществ. Империя не была их обществом. Тем не менее экономика городской жизни в гораздо большей степени, чем сельской, подразумевала коллективную деятельность на рабочем месте и в торговле. И подобная деятельность требовала, чтобы кто-то был обучен грамоте и мог читать и писать вместо неграмотных участников. Идеи и тексты циркулировали в этих небольших коллективах, кроме того, возникали дискуссионные группы. Тем не менее правительство пыталось этому воспрепятствовать. Вдобавок ко всему ядром христианских групп были высокомобильные греки, а греческий был общим языком практически для всех восточных и многих западных городов, к тому же греки обладали традицией полисных коллективных ассоциаций, и упомянутые выше «политические» восстания происходили в греческих городах восточной империи. Мы можем сделать вывод, что христиане искали не политического участия, а участия в значимой коллективной жизни в целом. И они нашли ее в церкви, которая утверждала свой аполитический трансцендентный характер. Маловероятно, что они рассматривали ее как политический вызов империи. Даже если некоторые христиане могли принимать участие в редких бунтах, то они были двойственными по своему содержанию, касавшимися прежде всего духовного спасения, оставляя «цезарю цезарево». Но для христиан духовное спасение волей-неволей подразумевало участие в общинных организациях. Вопреки их собственной доктрине они были втянуты в политику в самом широком смысле слова. На уровне доктрины часто наблюдалось слияние духовного с ассоциативным. Нок завершает свое исследование эллинистического содержания христианства изложением ранних авторов: «Люди хотели не истину отыскать, а быть во Вселенной как дома» (Nock 1964:102). Эта фраза «быть во Вселенной как дома» идеальна. «Дом» был социальным домом, сообществом, но таким, которое обладало универсальной значимостью по отношению к изначальному смыслу и нравственности. Это смешивало сакральное и секулярное, духовное и материальное, чтобы создать трансцендентное общество. Ранние христиане всегда обращались к себе как «общине», «братству», «братьям и сестрам во Христе». Они были социальной организацией, соперничавшей с империей. Угроза стала очевидной, когда власти перестали верить молве о «всяких мерзостях». Теперь они считали, что христиане были добродетельными. Тертуллиан, согласно свидетельствам язычников, восклицал: «Посмотрите, как эти христиане любят друг друга», и, хотя он не был беспристрастным комментатором, христианское милосердие привлекло много завистливого внимания. Последний из основных оппонентов христиан император Юлиан, который всегда рассматривал их как атеистов, открыто утверждал: «Почему мы не признаем, что это их милосердие к чужим людям, забота о могилах умерших и претензии на святость их жизней сильнее всего усиливают атеизм?» (цит. no Frend 1974: 285). Христианский дуализм не всегда и не во всем поддерживали. В самой незначительной степени, даже без разрушения социальной иерархии, христианство представляло этическую угрозу. Оно безусловно превосходило империю в наложении социальной этической необходимости на межличностные и семейные отношения. Даже если христианство концентрировалось в этих областях, оно представляло собой альтернативную фокусировку на нормативной связанности. Империи противостояла альтернативная организация власти, экстенсивная по своему охвату, интенсивная по мобилизационной способности, этическая и (по своим стандартам) демократическая. Эта организация полагалась в большей степени на диффузную, чем на авторитетную власть; таким образом, казнь политических лидеров организации не могла остановить ее организационного драйва. Во многих отношениях христианство отражало именно то, как Рим идеализированно представлял свое республиканское прошлое. Это привлекало обычных граждан и возрождало политические тенденции, которые предположительно были характерны для примерно 100 г. до н. э. Христианское популистское лидерство также было склонно к созданию более радикальных эгалитарных оппозиционных фракций в церкви, например гностиков или донатистов (которые будут рассмотрены в этой главе). Христианство было основано духовно и социально на народе. Оно было подрывным до тех пор, пока мобилизовало людей для достижения их собственных целей, какими бы они ни были. То, что Христос, как свидетельствуют его последователи, осознал, было знанием (в данном случае духовным), касавшимся на самом деле простых вопросов. Однажды возникнув, упрощенные записи и численные системы в конечном итоге сделают возможным экстенсивный поток информации через смешанные письменные и устные каналы, тогда большинство знания, релевантного социальной жизни, будет доступно обычным индивидам. «Духовные» вопросы чрезвычайно просты: противоречие между жизнью и смертью, бренность материального и конечные смыслы, порядок и хаос, добро и зло — все это так безоговорочно и так узнаваемо нами на протяжении всей истории, умудренные философы и теологи лишь добавили к этому технические детали. Генетическое устройство людей придает фундаментальное равенство большинству материальных черт, релевантных для достижения общего знания о мире. Как только большие группы людей стали задавать сходные вопросы о смысле жизни и ее значении, возникли мощные эгалитарные силы. Способствовавшие этому факторы появились в поздних архаических обществах, и их последствия были революционными. Таким образом, христианство несло радикальное, проникновенное, но простое и истинное послание миру, по крайней мере в идеальных терминах. Поскольку люди были универсализированы, возникло представление о коллективном существовании человечества в целом в форме универсальной организации, Вселенской церкви, ойкумены. Как и подразумевало ее греческое обозначение, она предполагала универсализм, характерный для греческой философии. Но греки обладали только обществом участия, охватывавшим лишь небольшое пространство. Ойкумена предполагала экстенсивную культуру и грамотность Римской империи. Но по мере экспансии Рима у римлян оставалось все меньше возможностей для участия в обществе. Участие было оставлено движению идеологической власти, религии, чтобы она несла послание фундаментального, хотя и номинально «духовного» равенства и коллективного участия по всему социальному пространству, населенному миллионами людей. Христианство подразумевало, что человеческое общество не должно ограничиваться существующими государствами, классами или этническими различиями, что интеграция может быть достигнута другими методами — не принуждением, а трансцендентной идеологической властью. Преследование свирепствовало до тех пор, пока этот вопрос не был снят. ДУХОВНАЯ И МИРСКАЯ ойкумена: ДВИЖЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К КОМПРОМИССУ? Тем не менее компромисс между возникавшей церковью и имперским государством был явно возможен. Христиане едва ли могли просто отмахнуться от враждебности со стороны государства. Вероятно, вера в Бога, лояльность общине и мужество могли выдержать гонения, хотя существовали огромные колебания. Некоторые исследователи убеждены, что христианство не выдержало бы больших гонений (например, Frend 1974). Дуализм привел христиан к сложностям. Но дуализм был двусмысленным и мог быть прояснен в интересах христиан и мирских властей. Послание Христа, как рассказывают Евангелия, было ясным: равенство мужчин и женщин, всех свободных людей и рабов и скорее духовным, чем секулярным. Так каковы же были пределы, границы духовного? Христиане начали приспосабливаться в Римской империи, определяя эти границы более четко. Рассмотрим вначале особые случаи — женщин и рабов. Женщин, без сомнения, было много среди ранних христиан (например, Luke, 8: 1–3) — Как отмечает Кэмерон (Cameron 1980), в этом не было ничего особенно «революционного». Женщин, находившихся в маргинальном положении в официальной культуре Рима, также широко привлекали в другие религии, например в культ Исиды. Особенно много христиан рекрутировали из людей среднего достатка, занятых в торговле, а в этом секторе женщины часто были активными агентами их семейного дела. Тем не менее, когда христианские секты стали более значимыми, занятие женщинами руководящих позиций рассматривалось как нечто весьма радикальное. Элейн Пейджелс сравнила раннюю роль женщин в церкви и в соперничавших гностических сектах. Многие секты допускали женщин в качестве полноправных участников, пророков, священников и даже епископов. Их тексты содержали массу отсылок к феминным или андрогинным характеристикам Бога (некоторые рассматривали Святого Духа как женское начало, таким образом, Троица становилась родителям и-супругам и плюс единственный сын). Все это было запрещено Павлом и его последователями, выдававшими себя за Павла (особенно в Первом послании к Тимофею: «Женщина в тишине да учится со всякой покорностью»), а также большинством ранних епископов. Женщины могли быть полноправными членами, но не руководителями церемонией. Бог и Христос были определенно мужчинами (Pagels 1980: 48–69). Относительно этого движения к гендерному компромиссу существует одна проблема: официальные римские институты становились менее патриархальными, в частности, в том, что касалось более эгалитарных представлений о браке, о чем говорит свидетельство, воспроизведенное де Сент-Круа (Ste. Croix 1981: 103–111). Но наиболее обоснованное историческое исследование одной из римских провинций Хопкинса (Hopkins 1980), посвященное Египту, приходит к противоположному заключению — о постепенном уменьшении власти женщин в рамках брачного контракта, которое началось с греческого завоевания и продолжилось в римскую эпоху. Тем не менее они разделяли точку зрения о том, что христианство усиливало патриархат. Это связано с патриархальным иудаизмом, который в конечном итоге сокращал свободу женщин, подчиняя секулярную власть сакральной. Новизна христианства и его характерного обращения к женщинам сначала сделала гендерные отношения более насущной проблемой, а затем возникновение церковных правящих структур их подавило. Похожее приглушение произошло и по отношению к проблеме рабства. Это был весьма болезненный вопрос для Павла и христианского сообщества в целом. Послание Павла к Филимону, посвященное возвращению Филимону сбежавшего раба, содержит тонкий намек на то, что, вероятно, «евангель-не было ничего особенно «революционного». Женщин, находившихся в маргинальном положении в официальной культуре Рима, также широко привлекали в другие религии, например в культ Исиды. Особенно много христиан рекрутировали из людей среднего достатка, занятых в торговле, а в этом секторе женщины часто были активными агентами их семейного дела. Тем не менее, когда христианские секты стали более значимыми, занятие женщинами руководящих позиций рассматривалось как нечто весьма радикальное. Элейн Пейджелс сравнила раннюю роль женщин в церкви и в соперничавших гностических сектах. Многие секты допускали женщин в качестве полноправных участников, пророков, священников и даже епископов. Их тексты содержали массу отсылок к феминным или андрогинным характеристикам Бога (некоторые рассматривали Святого Духа как женское начало, таким образом, Троица становилась родителями-супругами плюс единственный сын). Все это было запрещено Павлом и его последователями, выдававшими себя за Павла (особенно в Первом послании к Тимофею: «Женщина в тишине да учится со всякой покорностью»), а также большинством ранних епископов. Женщины могли быть полноправными членами, но не руководителями церемонией. Бог и Христос были определенно мужчинами (Pagels 1980: 48–69). Относительно этого движения к гендерному компромиссу существует одна проблема: официальные римские институты становились менее патриархальными, в частности, в том, что касалось более эгалитарных представлений о браке, о чем говорит свидетельство, воспроизведенное де Сент-Круа (Ste. Croix 1981: 103–111). Но наиболее обоснованное историческое исследование одной из римских провинций Хопкинса (Hopkins 1980), посвященное Египту, приходит к противоположному заключению — о постепенном уменьшении власти женщин в рамках брачного контракта, которое началось с греческого завоевания и продолжилось в римскую эпоху. Тем не менее они разделяли точку зрения о том, что христианство усиливало патриархат. Это связано с патриархальным иудаизмом, который в конечном итоге сокращал свободу женщин, подчиняя секулярную власть сакральной. Новизна христианства и его характерного обращения к женщинам сначала сделала гендерные отношения более насущной проблемой, а затем возникновение церковных правящих структур их подавило. Похожее приглушение произошло и по отношению к проблеме рабства. Это был весьма болезненный вопрос для Павла и христианского сообщества в целом. Послание Павла к Филимону, посвященное возвращению Филимону сбежавшего раба, содержит тонкий намек на то, что, вероятно, «евангельские узы» должны иметь приоритет над узами рабства в рамках христианской общины, но не более того. В ортодоксальной церковной доктрине угадывается влияние Аристотеля: рабство было прискорбным, но неизбежным, учитывая первородный грех. Рабы могли быть обычными прихожанами церкви, а христианским хозяевам рекомендовалось освобождать верующих рабов, которые, будучи свободными, могли высоко подняться по церковной лестнице. Это была сострадательно либеральная, но не подрывная установка. В этом отношении она, как представляется, была параллельна обращению с женщинами. Подобные ревизии были частью общего движения по направлению к иерархии, управлению и ортодоксальности, которые создали хорошо узнаваемую католическую церковь к 250 г.н. э. Но они не были принципиальным идеологическим решением для проблемы социальной организации. Христос не оставил никакого наставления по этому поводу, а потому церковь стала паразитировать на империи в данных вопросах. Римской империи, как и большинству античных обществ, не удавалось проникнуть в повседневную жизнь широких народных масс, будь то городских или сельских. Она не смогла мобилизовать их моральные обязательства или практики либо придать чувство осмысленности и достоинства их жизням. Тем не менее она создавала сущностно необходимые принципы порядка, внутри которого могла продолжаться жизнь. Примитивные христианские общины не могли защитить империю, поднять налоги, защитить корабли от пиратов или же обозы мулов и верблюдов от бандитов, организовать снабжение армии и бюрократии, поддержать уровень грамотности, необходимый для религии книги, или обеспечить множество других необходимых для христианской жизни условий. Христос почти не касался этих вопросов, а его ранние последователи не выработали социальной космологии. Хотя они высказывали важные и социально правдивые мысли об универсальных условиях человечества и усилили их небольшими структурами сообществ, содержавших простые, приносившие удовлетворение ритуалы, они практически ничего не говорили о макросоциальной организации и социальной дифференциации. Первые последователи Христа создали решения на основе их собственных ресурсов, запасов веры и практик, которые пришли к ним из римского гражданства, гендера, стратификационных позиций и этнического сообщества. В одном отношении ответ последователей был различимо христианским. Их вера в Бога продолжала генерировать общий популизм, который мог принимать довольно радикальные формы в сельской местности (как мы увидим далее), но, как правило, был патерналистским. Христианские общины были стратифицированы, более привилегированные члены присматривали за менее привилегированными. Благотворительность была признаком этого присмотра, но она также была формой передачи религии. Только христианские элиты могли без труда читать на латыни или греческом, но они были ориентированы на рядовых христиан, стараясь передать суть текстов неграмотным. Центральными церемониями были коллективная евхаристия и чтение вслух священных текстов, содержавших послания апостолов и циркулировавших между общинами, а также проповедей, разработанных на основе этих источников. Момилья-но (Momigliano 197°) отмечает практически полное отсутствие в рамках христианства разрыва между элитарной и массовой культурой, что резко контрастировало с римской традицией. Действительно, к концу IV в., утверждает он, языческие авторы были вынуждены признать, что разделения между элитарной и массовой культурой не существовало вовсе. С тех пор как даже руководители сталипоявляться среди последователей христианства, это все еще приводило в замешательство римские власти. Дело в том, что епископы, дьяконы и священники, появившиеся в центральных городских областях, обладали более интенсивной мобилизующей властью над своими людьми, чем светские власти над своими. Браун (Brown 1981: 48) отмечает, что с этих пор мы оказываемся в мире, где христиане в большинстве своем редко предстают перед нами без сопровождения восхищенной толпы. Он называет способность христианской знати затронуть струны, находящиеся глубоко в людских сердцах, «демократизацией сверху». Способность к мобилизации сверху, к укреплению отношений власти была отличительно христианской в этой части мира — она также отличала другие религии в разных регионах. Она была продуктом своей эпохи исторического развития, и впоследствии мы никогда не теряли этой способности. Тем не менее иерархия также возросла. Христос не оставил организацию, которую можно было бы четко различить. Даже апостолы явственно достигли коллективной власти только после прений с фракцией, возглавляемой братом Христа Иаковом. Как из множества тех, кто был «свидетелем» Христа, выделились двенадцать апостолов? Истина требует организации: как обучать ей, как сохранять ее чистой, как поддерживать ее инфраструктуру, как определить, чем она является. Все это требует власти. И хотя влияние церковной организации было значительным, имперское влияние Рима росло. Церковь выработала муниципальную структуру: общиной каждого города управлял епископ (аналог губернатора), чья власть распространялась на соседние провинции. Епископ Рима черпал свой растущий престиж из светских преимуществ этого города. Церковные десятины были налогами. У церковных ересей была мощная провинциальная база. Церковный раскол на восточную и западную церкви последовал за политическим делением империи. Две радикальные гарантии универсализма церкви — женщины и рабы — исчезли из числа полноправных членов. Римский папа Лев I рассматривал ранние практики принятия рабов в духовенство следующим образом: Люди, которые не обладают какими-либо достоинствами или необходимыми характеристиками, не могут быть свободно допущены к духовным санам, а также и те, кто не смог добиться свободы от своих владельцев, недостойны священства, как если бы рабская подлость могла на законных основаниях получить эту честь… Сам этот вопрос вдвойне неправильный, поскольку священство будет замарано такой низкой компанией и права рабовладельца будут нарушены ввиду того, что присутствует дерзкое и незаконное социальное происхождение [цит. по: Jones 1964: II, 921]. Что важнее, сама ойкумена была романизирована. Христианство было ограничено. Большая часть миссионерской деятельность за пределами империи велась среди «цивилизованных» восточных соперничавших государств. На германских «варваров» миссионерская деятельность сначала не распространялась. Лишь один (миноритарный) северный варварский народ — раги (Rugi) — был обращен в христианство, хотя продолжал жить за пределами римских границ. Сто лет спустя после падения западной империи, вероятно, лишь еще один мажоритарный варварский народ — ломбарды — был обращен в христианство, хотя и был расселен на территориях, которые формально никогда не были римскими (Е. A.Thompson 1963; хотя Vogt 1967: 218–223 не так в этом уверен). Западная ойкумена была укомплектована народами, охранявшими римские границы. По мере продолжения романизации отношения со светскими властями становились все более двойственными. Церковные и государственные власти стали главными соперниками, но их сходство означало, что они могли быть объединены. Реформы Диоклетиана, значительно увеличившие государственную бюрократию, создали возможность для восходящей мобильности для обученных грамоте и происходивших из средних слоев городских мужчин в конце III в. Это «служилое дворянство» включало множество христиан в отличие от их сенаторских и всаднических предшественников, предоставляя этой религии неофициальный государственный патронаж (Jones 1963). Затем последовали обращение в христианство Константина(312 г.н. э.) и его государственный патронаж над христианством (324 г.н. э.). Мотивы Константина остаются предметом горячих споров — возможно, искренность и оппортунизм настолько тесно переплелись, что он и сам не мог различить их. Константин, по всей видимости, был суеверным, монотеистическим человеком, который хотел отблагодарить за военный успех одного Бога, который иногда был Богом христиан, иногда Сыном Божьим. Он высоко ценил обрядовую поддержку структур церковных властей за свою позицию на вершине римской системы общественного права (Ullman 1976), но эта поддержка была двусторонней. Если христианство не удавалось подавить, оно должно было дисциплинировать своих членов в интересах социального порядка. Константин лично возглавил Никейский собор 325 г. Никейский символ веры постановил единосущность Христа Богу Отцу и христианство в качестве поддерживаемой государством ортодоксии. Государственная поддержка была необходима христианству, поскольку оно все еще порождало ереси и социальные беспорядки. Христианство было религией книги. Книги содержали догму (догматы). Принимая догму, человек становился христианином. Все могли присоединиться к христианству, это было делом свободной воли. Но что если чье-то представление об истине отличалось и кто-то, скажем, отдавал предпочтение более разработанной греческой философии, или республиканским достоинствам языческих богов, или экстазу мистических культов? Христианство, подобно зороастризму и исламу, определяло сущность человека как рациональное принятие своей истины. Тем самым отказ от веры делал отступника нечеловеком. Данная характеристика религий книги уменьшала их универсализм. Ранние религии, как правило, либо исключали массы из участия в высшей истине, либо принимали то, что различные аскриптивные группы обладали собственной истиной. Если другая группа мыслилась как группа, в которой отсутствовала гуманность, это имело нерелигиозные источники. Отныне религия определяла и ограничивала человечество. Отсутствие толерантности также демонстрировалось по отношению к другим христианам. Доктрина без отчетливой социальной космологии вела к трудностям в определении того, какая доктрина истинна и кто должен ее защищать. Различия были совершенно очевидны между Евангелиями. Во II в. возникают секты (гностики, маркиониты, монтанисты, манихеи, ариане, донатисты) с большим количеством последователей, которые были в основном жестоко подавлены. Споры относительно образования сект шли вокруг доктрины, был ли Христос божеством, человеком или и тем и другим, был ли он рожден женщиной, были ли священники в большей степени наделены божественностью, чем прочие люди, а также какая власть должна выносить решения по всем этим вопросам. Ядром этих споров была попытка опосредования дуализма Христа между Богом и цезарем, а также создания организации, способной выносить решения по духовным вопросам, и создания общинной организации верующих. Государство было чрезвычайно заинтересовано в разрешении доктринальных споров, поскольку оно хотело установить власть, соответствующую по духу своим структурам. Около 250 г.н. э. отношения между церковью и государством в ряде областей вышли на новый уровень. Властные структуры обоих были городскими, хотя началось включение некоторых сельских областей. К 250 г.н. э. провинции Египта, Северной Африки и большей части Малой Азии были преимущественно христианскими. Проникновение в земли первоначального возникновения, в соседние сельские области в Палестине и в области вокруг Антиохии после Константина происходило редко. Это относится к Греции и Италии, в то время как кельтский запад оставался практически не затронутым христианством. За исключением Антиохии (см. Liebeschutz 1979) и внутренней Греции, проникновение христианства следовало за торговыми маршрутами и путями проникновения эллинистической культуры. Большая часть христианских провинций снабжала основной сельскохозяйственной продукцией центральные земли Рима непосредственно или в дополнение к эллинистическим сферам влияния. Они были не самыми бедными регионами. Значительно больше неопределенности существует в отношении проникновения христианства в сельскую местность (Fred 1967, 1974, 1979) — Об одной из провинций Северной Африки сохранилось больше всего документов. В IV в. в Северной Африке сформировалась самая влиятельная секта еретиков — донатистов, а один из ее католических оппонентов Августин Блаженный — епископ Гиппонский (Карфагенский) был также одним из основных отцов церкви. Конфликт донатистов и Августина обнаруживает множество организационных дилемм, раздиравших церковь по мере того, как она постепенно перенимала эстафету империи.ДОНАТИСТСКАЯ ЕРЕСЬ И АВГУСТИН: НЕСПОСОБНОСТЬ К КОМПРОМИССУ
Донатизм возник как протест против местных епископов, которые пошли на сотрудничество с имперскими властями в ходе последних гонений на христиан после 250 г.н. э. Они утверждали, что христианство должно оставаться чистым, незапятнанным мирскими событиями. Избрав своих епископов (главным из которых был Донат), они тем самым бросили вызов католической церкви. Причуды имперских наследников (обращение в христианство Константина и поддержка им католической фракции, воцарение язычника Юлиана Отступника, который был враждебно настроен по отношению к католикам, а затем опять избрание католических императоров) настраивали их то за, то против империи. Но в их движении просматривались социально-революционные тенденции. Некоторые заигрывали с повстанцами нумидийского вождества Гилдо, что привело к постоянному преследованию со стороны католических и имперских властей. В среде исследователей донатизма существует очень важный спор — об относительном вкладе в эту ересь «национального/социального» и «религиозного» недовольства. Основным исследованием по этому вопросу является работа Френда (Frend 1962), который вскрывает множество «национальных/социальных» проблем. Он утверждает, что донатисты в подавляющем большинстве были сконцентрированы в сельской местности в противовес городам, говорили на берберском, а не на латинском или финикийском языке. Он подчеркивает связь между дона-тистами и социальными революционерами, циркумцеллиона-ми (агностиками), безземельными рабочими и мелкими крестьянскими собственниками, которые восстали против огромных землевладельцев своих провинций. Он также утверждает, что связь с Гилдо возникла из провинциальных, сельских и трайбалистских антиримских чувств. Браун (Brown 1961, 1963, 1967) и МакМаллен (MacMullen 1966) считают, что Френд сводит до-натистскую ересь к «национальным/социальным фракциям». Они заявляют, что, несмотря на вклад других фоновых факторов, решающими проблемами были именно религиозные. Исследователи утверждают, что донатисты произошли из городов и черпали в них свою поддержку вне зависимости от того, какой была их сельская концентрация, что в южных провинциях они доминировали, представляя все социальные группы, что цир-кумцеллионы были ударной силой в борьбе донатистов с фракциями высших классов за собственность, а также что не существовало никакого «революционного плана» или политической реконструкции в областях, контролируемых донатистами. Религиозные верования были поставлены во главу угла, хотя Браун (Brown 1961: 101) объясняет, что это означало «не что иное, как место религии в обществе». Любой историк или сравнительный социолог, занимающийся широким кругом вопросов, может распознать привкус этого спора и легко предсказать его дальнейшее развитие по материалистической или идеалистической линии. Но подобные противоречия скрывают сущностные вопросы. В действительности обе стороны согласны в вопросе о сущностях. Френд отвергал представление о том, что сама по себе доктрина была проблемой. Как он утверждает, Донат также написал текст («О Троице»), который был доктринально еретическим, развивающим идеи арианства. Но в отличие от Востока это не было основным камнем преткновения. Обе стороны в Африке в большинстве вопросов подчеркивали единство доктрины. Они расходились во мнении относительно организации церкви: «В центре разногласий была именно природа церкви как общества и ее отношение к миру, а не различные верования» (Frend 1962: 315). Браун согласен с этим. Донатисты, пишет он, требовали, чтобы церковь оставалась единственным «чистым» хранителем святого закона: «Не забочусь ни о чем, кроме закона Божьего, который постиг. Его я защищаю, за него принимаю смерть, и по нему я должен быть сожжен. Нет в жизни ничего помимо этого закона». Это типично сектантское заявление непосредственного отношения к божественному закону во враждебном хаотичном мире. Оно действительно отражало, как утверждали его приверженцы, часть истинного духа ранней церкви. Но это был оборонительный, пораженческий дух, утверждал Августин. Донатисты не понимали, что история была на стороне христиан: «Облака неслись от грома о том, что Дом Господень будет построен на земле, а эти лягушки сидели в своем болоте и квакали: „Только мы христиане"». За нетерпимостью и убийствами с обеих сторон лежало не просто сочетание материально-социальных волнений и «доктрины», а нечто более важное и связывавшее различные понятия социальной организации и идентичности. Донатистов подкреплял действительно трансцендентный сепаратизм — избранный, чистый народ в непосредственном отношении к Богу, игнорировавший все альтернативные базы социальной власти. Августин и католические власти обладали более мирской и менее трансцендентной христианско-имперской идентичностью. Они могли организовать цивилизованный мир в целом, наслаждаясь божественной благодатью, но также навязывать миру светскую дисциплину (Brown 1967: 212–243). Через это указанная дисциплина вводила нечто большее, нежели просто церковную организацию. Вопрос, учитывая, что христианство унаследовало и локальный, и экстенсивный социальный порядок Рима, состоял в том, к какому обществу я принадлежу: к экстенсивному, хотя и прагматичному церковному обществу или к локальному чистому церковному обществу—ойкумене или секте? Ответ донатистов был очевидным, но упорствовавшим в своем заблуждении. Истинное христианское общество включает только чистое. Если остальная церковь себя скомпрометировала, она может отправляться в ад. Именно локализм, а не противопоставление сельских и городских или квазиклассовых либо этнических идентичностей выступал важнейшей характеристикой донатистов. Но сепаратизм не был живучим, учитывая существовавшие уровни сельскохозяйственного производства, плотность населения или социальной организации. Донатисты были, как они сами воспринимали себя, отступниками от мира. Их пуристская позиция воспроизводила склонность Христа игнорировать Рим. Они не принимали того, что христианство паразитировало на Риме, что их этическое сообщество могло существовать в своей форме только на вершине территориально экстенсивной структуры, умиротворявшей и поддерживавшей порядок. Компромисс с этой структурой был необходим для того, чтобы избежать социального регресса. Споря с донатистами, Августин хорошо это понимал. Но в конечном счете он так и не пошел на этот компромисс. Его неспособность весьма показательна. В его самой значительной работе «О граде Божьем» есть разделы, в которых он утверждает, что христианство должно не игнорировать Рим, а перенять его инициативу. Это наделяло смыслом историю Рима с точки зрения христианской теологии. Его достоинства превозносились как предпосылки христианской эры, его бесстрашные и великодушные люди, хотя и замечательные, были обречены на то, чтобы быть меньшинством в языческом мире. К тому же их мирские успехи, государство, законы и отношения собственности принимались в качестве необходимых для социального существования, учитывая первородный грех. Если бы римские практики впитали справедливость и нравственность христианства, «подобное государство и в настоящей жизни даровало бы счастье своим подданным и в будущем блаженном царстве вечной жизни заняло бы наивысшее место». К сожалению, этого не произошло. И ответ Августина не в том, чтобы стараться сделать это возможным. Кроме нескольких периодических замечаний о необходимости справедливой и патерналистской власти для гармонии в семье или в государстве, он практически ничего не говорит о земной стороне вожделенного «града Божьего». Вместо этого все послание обращено к внутреннему духовному миру и спасению в загробной жизни. Христианам, пишет он, повелевалось «терпеть, коль скоро это необходимо, даже и самую развращенную и распущенную республику, и этим терпением приуготовлять себе светлейшее место в святейшем и священном сенате ангельском и в небесном царстве, где законом служит воля Божия» (Augustine, книга II, гл. 19). Заключение было практически таким же, как у донатистов. Но о духовной стороне бытия заботилась только высокоспециализированная ойкумена, а жизнь в секулярном мире принадлежала цезарю, который (в отличие от цезаря, противостоявшего Христу), к большому сожалению, быстро угасал. Позиция Августина, как и позиция многих из его западных современников, отличалась от голосов, раздававшихся на востоке. Один сирийский христианский лидер утверждал, что Римская империя «никогда не будет завоевана. Никогда не бойтесь за преемника, во имя которого придет Иисус со своей силой, и его могущество поддержит армию империи» (цит. по: Frend 1979: 41, который также предлагает другие восточные примеры). Именно это и случилось и помогло сохранить восточную империю в течение тысячи лет. Во все большей степени обрядовая восточная церковь стала опорой власти восточных императоров, но не западных. Что весьма поразительно в книге Августина, насчитывающей тысячу страниц, написанной между 413 и 427 гг.н. э., это то, что никто не мог предположить, глядя на нее, что христианские императоры (за исключением четырех лет правления Юлиана) правили уже в течение века, а также что государство еще с 391 г. н. э. официально запретило религиозные практики языческих культов. Книга «О граде Божьем» была написана, чтобы опровергнуть обвинения язычников, заключавшиеся в том, что разграбление Рима готами под предводительством Алариха в 410 г.н. э. было результатом его обращения в христианскую религию. Основная линия защиты Августина состояла в том, что Рим на самом деле все еще оставался языческим и что христиан нельзя было винить в этом. Для Августина Рим все еще оставался основным врагом. Знаковым выглядит то, что ему предстояло умереть во время последней осады Гиппона, незадолго до того, как вандалы прорвались через укрепления и вырезали горожан, как христиан, так и язычников. Послание Христа, вновь повторенное, не было мирским. Августин не смог ответить донатистам. Он также отказался принять слияние властей, предложенное Константином. Донатисты, как, впрочем, и западная католическая церковь, недооценивали свою зависимость от Рима. Их деятельность предполагала существование Рима, тем не менее они смогли принять это только в прагматическом, но не в доктринальном смысле, если вообще принимали. Это становится очевидным в сфере грамотности. Я утверждаю, что распространение христианства в высочайшей степени зависело от римских путей и форм коммуникации, особенно от грамотности. Чтение рукописей, комментариев к ним, а также текстов, подобных текстам Августина, предполагало наличие системы образования. Христиане были недовольны языческими школами. Они утверждали, что языческий яд продолжал разливаться в системе образования во время распада империи. Тем не менее христиане не соперничали и не пытались проникнуть в систему образования. Основными христианскими учебными заведениями были монастыри. Они были необходимы для людей, которые уходили из общества, если хотели сохранить грамотность. Но для тех, кто оставался в обществе, прагматически сохранялось языческое образование. Только после окончательного коллапса западной империи при монастырских школах возникло несколько епископальных школ, чтобы передавать грамотность в общество независимо от Рима. Поэтому Гиббон был отчасти прав. Но, заключая, что причиной распада империи стал «триумф варварства и религии», он явно преувеличивал. Империя пала, поскольку не смогла ответить на давление варваров, как я утверждал в прошлой главе. Христианство упустило свою возможность создать собственную высокоцивилизованную ойкумену на базе, предоставленной Римом. Всякий раз, когда христиане провозглашали превосходство духовной реальности, они все дальше отходили от разрешения противоречий римского общества, которые я обозначил в начале главы. Они как бы говорили: это не наши проблемы — и ошибались, поскольку сама основа христианской жизни зависела от их решения. Как мы вскоре убедимся, большая часть этого базиса была потеряна. Возможно, чистой случайностью было то, что не было потеряно все. Существовали два идельно-типических решения, а следовательно, и множество промежуточных компромиссных решений между ними. Первое было еретическим решением, найденным в восточной империи. Оно предполагало преувеличение всех тех характеристик ранней западной церкви, которую мы называем католической. Но оно могло не сработать на Западе, которому угрожали более могущественные варвары, поскольку было относительно слабо в том, что касалось возможности народной мобилизации. Сама восточная империя позднее была отобрана, за исключением ее центральных земель вокруг Константинополя, исламом — религией с большей способностью к мобилизации. Второе идеально-типическое решение было народным и могло стать более радикальным и инновационным, поскольку у него не было исторических прецедентов и оно противодействовало римскому государству. Оно подразумевало установление экстенсивных, относительно демократических церковных институтов, мобилизующих народ для защиты цивилизации. Рим не смог развить подобные институты, и христианство повторило его ошибки. По-прежнему не существовало долгосрочной комбинации интенсивной и экстенсивной социальной власти, так как христианство не могло обратиться непосредственно к самой социальной власти.ПОСЛЕ РИМА — К ХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОЙКУМЕНА
Тем не менее, если римляне смирились с тем, что империя была обречена, они заплатили за то, чтобы держаться на расстоянии вытянутой руки от нее и заключить сепаратный мир с варварами-завоевателями, которые хотели заполучить различные плоды цивилизации, поскольку были не способны обеспечить экстенсивные формы организации. Их общая численность была небольшой. Политически они могли создать небольшие царства, милитаристически — слабые федерации воинов-аристократов, экономически — мелкие сельские хозяйства и пастбища, идеологически — устную передачу трайбалистских культур[94]. Они скорее уничтожили, а не заняли экстенсивные сети власти римского государства, хотя и сделали это не намеренно. Тем не менее они могли оценить и воспользоваться теми достоинствами империи, которые могли предложить децентрализованные мелкомасштабные формы, пригодные для адаптации к их образу жизни. По всей видимости, существовали две основные сферы преемственности и адаптации между Римом и варварами — в религиозной и экономической жизни. Что касается религии, христиане были больше заинтересованы в обращении находившихся за пределами империи варваров в свою веру, чем языческих римлян. Для христиан это стало продолжением миссионерской деятельности предшествовавших четырех веков. Подобная деятельность никогда не была централизованной, а потому не зависела от жизнеспособности римского государства или даже епископа Рима. На самом деле большое количество варваров были обращены в арианскую ересь, поскольку главными миссионерами среди них были ариане из восточных частей империи, а самым известным — Вульфила[95]. Со своей стороны варвары, вероятно, обращались в христианство как символ достижения цивилизации в целом. Основным предложением для них было предоставление их самым амбициозным правителям грамотных помощников (несмотря на то что они происходили из римских языческих школ, которые были закрыты для варваров). Их мотивы, по всей вероятности, были весьма сходными с мотивами большинства христианских проповедников в третьем мире в рамках новейшей колониальной истории. Варвары были довольно быстро обращены в христианство. Ни один из основных германских народов, вторгшихся в римские провинции в IV и V вв., не остался языческим на протяжении жизни более чем одного поколения, после того как пересек границу (Е. A.Thompson 1963: 77–88; Vogt 1967: 204–223). Они принимали римскую цивилизацию без римского государства. После окончательного прекращения существования империи в 476 г.н. э. христианство стало монопольным поставщиком этого цивилизационного наследия, особенно грамотности. «То, что утратила Римская империя, приобрела католическая церковь», — пишет Вогт (Vogt 1967: 277). Второй сферой преемственности была экономика. Речь идет о сходстве между поздней римской усадьбой и возникшим феодальным поместьем раннего Средневековья, которое намного труднее разглядеть. Это были мелкомасштабные децентрализованные производственные единицы, контролируемые землевладельцем, использовавшим труд зависимых крестьян. Мы можем лишь представить себе историю перехода от усадьбы к феодальному поместью, но она с необходимостью должна была включать компромисс между лидерами варваров и уцелевшей провинциальной аристократией империи. Галло-римляне, романо-британцы и тому подобные аристократии теперь находились на расстоянии вытянутой руки от римского государства. Римские сенаторское и всадническое сословия противостояли христианству, поскольку их экстенсивные организации уцелели. Но когда они были отброшены из центра, они объединили свои ресурсы с местными христианами. Они были грамотными, а потому тот факт, что они были вхожи в провинциальные церкви, был ценным. Многие стали епископами, как, например, Сидо-ний Аполлинарий в Галлии. Выходец из семьи префектов претория, он не тешил надежд на реставрацию римской власти. Его отвращение к варварской литературе, культуре, манере одеваться и запаху было традиционным для его класса. Но к концу V в. эти же чувства сделали его подлинным христианином. Отныне христианство было наиболее заметной частью цивилизации (см. краткое исследование, посвященное Сидонию, у Хенсона (Hanson 197°) и более пространное — у Стивенса (Stevens 1933). Начиная с V в. и далее христианские институты были основным оплотом цивилизации против варварского социального регресса. Это история, которую рассказывают очень часто (например, Wolff 1968; Brown 1971). Основное значение обычно придают грамотности, обучение которой отныне практически полностью осуществлялось в церковных школах. В конце IV и в начале V в. церковь способствовала уничтожению римской образовательной системы на Западе. Каждый монах или монахиня должны были быть обучены чтению и письму в монастыре, чтобы сакральные тексты и комментарии к ним можно было читать и переписывать. В этот период упадка меньший интерес проявлялся к написанию новых работ и гораздо больший — к сохранению уже имеющихся. К традиционным, вновь усиленным монастырским школам были присоединены епископские школы, контролируемые каждым епископом. Нельзя сказать, что эта двухуровневая образовательная система процветала. Большинство школ закрывались, уцелели лишь немногие. Недостаток грамотных учителей становился хроническим. Библиотеки сохранились, но к VIII в. их осталось совсем немного (J.W.Thompson 1957) — Любопытно скорее то, что тот способ, которым христианство использовало грамотность, угрожал ее выживанию. Как утверждает Стреттон (Stratton 1978: 179–212), христианское понятие lectio divina — частное использование грамотности как связи между человеком и Богом — угрожало более широкой социальной функциональной базе грамотности. Это возвращало письменность обратно от греко-римской традиции к ближневосточному ограниченному сакральному знанию. Таким образом, связь между традицией грамотности и христианством было тесной, но не неизбежной. Этому способствовало неравномерное проникновение варваров. Хотя галлы пришли в упадок в VI в., римской Италии и Британии удалось его избежать. Когда Италия была разрушена под ударом вторжения ломбардов в 568 г., франки в Галлии и саксы в Англии были обращены в христианство миссионерами из других мест. Могущественные амбициозные правители, такие как Карл Великий и Альфред Великий, признавали, что миссия христианской церкви была такой же, как и их. Они поощряли грамотность, миссионерскую работу, а также распространение канонов и мирских законов. Делая это, они оберегали более публичные функциональные аспекты грамотности, а также ограниченные сакральные аспекты и подготавливали почву для возрождения диффузной культуры грамотности в Средние века, когда процветавшая церковь и восстанавливавшееся государство всегда существовали рядом, а сотрудничество и борьба между ними были важнейшими составляющими последующей средневековой диалектики. Церковь была основным субъектом транслокальной экстенсивной социальной организации. Организационные формы захватчиков были ограничены интенсивными локальными взаимоотношениями в деревне или племени плюс слабой и нестабильной конфедерацией за их пределами. Церковь обладала тремя экстенсивными дарами для подобных людей (см. главу 12). Во-первых, ее письменность представляла собой стабильное средство коммуникации за пределами отношений лицом к лицу и устных традиций отдельного народа. Во-вторых, закон и нравственность церкви представляли собой средство регуляции на больших расстояниях. Это было особенно важно для торговли, поскольку она восстанавливалась. Если христиане рассматривались другими христианами в качестве таковых, то торговля между ними не носила характера откровенного грабежа, а, напротив, была достаточно великодушной и щедрой. В-третьих, в отказе от римского мира был создан монастырский микрокосмос римской экстенсивности — сеть монастырей, каждый со своей экономикой, но не самодостаточной, торгующий с другими монастырями, с поместьями епископов, а также с имениями и поместьями мирян. Монастырско-епископская экономика была подкреплена христианскими нормами, даже если периодический грабеж превалировал в обществе. Ойкумена, уцелевшая в материальной и экономической форме, была примером социального прогресса и цивилизации светского правления. Карл и Альфред были искренне обращены в нее и всячески ее поддерживали. Однако выживание ойкумены потребовало ее трансформации. Впервые она существовала без государства, не паразитируя на его форме. Государства приходили и уходили в различных формах. Хотя церкви помогал Карл Великий, она могла обеспечить регуляцию для земель франков даже после коллапса политического союза каролингов в конце IX в. Ульман подводит итог, называя «ренессанс» каролингов религиозным: «отдельный ренессанс каролингов, nova creatura осуществленный с помощью снисхождения божественной благодати, стал образцом для коллективного ренессанса, трансформации или ренессанса современного общества» (Ullmann 1969: 6–7; ср. McKitterick 1977). Вместо «божественной благодати» читай трансцендентная власть. Церковь осуществляла нормативную регуляцию над областью более широкой, чем мог защитить меч землевладельца, чем мог обязать его закон, чем рынок и производственные отношения могли спонтанно покрыть. В рамках этой экстенсивной сферы регуляции данные формы власти могли быть вовремя восстановлены. Но когда восстановление было закончено, когда в материальных терминах население и экономическое производство вышли на римские уровни, а затем превысили их, ойкумена не отмерла. Территориальная империя никогда не была вновь восстановлена в Европе. Если бы Европа была «обществом», это общество определялось бы границами идеологической власти — христианства. Решением, которое христианство нашло для противоречий империи, была специализированная ойкумена. Она не касалась только «духовной реальности», как того требовал Христос, поскольку римские папы, князья-епископы и аббаты также контролировали большие объемы недуховных ресурсов власти, а также массу зависимых церковных служащих, крестьян и торговцев. К тому же специализированная ойкумена не обладала монополией на «духовную» реальность — включенные в эту реальность этические и нормативные вопросы. Светская сфера также создавала нравственность — например, аристократическая подобострастная литература о любви или о чести и рыцарстве. Это скорее была специализированная сфера идеологической власти, проистекавшая изначально из претензии на знание о духовной реальности, но институционализированная в виде более светской смеси из ресурсов власти. Но даже в рамках этой сферы специализированная ойкумена не разрешила всех противоречий. Одно из противоречий — равенство vs. иерархия — она институционализировала в виде новой доктринальной формы. Империя неосознанно поощряла индивидуальную человеческую рациональность, но осознанно подавляла ее. Христианская церковь делала это сознательно. Оба основных уровня ее сознания — народные религиозные чувства и теология — с тех пор воплотили в себе власть vs. индивидуальные или демократическо-общинные противоречия (те же противоречия, хотя и в иной форме, были характерны для ислама). Отныне стратификация охватывала моральные и нормативные элементы, но они не были согласованными. В течение следующего тысячелетия революции и репрессии рядились в пыл христианских оправданий. Разумеется, церковь не могла поддержать балансирующее движение — сначала протестантизм, а затем секуляризация ослабили ее. Слабость присутствовала в ней с самого начала: христианству недоставало своей социальной космологии. Но это сделало его чрезвычайно динамичной силой. Я зафиксирую все следствия этого в заключении следующей главы, посвященном достижениям идеологической власти. Но прежде необходимо рассмотреть другие мировые религии.БИБЛИОГРАФИЯ
Augustine (1972). The City of God, ed. D. Knowles. Hannondsworth, England: Penguin Books. Блаженный Августин. О Граде Божием // Блаженный Августин. Творения. Т. 3–4. СПб.: Алетейя, 1998. Bauer, W. (1971). Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity. Philadelphia: Fortress Press. Bowen, J. (1972). A History of Western Education, Vol. I: 2000 b.c. —a.d. 1054. London: Methuen. Brown, P. (1961). Religious dissent in the later Roman Empire: the case of North Africa. History, 46. --. (1963). Religious coercion in the later Roman Empire: the case of North Africa. History, 48.--. (1967). Augustine of Hippo. London: Faber.--. (1971). The World of Late Antiquity. London: Thames & Hudson. 1981. The Cult of the Saints. London: SCM Press. Bultmann, R. (1956). Primitive Christianity in its Contemporary Setting. London: Thames & Hudson. Cameron, A. (1980). Neither male nor female. Greece and Rome. 27. Case, S.J. (1933). The Social Triumphs of the Ancient Church. Freeport, New York: Books for Libraries. Chadwick, H. (1968). The Early Church. London: Hodder & Stoughton. Cochrane, C. N. (1957). Christianity and Classical Culture. New York: Oxford University Press (Galaxy Books). Cumont, F. (1956). Oriental Religions in Roman Paganism. New York: Dover Books. Forkman, G. (1972). The Limits of the Religious Community. Lund, Sweden: Gleerup. Frend, W. H.C. (1962). The Donatist Church. Oxford: Clarendon Press.--. (1965). Martyrdom and Persecution in the Early Church. Oxford: Blackwell. --. (1967). The winning of the countryside. Journal of Ecclesiastical History. 18.--. (1974). The failure of persecutions in the Roman Empire. In Studies in Ancient Society. ed. M. I. Finley. London: Routledge & Kegan Paul.--. (1979). Town and countryside in early Christianity. Studies in Church History, 16. Gager, J.G. (1975). Kingdom and Community: The Social World of Early Christianity. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Glover, T. R. (1909). The Conflict of Religions in the Early Roman Empire. London: Methuen. Grant, R. M. (1978). Early Christianity and Society. London: Collins. Hanson, R. P.C. (1970). The Church in 5th century Gaul: evidence from Sidonius Apollinaris. Journal of Ecclesiastical History. 21. Harnack, A. von (1908). The Mission and Expansion of Christianity. London: Williams & Norgate. Hopkins, K. (1980). Brother-sister marriage in Roman Egypt. Comparative Studies in Society and History. 22. Jaeger, W. (1962). Early Christianity and Greek Paideia. London: Oxford University Press. Jonas, H. (1963). The social background of the struggle between paganism and Christianity. In the Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century, ed. A. Mo-migliano. Oxford: Clarendon Press.--. (1964). The Later Roman Empire Oxford: Blackwell.--. (1970). A History of Rome through the Fifth Century, Selected Documents. London: Macmillan. Katz, E. (1957). The two-step flow of communications. Public Opinion Quarterly, 21. Katz, E., and P. Lazarsfeld. (1955). Personal Influence. Glencoe, Ill.: Free Press. Kautsky, K. (1925). Foundations of Christianity. London: Orbach and Chambers; Каутский К. Происхождение христианства. М.: Политиздат, 1990. Lake, К. (1912). The Apostolic Fathers, vol. I.Trans. K. Lake. London: Heinemann. Latourette, K. S. (1938). A History of the Expansion of Christianity. Vol. I, The First Five Centuries. London: Eyre & Spottiswoode. Lee, C. L. (1972). Social unrest and primitive Christianity. In Early Church History: The Roman Empire as the Setting of Primitive Christianity, ed. S. Benko and J. J. O’Rourke. London: Oliphants. Liebeschutz, W. (1979). Problems arising from the conversion of Syria. Studies in Church History. 16. McKitterick, R. (1977). The Frankish Church and the Carolingian Reforms. London: Royal Historical Society. MacMullen, R. (1966). Enemies of the Roman Order. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. NcNeill, W. (1963). The Rise of the West. Chicago: University of Chicago Press. McQuail, D. (1969). Towards a Sociology of Mass Communications. London: Collier-Macmillan. Marrou, H. (1956). A History of Education in Antiquity. London: Sheed & Ward. Momigliano, A. (1971). Popular religious beliefs and the late Roman historians. Studies in Church History, vol. 8. Mursurillo, H. (1972). (ed.). The Acts of the Christian Martyrs: Texts and Translations. London: Oxford University Press. Neill, S. (1965). Christian Missions, Harmondsworth, England: Penguin Books. Nock, A. D. (1964). Early Gentile Christianity and its Hellenistic Background. New York: Harper & Row. Pagels, E. (1980). The Gnostic Gospels. London: Weidenfeld & Nicolson. Petronius. (1930). Satyricon. Loeb edition. London: Heinemann; Петроний. Сатирикон. Гос. изд-во, М. —Л., 1924. Ste. Croix, G. de. (1974). Why were the early Christians persecuted? In Studies in Ancient Society, ed. M. I. Finley. London: Routledge & Kegan Paul.--. (1981). The Class Struggle in the Ancient Greek World. London: Duckworth. Schillebeeckx, E. (1979). Jesus: An Experiment in Christology. New York: Crossroads. Sherwin-White, A. N. (1974). Why were the early Christians persecuted? An amendment. In Studies in Ancient Society, ed. M. I. Finley. London: Routledge & Kegan Paul. Stevens, С. E. (1933). Sidonius Appollinaris and his Age. Oxford: Clarendon Press. Stone, L. (1969). Literacy and education in England, 1640–1900. Past and Present, 42. Stratton, J.G. (1978). The problem of the interaction of literacy, culture and the social structure, with special reference to the late Roman and early medieval periods. Ph.D. thesis, University of Essex. Thompson, E.A. (1963). Christianity and the Northern Barbarians. In the Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century, ed. A. Momigliano. Oxford: Clarendon Press.--. (1966). The Visigoths in the Time of Ulfila. Oxford: Clarendon Press.--. (1969). The Goths in Spain. Oxford: Clarendon Press. Thompson, J. W. (1957). The Medieval Library. New York: Harper. Troeltsch, E. (1931). The Social Teaching of the Christian Churches. London: Allen & Unwin. Turner, H.E.W. (1954). The Pattern of Christian Truth. London: Mowbray. Ullmann, W. (1969). The Carolingian Renaissance and the Idea of Kingship. London: Fontana. --. (1976). The constitutional significance of Constantine the Great’s settlement. Journal of Ecclesiastical History, 27. Vermes, G. (1976). Jesus the Jew. London: Fontana. Vogt, J. (1967). The Decline of Rome. London: Weidenfeld & Nicolson. Wallace-Hadrill, J. M. (1962). The Long-Haired Kings. London: Methuen. Wilson, I. (1984). Jesus, the Evidence. London: Weidenfeld & Nicolson. Wolff, P. (1968). The Awakening of Europe. Harmondsworth: England: Penguin Books.ГЛАВА 11 Сравнительный экскурс в мировые религии: конфуцианство, ислам и касты индуизма
В социологии не существует законов. Мы можем попытаться отыскать общую формулу типа если х, то у, где у — рост идеологической власти, но очень скоро обнаружим, что идеологическая власть раннего христианства весьма редкая. И действительно, до сих пор в хорошо задокументированной истории рост идеологической власти был ограничен одним определенным историческим периодом — между 600 г. до н. э. и 700 г.н. э., а по большей части только последними двумя третями данного периода. Более того, каждая из пяти мировых религий или философий, которая добилась власти в этот период, была уникальной во многих отношениях. На этой эмпирической базе мы не можем выстраивать социальные законы, поскольку количество примеров намного меньше количества переменных, оказывавших влияние на финальный результат. Схематичное описание роста религий и философий — это единственное, на что можно рассчитывать. Тем не менее нам не следует избегать сравнительных и теоретических вопросов, возникающих в связи с зарождением мировых религий. И это не только по причине присущей им важности, но и потому, что они сопровождают и реорганизуют (в качестве «путеукладчика», описанного в главе 1) основные поворотные точки в мировой истории. До того как этот исторический период был завершен, истории различных основных цивилизаций Евразии хотя и были различными, но принадлежали к одному семейству обществ и векторов социального развития. Например, хотя я и не описал векторы развитий Китая и Индии, они весьма напоминали векторы развития Ближнего Востока и Средиземноморья. На основе широкой аллювиальной базы, рассмотренной в главе 4, они также развили империи доминирования, используя те же четыре стратегии правления, торговые центры, города-государства, письменность и монетное обращение, различные формы римской легионерской экономики и т. д. Мы можем применить к Азии модели, заимствованные из ранних глав, хотя их следует дополнить региональными модификациями. Я ни в коей мере не преувеличиваю сходства. Но именно в этом смысле исторический этап мировых религий рассматривается как разветвление путей, как момент возникновения по крайней мере четырех различных векторов дальнейшего развития. Разветвление произошло, по крайней мере отчасти, в ответ на вызов основных религий или философий, которые, следовательно, можно рассматривать как «путеукладчик» истории. Эти четыре пути представлены четырьмя частями мира, в которых распространились христианство, ислам, иудаизм и конфуцианство. К 1000 г.н. э. уже существовали четыре отчетливо различных типа обществ — каждый с собственным динамизмом и вектором развития. Различия между ними сохранялись в течение более чем 500 лет, до тех пор пока одна из частей — христианский мир — не достигла такого превосходства над остальными, что они вынуждены были принять ее притязания, тем самым вновь став единым семейством обществ. Сейчас может казаться, что наличие в этих регионах различных религий или философий было эпифеноменом. Но это не так. А даже если так, то проблема религии и философии все еще остается решающей частью причины различия в путях развития. Это проблема, которой также необходимо тщательно заниматься. Но факт состоит в том, что различие путей развития делает задачу, стоящую перед сравнительным анализом, непомерно большой. Попытка проанализировать все эти случаи была бы крупнейшим научным проектом, даже более крупным, чем предпринятая Вебером и незавершенная серия исследований мировых религий. В этой главе я ставлю намного более приземленные цели. В предшествующей главе я суммировал властные достижения христианства. Если сравнивать с другими мировыми религиями, то властные достижения индуизма даже больше. Они составляют основное содержание этой главы, их описания предваряют краткие примечания о конфуцианстве и исламе. Буддизм фигурирует в качестве сравнительно успешного соперника индуизма в Индии.КИТАЙ И КОНФУЦИАНСТВО: КОММЕНТАРИЙ
Китайбыл единственной крупной империей, которой удалось абсорбировать весь импульс религий спасения и при этом остаться невредимым и даже усилиться[96]. Китай разрешил противоречия империи, разделив различные спасенческие течения на несколько различных философий или религий и используя самую важную из них — конфуцианство для легитимации своих структур власти. Конфуций, живший в конце VI — начале V в. до н. э. (в то же время, что и Будда, — в период зарождении греческой философии, гораздо позже Зороастра), дал преимущественно светский ответ на проблему, которая возникла в связи с греческим понятием paideia — развитие человеческого разума. Не существовало предельных отчетливых стандартов разума, этики или значений (смыслов) за пределами общества. Наивысшим из известных нравственных качеств был общественный долг, единственным космическим порядком, к которому мы могли быть причастны, являлся социальный порядок. Это доктрина, которая все еще продолжает призывать к агностицизму[97][98]. Различные образцы поведения включают такие качества, как честность или внутренняя прямота, справедливость, добросовестность, лояльность к другим, альтруизм или взаимность, но прежде всего — любовь к другим людям. Но на самом деле эти качества не являются самостоятельными. То есть они не являются индивидуальными или социальными целями, а скорее средствами или нормами. Они говорят нам о том, как мы должны относиться к другим, преследуя собственные цели. Они предполагают общество с изначально данными социальными целями. Отсюда фундаментальный консерватизм конфуцианской философии. Являясь отказом от трансцендентального спасения, конфуцианство также означало отказ от радикальной политики и того, что мы называем религией. Но именно по этой причине оно и было настоящей «религией» в понимании Дюркгейма. Общество как таковое само было священным. Поэтому конфуцианство по большей части исполняло роль морального стимулирования и не выдвигало принципов идеологической трансцендентности. Но конфуцианское учение также задавало новые вопросы: как указанные качества были распределены между людьми и как их можно было приобрести? В этом отношении конфуцианство дает гуманистический ответ, весьма сходный с ответом Будды и греческим paideia, этическое поведение может быть выработано путем обучения. На Восточном Средиземноморье подобное представление, как мы уже видели, было политически радикальным, поскольку предполагалась, что все люди обладают разумом, который возможно развивать, а инфраструктура греческого полиса и массовая грамотность сделали это потенциально осуществимым. Взгляды Конфуция были в чем-то менее радикальными. Сам термин «кун-цзы» для обозначения этого ключевого идеала изменил смысл в его учении. Прежде использовавшееся как понятие «сын правителя» или «аристократ», «кун-цзьг» стал обозначать «человека способности», то есть «благородство характера». Большинство языков, включая наш (в данном случае — английский), обладает подобной двойственностью смысла: «благородство» и «джентльменство» означают и этическое поведение, и право от рождения в качестве аспектов морали правящего класса. Согласно Конфуцию, благородство характера было не индивидуальным, а социальным. Выраженному в культуре, этикете и ритуалах, благородству характера можно было обучиться и научить. Поэтому одного лишь потомственного благородства было недостаточно. Послание Конфуция оставалось одной из основных социальных сил даже после его смерти. После 200 г. до н. э. династия Хань объединилась с более широкой социальной группой, потомственное благородство которой в переводе означало «джентри» — землевладельцы без тесных династических связей с императорской семьей. Джентри участвовали в управлении государством как землевладельцы и как обученные чиновники (literati), прошедшие через многоступенчатую, регулируемую государством образовательную систему, которая была отчетливо конфуцианской. Она просуществовала по меньшей мере в течение 2 тыс. лет вплоть до Нового времени. На самом деле это была весьма узкая меритократия. По очевидным причинам (плюс внутренняя сложность китайской письменности) только состоятельные люди могли провести своих детей через многоступенчатый образовательный процесс. Конфуцианство было изумительным инструментом имперского/классового правления. Оно включало рациональную сторону спасенческих течения: более духовная мистическая жизнь, а также турбулентные течения были выражены в квиетизме — отдельных культах вроде таоизма. То, что могло бы стать трансцендентальным религиозным вызовом, было расколото на части. Оно также разрешило некоторые противоречия империи (перечисленные в предыдущей главе), от которых также страдали династии Китайской империи, включая династию Хань. Конфуцианство добавило универсальные ценности и легитимацию модифицированному партикуляризму аристократии и династии, ограничило эгалитарные ценности растущего правящего клас-морье подобное представление, как мы уже видели, было политически радикальным, поскольку предполагалась, что все люди обладают разумом, который возможно развивать, а инфраструктура греческого полиса и массовая грамотность сделали это потенциально осуществимым. Взгляды Конфуция были в чем-то менее радикальными. Сам термин «кун-цзы» для обозначения этого ключевого идеала изменил смысл в его учении. Прежде использовавшееся как понятие «сын правителя» или «аристократ», «кун-цзьг» стал обозначать «человека способности», то есть «благородство характера». Большинство языков, включая наш (в данном случае — английский), обладает подобной двойственностью смысла: «благородство» и «джентльменство» означают и этическое поведение, и право от рождения в качестве аспектов морали правящего класса. Согласно Конфуцию, благородство характера было не индивидуальным, а социальным. Выраженному в культуре, этикете и ритуалах, благородству характера можно было обучиться и научить. Поэтому одного лишь потомственного благородства было недостаточно. Послание Конфуция оставалось одной из основных социальных сил даже после его смерти. После 200 г. до н. э. династия Хань объединилась с более широкой социальной группой, потомственное благородство которой в переводе означало «джентри» — землевладельцы без тесных династических связей с императорской семьей. Джентри участвовали в управлении государством как землевладельцы и как обученные чиновники (literati), прошедшие через многоступенчатую, регулируемую государством образовательную систему, которая была отчетливо конфуцианской. Она просуществовала по меньшей мере в течение 2 тыс. лет вплоть до Нового времени. На самом деле это была весьма узкая меритократия. По очевидным причинам (плюс внутренняя сложность китайской письменности) только состоятельные люди могли провести своих детей через многоступенчатый образовательный процесс. Конфуцианство было изумительным инструментом имперского/классового правления. Оно включало рациональную сторону спасенческих течения: более духовная мистическая жизнь, а также турбулентные течения были выражены в квиетизме — отдельных культах вроде таоизма. То, что могло бы стать трансцендентальным религиозным вызовом, было расколото на части. Оно также разрешило некоторые противоречия империи (перечисленные в предыдущей главе), от которых также страдали династии Китайской империи, включая династию Хань. Конфуцианство добавило универсальные ценности и легитимацию модифицированному партикуляризму аристократии и династии, ограничило эгалитарные ценности растущего правящего класса, предоставило унифицированную культуру правящему классу, который в противном случае был бы подвержен децентрализации; путем добавления новых участников в категорию джентльменов могло допустить образованных варваров в ряды правящей элиты, а следовательно, и в цивилизацию. Это были решения четырех и пяти противоречий, которые разрушили Рим. Как это было возможно? Ответ на этот вопрос слишком сложен, чтобы обсуждать его здесь, но он предполагает отсутствие последнего противоречия (четвертого в списке для Рима) — Китай был относительно единообразным. Остальные крупные евразийские империи, царства и города-государства были частью космополитической среды, в большем контакте друг с другом, а более крупные из них были экологически, культурно и лингвистически смешаны. Это делало проблематичным вопрос, который, как мы уже видели, поставило христианство: к какому сообществу, к какому нормативному обществу я принадлежу? Основной проблемой социальной идентификации для китайцев была проблема иерархии: принадлежу ли я к правящему классу, а не более горизонтальная проблема: китаец ли я? Ответом на последний вопрос для большинства было, вероятно: да. Здесь было меньше отсылок к иностранным способам мышления или к чему-то действительно «предельному» или «духовному», что могло бы рассматриваться как трансцендентное по отношению к обществу Китая. Поэтому в качестве господствующей идеологии Китай создал светскую философию в большей мере, нежели трансцендентальную религию.ИСЛАМ: КОММЕНТАРИЙ
Истоки ислама не могут лежать в разрешении противоречий империи, поскольку кочевые и торговые племена арабов Мекки и Медины проживали за пределами любых подобных обществ[99]. Мухаммед предложил решение других социальных противоречий. Растущее богатство торгового перевалочного пункта Мекки было монополизировано старейшинами купеческих благородных кланов, что вело к недовольству среди молодых людей и прочих кланов, которые подпитывал эгалитаризм племен. У пустынного оазиса — Медины были другие противоречия. Племенная вражда и кровная борьба между двумя практически равными конфедерациями сделали социальный порядок йена-дежным. Мы можем объяснить, почему в Мекке возникли недовольные банды младших сыновей из различных кланов, а также почему они оказались приверженцами квазиэгалитарной и универсальной доктрины. Подобные группы часто формировались вокруг сильных личностей, таких как Мухаммед. Также можно оценить рациональность мединцев, пригласивших посторонних, то есть Мухаммеда и его банду, чтобы они рассудили их спор и нежестко правили ими. Но зачем этому человеку, банде и правящей группе было обращаться в новую религию? Возможно, арабы были впечатлены могуществом и цивилизацией двух империй, соседствовавших с ними, — Византийской империи и Персии Сасанидов. В Византию культуру империи привнесло ортодоксальное и моно-физитское христианство, а в Персии источником имперской культуры была смесь иудаизма, несторианского христианства и (в меньшей степени) зороастризма. Эти религии были монотеистическими, спасенческими, этическими и, за исключением иудаизма, универсалистскими. Арабов незадолго до Мухаммеда, без сомнения, привлекали эти идеи. Даже Мухаммеда они рассматривали в традиции Авраама и Христа. В ответ арабы могли принять цивилизацию, как это сделали германские народы, заселявшие территории вокруг Римской империи. Решение противоречий империи также было шагом вперед для их соседей. Тем не менее вопрос в том, почему арабы не приняли одну из религий их соседей, а создали собственную. Я не знаю ответа, как, полагаю, не знают его и другие исследователи. Но одной из возможных причин был недавний военный успех Мухаммеда в Медине. Позвольте мне разъяснить это. Доктринально ислам достаточно прост. Он содержит самое короткое кредо из известных религий: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — Его пророк. Повторение этого кредо делает человека мусульманином, хотя это должно дополняться четырьмя другими столпами ислама: религиозным налогом в пользу нуждающихся (закят), пятью ежедневными молитвами (намаз), постом во время месяца Рамадан (ураза) и ежегодным паломничеством в Мекку (хадж). На протяжении жизни Мухаммеда это кредо и столпы не выкристаллизовались. Самые первые отрывки Корана содержат пять убеждений: представление о божестве — всезнающем Боге, Последний День Суда, требование этического поведения, особенно по отношению к практике щедрости, а также убеждение, что Мухаммед был послан Богом, чтобы предупредить о Последнем Дне. На протяжении жизни Мухаммеда монотеизм стал эксплицитным и появилась уверенность, что Бог будет защищать своих пророков и последователей от их врагов. Это простое послание предполагало представление о сообществе—умме, основанной частично на вере как таковой, а не на родстве. Таким образом, любой человек мог вступить в это универсальное сообщество, как любой мог вступить в христианство. За два года это понятие о сообществе доказало свое превосходство над концептами сообществ разделенных племен в чрезвычайно важной сфере деятельности — в рукопашном бою между сотнями мужчин. Мухаммед предписывал «норму реципрокно-сти»: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в исламе) того же, чего желает самому себе». Нормативный консенсус был сознательно сконструирован. Военной морали (боевого духа) верующих было вполне достаточно, чтобы одержать верх в первых ключевых сражениях, обусловленных бандитской деятельностью. С самого начала ислам был и оставался религией воинов. Это, вероятно, помогает объяснить подчиненное положение женщин вопреки прочим аспектам эгалитарного универсализма в исламской доктрине. Со стороны раннего ислама, в отличие от раннего христианства, патриархат не встречал сопротивления, — он, вероятно, напротив, даже был религиозно усилен. Основным военным преимуществом ислама была мораль (боевой дух) его кавалерии — профессиональных воинов, материально поддерживаемых закятом, в среде которых стремление к добыче было священным и дисциплинированная жизнь предполагала военные учения. Мекка пала в 630 г., Сирия — в 636 г., Ирак — в 637 г., Месопотамия — в 641 г., Египет — в 642 г., Иран — в 651 г., Карфаген — в 698 г., индуизм, индийская религия, — в 711 г. и Испания — в 711 г. Во многих из этих побед исламские силы наносили поражение лучшим вооруженным армиям благодаря превосходству в координации и мобильности, а не посредством фанатичных недисциплинированных штурмов (что приписывали им христиане). Завоевания происходили на редкость быстро и в совершенно беспрецедентных масштабах. Вероятно, ислам стал одной из основных мировых сил, поскольку склонил на свою сторону баланс отношений военной власти. Ислам покорил те регионы, армии правителей которых не обладали столь же устойчивой моралью. Персидские армии были поликонфессиональными; моральный дух крупнейшей из религий (зороастризма) к этому времени уже был ослаблен; Византия занимала христианские области, слабо интегрированные в возникшее там ортодоксальное христианство, — земли сирийской, армянской и коптской церквей; Северная Африка была спорной территорией между христианскими церквами. Два финальных военных события (падение Константинополя в 718 г. и поражение от армии Карла Мартелла (Молота) в битве при Туре, также известная как битва при Пуатье, в 732 г.) установили пределы расширения ислама. С обеих сторон атаки мусульман столкнулись с противостоявшим им альтер эго: укрепленной моралью священнической восточной ортодоксальной церкви и аристократической доблестью и верой тяжеловооруженных конных рыцарей. Эти две военные и религиозные патовые ситуации продлились в течение семисот пятидесяти лет и практически тысячи лет соответственно. На протяжении этих веков Бог был на стороне ислама, который, казалось, занял весь Ближний Восток и Северную Африку, поскольку Мухаммед мог создать социальный порядок, смысловой космос через этическое сообщество, военная мораль (боевой дух) которого захватывала огромные территории. После двух проверок Византией и франками исламская империя развалилась на части и никогда уже не была вновь политически объединена. Большая часть этой великолепной военной морали (боевого духа) отныне уходила на борьбу друг с другом (хотя расширение на восток против более слабых соперников все еще было возможно) — те же условия, которые превалируют и по сей день. Параллели с христианством очевидны. Религиозные расколы также очень напоминали те, которые произошли в христианстве: вновь встал вопрос о том, как провести разделительную линию между духовным и мирским, а также существовал ли предельный источник иерархической власти в рамках веры? Последующий спор принял отличные от христианских формы, поскольку бюрократизация исламских религиозных властей всегда была слабее. Ислам никогда не обладал организацией, сравнимой с организациями римской или византийской церкви. Его более «авторитарное» крыло — шииты отстаивали правление харизматичных имамов, основанное на традиции Мухаммеда. А «либертарианское» крыло — сунниты настаивали на менее индивидуализированном (как в протестантизме) и более консенсусном сообществе верующих. Но, как и в христианских расколах, здесь никогда не вставал вопрос о какой-либо основной группе, происходившей от первоначальной религии. Сходство всех мировых религий в этом аспекте примечательно. Какими бы ни были могущество и ярость последующих исламских, христианских, буддистских, джайнистских или индусских сект, они не имели такого значения, как деятельность их основателей и первых последователей. Мировые религии оставались реальными ойкуменами. Почему ислам обращал свое послание не только к арабам, но практически ко всем народам, которые он завоевывал? Одна из причин — слабость соперников, другая — их собственная сила. Христианство на юго-востоке не смогло адаптировать свою доктрину и организацию для нужд этого региона, результатом чего стало возникновение отдельных организаций и доктрин армянской, сирийской и коптской церквей, зависевших от политических границ, которые, в свою очередь, ограничивали их жизнеспособность, поскольку Ближний Восток больше не был провинцией римского типа или разделенным на мелкие царства. Это не способствовало ни локально-племенным идентичностям, ни более широкому порядку и обществу. Ислам впервые обеспечил связи между этими двумя уровнями, обладая своего рода «федеральной» структурой. Его истоками и составными единицами были племена, а потому ислам был полноправным наследником авраамических религий. Тем не менее он также был универсальной религией спасения, в сообщество которой мог вступить любой. На ранних стадиях христианин или еврей, который вступал в сообщество, приобщался к определенному арабскому племени как «клиент». Но племенной элемент ослабевал по мере распространения религии. Ислам мог предложить бюрократам и купцам Персидской империи участие в обществе, достигшем более широкого социального порядка, чем тот, к которому стремилась персидская династия Сасанидов. Подобная федеральная структура была гибкой и нежесткой. Когда завоевания прекратились, устойчивость и живучесть исламского сообщества— уммы объяснялись не мирской организацией. Правители усилили контроль при помощи налогов и армий, но ислам пересекал их владения поперек. Те, кто был заинтересован в торговле, хотели приобщиться к религии, которая предоставляла невероятные области свободной торговли, но торговцы не управляли исламом. Контроль, как и в прочих мировых религиях, был отчасти идеологическим. Однако его механизмы были более сложными по сравнению с христианскими, поскольку его федеральная структура не включала авторитетную (централизованную, руководящую) церковную организацию. Тем не менее в других аспектах инфраструктуры контроля были сходными. Арабский стал общим языком и единственным проводником грамотности к концу VIII в. Ислам контролировал арабский язык и в более широком смысле контролировал обучение, которое в большинстве мусульманских стран оставалось под его монопольной властью вплоть до XX в. Перевод Корана с арабского оставался запрещенным, поскольку арабский текст рассматривался как речь Бога. Как и в христианстве, существовало определенное разделение между священными и светскими законами, но область, контролируемая священным законом — шариатом, была намного большей. В целом семейная жизнь, брак и наследование регулировались шариатом, контролировались учеными-священниками (улемами), которые были в большей степени восприимчивы к понятию общественного консенсуса, чем к диктату светских правителей. Ритуалы, по всей вероятности, создавали больше интеграции, чем христианские, — их было гораздо больше (пять ежедневных молитв плюс коллективный пост и паломничество), поэтому каждый мусульманин знал, что в определенный момент он должен будет молиться с миллионами других верующих. Таким образом, сообщество в более широком смысле обладало технической инфраструктурой языка, грамотности, образования, законов и ритуалов, непосредственными передатчиками которых были культура и семья. В диффузном и экстенсивном смысле культурного сообщества данная инфраструктура базировалась на монополии на грамотность, весьма высоком уровне интенсивного проникновения в повседневную жизнь, а также относительно слабой социальной космологии — смеси, которая не так уж сильно отличается от христианской.ИНДУИЗМ И КАСТЫ
Индия является родиной третьей мировой религии — индуизма и основной территорией четвертой — буддизма. Последнюю я собираюсь затронуть лишь мельком как ответвление индуизма, которое не смогло одержать верх над своим соперником в Индии. Дело в том, что индуизм породил касты (или наоборот) — экстраординарную форму социальной стратификации. Многие исследователи индийской кастовой системы рассматривают ее в качестве вершины власти «идеологии». Какова природа этой власти? Материалистическое представление о жесткости каст — «визитная карточка» таких теорий. Одни рассматривают касты как экстремальную версию классов (экономическое понятие), другие — как форму сословий (политическое и экономическое понятие), в то время как остальные концентрируются на роли каст как чрезвычайно эффективной форме легитимации материальных неравенств (также основной акцент от Вебера (Weber 1958). Как мы увидим, эти аргументы упускают сущностные характеристики каст. Недостатки традиционного материализма заставили других исследователей обратиться к традиционному идеализму и утверждению, что «идеи» управляли Индией. Так, представитель школы Дюркгейма Селестен Бугле утверждал: «В индийской цивилизации именно религиозные верования, а не экономические тенденции в первую очередь фиксируют ранг каждой группы». И вновь власть брахманов (высшей касты) является «всецело духовной» (Bougie 1971: 39, 54). Дюмон последовал этой же традиции. Он утверждал, что кастовая иерархия является принципиальной «не для ее материального, но для концептуального или символического единства… иерархия интегрирует общества путем отсылки к его ценностям»; касты — это «во-первых, и прежде всего… система идей и ценностей». Не удивительно, что Дюмон также одобрительно ссылался на Парсонса в том, что касается интегративной роли центральных ценностей (Dumont 1972: 54, 73, 301). Другие исследователи указывали на различные характеристики индийской мысли (озабоченность чистотой, классификацией, божественной гармонией) как на в конечном счете решающую причину развития каст (в качестве краткого обзора см. Sharma 1966: 15–16). Там, где заключения более осторожны, «идеи» в качестве детерминант каст по-прежнему приводятся наряду с «социальными/ материальными факторами», такими как племенные и расовые факторы, как, например, во влиятельных исследованиях Хаттона (Hutton 1946) и Хокарт (Hocart 195°) — Даже Карве (Karve 1968: 102–103), желавшая обнаружить особые механизмы и инфраструктуру взаимодействия каст, тем не менее перечисляет их как «факторы», близкие к «религиозной и философской системе индуизма». Она убеждена, что это был независимый источник легитимации существования низших и высших групп, а также космологии. На самом деле она посвящает отдельные главы философии и указанным механизмам. Дуализм идеализма против материализма трудно преодолеть. Тем не менее способ, которым я собираюсь это сделать, уже должен быть понятен по предыдущим примерам. Я утверждаю, что каста действительно является формой идеологической власти, обладающей существенной автономией от экономической, военной и политической власти. Но основывается она не на «идеях» в качестве независимых «факторов» социальной жизни, а скорее на специфических организационных технологиях, которые социальнопространственно трансцендентнъг. Однако позвольте мне признать, что реконструировать хотя бы очертания истории индуистских каст довольно сложно, поскольку они в идеологии своей неисторичные. Сакральные тексты индуизма рассматривают время как единый процесс, посредством которого мир постепенно вырождается. «Исторические события» фигурируют в тексте только в качестве иллюстраций к изначальной концептуальной схеме. Это отделяет индуизм от христианства и ислама, которые в первую очередь легитимируют себя по отношению к определенным историческим событиям, обладающим автономным статусом. Через их историю о всеобщем вырождении наши источники преувеличивают власть и стабильность индуистской религии. Нелегко понять, что на самом деле происходило, и еще труднее понять почему. В этой главе я описываю организационные технологии идеологической власти и путь их общего возникновения. Но я не могу объяснить общие причины их возникновения.СУЩНОСТЬ КАСТ
Термин «каста» происходит от португальского слова casta, означающего нечто чистое, несмешанное. Касты использовалось португальцами, а затем и другими иностранцами в Индии для обозначения формы стратификации, в рамках которой каждая каста была наследственным, обладавшим специализированной профессией, супружески эндогамным сообществом в иерархической системе, распределявшей не только власть в общем смысле, но и уважение и права в социальном взаимодействии, в основе которых лежало понятие чистоты. Каждая вышестоящая каста чище, чем нижестоящая, и каждая каста может быть загрязнена незаконным контактом с нижестоящей. Но такая общая категоризация является упрощением в двух смыслах. Во-первых, понятие касты объединяет две индийские категории: варны и джати. Варны представляют собой четыре древних ранга, расположенных по уменьшению чистоты: брахманы (священники), кшатрии (правители и воины), вайшьи (фермеры и купцы) и шудры (слуги). Пятая варна — неприкасаемые — была добавлена намного позднее. Варнъг обнаруживаются по всей Индии, хотя и с некоторыми региональными различиями. Джати по сути представляют местные племенные сообщества и в более общем смысле любое сообщество взаимодействия, воспроизводящее большинство кастоподобных характеристик. Отдельные джати могут быть в целом помещены в варновое ранжирование, но связь опосредуется третьим уровнем — хаотическим, регионально варьируемым умножением «подкаст», которые включают более двух тысяч конгломераций джати по всей Индии. Во-вторых, подобное описание предполагает слишком упорядоченные и взаимосвязанные наборы социальных структур. Это «субстантивистское» видение каст. Касты являются, как считают антропологи, сегментарной системой в такой же степени, в какой и иерархической: они объединяют вместе группы и виды деятельности, которые всего лишь различаются (то есть не превосходят одна другую), и в результате один и тот же человек может принадлежать к единицам различных порядков в разных контекстах. В этих различных контекстах кастоподобным является то, что они включают бинарные иерархии: тех, с кем можно было принимать пищу, находиться рядом или прикасаться, и тех, с кем нельзя этого делать; отдающих в жены и берущих в жены, младших агнатов против старших, даже подчинение арендаторов землевладельцами или политического субъекта правителями выражалось на подобном символическом языке. Поэтому касты — это не просто набор специфических структур, но и более общая и проникающая идеология. Касты означали акцент на иерархии, специализации и чистоте во всех проявлениях социальной стратификации. Такой подход также преувеличивает нормальные противоречия социальной стратификации, посредством которой каждый социальный слой был сам по себе сообществом, хотя и создающим в своей взаимозависимости с другой стратой второе сообщество на уровне общества в целом[100]. Различимы лишь самые общие контуры изначального происхождения каст. Между 1800 и 1200 гг. до н. э. группы арийцев вторглись в Индию с северо-запада. По всей видимости, они завоевали и разрушили древнюю цивилизацию долины реки Инд, хотя она к тому времени уже могла находиться в упадке (см. главу 4). После 800 г. до н. э. арийцы проникли на юг Индии и постепенно стали доминировать на всем субконтиненте и управлять его коренным населением, из которого лишь дравиды с юга Индии могут быть отчетливо идентифицированы в настоящее время. Доподлинно не известно, обладали ли коренные народы социальной структурой с кастоподобными элементами. Из последующей литературы арийцев — Ведов (дословно означающих «знание») мы узнаем, что арийцы ранневедической эпохи (около 1000 г. до н. э.) были конфедерацией племен, возглавляемой воинским классом наездников колесниц, который управлял мелкими, слабо связанными «федеральными» обществами. Они принесли в Индию глубокую вспашку земли быками. Их религия обладала сходствами с прочими религиями героической эпохи индоевропейцев, с мифами и сагами Скандинавии и гомеровской Греции. Жрецы, уже называвшиеся брахманами, играли важную роль в социальных ритуалах, но в профессиональном отношении не были наследственной группой. Они не обладали эксклюзивным контролем за центральным ритуалом жертвоприношения, поскольку правители и домовладельцы могли сами инициировать и руководить жертвоприношением. Большая часть воинов также не была профессиональной: высшие слои крестьянских домовладельцев обрабатывали землю и сражались. Ни о каком наследовании профессий или запрете на браки между разными слоями и разделении трапезы в первых частях Ригведы — самого раннего текста нет даже и намека. Но продолжавшаяся борьба с дравидами и прочими коренными народами, по всей вероятности, повлекла за собой три основных последствия. Первые два были более непосредственными: консолидация управления дравидами и возникновение более крупных государств, управляемых правителями с профессиональными воинами. Дравиды были использованы самым обычным после завоевания образом — приняты как прислужники, если не как рабы, их статус естественно кристаллизовался в четвертую варну — шудр. Они были более темнолицыми по сравнению с арийцами, что могло служить отчетливым индикатором расового фенотипа, который воспринимался властями как важный для всей кастовой системы. Шудры не относились к «дважды рожденным», то есть им с самого начала было отказано в участии в цикле перерождения. Поэтому стратификационный разрыв с ними был самым широким в ранней вар-новой системе. Но дифференциация среди самих арийских варн, вероятно, произошла до этого. То, что правители/воины выделились в отдельную профессиональную группу, — наследственный ранг кшатриев, не было чем-то необычным в подобных случаях. Завоевание привело к улучшению организации государства и улучшению координации военных действий, чему способствовало появление металлического оружия начиная с 1050 г. до н. э. Колесницы были заменены более разнообразными и координируемыми армиями пехоты и кавалерии, требовавшими профессиональных тренировок и управления. Рост дифференциации между военными правителями и арийскими крестьянскими собственниками — вайшьями (массами) в подобной ситуации был ожидаем. Например, эта дифференциация того же самого порядка, что и различение, сделанное поздними германскими варварами между свободной военной знатью и зависимыми крестьянами. Третье изменение было более сложным — возникновение варньг брахманов. Часть этого возникновения понять нетрудно. Рост крупных, иерархических царств требовал более обрядовых форм легитимации. Как и в архаических религиях, космология в меньшей степени затрагивала виталистических божеств, чем отношения между людьми, особенно отношения повиновения. Развитие частного жречества, таинств, в которых только жрецы могли принимать участие, также было частью этого общего перехода. Вторая группа текстов, известная как брахманские (составленные в X или IX в., а возможно, намного позже), отошла от Ригведы, касавшейся в основном практических проблем физического выживания, к более эзотерическим проблемам воздействия магических ритуалов на регуляцию социальных отношений и сохранение дхармы — божественного порядка. Жертвоприношение стало более важным, поскольку им руководили брахманы, а кшатрии и вайшьи могли просить их об этом. Этот контроль стал важным, поскольку жертвоприношения были частыми и по рутинным поводам, таким как зачатие, рождение, половое созревание, свадьбы, похороны и контракты, а также в утренние, полуденные, вечерние и нерегулярные моменты принятия решений. Жертвоприношения собирали сообщество вместе в ритуале (поскольку личного контакта избежать было нельзя, это было очевидно), объединяли празднества и акты перераспределения. Брахманы поэтому были внедрены в ритуалы судов, городов и даже повседневной сельской жизни. Как бы дальше ни развивались эзотерические теологические верования, этот интенсивный контроль — ритуалистический, а не теологический — сохранял ядро индуистского контроля. У нас не хватает исторических свидетельств, чтобы это объяснить, но одно не вызывает сомнений — мы можем наблюдать его последствия. Роль брахманов в ритуале жертвоприношения приводила к убеждению, что они выше богов, поскольку брахманы действительно утверждали вечный цикл смерти и перерождения. Возможно, это поздняя брахманская интерполяция, а если нет, это характерный для Индии поворот к теократии, которая была свойственна большей части Древнего мира. Царства не были священными. Царь должен был быть, и подчинение ему было частью смирения со священным законом космоса — дхармой. С точки зрения брахманов, дхарма должна истолковываться мудрецами и жрецами. Но это не было бесспорным, к тому же в некоторых текстах допускалось и превосходство кшатриев. Какими бы ни были их общие интересы, эти два сословия не объединились в единый правящий теократический класс, как это было в Шумере или Египте. Дифференциация усиливалась прежде всего с появлением подкаст в форме профессиональных гильдий. Браки между представителями различных каст еще не были запрещены, но уже являлись предметом беспокойства, а также клеймом на семье брахманов или кшатриев, которые заключали браки с представителями низших каст. Ограничения на совместный прием пищи существовали, но не на базе варн, а скорее на более диффузной базе, касавшейся родства и кровных уз. Загрязнение через прикосновение еще не было известно. Таким образом, на протяжении этого раннего периода прослеживались две важные индийские тенденции, которые еще не доминировали: во-первых, убеждение в том, что божественный порядок не ответствен за мирские власти; во-вторых, тенденция к умножению социальных различий, особенно внутри правящего класса, ведущая к росту притязаний на власть со стороны брахманской варнъг. Эти тенденции можно объяснить развитием общей трансцендентальной религиозной культуры, подобной тем, которые мы обнаруживаем в ранних цивилизациях в главах 3 и 4, а также способностью брахманов к присвоению идеологической власти. Однако, учитывая недостаток свидетельств, это могут быть лишь гипотезы. Арийский след распространился почти по всей территории Индии. Мы обнаруживаем практически один и тот же образ жизни (экономические, политические и военные формы, религиозные ритуалы и верования) по всей Индии, за исключением южных областей. Аборигены населяли большую часть субконтинента и использовались в качестве слуг, что добавляло сходства в социальных практиках и проблемах. Это культурное сходство было шире, чем сети взаимодействия экономических, политических или военных организаций. Поэтому социальный порядок с минимумом различий был шире, чем тот, который могла укрепить (контролировать) светская власть, что, как мы успели убедиться, в древние времена было широко распространенным явлением. Это была «трансцендентная власть». Понятия типа «дхармы» поэтому играли такую же идеологическую роль, что и шумерский дипломатический пантеон богов или культура Эллады, объединявшие такие местные авторитетные (централизованные, управляющие) организации власти, как поселение, племя или город-государство, в более широкие организации диффузной власти, выстроенные на основе культуры, религии и дипломатического и торгового регулирования. Очевидно, что индусская кастовая структура и догма, по сути, стали весьма своеобразными и характерными для Индии. Тем не менее в их организации проявлялась часть хорошо узнаваемого общего паттерна трансцендентальной идеологической власти исторических цивилизаций. Однако, как и во всех остальных случаях, известны два исторических исхода из этих двойственных связей: либо всеобщая культура фрагментируется и отдельное племя или локальность овладевает самой широкой культурой, либо (о чем сохранилось больше записей) политическая и военная консолидация создает более крупные светские аппараты управления, которые присваивают культурные функции (это видно на примере того, как аккадцы присвоили наследие месопотамской культуры, в главе 5). Первого в Индии не произошло (хотя в этом нельзя быть до конца уверенным), второе произошло лишь урывками (как мы увидим), в результате реализовался третий исход: брахманы присвоили себе культурные функции, не полагаясь в целом на государство, военное принуждение или экономическую власть, как прочие исторически известные движения власти. В этом, по моему предположению, и состоит уникальность Индии. К сожалению, в ходе объяснения необходимо опираться на догадки отчасти в силу неадекватности источников, а отчасти в силу отсутствия помощи со стороны исследователей. Преобладание западных ученых среди исследователей Индии было столь подавляющим, что даже большинство индийских исследователей настаивают на том, что индуизм не обладал никакой социальной организацией. Поскольку там никогда не было единой церкви, исследователи утверждают, что имела место лишь незначительная брахманская организация. В этом, как правило, и заключается причина их акцента на «идеях» в качестве социальных сил. Тем не менее к моменту наступления эпохи брахманизма уже возникла сплоченная организация величиной с Индию, которую контролировали исключительно брахманы в сфере образования. Ведические школы, основанные брахманскими сектами, существовали по всей стране. Образование объединяло смыслы и науку — преподавались религиозные гимны и ритуалы, язык, грамматика и арифметика. Они были учреждены для молодых брахманов, а также некоторых кшатрий и вайшьев, которых забирали из семьи для обучения в доме учителя-брахмана или в организованных школах. Образовательный процесс был отмечен инициациями. Мы не располагаем точными сведениями, но можем предположить, что в это время или чуть позже грамотность полностью оказалась под эксклюзивным контролем брахманов. Санскрит, проистекавший из ведических текстов, стал носителем грамотности намного позже (помимо проникновения арамейского на дальнем севере). Техническое знание было тесно связано с наукой, смыслами и ритуалами. Таким образом, брахманы не просто основывались на культурных традициях, они также инфраструктурно дублировали полезные знания и прогресс, объединяя их, предлагая нормативное регулирование, мир и легитимацию всякому, кто хотел растянуть в пространстве светские социальные взаимодействия, особенно политическим правителям и купцам. В этом случае, возможно, было бы неправильным подчеркивать конфликт между высшими варнами. Они правили и прогрессировали вместе. Политическая консолидация, экономическое расширение и культурное знание двигались вперед вместе в поздневедическую эпоху вплоть до 500 г. до н. э. Политически мы можем наблюдать консолидацию королевской власти, подкрепленной советниками-брахманами. Социально и экономически разрыв между этими двумя варнами и двумя нижними расширялся, они также совместно регулировали увеличение профессиональных гильдий и купеческих групп в форме подкаст. Они монополизировали закон, в который теперь были включены варны: ставка процента и взыскания варьировались в зависимости от варн (брахманы платили меньше остальных по своим долгам и за свои преступления). В рамках подобного единства правящего класса было установлено разделение функций между священными и светскими властями. Иногда брахманы правили лично, но чаще усиливалась автономная идеологическая роль брахманов как учителей, священников и советников правителей. В сфере образования их монополия была признанной и расширялась. Изучаемые предметы включали этику, астрономию, военное дело, науку о змеях и др. Обряды инициации происходили в возрасте восьми, одиннадцати или двенадцати лет в зависимости от касты. Название «Упанишады» (написаны в 1000-300 гг. до н. э.) означает «секретное знание». Наиболее часто в них повторялась фраза: «Тот, кто знает это», которая означала, что подобное знание дает власть над всем миром. Эти утверждения и апелляция были адресованы земным правителям — двум различным группам, которые конфронтировали друг с другом как союзники и в определенной степени как соперники. Они не были объединены одной кастовой системой. Хотя власть и общественное сознание жреческой варны, по всей вероятности, были намного большими, чем у сравнимых каст, последующие развитие было не обязательно обращено к кастам. В ходе последующих трех столетий начиная с 500 до 200 г. до н. э. мы можем наблюдать борьбу между альтернативными курсами социального развития. Только в конце этого периода власть брахманов и касты были закреплены. Перед брахманами возникли две угрозы. Первая проистекала из внутренних особенностей их традиции. Упанишады возвысили аскетизм иэзотерические поиски индивидуального знания над правильным исполнением социального ритуала как ключ к спасению. Отказ от мира был финальной целью таких устремлений. Тем временем социальная власть брахманов проистекала из ритуалов, подразумевавших «загрязняющие» контакты с мирянами. Это противоречие остается неразрешенным и по сей день (Keesterman 1971; Раггу 1980). Поэтому требовалось совсем немного, чтобы подтолкнуть этот теологический поиск подальше от жреческого контроля и жертвоприношений, вместе взятых. Подобные шаги были предприняты Махавирой — основателем секты джайнизма и Гаутама Будцой около 500 г. до н. э. Они сделали персональное спасение первичным. Спасение является результатом поиска просветления и этического поведения. Они оспорили партикуляризм каст, утверждая, что спасение равно открыто для всех, а также что человек становится брахманом в зависимости от поведения, а не от рождения. Достижение спасения осуществляется через этическое поведение, а не через ритуал. Буддизм особенно апеллировал к городским торговым группам, предлагая моральные, а не общинные рамки для жизни. И буддизм, и джайнизм отстаивали уход из мира через поиск, оставляли земное превосходство за кшатриями. Поэтому они были полезны для светских властей, от которых исходила вторая угроза власти брахманов. Экономическое и военное развитие создало более крупные территориальные государства, особенно во времена правления династии Нанда (354–324 гг. до н. э.), которым удалось собрать большие армии, чем предшественникам. При династии Маурь-ев (321–185 гг. до н. э.) возникла полноценная имперская власть. Император Ашока (около 272–231 гг. до н. э.) успешно покорил практически всю территорию Индии — единственный из коренных правителей, кому это удалось. Власть Маурьев распространялась при помощи больших армий (греческие и римские источники приводят цифры 400–600 тыс. человек, что маловероятно по логистическим причинам, которые были приведены в предшествующих главах). Предпринимались работы по централизованной ирригации, государственному освоению целинных земель, установлению системы мер и весов, таможенных сборов и акцизов, контроля за горным делом и металлургией, государственной монополии на товары первой необходимости, например соль. На идеологическом фронте были утверждены божественное происхождение и право на царство, а также осуществлена попытка освободить царство от оков кшатриев. Арт-хашастра, вероятно, была написана именно в это время, ее составителем считается Каутилья — главный советник первого императора династии Маурьев. Она также, вероятно, повысила статус царских указов и рационального закона (права) по отношению к закону священному. Династия Маурьев не использовала санскрит. Императоры, землевладельцы и горожане тяготели к буддизму и джайнизму, универсальные теологии которых лучше подходили формально рациональным требованиям имперского правления и городского рынка. Этот путь был отрыт для развития, будь то по христианскому типу — религия индивидуального спасения в символическом отношении с имперской властью или по китайскому — рационалистическая система верования, укрепляющая имперское и классовое правление. Ортодоксальная ведическая традиция ответила решительно. Ее теология, тяготевшая к монотеизму, тем не менее приняла различных Будд в обширный пантеон подчиненных божеств. Она также вернулась к ранним практикам принятия различных народных и племенных божеств. Синкретический ярлык «индуизма» конвенционально датируется этим периодом ассимиляции. Но реальный и основной организационный вопрос этой традиции заключался в локальных ритуалах и образовании. Греческий путешественник Мегасфен предоставляет нам первое детальное описание жизни брахманов в эпоху Маурьев (его описание подтверждается более поздними описаниями китайских путешественников). В течение первых тридцати семи лет жизни брахман был студентом-аскетом, который жил сначала с учителями, затем один и который непременно должен был сидеть в публичных местах, философствовать и давать советы всем, кто в них нуждался. Затем он возвращался в отчий дом, женился и жил в роскоши как домовладелец, руководя сельскими ритуалами. Из других источников мы узнаем, что грамотность была широко распространена среди брахманов, а санскрит был наконец стандартизирован Панини в IV в. до н. э. В возрасте пяти лет ученики начинали учить санскритский алфавит, письменность и арифметику. Образовательные курсы находились отныне на вершине образовательной системы, которая включала «дипломные исследования» в уединенных жилищах по таким предметам, как ведические исследования, ботаника, транспорт и военная служба. Буддизм и джайнизм заимствовали эти организации. Разгорелась битва. К 200 г. до н. э. брахманы одержали верх, а к 200 г.н. э. победа была полной. Тому в Индии было по меньшей мере две причины. Во-первых, имперская Индия разрушилась со смертью Ашока. Ни один из последующих индуистских правителей не осуществлял непосредственного контроля более чем над одним регионом субконтинента. Мы можем отчасти приписать это разрушение империи географической чистоте и простоте. Преобладание суши, а также гор и джунглей вдоль береговой линии и судоходных рек создавало огромные логистические препятствия авторитетному контролю из одного политического центра. Но, как мы скоро убедимся, возможно было диффузно охранять часть власти Маурьев без авторитетного государства. Империя пережила свою полезность. Во-вторых, брахманы удерживали контроль над локальным уровнем при помощи ритуальных функций, тогда как соперничавшие с ними в религиозном отношении более сложные теологии сразу же стали пользоваться меньшей привлекательностью среди интеллектуалов и горожан, как только их мирские патроны потеряли власть. Форма их триумфа подчеркнула их полноту, поскольку государство «добровольно» передало почти всю свою власть брахманам. Этот процесс обобщенно называют «феодализацией». Действительно в данном случае последствия распада империй были те же, что и в остальном мире. Поскольку имперское государство утратило возможность контролировать свои внутренние территории, оно передавало эффективный контроль провинциальной знати или имперским чиновниками, которые затем растворялись в провинциях, возрождаясь в виде независимой провинциальной знати. Этот процесс уже был описан на примере различных империй доминирования (особенно в главах 5, 9). Он начал проявляться непосредственно в постмаурьевской Индии и продолжался умеренными темпами первые пять столетий новой эры, а также оставался вплоть до мусульманского завоевания. Но в Индии имело место одно отличие — местный контроль был передан местным брахманам в той же мере, в какой и местным землевладельцам. Шарма (Sharma 1965) демонстрирует, что этот процесс стартовал в виде подарков (жалований) целинных земель группам брахманов (а иногда и буддистам), часто присоединявших к бенефициям соседние деревни, чтобы получить возделываемые земли. Это все еще была политика социального и экономического развития, которая теперь была децентрализована местными элитами. Брахманы обучали местных и переданных им крестьян использовать плуг и удобрения, инструктировали их относительно сезонов и климата. Эти технологии были в конечном итоге зафиксированы в тексте под названием Krsi-Paresa. Начиная со II в.н. э. сохранившиеся исторические свидетельства указывают, что обрабатываемые земли отдавались вместе с административными правами. Записи в целом сохранили подробности этих прав: царские солдаты и чиновники не должны ступать на землю, а определенные права на доход отбирались, до тех пор пока существуют Солнце и Луна. В конце эпохи правления Гуптской династии (V — начало VI в.н. э.) все доходы, трудовые повинности и принудительные полномочия, даже суд над ворами были отданы обратно храмам, а также брахманам. К первой половине VII в. при относительно могущественном правителе севера Харше уровень религиозного феодализма был огромным. Буддийский монастырь Наланда получал прибыль с 200 деревень, как, вероятно, и образовательный центр Валабхи. По поводу одного события накануне военной экспедиции Харша передал 100 деревней, площадь которых составляла 2,5 тыс. гектаров. Последующие правители отдавали по 1,4 тыс. деревень за один раз. Мы также находим подарки светским чиновниками. В период после 1000 г.н. э. центральная власть рушилась так быстро, что ситуация стала напоминать вассалитет, субфеодализацию и прочие характеристики европейского феодализма. Но до этого подавляющее большинство бенефиций было передано религиозным группам. Было также второе отличие от европейского феодализма: брахманы не брали на себя обязательства по военной службе или уплате земельного налога. Какие же обязательства они тогда на себя брали? Что получали правители в обмен на подарки? Ответ заключается в нормативном умиротворении и порядке. Брахманы и буддисты, а также прочие секты были могущественны и поддерживали закон и порядок в пожалованных им областях, используя авторитетную силу, опиравшуюся на более диффузные ритуальные организации. На самом деле существовало два подтипа подобных отношений. В примитивных областях брахманы интегрировали племенные народы в индуистскую социальную структуру. Они обучали сельскому хозяйству и грамотности, вводили племена в кастовую систему путем умножения подкаст и смешанных каст. В ходе этого они сами распространялись по всей территории Индии. В относительно цивилизованных оседлых областях они также приносили с собой полезные знания. Их язык стал языком государства гуптов. Вероятно, в конце III в.н. э. они впервые открыли упрощенную систему цифр, которая позже завоевала популярность в науках и торговле по всему миру под названием арабских цифр. Они подчеркивали обязанности варн, а также полное представление о развитых кастах. Между 200 г. до н. э. и 200 г.н. э. законы Ману достигли своей финальной священной формы. Они передавали предписания творца Вселенной первому человеку и царю — Ману, объясняли кастовый статус как следствие кармы, накопленной в ходе предшествовавших реинкарнаций. Важнейшей обязанностью было исполнение дхармы «правила жизни — путь, которому необходимо следовать» вне зависимости от позиции, занимаемой человеком от рождения. Умереть, не испытывая ни тоски, ни желаний, было реализацией брахманской вечной истины. Каково бы ни было содержание законов Ману, они были священными. Усиленные последующими сводами законов Дхармаша-стрьг, законы Ману предполагали, что кастовое общество было концептуально связанной структурой. Хотя на самом деле, если исследовать их как доктрину, в них много непоследовательностей и противоречий. Но они подчеркивали правильное исполнение ритуалов под руководством брахмана как ключ к дхарме. Инфраструктурная власть брахманов над деревней или более широкое нормативное умиротворение могли использовать это на практике. Местные собрания, панчаяты, стали в меньшей степени представлять деревню или город и в большей степени-касты и подкасты. Светское право было девальвировано в теории и на практике. Ману описывали царя как поборника каст, а не как независимого источника права. Брахманские законы теперь интенсивно проникали в социальную жизнь и распространились по всей Индии, очерчивая контуры семьи, рабочего места, торговой гильдии, отношений капитала и труда, а также объединяя воедино закон с предписаниями относительно чистоты и загрязнения. Светская роль санскрита снизилась, поскольку появилась возможность под надзором брахманов переводить с одних региональных языков на другие, но его сакральный статус как реальной речи богов был усилен. Отныне касты находились в «клетке», которую было нелегко открыть. Их сакральные тексты предлагали только основные ресурсы научного, технического, юридического и социального знания; обеспечивали порядок, без которого социальная жизнь стала бы регрессировать; объясняли происхождение общества; придавали ритуальное значение повседневной жизни и жизненному циклу; представляли космологию. Нельзя было отбирать и выбирать среди этих элементов, поскольку жизнеспособные альтернативы в конечном счете исчезали. Сконцентрируемся на социальном порядке. Китайские путешественники в Индию времен государства гуптов были поражены миром и порядком, царившими в ней, которые, как они полагали, не зависели от полицейского контроля, уголовного судопроизводства, налогообложения или принудительного труда. «Каждый придерживался своей унаследованной профессии и заботился о своей вотчине», — писал в VII в. Сюань-Цзан[101]. Этот порядок действительно не был результатом принуждения, а носил исключительно локальный характер. Отклонение от послушания сеяло нечестивость, зло и остракизм. Наивысшим наказанием было исключение из социальной жизни. Организация, которая поддерживала этот порядок, не имела центра, но охватывала всю Индию. Поэтому мы должны отвергнуть представление о самодостаточных деревенских сообществах, которое часто преобладает в исследованиях индийских каст. Подобные исследования подчеркивают самодостаточность деревни. Они утверждают, что единственное, на что были способны отношения между локальностями, учитывая относительную слабость политических государств, — это формирование «маленьких царств» социальных отношений, а также что умножение подкаст и преобладание джати над варками были результатом фрагментации политической власти (Jackson 1907; Srinivas 1957: 529» Cohn 1959; Dumont 1972: 196–211). Тем не менее исследования не могут объяснить единообразия индийской культуры и ритуалов, сохранение мира и порядка в условиях отсутствия могущественных государств, регуляции при помощи каст этичности и разделения труда. Как полемично утверждали Дюмон и Покок в работе «К социологии Индии», Индия представляет собой общество, оформленное его «традиционно высокой санскритской цивилизацией» (Dumont and Pocock 1957: 9). Доказательства можно найти на различных уровнях. На локальном уровне это продемонстрировал современный историк Миллер (Miller 1945) в своем исследовании побережья Кералы. Низшие касты имеют социальные отношения за пределами своих каст только в рамках своих деревень, а внутри касты — только с сельскими жителями, объединенными в местное вождество. Главенствующие касты обладают более широкими социальными отношениями, но все еще ограниченными территорией сюзеренного вождя, которого они признают; таких в Керале было всего три. Лишь брахманы путешествуют свободно и взаимодействуют по всей Керале. Таким образом, брахманы могли организационно обойти любые угрозы власти. На «национальном» уровне между брахманами наблюдается больше культурного сходства, чем между другими группами. Сарасвати подтверждает традиционное разделение многих культурных особенностей на северные и южные зоны, но затем он утверждает, что в большинстве аспектов культурной деятельности существовало сущностное единство между этими зонами. Он заключает: Брахманская культура более гомогенна, чем это проявляется физически, лингвистически и даже социально. Брахманов объединяют традиции Бедов, философия Упанишад, мифы и легенды, паломничество и ритуальные практики, влияющие на их жизненный путь в целом; они составляют суть их традиций, которые делают их культурно едиными и различными [Saraswati 1977: 214]. Гари (Ghurye 1961:180) отстаивает сходный тезис: «Наследственное и обычное право брахманов выступать в роли жрецов для всех каст индуизма с незначительными исключениями было унифицированным и общим принципом, присущим кастовому обществу на протяжении всех его исторических перипетий». Как отмечает Сарасвати, естественно, что оно должно было быть организованным. Священные тексты не повторялись бесконечно вслух и не искажались по большей части неграмотными местными жрецами, музыканты не сочиняли одни и те же мелодии и каденции, архитекторы не возводили похожие храмы, семейные практики заключения смешанных браков не подгонялись под образец только лишь благодаря «спонтанному культурному сходству» в течение по меньшей мере тысячи лет. Со времен Ману мы также можем проследить постепенную организацию джати в варны, сокращение альтернативных возможностей для браков в брахманских текстах и сводах законов, стандартизацию ритуалов и дарения подарков, использование мантр, которые могли произносить только жрецы-брахманы, а также развитие касты панчаят. Я не утверждаю, что эта интеграция расширилась вплоть до идентичности веры, или по всей Индии среди брахманов, или у всех каст, как, вероятно, предполагают Дюмон и Покок (Dumont and Pocock 1957) — Подобная идеалистическая позиция опровергалась авторами, демонстрировавшими интеллектуальную непоследовательность по отношению к священным текстам, а также ограниченное понимание и интерес к доктрине, выражавшиеся сельскими жителями, а также жрецами (например, Раггу 1984). Индуизм является не столько религией доктринальной мобилизации, сколько религией ритуального проникновения. Ритуал находится в центре брахманской организации, а потому, в свою очередь, и в индийской социальной интеграции. Интеграция этой формы также, по всей видимости, внесла свой вклад во всеобщую социальную стагнацию. Грамотность была сильно ограничена по своему функционалу и распространению. Касты также, вероятно, способствовали экономической стагнации, хотя это утверждение довольно противоречиво и может быть преувеличением. Будучи децентрализованными, касты не могли заменить имперских инфраструктур, поэтому ирригационная система стала локализованной, чеканка монет значительно сдерживалась в течение многих веков, торговля на большие расстояния угасала. Под местной властью брахманов происходило возвращение к локально-деревенской экономике, которая была отчасти облегчена последующим развитием более крупных храмовых экономик. Но, будучи иерархическими, они не способствовали проявлению индивидуальной рациональности и предприимчивости. В экономическом смысле Индия, возможно, унаследовала наихудшее из обоих миров: ни универсальной рациональности имперского государства, ни индивидуальной рациональности религий спасения. В политическом и военном отношении децентрализованная Индия была плохо оснащена для борьбы против иностранных угроз и впоследствии подверглась нападениям исламских и христианских завоевателей. Однако на локальном уровне касты были неискоренимы, поскольку не обладали центром, который мог быть захвачен иностранцами или восставшими крестьянами. Как писал Карве (Karve 1968: 125), их слабость была их силой. Пассивная выносливость и сопротивление были их силой. Ганди был последним, кому удалось воспользоваться этой стратегией в политике. В общем имеет место определенное недоумение относительно системы, которая справлялась с социальной взаимозависимостью путем сокращения прямой реципрокности. Как отмечает Дюмонд, касты не знали принципа комплементарности: я похороню твоего покойника, а ты — моего. Напротив, они разработали специализацию функции похорон покойников, которую могли выполнять только наименее «чистые» (Dumont 1972: 86). Это радикально устроенное и окостеневшее разделение труда было усугублено физическим избеганием соприсутствия тех, кто служил, и тех, кому служили. Все эти препоны шли рядом с преимуществами каст. Власть каст обеспечивала определенную степень порядка, но при меньшем социальном развитии. Кастовая «клетка» продолжала доминировать в Индии вплоть до XX в. Затем она стала меняться и, вероятно, ослабевать под воздействием британского империализма, промышленного развития, политического национализма и светского образования. До этого брахманам удавалось легко регулировать социальную дифференциацию. В отличие от европейцев экономические функции, различия между завоевателями и завоеванными, а также межэтнические и межплеменные отношения переконвертировались фантастической разработкой каст и подкаст. Но брахманы, без сомнения, продолжали сохранять контроль. Имея дело с последующими экономическими, политическими и военными отношениями, они оставались податливыми и оппортунистическими. Каста неприкасаемых была введена как способ для входа в систему подчиненных аутсайдеров, тогда как завоевателей или тех, кому каким-либо образом удавалось обзавестись землей или другими экономическими ресурсами, на практике помещали на более высокие уровни. А умножение подкаст означало, что центральное авторитетное управление системой было невозможно (как и любая политическая деятельность в целом, что продемонстрировала британская перепись). Ограничения кастовой иерархии означали ограничения власти брахманов по отношению к другим группам. Брахманы преуспели в возвышении над правителями и богачами в терминах чистоты и морального достоинства. Лишь иностранные захватчики, исламисты и христиане были выше их. Весьма уникальным для Индии является то, что этически превосходящими должны быть именно те, кто, по общему убеждению, обладал святостью и чистотой, а не экономической, военной или политической властью. «А не» в данном случае весьма уместно, поскольку брахманы, хотя и были склонны к тому, чтобы стать более состоятельными и хорошо вооруженными, продолжали держать светскую власть на расстоянии вытянутой руки. Внутри этой касты самым высоким статусом были наделены те, кто уходил от мира, учителя, священники (частично «загрязненные» службой на благо других каст), чиновники и землевладельцы. Внешне те, кто мог собрать наибольшую народную поддержку, часто были святыми, аскетичными людьми, напоминавшими Ганди. Но это было ограниченное господство. Кастовая система стала могущественнее прочих источников власти не путем их инкорпорирования. Скорее она демонстрировала к ним определенную степень равнодушия. Брахманская религия возвысила духовную, вечную, неизменную, чистую истину-дхарму. До тех пор пока ее почитали, секулярное общество могло в большей или меньшей степени делать все, что ему заблагорассудится. С циничной материалистической точки зрения это может выглядеть как конспирация разделения властей между светскими и священными элитами. В определенной степени так оно и было. Но это также обесценивает конечную значимость секулярных ресурсов и перенаправляет потенциальные материальные ресурсы и ресурсы человеческих обязательств по направлению к священному. Важно понять, что с ведических времен теократические тенденции не встречали в Индии никаких препятствий, но могущественные религиозные лидеры не собирались покорять государство или классы землевладельцев, они хотели лишь держаться на определенном расстоянии от них. Это имело парадоксальные последствия: хотя брахманы и были тесно вплетены в повседневную социальную «секулярную» жизнь, они были консервативными и с точки зрения материального и социального развития регрессивными. Они перераспределяли и потребляли большую часть излишков и практически не стремились их реинвестировать, помогали распределять политические обязанности государств, но не боролись за то, чтобы повлиять на цели государства. Общество Индии было глубоко двойственным и противоречивым, священное противостояло и подрывало достижения светского. Можно сказать, что индуизм демонстрирует апофеоз социальной власти, которая может быть достигнута религией спасения. В конце концов искреннее отрицание мира в пользу спасения приводит к быстрому коллапсу социальной жизни. Таким образом, реальное покорение и инкорпорация экономической, военной и политической власти религией спасения уничтожат общество. Не вызывающие сомнений достижения христианства и ислама были на самом деле отступлениями от идеологической власти, поскольку их институты принимали отчетливо мирской характер. Индуизм обладал намного более внушительным долгосрочным влиянием на индийское общество, чтобы отказаться от стратегии его полного покорения. После всего сказанного едва ли нужно повторять, что касты не могут быть сведены к экономическим факторам или классам. Они не были всего лишь или по сути легитимацией интересов господствующих экономических, политических и военных групп, поскольку ограничивали свою власть по отношению к брахманам, их свободу действия, а также сокращали доступные им ресурсы власти. Это верно в качестве исторического тезиса, а также в сравнительной перспективе, если противопоставить Индию другим доиндустриальным цивилизациям. Касты не реорганизовывали ход экономических, политических и военных событий в Индии. Они помогали структурировать социальную стратификацию Индии. Они действительно представляли собой господство идеологических отношений власти в стране. Но эта система не была в большей мере системой идей, чем системой классов или политическим государством. Как и всем формам социальной организации, им было необходимо взаимопроникновение идей и практик, инфраструктура трансцендентного типа. Мы видели, что индуизм создал форму умиротворения и поддержания порядка, которая стала своего рода религиозным феодализмом — охраной порядка без центрального государства, как это делал военный феодализм, но с гораздо меньшей опорой на класс воинов. Власть индуизма основывалась на инфраструктурных факторах, возникновение которых мы наблюдали на протяжении всей истории Индии: 1) большее, чем в любой другой мировой религии интенсивное проникновение ритуалов в повседневную жизнь; 2) практически монопольное обладание социально полезным знанием, особенно грамотностью и образовательными организациями; 3) установление законов сначала на конкурентной основе с государствами, затем в положении, близком к монопольному законодателю; 4) экстенсивная, охватывавшая всю Индию организация жреческой касты — брахманов как противостоящая более локальным отношениям других групп, включая даже политических правителей; 5) возможность посредством указанных выше факторов регулировать межэтнические отношения и разделение труда через кастовую организацию. Власть индуизма была сопоставимой с властью христианства и ислама в способности создавать трансцендентную социальную идентичность, независимую от военных, политических или экономических отношений. Но индуизм в большей степени по сравнению с остальными религиями был способен к усилению этой идентичности при помощи более развитой трансцендентной организации. Каста больше походила на ойкумену и в меньшей степени — на светскую власть. В этом отношении индуистская ойкумена обнаруживала более сложные и прочные связи между индивидуальной и наиболее общей социальной реальностью. Поэтому если бы мы прошлись с анкетой и магнитофоном по городам доколониальной Индии, то обнаружили бы определенную степень ценностного консенсуса в тех основных областях, которые вызывают меньше всего согласия в других случаях социальной стратификации. Моральное принятие иерархии было, как утверждает Дюмон, интегральной частью каст. Естественно, это принятие (как и везде) было частичным, противоречивым и дискуссионным. Но в Индии противоречия и борьба вращались не только вокруг тенденции низших групп рассматривать себя в качестве фактически наихудших. Здесь в отличие от всех прочих случаев это самосознание низших групп также включало с их стороны допущение, согласно которому они в определенной степени нечисты и даже злы. Это поразительно не только для жителей «запада» (как это часто отмечали) — во всем мире практически не найти аналогов этому. Таким образом, индуистская ойкумена обладала парадоксальной формой: она была объединена благодаря дифференциации и на материальном, и на моральном уровне. Но, возможно, нам не следует называть индуизм ойкуменой, поскольку он был склонен отрицать братство и сестринство в этой жизни (которая создала выражавшую боль индуистскую литературу, отрицавшую это). Кастовая система — это перевернутая ойкумена и умма, феномен того же порядка, но совершенно противоположный им. Кастовая система обеспечивала отчетливую связь между двумя типами власти: коллективной и дистрибутивной, власти, которая была способна не только на коллективную мобилизацию, но и на авторитетную стратификацию. Касты — это форма не экономической (классовой) стратификации, не политической (сословной) стратификации, а стратификации, основанной на характерной форме трансцендентальной организации. Это то, чего индуизм достиг сверх и помимо общих ойкуменических достижений мировых религий. Таким образом, космология использовалась, чтобы придать значение тому, что «имело смысл». Это была правдоподобная система верований, поскольку она вела к результатам. Ее правильность являлась доказанной фактом существования порядка и уровнем общего социального прогресса. Индуистская кастовая система не предполагала, что индусам присуща одержимость классификацией, чистотой или концептуальными схемами или ценностями. Скорее ее отдельные организации власти обеспечивали стратификацию реальных человеческих потребностей в необычной социальной ситуации, но поддающейся анализу при помощи концептуального аппарата социологии. И они удовлетворяли эти потребности до тех пор, пока не столкнулись с тем, что, как представляется, стало со временем более могущественными ресурсами власти: промышленно капиталистическим способом производства и национальным государством.ДОСТИЖЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВАМ 10 И 11
В этой и предшествующей главах я рассматривал несколько систем верований, которые вышли на передний план в период с 600 г. до н. э. до 700 г. н. э.: зороастризм, греческую гуманистическую философию, индуизм, буддизм, конфуцианство, иудаизм, христианство и ислам. Им удалось выйти на передний план в силу одной критически важной общей характеристики: транслокального ощущения индивидуальной и социальной идентичности, которое обеспечило экстенсивную и интенсивную мобилизацию до уровня, достаточного, чтобы войти в исторические записи. В этом отношении они все были «путеукладчиками» истории и все были новыми. Даже те из них, которые в большей степени были связаны с локальностью (индуизм с его локализованными джати, ислам с его трайбализмом) и больше всего ограничены в терминах класса или этноса (зороастризм, конфуцианство и, возможно, иудаизм), тем не менее предложили более экстенсивное и универсальное членство, чем все прежние социальные организации. Это было первым великим реорганизационным достижением движений идеологической власти этого периода. У этого достижения было две предпосылки или причины. Во-первых, оно базировалось на предшествовавших экстенсивных достижениях отношений экономической, политической и военной власти. В частности, оно зависело от коммуникаций и систем контроля, протянувшихся вдоль торговых сетей древних способов производства, коммуникационных идеологий господствующего класса, структур военного умиротворения, а также государственных институтов. Системы верования — это послания, и без коммуникационных инфраструктур они не могут стать экстенсивными. Инфраструктуры достигли наибольшего развития в поздних архаичных империях доминирования. Но чем успешнее были империи в развитии подобных инфраструктур, тем более очевидным был рост социальных противоречий. Я довольно подробно обозначил пять основных противоречий в главе 10, а именно: универсализм vs. партикуляризм, равенство vs. иерархия, децентрализация vs. централизация, космополитизм vs. единообразие, цивилизация vs. варварство за ее границами. Империи «непреднамеренно» способствовали развитию первых из указанных парных качеств социальных отношений, тем не менее официальные имперские структуры были институционально нацелены на достижение вторых (в случае последнего противоречия империи стремились сдерживать заграничных варваров в этом качестве, а не цивилизо-вывать их). Поэтому возникали неофициальные группы в качестве основных носителей универсальных, эгалитарных, децентрализованных, космополитических и несущих цивилизацию практик и ценностей. Они развили интерстициальные сети социального взаимодействия, коммуникации в зазорах (порах, разрывах, трещинах) внутри империй и (в меньшей степени) за границами империй. В центре этих сетей была торговля, которую, как мы убедились, стимулировали успехи империй, хотя она все больше выходила из-под официального контроля. Во-вторых, эти интерстициальные группы полагались и, в свою очередь, поощряли то, что впоследствии стало специальной идеологической инфраструктурой, — грамотность. Экстенсивное дискурсивное сообщение изменяло свою форму и значение, пока оно путешествовало на большие расстояния, если его изначальная форма не могла быть сохранена. До упрощения письма и письменных материалов в начале первого тысячелетия до новой эры дискурсивные послания не могли быть с легкостью стабилизированы. Бесписьменные религии, отмечает Гуди (Goody 1968: 2–3), как правило, были нестабильными и эклектичными. Но постепенно письменность развилась до такого уровня, на котором единая ортодоксальная система верования могла полагаться на своего рода двухступенчатый процесс передачи, который мы обнаружили в Римской империи (и который был детально рассмотрен в главе 10). Письменные сообщения можно было передавать между ключевыми индивидами каждой локальности, а они уже транслировали их ниже при помощи устных средств. Это и была двухступенчатая инфраструктура грамотности, поддерживавшая распространение идеологической власти, которая теперь полностью вышла на сцену истории. Современному читателю эти коммуникационные системы могут показаться не такими впечатляющими. В частности, грамотность по-прежнему оставалась очень низкой по современным меркам. Но тогда от нее и не требовалось решения слишком сложных задач. Передача посланий, вокруг которых эти философии и религии выстраивались, была простой задачей. Они затрагивали три основные сферы опыта. Первую сферу составляли «фундаментальные вопросы существования»: смысл жизни, происхождение и природа космоса, проблемы рождения и смерти. Философия и теология склонны создавать все более сложные ответы на эти вопросы. Но сами вопросы оставались и до сих пор остаются простыми и понятными для всех без исключения людей. Второй сферой опыта была межличностная этика — нормы и мораль. Вопрос, как быть хорошим человеком, также является непреходящим, простым и тем не менее, вероятно, безответным в социальных отношениях. Третья сфера касалась вопросов семьи и жизненного цикла, фактически уже упомянутых первых двух наборов проблем, но только на этот раз применительно к наиболее близкой социальной группе, в которой происходят рождение, брак, отношения между тремя поколениями и смерть. Практически все люди сталкиваются с тремя типами проблем более или менее сходным образом, так как они составляют универсальные аспекты человеческого существования, являются универсальными с самого возникновения общества. Но рассматриваемый в этих главах исторический период был первым, в рамках которого сходный опыт мог быть экстенсивно, стабильно и диффузно обсужден. Где бы ни были созданы коммуникационные технологии, идеологии процветали, являя собой экстраординарную вспышку человеческого сознания и коллективных возможностей. Индивидуальная и социальная идентичности стали значительно более экстенсивными и диффузными, потенциально универсальными — второе великое достижение идеологической власти в качестве исторического «путеукладчика». Большая часть систем верования несла эту коммуникационную связь с универсальной истиной через все гендеры, классы и даже через государственные границы или промежутки внутри них, через их неофициальные коммуникационные структуры. Они были трансцендентными по отношению к другим организациям власти. Однако с этого момента мы с необходимостью должны осуществить отсев, для начала исключив из обсуждения зороастризм и конфуцианство. Они прежде всего расширяли сознание и коллективные возможности персидских мужчин знатного происхождения и китайских джентри, но практически никак не способствовали в этом другим группам. Это был существенный компромисс с социальным партикуляризмом, пример имманентной идеологии, прежде всего стимулирующей мораль и солидарность существующего правящего класса или этнического сообщества. В случае остальных религий их системы верований давали существенный стимул трансцендентному обмену сообщениями и через него новые возможности контроля представителям всех иерархических уровней, гендеров, этносов поверх государственных границ. Наиболее общий эффект заключался в том, что различные классы или «народы» получили общую идентичность. Это также было глубоким изменением, поскольку потенциально оно могло вести к мобилизации масс. До сих пор в предшествовавших главах я утверждал, что общества были решительно федеральными. Власть разделялась между различными иерархически и регионально координируемыми уровнями. Массы, как правило, не имели доступа к наивысшим, наиболее централизованным уровням власти. Верования масс не подходили для того, чтобы использовать макросоциальную власть. Отныне массы и центры власти можно было идеологически связать. Эта связь приобретала различные формы — от демократии до авторитаризма, но отныне верования масс лучше подходили для использования власти. Это было третьим великим достижением идеологической власти в качестве исторического «путеукладчика». Продолжим процесс отсева. В еще одном случае — греческого гуманизма последствием народной системы верований стали усиление и легитимация существующих структур власти относительно демократической и федеральной мультигосудар-ственной цивилизации полисов. Но во всех остальных примерах народная система верований была опосредованно подрывной. Дело в том, что она содержала конечные знания, значения и смыслы, находившиеся за пределом традиционных источников экономической, политической и военной власти — в реальности, которая рассматривалась как трансцендентная. Иными словами, эти случаи были «религиозными», затрагивавшими якобы и в первую очередь «духовную» «священную» реальность, оставлявшими «материальную» и «светскую» власть мирским нерелигиозным правителям. Все они были двойственными в философском отношении. Религии, которые намеревались разрушить светскую власть, делали это особым, «духовным» образом. Они укрепляли институты специфической идеологической власти. Это было четвертым великим достижением идеологической власти в качестве исторического «путеукладчика». Здесь следует остановиться, поскольку уже упомянутые достижения привнесли революцию в социально-властные организации. Системы верования, а именно религии, никогда не играли столь масштабной роли на протяжении исторического процесса. В предшествовавших главах степень и форма автономии идеологической власти существенно различались. Разумеется, я не могу оправдать подобных переключений в терминах предположительно врожденных качеств людей или обществ, которые по большей части фигурируют в дебатах между материализмом и идеализмом, то есть общих отношений между «идеями» и «материальной реальностью» или «материальным действием». В томе 3 я буду в целом отстаивать тезис о том, что подобные дебаты бесполезны в социальной теории. Но здесь мы можем отметить, что тщательное исследование исторических свидетельств демонстрирует даже лучшее объяснение. В любой исторический период существует множество точек соприкосновения между людьми, которых не получается организовать при помощи существующих структур власти. Если эти точки становятся более значимыми для социальной жизни, они создают общие социальные проблемы, требующие организационных решений. Одно практическое решение становится особенно вероятным, если существующие структуры власти теряют способность контролировать возникающие силы. Это концепция «трансцендентной», божественной власти, к которой призывают возникающие контрэлиты. В случае первых цивилизаций, проанализированных в главах 3 и 4, она возникает как основная интегрирующая сила в региональных цивилизациях. Но ее сила должна быть относительно небольшой, учитывая инфраструктуры того времени, которые были ограничены базовым уровнем общности: диффузной цивилизационной идентичностью и нормами, достаточными для того, чтобы доверять иностранным торговцам и укреплять мультигосударственную дипломатию. Степень интенсивного проникновения власти первых великих идеологий была ограниченной. На протяжении двух первых тысячелетий истории человечества существовало считаное количество инфраструктур, позволявших обмениваться идеями на больших социальных пространствах. Вплоть до времен Ассирийской и Персидской империй даже правящие классы не могли обмениваться идеями и обычаями своих народов на больших расстояниях. Основными инфраструктурными базисами для объединения экстенсивной и интенсивной власти были военные и экономические структуры «принудительной кооперации», политические федерации городов-государств, племена, региональные элиты, которые иногда существовали в рамках слабо организованных, преимущественно устных региональных цивилизаций. Однако постепенно сформировались два условия для более экстенсивной и интенсивной автономной идеологической власти: (1) развитие экстенсивных сетей социального взаимодействия, которые были интерстициальными по отношению к официальным сетям власти и (2) двухступенчатая структура письменной коммуникации на местном уровне в основе этих сетей. Постепенно более крупные и диффузные массы людей становились частью интерстициальных сетей. Они находились в новой, но общей социальной ситуации, значение которой традиционные верования и ритуалы уже существующих местных или экстенсивных официальных структур дать не могли. Люди, умевшие четко выражать свои мысли, могли сформулировать новые объяснения и смыслы их места в космосе. Поскольку эти смыслы нельзя было заключить в «клетку» локальных или официальных традиций, они были интерстициальными по отношению к ним, то есть трансцендентными в социальном отношении. Вера в трансцендентную божественность, которая обращалась напрямую к верующему, была воображаемым выражением ихинтерстициальной социальной позиции. Поскольку и официальные структуры империи, и их интерстициальные торговые сети поощряли индивидуальную рациональность, в их религиях был постоянный уклон к рациональному монотеизму. Таким образом, интерстициальная социальная ситуация выражалась в виде религии спасения и сообщалась через частичную грамотность движениям религий книги. Это узнаваемо «материалистическое» объяснение (давать его — не значит ограничиваться экономическими факторами). То есть социальная ситуация создает систему верования, которая по большей части отражает ее характеристики в воображаемой форме. Но, поскольку подобные и происходившие от них группы были интерстициальными, возникавшие в результате их деятельности возможности социальной реорганизации были новыми и автономными. Их способность к прокладыванию новых исторических путей была усилена нормативными обязательствами, то есть идеологией как моралью, которая была достигнута путем религиозных обсуждений. Христианство могло противостоять гонениям, исламские воины могли наносить поражение своим предположительно безжалостным врагам. Они создали новые «общества» в противовес тем, которые уже были установлены традиционными смесями отношений власти. В некоторых случаях они преодолевали или выживали традиционные сети. В этом смысле войны идеологической власти данного периода были трансцендентными. Но, существуя в посюстороннем мире, они были вынуждены иметь дело с традиционными организациями власти с помощью трех основных способов. Во-первых, так называемая духовная реальность основывалась на определенной социальной сфере жизни индивидов, их этапе жизненного цикла, а также их межличностных или семейных отношениях. По своей форме это была чрезвычайно интенсивная власть, основанная на непосредственном жизненном опыте тесно связанных групп. Возможно, это была самая интенсивная форма власти, которая до настоящего момента воспроизводилась в больших социальных сетях. Однако эта духовная реальность и любая народная мобилизация, следующая за ней, могли быть только агрегациями локальностей, сходных, но без органических связей. Подобная сфера в одиночку не могла поддерживать высокий и экстенсивный уровень социальной мобилизации. По этой причине она во многом зависела от других организаций власти. Возвратимся к аргументу, который я выдвинул в главе 1: в экстенсивных обществах семейные структуры не являются критически важной частью макросоциальных установлений власти. Эта зависимость от семьи ограничивала экстенсивный размах и автономию идеологической власти. Во-вторых, эта сфера жизни не была на самом деле исключительно «духовной». Как и вся социальная жизнь, она смешивала духовное/материальное, священную/светскую реальности, например решения, которые необходимо было принять о корректном этическом поведении, корректном ритуале для рождения или брака или о природе смерти и загробной жизни. Они включали власть, создание органов, принимавших решения, для согласия и осуществления решений, а также наказания для непокорных. Таким образом, экстенсивная власть могла быть стабилизирована. В этом смысле религии не были настолько трансцендентными по отношению к существующим с ними организациям власти, институционализация священного, рутини-зация харизмы по Веберу — это второе ограничение автономии идеологической власти. В-третьих, социальная сфера, на которой были сосредоточены религии, предполагала существование других структур власти, в частности их коммуникационных инфраструктур. Религиям приходилось иметь дело с ними, а также использовать возможности предшествовавших структур макровласти. Тот способ, которым устанавливался конкретный баланс власти между достижениями и обозначенными мною ограничениями, существенно различался для различных религий. Одной крайностью было достижение всеподчинявшей, практически монопольной власти над регуляцией ключевых социальных сфер, особенно семьей и жизненным циклом. На самом деле религии во многом сохраняют эту власть и по сей день. Это было пятым великим достижением идеологической власти. Другой крайностью был компромисс с существующими структурами макровласти, принятие легитимности этих структур и использование их для контроля за своими религиозными общинами. Поэтому, за исключением раннего универсального религиозного давления, рост мировых религий не бросал вызов господству мужчин над женщинами и повсеместному факту классового господства. Это были четвертое и пятое ограничения автономии идеологической власти. Между этими крайностями лежит огромное многообразие. Одним из инвариантов этого многообразия, скорее частным, но тем не менее важным, была власть религиозного воздействия на военную власть. В двух из рассмотренных религий наблюдалась связь между сильной межличностной этикой и военной моралью (боевым духом). В исламе религия солидарности арабской кавалерии покорила огромные территории, одновременно охраняя властные достижения ислама на большей части этих территорий. В христианской Византии и Западной Европе религиозно-милитаристическая мораль была ограничена и существенно усилена социальными иерархиями, увеличивавшими господство ценой универсализма. Христианство не только пошло на компромисс с мирскими властями, но и повлияло на их форму. Разумеется, между двумя религиями и военным делом оказалась устойчивая связь, в частности между верой в бога и солидарностью, яростью и жестокостью солдат. Обычно эти качества принимали скорее отвратительные формы — неверные враги рассматривались не иначе как «недолюди» и, соответственно, безжалостно истреблялись. Это шестое достижение идеологической власти сокращало универсализм второго достижения, свидетельствуя об их противоречивой природе. Другая проблема и возможность встали перед мировыми религиями в связи с общим упадком экстенсивных государств, которые были свидетелями их возникновения. Эти два процесса, разумеется, были связанными. Даже если государства, подобные Риму, были и помимо этого охвачены серьезными проблемами, то наличие конкурентного сообщества идентичности и верности, действовавшего внутри и за пределами их границ, явно не способствовало шансам на выживание. Китайское и персидское государства получили возможность привязать эти сообщества к себе и таким образом помогли воспрепятствовать возникновению мировых религий на их территориях. В оставшихся случаях государства неоднократно разрушались. В этом контексте все мировые религии следовали одной общей стратегии: заполучить практически монопольный контроль над инфраструктурой грамотности, иногда распространяя контроль на все письменные документы, включая законы. Индуизм достиг наибольшего успеха в этом отношении, за ним следовали буддизм, ислам и христианство, которое в целом разделяло контроль с сильными государствами внутри их территории. Это было седьмым великим достижением идеологической власти. В других отношениях борьба властей различалась. Только индуизм действительно одержал верх над структурами экстенсивного контроля, институционализировав касты как характерный механизм, через который могла использоваться экстенсивная власть. Существенные части всех основных отношений власти — экономических, политических и военных — развивались под господством его собственных структур, что ослабляло их и делало Индию уязвимой для завоевания, иностранного политического правления и экономической стагнации. Тем не менее это был апофеоз достижений идеологической власти. Только индуизм пришел к восьмому достижению — установлению ритуальной космологии и религиозного общества. Но он полностью подорвал второе достижение — народное универсальное сообщество, поскольку касты тщательно сортировали человечество по степеням конечного достоинства. Ни буддизм, ни ислам, ни христианство не пришли к восьмому достижению. Буддизм остался более подчиненным, функционирующим в зазорах индуизма и Индии и зависимым от светских властей. Ислам и христианство часто принимали экономическую, политическую и военную власти, но зачастую по шаблону, установленному традиционными секулярными формами, а не их собственными религиозными структурами. Они ощутили силу третьего ограничения, упомянутого выше. Но, пойдя на компромисс, они уцелели и отбросили глубокое противоречие между универсальной и авторитарной природой, что сохранило им больше динамизма по сравнению с индуизмом. В главе 12 я исследую всемирно-исторические последствия этого динамизма. Очевидно, различные достижения мировых религий не были просто кумулятивными. Часть из них в результате борьбы со светскими властями повела человечество различными путями развития. Тем не менее у них было ядро: мобилизация народного сообщества, значительно отличавшаяся от того, что было известно в относительно экстенсивных обществах. Они внесли иерархическую интенсивность в экстенсивные отношения власти. Люди были мобилизованы в нормативное сообщество. Я подчеркивал нормативный уровень, утверждая, что он дает нам возможность прорубить путь через бесплодный дуализм «идеи» или «духовное» vs. «материальное». Эту проблему я буду рассматривать в более теоретическом свете в томе 3. Но в данном случае я не могу не добавить несколько слов о Дюркгейме, великом социологе, который подкрепляет мой аргумент. Дюркгейм утверждает, что стабильные социальные отношения требуют предшествующего нормативного согласия между теми, кто их практикуют. Ни сила, ни обоюдный эгоизм не могут предложить необходимого базиса для стабильности. Поэтому общество зависит от нормативного и ритуального уровня, который в определенной степени вынесен за рамки «светского» мира силы, интересов, обменов и расчетов. Общество в смысле социальной кооперации было священным. Затем Дюркгейм обратился к интерпретации религии, рассматривая сакральное как всего лишь отражение нормативных потребностей общества. Это настолько глубокий, насколько ограниченный аргумент. Дело в том, что в рамках двух последних глав религия рассматривалась не только как отражение общества, но и как реально создающая нормативное ритуальное сообщество, которое в действительности и является обществом. Христианская ойкумена, исламская умма и индусская кастовая система были обществами. Эти религии создали социальный порядок — номос в ситуациях, в которых традиционные регуляторы общества (существующие экономические, идеологические, политические и военные отношения власти) дали сбой. Поэтому их космологии были в социологическом смысле истинными. Мир был упорядочен, кроме того, посредством понятий сакрального были упорядочены трансцендентные нормативные и ритуальные требования. Я развиваю, а не отвергаю Дюркгейма. Мне хотелось бы еще дальше дистанцироваться от предположения, что я всего лишь следую за Дюркгеймом, разрабатывая общую теорию роли религии в обществе. До сих пор наиболее характерной чертой религии была ее крайняя неравномерность. Сначала религия предположительно играет основную, хотя в чем-то мрачную роль в федеральных сегментированных сетях власти ранних региональных цивилизаций. Затем в течение более чем тысячелетней истории последовавших за ними империй доминирования ее роль по большей частью сводилась к имманентному усилению правящих классов. В следующем тысячелетии она трансцендентально развернулась в форме мировых религий спасения. Я объясняю это развертывание не столько в терминах фундаментальных и неизменных потребностей индивидов или обществ в смыслах, нормах и космологии (они могли обладать подобными потребностями, но эти потребности обладали весьма низкой социальной значимостью в ходе предшествовавшего тысячелетия), сколько в терминах всемирно-исторического развития технологий власти. Только теперь идеологические послания могли быть стабилизированы при передаче на большие социальные пространства, возникла серия фундаментальных противоречий между официальными и интерстициальными сетями власти древних империй, а последние создали социально трансцендентные организации, в которых космология универсальной божественности, а также рационального индивидуального спасения становилась возможной. Следовательно, это была единственная всемирно-историческая возможность. Даже выраженный подобным образом, этот вывод выглядит чрезмерно общим. Религии спасения не развертывались универсальным образом даже в ходе этого конкретного исторического этапа. Китайская империя переориентировала религию для собственных целей. То же самое сделала Персия. Последние эллинистические императоры делали это приглушенно до тех пор, пока они не потерпели поражение извне. Только христианство, ислам и индуизм развили трансцендентную власть, способную преодолеть существовавшие структуры власти. Из них христианство и ислам приняли одну отличительную динамику и противоречивую форму власти, а индуизм и его ответвление — буддизм — другую, более монополистическую форму. Соответственно, паттерны развития всех регионов, где доминировали указанные религии, разительным образом различались. Как я отметил в начале главы, до возникновения мировых религий не было раскола в широком «семействе» обществ на территории Евразии. Разумеется, дальнейшие пути расходящихся обществ были неразрывно связаны с их предшествовавшими характеристиками и историей: Китаю не хватало космополитизма, Индии — имперской силы, Европа уже столкнулась с острой классовой борьбой и т. д. Но одно обобщение о воздействии религий спасения в этот период все же можно сделать: они усилили эти отклонения. Таков был их вклад в технологии власти, социальную солидарность, возможность для диффузной коммуникации вертикальной и горизонтальной, которая вне зависимости от размера организаций могла изменить их социальную структуру более радикальным образом, чем, вероятно, в любом другом примере из предшествовавшей истории. Серия истинных революций прокатилась по всей Евразии, возглавляемая технологиями и организациями идеологической власти. Из нее Китай, Индия, ислам и Европа вышли совершенно различными путями. Глобальная сравнительная социология (которая всегда является тяжелым делом) в настоящий момент становится слишком тяжелым делом. Начиная с этого момента я продолжу вести хронику только одного примера — христианской Европы и ее ответвлений. Шансы сконструировать общую теорию, отталкиваясь напрямую от социальной роли религии, таким образом, малы. Она не играет какой-либо значимой роли, за исключением всемирно-исторических моментов, которые могли наступить в рамках самых ранних цивилизаций и, разумеется, в эпоху Христа и апостола Павла, Мухаммеда, а также брахманов и Будды. Именно на этих людях и их последователях базируется мое понятие трансцендентальной религиозной власти. Затем я делаю его немного более секулярным, добавляя мирские «нотки» культур ранних цивилизаций, плюс возможность исследовать современные идеологии (такие как либерализм или марксизм) в тех же терминах. В результате появляется понятие идеологической власти, которое в меньшей степени базируется на общих свойствах общества, чем на некоторых возможностях, представленных всемирно-историческим развитием власти. Речь идет не столько об общей теории идеологии, сколько о стремлении показать реальную историческую роль идеологий.БИБЛИОГРАФИЯ
Bannerjee, Р. (1973)- Early Indian Religions. Delhi: Vikas. Beteille, A. (1969). Castes: Old and New, London: Asia Publishing House. Bougie, C. (1971). Essays on the Caste System. Cambridge: Cambridge University Press. Cahen, C. (1970). L’Islam: des origines au debut de l’Empire Ottoman. Paris: Bordas. Chattopadhyaya, D. (1976). Sources of Indian idealism. In History and Society: Essays in Honour of Professor Nohananjan Ray. Calcutta: Bagchi. Cohn, B. S. (1959). Law and change (some notes on) in North India. Economic Development and Cultural Change, 8. Creel, H.G. (1949). Confucius: The Man and the Myth. New York: John Day. Dumont, L. (1972). Homo Hierarchicus. London: Paladin; Дюмон, JI. (2001). Homo hierar-chicus. Опыт описания системы каст. СПб.: Евразия. Dumont, L., and D. F. Pocock (1957). For a sociology of India. Contributions to Indian Sociology, 1. Engineer, A. A. (1980). The Islamic State. Delhi: Vikas. Gellner, E. (1981). Muslim Society. Cambridge: Cambridge University Press. Ghurye, G. S. (1961). Class, caste and occupation. Bombay: Popular Book Depot. --. (1979). Vedic India. Bombay: Popular Prakeshan. Goody, J. (ed.) (1968). Literacy in Traditional Societies. Cambridge: Cambridge University Press. Heesterman, J. C. (1971). Priesthood and the Brahmin. Contributions to Indian Sociology, new series, 5. Hoeart, A.M. (1950). Caste: a Comparative Study. London: Methuen. Holt, P. M. et al. (eds.) (1977). The Cambridge History of Islam, esp. Vol. 1 A, The Central Islamic Land, from Pre-Islamic Times to the First World War, parts I and II. Cambridge: Cambridge University Press. Hutton, J.H. (1946). Caste in India: Its Nature, Function and Origins. Cambridge: Cambridge University Press. Jackson, A. (1907). Note on the history of the caste system. Journal of the Asiatic Society of Bengal, new series, 3. Karve, I. (1968). Hindu Society: an Interpretation. Poona, India: Deshmukh. Levy, R. (1957). Social Structure of Islam: The Sociology of Islam. Cambridge: Cambridge University Press. Majumdar, E.C. (ed.) (1951–1957)- The History and Culture of the Indian People, vol. I, The Vedic Age. London: Allen & Unwin 1951. Vol. II, The Age of Imperial Unity. Bombay: Bhavan, 1954. Vol. V, The Struggle for Empire. Bombay: Bhavan, 1957. Miller, E.J. (1954). Caste and territory in Malabar. American Anthropologist, 56. Parry, J. H. (1979). Caste and Kinship in Kangra. London: Routledge & Kegan Paul.--. (1980). Ghosts, greed and sin. Man, new series, 15.--. (1984). The text in context. Unpublished paper. Rodinson, M. (1971). Mohammed. London: Allen Lane. Saraswati, B. (1977). Brahmanic Ritual Traditions in the Crucible of Time. Simla: Indian Institute of Advanced Study. Sharma, R. S. (1965). Indian Feudalism: c. 300-1200. Calcutta: Calcutta University Press. --. (1966). Light on Early Indian Society and Economy. Bombay: Manaktalas. Srinivas, M.N. (1957). Caste in modem India. Journal of Asian Studies, 16. Thapar, R. (1966). A History of India, vol. I, Harmondsworth, England. Penguin Books. Vidal, G. (1981). Creation. London: Heinemann. Wagle, N. (1966). Society at the Time of the Buddha. Bombay: Popular Prakashan. Waley, A. (1938). The Analects of Confucius. London: Allen & Unwin. Watt, M.W. (1953). Muhammad at Mecca. Oxford: Clarendon Press; Уотт, M. (2006). Мухаммад в Мекке. СПб.: Диля.--. (1956). Muhammad at Medina. Oxford: Clarendon Press; Уотт, M. (2007). Мухаммад в Медине. СПб.: Диля.--. (1961). Islam and the Integration of Society. London: Routledge. Weber, M. (1951). The Religion of China. Glencoe, Ill.: Free Press.--. (1958). The Religion of India. New York: Free Press.ГЛАВА 12 Европейская динамика: I. Интенсивная фаза, 800-1155 годы
Историческому социологу невозможно анализировать историю средневековой Европы, не попадая под влияние левиафана, который маячил за ним, — промышленного капитализма. Необходима определенная защита от подобного телеологизма, и этому есть четыре причины. Во-первых, капиталистическая революция в сельском хозяйстве и промышленности XVIII и XIX вв. была самым важным вкладом в человеческую коллективную власть в истории. Промышленные общества больше не зависели от расходов человеческой и животной мускульной силы, к последним можно добавить использование природных источников энергии. Во всех инфраструктурных измерениях коллективной власти, используемых в этих томах (в производительности, плотности населения, охвате сетей взаимодействия, разрушительной мощи), в этот короткий промежуток времени произошел беспрецедентный количественный скачок. Во-вторых, можно различить движение по направлению к этому скачку заблаговременно, на протяжении всего средневекового и раннесовременного периода. В-третьих, все источники социальной власти (экономические, политические, военные и идеологические), как правило, двигались в одном общем направлении развития. Принято рассматривать это движение как «переход от феодализма к капитализму». Я считаю, что это неадекватное определение (как полагает и Холтон (Holton 1984) в заключении своего авторитетного обзора споров об этом переходе), тем не менее оно передает ощущение всеобщности движения. В-четвертых, это произошло на территории отдельной социально-географической области, которая занимала пространство Западной Римской империи, а также земли германских варваров, известные нам как Европа. Прежде эта область не была единой в социальном отношении, но она стала таковой вплоть до XX в. Европа содержала единый набор взаимосвязанных событий — переход, затронувший более специфические периодизации, географические подразделения, а также все исторические странности и стечения обстоятельств, которых всегда требует более детализированная история. Поэтому я буду собирать все обстоятельства воедино (особенно те, с которыми Европа столкнулась извне) вплоть до главы 15. Основным предметом этой главы являются указанный динамизм и его истоки, двигатель развития, которым обладала средневековая Европа и который помог ей прийти к промышленному капитализму. Давайте попытаемся сконцентрировать на этом финальном состоянии больше внимания, чтобы понять, что нам необходимо объяснить. Прежде всего мы не можем не попасть под впечатление от подъема экономических возможностей, способности использовать дары природы, которые проявились к середине XIX в. Эта экономическая власть увеличилась и в интенсивном., и экстенсивном отношении. Что касается интенсивности, то доходы от каждого отдельного участка земли или отдельной группы людей значительно выросли. Люди все глубже проникали в почву, трансформируя ее физические и химические свойства, для того чтобы извлечь больше ресурсов. Но в социальном отношении их координируемая деятельность, в рамках которой использовалось все больше застывшего труда (то есть капитала) в виде машин, также была более интенсивно организована. Практики обычных людей повышали их возможности. Эта деятельность была также более экстенсивной, систематически покрывая большую часть Европы, а затем и крайне узкие пути проникновения по всему миру. Эта деятельность принимала различные формы, но основной из них было расширение циркуляции продукции и обмена товарами. Ни одна империя, ни одно общество какого-либо иного типа не проникали так интенсивно или экстенсивно. Основным механизмом этой реорганизации истории была экономическая власть — «цепи практик». Если это экономическое развитие не было всего лишь случайностью, упомянутая средневековая социальная структура должна была обладать невероятным динамизмом интенсивного и экстенсивного типа. Наше объяснение с необходимостью должно касаться обоих типов. Мой аргумент состоит в том, что данный переход включал два этапа: до 1150 г. и после него. На первый этап приходится существенное увеличение в интенсивности власти экономических практик, второй дополняет первый экстенсивной властью циркуляции товаров, которая вначале была медленной и усилилась к 1500 г. Первый этап был условием второго и исходным плацдармом для перехода. Первая, интенсивная фаза служит предметом данной главы, рост экстенсивной власти — последующих двух глав. Но финальное состояние было результатом как количественных, так и качественных изменений. Мы называем его капиталистической или промышленной революцией (или же мы можем перестраховаться и объединить обе характеристики), каждый термин выражает точку зрения крупной социальной теории. На этой ноте я завершаю обсуждение хронологии капитализма и индустриализма. Капитализм, которому ниже будет дано определение, предшествовал промышленной революции. Ее технологии организации постепенно развились в рамках раннего Нового времени. Непосредственно некоторые из основных организационных технологий, используемых в промышленности, применялись веком ранее в ходе сельскохозяйственной революции XVIII в. Поэтому вначале необходимо объяснить переход к капитализму. В томе 2 мы обнаружим, что впоследствии индустриализм также вызвал сильные унифицированные социальные последствия безотносительно к тому, разворачивался он в капиталистическом обществе или нет. Но это уже проблема следующего тома. Давайте определим капиталистический способ производства. Большинство определений предполагают два компонента, которые вместе порождают третий: 1) товарное производство. Каждый фактор производства рассматривается как средство, а не как цель сама по себе, каждый фактор также можно обменять на любой другой, включая труд; 2) частная монополистическая собственность на средства производства. Средства производства, включая рабочую силу, формально и полностью принадлежат частному классу капиталистов (и эта собственность не разделяется с государством, массами трудящихся, сообществом, Богом или кем бы то ни было еще); 3) труд является свободным и представляет собой отдельную форму средств производства. Рабочие свободны продавать свой труд и забирать его обратно по своему усмотрению; они получают зарплату, но не выдвигают прямых требований на произведенные излишки. Путь развития товарной формы был долгим и извилистым. Некоторые исторические периоды обладали чертами капитализма в том смысле, что торговцы, банкиры, землевладельцы и ремесленники могли инвестировать деньги, чтобы заработать их еще больше, получать плату за труд и учитывать расходы на труд наряду с прочими факторами производства. Но ни в одном обществе вплоть до современности подобная деятельность не была доминирующей. Свобода подобных людей на организацию их предприятий в соответствии с ценностями товаров была ограничена государством, сообществом, иностранными властями или, например, техническими ограничениями их времени (например, отсутствием монет в качестве меновой стоимости). Основные ограничения состояли в том, что частная собственность никогда не была абсолютной (даже в Риме), а труд местных жителей не мог рассматриваться в полной мере как товар. В этих отношениях ранняя европейская социальная структура был традиционной. Я начну с ее «феодальной» экономики (хотя в конечном итоге намереваюсь отказаться от «феодализма» как всестороннего ярлыка для европейского контекста). Определения феодального способа производства различаются между собой. Простейшим является следующее: извлечение прибавочного труда через земельную ренту классом землевладельцев у классов зависимых крестьян (например, Dobb 1946). Элементы этого определения требуют объяснения. «Зависимость» означала, что крестьяне были на законных основаниях связаны с определенным участком земли или с определенным землевладельцем, поэтому свободный выход из феодальных отношений был невозможен. Крепостное право было самой типичной формой подобной зависимости. «Земельная рента» подразумевала, что класс землевладельцев коллективно владел землей (то есть не на частной, индивидуальной основе) и что крестьяне были обязаны платить ренту, как правило, в виде трудовых повинностей, чтобы иметь возможность обрабатывать землю и жить на ней. Поэтому отдельный землевладелец не обладал абсолютным правом собственности. А поскольку труд был связан с землей, а не с землевладельцем, его трудно было рассматривать как товар, обмениваемый на другие факторы производства. В результате мы можем добавить еще два вопроса применительно к нашему объяснению перехода: как собственность стала индивидуальной и абсолютной и как труд стал товаром? В настоящей главе только намечаются ответы на эти вопросы, поскольку на первом интенсивном этапе перехода изменения в отношениях собственности находились в зачаточном состоянии. Обсуждение этих вопросов будет продолжено в следующих главах. Я описываю этот переход, как если бы он был только экономическим. Тем не менее нельзя ставить знак равенства между этим особым экономическим переходом и всем указанным движением в европейской истории. Капиталистический способ производства, как и прочие способы производства, является идеальным типом, абстракцией. Если капитализм и стал преобладать в общественной жизни, это преобладание не было настолько чистым, как могло предполагать определение. Как и все способы производства, он требовал принуждения, политической институционализации и идеологии, и его требования, вероятно, выражались в компромиссных формах социальной организации. Чтобы объяснить возникновение капитализма (как, впрочем, и феодализма), мы должны проследить взаимоотношения четырех основных организаций власти: экономической, военной, политической и идеологической. Поэтому ни феодализм, ни капитализм, если использовать их в качестве общей периодизации европейской истории, не являются только лишь экономическими терминами. Учитывая это, было бы неразумно использовать их как общие обозначения для средневековой или современной Европы. Процесс европейского динамизма не является переходом от феодализма к капитализму. Я продемонстрирую это в данной и двух последующих главах. В следующих двух главах я покажу, что конечные состояния европейского общества, какими стали капитализм и индустриализм, также были сегментарными сериями национальных сетей социального взаимодействия, то есть международной мультигосударственной геополитической дипломатической сетью. Мы не можем объяснить европейскую структуру или динамизм без анализа возникновения соперничающих примерно на равных национальных государств. В свою очередь, мы обнаружим, что они отчасти, вероятно даже по большей части, были продуктом реорганизации, вызванной развитием отношений военной власти. В этой главе я постулирую то же самое применительно к средневековым обществам. Динамика, которую они включали, не была исключительно экономической в рамках исключительно феодального способа производства, как я его определил или определяет кто-либо еще. Большинство историков утверждают, что объяснение «перехода» должно объединять огромное множество факторов, одни из которых экономические, а другие нет. Но их аргументы, как правило, более детальные и в ключевых моментах слишком специальные. Я уверен, что мы можем выработать более системные аргументы, исследуя организационные формы четырех источников власти. Все предшествующие теории «перехода», как правило, являются материалистическими — неоклассическими или марксистскими. Переход объясним только в терминах комбинации экономических, военных, политических и идеологических организаций власти.РЕЗЮМЕ ОСНОВНОЙ ИДЕИ
Социальная структура, которая установилась в Европе после окончания миграции и вторжения варваров (то есть к 1000 г.), была множественной, ацефальной федерацией. У Европы не было головы, не было центра, более того, она была сущностью, состоявшей из ряда небольших, пронизывающих друг друга сетей взаимодействия. В предшествовавших главах я рассматривал ранние типы федераций с отсутствующим центром в раннем Шумере и в классической Греции. Но их структуры не были похожи на эти. В предшествовавших примерах каждая политическая единица (город-государство) или федеративный союз государств либо племен обладал координируемой в рамках их территорий экономической, военной и до определенной степени идеологической властью. Федерации шумеров и греков были прежде всего геополитическими, состоявшими из ряда монополистических территориальных единиц. В Европе раннего Средневековья все было иначе (хотя позднее все стало именно так): сети взаимодействия основывались на экономической, военной и идеологической власти, различавшейся по своему географическому и социальному охвату, причем каждая из них не была унитарной по своей природе. Следовательно, не было какого-либо одного субъекта власти, отчетливо контролировавшего ограниченную территорию и население внутри нее. В результате большинство социальных отношений были чрезвычайно локализованными, сконцентрированными на одном или более клеточных сообществах — монастыре, деревне, поместье, замке, городе, гильдии, братстве и т. п. Но отношения между множественными сетями власти регулировались. Превалировал порядок, а не хаос. Основным регулятором было христианство в качестве самой экстенсивной из сетей власти. Мы увидим, что христианство противоречивым и действительно диалектическим образом объединяло две основные организационные характеристики идеологической власти. Оно было трансцендентным, и тем не менее усиливало имманентную мораль существовавшей социальной группы правящего класса землевладельцев. Подобная комбинация помогала поддерживать базовый уровень нормативного умиротворения и порядка, обеспечивать собственность и рыночные отношения внутри и между этими «клетками». Кроме того, каждая сеть власти была относительно экстравертной и ощущала себя частью большого целого и потому была потенциально экспансионистской. Первые цивилизации обеспечивали инфраструктуру экстенсивной власти только ценой больших затрат, часто через то, что в начальных главах я назвал принудительной кооперацией. Теперь достаточная часть этого обеспечивалась идеологическими средствами — христианством без государства, экспансия и инновация могли проистекать из локальных интенсивных «клеток». Ранняя феодальная, преимущественно экономическая динамика была прежде всего интенсивной, поскольку экстенсивная власть уже обеспечивала христианство. Экономическая инфраструктура, экономика деревни-поместья, которая представила такие решающие инновации, как тяжелый плуг и трехпольная система, а также урбанистическую торговую экономику, сама по себе зависела от «инфраструктуры» христианства. Эта метафора намеренно перевернута, поскольку я хотел сделать выпад против модели «инфраструктура — суперструктура» и модели «материальное — идеальное». Это прекрасно демонстрирует один из неортодоксальных аспектов моего аргумента: влияние христианства как нормативной системы в качестве каузального фактора возникновения капитализма отрицается. Речь идет не только о психологическом воздействии христианской доктрины (как в веберианском подходе к этой проблеме), которое стимулировал капитализм, но и об обеспечении нормативного умиротворения и порядка, как это понимал Дюркгейм. Этот контраст будет рассмотрен в теоретических терминах тома 3. Мой подход также подразумевает второй неортодоксальный момент: я датирую этот динамизм гораздо более ранним периодом, чем это обычно принято. В конце концов только что упомянутые факторы уже присутствовали к 800 г. А поскольку последние мародеры (викинги, мусульмане и гунны) были отброшены, скажем, к 1000 г., динамизм с необходимостью должен был стать очевидным. Я буду утверждать, что так, вероятнее всего, и было на самом деле. Поэтому большая часть факторов, сыгравших роль в большинстве объяснений феодальной динамики (возникновение городов, реакция крестьян и землевладельцев на кризис XIV в., навигационная революция, Ренессанс XV в., протестантизм), были более поздними этапами динамики, которая уже присутствовала. Соответственно, они не будут широко освещаться в этой главе. Я не претендую на то, что первым датирую указанную динамику столь ранними временами. Дюби (Duby 1974), Бридбери (Bridbury 1975) и Постан (Postan 1975) уже датировали экономическое восстановление задолго до 1000 г. Многие историки подчеркивают политические, военные и культурные достижения франкской и романской правящих элит, утверждая, что истинный Ренессанс произошел в этих землях между 1050 и 1250 гг. Тревор-Ропер (Trevor-Roper 1965) утверждал, что их достижения были значительно большими, чем достижения лучше освещенного Ренессанса XV в. Многие историки недооценивают достижения средневековой Европы в силу неосторожного использования сравнительной социологии. Обычным делом стало сравнение средневековой Европы с современными ей Азией и Ближним Востоком и противопоставление варварства первой и последних цивилизаций, особенно Китая. Из этого следует, что момент, когда Европа догнала Азию, должен был наступить позднее. В качестве момента, когда догнать все-таки удалось, часто указывают 1450 или 1500 г., поскольку это был период военно-морской экспансии Европы и революции Галилея в науке. Типичным адептом подобной точки зрения являлся Джозеф Нидэм (Needham 1963), который, противопоставляя Европу и Китай, подчеркивал Галилея с «открытием базовых технологий самого научного открытия, затем кривая развития науки и технологии в Европе начала возрастать резким, практически экспоненциальным образом, догнав соответствующий уровень азиатских обществ». Если это всего лишь хронология наверстывания, то динамика перехода также, весьма вероятно, будет найдена в более поздних причинах. Но это поверхностная сравнительная социология. Лишь немногие общества могут быть просто размещены над или под другими по единой шкале для измерения развития их коллективной власти. Значительно чаще общества просто различаются в своих достижениях. Именно так обстояли дела в средневековой Европе и Китае. Европейское самоунижение ошибочно. Оно происходит из одержимости «экстенсивной властью». Измеряя по этому стандарту, Европа отставала вплоть до 1500 г. Незадолго до этого Марко Поло мог справедливо изумляться богатствам, а также военной и политической властью Хубилай-хана: ни один европейский монарх не мог владеть такими богатствами, наводить порядок на таких пространствах, мобилизовать такое количество солдат. К тому же христианские правители Северного Средиземноморья сражались в затяжной без-результативной борьбе против исламских государств, в которой приходилось отступать в течение ряда столетий в Средние века. Более того, большинство инноваций, которые имели огромное значение для экстенсивной власти (особенно черный порох, морской компас и печать), пришли с Востока. Вплоть до 1500 г. Европа все время была догонявшей и никогда не опережавшей в экстенсивной власти. Но, как мы убедимся, в другой области достижений интенсивной власти, особенно в сельском хозяйстве, Европа лидировала начиная с 1000 г. В этом свете революция Галилея была развитием именно интенсивных достижений. На самом деле большинство достижений нашей научной, промышленной, капиталистической эры можно проследить именно от этой даты. Я начну с широкого описания множественных сетей власти до 1155 г. Эта дата обладает особой значимостью для Англии, указывая на начало правления Генриха II Плантагенета, известного государственного строителя. В европейских терминах эта дата произвольна, но в общей периодизации она важна в трех отношениях. Во-первых, все сети власти стали приводиться в действие в общих формах, в которых я их описываю. Во-вторых, существенный европейский динамизм был уже достаточно хорошо различимым. В-третьих, любая существенно более поздняя дата будет искажать сети власти, особенно те, которые стали результатом военно-налогово-политических изменений, обсуждаемых в следующей главе. Последние говорят уже в пользу более унитарных, территориальных, централизованных сетей взаимодействия, движения к «национальным государствам», способствовавшим более экстенсивным методам социального контроля и ослаблению интегративной роли христианства. Следовательно, используя даты, отличные от упомянутых, модель, которая была мною только что очерчена, становится менее полезной и начинается вторая фаза перехода. Но если динамизм уже очевиден, нам необходимо сначала очистить эти события от наших объяснений. Указанная датировка также демонстрирует границы периодов, исследуемых в последующих главах. Центральным предметом выступает кейс Англии, хотя иногда проводятся сравнения с другими европейскими регионами.ФЕОДАЛИЗМ КАК МНОЖЕСТВО СЕТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ВОЕННОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
Идеологическая власть
Самой экстенсивной сетью взаимодействия была сеть, основанная на католической церкви[102]. Влияние католической церкви распространилось на территорию, площадь которой составляла около миллиона квадратных километров, практически ту же территорию, которую занимали самые обширные империи предшествовавшей истории — Римская и Персидская. Она распространилась путем проповедей, широко организованных после 500 г. под руководством епископа Рима. Примерно с этого времени также датируются претензии римского епископа на главенство над церковью, передавшие власть над административной инфраструктурой в руки Папы Георгия I Великого (590–640 гг.). По большей части сила указанных претензий восходила к имперскому Риму. Это прекрасно отражено в имевшем широкое распространение в VIII в. «Константиновом Даре» — письме, якобы написанном великим христианским императором. В письме, которое в действительности было папской подделкой, он отдавал в дар Рим и западную империю Папе Римскому. Инфраструктура папской власти над такой огромной территорией была жестко ограниченной. Но к концу XI в. эта сеть идеологической власти была решительно установлена на всей территории Европы при помощи двух параллельных авторитетных иерархий епископских и монастырских сообществ, каждая из которых подчинялась Папе. Коммуникационная инфраструктура этой власти заключалась в возможности писать и читать на общем языке — латыни, которой церковь практически монопольно обладала вплоть до XIII в. Ее экономическое существование поддерживали десятины от всех верующих, а также доходы от собственных обширных поместий. «Книга страшного суда»[103]демонстрирует, что в 1086 г. церковь получала 26 % от всех доходов сельскохозяйственных земель в Англии, что было вполне типичным для Европы Средних веков (Goody 1983: 125–127). Идеологически церковь поддерживалась монархической концепцией религиозной власти, которая утверждала ее первенство в конечном смысле над светской властью. В реальности имела место не-прекращавшаяся борьба за власть между светскими правителями и церковью, верх в которой одерживала то одна, то другая сторона. Но последняя всегда обладала своей базой власти. Внутренне она управлялась каноническим (церковным) правом. Духовные лица, например, судились в своих судах, над которыми светские правители не имели никакой власти. Щупальца этих институтов проникали в жизнь каждого замка, феодального поместья, каждой деревни, каждого города Европы. Их власть, например, давала им возможность трансформировать правила брака и повседневную жизнь (Goody 1983) — В действительности это была исключительно авторитетная сеть взаимодействия, которая распространилась настолько экстенсивно, насколько интенсивно проникала в повседневную жизнь. У экстенсивности было три достижения и одно ограничение и противоречие. Во-первых, католическая ойкумена уцелела и окрепла как форма диффузной социальной идентичности, более общей по сравнению с той, которыми наделяли любые другие источники власти. Это так, даже если сравнить ойкуме-ническую идентичность с идентичностью, которую давала относительно огромная гомогенизированная государством территория, например, Англии после нормандского завоевания. Учитывая подобное смешение населений и языков, возникновение какой-либо территориальной идентичности было едва ли возможным, хотя онапоявлялась время от времени в эпохи стабилизации населения. Идентичность христиан была трансцендентной и основанной не на территории или локальности, как могли бы предположить современники, а на чем-то более широком, абстрактном и трансцендентном. Предпримем небольшую гипотетическую реконструкцию на примере Англии. Если бы мы могли вернуться в Англию около 1150 г. с вопросником и магнитофоном для записи интервью, а также с необходимыми языковыми навыками, чтобы опросить выборку населения с должным вниманием к тому, к какой группе они принадлежат, то получили бы более сложные ответы, чем можно себе представить. Большинство опрошенных не смогли бы указать ни одной идентичности. Землевладельцы, которых нам пришлось бы опрашивать на нормандском французском (хотя мы могли бы говорить и на латыни), вероятно, отвечали бы, что они дворяне, разумеется, христиане. Они также могли привести всю генеалогию, свидетельствовавшую, что они нормандского происхождения, но тесно связаны с анжуйским королем Англии и английскими баронами. В итоге они могли полагать, что их интересы совпадают с интересами правителей английского королевства (вероятно, включая его французские владения), а не с интересами, скажем, правителей французского королевства. Я не уверен в том, что, где бы они ни разместили «народ» на своей нормативной карте, называли бы они выходцев из народа христианами, хотя и варварами и неграмотными деревенщинами. Купцы, которых мы опрашивали бы на разных языках, могли бы сказать, что они англичане или что они из ганзейских городов Балтийского побережья либо из Ломбардии. Если бы они были англичанами, то, вероятно, демонстрировали бы больше ненависти к иностранцам и «национализма», чем кто-либо еще из выборки. Они были бы, разумеется, христианами, и их интересы касались бы в основном автономии гильдий и союза с английской короной. Высшие духовные лица, которых мы интервьюировали бы на латыни, ответили бы, что они в первую очередь христиане. Но затем мы выявили бы отчетливую классовую солидарность на основе принадлежности к одному роду с землевладельцами и пересекавшуюся идентичность с некоторыми лордами и купцами на основе владения грамотой (народ из этой идентичности естественно был бы исключен). Приходские священники, с которыми мы могли бы разговаривать на латыни (если не на среднеанглийском[104]), ответили бы, что они христиане и англичане. Некоторые, возможно, добавили бы, что обучены грамоте. Крестьян, которые составляли бы подавляющее большинство нашей выборки, мы интервьюировали бы на различных диалектах среднеанглийского и смесях германского, датского, кельтского и нормандского французского диалектов (о котором сейчас мы имеем весьма смутное представление). Они могли бы назвать себя, а могли бы и не называть неграмотными — оскорбительный термин, обозначавший эксклюзию, неучастие в сообществе. Они могли бы ответить «христианин», а затем могли бы сказать «англичанин» или могли указать на принадлежность к народу Эссекса, или Нортумберленда, или Корнуолла. Их вассалитет был бы смешанным: они подчинялись местному владельцу (мирскому или духовному), или местной деревне, или другой родовой сети и в случае, если они были свободными, их королю, которому они ежегодно приносили клятву верности. Последнее было редкостью в Европе, что опять-таки свидетельствует о необычайной силе английской короны. Весьма интересно было бы узнать, имел ли какой-либо из крестьянских слоев реальное представление о том, что значит быть «англичанином»? Непосредственно после нормандского завоевания они, вероятно, такое представление имели в противовес их новым правителям. Но сохранили ли они это представление, когда нормандцы стали англо-нормандцами? Мы не знаем. Основное заключение не вызывает никаких сомнений. Наиболее могущественным и интенсивным в смысле социальной идентичности было христианство, к тому же оно унифицировало трансцендентальную идентичность и идентичность, разделенную частично пересекавшимися барьерами класса и грамотности. Все прочее разнообразие идентичностей также пересекала лояльность к Англии, но она тоже была различной и в любом случае включала менее экстенсивные династические связи и обязательства. Таким образом, христианская идентичность обеспечивала общий гуманизм и рамки для разделенных на общины европейцев. Рассмотрим трансцендентную общую идентичность. Ее самым интересным аспектом был тот способ, которым она экстенсивно выстраивалась. За исключением торговли, наиболее частым типом движения в Европе было, по всей вероятности, религиозное движение. Клирики много путешествовали, то же делали и миряне, совершая паломничества. В то время паломничество называли «терапией расстояния». Большинство людей могли себе это позволить в определенный момент жизни, чтобы искупить свои греки путешествием по региону или по континенту, получив благословение от святых мощей. Циники поговаривали, что существует такое количество разбросанных по всем святыням частей Животворящего Креста, что их было бы достаточно, чтобы построить флот и отвоевать Святую Землю. Но Европа была интегрирована при помощи этого рассредоточения, постоянного путешествия к святыням и финального ощущения «соприсутствия», предполагавшего физическое присутствие Христа или Святого Духа в храме (Brown 1981). На этическом уровне церковь проповедовала уважение, добропорядочность и милосердие ко всем христианам: базовое нормативное умиротворение и порядок заменяли собой силовое умиротворение и поддержание порядка, без которых не могли обойтись все предшествовавшие общества. Основным наказанием, к которому могла прибегнуть церковь, была не физическая сила, а исключение из сообщества, в крайнем случае отлучение от церкви. Extra ecclesiam nulla salus («Вне церкви нет спасения») было принято практически всеми. Даже закоренелый преступник боялся отлучения, желал перед смертью исповедаться и был готов заплатить церкви, чтобы получить исповедь (реже, чтобы исправиться). Темной стороной нормативного умиротворения и порядка было жесточайшее обращение с теми, кто находился за пределами ойкумены: с раскольниками, еретиками, евреями, исламистами и язычниками. Но величайшим достижением нормативного умиротворения и порядка было создание минимального нормативного общества вопреки всем государственным, этническим, классовым и гендерным границам. Это достижение не включало Византийскую церковь. Но оно интегрировало два основных географических региона «Европы»: средиземноморские земли с их культурным наследием, преимущественно экстенсивными технологиями власти (письменностью, чеканкой монет, сельскохозяйственными поместьями и торговыми сетями) и Северо-Западную Европу с ее более интенсивными технологиями власти (глубокой вспашкой земли, деревенской и родовой солидарностью и локально организованными войнами). В случае объединения этих двух областей в единое сообщество результатом их креативного взаимодействия могло стать развитие. Давайте не будем смотреть на эти религиозные сообщества современными ханжескими глазами. Эта религия была также вульгарно фольклорной, сатирической, переносимой бродячими артистами и нищенствовавшими монахами, чьи постановки и проповеди были бы восприняты современной церковной паствой как богохульство, пародии на основные религиозные ритуалы. Проповедники, собиравшие многотысячные аудитории, шли на всяческие ухищрения. Один из них, Оливер Миллард Мэйллард, делал для себя такие заметки на полях: «Сели — встали — вытерли себя — гм! гм! — теперь взвизгните, как дьявол» (цит. по: Burke 1979: 101; ср. с. 122–123). Вторым достижением церковной экстенсивной идентичности было то, что она стала основным защитником цивилизации в большей степени, нежели отдельные политические, военные или экономические единицы раннего средневекового периода. Трансцендентальная природа идентичности была очевидна на четырех уровнях. На первом, религиозном уровне епископы и священники координировали кампании по освобождению соседей от бандитов и грабительских правителей. Движение «Божий мир» (Pax Dei)[105], провозглашенное во Франции в 1040 г., обеспечивало защиту священникам, путешественникам и женщинам. Современному читателю покажется странным, что этот мир также объявлял перемирие с вечера среды до утра понедельника. Хотя успех подобных движений был ограниченным, некоторые правители и папство позднее смогли на них опереться и возглавить (Cowdrey 197°) — Они выработали средневековое различение между «справедливыми» и «несправедливыми» войнами, а также правила, регулировавшие обращение с невоенными и побежденными. Ни одни из этих норм и правил не были универсально принятыми. Насилие было настолько частым, что порождало циничную и морализаторскую литературу на протяжении Средних веков. Эразм Роттердамский стал наследником этой длинной традиции, когда написал: «Кто отыщет способ, каким человек сможет поднять меч и воткнуть его в брата своего и в то же время не согрешить против второй заповеди, обязывающей нас возлюбить ближнего своего, как самого себя» (цит. по: Shennan 1974: 3^) — Но морализаторство и увещевания не имели никакого воздействия, к тому же они исходили не от государства, а от Европы в целом. Во-вторых, на политическом уровне епископы и аббаты помогли правителям контролировать территории, предоставляя священную власть и грамотных клириков для канцелярии, поддерживая легитимацию и эффективность судебной власти. Позднее мы увидим, как эта власть стала источником большего феномена. В-третьих, на уровне всего континента папство было основным арбитром в сфере межгосударственной политики, охраняло баланс власти, ограничивало высокомерных правителей в конфликтах с менее могущественными правителями. Отлучение от церкви могло освободить вассалов монархов от присяги на верность. В таком случае любой имел право захватить землю отлученного. Церковь гарантировала порядок на континенте, но могла создавать и хаос. Эта угроза смирила королей Англии Генриха II Плантагенета и Иоанна Безземельного. Более впечатляющим было унижение[106] великого германского императора Генриха IV, который вынужден был в 1077 г. ждать три зимних дня у ворот крепости Каносса, чтобы получить папское прощение. В-четвертых, в рамках межконтинентальной политики папство координировало защиту христианства, а также первые контратаки крестоносцев на Святой Земле, которые хотя и были непостоянными, но демонстрировали, что западное христианство не падет перед исламом (хотя, допустив раскол между восточной и западной церквами, оно, по всей вероятности, внесло свой вклад в падение Балканов и изоляцию Константинополя). Величие латинского христианства и его папства не было исключительно духовным. Церковь господствовала в светском дипломатическом смысле, не располагая единой армией, находившейся непосредственно под ее командованием. Третьим экстенсивным достижением церкви была экономика. Нормативное умиротворение и порядок позволяли торговать продуктами на больших расстояниях между небольшими землями, находившимися под контролем агрессивных государств и правителей. Как мы увидим ниже, выживание торговли на больших расстояниях стимулировало производство товаров для рыночного обмена на протяжении всего средневекового периода. Но экономическое воздействие церкви носило не только количественный, но и качественный характер. Церковь обладала не только политическим, но и экономическим организационным превосходством над правителями. Ту степень умиротворения и порядка, которую обеспечивало христианство, было не под силу создать государствам. Естественно, государства дополняли уровень умиротворения и порядка, и после примерно 1200 г., как мы увидим в следующей главе, начали заменять церковь. Но изначально контроль, который они могли осуществлять над производством и торговлей благодаря государственным функциям, был ограничен. Это было особенно заметно в сфере производства, которая была логистически неудобной для государственного контроля, чем торговля на большие расстояния (которая осуществлялась по ограниченному числу коммуникативных путей). Производственные отношения, включая отношения собственности, были по большей части скрыты от глаз государства. Нормативное умиротворение и порядок обеспечивали уважение к собственности. Более того, христианская ойкумена оказывала воздействие на форму отношений собственности. Когда все классы, этнические общности и оба пола были включены (вероятно, совсем недавно) в человеческий род, все представители которого были равны перед Богом, теоретически маловероятным было возникновение форм собственности, дающих монопольную власть одному классу, этносу или гендеру. По крайней мере рабство постепенно исчезало среди европейских христиан. Но христианство могло обходить претензии господствующего землевладельческого класса на монополистическую собственность, а также претензии политических правителей. До той степени, до которой христианство в первоначальных формах обладало властью над экономикой, оно стремилось к распространению, а не к концентрации прав собственности. Так оставалось ли оно все еще универсальной религией спасения, которую проповедовал Христос? Этот вопрос встает в связи с фундаментальными ограничениями и противоречиями христианства, обозначенными в главе 10. Христианство претендовало только на то, чтобы быть специализированной ойкуменой, священной и явно несветской. Папство не стремилось к монополистической власти над всем миром. Если светские власти поддерживали его духовную власть и делали уступки в вопросе проведения границ (тогда в их силах было концентрировать своих епископов и миропомазанных правителей, дисциплинировать священнослужителей в эклезиа-нистских судах, монополизировать образовательные учреждения), то с согласия папства они могли управлять своей сферой с их благословения. Но на практике эти сферы были неразделимы. В ряде случаев профанное попадало в самый центр сакрального. В главе 10 я описал, как до падения Западной Римской империи была взбудоражена церковь, совершенно неспособная оставить общинные, относительно эгалитарные и направленные против язычников-римлян истоки, тем не менее спокойно и прагматично приспосабливающаяся к римским имперским структурам. После падения Римской империи она приняла имперскую эстафету. Папы Георгий I, Лев II, который короновал Карла Великого, и Георгий VII приветствовали это. Подобное иерархическое видение церковной миссии воспроизводилось на нижних уровнях церкви епископами и священниками. Это усиливало иерархические тенденции в светских структурах власти (которые будут проанализированы ниже). Церковь была противоречивой в своем скромном происхождении. Она была средством легитимации крайне неравного распределения экономических ресурсов, качественных различий между землевладельцами и крестьянами. Это была совершенно секулярная теория и столь же секулярная реальность в том, что эти группы играли качественно различные роли в обществе: правители защищают, крестьяне производят. Церковь брала на себя светские функции. Если бы новая ортодоксия церкви могла быть выражена одной фразой, это был бы часто повторяемый афоризм: «Крестьянин пашет землю, рыцарь его защищает, а священник молится о спасении его души». В этом и заключалось качественное различие между собственностью и трудом: работали только крестьяне. Церковь повышала классовую мораль землевладельцев, придавая эксплуатации сакральные качества. В наше время это нелегко понять. Господствующие классы нашей эпохи уже давно отказались от сакральных оправданий в пользу прагматических («так работает капитализм»). Значительно легче для современного понимания священные права и обязанности монархии, которые просуществовали дольше и на самом деле лишь усиливались на протяжении позднего средневекового периода. Те не менее это не было сутью ранней средневековой идеологии. Пока требования английских и французских королей по отношению к землевладельцам росли на протяжении всего XII в., аналогичные требования германских императоров сокращались. В любом случае во всех странах внимание было сконцентрировано на качествах и обязанностях, разделяемых лордом и вассалом. Культ знати и рыцарства разделяли князья и молодые рыцари-вассалы с одним поместьем. Рыцарство было определено, как и его обязанности: лояльность, сокращение грабежей, защита веры, сражение за общие блага, а также защита бедняков, вдов и сирот. Все это было встроено в более широкий паттерн морали, предписывающий его кардинальные добродетели: отвагу, справедливость, благоразумие и сдержанность, а также особенно рьяное преклонение рыцаря перед своей дамой. Возникали ритуалы рыцарских турниров, придворные церемонии и поиски священных реликвий. Все это было воспето великой английской литературой XII — начала XIII в., в рыцарских романах и лирической поэзии, слагаемых поэтами, трубадурами и миннезингерами, происходившими из низшей знати. Границы священного и профанного были в самом сердце бессмертных литературных произведений и особенно эпоса о короле Артуре. Чистота Галахада[107], нашедшего и хранившего Святой Грааль, была не для мира сего. Парци-фалю и Гавейну с их небольшими недостатками удалось узреть лишь видение Святого Грааля, и это было наибольшее, чего могли достигнуть люди. Значительные проступки Ланцелота, Гвиневры и короля Артура представляют величайшие достижения и трагические моральные компромиссы реального мира. Практически вся общеевропейская литература была весьма интровертной в классовых терминах. Как проницательно отмечают Аберкромби, Хилл и Тернер (Abercrombie, Hill and Turner 1980), относительно небольшая часть письменной идеологии затрагивала народ или оправдание правления им. Это в меньшей степени идеология классовой эксплуатации, чем идеология морального поведения внутри класса, право на эксплуатацию Гвиневры которого уже надежно институционализировано. Именно поэтому такое количество средневековых романов могут быть для нас столь притягательными. Поиски чести, благопристойности и чистоты принимаются в качестве само собой разумеющегося, определенного и зачастую мужественного социального контекста века и демонстрируют «безвременность». Тем не менее это качество возникает парадоксальным образом из их классово ограниченных допущений. Объединявшая поиски смысла, норм, а также ритуалов и эстетики выразительность, необычайно сильная ранняя средневековая литература представляют собой великолепный, отчетливый пример идеологий как имманентной классовой морали. Родство и генеалогия представляют собой разновидность инфраструктуры, через которую передаются классовые сообщения. Генеалогия активно создавалась, ею успешно манипулировали. Как писал Такман, браки были фабрикой международных отношений, а также отношений внутри знати, первичным источником территории, суверенитета и союзов, а также основным предприятием средневековой дипломатии. Отношения стран и правителей зависели вовсе не от общих границ или естественных интересов, а от династических связей и фантастического двоюродного родства, которые могли посадить принцессу Венгрии на трон Неаполя и английского принца сделать претендентом на трон Кастилии… французские Валуа, английские Плантагенеты, богемские Люксембурги, баварские Виттельсбахи, австрийские Габсбурги, миланские Висконти, дома Наварры, Кастилии и Арагона, герцоги Бретани, графы Фландрии, Геннегау (Эно) и Савойя переплелись в брачную сеть, при создании которой никогда не учитывались две вещи: чувства сторон, заключающих брак, и интересы обычного населения, которое в это вовлекалось [Tuchman 1979: 47]. Эти связи зачастую вели к войне или миру, но и то и другое было в высшей степени ритуализированным. Эстетические спектакли дипломатических ухаживаний — постановочное шествие жениха или его представителей, пиры, турниры и даже военные столкновения генеалогических соперников — способствовали укреплению солидарности класса знати в целом. Такман делает небольшую зарисовку, которая суммирует конфликты, но в конечном счете и солидарность знати (Tuchman 1979: 178–180). Она описывает события немного более позднего периода, но они могут быть взяты в качестве типичных для нескольких столетий жизни знати. Два великих дворянина юга Франции — Капталь де Буш, правитель Гаскони, и Гастон Феб, граф де Фуа (чьи имена и титулы демонстрируют этнически разнообразное происхождение знати) были по разные стороны великой борьбы за Францию на протяжении всей жизни. Капталь был основным союзником английских королей, тогда как граф де Фуа служил французским королям. Они были в разных армиях во время великой английской победы в битве при Пуатье в 1356 г. Но, являясь кузенами и не участвуя в последующем мирном договоре, они отправились в крестовый поход в Пруссию на одной стороне. Там они присоединились к одному великому и славному развлечению христианской знати — охоте и убийству языческих литовских крестьян. Возвращаясь вместе со своими свитами в 1358 г., они приняли участие в одном из основных событий крестьянских восстаний — разорении города Мо. «Во главе двадцати пяти рыцарей в сияющих доспехах со знаменами, шитыми серебром и лазурью, на которых располагались звезды и лилии и лежащие львы» (символы Франции и Англии), эти двое атаковали крестьянскую «армию» на узком мосту. Сила их конного строя, а также превосходство их копий и топоров нанесли непоправимый урон передовым отрядам крестьян. Остальные бежали и были небольшими группами добиты рыцарями в течение последующих дней. Пережить второй, настолько славный эпизод в такой короткий промежуток времени действительно было рыцарством. Какими бы ни были конфликты между знатью, они могли объединяться против язычников и крестьян — эти два слова, разумеется, были лингвистически родственными[108]. Точно так же, как они наткнулись на крестьянскую жакерию (восстание), должны поступить и мы. Великие эстетические ритуалы знати внушали страх и приводили в ярость тех, кто должен был за них платить, — городской народ и крестьян. Контраст между реальностью и тем, что должен был чувствовать настоящий христианин, едва ли мог быть больше. Две основные формы идеологической власти — трансцендентная и имманентная власти правящего класса, которые обычно были отделены друг от друга в истории Ближнего Востока и Европы, отныне были тесно переплетены внутри одних и тех же институтов. Очевидным результатом стали противоречия. Как Уильям Ленгленд писал в «Видении о Петре Пахаре» (вскоре после 1362 г.), «когда Константин одарил Церковь так обильно, дав ей земли и вассалов, поместья и прибыль, ангельский плач был слышен в небе над городом Римом: „В этот день богатства церкви были отравлены, и те, кто обладал властью Петра, пили яд“» (Langland 1966: 194). Примитивную церковь нельзя было полностью подавить. Движение по направлению к иерархической, классовой церкви спровоцировало два устойчивых ответа. Первым было возрождение веры и реформы монашеской жизни, которые обычно отвергали земные компромиссы, поворачиваясь спиной к миру, хотя некоторые из них также предпринимали попытки реформировать мир. Бенедиктинская реформа 816–817 гг., Клюнийское движение X–XI вв.[109], большинство новых орденов XI–XIII вв. — картезианцы, цистерцианцы, францисканцы, нищенствующие ордена, а также первые ордена монахинь относились к первому ответу. Большинство из них были направлены против суетности местных епископов и священников, а также против их сходства с местными правителями в большей степени, чем с отцами церкви. Папы, заинтересованные в реформе, использовали их как противовес власти епископства и светских правителей. Второй ответ был более серьезным: ряд ересей, которые отрицали папскую и епископскую власть. Чтобы бороться с ними, между 1215 и 1231 гг. были учреждены инквизиция и Доминиканский орден. Это была плохая новость для еретиков и хорошая новость для историков. Записи инквизиции предоставляют некоторые восхитительные и показательные свидетельства средневековой жизни и роли в ней церкви. Я буду опираться на два современных исследования, которые ясно демонстрируют внутренние сложности церкви. Ле Руа Ладюри опирается на записи инквизиции о ересях катаров или альбигойцев в пиренейской горной деревне Мон-тайю. Инквизитор, местный епископ, «педантичный схоласт», был движим желанием узнать и убедить остальных в церковных истинах, которые превосходят все практические потребности местной ситуации. «Он потратил две недели своего драгоценного времени на убеждение еврея Баруха в таинстве Троицы, неделю на то, чтобы заставить его принять дуальную природу Христа, и не менее трех недель на комментарии, объясняющие приход Мессии» (Ladurie 1980: xv). Крестьяне и пастухи также интересовались доктринальными проблемами, но не в качестве абстрактной теологии, а в качестве объяснения своего мира. Церковь была важной частью мира — она обеспечивала основные каналы связи с внешним миром и его цивилизацией, была основным сборщиком налогов, усилителем морали и учителем. Очевидные противоречия в роли церкви были основным источником распространения ереси катаров в Монтайю. Главный деревенский еретик Белибаст сказал: Папа загребает пот и кровь бедных людей. И точно так же делают епископы и священники, они все богаты, почитаемы, купаются в удовольствиях… А ведь сам святой Петр оставил жену, детей, поля и виноградники и все свои владения, чтобы следовать за Христом [Ladurie 1980: 333; Ле Руа Ладюри 2001: 444]. Он приходит к самым радикальным выводам: Миром правят четыре больших дьявола: Папа — дьявол наибольший, которого я называю Сатана, король Франции суть второй дьявол, епископ Памье — третий, инквизитор из Каркассона — четвертый дьявол [Ladurie 1980: 13; Ле Руа Ладюри 2001: 25]. Апокалипсические воззрения были признанной частью средневековой культурной коммуникации. Хотя большинство мистических провидцев уходили из мира, христианство (как и ислам) создало массу политических провидцев, каким в определенной мере был и Белибаст. Политический апокалипсис обнаруживался практически во всех социальных беспорядках, часть того, что Вебер называл «рациональной неугомонностью» христианства, — неудержимое стремление к улучшению мира. Практически все сельские жители были более осторожны по сравнению с Белибастом. Но их возмущение церковной властью не проистекало только лишь из недовольства крестьян церковной десятиной и вмешательством в их мораль. Оно разжигалось знанием Библии и мнимой простотой ранней церкви. Эти знания были переданы клириками и книгами, переданы устно грамотными мирянами и служили поводом для живой и часто еретической дискуссии в рамках домохозяйства и за его пределами. Передаче ереси вниз способствовали различные уровни уважения, демонстрируемые в рамках средневековой социальной структуры: к авторитету Библии, грамотности, сельскому социальному статусу, главам домохозяйств и возрасту. Ниже приводится пример ереси на уровне грамотных людей. Один из них говорит: Я грелся на солнце неподалеку от дома, которым я тогда владел в Аксе… а на расстоянии четырех или пяти саженей Гийом Андорран вслух читал своей матери Гайлларде книгу. Я спросил: «Что ты читаешь?» «Хочешь посмотреть?» — спросил Гийом. «Да» — сказал я. Гийом протянул мне книгу, и я прочел: «В начале было Слово…» Это было Евангелие, написанное на латыни вперемешку с итальянским, содержало массу вещей, которые я слышал от еретика Пьера Оти. Гийом Андорран рассказал мне, что он купил ее у надежного торговца [Ladurie 1980: 237]. (Пьер Оти, грамотный служащий, глава катаров в Аксе, был сожжен на костре.) Неграмотный человек рассказывает, как он договорился встретиться с Пьером Рози, чтобы покосить сено: И как только он наточил свой серп, он сказал: «Веруешь ли ты, что Бог или Пресвятая Дева Мария — это что-то реально существующее?» А я ответил: «Да, конечно, верю». Тогда Пьер говорит: «Бог и Пресвятая Дева Мария — это не что иное, как зримый мир, окружающий нас, не что иное, как все то, что мы видим и слышим». Поскольку Пьер Рози был старше меня, я подумал: то, что он говорит мне, правда! И я продолжал в течение семи или десяти лет искренне верить, что Бог и Дева Мария не что иное, как видимый мир, окружающий нас [Ladurie 1980: 242; Ле Руа Ладюри 2001: 290]. Подобные примеры помогают понять, что ереси не были спонтанными, народными восстаниями против власти церкви. Церковь также была «альтернативным каналом связи», основанным на насаждении грамотности, на простоте монашеских правил (хотя и не всегда монашеских практик), на скитающихся проповедниках и нищенствующих монахах, даже на самих проповедниках, которые привлекали внимание народа к доктринальным и практическим противоречиям, находились в самом центре христианства. Хотя церковный клир способствовал подчинению иерархии, его обратная сторона способствовала вере в человеческую рациональность и суд над всеми иерархиями во время апокалипсиса. Альтернативный коммуникационный канал отсылает к подобным каналам в Римской империи, через которые распространилось христианство (как было описано в главе 10). Подобные выводы усилены вторым удивительным, хотя и несколько более поздним набором подобных записей (инквизиции) о ереси Меноккио, итальянского мельника, который был отдан под суд в 1584 г. и затем вновь в 1599 г. Эти записи были предоставлены Гинзбургом, который утверждает, что ереси проистекают из «крестьянского религиозного непринятия догм и ритуалов, связанного с циклами природы и носящего фундаментально дохристианский характер» (Ginzburg 1980: 112). К сожалению, этот аргумент был опровергнут теми свидетельствами, которые собрал Гинзбург. Меноккио был грамотным и весьма начитанным, его статус мельника помещал его в центр транслокальной экономико-коммуникационной системы, он защищал себя в терминах характеристик примитивной церкви и этических качеств, которым учил Христос, и даже после первого обвинения в ереси он был назначен управляющим фондов местной церкви. Это была вовсе не борьба церковной ортодоксии против крестьянской культуры, а неизбежное генерирование ересей самой церковью в силу внутренних противоречий. И это продолжалось в течение всех Средних веков, а кульминацией стал протестантский раскол XVI в. Ереси выражались как религиозные протестные движения. Тем не менее разделительная линия между религиозным и мирским была размыта. Влияние христианства означало, что практически все крестьянские и городские восстания обладали существенным религиозным элементом. Крестьянские бунты в Англии в 1381 г. изначально были политическими и экономическими. Но один из их лидеров Джон Болл был священником. Его известная проповедь была основана на первичном христианском мифе, широко представленном в поэме «Видение о Петре Пахаре» Ленгленда:Когда Адам пахал, а Ева пряла, Кто дворянином был тогда?Одним из основных актов повстанцев было «потрошение» архиепископа Кентерберийского, поскольку он был основным инициатором ненавистного подушного налога 1377 г. Внутри каждой христианской деревни церковь играла свои противоречивые роли, легитимируя власть папы, королей и лордов и одновременно низвергая их. Не то чтобы существовавший в то время уровень классовой борьбы находил выражение на языке христианства, скорее христианство расширяло и реорганизовывало классовую борьбу. Напомним различные стадии классовой борьбы, перечисленные в главе 7. Первой была латентная классовая борьба. Она являлась неизбежной и вездесущей (учитывая любое разделение между производителями и эксплуататорами), но «повседневной», локально ограниченной, тайной и обычно невидимой для постороннего взгляда. В этом смысле классы и классовая борьба есть везде, но ее возможность структурировать общества ограничена. Более экстенсивные формы организации власти на этой стадии зачастую являются горизонтальными и клиентелистски-ми, то есть их возглавляют члены правящих классов, мобилизующие своих подчиненных. Второй стадией была экстенсивная классовая борьба, при которой экстенсивные, вертикально разделенные классовые организации преобладают над горизонтальным клиентелизмом. И третьей стадией была политическая классовая борьба, имевшая своей целью трансформацию классовой структуры путем захвата государства. За исключением классической Греции и ранней Римской республики, классовая борьба никогда не достигала второй и третьей стадий. Однако мы обнаруживаем, как в исследуемый период христианство распаляло латентную борьбу и отчасти развило ее до экстенсивной борьбы. Важность локальных экономических институтов и местной взаимозависимости внутри деревни, феодального поместья и рынка в любом случае приводила к усилению латентной борьбы. Но диффузный, трансцендентный, аполитичный эгалитаризм христианства и его недовольство высоким уровнем неравенства в обществе и идеологической классовой моралью землевладельцев заметно усиливали эту борьбу. Локальная борьба очевидна на протяжении Средних веков, и большинство историков приписывают великие свершения европейской динамики именно ей. Обратная сторона христианской структуры власти также придавала крестьянским бунтам форму экстенсивной организации, как мы только что убедились. Но в обществе, где крестьяне были экономически ограничены локальными «клетками», эта организация едва ли могла на равных соперничать с экстенсивными организационными возможностями землевладельцев. Поэтому экстенсивность классовой борьбы не была, как я ее называю, «симметричной». Землевладельцы могли организационно превзойти и обойти крестьян. Экстенсивный успех крестьянских движений зависел от разобщенности правящего класса, а также от лидерства недовольных землевладельцев и священнослужителей (подобная зависимость наблюдалась в поздней Римской империи, рассмотренной в главе 9). Трансцендентные аспекты христианской идеологии подталкивали к такому лидерству. Партикуляризм землевладельцев или региональное недовольство могли быть выражены в универсальных терминах морали. Так было в случае альбигойской ереси на юге Франции в XIII в. и даже в более позднем случае северного восстания, известного как «Благодатное паломничество» в Англии 1536 г. Иными словами, социальная борьба такого типа не была «чистой» (или исключительно) классовой борьбой. Религиозные институты реорганизовали ее в характерную смесь отчасти классовой, отчасти клиентелистской экстенсивной борьбы. Область, охваченная этой борьбой, могла быть локальной или региональной, но в рамках раннего Средневековья такая борьба редко охватывала всю территорию государства. Такую борьбу обычно организовывала идеологическая, а не политическая власть. Таким образом, идеологическая власть способствовала и затем перенаправляла классовую борьбу. Но, возможно, фокус на ереси и восстаниях ведет нас по ложному следу. Они не были нормальными в смысле наиболее частых результатов, даже если они и были наиболее широко растиражированы. Обычно противоречия сглаживались институциональными средствами в соответствии с силами соперничающих сторон в этих институтах. Обычай, закон, сатира и рынок были формами институционализации. В них можно уловить компромиссную роль христианства, которое, как правило, легитимировало обладание автономными ресурсами власти со стороны как землевладельцев, так и крестьян.
Военная/политическая власть
В Европе исследуемого периода было множество государств. Этот регион изначально был мультигосударственным. На смену Римской империи в конечном счете пришло огромное множество географических единиц, одни из которых обладали четко определенными политическими центрами («государствами»), а другие нет. «Политические» границы одних совпадали с естественными экономическими или географическими границами областей, территории других скорее составляли пространства, на которых они обеспечивали военную защиту, а третьи занимали территории, единственной логикой развития которых были динамическая случайность и разрастание. В большинстве своем это были скорее компактные единицы. В течение нескольких веков возникновение государств, территория которых превышала, скажем, 10 тыс. квадратных километров в рамках краткосрочной истории, не представлялось возможным. Небольшой размер феодальных государств в целом был результатом двух стадий войны. На первой стадии германские военные банды, организованные в племенные конфедерации под властью королей, демонстрировали тенденцию к фрагментации, как только они завоевали римские провинции. На второй стадии более крупные консолидированные единицы вновь были фрагментированы под давлением последовавших варварских нашествий, которые отбросили их в индивидуальные укрепления в чистом поле (то есть в замки) и в небольшие группы тяжеловооруженной кавалерии. Эти небольшие контейнеры «концентрированного принуждения» (как я определил военную власть) были эффективны в защите против более рассредоточенных захватчиков. Военная логика, учитывая ее значение для поддержания жизни и собственности в Темные века, оказала важнейшее реорганизующее воздействие на социальную жизнь в целом. Мы увидим, что она ослабила государства, углубила социальную стратификацию, повысила мораль класса знати и добавила динамических противоречий христианству. В свою очередь, от замков и рыцарей произошла основная форма ранее средневековой политической системы — слабое феодальное государство. Оно обладало четырьмя основными элементами. Во-первых, верховная власть обычно принадлежала единому правителю, землевладельцу, который мог носить множество титулов, например король, император, князь, князь-епископ, граф, епископ плюс множество местных разновидностей титулов. Во-вторых, формальная власть землевладельца основывалась на одной из различных форм военного контракта: подчиненные вассалы платят дань и служат в первую очередь на военной службе в ответ на защиту и/или жалование земли от лорда. Этот контракт обычно рассматривался как ключевой элемент военных/политических определений феодализма в целом (в отличие от экономических определений). В-третьих, у землевладельца не было четких прав доступа к населению в целом. Большинство функций, выполняемых им для общества, осуществлялись через других автономных акторов власти — вассалов. В одном из крупнейших государств — Англии после нормандского завоевания «Книга Страшного суда» 1086 г. показывает от 700 до 1,3 тыс. держателей земель, пожалованных им сюзереном, в данном случае королем. Все прочие держатели получили свои земли и/или вкладывали свой труд в результате контракта с одним из этих вассалов (за исключением зависимых крестьян королевских поместий). Даже это количество держателей пожалованных земель было слишком большим для политической организации. Большинство держателей пожалованных земель были клиентами более крупных землевладельцев. Паинтер оценивает количество баронов (то есть крупных землевладельцев, пользующихся заметным политическим влиянием на региональном или национальном уровне) приблизительно в 160 человек за период 1160–1220 гг. (Painter 1943: 170–178). Феодальное государство было агломерацией в целом автономных домохозяйств. Косвенное правление феодальных государств было еще слабее в случаях, часто встречавшихся во Франции и в Германии, когда вассалы обладали вассальной зависимостью более чем от одного сеньора. Обычно различные части поместья такого вассала находились под разными сюзеренитетами. В случае конфликта вассал сам выбирал, сторону какого сеньора принять. В подобной ситуации не существовало единой иерархической пирамиды военной/политической власти, а только сеть частично пересекавшихся сетей взаимодействия. Сложность и соперничество всегда усиливались в городских областях. Городские власти (общины, олигархии, князья-епископы) в целом пользовались определенной степени автономией от князей соседних территорий. Такое положение дел не было исключительно английской проблемой, поскольку нормандцы завоевали все городские и сельские области. Эта автономия превалировала в центральном поясе Европы, растянутом с севера на юг — от Фландрии через Восточную Францию, Западную Германию и Швейцарию до Италии. Нестабильность плюс процветание этой зоны подразумевали интенсивную дипломатию со стороны светских и церковных властей. Даже без таких сложностей, одной из которых была реально существующая пирамида господства, власть правителя была бы слабой и косвенной. Его ритуальные функции и инфраструктура образования для бюрократии находились под контролем транснациональной церкви; его судебная власть была разделена с церковью и локальными манориальными судами; к его военному лидерству обращались только во времена кризисов и для сдерживания других лордов, к тому же он практически не имел фискальной или экономически распределяющей власти. Слабость ранних феодальных государств отличала их и от античных, и от современных государств. На самом деле называть их государствами в определенном смысле неправильно, настолько децентрализованными были их политические функции и настолько малы в территориальном отношении они были. В-четвертых, военная природа феодальных государств существенно увеличивала стратификационный разрыв между землевладельцами и народом. Огромное военное преимущество экипированных конных рыцарей и крепостей над крестьянами и городскими пехотными единицами вплоть до XIV в., а также функциональная необходимость рыцарей и крепостей в областях, подверженных вторжениям, увеличивали доход «защитной ренты», взимаемой рыцарями. Только относительно состоятельный человек мог позволить себе лошадь и доспехи. Франкские законы VIII в. считали стоимость снаряжения равной 15 кобылам или 23 быкам — непомерно большая сумма (Verbruggen 1977: 26). Военная эффективность рыцаря позволяла ему увеличивать богатство через эксплуатацию крестьянства. Как писал Хинце (Hintze 1968), различие между «рыцарем» и «не-рыцарем» заменило различие между «свободными» и «не-свободными» в качестве основного ранговогокритерия. Хотя мы не можем измерить стратификацию, она возросла в ранний средневековый период. Одним из признаков этого было увеличение политической зависимости крестьянского домохозяйства от лорда, выраженное в крепостном праве. Поэтому, даже если политические власти были фрагментированы начиная с политического центра, полностью они не растворились. Они сохранялись на уровне вассала лорда, особенно во власти манориального суда. Крестьянская экономическая и политическая зависимость подвергла опасности эгалитарное послание Христа и усугубило внутренние противоречия церкви. Более крупные централизованные государства стали возникать зачастую там, где этого требовала военная организация. Изгнание варваров, организованное, например, Карлом Великим или Альфредом Великим, создало монархии с более экстенсивной территориальной властью, основанной на большом количестве вооруженных персональных слуг, которые оформляли то, что на практике, если не в теории, было профессиональной армией. Завоевание новых земель, например норманнское завоевание Англии и Сицилии, также требовало наличия армии. Но в довольно примитивной экономике ни один лорд не мог собрать достаточного ликвидного богатства, чтобы платить многочисленным наемникам. Единственным решением было жалование земель, которые давали солдатам-вассалам потенциально автономную базу власти. Тем не менее, если экстенсивное государство выдерживало испытание временем, его власть становилась более стабильной. Сети местных обычаев и привилегий, которыми обладали города, села, а также лорды и даже отдельные крестьяне, имели тенденцию к стабилизации в упорядоченную структуру, в которой княжеский суд был решающим арбитром. Большая часть простого народа и людей среднего достатка были безусловно интересованы в выживании князя, вероятно, исключительно из страха перед неопределенностью, которая могла бы возникнуть в результате его падения. Князь был судебным арбитром между людьми и общинными институтами, поддерживая борьбу между ними. Его инфраструктурной власти было недостаточно, чтобы подавить всех, но тогда она была направлена только на усмирение отдельного человека или группы лиц, которая осуществляла попытку произвольной узурпации. Там, где подобная власть все же устанавливалась, ей начинали оказывать большую поддержку. Власти также способствовало церковное миропомазание. Преимуществом обладали те князья, чьи генеалогические требования на наследование были непререкаемыми. Начиная с 1000 г. мы можем обнаружить устойчивый экономический рост и начало роста власти государства, которая наносила вполне определенный судебный урон нормативному умиротворению и порядку христианства. После 1200 г. более могущественные государства вступили в непосредственные отношения со своим народом (см. следующую главу). Но эти изменения были поздними, медленными и неравномерными. Рост королевской власти в Англии был сравнительно более ранним и завершенным. К 1150 г. английское государство было, по всей вероятности, самым централизованным в Европе. Только духовенство и его вассалы с поместьями за пределами, а также внутри англо-нормандских территорий обладали лояльностью к соперничавшим источникам господства; на всех остальных людей универсально распространялась верховная власть короля Англии. Король установил свою легальную верховную власть над светскими свободными людьми, но не над зависимыми вилланами (которые по-прежнему подчинялись манориальному суду) или духовенством (хотя Генрих II Плантагенет исправил это в мирских делах). Две другие основные области последующего роста государства — экономика и военная сфера были более развитыми, чем в других странах. Не существовало общей системы налогообложения, не было повсеместно взимаемых таможенных сборов, а также не существовало профессиональной армии. В битве каждый отряд лорда мог действовать независимо — он мог покидать поле битвы в любое время — постоянная ахиллесова пята средневековых королей. И по античным, и по современным стандартам даже такое государство было ничтожным. Много оставалось скрытым от государства, исключенным из публичной реальности, частным, Сети политической власти были не унитарными, а дуальными: отчасти публичными, отчасти частными, контролируемыми классом локальных баронов.Экономическая власть
Экономика раннего Средневековья была сложной. Она была отсталой, близкой к натуральной экономике, в которой доминировали два проникающих, интенсивных, локальных клеткообразных института — деревня и феодальное поместье. Но на другом уровне она создала обмен товарами через экстенсивные торговые сети, в которых развились два института — города и купеческие гильдии, организационно отличавшиеся от локальной сельскохозяйственной экономики. Сосуществование этих, без сомнения, противоречивых тенденций проливает свет на одну центральную характеристику средневековой экономики: экономические отношения власти были не унитарными, а множественными. Я начну с клеточных экономик деревни и феодального поместья. Нетрудно проследить их общее происхождение и развитие — поместье было смесью римской виллы и германского феода, деревня — прямым следствием свободных коммунальных черт германской жизни; первое содержало ключевые вертикальные отношения экономики раннего Средневековья, вторая — ключевые горизонтальные отношения. Иерархические отношения раннего средневекового периода обычно подразумевали зависимость и несвободу. Крестьяне были привязаны правом/обычаем к определенному землевладельцу и/или определенному участку земли, поэтому свободное движение вне этих отношений не допускалось. Наиболее общей формой зависимости было крепостное право. Характерной экономикой, в которую было включено крепостное право, было феодальное поместье. Поместье быстро распространялось там, где прежде правили римляне, и намного медленнее в более северных частях Европы. Датские поселенцы остановили его охват в Восточной и Северной Англии. Но ко времени появления «Книги Страшного суда» оно уже доминировало по всей остальной Англии и даже было широко распространено в указанных выше областях. В рамках идеально-типического английского феодального поместья виллан имел свой участок земли, ярд или стержнеобразный участок длиной около двенадцати гектаров, обычно распределенный на отдельные полосы, смешивавшиеся с собственными полосами землевладельца, которые он не сдавал в аренду (хотя они часто были сконцентрированы как приусадебная ферма, окруженная крестьянскими полосами). Каждое виллан-ское домохозяйство было обязано отработать «неделю барщины» — обычно по одному работнику на три дня на полосе землевладельца, которую он не сдавал. Вдобавок он должен был платить землевладельцу различные феодальные повинности, которые обычно вносились в натуральном виде. В деревне также были свободные, кроме того, люди с более идиосинкразическими владениями, которые платили различного рода ренту (опять же зачастую в натуральном виде), подразумевавшую свободный контракт между ними и землевладельцем. Но на практике возможностей разорвать эти отношения (например, путем продажи земли) у них было не больше, чем у вилланов. С локальной экономикой переплеталась административная система и манориальный суд, которые контролировались землевладельцем, но в них вилланы и свободные люди могли участвовать как низшие служащие, например в роли управляющих поместьем[110]. Это была плотная, тесно интегрированная экономика, в которой трудовые повинности оформляли центральные отношения, чрезвычайно интенсивную, но недостаточно экстенсивную форму отношений власти. Но вокруг использования и организации крестьянских полос земли сформировалась вторая плотная, интенсивная, локальная экономика — экономика деревни. Нам мало известно об этой организации, поскольку она не оставила письменных свидетельств. Крестьянские домохозяйства формировали деревенское сообщество, которое решало вопросы собственности и споры о землевладении, закладывало общинные правила сельского хозяйства (разделение участков и удобрений, ротацию севооборота, освоение лесов и болот и т. д.), поднимало феодальные повинности и налоги, а также поддерживало порядок. Отношения между двумя экономическими и административными единицами, феодальным поместьем и деревней, варьировались от области к области. Там, где деревня существовала в рамках более чем одного поместья или поместья пересекались, деревенская община была особенно важна. Но даже там, где действовало правление «одного поместья, одной виллы», две деревенские общины не были идентичными, в основном потому, что не все местные были держателями земель землевладельцев. Это означало, что в локальной экономике не было монополистической организации власти. Угрожавшие власти землевладельцев были ограничены тем, что даже крепостной мог получить поддержку от деревенской общины и права, а также от обычного права. Эти две сети власти также проникали друг в друга — крестьяне и землевладельцы были отчасти независимыми друг от друга и отчасти подразумевали друг друга в своих организациях, что демонстрировало распределение полосок их земли. Взаимное проникновение было наиболее очевидно вдоль старых римских приграничных провинций, где смешивались германские свободные деревни и римские поместья, — в Англии, Бенилюксе, Северной и Центральной Франции и Западной Германии. Эта двойственная локальная организация также подразумевала более экстенсивную торговлю даже в Темные века (Brutzkus 1943; Postan i£)75: 205–208). Что касается варваров, эти захватчики не были такими же отсталыми, чтобы исключать торговлю, как любили утверждать христиане. В действительности викинги были главными торговцами севера Европы между IX и XII вв. Они везли пушнину, железное оружие и особенно рабов на восток в обмен на предметы роскоши. Этот тип торговли (и его последствия в арабском мире) был традиционным на протяжении тысячелетий торговли товарами, которые обладали высоким соотношением цены к весу или были «самоходными» (например, рабы). Между этим типом торговли и производством товаров сельскохозяйственной продукции лежит огромная пропасть. Существенное оживление средневековой торговли проходило не на этой викингской базе, за одним исключением: викинги транспортировали большое количество товаров, леса на большие расстояния по морю и рекам. Это был единственный вклад викингов в экономическую интеграцию Европы: они обеспечивали непрерывную торговлю между Балтикой, Центральной и Южной Европой. Торговля предметами роскоши вне зависимости от того, доставляли их викинги или кто-то еще, оказывала динамическое воздействие на средневековую Европу исследуемого периода лишь благодаря дополнительным импульсам со стороны государственных и церковных институтов. Будь то короли или монахи, аббаты и епископы, они могли умиротворять локальности и гарантировать исполнение контрактов в торговых центрах и на ярмарках, возникавших у их ворот (Hodges 1982; различные эссе у Barley 1977) — Но они не были альтернативными. Христианство королей было значимым для их экономической функции. Миссионеры часто сопровождали торговцев, а их экспедиции обычно вознаграждались не только товарами, но и спасенными душами. Они были практически неразрывно связаны с Римом и велись преимущественно церковью, поскольку она обладала информацией о бывших римских торговых путях и технологиях. Самый первый подъем торговли в Англии, по всей видимости, произошел в VII и начале VIII в. Археологи находят огромное количество локальных монет, датируемых этим периодом. Примечательно, что ни на одной из них не было королевского имени. Лишь позднее, во времена короля Мерсии Оффы (757~796 гг.), изображения местных королей стали появляться на монетах. Викинги-торговцы были восприимчивы к христианству, а двуединый процесс торговли и обращения в христианство способствовал дальнейшей интеграции Северной и Южной Европы. Нормативное умиротворение и порядок христианства были предпосылкой оживления рынков. Более точные детали открывает локальная поместная экономика. Рост стратификации и милитаристические формы, которые она принимала, повышали спрос на определенные товары роскоши, а также на ремесленников-торговцев, которые были тесно с ними связаны. Лордам и рыцарям были необходимы доспехи, оружие, лошади, сбруя, одежда и знаки отличия, а также утонченные еда и напитки. Их потребности росли в ответ на военные тяготы. В XI в. строительство каменных замков способствовало развитию торговли строительными материалами. Церковь была источником специализированного спроса на более искусных строителей, пергаментную бумагу и письменные принадлежности, а также на искусство. Углубление и милитаризация стратификации означали, что можно было извлечь больше излишков, чтобы за все это платить. Немногие лорды, которые по счастливому стечению обстоятельств контролировали шахты, порты или перекрестки дорог, могли извлекать излишки из несельскохозяйственной деятельности; большинство лордов, контролировавших животноводческие области, могли извлекать их из производства кожи, шерсти или тканей, но подавляющее большинство — из земледелия. Нам известно, что одного изъятия излишков было недостаточно, чтобы удовлетворить потребности лордов в товарах роскоши вплоть до XIII в., поскольку до этого времени налицо был чистый отток слитков золота и серебра из Европы на Восток. Европейский торговый дефицит был создан экспортом такого количества монет из драгоценного металла, какой можно было собрать. Однако это создавало существенный стимул к товарному производству и обмену сельскохозяйственной продукцией. Когда в конце XII в. в Англии начали вести систематические таможенные записи, экспорт шерсти и зерна уже был значительным. Письмо Карла Великого Оффе выражает недовольство низким качеством ткани, присланной для униформы армии Каролингов. В другой раз Оффа угрожал прекратить английский экспорт, если Карл Великий не согласится на брачный союз. На рубеже IX в. расширение торговли было связано с появлением продукции товаров первой необходимости с феодальных поместий. Локальные границы уже были установлены. Независимые производственные сферы крестьян также испытали влияние рынка, поскольку феодальное поместье было само по себе большой «агломерацией маленьких зависимых ферм» (как называет их Bloch 1966: 246). Лорды и крестьяне почувствовали силу рынка. Поскольку феодальное поместье развивалось, то же происходило с товарным производством и производством для внутреннего потребления. В конечном счете стали возникать города в период с 1050 по 1250 г. К этому времени торговля была действительно оживленной и сопровождалась ростом купеческих и ремесленных институтов с автономией, беспрецедентной по сравнению с другими цивилизациями (наблюдение за которыми находится в самом центре более «материалистических» частей веберовского сравнительного исследования Востока и Запада). Автономия принимала различные формы: преобладание иностранцев в торговле внутри страны (например, в Англии этот процесс был начат фризами в VII в. и продолжен викингами, фламандцами, Ганзой, ломбардцами, другими итальянцами, а также евреями вплоть до XIV в.), саморегулирующиеся власти ремесленных и купеческих гильдий и банковских домов, политическая автономия городских сообществ против территориальных князей, а также власть купеческих республик (Венеции, Генуи, Ганзы). Города оказывали влияние на сельскую местность. Хотя рынок проникал в феодальное поместье и деревню через производство товаров, которое главным образом контролировал лорд, городское влияние принесло представления о свободе, суммированные известным средневековым афоризмом: «Городской воздух делает человека свободным». По крайней мере физическое бегство от крепостного права к свободе было возможным.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МНОЖЕСТВЕННЫЕ СЕТИ И ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Из всего этого следует лишь одно очевидное и весьма тонкое заключение: ни одна группа не могла монополизировать власть, и наоборот, все акторы власти обладали автономными сферами. В политической сфере лорд, вассал, город, церковь и даже крестьянская деревня обладали собственными ресурсами, позволявшими им вносить свой вклад в тонкий баланс власти. В идеологической сфере сохранились традиционные противоречия христианства, которые выливались в общий политический и экономический конфликт. В экономике землевладельцы, крестьяне (свободные и несвободные), а также города были частично автономными акторами, способными на действие, поддерживаемое обычаем в преследовании экономических целей. К чему бы ни вела эта экстраординарная множественная ацефальная федерация, это точно не была организационная стагнация. Историки снова и снова используют слово «неугомонный», чтобы охарактеризовать сущность средневековой культуры. МакНилл выражает это следующим образом: «Не существовало никакого особого набора институтов, идей или технологий, которые бы отличали Запад, за исключением его неспособности угомониться. Ни одно другое цивилизованное общество никогда не достигало такой неугомонной нестабильности… В этом… заключается истинная уникальность западной цивилизации» (McNeill 1963: 539) — Но подобный дух не обязательно способствовал социальному развитию. Мог ли он подобным образом не способствовать другим формам стагнации: анархии, гоббсо-вой войне всех против всех или аномии, когда отсутствие социального контроля и направления приводило к беспредметности и отчаянию? Мы можем обратиться к открытиям двух великих социологов, чтобы показать, почему результатом было именно социальное развитие, а не анархия или аномия. Первый из них — Вебер, который, отмечая характерную неугомонность Европы, всегда добавлял понятие рациональности. «Рациональная неугомонность» была психологическим состоянием Европы, противоположным тому, что мы находим в основных религиях Азии: рациональное принятие социального порядка в конфуцианстве, его иррациональная антитеза в даосизме, мистическое принятие социального порядка в индуизме, скорее мирское отступление в буддизме. Вебер усматривал рациональную неугомонность особенно в пуританстве. Но пуританство выделяло те стандарты христианской психологии, которые присутствовали в нем традиционно. Спасение для всех при условии индивидуального этического поведения и суд над всеми мирскими властями в горячем эгалитарном видении апокалипсиса, а именно христианство способствовало стремлению к моральному и социальному улучшению даже вопреки мирским властям. Поскольку большая часть средневекового христианства служила благочестивым (и одновременно ханжеским) прикрытием жестоких репрессий, его потоки недовольства всегда были сильными. Мы можем найти огромное количество литературы, содержащей социальную критику. Утопическая, морализаторская, сатирическая, циничная литература могла быть трудной и многословной, несмотря на то что включала некоторые из величайших произведений рассматриваемого периода Англии. Она обладала именно теми психологическими качествами, на которые указывал Вебер. Но для того чтобы поставить рациональную неугомонность на службу социальному усовершенствованию, вероятно, требовался механизм, который был вскрыт вторым великим социологом — Дюркгеймом. Христианство обеспечивало не анархию или аномию, а именно нормативное регулирование. Политическая и классовая борьба, экономическая жизнь и даже войны до определенной степени регулировались невидимой рукой, но не рукой Адама Смита, а рукой Иисуса Христа. Объединяя теории Дюркгейма и Вебера при помощи этой метафоры, мы можем видеть, как христианские руки были благочестиво сложены в молитвах нормативного сообщества и активно использовались в рациональном исправлении несовершенного мира. В следующем разделе я рассмотрю экономический динамизм, который был простимулирован невидимым регулированием множественных сетей власти. Более тонкое заключение относительно воздействия автономий на институты состоит в принятии важной роли последнего — частной собственности. Как принято считать в настоящее время, частная собственность предоставляет эксклюзивное обладание экономическими ресурсами на основе буквы закона. В этих двух отношениях в ранней феодальной Европе не было частной собственности. Блок отмечает, что феодализм, в отличие от римских и современных представлений, не обладал концепцией «чисто» экономических отношений собственности на землю. О собственности вообще говорили редко. Судебные тяжбы не касались собственности и в меньшей степени были основаны на письменных «правовых» документах, скорее на обычаях и сезине — обладании, которое было освящено веками. Собственность не могла существовать там, где земля была отягощена частными обязательствами сеньорам и общине (Bloch 1962: I, 115). Те, кто начинал с подобного контраста, создавали для себя огромные проблемы в объяснении перехода от феодализма к капитализму. Большинство из них призывали «бога из машины»: восстановление римского права главным образом европейским государством, а также обладателями собственности в целом, которые стали влиятельными около 1200 г. (Anderson 1974b: 24–29). Хотя значение возрождения римского права нельзя преуменьшать, этот прорыв обладал меньшим значением, чем ему приписывают. Право не было необходимой частью эффективной частной собственности — в противном случае дописьменные общества могли с легкостью ею обладать. А чрезмерное внимание к праву как критерию частной собственности скрывает то, какими на самом деле были нормативные отношения между государством и частной собственностью. Общепринятая модель предполагает, что прежде возникает эффективное частное обладание, а затем уже создается государство, чтобы его легитимировать. В определенной степени именно это и происходило начиная с XII в. в рамках движения огораживания как части перехода к капитализму. Но, как мы видели в первых главах, эффективное частное обладание вплоть до настоящего момента обычно создавалось с помощью государства. Обычно дезинтеграция обширного государства давала провинциальным агентам и союзникам возможность захватывать и удерживать публичные общественные ресурсы в собственных интересах. Сущностно необходимой предпосылкой этого была возможность спрятать ресурсы из публичного владения. В раннем Средневековье это произошло вновь, поскольку вассалы получили право на эффективное обладание землями, предположительно полученными от лордов. В средневековой Европе крестьяне могли поступать подобным образом по отношению к землевладельцам. Действительно, дело в том, что ни одно сообщество или классовая организация (государство и др.) не обладали монопольными властями, что означало: практически каждый обладал их собственными экономическими ресурсами, которые были «частными» в латинском смысле, то есть скрытыми от контроля государства или других организаций. В этом смысле европейский феодализм предоставлял экстраординарную степень «частной» собственности. Собственность была не в форме земли, эксклюзивно контролируемой отдельным индивидом или домохозяйством, но «частная», то есть скрытая, экономическая деятельность была более широко распространена, чем в эпоху зрелого капитализма, когда около 10% индивидов обладают 80% частных благ и инфраструктурно могущественные государства и корпорации сильнее ограничивают сферу частного. В начале 800 г. в европейском феодализме доминировала частная собственность в смысле скрытого и эффективного обладания. Таким образом, возникновение капиталистической частной собственности представляет собой отдельную проблему, отличную от тех, которые мы находим в большинстве конвенционально принятых объяснениях. Во-первых, не так важно, как люди получали свои частные ресурсы от общинных «феодальных» институтов, важно скорее то, как некоторые из них сохраняли их вопреки изменяющимся обстоятельствам (то есть как появлялись настоящие «капиталисты») и как народные массы теряли права собственности на них, превращаясь в настоящих безземельных работников. Во-вторых, рост государств был не антитезой роста капитализма, а необходимым элементом в исключении множественных частных обязательств унитарным эксклюзивным владением. Я вернусь к первой проблеме позднее в этой главе, а ко второй — в последующих главах.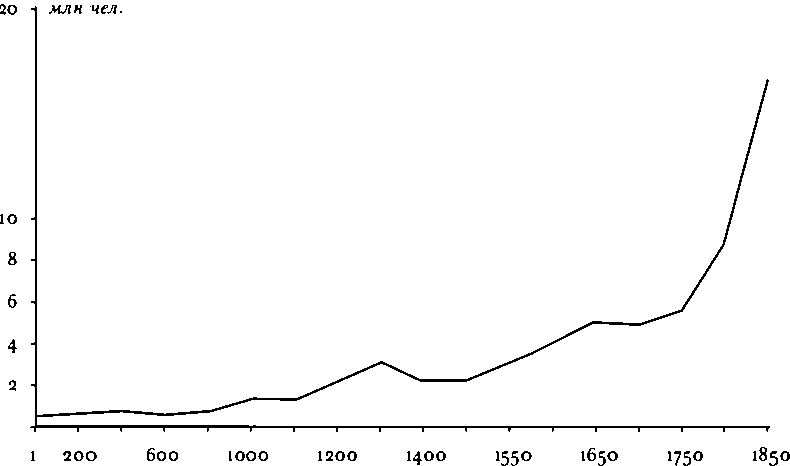 рис. 12.1. Приблизительное население Англии 1-1850 г.н. э. (источники: Russel 1948; Me Evedy and Jones 1978; 43;Wrigley and Schofield 1981: 208-9, 566-9)
рис. 12.1. Приблизительное население Англии 1-1850 г.н. э. (источники: Russel 1948; Me Evedy and Jones 1978; 43;Wrigley and Schofield 1981: 208-9, 566-9)
ФЕОДАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Экономический рост
Существует масса препятствий, не позволяющих изобразить хронологию европейской экономики. Около 1200 г. исторические свидетельства становятся более достоверными, поскольку государства и феодальные поместья начинают вести более детализированный учет, что создает трудности для сравнения периодов до 1200 г. и после. Тем не менее я уверен, что мы можем разглядеть существенную последовательность начиная с 800 г. вплоть до сельскохозяйственной революции XVIII в. Эта последовательность содержит три основных аспекта: экономический рост, сдвиг в экономической власти в Европе от Средиземноморья к северо-западу и, следовательно, сдвиг к превалирующим там организациям власти. Можно начать с демографических трендов. Для этого необходимо объединить информацию из редких неполных переписей арендаторов земли («Книга Страшного суда» 1086 г.) или налогоплательщиков (отчеты о подушном налоге в 1377 г.) с оценками среднего размера семьи и археологическими находками количества возделываемых и заброшенных гектаров. Даже наиболее аккуратно скомпилированные цифры для Англии (какими являются данные Рассела для 1086 и 1377 гг. (Russell 1948) оспариваются Постаном (Postan 1972: 30-35). Наилучшее решение — округлить цифры и выровнять данные разных лет, отобразив их на рис. 12.1. Хотя данные самых ранних лет гипотетические, они соответствуют утверждениям большинства историков о том, что к 800 г.н. э. уровень населения восстановился, достигнув наивысших значений при римской оккупации, а также что к моменту появления «Книги Страшного суда» он удвоился. Население вновь удвоилось к началу XIV в., а затем рост прекратился, прежде чем сократиться, возможно, на треть или до 40 % в период черной смерти и последующих бедствий. К 1450 г. уровень населения стал расти и никогда уже так заметно не сокращался. С 800 до 1750 г., за исключением XIV в., рост был, вероятно, непрерывным. Другие европейские страны демонстрировали похожий рост, хотя их ритмы отличались (рис. 12.2).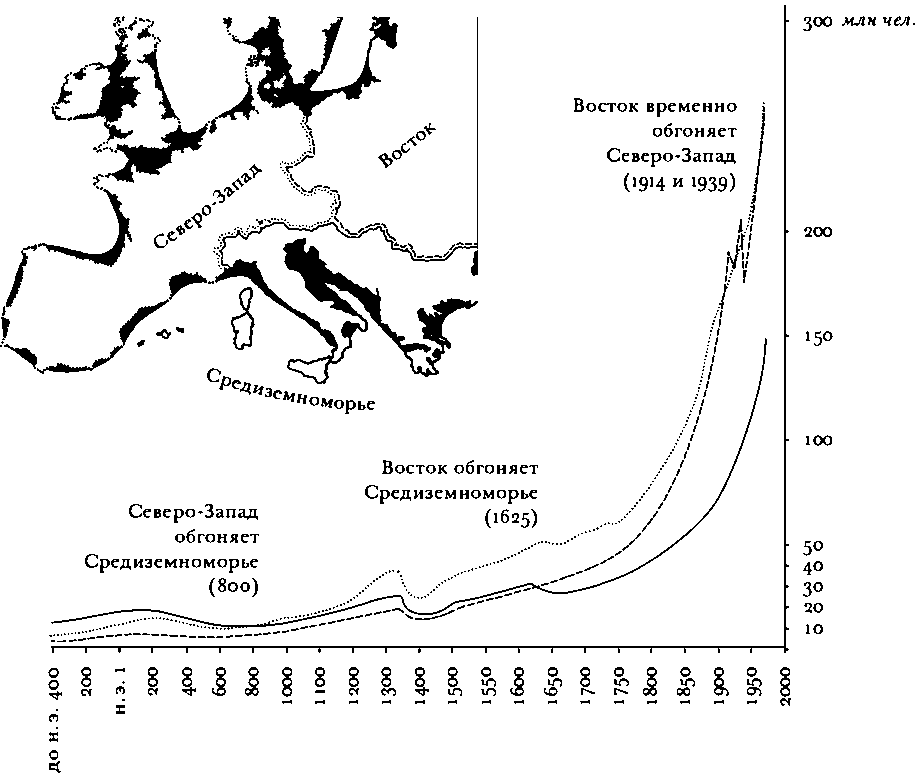 РИС. 12.2. Европа: подразделение по регионам (источник: McEvedy and Jones 1978: гр. l.io)
РИС. 12.2. Европа: подразделение по регионам (источник: McEvedy and Jones 1978: гр. l.io)
Поэтому стремительный и ранний рост населения Англии был характерным для всей Северо-Западной Европы в целом. Хотя население Средиземноморского региона также росло, оно так и не восстановилось до бывших «римских» уровней в течение примерно трех или четырех столетий после 1200 г. Более того, к 1300 г. плотность населения Фландрии сравнялась с итальянской, тогда как плотность населения Испании и Греции отныне была ниже, чем плотность практически любого региона севера и запада. Поэтому начиная с 800 по 1200 г., согласно данным графика, европейские страны обладали более высоким уровнем населения, чем когда-либо прежде. С небольшими отклонениями эти показатели продолжили свое восходящее движение через средневековый и раннесовременный периоды. Это наше первое свидетельство в пользу устойчивости европейской динамики, особенно в северо-западной части континента. Большая численность сельскохозяйственного населения могла поддерживаться двумя путями: либо экстенсивным — путем расширения площади обрабатываемых земель, либо интенсивным — путем повышения показателей урожайности на той же площади. В Европе происходило и то и другое, хотя в различных пропорциях, в разное время и в разных регионах. До того как численность населения достигла прежних показателей, расширение могло происходить за счет распашки полей, которые раньше обрабатывались римлянами. На юге римская распашка была настолько полной, что дальнейшая экспансия была едва ли возможна. На севере огромные территории болот и лесов, которые до этого никогда не возделывались, могли быть возделаны. Этот процесс преобладал, согласно историческим документам, в таких странах, как Англия и Германия, вплоть до 1200 г. Однако начиная примерно с этой даты качество новых малоплодородных земель не было высоким. Истощение земель и нехватка удобрений, по всей видимости, привели к кризису в XIV в., который оставил население слишком ослабшим, чтобы сопротивляться черной смерти — эпидемии, которая разразилась между 1347 и 1353 гг. — первая и основная волна. Если бы экстенсивное сельское хозяйство было единственным европейским решением, то с этого момента континент сталкивался бы с подобными мальтузианскими циклами каждое столетие и там не возникло бы условий для зарождения капитализма. Более интенсивное сельское хозяйство также имело место, о чем говорят показатели урожайности. Период до 1200 г. плохо задокументирован и противоречив. Я анализировал цифры, относившиеся к нему, в главе 9. Если мы примем оценки Слихера ван Баса, а не Дюби, то обнаружим небольшой рост урожайности между IX и началом XII в. — в Англии коэффициент урожайности пшеницы по отношению к посаженным семенам вырос с 2,7 до 2,9 или 3,1. В большинстве регионов стимулы к улучшению были снижены доступностью хороших целинных земель, но после 1200 г. эта альтернатива стала менее привлекательной. Слихер ван Бас (Slicher van Bath 1963: 16–17) суммирует данные об урожайности (табл. 12.1). Он разделяет Европу на четыре группы в соответствии с их урожайностью, но они также оказываются региональными группами: группа I: Англия, Ирландия, Бельгия, Нидерланды; группа II: Франция, Испания, Италия; группа III: Германия, Швейцария, Дания, Норвегия; группа IV: Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Россия. Данные относятся к пшенице, ржи, ячменю, а также к овсу, поскольку урожайности этих зерновых идентичны.
ТАБЛИЦА 12.1. Европейские коэффициенты урожайности, 1200–1820 гг.
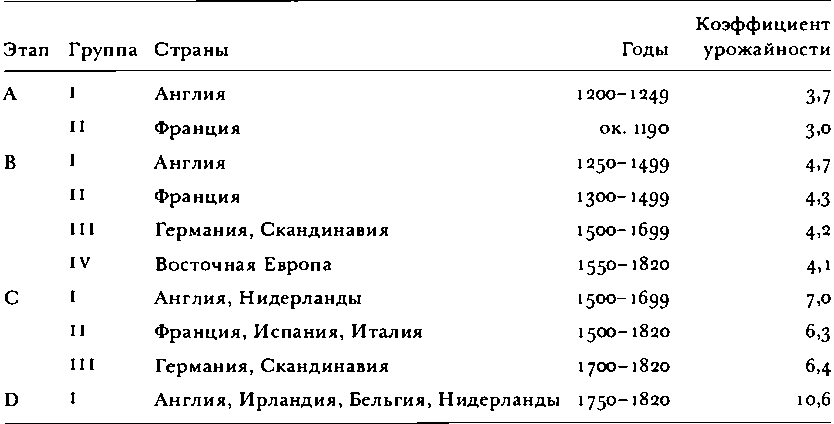
К 1250 г. страны группы I существенным образом повысили урожайность. И хотя были некоторые провалы в начале XIV, XV и XVII вв., рост урожайности продолжался. К 1500 г. они опередили лучшие региональные показатели в древней Европе. В конце XVIII в. урожайность увеличилась до отметки, при которой большая часть населения впервые смогла заняться несельскохозяйственной деятельностью10. Мы наблюдаем нею. Данные об урожайности в XVIII в. преуменьшают сельскохозяйственные усовершенствования этого времени, многие из которых увеличили использование ротации полей и разнообразие зерновых культур, а не просто повысили урожайность зерновых (см. главу 14). пропорционально быстрый и ранний рост на Северо-Западе, способствующий сельскохозяйственному лидерству региона начиная с XIII в. и далее. Уровни урожайности имеют решающее значение. Только с их помощью можно было избежать мальтузианских циклов после 1200 г., поддержать жизнь большей части населения на определенной территории, перенаправить население во вторичный и третичный секторы. Эти цифры показывают, что такой потенциал был заложен в европейской социальной структуре с ранних времен, особенно на Северо-Западе. Они являются лишь индикатором феодальной динамики, а не их причиной. Но они демонстрируют, как рано эта динамика началась. Можно ближе подойти к пониманию причин путем исследования технических изменений, которые непосредственно тормозили рост урожайности.
Технологии и изобретения Средних веков
Одни историки описывают Средние века как период, «в рамках которого технологические инновации сменяли друг друга в ускоренном темпе» (Cipolla 1976: 159)» как эпоху, отличавшуюся «технологическим динамизмом», «технологической креативностью» (White 1972: 144, 170) Другие, напротив, утверждали, что «косность средневековых сельскохозяйственных технологий не вызывает сомнений» (Postan 1972: 49). Многие полагают, что креативность в целом ускорилась лишь позднее, в эпоху Возрождения в XIV в. До этого большинство основных изобретений проникало в Европу из других регионов. Но нецелесообразно говорить о «косности» на таком общем уровне, как я утверждаю в главе 9, как римский период, который часто называют застойным. Римляне создали ряд изобретений, пригодных для своих организаций власти, но менее пригодных для организаций нашего времени. Я назвал эти изобретения экстенсивными, поскольку они способствовали завоеваниям и минимальной эксплуатации больших пространств земли. Подобным образом мы не можем назвать европейское Средневековье просто креативным или застойным, поскольку обнаруживаем преобладание определенного типа изобретательства в противоположность римскому —интенсивное изобретательство. Рассмотрим отличия от Рима подробнее. Одним из основных римских изобретений была арка — результат применения метода устройства мостов, позволяющий разгрузить их центральный пролет путем передачи нагрузок на фланкирующие боковые опоры. Вес, который выдерживала арка, мог быть намного большим, нежели тот, что могла нести поперечная балка, укладывавшаяся поверх колонн, — универсальный метод строительства в прошлом. Римские мосты были в основном транзитными: пешеходы передвигались по их боковым уступам, солдаты и повозки пересекали их по центру, самая тяжелая из всех нагрузок — вода по акведукам доставлялась в город. Таким образом, арка была важной частью римского проекта покорения горизонтального пространства. Она была настолько прогрессивной, что использовалась всеми последователями Рима в их более скромных строительных проектах. Но в 1000 г.н. э. в исламском, а затем и в христианском мире произошли важные трансформации в устройстве самой арки. На смену полуциркульной римской арке пришли овал, вытянутый по вертикальной оси, а затем и стрельчатая готическая арка. Благодаря значительной высоте стрелы ее подъема вертикальные нагрузки передавались на сформированные нервюрами пилоны. Поэтому масса стен могла быть сокращена, в проемах устраивались витражи, пропускавшие в интерьер цветной свет. Но проблема все-таки оставалась: чем выше была стрела подъема арки, тем больший горизонтальный распор приходилось выдерживать стене. В XII в. было найдено решение этой проблемы: им стали контрфорсы и аркбутаны, которые пристраивались с внешней стороны стены, чтобы принять и погасить возросший горизонтальный распор. Это было потрясающее архитектурное решение, с помощью которого были созданы самые большие, прочные и прекрасные постройки из когда-либо существовавших ранее, — европейские кафедральные соборы. Специализированное использование подобных технологий (поскольку они не использовались в постройках другого типа в течение нескольких веков) может многое нам рассказать о средневековом обществе. Началось покорение высоты. Эти технологии позволили аркам выдерживать большие веса, чем римские арки, но они отныне не использовались для перевозки грузов, транспортировки товаров или людей. Это был вес вертикальной структуры — 38-метрового свода Реймского собора (46-метровой арки Бове, которая была разрушена), башни Ульмского собора. Все они устремились наверх — к Богу. Тот факт, что средневековым кафедральным строениям пришлось превратить римское приспособление для покорения горизонтального пространства в приспособление для покорения вертикального пространства, выглядит особенно показательным. Дело в том, что они прославляли и следовали за Иисусом Христом, который на самом деле покорил горизонтальное пространство альтернативным способом — через покорение душ! Это также свидетельствует о пренебрежении средневекового общества к экстенсивным инновациям. Иисус и святой Павел при помощи инфраструктурного наследия Древнего мира создали христианский мир. Экстенсивность сохранялась. Не было сделано ни одной существенной инновации в области обмена сообщениями или в транспортных технологиях в средневековый период, кроме одного важного исключения (Leighton 1972). Это исключение, разработанное прежде всего не для усовершенствования коммуникационных систем, касалось использования лошадей, а не распашки земли. Средневековая Европа не осуществляла никаких инноваций, следуя экстенсивным римским векторам. Смысл уже упомянутой метафоры заключается в том, что средневековая Европа была заинтересована не в ширине, а в высоте, поэтому наиболее значимые экономические инновации заключались в глубине. Эта метафора должна вызывать те же ассоциации, что и у большинства исследователей, согласных с тем, что ключевые технологические изобретения Средневековья были сделаны в распашке земли, изменении в ротации полей, а также в подковке и упряжке рабочего скота. К этому также необходимо добавить водяную мельницу (которая, вероятно, чрезмерно расширяет и не вполне укладывается в метафору «глубины»). Все эти инновации были широко распространены к 1000 г. и значительно увеличили урожайность тяжелых почв, то есть почв Северной и Западной Европы. Чиполла суммирует основные технологические инновации Запада: 1) с VI в. — распространение водяной мельницы; 2) с VII в. — тяжелого плуга на севере Европы; 3) с VIII в. — трехпольной системы; 4) с IX в. — подковки лошадей, а также нового метода упряжки рабочего скота [Cipolla 1979:159-60]. Уайт суммирует их результат: Между первой половиной VI в. и концом IX в. Северная Европа созидала серию изобретений, которые быстро объединились в совершенно новую систему сельского хозяйства. В терминах крестьянского труда она была намного более продуктивной, чем все, что до нее существовало [White 1963: 277]. Бридбери (Bridbury 1975) решительно заявляет, что эти инновации были укоренены глубоко в Темных веках и не были результатом городского или морского возрождения, происходивших (особенно в Италии) начиная с XI в. Рассмотрим характер этих инноваций. Тяжелый плуг состоял из железного ножа, который увеличивал борозду, железного сошника, который углублял борозду, и углового плужного отвала, который приподнимал и опрокидывал нарезанную землю на правую сторону. Он мог рыхлить более глубокие, тяжелые почвы, поднимать их и прокладывать дренажные борозды. Заболоченные равнины Северной Европы могли осушаться и после этого использоваться. Но плуг требовал больше энергии для пахоты, которая возникла благодаря усовершенствованиям подковки и упряжки больших групп быков или лошадей. С ротацией земель дела обстояли сложнее. Но сложность и неравномерность распространения двухпольной системы против трехпольной свидетельствовали о том, что крестьяне знали о большом потенциале более тяжелых почв для урожаев зерна и некоторых овощей, а также о специфических проблемах, связанных с удобрением таких почв. Взаимозависимость хлебопашества и животноводства усилилась, а это сдвинуло передовой фронт власти на север, в области, подобные Юго-Восточной Англии или Фландрии, где зоны хороших пастбищ и зерновых полей пересекались. Более того, в глобальной перспективе это, по всей видимости, определило решающее сельскохозяйственное преимущество Западной Европы по сравнению с Азией и, в частности, над китайскими интенсивными рисоводческими технологиями. Животная тяга и навоз дали европейцам «двигатель, который был примерно в пять раз мощнее того, которым обладали китайцы» согласно Шоню (Chaunu 1969: 366). Ни одна из этих инноваций не была только техническим решением, а включала также интенсивную социальную организацию. Экономическая единица размером примерно с деревню или феодальное поместье была подходящей для снаряжения упряжки быков или лошадей, организации их совместного использования (последнее также способствовало установленным характеристикам длины полос земли раннего средневекового сельского хозяйства), а также ротации и удобрения полей. Подобная организация могла повышать урожайность зерновых на тяжелых почвах, так же как водяная мельница увеличивала помол зерна. Ничто так отчетливо не выражает характер средневекового сельскохозяйственного динамизма, как водяная мельница, изобретенная еще в римский период, но получившая широкое распространение только теперь. Относительно этого вопроса мы располагаем некоторой статистикой. «Книга Страшного суда» к 1086 г. насчитывала в Англии 6 тыс. мельниц (Hodgen 1939) — цифры, которые Леннард (Lennard 1959: 278) рассматривает как заниженные по меньшей мере на 10%, поскольку в среднем на деревню приходилось две мельницы или одна мельница на 10–30 плугов. Одни мельницы находились под контролем местных землевладельцев, другие нет. Но все демонстрировали, что экономическая власть и инновация проникали в локальность через децентрализацию. Технология повышения чистой урожайности и, следовательно, численности населения была интенсивной, а не экстенсивной, продуктом локальной власти, рассмотренной ранее. Причинно-следственные механизмы становятся все более понятными. Они были сгенерированы эффективным локальным держанием автономных экономических ресурсов, которое было институционализировано и легитимировано экстенсивными властями христианства. Рассмотрим более подробно механизмы экономической экстенсивности. Как регулировалась торговля и почему ее было относительно много? Один из факторов заключался в равнинной экологии, которой всегда отводилась важная роль в неоклассической экономической теории. Как утверждает Джонс (Jones 1981), часть «европейского чуда», когда Европа сравнялась с Азией, основывалась на европейских экологических контрастах, которые создавали «разбросанное портфолио ресурсов», в результате чего внушительное количество практически полезных товаров (например, зерно, мясо, фрукты, оливы, вино, соль, металлы, дерево, животные, кожа, мех) обменивалось по всему континенту. Высокая доля морских побережий и судоходных рек сохраняла транспортные издержки на низком уровне. Затем, продолжает Джонс, последствием, вытекавшим из экономической рациональности, явилось то, что государства были заинтересованы не в грабеже грузов, состоявших из продуктов прожиточного минимума, которыепродавались в качестве сырьевых товаров, а в обложении их налогом; в качестве компенсации за налоги государства обязались обеспечивать базовый социальный порядок. Государственная «машина разграбления» обошла Европу стороной, отсюда и экономическое развитие. Поскольку экономисты-неоклассики убеждены, что рынки являются «естественными», Джонс цитирует своего наставника Адама Смита: «…нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении; все остальное сделает естественный ход вещей» (Jones 1981: 90–96, 232–237). Но этот подход упускает некоторые существенные предпосылки. Во-первых, почему Европа сразу же рассматривается как континент? Это не экологический, а социальный факт. Прежде она не была континентом, а появилась в результате слияния германских варваров с северо-западными частями Римской империи, на юге и востоке ее ограничивало распространение ислама. Идентичностью континента было в первую очередь христианство. Эта область была известна скорее как христианский мир (христианская цивилизация, Christendom), а не Европа. Во-вторых, для того чтобы производство могло достигнуть достаточного для экстенсивной торговли уровня, требовались социальные предпосылки технологической инновации, описанные выше. В-третьих, чтобы продукты стали «товарами», требовалась особая, необычная социальная форма, известная как частная собственность, также описанная выше. В-четвертых, основные социальные акторы, определенные Джонсом как капиталистические купцы и государства, на самом деле позаимствованы из более поздних периодов капитализма. Осознание этого с необходимостью отсылает нас к источникам экстенсивной власти христианского мира, и я собираюсь их раскрыть. Обратимся к самому сердцу ранних средневековых торговых сетей. Это был коридор или скорее две параллельные диагональные линии, идущие с северо-запада на юго-восток. Одна линия собирала продукцию Скандинавии и севера у устья Рейна, сплавляла ее по Рейну в Швейцарию, а оттуда на север, точнее, на северо-восток — в Италию, получая в обмен средиземноморскую и восточную продукцию. Другая линия начиналась во Фландрии, собирала продукцию Северного моря, а затем отправляла ее в основном сухопутным транспортом через Северную и Восточную Францию к реке Лауре и затем к Средиземноморью и Северо-Западной Италии. Второй путь был более важным, к тому же он обладал ответвлением, идущим к среднему Рейну. Что поразительно в этих путях, так это то, что они или не охватывали, или были в определенной степени периферийными по отношению к тем государствам, в которых существовал централизованный порядок, — к Англии, а также к центральным землям, которыми владела корона во Франции и император в Германии. Отождествление государств и торговли не является полностью ложным, скорее государства, которые были в большей степени вовлечены в торговлю, отличались от «современных» государств. Вдоль первого пути мы обнаруживаем большое количество церковных «государств». На землях от Фландрии до Роны, а также на Рейне расположены агломерации церковных поместий, управляемых епископами и архиепископами, например в Нойоне, Лаоне, Реймсе, Шалоне, Дижоне, Безансоне, Лионе, Вене, Кельне, Трире и Манце, а также могущественные монастыри, в частности Клерво и Клюни. Мы также обнаруживаем, что светскими правителями здесь были мелкие князьки, которые нежестко управляли своими землями через конгломераты землевладельцев. И князьки, и их вассалы также внимательно следили за признаками превосходства и движением к ним со стороны более могущественных государств, таких как Франция, Германия, Англия. Соответственно герцогства Верхняя и Нижняя Лотарингия (Лоррен), герцогство и графство Бургундия, графства Фландрия, Шампань и Прованс вступали в союзы и/или отношения вассалитета, иногда на основе заключения браков, иногда на основе свободных соглашений с Францией, Англией и Германией. Хотя великие государства с удовольствием бы установили более постоянный контроль над этими землями, но не могли этого сделать в силу богатства последних. Таким образом, существовала корреляция экономического богатства и динамизма со слабостью государства, что заставило многих исследователей рассматривать раннюю средневековую торговлю как нечто «интерстициальное» по отношению к миру великих лендлордов и государств. Хотя это было справедливо по отношению к Италии на нижнем конце коридора, ко всем остальным странам нет. Это не был торговый коридор, отделенный от сельскохозяйственного производства, но коридор, который действительно создавал изначальные естественные преимущества для торговли, поскольку соединял Северное и Средиземное моря (вспомним, что ислам перекрыл Гибралтарский пролив), поймы и долины которых также были самыми плодородными землями в Европе. Но, однажды возникнув, этот коридор изменил сельское хозяйство. Фландрия развивала товарные культуры, животноводство и овощеводство, позднее она получила английскую шерсть. На плодородных почвах Северной Франции выращивали пшеницу. Рона сконцентрировалась на добыче соли и производстве бургундского вина. Землевладельцы этих областей, светские и церковные, получали огромные прибыли. В обмен на налоги от торговли они не просто обеспечивали локальный порядок, их собственные поместья становились более похожими на капиталистическое сельское хозяйство, производящее товары для обмена. А их исключительно локальный порядок не деградировал в региональную анархию, поскольку они разделяли лояльность не к общему государству, а к общему классу. Они навещали друг друга, слушали одни и те же романсы, эпосы и проповеди, обсуждали одни и те же моральные дилеммы, роднились друг с другом, заключая браки, посылали своих младших сыновей в крестовые походы и не сводили глаз с великих держав. Их экономическая рациональность имела моральную базу — классовую мораль, обеспечиваемую христианством. Как можно убедиться в следующей главе, эта особая область поддерживала длительную связь между слабым государством и экономическим динамизмом, начиная с роста герцогства Бургундия в XIV–XV вв. Отношения между сильными государствами и протокапиталистическим развитием в других европейских областях может быть датировано этими же веками, хотя и несколько более поздними по сравнению с теми, которые рассматриваются в этой главе. Нормативная солидарность землевладельцев, светских и церковных (а также в меньшей степени крестьян), выражаемая в форме слабых и действительно «феодальных» государств, была необходимой предпосылкой для обеспечения порядка для рынков и, следовательно, экстенсивности раннего европейского динамизма. Я ни в коем случае не постулирую «однофакторного» объяснения. На протяжении всего процесса европейского развития также сказывается крайне долгосрочное присутствие отличительно «европейской» экономики, объединявшей крестьян и железные орудия, которое довольно хорошо укладывается в неоклассическое объяснение «европейского чуда». Как мы уже видели, после железного века на большей части Европы преобладали крестьянские семьи, использовавшие металлические орудия и домашних животных, чтобы обрабатывать богатые, но тяжелые и влажные почвы и обменивавшиеся продуктами первой необходимости как квазитоварами. Преобладавшая в Европе нуклеарная семья ограничивалась путем позднего брака (как показал Хайнал (Hajnal 1965) на примере XVI в.). В Англии «индивидуальные» формы собственности существовали начиная с XII в. (McFarlane 1978), хотя Макфарлейн рассматривает их как отличительно английские, а не общие для Северо-Западной Европы, доказательств против последнего он не приводит). Вероятно, они были установлены гораздо позже и были частью более позднего капитализма. Мой аргумент состоит в том, что без понимания больших макроструктур власти (начиная со структур Восточного Средиземноморья, включая структуры Римской империи и заканчивая структурами христианского мира) мы не можем отыскать интенсивных и экстенсивных властных предпосылок «европейского чуда».НЕЗРЕЛЫЙ ПЕРЕХОД К КАПИТАЛИЗМУ
Сложная часть объяснения закончена. Начиная с этого момента можно продолжать повествование, опираясь на две хорошо разработанные материалистические теории перехода. Мы остановились на моменте, когда отдельные семьи и локальные деревенские и поместные сообщества стали принимать участие в более широких сетях экономического взаимодействия, руководствуясь институционализированными нормами, управлявшими держанием собственности, производственными отношениями и рыночным обменом. Они обладали автономией и приватностью, достаточными для того, чтобы самостоятельно следить за результатами своих предприятий, а следовательно, и для того, чтобы собственноручно подсчитывать собственные издержки и прибыли от альтернативных стратегий. Таким образом, при помощи общепризнанных спроса, предложения и стимулов к инновациям экономисты-неоклассики могут предложить объяснение. А поскольку этими акторами были не только семьи и локальные сообщества, но и социальные классы, землевладельцы и крестьяне, марксизм может помочь нам в анализе их борьбы. На самом деле вопреки полемике, существующей между двумя школами экономической истории, они представляют по сути одно и то же описание перехода. Верно, что они придают разное значение различным факторам, воздействующим на рациональные подсчеты, конкуренцию и классовую борьбу. Неоклассики предпочитают факторы, которые рассматриваются как внешние по отношению к социальной структуре (или по крайней мере к классовой структуре), например рост и снижение уровня населения, климатические изменения или различия в плодородности почв. Марксисты предпочитают различия в классовой организации. Разумеется, более детальное объяснение перехода от феодализма к капитализму, которое я пытаюсь здесь предложить, будет вынуждено выбирать между этими аргументами. Но в целом две школы довольно хорошо дополняют друг друга и предлагают совместное описание позднего развития феодальной динамики. Единственное, чего им недостает (и что я надеюсь привнести), это объяснения того, как мир впервые оказался в такой ситуации, к которой применимы их модели. В рамках средневекового периода проявились два параллельных течения по направлению к возникновению эксклюзивности в правах собственности. Эксклюзивность развилась из приватности. Одно наделяло эксклюзивными правами собственности лордов, второе — большую часть крестьянства. Они были частью общего течения по направлению к капиталистическим отношениям в сельском хозяйстве, хотя в различных регионах и в разные исторические периоды развивалось либо одно, либо другое, поскольку между ними существовало что-то вроде взаимообратных отношений вплоть до окончательного исчезновения феодального способа производства. Наилучшим примером обеих тенденций был кризис XIV в. Поэтому я забегу вперед, отбросив хронологическое разделение глав, чтобы коротко описать этот кризис и выявить его связь с общими трендами феодализма. Это описание по большей части опирается на два неоклассических исследования (North and Thomas i£)73: 46–51, 59–64, 71–80; Postan 1975) и два марксистских исследования (Anderson 1974а: 197–209; Brenner 1976). Как уже было отмечено, они не так уж сильно различаются. На первом этапе кризиса XIV в. изменения в относительной стоимости товаров и факторной стоимости складывались в пользу землевладельцев. В рамках XIII в. рост населения наблюдался на всей европейской территории. Малоплодородные земли низкого качества уже были распаханы, и нависала угроза перенаселения. Таким образом, труда было более чем достаточно, а хорошей земли не хватало. Рыночная власть тех, кто контролировал высококачественные земли, то есть власть землевладельцев, росла по отношению к власти тех, кто зависел от труда, то есть крестьян. Землевладельцы повысили степень их эксплуатации и получили непосредственную обработку земель через отработки (барщину). Это происходило всякий раз, когда в средневековой экономике складывались условия, благоприятствовавшие землевладельцам. Их основной стратегией было вытягивание независимой части крестьянского труда на поместье, сокращая держания крестьян до размеров, достаточных, чтобы крестьянские домохозяйства не умирали с голоду и воспроизводили следующее поколение рабочей силы. Теперь землевладельцы могли присваивать любые излишки напрямую (Hindess and Hirst 1975: 23®5 Banaji 1976). Они также могли использовать экономию от масштаба и инвестиции капитала в свои владения для большего контроля над крестьянством. Таким образом, как писал Маркс, землевладельцы стали «управляющими и хозяевами процесса производства и всего процесса общественной жизни» (Marx 1972: 860–861). Например, водяная мельница перешла под их контроль и стала использоваться как феодальная монополия. Крестьяне были вынуждены нести свое зерно на мельницу землевладельца, также они были вынуждены пользоваться его печами, черпать его воду, топить его лесом и использовать его винный пресс. Подобное принуждение стало ненавистной banalites,[111] частью феодальных прав землевладельца. Они получили широкое распространение в X–XI вв., поскольку землевладельцы предприняли экономическое наступление (Bloch 1967: 136–168). Все эти стратегии были нацелены на развитие экономического принуждения, и если добивались в этом успеха, то изменяли социальные отношения производства. Вопреки законным или обычным правам крестьянское эффективное держание земли было экспроприировано. Каждый землевладелец форсировал движение по направлению к эксклюзивному владению землей. Это был первый путь, ведущий к капитализму. Но после голода и чумы первой половины XIV в. относительная стоимость товаров и факторная стоимость изменились в обратном направлении. Теперь в выигрыше оказались крестьяне-земли было предостаточно, а труда не хватало. Крестьяне снизили арендную плату, а вилланы получили эксклюзивные права на их землю с большими возможностями накопления капитала. Они могли создавать излишки и использовать их часть для оплаты долгов в натуральном или денежном выражении, а не в виде трудовой повинности. Чем больше крестьянину везло в размере и качестве земли, тем больше средств производства он в конечном счете получал и мог даже нанять работников, наделы которых располагались на более скудных почвах. Богатые крестьяне — кулаки развивали мелкотоварный способ производства, в основе которого лежала интенсификация использования средств производства, включая труд более бедных крестьян как товар. Это второй путь богатых крестьян к эксклюзивной частной собственности и капитализму (его особенно подчеркивает Dobb 1976: 57—97) — Большинство историков принимают и то, что крестьяне сыграли огромную роль в росте средневековой производительности, и то, что рост привел к дифференциации в среде крестьян, которая, в свою очередь, способствовала раннему накоплению капитала (Bridbury 1975) — это напоминание о децентрализованной природе феодальной динамики. В конце концов две тенденции и социальные группы (землевладельцы и богатые крестьяне) слились воедино, разрушив двухклассовую структуру, состоявшую из землевладельцев и крестьян, и заменили ее новыми классами: меньшинством владельцев эксклюзивной собственности и массами безземельных рабочих — капиталистическими фермерами и сельским пролетариатом. Рынок перестал быть в первую очередь инструментом класса землевладельцев и стал инструментом собственности и капитала в целом. Таково описание перехода от феодального способа производства к капиталистическому. Но прежде чем этот переход мог произойти, должна была реализоваться еще одна возможность, внутренне присущая феодальному способу производства. Если феодальный способ производства дал лордам монополию на средства физического насилия, разве не могли они ответить военным принуждением во времена, когда относительная стоимость товаров и факторная стоимость складывались не в их пользу? А именно вело ли относительное сокращение труда к усилению рыночной власти крестьянства? Почему насилие, выходившее за рамки экономики, монополизированное землевладельцами, не стало решением этой проблемы? Это вовсе не праздный вопрос, поскольку во многих других обществах и эпохах ответ землевладельцев на сокращение труда состоял именно в принудительном усилении зависимости их работников. В главе 9 мы видели, как это произошло в поздней Римской империи и закончилось экономической стагнацией. Очевидный ответ на эти вопросы состоит в том, что европейские землевладельцы пытались прибегнуть к репрессиям и номинально им это удалось, но не помогло. Возвращаясь к примеру сокращения труда в конце XIV в., необходимо отметить, что на это отреагировали лендлорды. Землевладельцы пытались прибегнуть к насилию и законодательству, чтобы привязать крестьян к поместью и понизить зарплаты (так же, как это дели римские землевладельцы на закате империи). По всей Европе крестьяне восставали, и везде, кроме Швейцарии, их восстания были подавлены. Но победа землевладельцев оказалась пирровой. Землевладельцы склонились не перед крестьянами, а перед трансформировавшимся капиталистическим рынком, а также возможностями получения прибылей и угрозами их потери. Слабое государство не могло приводить в исполнение законы без сотрудничества с землевладельцами — они и были этим государством. Некоторые землевладельцы приняли это, сдав в аренду свои поместные земли, и перевели трудовые повинности в денежную ренту. Андерсон заканчивает обзор «общего кризиса феодализма» следующим утверждением: «Поместные земли, обрабатываемые рабским трудом, стали анахронизмом во Франции, Англии, Западной Германии, Северной Италии и большей части Испании к 1450 г.» (Anderson 1974а: 197–209). Феодальный способ производства был окончательно разрушен рынком. Это было бы весьма неудовлетворительным заключением, если бы мы на нем остановились. Неоклассические экономисты так и сделали, поскольку считают существование рынка естественным феноменом. «Рыночная разновидность» марксизма (Sweezy 1976) также останавливается на этом, поскольку она возникла только лишь из эмпирических данных о средневековом мире, а не из теоретического знания о рынках как формах социальной организации. Ортодоксальные марксисты считают, что производство предшествует обмену и, следовательно, производственные отношения детерминируют рыночные силы. Но это не так. Проблема не в самом факте существования производственных отношений, а в их форме. Рыночные возможности с легкостью могут оказывать влияние на форму производственных и социальных отношений в целом, как мы убедились в главе 7 на примерах Финикии и Греции. В данном случае рыночные возможности, изначально созданные феодальным христианским правящим классом, оказали обратное влияние на этот класс, даже несмотря на то, что он обладал монополией на физическое принуждение. Рынок сам по себе является формой социальной организации, мобилизации коллективной и дистрибутивной власти. Он не является изначально существующим, а, напротив, сам нуждается в объяснении. Аргумент этой главы лишь подступает к этому объяснению — это только начало, поскольку, обратившись к кризису XIV в., я забежал несколько вперед. В следующей главе я продемонстрирую, как города и государства способствовали нормативному умиротворению, порядку и развитию рынков в Европе.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОБЪЯСНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИНАМИКИ
Как и обещал, я подробно разобрал множественную ацефальную федерацию средневековой Европы. Средневековый динамизм, который главным образом принял форму движения по направлению к капиталистическому развитию, был в основном приписан двум аспектам этой структуры. Первый — множественность сетей власти и отсутствие монополистического контроля над ними оставляли больше локальной автономии средневековым социальным группам. Второй — локальные группы могли безопасно функционировать в рамках экстенсивных сетей и нормативного умиротворения — порядка, обеспечиваемого христианством, даже несмотря на то, что христианство само по себе разрывалось между двумя функциями имманентной идеологии морали правящего класса и более трансцендентной, классовой идеологией. Поэтому парадоксальным образом локализм не душил направленную вовне экспансионистскую ориентацию, а принимал форму интенсивной регулируемой классовой конкуренции. Парадоксы локализма, экспансионизма, классового конфликта, конкуренции и порядка представляют собой основную проблему динамизма изобретений рассмотренной эпохи. Средневековые европейцы были в первую очередь заинтересованы в интенсивной эксплуатации их собственной локальности. Они проникли глубже в тяжелые влажные почвы, чем это удалось предшествовавшим аграрным народам. Они более эффективно работали с тягловой силой животных, достигли более продуктивного баланса между животноводством и хлебопашеством. Их экономические практики были улучшены, и это стало одной из решающих реорганизаций власти в мировой истории. Были проложены новые рельсы, причем не только для Европы, но и для всего мира. У нас сложился образ небольших групп крестьян и землевладельцев, наблюдающих за своими полями, орудиями и скотом, пытаясь понять, как их улучшить, повернувшись спиной к миру, относительно не заинтересованных в более экстенсивных технологиях и социальных организациях или в сохранении каких-то иных знаний, кроме тех, которые и так были относительно доступными на минимально приемлемом уровне. Их практики обнаруживают «уже готовые» экстенсивные цепи, и их объединение подразумевает революционное увеличение в организационных возможностях экономической власти. Отметим два особых следствия средневековых цепей практик. Во-первых, они были сравнительно более народными, вовлекали массу населения в автономную экономическую деятельность, инновацию и экстенсивную классовую борьбу. Впервые в истории такой уровень массового участия в отношениях власти развернулся на столь обширной территории, как это часто отмечают сравнительные историки (например, McNeill 1963: 558). Это был плацдарм для возникновения демократии эпохи модерна с борющимися классами. Во-вторых, они предложили благоприятную интеллектуальную среду для развития естественных наук — проникновение в феноменологические явления природы в надежде, что ее физическими, химическими и биологическими свойствами можно будет управлять, познав ее динамические, а также неизменные законы. Средневековое сельское хозяйство стимулировало деятельность и проникновение в природу, христианская теория естественного закона обеспечила сохранность естественного порядка. В обеих областях — народном участии и науке — мы обнаруживаем одну и ту же эффективную комбинацию интенсивной направленности и экстенсивного доверия. Средневековая динамика была сильной, устойчивой и глубоко проникающей. Она проявилась в начале 800 г. «Книга Страшного суда» с ее водяными мельницами документально свидетельствует о присутствии этой динамики в Англии в 1086 г. Переход, который заложил основу европейского рывка вперед, не был позднее средневековым переходом от феодализма к капитализму. Этот процесс представлял собой по большей части институционализацию прыжка, произошедшего намного раньше — в период, который лишь отсутствие документальных свидетельств позволяет назвать Темными веками. К 1200 г. этот прыжок, эта динамика уже привели Западную Европу к новым вершинам коллективной социальной власти. В следующей главе мы увидим, как эти достижения стали принимать другую форму после 1200 г.БИБЛИОГРАФИЯ
Abercrombie, N. S. Hill, and B.Turner (1980). The Dominant Ideology Thesis. London: Allen & Unwin. Anderson, P. (1974a). Passages from Antiquity to Feudalism. London: New Left Books; Андерсон, П. (2007). Переходы от античности к феодализму. М.: Территория будущего. --. (1974b). Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books; Андерсон, П. (2010). Родословная абсолютистского государства. М.: Территория будущего. Banaji, J. (1976). The peasantry in the feudal mode of production: towards an economic model. Journal of Peasant Studies, vol. 3. Barley, M.W. (ed.). (1977). European Towns: Their Archaeology and Early History. London: Academic Press. Bloch, M. (1962). Feudal Society. London: Routledge & Kegan Paul; Блок, M. (2003). Феодальное общество. M.: Издательство им. Сабашниковых. --. (1967). Land and Work in Medieval Europe. London: Routledge & Kegan Paul. Brenner, R. (1976). Agrarian class structures and economic development in preindustrial Europe. Past and Present, 76. Bridbury, A. R. (1975). Economic Growth: England in the Later Middle Ages. London: Harvester Press. Bronowski, J. (1973). The Ascent of Man. Boston: Little, Brown. Brown, P. (1981). The Cult of the Saints. London: SCM Press. Brutzkus, J. (1943). Trade with Eastern Europe, 800-1200. Economic History Review, 13. Burke, P. (1979). Popular Culture in Early Modern Europe. London: Temple Smith. Chaunu, P. (1969). Lexpansion europeenne duXIIle auXVesiecle. Paris: Presses Universi-taires de France. Cipolla, С. M. (1976). Before the Industrial Revolution. London: Methuen. Cowdrey, H. (1970). The Peace and the Truce of God in the eleventh century. Past and Present, No. 46. Dobb, M. (1946). Studies in the Development of Capitalism. London: Routledge. --. (1976). A reply. From feudalism to capitalism. In the Transition from Feudalism to Capitalism. ed. R. Hilton. London: New Left Books. Duby, G. (1974). The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Centuries. London: Weidenfeld & Nicolson. Ginzburg, C. (1980). The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-century Miller. London: Routledge & Kegan Paul; Гинзбург, К. (2000). Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М.: РОССПЭН. Goody, J. (1983)- The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. Hajnal, J. (1965). European marriage patterns in perspective. In Population in History, ed. D.V. Glass and D. E. C.Everley. London: Arnold; Хайнал, Дж. (1979). Европейский тип брачности в перспективе // Брачность, рождаемость, семья за три века: сб. статей / под ред. А. Г. Вишневского и И. С. Кона. М.: Статистика. С. 14–70. Hilton, R. (1976). The Transition from Feudalism to Capitalism. London: New Left Books. Hindess, B., and P. Q. Hirst. (1975). Pre-capitalist Modes of Production. London: Routledge & Kegan Paul. Hintze, O. (1968). The nature of feudalism. In Lordship and Community in Medieval Europe. ed. F. L. Cheyette. New York: Holt, Rinehart & Winston. Hodgen, M. T (1939). Domesday water mills. Antiquity, vol. 13. Hodges, R. (1982). Dark Age Economics. London: Duckworth. Holton, R. (1984). The Transition from Feudalism to Capitalism. London: Macmillan. Jones, E.L. (1981). The European Miracle. Cambridge: Cambridge University Press. Langland, W. (1966). Piers the Ploughman. Hannondsworth, England: Penguin Books. Le Roy Ladurie, E. (1980). Montaillou. Hannondsworth, England: Penguin Books; Ле Руа Ладюри (2001). Э.Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екатеринбург: Издательство Уральского университета. Leighton, A. C. (1972). Transport and Communication in Early Medieval Europe. Newton Abbot, England: David & Charles. Lennard, R. (1959). Rural England 1086–1135. London: Oxford University Press. Lloyd, TH. (1982). Alien Merchants in England in the High Middle Ages. Brighton: Harvester Press. McEvedy, C., and R. Jones (1978). Atlas of World Population History. Harmondsworth, England: Penguin Books. McFarlane, A. (1978). The Origins of English Individualism. Oxford: Blackwell. McNeill, W. (1963). The Rise of the West. Chicago: University of Chicago Press. Мак-Нил У. (2004). Восхождение Запада. История человеческого сообщества. М.: Старклайт. Marx, К. (1972). Capital, vol. III. London: Lawrence & Wishart; Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 25. 2-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1955_1974- Needham, J. (1963). Poverties and triumphs of Chinese scientific tradition. In Scientific Change, ed. A. C. Crombie. New York: Basic Books. North, D. C., and R.P. Thomas (1973)- The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press. Painter, S. (1943). Studies in the History of the English Feudal Barony. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Postan, M. (1975). The Medieval Economy and Society. Harmondsworth, England: Penguin Books. Russell, J. C. (1948). British Medieval Population. Albuquerque: University of New Mexico Press. Shennan, J. H. (1974). The Origins of the Modern European State 1450–1725. London: Hutchinson. Slicher van Bath, B.H. (1963). Yield ratios, 810-1820. A.A.G. Bijdragen. 10. Southern, R. W. (1970). Western Society and the Church in the Middle Ages. London: Hodder & Stoughton. Sweezy, P. (1976). A critique. In the Transition from Feudalism to Capitalism, ed. R. Hilton. London: New Left Books. Takahashi, K. (1976). A contribution to the discussion. In the Transition from Feudalism to Capitalism, ed. R. Hilton. London: New Left Books. Trevor-Roper, H. (1965). The Rise of Christian Europe. London: Thames & Hudson. Tuchman, B.W. (1979). A Distant Mirror: The Calamitous Fourteenth Century. Harmondsworth, England: Penguin Books. Vergruggen, J. F. (1977). The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages. Amsterdam: North-Holland. White, L., Jr. (1963). What accelerated technological progress in the Western Middle Ages. In Scientific Change, ed. A. C. Crombie, New York: Basic Books. --. (1972). The Expansion of Technology 500-1500. In the Fontana Economic History of Europe: The Middle Ages. ed. C. M.Cipolla. London: Fontana. Wrigley, E.A., and R.S. Schofield (1981). The Population History of England. 1541–1871. London: Arnold.ГЛАВА 13 Европейская динамика: II. Возникновение координирующих государств, 1155–1477 годы
Во второй половине XII в. множественная ацефальная федерация, рассмотренная в предыдущей главе, вошла в долгий период распада. В конечном счете к 1815 г. европейские сети власти приняли другую форму — сегментированных квазиунитарных сетей, распространившихся по всему миру. Новыми единицами стали в основном национальные государства с колониями и сферами влияния. Эта глава объясняет истоки их возникновения и взаимопроникновение с динамическими силами, рассмотренными в предыдущих главах. Я опишу две основные стадии. На первой стадии смесь экономических, военных и идеологических сил была оформлена в характерный набор «координирующих», централизованных, территориальных государств. Центральные государства (обычно монархии) отошли от своей ключевой функции гаранта прав и привилегий и стали постепенно координировать основные сферы деятельности на их территориях. Локальные и транснациональные формы христианского и феодального регулирования пали в результате национального политического регулирования. Но степень локального влияния все же оставалась существенной, а потому реальное политическое устройство по-прежнему сохраняло форму территориального федерализма, укрепленного партикуляристскими, часто династическими отношениями между монархами и полусвободными землевладельцами. Я датирую окончание этой стадии 1477 г. — значимой датой (хотя и не для английской истории), которая знаменует распад последнего великого альтернативного феодального государства-герцогства Бургундия. На второй стадии (см. главу 14) эти территориально центричные отношения начали принимать «органическую» форму, в которой государство было централизованным организатором правящего класса. Мой наиболее общий аргумент может быть выражен в терминах модели, изложенной в главе 1. Европейский динамизм, который не был исключительно экономическим, создал ряд эмерджентных интерстициальных сетей взаимодействия, для которых централизованная и территориальная формы организации были особенно полезными. В конкурентной структуре Европы некоторые государства случайным образом наткнулись на это решение и преуспели. Таким образом, централизованная и территориальная власть государства была усилена. Я изложил этот аргумент в достаточно простой форме. Относительно Англии у нас есть превосходные источники. Начиная с 1155 г. мы обладаем достаточным количеством финансовых счетов английского государства, чтобы продемонстрировать структуру его расходов и, что более важно, составить более или менее непрерывные динамические ряды общих доходов. Я собираюсь исследовать природу английского государства на протяжении восьми столетий при помощи ряда статистических таблиц. Можно начать наше исследование с вопросов, как государство тратило свои деньги и откуда оно их получало. Государственные расходы служат хотя и несовершенным, но индикатором государственных функций, тогда как доходы — индикатором отношений различных властных групп, которые составляют «гражданское общество» данного государства. Для рассматриваемого периода мы используем несколько опосредованный метод определения первых. Существует два способа выведения количественной значимости каждой государственной функции из государственного бюджета. Более прямой способ заключается в разделении расходов на основные составляющие. Я сделаю это в следующей главе для периода после 1688 г. К сожалению, более ранние счета расходов зачастую не пригодны для этих целей. Но с 1155 г. счета государственных доходов вполне подходят для составления динамических временных рядов. Поэтому второй метод оценки государственных функций состоит в исследовании общих прибылей в динамике и объяснении их систематических различий в терминах изменившихся потребностей государства. Он будет основным вплоть до 1688 г. Этот метод дает нам ответы на ряд основных вопросов теории государства. Они будут рассмотрены в томе 3 в более широкой временной перспективе, чем охватывает данная глава. В настоящий момент достаточно упомянуть, что теория государства разделена на две традиции, постулирующие фундаментально противоположные представления о государственных функциях. Доминирующая в англосаксонской традиции теория в качестве фундаментальных рассматривает экономические и внутренние функции государства: государство в судебном порядке и репрессивно регулирует экономические отношения между индивидами и классами, расположенными внутри его границ. Такие авторы, как Гоббс, Локк, Маркс, Истон и Пуланзас, работали в рамках примерно этой традиции. Но доминирующая германская традиция теорий государства значительно отличалась от нее, рассматривая в качестве основных военную и геополитическую функции: государства занимались медиацией отношений власти между собой, и, поскольку эти отношения по большому счету никаким нормам не подчинялись, делали это при помощи военной силы. Непопулярная в современную либеральную и марксистскую эпоху ядерного «тупика», эта традиция когда-то доминировала, особенно в работах Гумпловича, Оппен-хейма, Хинце и (в меньшей степени) Вебера. Какая из традиций или перспектив верна для рассматриваемого периода истории? Было бы абсурдным придерживаться одной перспективы настолько, чтобы полностью исключать другую. Разумеется, государства выполняют оба набора функций на внутренней и геополитической аренах. После выявления сравнительной значимости двух наборов функций на основе сырых исторических данных я попытаюсь связать их более теоретически информативным образом. Мое общее заключение представлено в главе 15.ИСТОЧНИКИ ДОХОДА И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВ В XII ВЕКЕ
Самые ранние данные об английских государственных доходах были проанализированы Рэмзи (Ramsay 1925) — Его исследование было подвергнуто существенной критике[112]. Тем не менее я использую его данные, дополняя работами более современных авторов[113], для той цели, применительно к которой критика имеет мало значения. Я устанавливаю основные источники дохода государства в XII в. таким образом, чтобы иметь возможность сделать выводы об отношениях государства с его «гражданским обществом». Документы о доходах Генриха II (1154–1189) сохранили некоторые детали. Таблица 13.1 содержит данные за два хорошо задокументированных года. Они иллюстрируют функции и власть сравнительно могущественного короля XII в. Совокупный доход был крошечным — какими бы ни были функции короля, их выполняло небольшое число госслужащих и стоили они государству недорого. Размер «бюрократии» лишь немного превышал размер дворов главных баронов и священнослужителей. Вскоре после этого король Иоанн (1199–1216) подсчитал, что его собственный бюджет меньше бюджета архиепископа Кентерберийского (Painter 1951: 131).таблица 13.1. Доходы Генриха II, 1171/72 и 1186/87 финансовые годы

Основную часть государственных доходов давали королевские земли, то есть «частные источники» короля. Так было вплоть до правления Эдуарда I, который установил обширные таможенные пошлины в 1270-х гг. Такое положение дел могло возродиться позже, когда король пытался «жить за собственный счет», то есть без финансовых и политических консультаций с внешними группами. Генрих VII был последним английским королем, которому это успешно удалось в начале XVI в. Другие европейские монархи также преимущественно полагались на собственные поместья, особенно французские монархи до XV в., испанские монархи вплоть до в XVII в., когда из Нового Света хлынуло серебро, и прусские монархи вплоть до XVIII в. Этот вотчинный доход был параллелен государственным расходам, наибольшей статьей которых всегда были расходы на содержание королевского двора. Поэтому наше первое реальное представление о природе государственной деятельности разоблачает отсутствие публичных функций и значительный частный элемент. Монарх был самым большим магнатом (первым среди равных), обладал самым большим индивидуальным доходом и самыми большими издержками по сравнению с другими; государство, хотя и было автономно от «гражданского общества», обладало лишь небольшой властью над ним. Вторым наиболее важным источником дохода Генриха II было право на сбор рент и десятин вакантных епископств — пример «феодальных привилегий», которыми обладали все европейские князья. Они выполняли функцию внутренней защиты, в данном случае ограничивавшую кризисы, затрагивавшие класс, к которому принадлежал и монарх. Когда епископские должности освобождались или когда наследниками поместий были несовершеннолетние либо женщины, их наследование нуждалось в королевских гарантиях. В качестве платы за них князь получал всю ренту или десятину с поместья целиком или ее часть, до тех пор пока наследник не становился совершеннолетним или наследница не выходила замуж. Вторая прерогатива относилась к наследнику князя: он был обязан передать свое рыцарство старшему сыну и выдать замуж свою старшую дочь. «Феодальные» источники дохода были одинаковыми по всей Европе (хотя власть монархов над епископами не была столь однозначной в Европе). Этот источник дохода был непостоянным, тем не менее князья использовали его, например отказывая наследницам в замужестве, как в соответствии с Великой хартией вольностей делал король Иоанн. Этот источник дохода проистекал из приоритета внутренних королевских функций — арбитра и миротворца внутри его собственного класса в смутные времена. Третьим источником дохода была судебная власть — как формальные прибыли от судебных органов («сборы» в табл. 131)’ так и взятки («пени») за королевское расположение, которое имело самые разнообразные формы выражения — от пересмотра судебных решений до гарантии получения государственной должности, торговой или производственной монополии, заключения брака, освобождения от воинской службы и проч. Королевское расположение и пени были распределены через систему судов с юрисдикцией над территориальной охраняемой областью — английским королевством. По-прежнему существовало три области сомнительной юрисдикции: тяжбы вокруг светских дел священнослужителей, правонарушений несовершеннолетними (в основном находящихся в компетенции манориальных и автономных судов), а также поместий вассалов, которые присягали другому князю. Англия, а также другие европейские страны XII в. демонстрировали существенное развитие в территориальности правосудия. Это знаменовало собой первую стадию государственного строительства в Европе. Первыми стабильными институтами государства были высшие судебные инстанции, а также, разумеется, казна. Первыми государственными служащими были главные судьи, старосты городов или графств в Англии, прево (prevots) — во Франции, министериалы — в Германии. Почему? Штрейер (Strayer 1970: 10–32) выделяет три значимых фактора, на которые я буду полагаться. Во-первых, церковь поддерживала юридическую функцию государства. Христос требовал лишь установления специализированной ойкумены. Мирские дела были оставлены мирским властям, к которым церковь должна была прислушиваться. После 1000 г. вся Европа стала христианской и папская поддержка государств — более равномерной. Во-вторых, примерно к этому времени прекратилась существенная миграция населения, что обеспечивало развитие у местного населения чувства непрерывности в пространстве и времени. Территориальная близость и темпоральная стабильность исторически были нормальным базисом для установления социальных норм и юридических правил. Способность христианства к обеспечению определенной степени транслокального нормативного умиротворения и порядка была результатом весьма необычной ситуации: смешение различных народов на одном и том же локальном пространстве, каждый из которых хотел достичь более развитой цивилизации, чем та, которой обладало христианство. Если народы оседали, вступали в смешанные браки и взаимодействовали, скажем, в течение века, им требовались более локально проработанные, территориально обоснованные правила и нормы. Важной частью стабилизации было постепенное развитие новых территориальных языков Европы. Позднее я обрисую контуры развития английского языка. Более того, вторым этапом стабилизации населения, не упомянутым Штрейером, было военное установление внутренних европейских границ. Вскоре после 1150 г. не осталось никакого значимого свободного пространства. Оседлое население было лояльным, даже если и временно, тому или иному государству в западной части континента. Хотя церковь по-прежнему обладала нормативной властью, теперь она была несколько больше ограничена государственными границами. Одно из наиболее впечатляющих ограничений произошло в XIV в. в связи с папским расколом. Одного Папу в Авиньоне поддерживала французская корона, другой в Риме зависел от германского императора и короля Англии. Все заинтересованные государства были далеки от желания христианского мира воссоединения, а их реальный политический интерес состоял в ослаблении папства. В-третьих, Штрейер утверждает, что светское государство было основным гарантом мира и порядка, в которых «в эпоху насилия люди нуждались больше остального». В связи с этим возникают два вопроса. Первый заключался в том, что в ряде областей было не вполне ясно, какое именно государство должно обеспечивать мир и порядок. Это был спорный вопрос о династических территориях, включая Западную Францию, за которую боролись английская и французская короны. Ход Столетней войны был весьма поучительным в том, что касалось власти государств. Как только французы поняли (после битвы при Пуатье), что они уступают в генеральных сражениях, они стали их избегать, отступая в замки и укрепленные города[114]. Война была сведена к сериям кавалькад, «верховых атак», в ходе которых небольшие английские и французские армии устраивали рейды на территорию противника, собирали налоги, грабили и убивали. Кавалькады должны были продемонстрировать вражеским вассалам, что их синьор не может обеспечить им мир и защиту в надежде на сепаратизм. Хотя к концу войны большая часть Франции могла обойтись вообще без короля, на практике это было предметом выбора. В итоге французская версия «мира и порядка» победила. Логистический барьер Ла-Манша не позволил англичанам оказывать поддержку французским, бретонским и гасконским вассалам на регулярной основе или осуществить мобилизацию большого количества постоянных военных сил, необходимыхдля затяжной осады. Постепенно плотная сеть локальных обычаев, прав и привилегий, обеспечиваемых французской короной, протянулась на запад и юг из центра Иль-де-Франс. Вылазки англичан могли лишь ненадолго разорвать эту сеть, что доставляло немало хлопот французам. Возможно, это вызвало первые всплески французского «национализма» там, где ключевые области Франции разделяли «этническую общность» с французским королем и враждебность по отношению к английскому. Но, как заключает Льюис (Lewis 1968: 59—77), реальным результатом пролонгации войны было подтверждение того факта, что правление двух корон было территориальным, а не династическим. В любом случае «этническое сообщество» опиралось на общий интерес в стабильности юридических правил и обычаев. Там, где существовали территориальные государства, какими бы хрупкими они ни казались, их было трудно выдавить из ядра. Захватчики и завоеватели в целом редко добивались успеха в период после Нормандского завоевания, поскольку угрожали установившимся обычаям. Для христианства и ислама было бы легче выбить друг друга со своих позиций, чем изменить геополитический порядок христианского мира. Но Столетняя война обнаружила постепенную консолидацию юридического суверенитета в более крупные, хотя и слабые территориальные государства, которые отчасти были побочным продуктом логистики войны. И все же территориальные государства не были европейской универсалией. На территориях от Фландрии через восток Франции и запад Германии к Италии, а также в тех прибрежных зонах, которые оставались христианскими, превалировали другие политические институты. Графства, герцогства и даже княжества соседствовали здесь с городскими институтами, особенно с независимыми общинами и епископствами. К тому же это была экономически динамичная область. В связи с этим к Штрейеру возникает второй вопрос. Не всякое экономическое развитие, как он предполагает, нуждалось в государственном умиротворении и координации. А если впоследствии это стало необходимо, то лишь в результате появления новых характеристик экономики. Экономическое развитие создавало новые требования к умиротворению и координации, которые были более разработанными и в основном техническими: как организовать рынки, как обеспечить исполнение специфических, но повторявшихся контрактов, как навести порядок в торговле землей, где прежде его не было, как гарантировать неприкосновенность движимого имущества и организовать растущий капитал. Церковь не особенно интересовалась такими проблемами: в Римской империи это были проблемы государственного (публичного) и частного права; в Темные века такой проблемы не возникало. Церковь не занималась этими проблемами, вследствие чего некоторые из ее доктрин были практически бесполезными (например, закон против ростовщичества). Большинство технических вопросов были территориально экстенсивными по своему охвату, а потому государство было единственной властью, которая могла закрыть эту брешь, как это делали ассоциации купцов и горожан, например, в Италии и Фландрии, где большие государства уже существовали, никого не притесняя, самые крупные государства начали играть огромную регулирующую роль в экономических вопросах, особенно в правах собственности, а также в волновавших государства вопросах экстенсивного экономического роста. Но в этом их устремлении государства действовали в основном реактивно: исходный динамизм развития происходил из другой области — децентрализованных сил, рассмотренных в предыдущей главе. Если государства обеспечивали исходную инфраструктуру для развития, они, без сомнения, становились более могущественными в этом или в последующих столетиях. Государственное правосудие простиралось не слишком далеко. К организации правосудия рассматриваемого периода, как представляется, следует относиться скептически. В правление Иоанна мы обнаруживаем скорее трагичный пример в Файн Ролл, рассказывающий о том, что «жена Хью де Невилла дала королю 200 кур за то, чтобы она могла возлечь на одну ночь с ее мужем». Куры были доставлены к пасхе, на основе чего можно предположить, что просьба леди была удовлетворена. Эксцентричность Иоанна вносит коррективы в современные представления о судебных системах. Генрих II способствовал централизации, надежности и «формальной рациональности» английской судебной системы. Тем не менее ее все равно использовали как источник обогащения, а патронаж и коррупция были неотделимы от справедливости. Судьи, шерифы и бейлифы, которые входили в состав провинциальных административных органов, довольно слабо контролировались королем. Я вернусь к этим логистикам авторитетной власти позднее. Другие государства обладали еще меньшим контролем над своими локальными агентами и лордами по сравнению с унитарным завоеванным государством — нормандской Англией. В других государствах большую часть судебных функций осуществляло не государство, а местные землевладельцы и священнослужители. Импульс к большей централизации в целом исходил от завоеваний, как это произошло во Франции после великой экспансии Филиппа Августа (1180–1213 гг.) и в Испании после реконкисты. К 1200 г. короли Англии, Франции и Кастилии, а также император Германии получили значительную часть судебного контроля над территориями, находившимися под их сюзеренитетом. Но это переносит нас на вторую стадию государственного строительства, которая только началась со времен Генриха 11 и отражена в его доходах. Последний источник дохода в табл. 13.1 — это налоговые поступления от сборов и скутагия (плата для обеспечения одного scutит — щита). Они отражают вторую публичную функцию государства — ведение международных войн. В отличие от феодально-наследственного пункта, упомянутого ранее, английская корона обладала правами облагать налогами ради одной-единственной цели — «чрезвычайных расходов», что означало войну. Это было неизменным вплоть до 1530-х: гг. Защита государства, за которую отвечали правители, требовала постоянных налогов от вассалов. Но каждый налог мог быть повышен различным и специальным образом. Большинство правителей требовали не денег, а персональной службы — феодального ополчения. В завоеванных царствах типа Англии сбор ополчения мог быть систематически организован: от каждой области или с земли стоимостью z, теоретически взятой у короля, требовалось предоставить х рыцарей и солдат. На протяжении XII в. ряд тенденций подорвал военную эффективность ополчения и привел ко второй стадии роста государственной власти. Сложные структуры наследования, особенно фрагментированных участков земли, делали установление обязательств к военной службе крайне трудным. Некоторые землевладельцы жили в мирном окружении, и их отряды становились бесполезными в военном отношении. В конце XII в. характер военных действий также изменился, поскольку Европу заполонили организованные государства — теперь военные кампании были затяжными, с продолжительными осадами. В Англии феодальное ополчение служило бесплатно в течение двух месяцев (и только 30 дней в мирное время), после этого расходы на его содержание возлагались на короля. Поэтому к концу XII в. правители нуждались в большем количестве денег для ведения войн, в то же время их подчиненные с меньшим энтузиазмом шли на военную службу. Скутагия и сборы, налог на города (городские группы были менее воинственными) были компромиссным результатом. Гораздо отчетливее государство проявлялось в городском секторе. Во-первых, отсутствие абсолютных прав собственности означало, что земельные соглашения подразумевали обременительные отношения, скрепленные печатью от лица независимой власти, которым в данном случае выступал король. Поскольку города привлекали огромные потоки иммигрантов в ходе экономической экспансии, король мог ожидать заметных доходов от земельных транзакций. Во-вторых, роль короля как защитника была особенно важной для международных «иностранных» торговцев. От них король получал плату в обмен на защиту (Lloyd 1982). Эти две власти слились в форме существенной государственной регуляции купеческих гильдий в XIII и XIV вв. Мы увидим, что союз города-государства охранялся законным нормативным умиротворением и порядком, начало которому положила церковь. За чертой города экономическая деятельность государства по-прежнему была ограничена. Вполне верно, что английские монархи периодически предпринимали попытки регулировать цены и качество основных продуктов питания, хотя они делали это совместно с локальными землевладельцами. Подобная регуляция стала жестче и распространилась на зарплаты в конце XIV в. после черной смерти. Однако в целом государство обеспечивало лишь малую инфраструктурную поддержку экономики по сравнению с той, с которой мы сталкивались в древних империях. Например, в Англии не было универсальной чеканки монет вплоть до ибо г., а во Франции — до 1262 г., а также ни одна страна не обладала единой системой мер и весов вплоть до XIX в. Принудительная кооперация была отброшена христианским нормативным умиротворением и порядком, а европейские государства так никогда не восстановили ее. Таким образом, размеры государств лишь немного превышали размеры самых больших поместий священнослужителей и баронов. Первые сведения о доходах предоставляли небольшие государства, жившие за счет «охранной ренты» (Lane 1966: 373–428). Внешняя защита и агрессия, а также поддержание общественного порядка составляли подавляющее большинство общественных функций, хотя даже они были частично децентрализованы. Эта картина по-прежнему мало чем отличалась от той, которая была нарисована в предыдущей главе: слабое, если не территориальное, государство, испытывавшее ощутимый недостаток в монопольной власти. Но к 1200 г. этой форме правления стали угрожать, во-первых, развитие новой военной рациональности, которая способствовала территоризации государства; во-вторых, проблема мира между территориальными государствами. Группы, действовавшие в этом пространстве (особенно купцы), все чаще обращались к государству за защитой и таким образом повышали его власть. Мы можем наблюдать эти тренды, составив временные ряды совокупных доходов с 1155 г. и далее.
ТРЕНДЫ В СОВОКУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДАХ, 1155–1452 ГОДЫ
В табл. 13.2 этого раздела я представляю первую часть временных рядов совокупных доходов английского государства. Первая колонка цифр демонстрирует реальный доход в текущих ценах. Я также делаю поправку на инфляцию, рассчитывая постоянные цены и принимая за базовый период их уровень в 1451–1475 гг. Цифры с учетом инфляции также накладывают определенные ограничения на их интерпретацию. Если цены росли, то монахам было необходимо привлекать дополнительные деньги и его подданные, безусловно, были недовольны, что в реальном выражении уровень поборов оставался неизменным. Поэтому оба столбца цифр обладали реальным, даже если и частичным, значением. Вначале индекс цен демонстрировал, что к 1200 г. цены стали резко расти: вероятно, практически удвоились по сравнению с ценами периода правления Иоанна и лишь затем немного снизились. К 1300 г. они опять стали расти, на этот раз в течение практически целого века, и вновь затем немного снизились. Поэтому прямое сравнение между общими доходами различных периодов ограничено этими обстоятельствами. Рассмотрим отдельно данные в текущих и постоянных ценах.таблица 13.2. Английские государственные финансы, 1155–1452 гг.: средний ежегодный доход в текущих и постоянных (1451–1475 гг.) ценах
 Источники. Доходы: 1155_1375 гг. — Ramsay 1925 с добавлением коррекционного фактора; 1377–1452 гг. — Steel 1954. Индекс цен: 1166–1263 гг. — Farmer 1956,1957; 1264 и далее, Phelps-Brown and Hopkins 1956. Подробности всех источников и подсчетов см.: Mann 1980. Эти цифры пригодны для непосредственного сравнения с теми, которые представлены в табл. 14.1.
Источники. Доходы: 1155_1375 гг. — Ramsay 1925 с добавлением коррекционного фактора; 1377–1452 гг. — Steel 1954. Индекс цен: 1166–1263 гг. — Farmer 1956,1957; 1264 и далее, Phelps-Brown and Hopkins 1956. Подробности всех источников и подсчетов см.: Mann 1980. Эти цифры пригодны для непосредственного сравнения с теми, которые представлены в табл. 14.1.
Государственный доход в текущих ценах рос на протяжении практически всего периода. За исключением первой декады правления Генриха II (до того как он эффективно восстановил центральную власть после анархии регентства Стефана), первое существенное увеличение доходов произошло во время правления Иоанна. Затем они постепенно стали снижаться до следующего периода роста при Эдуарде I. Далее последовал умеренный восходящий тренд в ходе следующего столетия до Ричарда II, после чего произошло падение (прерванное периодом правления Генриха V), которое продлилось до правления Тюдоров. Королями, которым требовалось большое увеличение доходов, были Иоанн, первые три Эдуарда (особенно I и III) и Генриху. Кроме того, Генрих III, Ричард II и Генрих IV правили так, чтобы превзойти рост доходов своего непосредственного предшественника. Переключимся на доходы в постоянных ценах. Оказывается, общее увеличение доходов не было таким уж устойчивым. В реальном выражении поборы Иоанна возросли, но этот рост не идет ни в какое сравнение с ростом поборов в денежном выражении. Превзойти этот рост не удавалось до Эдуарда III, во время долгого правления которого уровень поборов постоянно рос. Достигнутый уровень поборов поддерживался без изменений (и возрастал) в реальном выражении при Ричарде II. Основной вклад в это внесло падение цен, а не рост денежных доходов государства. Генрих V и в постоянных ценах сохранил свою позицию короля, увеличившего доходы, то же касается и королей с малыми доходами времен войны Алой и Белой розы. Но в реальном выражении финансовый размер английского государства достиг пика в XIV в. А в действительности он существенно не увеличивался вплоть до конца XVII в., когда вновь взлетел (что мы увидим в следующей главе). Вот тренды, которые нам теперь необходимо объяснить.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ: ОТ ИОАННА ДО ГЕНРИХА V
Правление Ричарда I Львиное Сердце (1189–1199) практически не принесло изменений. Ричард вел войны на протяжении всего периода своего правления, опираясь на феодальные ополчения, ad hoc требовавшие финансовой помощи. В это время по всей Европе папство подняло налоги на доходы мирян и священнослужителей (под угрозой отлучения от церкви) для финансирования крестоносцев в 1166 и 1188 гг. Данный прецедент продолжил свое существование и при его более хитром преемнике и единокровном брате Иоанне. К 1202–1203 гг., по некоторым оценкам, общие доходы Иоанна выросли в шесть раз и составили 134 тыс. фунтов стерлингов, из которых доходы от национальных налогов, ставка которых составляла одну седьмую стоимости всего движимого имущества, составили 110 тыс. Во времена правления Иоанна (1199–1216) средний ежегодный доход более чем в два раза превышал денежные поступления при Генрихе II. Поправка на инфляцию делает это увеличение менее внушительным, но оно все еще было большим по сравнению с тем, что Иоанн действительно собирал. Он делал это в основном через налогообложение, которое составляло около половины его доходов и которое взималось все более единообразно с большей части населения. Почему это увеличение произошло во время его правления? В результате конфликта с церковью (который был источником всех легенд) Иоанн по сравнению с остальными английскими королями был в наихудшем положении. Тем не менее два внешних фактора в самом начале его правления — плохой урожай и галопирующая инфляция сделали это правление непосильной ношей. Иоанн не мог преодолеть трудности путем временного увеличения долга и сокращения государственной деятельности (как это сделал его преемник Генрих III). Его французские владения были атакованы возрождавшейся французской короной, и в результате большая часть из них оказалась потеряна. Изменился характер войн — они стали более профессиональными и затратными. Необходимость денег на оплату солдат форсировала рост доходов, то же было и с королями в XIII в., а также последующих столетий, как мы увидим позже. Это подтверждают колебания в данных Рэмзи по XIII в. В 1224–1225 гг. доход утроился по сравнению с предыдущими годами, в 1276–1277 гг. — удвоился, в 1281–1282 гг, — вновь утроился, в 1296–1297 гг. — опять удвоился, хотя все эти периоды сопровождались ожесточенными войнами. Подобное давление не было исключительно английским феноменом. К концу XII в. по всей Европе количество рыцарей (и их слуг), самостоятельно себя экипирующих, сравнялось с количеством наемных рыцарей, требовавших оплаты. Финансовое напряжение ощущалось правителями фламандских городов в XIII в. (Verbruggen 1977)» городскими общинами Сиены с 1286 г. (Bowsky 1970: 43–46), Флоренцией в XIV в. (de la Ronciere 1968; Waley 1968), а также Францией в XIII–XIV вв. (Strayer and Holt 1939; Rey 1965; Henneman, 1971; Wolfe 1972). Начиная с конца XII в. вплоть до XVI в. европейские армии объединяли профессиональные отряды с ополчением и находились в полевых условиях намного дольше. После армии они стали полностью профессиональными, включая английскую. А в XIII в. их численность, а также отношение к численности населения быстро росли[115]. Подобные войны требовали денег. К займам у евреев и иностранных банкиров прибегали все без исключения правители, но только для покрытия временных расходов. К периоду правления Эдуарда налоги составляли сопоставимый с остальными статьями вклад, что показывает табл. 13.3таблица 13.3. Среднегодовые источники дохода трех правителей,1272–1307 гг. и 1327–1399 гг., %
 в табл. 13.2, которая является более достоверной (см.: Mann 1980). Относительный вес каждого типа доходов не влияет на недостоверность совокупного дохода. Источник: Ramsay 1925: II, 86, 287, 426–427.
в табл. 13.2, которая является более достоверной (см.: Mann 1980). Относительный вес каждого типа доходов не влияет на недостоверность совокупного дохода. Источник: Ramsay 1925: II, 86, 287, 426–427.
Наиболее явным трендом было общее повышение налогов, которые выросли вдвое за сто лет. Но в источниках дохода также произошли существенные изменения. Первая из статей «Наследственные доходы короны» была гетерогенной. Двумя составлявшими ее компонентами были рента от королевских земель и доходы от судов. Для нас первое является частным, а последнее — государственным, однако в те времена не знали этого различия. Наследственные доходы оставались стабильными по своему объему и сокращались как доля вклада в общие денежные поступления, поскольку росли доходы от таможенных пошлин и налогов. В 1275 г. Эдуард I впервые установил экспортную пошлину на шерсть, к которой вскоре добавились прочие таможенные пошлины и акцизные сборы. Это был существенный шаг не только по направлению к адекватному государственному финансированию, но и к возникновению унитарного территориального государства. Таможенные пошлины были установлены не в одностороннем порядке, а лишь после заметных прений и конфликтов. Экспорт был обложен налогами таким сти населения между 1150 и 1250 гг. примерно в 48 и 63 % для четырех европейских стран (Sorokin 1962: 340–341). образом (соответствующим современной экономической теории), чтобы ресурсы Англии во время войны не иссякали. Еще одной причиной было осознание купцами того, что их международная деятельность нуждается в военной защите. Разумеется, прибыли предполагалось использовать для военно-морских целей, они не могли рассматриваться как часть наследственных ресурсов, принадлежавших королю. Никакого отношения к таможенным пошлинам могло и не быть, если бы торговцы не чувствовали коллективного национального интереса и идентичности, которая, вероятно, еще не существовала двумя веками ранее. Другие государства вступали в тесные фискальные отношения с купцами. Французская корона зависела от налогов и займов, взятых у парижских купцов, в той же степени, в какой и от налогов на торговлю весьма важными потребительскими товарами, например печально известного габеля — налога на соль. Испанская корона обладала особыми отношениями с места (mesta, гильдией пастухов овец). Слабые германские государства использовали внутренние сборы с последующим увеличением количества внутренних таможенных пошлин. Альянс государства и купцов обладал фискально-военным ядром. Прямые налоги составили солидную и достаточно устойчивую часть доходов XIV в., как следует из табл. 13.3. Если мы добавим их к косвенным таможенным налогам, то окажется, что большая половина доходов английской короны состояла из налогов. Действительно, по оценкам МакФарлейна (McFarlane 1962: 6), за период 1336–1453 гг. (то есть Столетнюю войну) английская корона получила 3,25 млн фунтов стерлингов от прямых налогов и 5 млн от косвенных налогов, из которых пошлины на шерсть и акцизные сборы составили по меньшей мере 4 млн. Подобные налоги всегда устанавливались для военных целей, хотя необходимо отметить, что военные расходы были увеличены в агрессивной экономической теории, которая была упомянута выше. Таким образом, мы наблюдаем два одинаковых тренда: повышение совокупного дохода и рост роли налогов в связи с военными издержками. Таблица 13.2 демонстрирует, что скачок в доходах в начале Столетней войны был весьма существенным. К тому же численность армий и их размер по отношению к общей численности населения в XIV в. росли (Sorokin 1962: 340–241). Характер войн также изменился. Рыцари четырех основных держав: Австрии, Бургундии, графства Фландрия и Англии — потерпели поражение в основном от пехотных армий Швейцарии, Фламандии и Шотландии в серии битв между 1302 и 1315 гг. За ними последовала битва при Креси в 1346 г., в ходе которой более 1,5 тыс. французских рыцарей были убиты британскими (то есть валлийскими) лучниками. Эти неожиданные превратности не привели к массовым изменениям в международном балансе власти (хотя и сохранили независимость Швейцарии, Фламандии и Шотландии), поскольку на это отреагировали крупнейшие державы. Армии стали включать пехотинцев, лучников и кавалерию во все более сложных построениях. Пехотинцам с новой, независимой боевой ролью требовалась большая военная подготовка по сравнению со средневековой пехотой, которая исполняла всего лишь вспомогательную для рыцарей роль. Государствам, которые хотели выжить, пришлось участвовать в этой тактической гонке, которая впоследствии увеличила военные издержки для всех[116]. Данные о государственных расходах, частично доступные начиная с 1224 г., дают более полную картину, хотя их нелегко интерпретировать. Современное использование счетов расходов было бы едва ли понятным для тех, кто их составлял. Они не проводили различий между «военными» и «гражданскими» функциями или между «частными» расходами королевского двора и скорее «общественными» расходами. Иногда мы не знаем, какой именно из «государственных департаментов» тратил деньги. Напомним, что двумя основными «государственными департаментами» первоначально были комната, в которой король спал, и гардероб, в котором он вешал свою одежду. Тем не менее на протяжении XIII в. расходы королевского двора не выходили за пределы 5-10 тыс. фунтов стерлингов, в то время как иностранные и военные расходы могли варьироваться от 5 до 100 тыс. в год в зависимости от войны или мира. Инфляция в основном создавалась военными издержками. Следующее столетие сохранило больше данных об английских государственных расходах. Некоторые наиболее полные ряды собраны в табл. 13.4. Три вида расходов, представленные в таблице, являются предшественниками современных расходных статей: «гражданские», «военные» и «выплата долга», которые будут фигурировать в моем исследовании расходов. Но что может объяснить такое широкое разнообразие объемов и типов государственных расходов? Ответ прост: война и мир. В 1335–1337 гг- Эдуард III воевал, лично возглавляя кампанию в Нидерландах в течение большей части этого периода; часть периода 1344–1347 гг. он участвовал в войне во Франции, и, наконец, в 1347–1349 гг. в Англии наступил мир.
таблица 13.4. Среднегодовые счета расходов в 1335_1337 гг-, 1344–1347 гг. и 1347–1349 гг. в текущих ценах
 а Цифры, приведенные в государственных бюджетах, редко точно сходились вплоть до XI X в.
а Цифры, приведенные в государственных бюджетах, редко точно сходились вплоть до XI X в.
Эти данные не позволяют нам строго разделить военные и гражданские расходы. Хотя объем расходов королевского двора продолжал расти и без войны, его двор следовал за ним в зарубежных военных кампаниях и был даже более затратным (что демонстрируют данные). Подобным же образом «иностранные и прочие расходы» были по большей части военными расходами — например, взятки колеблющимся вассалам за преданность или пожертвования, распределяемые во время военной кампании, которые трудно отнести к одной или другой статье расходов. Выплаты долгов или возврат займов, которые обычно предоставляли купцы и банкиры, также могли стирать грань между гражданскими и военными расходами, хотя в действительности эти займы всегда брали для того, чтобы оплачивать непредвиденные военные расходы. Наконец, если мы захотим оценить общий размер государственных финансов исследуемого периода, нам придется сложить доходы от государственной деятельности, особенно судебной, с расходами. Они составят около 5-10 тыс. фунтов стерлингов к издержкам гражданских функций. Приняв в расчет эти трудности, мы сможем оценить, что, как и в прошлом веке, объем гражданских функций государства практически не менялся, по-прежнему не превышая расходы двора крупнейших баронов, тогда как общие издержки государства чрезвычайно зависели от вступления в войну. В мирное время «гражданская» деятельность государства могла составлять около половины или двух третей всех государственных финансов, но в военное время расходы на нее обычно снижались до 10–30 %. (Наиболее полные данные можно найти в томах Тата (Tout 1920–1933, см. также Tout and Broome 1924: 404–419; Harris 1975: 145–149, 197–227, 327–340, 344–435, 470–503.) Поскольку, возможно, часть этой мирной деятельности была по сути «частной», касавшейся королевского двора, публичные функции государства были по большому счету военными. Если король часто вел войны, его функции всецело становились военными. Генрих V, который более или менее постоянно воевал, за десятилетие 1413–1422 гг. своего правления потратил около двух третей своих английских доходов плюс все французские доходы на войну (Ramsay 1920: М1?). Но мы все еще не достигли понимания общего воздействия войны на государственные финансы. Таблица 13.4 также демонстрирует начало тренда, который впоследствии играл главную сглаживавшую роль в государственных финансах — возврат долгов. Начиная с XIV и вплоть до XX в. государства, которые много занимали для того, чтобы финансировать войны, сталкивались с колебаниями при сокращении расходов. Долги обычно возвращались через определенное количество лет, простиравшихся далеко за рамки окончания войны. Поэтому расходы мирного времени не возвращались к довоенным уровням. Государство постепенно, шаг за шагом увеличивало свои реальные размеры. Денежные поступления и расходы Эдуарда III и Ричарда II (1327–1399 гг) колебались в меньшей степени (за исключением колебаний в 1368–1369 гг.). Чистые издержки войны означали, что возврат долга едва ли может быть профинансирован из частных или наследственных доходов монарха. Налоги в мирное время становились практически постоянными. Более того, все фискальные методы увеличивали финансовую машину. Издержки сбора налогов стали важным и практически постоянным вопросом. Английская корона минимизировала политические издержки налогообложения путем специальных консультаций с налогоплательщиками при определении ставки налогообложения. В эпоху, когда богатство невозможно было точно оценить, ни одна другая система не была настолько полезной. Но в относительно централизованной системе, какой была Франция XIV в., издержки сбора налогов могли достигать 25 % или даже более (Wolfe 1971: 248). Это также по большей части было следствием войны. Однозначный ответ, который возникает на основе исследования финансов средневековых государств, состоит в том, что государство прежде всего выполняло внешние военные функции, а рост государственных финансов в текущих и постоянных ценах был результатом увеличения военных издержек. Милитаристические теории государства реабилитированы. Но следствия милитаристического государственного развития ведут к более сложным заключениям.
СЛЕДСТВИЕ I: ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Возможно, в предшествовавших разделах слишком много функционализма, предполагающего посылку, согласно которой война была функциональной для всего народа Англии. Английский народ не был полноценной социологической сущностью в начале XX в. (что мы видели в главе 12). Война приносила преимущества альянсу, находившемуся между особой «партией войны» и монархом. С самого начала XIV в. превосходство частично наемнической и состоявшей из кавалерии и пехоты армии над исключительно феодальным войском вновь давало о себе знать. Там, где могли собираться такие силы, каждый заинтересованный в войне отныне должен был заручиться поддержкой короля, который санкционировал сбор средств на их финансирование. Существовали различные формы этого паттерна. В геополитических областях, где не было князя, который мог бы осуществить подобное фискальное руководство, небольшие, преимущественно наемные силы могли быть собраны королем или местными графами и герцогами, чтобы сохранять статус-кво. Во Фландрии и в Швейцарии «классовая мораль» свободных бюргеров могла быть преобразована в дисциплинированную эффективную пехоту для защиты их автономии. Но все эти варианты означали конец феодального войска. Партии войны были смешанными и различными в разных странах. Выделялись две основные группы. Первую группу составляли системы майората, которые устанавливали постоянное демографическое давление в среде младших безземельных сыновей дворян, джентри и йоменов, которые были воспитаны в идеологии и традициях чести дворянского класса. В Англии высшее дворянство, в целом вовлеченное в руководство военными кампаниями, хорошо жило и без войн (McFarlane 1973: 19-40). Вторую группу составляли те, кто был заинтересован в иностранной торговле, — назовем их купцами, хотя в действительности эту группу могли составлять крупнейшие бароны, или священнослужители, или рыцари, вовлеченные в торговые авантюры. Автономия средневековых купцов простиралась в традиционных центральных землях Италии, Фландрии и торговых маршрутах между ними. Поскольку Европа процветала, их возможности росли, так же как и размер и техническая эффективность купеческих и банковских домов. Принцип двойной бухгалтерии выступает одним из изобретений, которое часто подчеркивается исследователями (особенно Вебером) как средство для более скрупулезного контроля за широко разросшейся деловой активностью. Он предположительно был изобретен в XIV в., хотя не был широко распространен вплоть до конца XV в. Как утверждает Вебер, это тем не менее был еще не «капитализм». Он в большей степени служил потребностям высшего дворянства — их браки, военные экспедиции и выкупы требовали перемещения огромных сумм кредитов и имущества. Поэтому «рациональный учет капитала» использовался для частных целей, его логика сдерживалась дефолтами, случайным заключением брачных союзов или голым принуждением — во всех операциях и действиях дворянство преуспевало. В областях, где появлялись территориальные государства, купеческие и банковские сети становились более зависимыми от единой цены и более уязвимыми перед дефолтами этих государств. Весь итальянский валютный рынок был взбудоражен дефолтом Эдуарда III в 1339 г. В те времена еще не существовало универсальной финансовой системы, поскольку она включала автономный купеческий и банковский секторы, а также сектор дворянства и государства, воплощающие разные принципы. Но механизмы национальной интеграции уже стали появляться. Там, где территории государств росли, межгосударственные отношения регулировались политически. Без государственной защиты купцы были вольны грабить иностранных покупателей. Было очевидным, что князь не обязан защищать иностранных купцов, и они платили либо непосредственные взятки или давали щедрые «займы» (которые периодически не возвращали) за эти привилегии. Консолидация государств продолжалась, и, следовательно, подобные группы теряли свою автономию, поскольку эти отношения стали нормальными отношениями налогов/защиты, а также потому, что на западе и юго-западе Европы исчезли свободные от государственного контроля пространства. Поэтому в XIII и XIV вв. в некоторых областях купцы постепенно «натурализировались». В Англии компания «Стэпл» — ассоциация англичан монополизировала экспорт шерсти (основную статью английского экспорта) к 1361 г., обеспечив государство наиболее прибыльным и стабильным источником дохода — налогом на экспорт шерсти. Подобные отношения налогов/защиты между королями и торговцами возникали во всех странах. Они просуществовали по меньшей мере вплоть до XX в. Обе стороны были заинтересованы не только в охранном умиротворении, но и в агрессивной успешной войне. В Англии во времена Столетней войны получила развитие коммерческая партия войны, заключившая союз с агрессивными секциями дворянства и даже оказывавшая сопротивление попыткам Ричарда II (1379_1399) заключить мир, когда дела на военном фронте становились все хуже. Их основной коммерческий интерес — стать поставщиком товаров для армии и, что более важно, выбить Фландрию с английского рынка шерсти. Отныне коммерческий интерес захвата рынков и земель играл важную роль в войнах. Другим способом оценки натурализизации торговли может быть расчет доли вклада международной торговли в общую торговлю. Чем больше эта доля, тем больше ограничение экономического взаимодействия государственными границами. Я буду использовать эту методологию для более поздних веков. Однако для этого периода мы не можем количественно оценить важность международной торговли по сравнению с национальной. Вплоть до XVI в. у нас нет оценок общего объема импорта и экспорта. Тем не менее у нас есть данные по экспорту шерсти и ткани, который составлял существенную часть общего экспорта (данные приведены в Craus-Wilson and Coleman 1963) — Внутренний рынок является даже большей проблемой, поскольку подавляющее большинство местных обменов были полностью скрыты от государства. Большинство операций осуществлялось в натуральном, а не в денежном выражении. Что касалось экономики в целом, то в стоимостном выражении локальные обмены должны были на протяжении всего исследуемого периода превышать размер торговли на большие расстояния — будь то на общенациональном или международном уровне. Но международная торговля, особенно экспорт шерсти и ткани, также обладала определенным значением. Во-первых, она составляла львиную долю негосударственных денежных операций в экономике, что имело важные последствия для инфляции и условий кредита. Во-вторых, она была прозрачной, особенно в налоговых расчетах. В-третьих, она требовала более высокой степени политического регулирования. В этом отношении экспортная торговля шерстью и тканями, по всей вероятности, была «передовым фронтом» движения по направлению к растущей политической натурализации экономики со значением значительно большим, чем предполагал ее чистый размер. Группой, которая самым непосредственным образом была заинтересована в расширении государства, были король и его двор/бюрократия. Развитие постоянного фискального аппарата и наемной армии усиливали монархическую власть. Как бы ни были дворяне и купцы заинтересованы в войне или мире, они сопротивлялись этой власти. С самого начала введения налогообложения поступали жалобы от землевладельцев, священнослужителей и купцов на то, что временные налоги, учрежденные для военных целей, стали постоянными. Статья 41 Великой хартии вольностей устанавливала свободу купцов «от всяких незаконных пошлин, за исключением военного времени». Статья 50 отменяла попытку Иоанна купить иностранных наемников и увековечить одного из них: «Мы совсем отстраним от должностей родственников Жерара de Athyes, чтобы впредь они не занимали никакой должности в Англии». Похожие конфликты происходили и в других странах. В 1484 г. французский генерал-помещик осудил тенденцию к талъе и прочим налогам, «которые изначально были введены по причине войны», а стали «вечными». На что Чарльз VIII уклончиво ответил, что ему нужны деньги, «чтобы король мог делать то, что должен: совершать великие дела и защищать свое королевство» (цит. по: Miller 1972: 350). Практически всякий спор между монархом и его подданными, начиная с Великой хартии вольностей вплоть до XIX в., был вызван попытками монархов наращивать независимо от подданных два критических ресурса — налоги и вооруженные силы, и необходимость в последнем всегда вела к необходимости первого (Ardant 1975: 194_1975 Braun 1975: 31О_3175 Miller 1975: 11). Описывая период 1400–1800 гг., Тилли приходит к заключению о повторяющемся причинно-следственном цикле в развитии государства (я внес некоторые коррективы в его пятую стадию): 1) изменение или расширение армий; 2) новые попытки государств по извлечению ресурсов из подчиненного населения; 3) развитие новой государственной бюрократии и административные инновации; 4) сопротивление со стороны подчиненного населения; 5) возобновление государственного принуждения и/или расширения представительных собраний; 6) устойчивое увеличение в объемах извлекаемых государством ресурсов. Тилли заключает: «Подготовка к войне была величайшей деятельностью государственного строительства. Этот процесс шел более или менее непрерывно в течение пяти сотен лет» (Tilly 1975: 73_74)— консервативная оценка по отношению к рассматриваемому периоду. Мы увидим, что этот паттерн, появившийся в Англии в 1199 г. с воцарением короля Иоанна, просуществовал вплоть до XX в. В действительности он продолжается и по сей день, хотя и вместе со вторым, сравнительно более новым трендом, ознаменованным промышленной революцией. Тем не менее необходимо сделать две оговорки. Во-первых, увеличение территории государства было весьма резким, что мы можем видеть в колонке «Постоянные цены» табл. 13.2. Государственное строительство не предстается таким уж величественным и преднамеренным, если мы сделаем поправку на инфляцию. «Устойчивое увеличение в объемах извлекаемых государством ресурсов», на которое указывает Тилли, было удвоением приблизительно за пять столетий — это едва ли впечатляет. На самом деле монархам, в период правления которых произошло реальное увеличение доходов (Иоанн, Эдуард III, Генриху и т. д.), удалось его добиться в результате военного давления. Но большая часть роста доходов монархов исчислялась в текущих ценах, и, следовательно, большая часть политической борьбы практически всех монархов проистекали из инфляционного давления. Рост государств был результатом не столько осознанных усилий власти, сколько отчаянных поисков временных решений для предотвращения фискальной катастрофы. Источником этой угрозы были не столько преднамеренные действия конкурирующей державы, сколько непредвиденные последствия европейской экономической и военной деятельности в целом[117]. Аналогичным образом не было и большого сдвига во власти между государственными элитами и доминировавшими группами «гражданского общества». Внутренняя власть государства все еще была слабой. Во-вторых, конфликт между королем и его подданными не был единственной или хотя бы основной формой социального конфликта в рамках этого периода. Довольно обособленно от конфликта между государствами существовали насильственные конфликты между классами и прочими группами «гражданского общества», которые не были систематически направлены на государство или даже на борьбу за его земли. Подобный конфликт обычно принимал религиозную форму. Конфликты между королями, императорами и папами, борьба против ересей, например Альбигойский крестовый поход против катаров или Гуситские войны, а также крестьянские и региональные бунты вплоть до Благодатного паломничества 1534 г., смешивали различное недовольство и различные территориальные организации под религиозными лозунгами. Разгадать мотивы участников трудно, ясно лишь одно: поздняя средневековая Европа все еще поддерживала формы организованной борьбы, включая классовую борьбу, которые не имели никакого систематического отношения ни к акторам власти, ни к территориальным единицам. Эти формы были в большинстве своем религиозными, так как христианская церковь все еще обеспечивала существенную долю интеграции (а следовательно, и дезинтеграции) в Европе. Хотя мы с трудом можем выделить особенности различных форм борьбы за власть, политика, осуществляемая на уровне развития территориального государства, была, вероятно, менее значимой для большей части населения по сравнению с политикой их локальности (базирующейся на обычаях и манориальных судах) и транснациональной политикой церкви (а также церкви против государства). Насколько мы можем вообще говорить о «классовой борьбе» в этот период, она разрешалась без какого-либо значимого государственного регулирования: государство могло быть фактором социальной сплоченности, но оно едва ли было основным ее фактором, по определению Пуланзаса (Poulantzas 19712). Поэтому восстания крестьян и горожан, какими бы частыми они ни были, не могли превратиться в революцию. Государство не было ни основным, фактором социальной сплоченности, ни основным эксплуататором, ни решением проблемы эксплуатации. Иногда крестьяне и горожане определяли в этих терминах церковь и потому имели основания на трансформацию церкви революционными средствами, заменяя ее (по крайней мере в собственной области) более «примитивными», священническими общинами правоверных. Но они смотрели на государство как на средневековую роль судебного арбитра, который мог возместить обиды, причиненные другими, и восстановить справедливые обычаи и привилегии. Даже если король был отчасти виновен в их эксплуатации, бунтовщики часто приписывали это «злу» «иностранных» советников, которые не знали местных обычаев. Во многих случаях крестьяне и горожане в момент победы восстания доверялись своему князю, за что расплачивались смертью, увечьями и дальнейшей эксплуатацией. Почему они не учились на собственных ошибках? Дело в том, что подобные бунты случались в одной области только однажды в течение пятидесяти или ста лет, а также в промежутках между менее рутинной деятельностью (отличной от удовлетворения недовольства или приготовлений к войне), фокусировавшей внимание народа на государстве. Ни современного государства, ни современныхреволюций еще не было. Тем не менее на протяжении этого периоду происходили изменения. Один из импульсов, вызвавших их, порожден экономическим ростом. Во все большей мере излишки поместий и деревень обменивались на потребительские товары, произведенные в других областях. Начиная с XI в. некоторые области стали доминирующими в производстве отдельных товаров: вина, зерна, шерсти или готовых изделий, таких как сукно. У нас нет точных данных о торговле, но мы можем предположить, что это расширение вначале увеличило торговлю товарами роскоши на большие расстояния, а не обмен в рамках средних расстояний. Это усилило транснациональную солидарность собственников и потребителей этих товаров — землевладельцев и городских жителей. Однако в какой-то момент рост сдвинулся по направлению к развитию отношений обмена внутри государственных границ, чему способствовало не только увеличение общего спроса, но и натурализация купцов. Еще слишком рано говорить о национальных рынках, но в XIV и XV вв. в ряде основных государств могло быть определено территориальное ядро (Лондон и графства, его окружающие, область вокруг Парижа, Старая Кастилия), где диалектически развивались крепнувшие узы экономической взаимозависимости и протонацио-налистическая культура (Kiernan 1965: 32). По большей части именно в этих регионах возникали движения, обладавшие определенной степенью коллективной классовой организации и сознания, каким было крестьянское восстание 1381 г. Классовое и национальное сознание далеки от того, чтобы быть противоположными — каждое является необходимым условием для существования другого. Подобные изменения происходили и в религии. Вплоть до XVII в. недовольство, выраженное в религиозных терминах, было важнейшим в социальной борьбе, тем не менее оно принимало все более национальную форму. Раскол европейского религиозного единства в XVI в. произошел преимущественно по границам политических единиц. В религиозных войнах теперь сражались либо соперничавшие государства, либо фракции, которые боролись за установление единого монополистического государства на их территории. В отличие от альбигойцев (катаров) гугеноты искали толерантности со стороны государства — всей Франции. Гражданская война в Англии расколола квазиклассы, королевский двор и сельские партии на две стороны, которые защищали себя преимущественно в религиозных терминах, но боролись за религиозную, политическую и социальную судьбу Англии (плюс ее кельтских зависимых стран) как общества. Поскольку социальные группы стали часто так делать, мы можем легко забыть о ее новизне. Подобный «политический» конфликт не доминировал в средневековый период. Ни экономические, ни религиозные феномены не могут объяснить эти трансформации. Экономическое объяснение, как правило, создает в воображении классы, которые творят историю, но «экономические факторы» не могу объяснить, почему они пришли к своей организационной власти. Очевидно, организованная классовая борьба зависела прежде всего от идеологических, религиозных организаций и лишь затем от политических, национально-государственных организаций. У церквей были расколы и религиозные войны, но «религиозные факторы» не могут объяснить, почему они в возрастающей степени принимали национальную форму. На самом деле предложенное объяснение придает гораздо меньше важности и в меньшей степени зависит от сознательных действий людей, чем предполагает идеологическое или классовое объяснение. Единственной группой интереса, осознанно желавшей развития национального государства, были государственные элиты, монарх и его ставленники, которые были слабы и задавлены инфляцией. Остальные — купцы, младшие сыновья, церковнослужители и практически все социальные группы обнаруживали себя заключенными в национальные формы организации в качестве побочного результата целей и доступных средств их достижения. Национальное государство было примером непредвиденного последствия человеческих действий, примером «интерстициального возникновения». Всякий раз, когда социальная борьба этих групп была вызвана недовольством налогами, они подталкивались в национальные формы. Прежде всего политическая борьба купцов, а также борьба земельного дворянства и духовенства все больше концентрировались на уровне территориального государства. В этом отношении огромное увеличение государственных доходов в текущих ценах имело решающее значение: всякая попытка монарха получить больший доход приводила его к переговорам или конфликту с теми, кто мог ему этот доход предоставить. Соединение инфляции и войны акцентировало концентрацию классовой и религиозной борьбы на территориальном централизованном государстве. Два, вероятно, соревновавшихся пространства социальных отношений — локальное и транснациональное — снизили свое значение; государства, религия и экономика стали более переплетенными, и возникла социальная география современного мира. Но этот процесс был чем-то большим, нежели просто географическим, он начал создавать общую культуру. Самым явным индикатором было развитие национальных народных языков из ранних комбинаций транснациональной латыни и разнообразия местных наречий. В прошлой главе я упоминал лингвистическое разнообразие, которое демонтировала Англия середины XII в. Но территориальная близость, постоянное взаимодействие и политические границы стали гомогенизироваться. К концу XIV в. языки слились в английский язык, который использовался высшими классами. Язык крупнейших памятников литературы все еще различался. Поэма «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» была написана (вероятно) на диалекте северного Чешира и южного Ланкашира, который в целом был среднеанглийским, хотя он также включал скандинавские и нормано-французские слова и стиль. Джон Гауэр написал три главные работы на нормано-французском, латыни и английском (примечательно, что именно его последняя работа была на английском). Джеффри Чосер писал практически полностью на английском, который в настоящее время понятен лишь наполовину. Около 1345 г. оксфордские учителя словесности стали учить переводу с латыни на английский, а не на французский. В 1362 г. впервые в общих судах было официально разрешено использование английского, а в 1380-90-х гг. лолларды[118] перевели и опубликовали всю Вульгату Библию («Общепринятую Библию»). Эти изменения были медленными (а в случае лоллардов еще и преследуемыми), но устойчивыми. После 1450 г- дети из высшего класса учили французский, чтобы иметь доступ к благовоспитанному обществу, а не как родной язык. Решающий упадок латыни наступил позже парадоксальным образом с восстановлением классического образования в начале XVI в. (поскольку греческий дополнил латынь только как средство гуманного образования джентльменов, а не как народный язык) и установлением английской церкви. К 1450 г. развитие английского языка продемонстрировало, куда может простираться власть, а куда нет. Он свободно и универсально распространялся по всей территории национального государства, но останавливался на его границах (даже если одно государство обладало достаточной военной властью, чтобы навязать соседям свой язык).СЛЕДСТВИЕ II: РОСТ ЭКСТЕНСИВНОЙ ВЛАСТИ И КООРДИНИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВ
В предыдущей главе я утверждал, что динамизм ранней феодальной Европы в качестве исходной базы капиталистического развития лежал в интенсивных локальных отношениях власти. Теперь мы можем очертить второй этап развития этой динамики, связанный с ростом экстенсивной власти, к которому непосредственное отношение имело государство. Экономический рост требовал экстенсивной инфраструктуры в той же мере, в какой и интенсивной. Как я утверждал в предыдущих главах, изначально наибольший вклад внесли нормативное умиротворение и порядок, обеспечиваемые христианской церковью, в трансцендентной форме, поверх всех социальных границ, а также в форме «транснациональной» морали правящего класса. Однако к XII в. экономический рост создал технические проблемы, включавшие более сложные экономические отношения между иностранцами, которых церковь сторонилась. Тесные отношения между рынками, торговлей и регуляцией собственности, с одной стороны, и государством — с другой, дали государству новые ресурсы, которые оно могло использовать для укрепения своей власти, особенно против папства. Они были существенно усилены на второй, милитаристической фазе их развития. Этими ресурсами наиболее очевидно были деньги и армии, но в более тонком смысле они также включали увеличение логистического контроля над относительно экстенсивными территориями. Однако прежде всего государства были лишь одним из нескольких типов властных групп, которые являлись частью развития экстенсивной власти. Множество торговых инноваций конца XII–XIII вв.: контрактные отношения, партнерство, страхование, векселя, морское право — были созданы в итальянских городах. Оттуда они распространились на север по двум политическим интерстициальным параллельным линиям торговли, которые я обозначил в предыдущей главе. Все эти инновации сократили транспортные издержки и способствовали установлению более эффективных экстенсивных торговых сетей. Удержись экономическая власть в Центральном Средиземноморье и его линиях коммуникации с севером, и, возможно, именно города плюс слабые традиционные обязательства вассалитета, а не государства в конечном счете стимулировали бы развитие промышленного капитализма. На самом деле один прототип этих альтернативных установлений просуществовал вплоть до XVI в. Прежде чем продолжить рассказ, необходимо обратиться к обсуждению герцогства Бургундия, чтобы все не выглядело так, будто рост национальных государств был неизбежным.НЕТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА: ВОЗВЫШЕНИЕ И УПАДОК ГЕРЦОГСТВА БУРГУНДИЯ
В предыдущей главе я рассмотрел две крупнейшие параллельные средневековые торговые сети, которые растянулись от Средиземноморья к Северному морю. Более важным был западный маршрут — от устья Роны наверх через Восточную Францию во Фландрию. Он находился под контролем не могуществен-них территориальных государств, а ряда светских и священных князьков, среди которых существовали сложные вассальные обязанности, объединенные высокой моралью дворянского класса. Затем (как обычно происходило в Европе) династические несчастные случаи и осторожное использование влияния (плюс снижение автономии священной власти) обеспечили огромную власть единственному правителю — герцогу Бургундии[119]. Экспансия Бургундии происходила в периоды правления выдающихся герцогов: Филиппа Смелого (1363–1404), Жана Бесстрашного (1404–1419), Филиппа Доброго (1419–1467) и Карла Смелого (1467–1477). Ко времени правления последнего практически все современные Нидерланды и Восточная Франция ниже Гренобля приняли сюзеренитет герцогства. Его считали равным по силе королям Англии и Франции (переживавших не лучшие времена) и императорам Германии. Тем не менее власть Бургундии была менее централизованной в территориальном отношении, а следовательно, меньше походила на государство по сравнению с его конкурентами. Герцогство не имело одной столицы или постоянного королевского двора либо суда. Герцог и его двор путешествовали по владениям, осуществляя правление и регулируя споры иногда из собственных замков, иногда из замков его вассалов, расположенных между Гентом и Брюгге на севере и Дижоном и Бе-зансоном на юге. Существовали два основных территориальных блока: «две Бургундии» (герцогство и графство) на юге, Фландрия, Оно и Брабант — на севере. Эти блоки образовались путем династических браков, интриг, а подчас и открытых военных действий, затем уже герцоги сражались за объединение их администраций. Они направили свои усилия (преимущественно) на два института — высший суд и налогово-военную машину. Они достигли успехов, соизмеримых с их прославленными прозвищами. Но герцогство все равно было лоскутным одеялом, в котором говорили на трех языках: французском, немецком и фламандском, которое объединяло до сих пор антагонистические силы городов и земельных баронов; разрыв между двумя частями его территории обычно составлял более 150 километров (который обнадеживающе сузился до 50 километров за два года до финальной катастрофы). Это был вовсе не единый территориальный мир под управлением герцогской династии. Когда герцог был на севере, он обращался к своим землям: «Наши земли неподалеку отсюда» и к обеим Бургундиям: «Наши земли там и здесь». Когда он был на юге, он менял свою терминологию. Даже его династическая легитимность была немощной. Он хотел титул короля, но формально был обязан платить дань за свои западные земли французской короне (в тесных связях с которой он находился), а за восточные земли — германскому императору. Они могли бы даровать ему желанный титул, но не хотели. Великий герцог ходил по острию ножа. Он объединил две основные группы (горожан и дворянство) центрального европейского коридора, на который претендовали два территориальных государства: Франция и Германия. Ни внутренние группы, ни соперничавшие государства не хотели видеть Бургундию в качестве третьей крупной державы, но все стороны были взаимно антагонистическими, их можно было легко настроить друг против друга. Герцог умело балансировал между ними, хотя при этом неминуемо склонялся на сторону дворянства, а не городов. Бургундский двор властвовал над умами современников, а также их последователей. Его блеск вызывал всеобщее восхищение. Его почтение к рыцарству выглядело экстраординарным для всего европейского мира, где реальные инфраструктуры рыцарства (феодальное ополчение, поместье, трансцендентное христианство) были в упадке. Орден Золотого руна, объединивший ветхо- и новозаветные символы чистоты и мужества, а также символы классических источников, был одной из наиболее почетных наград Европы. Герцоги, как свидетельствовали их прозвища, были наиболее прославленными правителями того времени. Впоследствии ритуалы бургундского двора стали моделью для ритуалов европейского абсолютизма, хотя в процессе они должны были быть статическими. Бургундские ритуалы, напротив, выражали собой движение, а не территориальную централизацию: joyeuses entrees — церемониальные процессии графов в своих городах; рыцарские турниры, в рамках которых поля украшались пышно, хотя и временно; поиски Ясоном Золотого руна. А это зависело от свободного дворянства, добровольно и с чувством собственного достоинства присягавшего своему правителю. К XV в. феодальное государство столкнулось с логистическими трудностями. Война требовала постоянного пополнения налогов и личного состава, а также дисциплинированного корпуса аристократов, джентри, бюргеров и купцов, которые предоставляли эти ресурсы своим правителям на рутинной основе. Правящие классы Бургундии были слишком свободными, чтобы на них можно было положиться. Богатство торгового коридора помогало компенсировать это, но лояльность городов была непостоянной и не способствовала устойчивости классового сознания того класса, к которому принадлежали и бургундские герцоги. Филипп Смелый любил ходить по ковру, изображавшему лидеров восстаний в городах Фландрии — топтать тех, кто посмел бросить ему вызов. Бургундские силы и слабости выявлялись на полях сражений. А там феодальное ополчение, даже усиленное наемниками и наиболее развитой в Европе артиллерией, отныне больше не обладало превосходством над армиями, которые в меньшей степени состояли из одних рыцарей. Как и во всех феодальных, но не централизованных территориальных государствах, многое зависело от персональных качеств и несчастных случаев с наследниками. Благодаря возникшим трудностям в 1475–1477 гг. произошла быстрая передача власти преемнику. Смелость герцога Карла перешла в безрассудство. Пытаясь ускорить консолидацию своих восточных земель, он нажил слишком много врагов. Обладая численным преимуществом, он решился выступить против грозных фаланг пикинеров швейцарских городов. Войско Карла состояло из тяжеловооруженных бургундских конных рыцарей, не слишком надежной фламандской пехоты, большая часть которой продолжила движение на юг во время битвы, и иностранных наемников, которые благоразумно отступали, как это обычно делали рациональные наемники. В решающей битве при Нанси в 1477 г. войско Карла потерпело страшное поражение, не сумев разбить фалангу пикинеров. Герцог Карл бежал, возможно, уже будучи раненным. Он попытался переплыть реку на лошади и был выбит из седла. Громоздкость его тяжелого доспеха делала его легкой мишенью. Его обмороженное, голое и изуродованное тело без одежды, доспеха и украшений обнаружили несколько дней спустя в соседней реке. Голова Карла была расколота алебардой, на животе и пояснице были следы от многочисленных ударов копий, а лицо было настолько обезображено дикими животными, что лишь личный врач смог опознать его по боевым шрамам и длинным ногтям пальцев рук. Без наследника мужского пола герцогство быстро распалось на части, проматывая задом наперед историю его исходного возникновения. Дочь Карла ухватилась за брак с его «союзником» Максимилианом Габсбургом, германским императором. Земли Карла Смелого отошли к монархии Габсбургов и к монархии Валуа. В следующем веке земли Бургундии по-прежнему оставались ключевой частью другого, отчасти династического и территориального децентрализованного государства — империи Габсбургов Карла V и Филиппа II. Тем не менее даже эти режимы развили в каждом из центров (Австрии, Неаполе, Испании и Фландрии) многие установления сконцентрированных территориальных «современных» государств. Как отметил Бродель (Braudel 1973: 701–703), к середине XVII в. именно территориальная концентрация ресурсов была тем, что имело первостепенное значение. Более обширные, но разбросанные ресурсы Габсбургов не могли быть использованы в налогово-военной концентрации, сопоставимой с той, которую проводили княжества среднего размера с плодородным и послушным центром, например Франция. От обеих крайностей государства стали двигаться к конвергенции по образцу этой модели. Земли Габсбургов распались на Испанию, Австрию и Нидерланды, то же самое, только более компактно, произошло с конфедерацией швейцарских городов. В Германии и Италии этот процесс продлился гораздо дольше, хотя модель была очевидна. Давайте выясним почему.ЛОГИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Концентрация ресурсов оказалась ключом в геополитическом отношении. Государства, которые выигрывали от нее, были не столько ее ведущими акторами, сколько теми, кто воспользовался ее плодами. Двигателем был рост экономики. Его проникновение в экономику областей, окружавших центр государства (чего не было в Бургундии), давало возможность установить рутинные, относительно универсальные права и обязанности по всей территориально определенной зоне ядра, что было одинаково полезным в экономическом и военном отношении. Долгосрочный сдвиг экономической власти на север и запад также поместил эти области за пределами богатых итало-бургундских областей. Северные и западные государства в возрастающей степени вовлекались в коммерческое развитие. Прежде всего новые системы учета появились практически одновременно у государства, церкви и поместья. Записи Генриха II, использованные в этой главе, свидетельствуют об огромных логистических способностях государства. Параллельно государствам собственный учет вели владельцы маноров. Первыми сведениями, обнаруженными историками, были данные о поместье епископа Винчестерского в 1208–1209 гг. Умение читать и писать было шире распространено среди состоятельных людей, о чем свидетельствует увеличение королевских посланий, подобных тем, которые Генрих II адресовал своим провинциальным представителям, а также одновременная циркуляция трактатов по управлению поместьем. Данный период демонстрирует оживление интереса к коммуникации, по крайней мере к центральной организации территории. Этот интерес и организация были преимущественно светскими, а разделяли их авторитетные государства и более диффузные элементы «гражданского общества». Важной частью такого оживления было возрождение классического образования[120], утилитарным крылом которого было переоткрытие римского права, очевидно, применительно к государству, поскольку оно систематизировало универсальные правила поведения по всей территории. Но классическая философия и произведения в целом были также наполнены важностью экстенсивной коммуникации и организации среди наделенных разумом людей (как я утверждаю в главе 9). Они всегда были латентной секулярной альтернативой существующей нормативной роли христианства. Классические знания были доступны в сохранившихся греческих и латинских текстах на краю христианства — в уцелевшей греческой культуре на юге Италии и Сицилии и, что более важно, во всем арабском мире. В XII в. в нормандских княжествах Центрального Средиземноморья и в отвоеванной Испании были восстановлены классические работы, дополненные исламскими комментариями. Папство держало их на расстоянии вытянутой руки. Эти знания были позаимствованы учителями, которые уже вышли за пределы традиционной соборной школы. Они были институционализированы в первых трех европейских университетах: Болонском, Парижском и Оксфордском в начале XIII в., а затем в пятидесяти трех университетах к 1400 г. Университеты сочетали теологию и каноническое право соборных школ с римским правом, философией, письмом и медициной классического обучения. Они были автономными, хотя функциональные отношения с церковью и государством были тесными, поскольку их выпускники во все большей степени занимали средний, неблагородный уровень церковной и государственной бюрократии. Грамоты о высшем образовании назывались «клерками». Эволюция этого термина, обозначающего человека, имеющего тонзуру и относящегося к священническому сословию, до грамотного, то есть «ученого», к концу XIII в. служит свидетельством частичной секуляризации образования. Таким образом, обмен сообщениями заметно улучшился с XII по XIV в., создавая тем самым большие возможности для контроля за пространством благодаря увеличению количества грамотных людей (Cipolla 1969: 43–61; Clanchy 1981). Коммуникация впервые со времен древних коммуникационных систем получила стимул в конце XIII — начале XIV в. в виде технической революции — замены пергамента бумагой. Как писал Ин-нис (Innis 1950: 140–172), пергамент — вещь надежная, но дорогая. Следовательно, он хорошо подходил таким организациям власти, как церковь, которые делали особый акцент на времени, господстве и иерархии. Бумага была легче, дешевле и быстрее выходила из строя, усиливая экстенсивную, диффузную, децентрализованную власть. Как и большинство изобретений того времени, которые будут описаны ниже, бумага была изобретена не в Европе. Она импортировалась из исламского мира в течение нескольких веков. Но затем, когда были созданы европейские целлюлозно-бумажные фабрики (первая из известных фабрик была запущена в 1276 г.), потенциальная дешевизна бумаги могла быть использована. Увеличивалось количество писцов, книг и книжной торговли. Очки были изобретены в Тоскане в 1280-х гг. и за два десятилетия распространились по всей Европе. Средний объем папской корреспонденции в XIV в. утроился по сравнению с XIII в. (Murray 1978; 299–300). Письменные предписания английским королевским служащим многократно увеличились: соответственно между июнем 1333 г. и ноябрем 1334 г. шериф Бедфордшира и Бакингемшира получил тысячи таких предписаний! Это одновременно способствовало развитию королевской бюрократии и увеличению числа локальных шерифов (Mills and Jenkinson 1928). Увеличивалось количество копий книг. Книга путешествий «Приключения Сэра Джона Мандевиля», написанная в 1356 г., разошлась тиражом более чем 200 экземпляров (один из которых находился в маленькой библиотеке неудачливого еретика Меноккио, упомянутого в главе 12). Было сделано 73 копии «Приключений» на немецком и голландском, 37 на французском, 40 на английском и 50 на латыни. Это свидетельствовало о транснациональном лингвистическом состоянии Европы с народными языками, постепенно вытесняющими латынь (Braudel 1973: 29^). Вместе с тем до изобретения книгопечатания грамотность и владение книгами были ограничены кругом относительно богатых и городских жителей, а также церковью. Статистические оценки уровня грамотности доступны для несколько более поздних периодов, хотя нам известно, что этот уровень рос на протяжении средневекового периода в Англии. Кресси (Cres-sy 1981) измерял уровень грамотности способностью поставить собственное имя под показаниями, даваемыми в местных судах и записанными епархией Норидж в 1530-х гг. В то время как все священнослужители и профессионалы, а также практически все джентри могли поставить свою подпись в этом десятилетии, лишь треть йоменов, четверть торговцев и ремесленников и около 5 % землепашцев могли расписываться. Такие же невысокие уровни были обнаружены Ле Руа Ладюри (Le Roy Ladurie 1966: 345_347) в Лангедоке в 1570-90-х гг.: лишь 3 % землепашцев и 10% богатых крестьян могли писать. Неспециалисты могут усомниться, является ли подпись признаком грамотности. Но историки утверждают, что она может быть использована для установления способности к чтению и определенных навыков письма. Чтение, а не письмо было более востребованным и широко распространенным достижением. Не было никакого смысла учить человека ставить свою подпись без того, чтобы не учить его читать, к тому же никакой инициативы к обучению письму не проявляли до тех пор, пока определенная властная позиция человека не требовала от него такого умения. В конце средневекового периода чтение и письмо по-прежнему оставались относительно «публичной деятельностью». Важные документы, такие как Великая хартия вольностей, публично выставлялись и зачитывались вслух на собраниях. Документы, завещания и списки заслушивались; у нас еще сохранилась культура «аудиального слова», например «аудит» счетов или «я не слышал от него» (Clanchy 1981). Грамотность парадоксальным образом все еще оставалась устной и в большей степени ограниченной областями публичной власти, особенно церковью, государством и торговлей. В конце XIV в. произошел прецедент, который укрепил эту ограниченность. Джон Уиклиф был одним из многих радикальных сторонников индивидуального универсального спасения без священнического опосредования: «Каждый человек, заслуживающий порицания, да порицается за проступки свои, каждому человеку да воздастся по заслугам его». Он основал движение лоллардов, которое перевело Библию на английский и распространяло народную литературу через «альтернативные коммуникационные сети» ремесленников, йоменов и местных школьных учителей. Церковь надавила на правительство, чтобы признать это движение ересью. Последовали гонения и репрессии. Тем не менее 175 рукописных копий библий Уикли-фа, переведенных на национальные языки, все еще сохранились. А лолларды остались в дебрях истории. Это подтверждает классовые и гендерные ограничения (лишь немногие женщины могли читать и еще меньше писать) публичной грамотности. Тем не менее внутри этих рамок грамотность могла распространяться на протяжении всего позднего средневекового периода, широко проникая в господствующие социальные группы. Национальный народный язык объединял их, начиная увеличивать территориально централизованную классовую мораль, которая представляла собой жизнеспособную альтернативу традиционных нетерриториальных сетей классовой морали, типичным представителем которой было герцогство Бургундия. Если от символической коммуникации мы обратимся к транспортировке объектов, то обнаружим, что транспортные системы развивались более неравномерно. На суше римские дороги и акведуки не имели себе равных на протяжении всего этого периода, а потому сухопутная коммуникация отставала. На море медленные серии усовершенствования древних кораблей начались довольно рано в Средиземноморье и продолжились на протяжении всего периода с постоянным ростом северного и атлантического вклада. Магнитный компас, привезенный из Китая в конце XII в., судовой руль с ахтерштевнем был изобретен (независимо от гораздо более раннего китайского изобретения) на севере в XIII в. — эти и другие изобретения увеличили грузоподъемность кораблей, в иные зимы давали им возможность выходить в море, а также улучшили прибрежную навигацию. Но действительно революционное развитие всей оснастки кораблей и океанической навигации не происходило вплоть до более позднего периода — середины XV в. Позвольте нам остановить время в тот момент, когда часы стали частью цивилизованной жизни в начале XIV в., и посмотреть, как далеко зашло развитие логистики экстенсивной власти. На первый взгляд оно не выглядит впечатляющим. Контроль и коммуникация на большие расстояния были те же, что и во времена Римской империи. Например, логистика военной мобильности была такой же, какой она была на протяжении большей части древней истории. Армии по-прежнему могли идти три дня без пополнения провизии и около девяти дней, если им не приходилось нести на себе воду. Но были также сделаны определенные усовершенствования: передача большого количества письменных сообщений, в результате чего их могли прочесть (если не написать) большее число людей; более надежные и быстрые прибрежные морские пути; вертикальная коммуникация между классами, которая стала легче благодаря общей христианской идентичности и все более общим языкам в рамках «национальных» областей. Вместе с тем сухопутный транспорт, по всей вероятности, не стал лучше, тогда как большинство наиболее протяженных коммуникационных путей были частично перекрыты государственными границами, пошлинами, иногда специальным торговым регулированием, а также из-за отсутствия информации об отношениях между государством и церковью. Экстенсивное восстановление и инновации по-прежнему были распределены между несколькими конкурирующими, частично совпадающими властями. Но эта комбинация плюсов и минусов все-таки привела к усилению контроля над одной определенной территорией — развивающимся «национальным» государством. Сравнение с Римом, бесполезно, если мы рассматриваем политический контроль. Английское государство XIV в. осуществляло контроль над территорией, которая была немногим больше одной двадцатой Римской империи. Если ее инфраструктурные технологии были более или менее сравнимы с технологиями Рима, то Англия в принципе могла осуществлять координирующую власть, в двадцать раз превышающую римскую. В частности, ее провинции были относительно спокойными. В XII в. шерифы и прочие провинциальные служащие должны были представлять свои отчеты в Вестминстер дважды в год. В XIII и XIV вв., поскольку министерство финансов стало более сложным, количество визитов было сокращено до одного продолжительностью по меньшей мере две недели для каждого графства; но обеспечение безопасности отныне стало более жестким. Подобная физическая координация была невозможной для римлян, за исключением отдельных провинций. В 1322 г. этот процесс был затруднен, когда министерство финансов и его архив переехали в Иорк. Тот факт, что этот переезд занял три дня, чтобы преодолеть 300 километров, обычно воспринимался как признак слабости коммуникаций (Jewell 1976: 26). А тот факт, что он вообще произошел, к тому же на регулярной основе в течение последующих двух столетий, свидетельствовал о силе государственного контроля. По римским стандартам английские шерифы были завалены письменными предписаниями и требованиями, атакованы следственными комиссиями и погружены в рутину написания регулярных ответных отчетов[121]. Дороги, реки и прибрежная навигация, грамотность, доступность продовольственного снабжения для армий были подходящими для рутинного проникновения подобных ограниченных территориальных областей. Разумеется, формальная власть государства в средневековой Англии была несравнимо меньшей. Ни один король не верил или не поощрял веры в то, что он был божеством и его слово было законом, как делали многие императоры. Ни одному из правителей этого периода не нужна была армия, чтобы сделать это реальностью. Деспотическая власть над обществом не была формальной характеристикой средневековой Европы в отличие от Рима. Отношения между правителем и правящим классом были отношениями между носителями одной и той же диффузной классовой/национальной идентичности. Мы уже видели, что в Риме инфраструктурные практики отличались от принципов, поскольку ни один император не мог в реальности проникнуть в «гражданское общество» без помощи полуавтономной провинциальной знати. В Средние века это воспринималось как принцип и как практика. В Англии принцип верховной власти постепенно смещался от правления короля в верховном совете к правлению короля в парламенте с существенными периодами пересечения между ними. Первая система подразумевала великих баронов, включая высшее духовенство; вторая — городских бюргеров и также джентри различных графств. Другие европейские государства развили более формальную разновидность — Standestaat (сословное [корпоративное] государство), управляемое монархом с отдельными собраниями, представлявшими три или четыре сословия государства (дворянство, священнослужителей, бюргеров и иногда богатых крестьян). Все эти политические структуры обладали тремя общими характеристиками: правление осуществлялось с согласия и посредством координации включенных властных групп, постоянная координация предполагала скорее устойчивое «универсальное» территориальное государство, а не частные феодальные отношения вассалитета к их правителю; сословия были отдельными сущностями, внешними по отношению друг к другу, а не органическим целым, а также обладали маленьким взаимным проникновением власти. Государственное управление зависело от территориальной координации автономных акторов. Но если оно было эффективным, государство могло достичь существенной концентрации коллективной власти. В отличие от римских властных групп (после исчезновения сената) они могли регулярно встречаться в рамках собраний/парламентов/сословно-представительных органов для совместной координации политики. В отличие от Рима лишь немногие могущественные бароны могли объединиться на базе династических связей. Как и у римлян, координация происходила на местном уровне. Шериф мог собирать налоги только с согласия местных богачей; мирная справедливость могла получить эффективных свидетелей и судей только с согласия местной власти. Слабость этой системы состояла в отсутствии органического единства. В рамках этого периода всегда существовали трения между королевской администрацией и состоятельными семьями. Недовольство росло, поскольку король использовал «новых людей», аутсайдеров, «злых советников», и получало выражение, когда не мог «жить за свой счет» с этими людьми и был вынужден просить денег у его советов/парламента/сословий. Но когда система работала, в исторической перспективе она была сильной в координации своих территорий и подданных, а также ресурсов своего ядра — «центральных областей», даже если власть над ними была слабой. И, как мы уже убедились, ее могущество по координации и концентрации росло. К 1450 г. это было уже территориально координируемое, хотя еще и не унитарное «органическое» государство. Оно по-прежнему состояло из двух различных уровней: короля и локальных баронов, а отношения между ними напоминали территориальный федерализм.ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА
В конце XVI в. Фрэнсис Бэкон писал, что три изобретения «изменили облик и состояние всего мира» — порох, книгопечатание и морской компас. В общем с этим замечанием не поспоришь, однако отметим некоторые нюансы[122]. Артиллерийские батареи, печатный станок со съемными литерами, а также комбинация океанических навигационных техник и «полностью снаряженный» корабль действительно изменили облик экстенсивной власти по всему миру. Изначальный импульс для этих изобретений был дан на Востоке (хотя печать могла быть открыта в Европе), но речь идет не о изобретении, а о широком распространении., в котором и состоял вклад Европы в мировую историю власти. Артиллерия была самым первым и в то же время самым медленным по дальнейшему совершенствованию изобретением: ни артиллерийская батарея, ни легкое огнестрельное оружие, используемые в 1326 г., не были решающим оружием в сухопутном сражении вплоть до вторжения в 1494 г. короля Франции Карла VIII в Италию, а расцвет корабельной артиллерии начался несколько позже. «Навигационная революция», которая способствовала развитию океанического, а не прибрежного плавания, по большей части произошла в XV в. Печатный станок со съемными литерами не заставил себя долго ждать. Изобретенный в 1440–1450 гг., он выпустил 20 млн книг к 1500 г. (когда европейское население составляло 70 млн человек). Хронологическое совпадение периодов их возникновения — 1450–1500 гг. — поразительно. Как поразительна их связь с двумя возникшими структурами власти европейского общества — капитализмом и национальным государством. Совместный импульс, который придали эти два изобретения, имел решающее значение в Европе и отсутствовал в Азии. Капиталистический динамизм был очевиден в навигационных событиях, а также в отваге на службе у жадности, которая гнала купечество в неизведанный океан. Печать под патронажем крупных кредиторов была доходным капиталистическим бизнесом, ориентированным на децентрализованный массовый рынок. Но зависимость капитала от национального государства была очевидной в двух случаях. Мореплаватели искали государственного финансирования, лицензий и протекции вначале от Португалии и Испании, затем от Голландии, Англии и Франции. Артиллерия была практически изначально на службе у государства, и ее производство также требовало государственных лицензий и протекции. Отныне было необходимо, чтобы мореплаватели, артиллеристы, а также другие квалифицированные рабочие были грамотными, поэтому создавались школы, обучение в которых велось на национальном языке (Cipolla 1969: 49). Изначально книгопечатание традиционно служило христианскому Богу. Вплоть до середины XVII в. большинство книг были религиозными и к тому же на латинском языке. Только когда национальный язык начал преобладать, книгопечатание стало усиливать национально-государственные границы, положив тем самым конец публичному использованию транснациональных языков: латыни и французского, а также диалектов различных регионов в основных государствах. Эффект от этих изобретений будет рассмотрен в следующей главе. Но, завершая эту главу, они резюмируют ее тему: поскольку изначальный динамизм феодальной Европы стал более экстенсивным, капитализм и национальное государство сформировали слабый, но координируемый альянс, который в скором времени активизировался и покорил небо и землю.БИБЛИОГРАФИЯ
Ardant, G. (1975). Financial policy and economic infrastructure of modem states and nations. In The Formation of National States in Western Europe, ed. C. Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Armstrong, C. A.J. (1980). England, France and Burgundy in the Fifteenth Century. London: Hambledon Press. Bowsky, W. M. (1970). The Finances of the Commune of Siena, 1287–1355. Oxford: Clarendon Press. Braudel, F. (1973). Capitalism and Material Life. London: Weidenfeld & Nicolson. Braun, R. (1975). Taxation, sociopolitical structure and state-building: Great Britain and Brandenburg-Prussia. In the Formation of National States in Western Europe, ed. C. Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Cartellieri, O. (1970). The Court of Burgundy. New York: Haskell House Publishers. Carus-Wilson, E.M., and О. Coleman (1963). England’s Export Trade 1275–1547. Oxford: Clarendon Press. Chrimes, S. B. (1966). An Introduction to the Administrative History of Medieval England. Oxford: Blackwell. Cipolla, C. (1965). Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion 1400–1700. London: Collins; Чиполла, К. (2007). Артиллерия и парусный флот. Описание и технология вооружения XV–XVIII вв. М.: Центрполиграф.--. (1969) Literacy and Development in the West. Harmondsworth, England: Penguin Books. Clanchy, M.T. (1981). Literate and illiterate; hearing and seeing: England 1066–1307. In Literacy and Social Development in the West: a Reader, ed. H.J.Graff. Cambridge: Cambridge University Press. Cressy, D. (1981). Levels of illiteracy in England 1530–1730. In Literacy and Social Development in the West: A Reader, ed. H.J.Graff, Cambridge: Cambridge University Press. Farmer, D. L. (1956). Some price fluctuations in Angevin England. Economic History Review, 9.--. (1957). Some grain prices movements in 13th century England. Economic History Review, 10. Finer, S. E. (1975). State and nationbuilding in Europe: the role of the military. In The Formation of National States in Western Europe, ed. C.Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Fowler, K. (ed.). (1971). The Hundred Years’ War. London: Macmillan.--. (1980). The Age of Plantagenet and Valois. London: Ferndale Editions. Harris, G. L. (1975). King, Parliament and Public Finance in Medieval England to 1369. Oxford: Clarendon Press. Henneman, J. B. (1971). Royal Taxation in Fourteenth-Century France. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Hintze, O. (1975). The Historical Essays of Otto Hintze, ed. F.Gilbert. New York: Oxford University Press. Howard, M. (1976). War in European History. London: Oxford University Press. Innis, H. (1950). Empire and Communications. Oxford: Clarendon Press. Jewell, H.M. (1972). English Local Administration in the Middle Ages. Newton Abbot, England: David & Charles. Kiernan, V.G. (1965). State and nation in western Europe. Past and Present, 31. Lane, EC. (1966). The economic meaning of war and protection. In Venice and History, ed. Lane. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Le Roy Ladurie, E. (1966). Les Paysans de Languedoc. Paris: SEUPEN. Lewis, P. S. (1968). Later Medieval France — the Polity. London: Macmillan. Lloyd, Т.Н. (1982). Alien Merchants in England in the High Middle Ages. Brighton: Harvester. McFarlane, К. B. (1962). England and the Hundred Years’ War. Past and Present, 22. --. (1973). The Nobility of Later Medieval England. Oxford: Clarendon Press. McKisack, M. (1959). The Fourteenth Century. Oxford: Clarendon Press. Mann, M. (1980). State and society, 1130–1815: an analysis of English state finances. In Political Power and Social Theory, vol. I, ed. M. Zeitlin. Greenwich, Conn.: J Al Press. Miller, E. (1972). Government Economic Policies and Public Finance, 1000–1500. In The Fontana Economic History of Europe: The Middle Ages, ed. С. M. Cipolla. London: Fontana.--. (1975). War, taxation and the English economy in the late thirteenth and early fourteenth centuries. In War and Economic Development, ed. J. M. Winter. Cambridge: Cambridge University Press. Mills, M.H., and С. H.Jenkinson (1928). Rolls from a sheriff’s office of the fourteenth century. English Historical Review, 43. Murray, A. (1978). Reason and Society in the Middle Ages. Oxford: Clarendon Press. Painter, S. (1951). The Rise of the Feudal Monarchies. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. Pare, G., et al. (1933). La renaissance du xii’ siecle: les ecoles et Г enseignement. Paris and Ottawa: Urin and Institut des Etudes Medievales. Phelps-Brown, E.H., and S.V. Hopkins (1956). Seven centuries of the price of consumables. Economica, 23. Poole, A. L. (1951). From Domesday Book to Magna Carta. Oxford: Clarendon Press. Poulantzas, N. (1972). Pouvoir politique et classes sociales. Paris: Maspero. Powicke, M. (1962). The Thirteenth Century. Oxford: Clarendon Press. Ramsay, J. H. (1920). Lancaster and York. Oxford: Clarendon Press.--. (1925). A History of the Revenues of the Kings of England 1066–1399. 2 vols. Oxford: Clarendon Press. Rashdall, H. (1936). The Universities of Europe in the Middle Ages. 3 vols. Oxford: Clarendon Press. Rey, M. (1965). Lesfinances royales sous Charles Vi. Paris: SEUPEN. Ronciere, С. M. de la (1968). Indirect taxes of «Gabelles» at Florence in the fourteenth century. In Florentine Studies, ed. N. Rubinstein. Evanston, Ill.: Northwestern UniversityPress. Sorokin, P.A. (1962). Social and Cultural Dynamics, vol. III. New York: Bedminster Press. Steel, A. (1954). The Receipt of the Exchequer 1377–1485. Cambridge: Cambridge University Press. Strayer, J. R. (1970). On the Medieval Origins of the Modern State. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Strayer, J. R., and C. H.Holt (1939). Studies in Early French Taxation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Tilly, C. (ed.) (1975). The Formation of National States in Western Europe. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Tout, T. F. (1920-33). Chapters in the Administrative History of Medieval England. 6 vols. Manchester: Manchester University Press. Tout, T. E, and D. Broome (1924). A National Balance-Sheet for 1362-3. English Historical Review, 39. Tuchman, B.W. (1979). A Distant Mirror: The Calamitous Fourteenth Century. Harmonds worth, England: Penguin Books. Vaughan, R. (1973). Charles the Bold. London: Longman. --. (1975). Valois Burgundy. London: Allen Lane. Verbruggen, J.F. (1977). The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages. Amsterdam: North-Holland. Waley, D. P. (1968). The Army of the Florentine Republic from the twelfth to the fourteenth centuries. In Florentine Studies, ed. N. Rubinstein. Evanston, Ill.: Northwestern University Press. White, L., Jr. (1972). The Expansion of Technology 500-1500. In The Fontana Economic History of Europe: The Middle Ages, ed. C. M.Cipolla. London: Fontana. Wolfe, M. (1972). The Fiscal System of Renaissance France. New Haven, Conn.: Yale University Press. Wolffe, B.P. (1971). The Royal Demesne in English History. London: Allen & Unwin.ГЛАВА 14 Европейская динамика: III. Международный капитализм и органические национальные государства, 1477–1760 годы
Две последние главы были сфокусированы на различных аспектах европейского развития. Глава 12—на локальной интенсивной феодальной динамике, особенно на ее экономической составляющей. Глава 13 описывает, как эта динамика вышла наружу (как сделала и сама Европа), фокусируясь на более экстенсивных отношениях власти, особенно на роли государства. В целом европейское развитие объединяло в себе оба аспекта. В настоящей главе мы рассмотрим их комбинацию, которая со временем привела к промышленной революции. Предметом этой главы являются скорее экстенсивные, чем интенсивные, аспекты развития и в особенности роль государства в нем. Соответственно, ей недостает того, что в идеале должно было быть, — достаточно подробного объяснения различных стадий экономического роста, ведущих к промышленной революции. Подлинное объяснение потребует и экономической теории, и сравнительной методологии применительно к различным регионам и странам Европы, которые подошли к неравномерному рывку и индустриализации. Англия, ставшая Великобританией, была первой индустриальной страной, именно поэтому я рассматриваю Великобританию. Но ответы на вопрос: «Почему не Италия, или Фландрия, или Испания, или Франция, или Пруссия, или Швеция, или Голландия?»— являются необходимой частью объяснения, и потому эти страны по отдельности рассматриваться не будут. Это может привести к чересчур британскому «акценту» всего процесса. Британия сделала это первой, но Франция, Голландия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург вскоре последовали ее примеру. Как только всем в мультигосударственной системе стало очевидно, что Британия наткнулась на огромные новые ресурсы власти, ей тут же стали подражать. Промышленный капитализм распространялся значительно быстрее в других социальных условиях, в которых он чувствовал себя как дома. Если мы рассмотрим эти страны как автономные примеры, мы получим не одну динамику (или, если угодно, один «переход от феодализма к капитализму»), а несколько различных. Именно к подобному заключению, например, приходит Холтон (Holton 1984) после тщательного анализа Британии, Франции и Пруссии. Тем не менее они были не автономными кейсами, а всего лишь национальными акторами в более широкой геополитической мультигосударственной цивилизации. Силы внутри этого единого целого (а также извне; см. главу 15) оказали влияние на Британию, социальная структура и геополитическое положение которой периодически делали ее «передовым фронтом» в процессе развития, происходившем в рамках рассматриваемого периода. Передовой характер, хотя и в минимальной степени, этого фронта был не случайным.таблица 14.1. Английские государственные финансы, 1502–1688 гг.: средний ежегодный доход в текущих и постоянных (1451–1475 гг.) ценах
 Примечание. Все данные полностью сравнимы с теми, которые приведены в табл. 13.2. Детализацию всех источников и подсчетов см.: Mann 1980.
Источники. Доходы: 1502–1505 гг. — Dietz 1964а, скорректированные Wolffe 1971; 1559–1602 гг. — Dietz 1923; 1604–1640 гг. — Dietz 1928; 1660–1668 гг. — Chandaman 1975. Индекс цен: Phelps-Brown and Hopkins 1956.
Примечание. Все данные полностью сравнимы с теми, которые приведены в табл. 13.2. Детализацию всех источников и подсчетов см.: Mann 1980.
Источники. Доходы: 1502–1505 гг. — Dietz 1964а, скорректированные Wolffe 1971; 1559–1602 гг. — Dietz 1923; 1604–1640 гг. — Dietz 1928; 1660–1668 гг. — Chandaman 1975. Индекс цен: Phelps-Brown and Hopkins 1956.
К сожалению, это не то утверждение, которое я мог бы полностью аргументировать в силу отсутствия устойчивой сравнительной методологии и теории. Тем не менее теория также является интегральной частью этой главы. Речь идет о продолжении аргументации из предыдущей главы. Эту аргументацию также широко приемлют современные экономисты: рост рынка массового потребления (изначально потребления крестьянских семей), который мог эксплуатировать труд сельского пролетариата, создал основной стимул для экономического взлета, который произошел в Британии в конце XVIII в. Этот рынок был преимущественно внутренним, причем не просто внутренним, а национальным. Это обстоятельство оправдывает нашу постоянную концентрацию на возникновении организационной власти, которая дала начало сети национального взаимодействия, то есть государства. Не забывая, что экономический динамизм, описанный в главе 12, давал о себе знать на протяжении этого периода, принимая в возрастающей степени капиталистические формы, сконцентрируемся на английском государстве. Время от времени я буду прислушиваться к рокоту экономического динамизма, а более подробно рассмотрю его в конце главы. Возвратимся к английским государственным финансам как индикатору функций государства. Однако в этой главе неадекватность данного показателя станет очевидной, и я дополню его другими формами исследования.
СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ доходов, 1502–1688 ГОДЫ
Таблица 14.1 содержит собранные мной динамические ряды совокупных доходов за период 1502–1688 гг. За период 1452–1501 гг. нет надежных данных, как и за периоды правления Генриха VIII, Эдуарда VI и Марии Тюдор. Все цифры до 1660 г. основаны в определенной степени на догадках и оценках (Mann 1980)1. Напротив, цифры после 1660 г. можно считать надежными. Таблица 14.1 показывает, что Генрих VII восстановил уровень государственных финансов в текущих и постоянных ценах до показателя, на котором они находились до спада во время войны роз. Затем вплоть до Гражданской войны цифры демонстрируют два тренда: огромную инфляцию цен, которая многократно увеличила государственные финансы и сократила реальные доходы, если сделать поправку на инфляцию. Последний тренд удивителен, поскольку большинство историков рассматривают великое развитие государства, произошедшее при Тюдорах[123][124]. Исследуем эти тренды более детально. Не отягощенный ни инфляцией, ни продолжительными войнами, Генрих VII сбалансировал свои бухгалтерские книги и даже накопил излишки. Его доходы равными долями проистекали из трех основных источников: ренты от земель короны, таможенных пошлин и парламентских сборов (parliamentary taxation). Последние оберегали его престол от соперников и иностранных сил. Вопреки финансовой реорганизации его государство (в общем размере и наборе основных функций) было традиционным. Расходы королевского двора, оплата политических рекомендаций немногочисленных советников, осуществление верховного правосудия, регуляция торговли через государственные границы, выпуск монет, а также ведение периодических войн с помощью лояльных ему баронов — вот весь перечень государственных функций, который почти наверняка составлял менее чем 1 % национального богатства и был маргинальным по отношению к жизни большинства подданных государства. В течение последующих двух столетий это государство существенно изменилось под воздействием трех сил, две из которых были традиционными, а одна — новой. Мы вновь сталкиваемся с ростом военных издержек и инфляцией. Но увеличение роли государства как координатора правящего класса все еще не достигло «органической» фазы. Первое изменение — рост военных расходов — было предсказуемо по средневековому опыту: последствия восшествия на престол более воинственного короля Генриха VIII. Таблица 14.2 содержит оценки Дитца общих денежных расходов в первые годы его правления. Взгляните на четырехкратное увеличение расходов в 1512 г., когда король начал свои французские войны, и практически троекратное увеличение в следующем году, когда военная кампания приобрела более интенсивный оборот. Эти увеличения были всецело следствием роста военных расходов. Как и в три предыдущих века, ведение войн было сущностью государства. Подобные скачки в расходах в начале войн существовали вплоть до наших дней. Но сегодня высота этого скачка в расходах стала снижаться. Французские военные кампании Генриха VIII увеличили расходы в десять раз за два года — в 1511–1513 гг. Если верить данным Дитца (Dietz 1918: 74; 1964а: I, 137–158), французские и шотландские войны 1542–1546 гг. увеличили расходы примерно в четыре раза. Четырехкратное увеличение расходов было нормальным на протяжении следующего столетия, однако после 1688 г. они стали снижаться. Не то чтобы изменились границы государства или войнытаблица 14.2. Денежные расходы, 1511–1520 гг., фунтов стерлингов
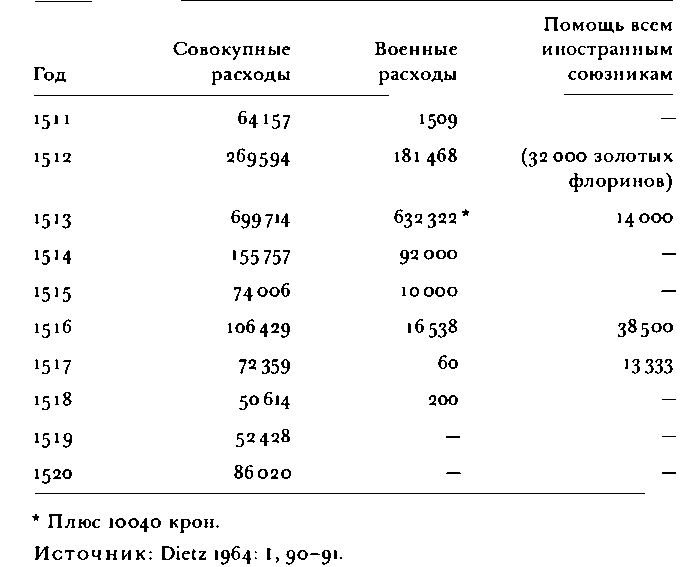 стали вестись реже, скорее выросли военные расходы мирного времени. Таблица 14.2 показывает, что это уже было подготовлено ранними войнами Генриха VIII, поскольку по крайней мере одна статья расходов оплачивалась из отдельного счета: содержание гарнизона во французском городе Турне составляло 40 тыс. фунтов стерлингов в год в 1514–1518 гг. (когда он капитулировал). Отныне на протяжении XVI в. расходы на содержание гарнизонов в Берике, Кале, Турне, а также в Ирландии исчислялись такими же огромными суммами, как и все остальные расходы, вместе взятые. Установилось «перманентно-военное государство».
стали вестись реже, скорее выросли военные расходы мирного времени. Таблица 14.2 показывает, что это уже было подготовлено ранними войнами Генриха VIII, поскольку по крайней мере одна статья расходов оплачивалась из отдельного счета: содержание гарнизона во французском городе Турне составляло 40 тыс. фунтов стерлингов в год в 1514–1518 гг. (когда он капитулировал). Отныне на протяжении XVI в. расходы на содержание гарнизонов в Берике, Кале, Турне, а также в Ирландии исчислялись такими же огромными суммами, как и все остальные расходы, вместе взятые. Установилось «перманентно-военное государство».
ВОЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СИСТЕМА ГОСУДАРСТВ
Расходы на содержание гарнизонов были верхушкой айсберга изменений в военной организации, произошедших примерно в период 1540–1660 гг. Эти изменения многие историки вслед за Робертсом (Roberts 1967) называют «военной революцией». Огнестрельное оружие было ее частью, хотя его роль часто преувеличивают (как утверждается в Hale 1965) — Внедрение огнестрельного оружия в Европе в XIV–XV вв. было медленным, к тому же оно оказало незначительное воздействие на тактику армий. Батальоны пикинеров, которые преобладали с начала XIV в, просто вооружили мушкетами. Тяжелые пушки оказывали большее влияние на ход сражений, особенно морских, но требовали значительных инвестиций в масштабах, недоступных богатой провинциальной знати. С их помощью король успешно осаждал замки феодального дворянства. Но затем пушки привели к триумфу нового типа оборонительной наземной войны — trace italienne (дословно «ходы сообщения», или апроши), постройке низких укреплений в форме звезд, из-за которых мушкетеры могли «выкашивать» огнем осаждавших еще до того, как они подходили к главным крепостным стенам (Duffy 1979) — Возведение подобных бастионов с тяжелой артиллерией, массивными земляными укреплениями приводило к тому, что взятие крепостей измором занимало больше времени, удлиняло продолжительность военных кампаний, увеличивало срок службы солдат и повышало военные расходы. В связи с этим были введены мобильные тактические инновации генералов Морица Нассауского (Оранского) и Густава Адольфа, которые обнаружили, что восстановление линий фронта, которое было выведено из обращения в XIV в. шведами и фламандцами, может повысить огневую мощь пехоты, вооруженной мушкетами. Но линейное построение требовало более тщательной военной подготовки по сравнению с батальонами, кроме того, в случае атаки им было необходимо укрытие в земляных укреплениях. Хорошо оплачиваемые дисциплинированные профессионалы были полны желания трудиться и более чем когда бы то ни было воевать. Это увеличило централизацию военных организаций, а военная подготовка способствовала преобладанию наемников (к тому же еще одним закономерным результатом стали проблемы с автономией). Размер армии по отношению к общей численности населения вновь вырос в XVI в. по меньшей мере до 50 % (Sorokin 1962: 34°) — Паркер утверждает (Parker 1972: 5_6)> что в некоторых случаях размер армии увеличился в десять раз (ср. Bean 1973). Размер флота и затраты на него выросли с середины XVI в. Изначально специализированные военные корабли были редкостью, но даже переделанные торговые корабли требовали ремонта, а моряки-переобучения. Оснащение кораблей артиллерией требовало инвестиций. Все это не только повышало военные издержки, но и гарантировало, что они останутся на высоком уровне. Отныне в военное или мирное время военные издержки были существенными. Когда Людовик XII спросил своего миланского советника Тривульцио, как гарантировать успех его вторжения в Италию, тот ответил: «Мой великодушный король, необходимы три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги» (цит. по: Ardant 1975: 164) — С каждым последующим витком роста расходов советник мог добавлять: «…и еще раз деньги». Все изменения вели ко все большей роли капиталоемкого снабжения, а следовательно, к более централизованной упорядоченной администрации и учету капитала, который мог концентрировать ресурсы подконтрольной государству территории. Эти изменения усилили территориально централизованную власть (государства), а также распространение товаров внутри этой территории (то есть капитализм). Исследователи отмечают, что капиталистические методы впервые появились на елизаветинском флоте и в валленштейнской армии. Связи между капитализмом и государством становились все более тесными. Выше я сжато описал период военной истории, который охватывал два века — скажем, от первого регулярно оплачиваемого артиллерийского расчета, сформированного французским королем Карлом VII в 1444 г., до смерти Морица Нассауского (Оранского) и Валленштейна в 1625 и 1634 гг. соответственно. Следовательно, необходимо подчеркнуть, что революция в военном деле произошла не по причине внезапности приведенных выше изменений, а в силу их долгосрочного воздействия. Технология огнестрельного оружия, тактика и стратегия, а также формы военной и государственной организации развивались на протяжении всего этого периода. Лишь в самом конце трансформация была завершена, смерть двух великих военачальников, вероятно, была символической. Как сказал Хинце: «Полковники перестали быть частными военными предпринимателями и стали государственными служащими» (Hintze 1975: 200; ср. McNeill 1982: глава 4). Но какого типа государствам способствовали эти изменения? Положение крайне бедных государств теперь стало незавидным. И с «феодальными» государствами было покончено: система без-контрактной поставки вассалами своих личных отрядов во время военных кампаний морально устарела. Эти «бесплатные» феодальные ополчения невозможно было усилить отрядами наемников, которые стали чрезмерно капиталоемкими. В рамках систем городов-государств, которые существовали в Италии, маленькие и небольшие государства (размером с Сиену) не могли найти достаточно денег, чтобы поддержать свою независимость в оборонительной войне. Требовались более крупные, централизованные администрации. Действительно, консолидирующие и централизующие последствия порохового оружия очевидны по всему миру — его распространение в Англии, Японии и различных частях Африки усилило центральную власть государства (Brown 1948; Kierman 1957: 74; Stone 1965: 199–223; Morton-Williams 1969: 95–96; Goody 1971: 47–56; Smaldane 1972; Bean 1973; Law 1976: 112–132). Эти исключения подтверждали, что Европа движется к системе государств, иными словами, что уцелевшие единицы будут относительно централизованными и относительно территориальными. Слабые феодальные конфедерации — бродячие военные машины, а также маленькие интерстициальные города и мелкие княжества терпели поражения. Таким образом, Европа стала более упорядоченной мульти-государственной системой, в которой акторы были более или менее равными, сходными в интересах и формально рациональными в дипломатии. Вся Европа отныне повторяла предшествующий опыт маленькой итальянской мультигосударственной системы. Кроме того, именно в Италии было распространено большое количество ранних военных и дипломатических технологий, которые оберегали продолжительную патовую геополитическую ситуацию в стране, защищая ее как мультигосудар-ственную систему. Оборонительная дипломатия государств была нацелена на предотвращение гегемонии одного из них. У военной революции не было шансов изменить эту геополитически патовую ситуацию, разрушив передовые или крупнейшие государства. Изменились только фундаментальные логистические инфраструктуры. Армии по-прежнему могли передвигаться пешком в течение девяти дней по европейской территории (где была доступна вода). Затем солдаты забирали у крестьян урожай, делали привал, чтобы испечь хлеб на следующие три дня, и продолжали марш-бросок. В конце XVII в. ряд генералов (Мальборо, Ле Телье, Лавуа) начали уделять существенное внимание организации продовольственного снабжения, но они по-прежнему могли обеспечить лишь 10% необходимых припасов. Армии по-прежнему жили за счет деревень. Без революции в наземном транспорте урожайность зерна вдоль маршрутов, по которым шли армии, была существенно ограничена. Как мы видели в табл. 12.1, этот коэффициент медленно возрастал до XVIII в. (когда он подскочил). Это могло быть основной детерминантой роста численности армий. Но это все еще устанавливало верхний предел численности, мобильности и развертывания армии, так что ни одно государство не могло разбить другое крупное государство без определенной численности войск или скорости движений[125]. Следовательно, результатом войны могла быть не гегемония, а только лишь избегание полного поражения. Европа оставалась мультигосударственной системой, затеявшей бесконечную игру с нулевой суммой на одной и той же фиксированной территории. Передовые государства могли разбить более слабые, но в сухопутных сражениях ситуация между ними была патовой, хотя море давало дополнительные возможности. Одним важным вкладом в патовую ситуацию была одна общая характеристика мультигосударствен-ных систем: стоило только ведущей державе внедрить новые технологии власти, как самый успешный из ее соперников незамедлительно начинал перенимать новые технологии более упорядоченным и плановым образом. Преимущество отсталости не было особенностью исключительно мультигосударственной системы, которая началась только с индустриализации. Но что могли представлять собой внутренние структуры этих государств? Было несколько вариантов. Один из любопытных вариантов был представлен крупным «капиталистическим» предприятием Валленштейна во время Тридцатилетней войны. Получив большие поместья, конфискованные у протестантов Фридландии, он использовал свои ресурсы, чтобы собрать и обучить армию. Затем армия прошлась по северу Германии, заставив города платить дань, которая позволила ему увеличить численность войск до 140 тыс. человек. Если бы не его убийство, кто знает, какое «государство» мог бы создать такой предприимчивый генерал. Помимо этого имели место два основных типа государств, которые могли стать передовым фронтом военной власти, так как удовлетворяли двум основным необходимым требованиям: приобрели огромные богатства, а также создали большие централизованные военные администрации. Поэтому только очень богатые государства могли позволить себе содержать передовые армии, полностью обособленные от государственных дел и жизни его граждан. Или государство, которое обладало определенным богатством, но в большей степени людскими ресурсами, могло создать крупные конкурентоспособные военные силы с помощью системы, извлекавшей налоги и людские ресурсы и более централизованной в администрировании и социальной жизни в целом. Позднее в этой главе мы увидим, как «фискальная» и «мобилизующая» альтернативы разовьются в «конституционный» и «абсолютистский» режимы. Поэтому огромное богатство и большая численность населения в случае разумной концентрации и способности мобилизовать их при помощи единообразных административных технологий отныне стали едва ли не главными преимуществами. В последующих веках итальянские республики (Генуя и Венеция), Голландия и Англия славились своим богатством, а Австрия и Россия — своим населением и относительно унифицированным государственным аппаратом. Испания и Франция обладали обоими преимуществами, а потому, разумеется, близко подошли к политической гегемонии на военной основе над всей Европой, которая в конечном счете была предотвращена мультиосударственной системой. Основные монархии и республики Европы неравномерно двигались к полному контролю над военной машиной — с Испанией и Швецией в авангарде и Англией и Австрией в хвосте. Раньше других влияние финансового импульса ощутила на себе Испания. Ладеро Кесада (Ladero Quesada 197°) демонстрирует, что увеличение королевских расходов Кастилии втрое в 1480 г. и вдвое в 1504 г- было прежде всего результатом войны. В 1480–1492 гг. в период завоевания Гранады военные издержки составили по меньшей мере три четверти всех государственных расходов. Когда военные действия прекратились, военная машина не была демонтирована, а была направлена на другую международную авантюру. Паркер (Parker 1970) пишет, что в 1572–1576 гг. более трех четвертей испанского бюджета уходило на возврат и обслуживание долга (ср. Davis 1973: 211). Резкий рост государственных расходов в Европе XVII в. был в основном результатом роста военных расходов, а также развития более постоянных систем оплаты долгов (Parker 1974: 560–582). Англия замыкала список, поскольку ее государственные расходы на основные военные силы и флот не росли так быстро вплоть до XVII в. Только когда Англия и Голландия вытеснили каперство путем создания империи и столкновения их друг с другом, морская власть английского государства стала преобладающей. Три англо-голландские войны за морскую гегемонию датируют рост государств 1650-70-ми гг. Начиная с середины 166о-х гг. и в последующие двести лет флот был основной статьей английских государственных расходов, за исключением нескольких лет, когда затраты на сухопутные силы или возврат военных долгов перекрывали его. При Елизавете и первых двух Стюартах совокупные военные расходы могли сокращаться до 40 % от всех государственных расходов в мирные годы, но при Карле II и Якове II они никогда не опускались ниже 50 % и поддерживались более обременительными выплатами долгов (Dietz 1923: 91-104; Dietz 1928: 158–171; Chandaman 1975: 348–366). Перманентно военное государство возникло в Англии в две стадии. Хотя гарнизоны Тюдоров были его предшественниками, именно флот Пеписа составлял основную ударную силу Тюдоров. Военные расходы были усилены из-за второй традиционной угрозы государству — инфляции. Таблица 14.1 показывает, что вскоре после 1660 г. размер государственных финансов в реальном выражении, по сути, не увеличивался (скачок, вероятно, произошел в рамках незадокументированного периода Содружества Англии, Шотландии и Ирландии 1650-х гг.) в основном благодаря военным расходам и долговым выплатам. Инфляция Тюдоров оказала, как это обычно и происходило, инновационный эффект на государство, который был усилен благодаря росту инфляции. Цены выросли в шесть раз за сто лет начиная с 1520-х гг., что, вероятно, было близко к цифрам всей остальной Европы[126]. Такая инфляция была беспрецедентной для европейских государств (хотя XX в., вероятно, видел еще и не такое). Реальное благосостояние росло на протяжении этого периода, так что повышение цен можно было пережить. Но инфляция негативно отразилась на некоторых источниках дохода короны, особенно на земельной ренте. Задавленные инфляцией и ростом текущих издержек войны, правительства Генриха VIII, Эдуарда VI и Марии Тюдор прибегли к крайним мерам — экспроприации церковных земель, порче монеты, продаже королевских земель, крупным займам. При Генрихе VIII пришлось прибегнуть к действиям с далеко идущими последствиями — налогообложению в мирное время. Начиная примерно с 1530 г. нельзя было и предположить, что причиной налогообложения было вступление в войну (Elton 1975)’ хотя налоговые поступления по-прежнему шли практически непосредственно на борьбу с инфляцией и покрытие военных расходов. Эти годы знаменуют собой важный сдвиг. В 1534 г. часть парламентских поступлений от налогов была впервые направлена на общие гражданские нужды государства. Этого в основном потребовало финансирование операций по наведению порядка в Ирландии, а также строительство укреплений и портовых работ. Шофилд тем не менее рассматривает это как «революцию», поскольку скорее общие отсылки к королевскому «могуществу и милости» стали заполонять парламентский язык (Schofield 1963: 24–30). Так как же обстояли дела с «гражданскими функциями» государства Тюдоров и Стюартов? Возникли ли новые гражданские функции? Это породило третью инновацию: увеличение координационной роли государства до отметки, на которой национальное государство стало органической единицей. Если смотреть исключительно на государственные финансы, роста гражданских функций в XVI в. не разглядеть. Расходы на содержание королевского двора начиная с правления Генриха VII и заканчивая последними годами Елизаветы выросли примерно в пять раз (Dietz 1932), то есть примерно на столько же, насколько и цены. Помимо этого никакого роста невоенных расходов не происходило. Тем не менее начиная с правления Якова I произошли изменения. Его гражданские расходы выросли выше уровня времен Елизаветы в период дефляции цен. В последние пять лет правления Елизаветы (1598–1603) среднегодовые расходы составляли около 524 тыс. фунтов стерлингов, из которых 75 % составляли военные расходы. Яков I заключил мир со всеми иностранными державами и сократил военные расходы (в основном за счет ирландских гарнизонов) до 30 % бюджета. В 1603–1608 гг. среднегодовые расходы составляли около 420 тыс. фунтов стерлингов, таким образом, гражданские расходы выросли на четверть (Dietz 1964: II, 111–113; дополненные перерасчеты см. в Mann 1980). Дитц (Dietz 1928) демонстрирует три фактора, которые этому способствовали. Во-первых, в отличие от Елизаветы Яков был женат и имел детей, а потому и содержание его двора обходилось дороже. Во-вторых, он был весьма расточительным, и его оппоненты утверждали, что потратить 15593 фунта на ребенка королевы Анны было мотовством. Но его расточительность переходила в третий фактор расходов, который был непреложным для всех государств, — награды дворянским служащим. То есть Яков покупал верность и преданность своих баронов отчасти потому, что для них он был иностранцем, шотландцем на троне. Но система раздачи государственных должностей в обмен на лояльность (spoils system)[127] стала общепринятой в Европе, даже у королей, которые пользовались большей поддержкой. Расходы на жалованье владельцам подобных раздаваемых должностей не были экстраординарными по сравнению с объемами военных расходов. Но значение раздачи должностей было важнее расходов на них, поскольку они ознаменовали собой расширение государственных функций.ОТ КООРДИНИРУЮЩЕГО К ОРГАНИЧЕСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Рассмотрим сначала систему раздачи государственных должностей в обмен на лояльность (spoils system) с точки зрения дворян и джентри. Величие состоятельных семей было гораздо меньшим по сравнению с величием их предшественников. Ряд историков подсчитали доходы семейств поздних Тюдоров и ранних Стюартов. Доходы девятого графа Нортумберленда составили менее 7 тыс. фунтов в год в период 1598–1604 гг. и выросли до 13 тыс. в 1615–1633 гг. (Batho 1957: 439) — Сэр Роберт Спенсер, по общему мнению, богатейший человек королевства, получал максимум 8 тыс. фунтов в год в начале XVII в. (Finch 1956: 3», 63). Сесил — главный чиновник на протяжении века, первый граф Солсбери в период 1608–1612 гг. имел доход около 50 тыс. фунтов, хотя доходы второго графа в большей степени зависели от земли, а не от должности, они сократились примерно до 15 тыс. в 1621–1641 гг. (Stone 1973: 59,143). Тем не менее они были тесно связаны с королевскими доходами. Ничего подобного в средневековый период не было. Отныне бароны стали более значимы как класс, а не в силу индивидуального или семейного состояния их домохозяйств. Из этого следовало, что средневековая соборная природа правительства (король в окружении около двадцати великих мужей) была неприемлема как средство консультаций. Более оптимальной была либо структура, выстраиваемая вокруг двора, либо представительные собрания— относительно «абсолютистский» и «конституционный» пути будут рассмотрены далее. Из этого также следовало, что великих людей уже нельзя было включить в индивидуальные отношения «лорд — вассал». Чтобы произвести впечатление, монарх отныне стал публичной персоной, демонстрируя величие с показной роскошью и пышностью. В своей крайности это становилось эксцентричным, как мы можем судить из описания Людовика XIV: Король Франции был полностью, без остатка, «публичным» персонажем. Мать родила его на публике, и с появления на свет все моменты его жизни, вплоть до самых ничтожных, проходили перед глазами слуг, которые занимали высокопоставленные государственные должности. Он ел, ложился в постель, просыпался, одевался и приводил себя в порядок, мочился и испражнялся на глазах у публики. Он не принимал ванну на публике, но и не уединялся. У меня нет свидетельств о том, что он имел половые сношения на публике, но он подошел к этому достаточно близко, рассматривая условия, при которых он собирался лишить невинности свою августейшую невесту. Когда он умер (на глазах у публики), его тело было быстро и неряшливо разрезано и его расчлененные куски церемониально розданы наиболее восторженным из персонажей, которые наблюдали за ним на протяжении всего его морального существования [Poggi 1978: 68–69]. Важнее было то, что публичная демонстрация была следствием роста публичного законодательства. Правила поведения отныне были значительно труднее установить сверху по цепочке «лорд — вассал». Первой общей стадией перехода от партикулярных к универсальным правилам управления в Англии, Франции и Испании были «графства, окружавшие столицу» — централизованное правление, которое мы уже упоминали в главе 13. В Англии Йоркский король Эдуард IV (1461–1483) рекрутировал меньше человек (ведущих рыцарей и джентри) из «графств, окружавших столицу», в свой двор. Он правил этой богатой центральной областью напрямую (а не через великих баронов, как в других графствах). К периоду правления Генриха VIII люди из этих графств составляли большинство кабинета его величества. Карта этих графств представлена двумя или более джентльменами его кабинета (Falkus and Gillingham 1981: 84), соперничавшими с блоком представителей из соседствовавших графств в Восточной и Юго-Восточной Англии, а также трех графств, расположенных где бы то ни было еще. Последняя стадия данного процесса отчетливо видна в Англии XVIII в.: «класс-нация» через всю страну объединил джентри, дворян, бюргеров и политических «служащих», богатство которых было приобретенным или использовалось капиталистически. Поздний этап был отделен от раннего сложным переходом, который испытал заметное влияние особенностей конфликтов светских и религиозных властей. Однако в целом это был светский процесс развития капиталистического класса внутри нации. Такой могущественный слуга, как капиталистический класс, также весьма полезен для государства. Хотя настоятельная необходимость в его автономных военных ресурсах отпала, монарх крайне нуждался в его богатстве. Этот класс также контролировал администрации и суды в большинстве стран, а следовательно, имел доступ к богатству своих соседей. Способность капиталистов к пассивному сопротивлению государству, особенно сборщикам налогов, была весьма существенной. Ни один монарх не мог править без них. Они все чаще занимали центральные государственные посты: военные и гражданские. Не свое поместье, а королевский двор отныне был центром их деятельности, а государственные должности были их основным желанием. Количество государственных служащих росло, хотя и различным образом в разных странах. Мы можем выделить две основные переменные. Во-первых, сухопутные державы привлекали дворян в основном на службу в сухопутные войска, а не в военно-морские. В XVII–XVIII вв. высшее командование, а также непосредственный офицерский корпус, за исключением артиллерии, во всех странах составляли дворяне в отличие от морских офицеров из средних классов (Vagts 1959: 41_73’ Dorn 1963: 1–9) — Во-вторых, некоторые монархи не хотели либо не могли консультироваться о прямых налогах, обостряя исторический процесс продажи королевских должностей, особенно в форме откупов. Франция — наилучший тому пример, хотя практика откупщиков и была широко распространена (Swart 1949) — Повсеместно уважение к монарху, расточительность Якова I, система раздачи государственных должностей (spoils system) разрастались как в масштабах участников, так и в количестве истраченных на это денег. Все это способствовало централизации исторической социальной солидарности монарха с земельным дворянством, а следовательно, централизации и политизации их солидарности и конфликтов. Тенденции к централизации сделали государственные финансы неполным руководством для исследования государственной деятельности. Ни финансовые выгоды, ни издержки системы раздачи государственных должностей (spoils system) не были огромными, тем не менее координационная роль монархии существенно возросла. Политическим следствием был ряд конфликтов между партиями «двора» и «графств», который явился важным шагом в развитии «симметричной» и «политической» классовой борьбы, принуждая дворянство и купцов двигаться к государственным ролям. В Англии двор и парламент стали двумя основными аренами национального конфликта и координации. Двор был более партикуляристским, распределявшим права и обязанности по сетям патрон-клиентских отношений. Это всего лишь добавило количество людей, толпы придворных, к старому консилиуму приближенных ко двору. Парламент был более новым, даже если не таким могущественным. Его законодательная деятельность значительно выросла. В первые семь сессий правления Елизаветы были выпущены 144 публичных и 107 частных законов, а 514 биллей провести не удалось (Elton 1979: 260). Примечательно, что количество публичных и частных законов было примерно равным. Последние предназначались для одной определенной локальности, корпорации или иных наборов отношений. То, что частные споры стали чаще доходить до Вестминстера, свидетельствует об упадке великих поместий баронов и церкви. Универсальные и партикулярные правила устанавливались в одном доминирующем месте, хотя центральная координирующая власть по-прежнему разделялась с двором. Пока это не было унитарным государством. Сфера социального законодательства выступает показательным примером этих трендов. Английское государство, как и большинство основных государств, отныне не отвечало за финальный контроль зарплат, цен и мобильности в кризисных условиях. При Тюдорах и Стюартах законодательная сфера расширилась. Рост экономики и населения создал социальную турбулентность. Принудительное огораживание вызвало массу парламентских дискуссий, а троекратный рост населения дестабилизировал Лондон между 1558 и 1625 гг. Страх перед общественными беспорядками и благие намерения объединились в елизаветинском законе о бедных. Формально объем новых законов был огромным. Местные налоги шли на зарплаты и рабочие материалы для тех, кто хотел работать и отбывать наказание и избавляться от безделья. Местные мировые судьи поставили эту систему всецело под контроль Тайного совета. Закон о бедных не был основной законодательной мерой, а запасным вариантом широкого ряда парламентских законодательных актов, направленных на регуляцию зарплат и условий занятости, контроль за движением труда и распределением продуктов для бедных во время голода. Это и было расширением государственных функций — не просто военная машина или суд высшей инстанции, а активный орган, контролировавший классовые отношения. Реальность была менее революционной. Нам не известно, как исполнялся закон о бедных, но это свидетельствует о том, что принуждение было неравномерным и находилось под местным контролем. Мировыми судьями, разумеется, были местные джентри. Налоговые сборы были значительно меньше, чем объем частной милостыни, идущей на те же цели (за исключением междуцарствия в 1650–1660 гг.). Начиная с 1500 по 1650 г. частные лица выделяли по меньшей мере 20 тыс. фунтов в год на благотворительность — богадельни, прямые пожертвования, госпитали, работные дома и т. п. Qordan 1969: глава 5). Эта сумма превышала общие расходы государства Тюдоров на гражданские функции, если исключить из их числа расходы на содержание двора. Планы Тюдоров были «наполеоновскими»: повысить благосостояние и мораль подданных, расширить промышленность и торговлю. Но эти намерения не были осуществлены на практике вследствие финансовых причин: инфляции, войны, больших расходов на частные нужды двора. «Практически ничего не было потрачено государством на реализацию социальных функций, которые рассматриваются современными авторами», — заключает Дитц (Dietz 1932: 125). Подобное давление осуществлялось европейскими монархами. Вот почему экстравагантное название книги Дорварта «Прусское государство всеобщего благоденствия до 1740» (Dorwart 197°) было нелепым, вне реалий идеологии. Доказательство Дорварта свидетельствует о том, что на практике прусское государство полагалось на местные могущественные группы интереса точно так же, как это делало английское государство (см., например, его исследование полицейских функций: Dorwart 1970; 305–309). Тем не менее трансформации в государственной идеологии свидетельствуют об ослаблении транснациональной власти церкви. Хотя законодательные акты этого периода были пропитаны духом благотворительности, государство не действовало так же четко в отношении собственных обязанностей (как делает современное государство всеобщего благоденствия в своей законодательной деятельности), прислушиваясь только к общей идеологии и морали господствующего класса, как раньше прислушивалось к голосу церкви. Административные аппараты появились не для помощи местным благотворительным организациям и контроля за бедняками — она в основном и не требовалась. Социальное законодательство выступало примером не огромной деспотической власти государства над обществом, более могущественной коллективной организации, большей натурализации господствовавших групп в обществе. Если бы они могли прийти к согласию по политическим вопросам, то были бы способны к устойчивой связи на национальном уровне. Наиболее очевидными были трансформации в культуре и языке времен Елизаветы. Ощутив широкое влияние распространения печатных книг и грамотности в целом (Cressy 1981), английский язык стал стандартным и стандартизированным в соответствии с областями применения. Стандартизация продолжалась. В современных англоговорящих странах люди могут испытывать определенные трудности с пониманием некоторых наиболее поэтически утонченных, а также повседневных речевых оборотов эпохи Елизаветы (если мы возьмем Шекспира в качестве примера и того и другого), но также существовал стиль письма о человеческих чувствах, который кажется абсолютно понятным и ясным сегодня. Например, сэр Уолтер Рэли, который был одним из наиболее образованных и воспитанных придворных своего времени, который как никто другой был далек от народа его времени, писал:ПРОТЕСТАНТСКИЙ РАСКОЛ И ОКОНЧАНИЕ ЭКСТЕНСИВНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ВЛАСТИ
В главе 10 я утверждаю, что после распада Римской империи христианство предоставило ойкумену — универсальное сообщество (братство) по всей Европе, в рамках которого социальные отношения были упорядочены даже в отсутствие политического единства. Южная Европа постепенно восстановилась до предыдущего уровня цивилизации, и он, в свою очередь, был передан большей части Северной Европы. Церковь, как мы убедились, враждебно относилась к экономическому развитию. Но экономический рост был следствием четырех сил, с которыми церкви было нелегко справиться: возникновения современной науки, капиталистического класса, Северо-Западной Европы и современного национального государства. Первые две силы возникли в основном благодаря развитию городской жизни, последние две — через развитие геополитики. Все четыре представляли огромную проблему для Рима, поскольку их было невозможно преодолеть, не подталкивая церковь к расколу. В городах оживились классические городские обитатели и их мысли. Вера в человеческие возможности и энергию нашла выражение в движениях эпохи Возрождения: культе человеческого тела, вере в то, что человеческий разум может раскрыть все тайны, надежде, что правительство может руководствоваться рациональными принципами государственного управления. Ничто из этого не было чуждо существовавшему христианству, а некоторые священники даже оказались в самом центре этого движения. Но это секуляризировало ойкумену для грамотных классов. Гуманизм пересмотрел классическое образование, которое существовало в Греции. Он путешествовал через границы, не прибегая к помощи церковных организаций, подчеркивал одну из частей дилеммы религий спасения (индивидуальную рациональность, а не церковный авторитет) в церкви, которая в своем компромиссе со светской властью тяготела к другой части этой дилеммы. Развитие научной рациональности ставило церковь в неудобное положение. Здесь она допустила страшную ошибку. Она настояла на авторитете уже разработанного набора космологических доктрин, которые были центральными по отношению к ее имперскому наследию власти, но которые едва ли могли быть центральными по отношению к изначальной христианской догме. К сожалению, они также были опровергнуты. Веками авторитет церкви невольно подрывали такие ученые, как Галилей, который продемонстрировал, что Земля не находилась в определенной «иерархической» позиции по отношению к другим небесным телам, Бюффон, который подсчитал, что возраст земли значительно превышает 4004 года, и Дарвин, который утверждал, что человеческий вид был частью ощущаемой чувствами жизни в целом. Ранних ученых часто преследовали, к их собственному недоумению. Наследие было катастрофой для церкви. Опровержение ее космологических претензий показало, что ее доктрина ложна. К XVII в. даже лояльные интеллектуалы, такие как Паскаль, разделяли «веру» и «разум». Наука больше не была частью религии. К тому же многие из ее функционеров — современных ученых были активными противниками религии. Остановимся на разрыве между религией и наукой, учитывая его значимость антиклерикального движения в последующие века. От просветителей до Конта и Маркса, до современного светского гуманизма существовала идея, согласно которой религия была всего лишь отражением гуманизма ранней истории, бессилия перед законами природы. Как только наука и технология смогли приручить природу, религия устарела. Отныне наши проблемы являются социальными, а не космологическими, утверждает она. Поборники религии не могут отрицать, что наука захватила многие из областей, которые традиционно объясняла религия: они резко возражают, что это тривиальные области (Greeley 1973: 14) — В предыдущих главах мы видели, что они правы. С самых истоков цивилизации религии, рассматриваемые в этой книге, не уделяли большого внимания природному миру. Их волновало преимущественно социальное, а не природное: как устанавливается общество или общество верующих и как им следует управлять? Ни одна из этих религий не испытала влияния науки и технологии, пока религия не демонстрировала враждебность к их силам. Весь аппарат современной науки и технологий, вероятно, не повлиял бы на религию тем или иным образом, если бы между ними не возник социально обоснованный идеологический конфликт. Имели место два подобных конфликта. Первый был конфликтом между авторитетом и разумом. Огромное количество людей по всей Европе активно вмешивались в природу исторически беспрецедентным способом, и многие размышляли о всеобщем научном значении подобных технологий. Для церкви было бы самоубийственным требовать власти над знанием, полученным таким путем. Церковь не могла усилить свои требования в настолько диффузных дискурсах. Но второй конфликт был еще более важным, поскольку он оказал сходное воздействие на все версии христианства. Христианство не могло с легкостью инкорпорировать две возникшие формы сознания — классовые и национальные идеологии, а потому они стали светскими, соперничавшими идеологиями. Это основная идея данного параграфа. Второй проблемой церкви были купцы и нарождающиеся капиталисты. Отсюда и сложный вопрос «Протестантской этики» — веберианский аргумент о том, что между «Протестантской этикой» и «духом капитализма» существовало взаимно усиливающее сродство. Я лишь кратко затрону этот тезис. Центральные моменты концепции Вебера представляются общепринятыми. Во-первых, между централизованной властью католической церкви и требованием децентрализованного принятия решений рыночной системы тех, кто обладал средствами производства и обмена, существовало противоречие. Во-вторых, противоречие существовало между постоянным порядком статусов, легитимированных церковью, и требованиями товарного производства, где ничто, за исключением обладания собственностью, не давало постоянного авторитетного статуса. В частности, труд при капитализме не обладал внутренней стоимостью: он был всего лишь средством достижения цели и мог быть обменян на другие факторы производства. В-третьих, противоречие существовало между социальной потребностью богатых в «роскоши» (то есть содержанием больших домовладений, созданием множества рабочих мест и возможностью подавать милостыню бедным) и капиталистической потребностью в правах частной собственности на излишки для создания высокого уровня реинвестиций. Эти противоречия означали, что церковь не может оказать существенную помощь предпринимателям в поиске конечного смысла деятельности. Многие были привлечены «примитивной» доктриной индивидуального спасения, не опосредованного иерархией священников или сословий, в которой тяжелый труд и аскетизм были моральными добродетелями. Предприниматели, ремесленники и «протопромышленники», организованные в широком территориальном масштабе, с деятельностью, простиравшейся на сельскохозяйственные области и потому связанной с богатыми крестьянами, не находили приемлемой католическую систему смыслов или латинский язык, на котором она была выражена. Теперь они в массе обучались грамоте на родных национальных языках и развили способность к самостоятельному изучению религиозных текстов. Работы Эразма, Лютера, Кальвина и других религиозных исследователей помогли им прийти к более приемлемой системе смыслов, которая, в свою очередь, усилила их нормативную солидарность. Результатом стало, по Веберу, высокорелигиозная «классовая солидарность» буржуа и предпринимателей, убеждения которой сделали их более активными агентами трансформации мира (см. отличную интерпретацию Поджи (Poggi 1984). Этот класс мог прибегнуть к новому способу существования внутри церкви или повернуть к новому направлению более индивидуальной формы спасения. Обе возможности были реальными. Христианство является религией спасения, его средневековая иерархическая структура была оппортунистическим наростом; злоупотребления и скандалы этой структуры стали цикличными и периодически исправлялись. Христианские радикалы всегда призывали к более простой аскетичной примитивной церкви как реальной модели христианского сообщества. Лютер и прочие бунтовщики протестовали против симонии, непотизма, торговли индульгенциями и священнической интерпретации евхаристии, как многие до них. Чтобы объяснить, почему в одних, а не в других условиях люди порвали с церковью и установили протестантизм, необходимо обратиться к организациям власти, которые игнорировал Вебер. Это подводит к рассмотрению третьей и четвертой проблем церкви. Третьей угрозой был геополитический результат экономического развития. Когда Северная и глубоко Западная Европа вошли в ойкумену, неравномерное развитие, рассмотренное в главе 12, оказало влияние на региональный баланс власти. Север и Запад стали более могущественными. После навигационной революции XV в. это стало еще более очевидным, учитывая явные преимущества этих областей по сравнению с Атлантикой и Балтикой. Но центр церковной организации находился в Риме, к тому же ее традиционной сферой деятельности было Средиземноморье. Логистических и геополитических средств, позволявших этой организации контролировать развивавшиеся центры власти в Швейцарии, Северной Германии, Голландии и Англии, не хватало. Ее дипломатические традиции затрагивали в основном балансировку претензий мирских властей в центре — итальянских государств, Испании, Франции, Южной Германии и Австрии. В геополитическом отношении церковь оказалась под угрозой. Это определило характерную географическую кривую, разделившую католицизм и протестантизм, устроившую беспорядок в простых, вдохновленных Вебером (или Марксом) объяснениях возникновения капитализма в терминах протестантизма (или наоборот). Северная и Западная Европа (и часть Северо-Западной Европы) безотносительно к проникновению капитализма тяготели к протестантизму. Внезапное усиление политической и экономической власти, которое произошло в этих регионах, спровоцировало кризис смысла, который пытались понять идеологи. Региональный разрыв усиливался четвертой проблемой — ростом национального государства. Оно возникло вне церкви и не было следствием каких-либо ее действий. Государство было заинтересовано в развитии и военной власти, и класса-нации. В долгосрочной перспективе это способствовало становлению относительно территориальному, централизованному и координирующему государству. Возглавляемая государством национальная мобилизация ослабила церковную транснациональную ойкумену. Теперь правители обладали необходимыми военными возможностями и национальной поддержкой, чтобы в любой момент противостоять папству и его ближайшим территориальным союзникам. Их воля и растущая власть оказывали обратное действие на некоторых традиционных субрегиональных оппонентов, которые по этой причине стали яростными сторонниками Рима. Этим объясняется большинство региональных исключений, например католическая Ирландия и Польша[128]. Эти четыре проблемы полностью слились в XVI–XVII вв. Только объединив их вместе, мы можем объяснить возникновение протестантизма. В Европе христиане были осведомлены об интеллектуальных и моральных провалах церкви и необходимости реформ. Среди предпринимательских групп в торговле, промышленности и специалистов в сельском хозяйстве росла потребность в более релевантной знаковой системе, выраженной на национальном языке. Чем дальше от Рима, тем более неудовлетворенной была эта потребность. Любое обновление доктрины, которое ослабляло власть Рима, обладало особым значением для правящих политических элит. Затем последовало быстрое взаимодействие между четырьмя источникам власти, приведшее к окончанию единства христианской ойкумены. В 1517 г. Лютер всего лишь прибил свои тезисы к двери церкви в Виттенберге, до того как на его «защиту» от преследования и возможного наказания со стороны Римской курии встал Фридрих Мудрый, курфюрст Саксонии, главный северогерманский оппонент австрийского императора. Эти действия сразу же исключили возможность чисто религиозного компромисса. С самого начала это был не только идеологический, но и политический конфликт. Протест Лютера быстро распространился среди княжеств и городов Северной и Центральной Германии. Через рынок и сети военного рекрутирования протест проник в крестьянство, которое уже убедилось в своей военной отваге благодаря службе наемными ландскнехтами (пикинерами) в германских и иностранных армиях — любопытный финал возникновения фаланг пикинеров. Вдохновленные неправильно понятым небольшим трактатом Лютера «О свободе христианина», протесты переросли в Крестьянскую войну в Германии 1524–1525 гг. Лютер скорректировал протест при помощи другого трактата «Против разбойных и кровожадных шаек крестьян», отплатив свой политический долг. Германские князья, писал он, обладали божественным правом управлять и организовывать возникавшую веру как «временные епископы». Тридцать лет споров и вооруженной борьбы ушло на подавление радикальных протестантов (таких как анабаптисты, которые отвергли всякую власть, будь то политическую или церковную). Аугсбургский религиозный мир, заключенный 1555 г., провозглашал принцип cuius regio, eius religio (свободы вероисповедания), то есть все подчиненные должны были следовать религии своего князя (хотя имперским городам гарантировалась религиозная веротерпимость). Восстание в Нидерландах против католической Испании и оппортунизм английских и скандинавских правителей создали геополитическую и религиозную кривую к 1550 г. Развитие капиталистических сил Голландии и Англии стимулировало большую степень грамотности и допускало значительную широту религиозных обрядов, если не реальную толерантность. После ужасных религиозно-политических войн протестантские силы плюс католическая Франция сопротивлялись испанской гегемонии, усиленной южными и центральными католическими властями, чтобы политическое, религиозное и экономическое разделение, установленное Вестфальским миром в 1648 г., — «Cuius region, eius religio» было подтверждено и закреплено. Религиозная карта Европы, начертанная в 1648 г., остается практически неизменной до настоящего времени. В рамках христианства не возникло больше ни одной динамичной силы, пытавшейся ее изменить, — очевидный признак последующего упадка власти христианства и возвышение власти светского общества. Религиозные войны, рассматриваемые как угроза европейскому единству, изначально выстраивались на христианской основе. Мирное соглашение разделило Европу на католическую и протестантскую части — деление, у которого было множество последствий. В краткосрочной перспективе оно повысило скорость изменений в Северной и Западной Европе и затормозило их в остальных частях. Так, протестантские государства перевели Библию на свои национальные языки и некоторые (особенно швейцарцы) выстраивали обучение на основе чтения Библии. Католические страны не делали этого. Поэтому протестантские национальные идентичности развились быстрее католических. Тем не менее Европа поддерживала идеологическую, хотя и все более секулярную идентичность. Франция сыграла в этом решающую роль, поскольку она острее других стран столкнулась с геополитическими и геоэкономическими претензиями с обеих сторон: со средиземноморскими и атлантическими претензиями, легкими и тяжелыми почвами, коммерческой торговлей и аристократическими землями. Ее оппортунизм в ходе Тридцатилетней войны (в союзе с протестантскими странами и, несмотря на это, подавление собственных протестантов внутри страны) свидетельствовал о том, что европейское единство может быть поддержано дипломатически при помощи упорядоченной мульти государствен ной цивилизации, хотя религиозный фундамент треснул. Несмотря на развитие национальных языков, перевод с одного на другой был трудной задачей даже для большинства образованных представителей правящего класса. В течение последующих двух столетий Франция играла ключевую роль идеологического посредника, особенно между дворянами, а также между потенциально существовавшими двумя Европами. Ее язык становился языком дворян и дипломатии, тем самым предоставляя нерелигиозный смысл нормативного сообщества правителям всей Европы. Таким образом, религия стала существенной частью органического единства национального государства в ряде протестантских стран и в меньшей степени в некоторых католических. Это было особенно верно для Англии с ее национальной протестантской церковью, возглавляемой монархом. Но установления Елизаветы, как отмечает Хэнсон (Hanson 1970), внесли противоречия. Органичное гражданское сознание, которое эти установления намеревались воспитать, смешивали две различные политические теории. Первая понимала правительство как власть, происходившую свыше, единолично от короля или от привилегий и статуса в целом. Вторая рассматривала правительство как воплощение свободы, происходившей от людей. Эти концепции были одновременно традиционными опорами и противоречиями христианского мира, классовая идеология и трансцендентная идеология отныне были полностью национализированы. Заявление о возможности достижения согласия между ними, вероятно, встретило бы противников и сверху, и снизу. Сверху сопротивление органическим притязаниям Елизаветы оказали Карл I и Яков II, которые сделали шаг назад, попытавшись ликвидировать органическое единство монарха в парламенте. Они усилили двор за счет парламента и пытались «жить за свой счет», хотя при этом создали постоянную армию. Поскольку они не могли обратить вспять все налоговые и законодательные тренды, которые я описал выше, возвращение к средневековым практикам координирующего правления было невозможным. Путь, по которому они пошли, привел бы их к абсолютизму, как поняли его противники. Снизу доносился ропот исключенных классов, особенно из армии нового типа времен Гражданской войны в Англии. Оба соперника ассоциировались с религиозной верой: деспотизм с католицизмом и высокой англиканской церковью, популизм (народничество) — с расколом между ними, поскольку английская протестантская церковь была сущностной частью органической идентичности, за которую они сражались. Католическая и кальвинистская фракции оппозиции были более транснациональными в своих ориентациях, а потому они потерпели поражение от усиливавшегося национализма новых сообществ. Установления 1ббо и 1680 гг. более или менее соответствовали тому, чего добивалась Елизавета, — монарх правил с согласия народа в парламенте, их органическое единство было укреплено протестантизмом. Поэтому Гражданская война в Англии во многих историях не фигурирует как революция, то же касается и событий 1688 г. Это были не массивные социальные трансформации, а неудавшийся роялистский переворот. Они действительно мобилизовали под свои знамена потенциально огромные социальные движения, которые были подавлены. После этих событий основным понятиям «народ» и «протестантизм» были даны четкие, конкретные определения. Народ был определен лордом-канцлером перед парламентом в 1661 г. так: Это привилегия… право простого люда Англии быть представленным более великими, образованными, богатыми и мудрыми людьми, которые будут избраны из числа нации; смешение Палаты общин Англии… с простым людом Англии было первым ингредиентом злополучного… Содружества [цит. по: Hill 1980: 12]. Избирательное право было ограничено: в 1740 г. палата общин избиралась меньшей долей населения, чем в 1640 г. Критерий собственности для отправления функции присяжного заседателя был в десять раз выше, чем электоральный критерий. Отныне народом были люди, которые владели собственностью и доля которых, вероятно, намного превышала 3 % тех, кому король Георг в 1690-х гг. приписывал доход 100 фунтов в год. Теперь они встречались в одном месте (хотя и в разных палатах) в Вестминстере. Власть королевского двора шла на убыль. Нация была классом, и его энергию можно было мобилизовать. Протестантизм также был осторожно определен. Высокая англиканская церковь, обычно самые знатные семьи, была переведена в доктринально более широкую церковь. В городе за пределами церкви к инакомыслящим относились толерантно (чего нельзя было сказать об отношении к ним в графствах), но им не позволялось занимать государственные должности. Во времена Георга I единственной значимой для английских политиков религией был католицизм, и главное — он был заграничным. На протяжении большей части XVIII в. светский, грамотный, рациональный, надежный, интегрированный правящий класс дворян, джентри и бюргеров, возглавляемый монархом, по сути и был нацией Великобритании[129]. Это был единственный экстенсивный организованный политический класс в рамках нации. Классовая борьба не была «симметричной», хотя капиталистические действия этого класса (рассматривавшего все экономические ресурсы как товары, огораживавшего свои земли и отнимавшего права крестьян) также постепенно сплачивали и тех, кто ему подчинялся. В 1760-х гг. снизу послышались первые значимые вызовы (они будут рассмотрены в томе 2). Слабость протестантизма и католицизма по сравнению с национальным государством вскоре была раскрыта. Транснациональный кальвинизм существенно пострадал от того, что у Англии не было возможности полноценно вмешаться в Тридцатилетнюю войну. Весь транснационализм пострадал, когда католическая Франция подавила протестантское меньшинство гугенотов, а затем вступила в войну на стороне протестантов. «Национал-капитализм» стал верховным правителем в Атлантике после 1652 г., когда две основные протестантские силы — Англия и Голландия начали сорокалетние морские баталии за господство в международной торговле. По сравнению с католицизмом протестантизм охотнее подчинялся национальному государству. Его организационные формы, которые до этого не существовали, обычно определялись государством, как в Англии, Шотландии, Скандинавии и Балтике. В Нидерландах и Франции протестантизм принял другие формы (по причине вовлеченности в гражданские войны), но он также был подчинен могущественным лордам и бюргерам. Швейцарские кальвинисты и английские пуритане оставили характерные следы на церковной и социальной организации, особенно пуритане. Они усилили тенденцию к конституционной монархии в Англии и установили республиканские колонии в Новом Свете. Распространение христианства в Новом Свете происходило в формах, определенных официальными религиями метрополий. Общее воздействие геополитики на религию можно понять, обратившись к работе Мартина «Общая теория секуляризации» (Martin 1978: 15–27). Он отмечает, что основные формы секуляризации в христианстве могли быть предсказаны на основе трех переменных (из которых последние две были геополитическими): (1) различия между протестантизмом и католицизмом; (2) положения церкви в национальном государстве — монополистическое, дуалистическое или плюралистическое; (3) внутреннего или внешнего происхождения политических революций в национальном государстве. Переменные (2) и (3) демонстрируют важность организации национального государства. Как и многие социологи, Мартин имплицитно принимает примат национального государства, объединяя его с «обществом» в целом, то есть он предполагает, что оно должно быть основной единицей анализа. Протестантизм не был трансцендентной религией, создающей общества силой. В отличие от изначального христианства он был направлен на усиление границ и морали существовавших сетей политической власти, его интенсивная проникающая власть вносила свой вклад, трансформируя их в более полноценные «общества». Это связующее звено, например, в исследовании Фулбрука (Fulbrook 1983) поворотов в отношениях между государством и церковью в трех странах: протестантизм мог стать революционным (в Англии), усиливающим абсолютизм (в Пруссии) или умиротворяющим (в Вюртемберге), но везде трансформирующее воздействие, оказываемое им, было одинаковым — «общества», определяемые государством. Сила протестантизма была в другом — в усилении индивидуальной веры, опыте непосредственного общения с Богом, силе его апокалипсического видения и осознании индивидуального спасения. Как и все религии спасения, он связывал это с ритуалами рождения, заключения брака и похорон, а также с рутиной местной жизни. Его сектантские ответвления создавали преданные небольшие религиозные общины и доктринальную интенсивность. Поэтому он проникал в повседневную жизнь и в интеллектуальной эзотерической жизни иногда был так же силен, как христианская традиция в целом. Но ему недоставало вторичной социальной организации и завершенной теории социального порядка. В качестве космологии он был менее полным по сравнению с ранним христианством. Его величайшее воздействие были оказано на развитие высокой науки — последнее великое достижение рациональной неугомонности христианства. (Я не подчеркиваю этот источник динамизма, поскольку не вижу непрерывной последовательности между высокой наукой и технологической инновацией вплоть до того времени, когда промышленная революция была уже на ходу.) Католицизм преуспел немногим лучше. Озабоченность проблемами социального порядка, иерархией, социальным долгом привели его к вмешательству в процессы светской власти через учительские сословия, братства бизнесменов, католические торговые объединения и политические партии. Они существуют и по сей день и в целом обладают большей властью по сравнению с их протестантскими собратьями. Нельзя сказать, что протестантизму удалось избежать фундаментальной секуляризации современной европейской цивилизации с меньшими потерями, чем католицизму. Современная Европа была интегрирована четырьмя взаимосвязанными секулярными институтами: (1) капиталистическим способом производства, который вскоре принял форму (2) индустриализма, причем и тот и другой нормативно регулировались и географически направлялись (3) национальным государством с (4) мультигосударственной, геополитической, дипломатической цивилизацией. Все четыре института создали свои идеологии, и их комбинация сильно ослабила христианство. Таким образом, фундаментальная «путеукладческая» роль христианства была абсолютно исчерпана прежде в ходе ее успешной реализации. Христианская ойкумена была установлена, другие силы были повержены в ходе более интенсивного проникновения ойкумены и ее экстенсивного распространения по всему миру. Христианская ойкумена была разрушена страшными религиозными войнами, в которых деноминации по обе стороны отрицали базовую гуманность друг друга. Когда государства и церкви достигли временного соглашения, государственная дипломатия стала единственным средством мира. Ойкумена была секуляризирована. Основные секулярные акторы внутри нее (князья, дворяне, купцы, банкиры, протопромышленники, мастера, ученые, интеллектуалы) обладали двойственными идентичностями — национальной и транснациональной европейской идентичностью. Они обменивались продуктами, идеями, брачными партнерами и тому подобным не всецело «свободно», а теми способами, которые были ограничены лишь хорошо отрегулированными международными каналами связи. Заметьте, я придаю особое значение процессу секуляризации: экстенсивная власть религии сократилась, поскольку она потеряла свою способность к социальной организации секулярных ресурсов власти, а также в силу секулярной европейской культуры. Это не изменило христианство в корне и не подразумевает какого-либо дальнейшего снижения власти. Христианство сохранило близкую к монопольной власть над проблемами смысла, которые проистекают из человеческого опыта: рождения, сексуального желания, воспроизводства и смерти. Кроме того, христианство смогло предоставить организационные и ритуальные рамки, соединяющие этот опыт в осмысленный семейный жизненный цикл. В таких странах, как Ирландия и США, оно по-прежнему интегрирует семью в жизнь местного сообщества и даже играет значительную нормативную роль в государстве. В этих функциях оно процветает. Некрологи, которые социологи используют, чтобы обвинить ее в убийстве секулярного общества, следует взять назад. В настоящее время социологи отмечают продолжение существования христианской религии, стабильность ее приверженцев и в некоторых странах (особенно в США) даже рост числа верующих. В этой области смыслов, этики и ритуалов христианство не имеет себе равных. Ни капитализм, ни национализм, ни уж тем более поздние силы, такие как социализм, не имели эффективных средств, чтобы связывать семьи, их жизненный цикл и смерть с макросоциальными силами, которые они собой воплощают. Что касается экстенсивной организационной власти, то христианство растеряло большую ее часть с XVII до XVIII в., будучи сломленным взаимно усиливавшимся развитием экономической, военной и политической власти. Соответственно, христианство едва ли вновь будет главным героем моего повествования.МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПАНСИЯ
Тенденции по направлению к органическому единству класса-как-нации были усилены наиболее драматическими трансформациями в XVI и XVII вв. — выходом за европейские границы[130]. Однако в определенных отношениях европейская экспансия была всего лишь продолжением ранних тенденций. Геополитически это усиливало движение власти на Запад. Португальская навигационная революция совпала с решающим исламским завоеванием Константинополя. Средиземное море стало озером, но не благодаря торговому маршруту и невероятным возможностям для экспансии, открытым атлантическим державам. Они могли использовать его, поскольку ко времени навигационной революции более могущественные государства Западной Европы уже монополизировали лицензии на международную торговлю, гарантируя торговые права купцам (зачастую своим соотечественникам) за прибыль. Следовательно, расширение международной торговли не обязательно сократило экономическую значимость национальных государств. Я возвращаюсь к статистике по торговле. В те времена иностранная торговля, по всей видимости, росла более быстрыми темпами, чем совокупный национальный доход, а в последние несколько столетий этот тренд мог развернуться в обратном направлении. Пока у нас нет точных цифр соотношения торговли и национального дохода, таких, как я представлю для более поздних периодов. Тем не менее Гоулд (Gould 1972: 221) фиксирует пятикратное реальное увеличение (то есть принимая в расчет инфляцию, а не за счет нее) в иностранной торговле между 1500 и 1700 гг., когда национальный доход в целом вырос по меньшей мере вдвое. На самом деле это была вовсе не международная экономика, поскольку торговля выросла с очень низкой базы[131], кроме того, этому способствовало национальное государство. В XVI в. различные государства начали собирать статистические данные об общей структуре своей торговли— достаточное основание государственной вовлеченности. В Англии первая торговая статистика датируется временами правления Елизаветы. К 1559–1561 гг- торговля шерстью и тканями сохраняла свое доминирование в экспорте со Средних веков, хотя торговля тканями доминировала, свидетельствуя о существенном развитии национальной текстильной промышленности. Торговля тканями составляла 78 % экспорта, а шерстью и тканями, вместе взятыми, более 90 %. Импорт был более разнородным, но его основу составляли предметы роскоши. Две трети грузооборота было сконцентрировано в Антверпене и практически все остальное — в портах Франции и Иберийского полуострова. К 1601–1602 гг. мало что изменилось, за исключением того, что Амстердам и германские порты вытеснили Антверпен (в силу разрушений, учиненных революцией в Нидерландах). Но одним из важнейших событий в заморской торговле стала постепенная замена иностранных кораблей английскими, закрепленная в конце концов навигационными актами 1650-60-х гг. Теперь у кораблей появилась национальность (см. Stone 1949). Таким образом, особой связи международной торговли с широкими массами населения в целом практически не было: часть была вовлечена в экспорт, а класс — в импорт товаров роскоши. Это не была национальная экономика, полностью интегрированная в международную. Хотя английская торговля отличалась от торговли других стран, перечень основных товаров (ткань, зерно или, возможно, лес) плюс определенный набор товаров роскоши был самым обыкновенным. В Нидерландах значение торговли для экономической деятельности в целом было несколько больше, чем в Англии, хотя французская торговля составляла менее четверти экономической активности на душу населения (по оценкам Brulez 1970). Торговля также зависела от государственного регулирования. Экспансии на другие континенты способствовали оформлению капиталистического развития внутри государственных границ. Никакой изначальной регуляции международных отношений между европейскими и другими державами в то время не существовало. Транснациональные элементы ранней средневековой экономики зависели от христианской нормативной регуляции. Как только экономика стала более экстенсивной, она стала в большей степени зависеть от союза с государством. Торговая и военная экспансия Европы, торговые и военные силы государства стали более близкими. Это может быть отчетливо видно на примере экономической политики и философии меркантилизма. Политика меркантилизма основывалась на двух ключевых моментах: внутреннем— исключать местные феодальные привилегии и обычаи, способствовать огораживанию, регулировать условия наемного труда — и внешнем — облагать налогами и лицензиями международную торговлю, препятствовать оттоку драгоценных металлов за границу, сохранять экспортные прибыли. Политика меркантилизма начала применяться в XV в., то есть до европейской экспансии, хотя она не преобладала в государственной политике вплоть до середины XVIII в. Таким образом, господство политики меркантилизма продлилось немногим менее ста лет. Политика меркантилизма подкреплялась философией меркантилизма, центральный тезис которой гласил: богатство всего мира представляет конечную сумму, а следовательно, его распределение есть игра с нулевой суммой. Процветание было следствием упорядоченного распределения внутренних (то есть национальных) ресурсов и внешней защиты от других сил. Страна А могла увеличить свои богатства только за счет страны В по мере установления внутреннего порядка. Точное влияние этой философии было противоречивым10, но рост политических систем, воплощенный в тесной связи между «властью и изобилием» (используя соответствующие тому времени выражения), был очевидным. Меркантилизм усилил две тенденции, с которыми мы сталкивались начиная с XIII в.: натурализацию экономической деятельности и милитаристическое координирование государства и экономики. Он также был рациональным, учитывая условия того времени. Идея, согласно которой богатство по природе своей конечно, бытовала вплоть до конца XVIII в. Она была усилена очевидной взаимосвязью между богатством страны и способностью ее государства одерживать победы в войне. Завоевание внешних рынков было продиктовано потребностями ранней промышленности, которая в основном расширялась за счет соседей. Голландия выросла за счет Испании и Франции, нанеся большой урон французской промышленности и торговле в конце XVI в., Англия росла за счет Испании и Франции, Франция — за счет Испании. Когда в 1620-х гг. Испания усилила свой протекционизм, это немедленно нанесло ущерб французским торговцам и промышленникам. Франция также ответила протекционизмом (Lublinskaya 1968)[132][133]. В теории протекционизм заканчивался, когда одна из сил становилась гегемоном и диктовала риторику «свободной торговли» (как это практически и произошло с Британией в начале XIX в.), но до этого баланс сил препятствовал гегемонии. Альтернативой был поиск рынков сбыта в неевропейской колониальной сфере влияния каждой страны. Это несколько отклонило от исходного курса, но тем не менее не остановило военный дрейф европейской истории. Короткие жестокие колониальные войны были рациональными — победа обеспечивала контроль над спорной колониальной территорией, захват менее желанных колониальных территорий мог подсластить горечь поражения. Было еще много добычи, которую необходимо было разделить. Невозможно точно определить, кто был в выигрыше от меркантилизма и успешной войны. Без сомнения, на основные группы крестьянства расширение торговли в целом не оказывало никакого влияния. К тому же война (особенно если она проходила на нейтральной территории) не наносила особого вреда местному населению, особенно если она была организована на основе «фискального», а не «мобилизационного» принципа, которые были противопоставлены выше. В таком случае на войне сражались профессионалы и война не была затратной в терминах социального благосостояния в целом. Успешные войны никому не вредили в одержавшем победу государстве (если они не были сопряжены со слишком тяжелыми налогами или мобилизацией), а лишь, как представляется, приносили выгоды большинству. Английский народ был в выигрыше прежде всего потому, что на его территории войны не происходили и в целом он наслаждался плодами победы. Англичане не чурались говорить об общей выгоде войны. Шофилд собрал исторические документы, свидетельствовавшие о постепенном снижении сопротивления налогам в первой половине XVI в. Состоятельные классы в целом стали с большей охотой выделять значительные средства на финансирование агрессивной политики за рубежом (Schofield 1963: 31–41, 47О_472) — Но в зависимости от того, были прибыли общими или нет, они разделяли граждан каждого государства на тех, кто эти прибыли получал, и на тех, кто не получал. Экономика была отныне жестко ограничена государственными границам, и удовлетворенность и неудовлетворенность подобным образом выражались внутри границ каждого территориального государства. Таким образом, в XVI и начале XVII в. значимость развития государства заключалась не столько в увеличении его общих размеров, сколько в росте его роли как местоположения класса-нации. Государство по-прежнему было незначительным по своим размерам. На самом деле во время общего экономического роста доходы и расходы государства как доля от национального богатства, вероятно, сокращались, хотя у нас и нет точных данных о национальных доходах вплоть до более позднего периода[134]. Следует подчеркнуть обманчиво безболезненный сбор налогов в Англии времен Тюдоров. Взимаемые суммы были огромными, оценка имущества членов сообщества была возложена на них же, и сбор налогов проводился в очень короткий промежуток времени. Шофилд показал, что суммы, которые требовал парламент, с неизбежностью выделялись. Все суммы, которые требовались государству Тюдоров, должно быть, составляли очень незначительную часть национальных ресурсов. В терминах функций, требующих соответствующих ресурсов, государство Тюдоров и ранних Стюартов было позднесредневековым. К их основной традиционной деятельности по ведению войн они всего лишь добавили более регулярные и фискальные аппараты, которые по-прежнему служили военным целям. Даже когда государство стало существенно увеличиваться в размерах в период Содружества Англии, Шотландии и Ирландии и позднее при поздних Стюартах, оно по-прежнему находилось в этой колее, накатанной веками. Если мы говорим об административной революции Тюдоров (что созвучно с заголовком классической работы Элтона), мы описываем социальную и административную реорганизацию существующих ресурсов, концентрацию социальных сетей на уровне территориального государства. Но даже если это заключение и верно для Англии, его едва ли можно применить к другим странам, в которых государства достигали больших размеров. Это поднимает проблему абсолютизма. Его обсуждение отправляет нас к периоду после 1688 г.АБСОЛЮТИСТСКИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ
Как и все идеальные типы, которые были созданы на основе определенных исторических примеров, понятие абсолютизма может вести нас двумя разными путями. Заинтересованы ли мы в развитии абсолютизма как идеального типа, который можно распространить на другие примеры, или мы хотим описать и выделить определенные европейские режимы? Я задам следующий вопрос: могут ли компоненты идеального типа провести различие между двумя очевидно различными формами режимов в Европе начиная с XV и заканчивая XVIII в.: с одной стороны, «конституционными» монархиями и республиками, прежде всего Англией и Голландией, с другой стороны, «абсолютными монархиями», такими как Австрия, Франция, Пруссия, Россия, Испания, Швейцария и Королевство обеих Сици-лий? Давайте начнем с идеального типа. Абсолютизм обладал двумя основными компонентами. 1. Монарх является единственным земным источником закона, хотя, поскольку он подчиняется Закону Божьему, некоторое остаточное право на восстание против него существует в случае, если он нарушил «естественный закон». При абсолютизме не было никаких представительных институтов. В конце средневековогопериода все европейские монархи правили, конкурируя с маленькими, неформальными, но представительными собраниями привилегированных по закону. Во многих странах в последующий период эти собрания были упразднены. В последний или предпоследний раз они собирались в Арагоне в 1592 г., во Франции в 1614 г., в испанских Нидерландах 1632 г. и в Неаполе в 1642 г. (Lousse 1964: 46–47). Режимы, которые пришли им на смену, назывались абсолютистскими, до тех пор пока в XVIII в. представительные собрания были восстановлены. Этот критерий отличает такие «конституционные монархии» («король в парламенте»), как Англия и Голландия, от большинства континентальных «абсолютистских» режимов. 2. Монарх правил при помощи постоянной, профессиональной зависимой бюрократии и армии. Государственные служащие, гражданские и военные, не обладали существенной автономной властью или социальным статусом, за исключением тех, что давал им пост. Традиционно король правил и воевал, опираясь на баронов, которые обладали большими независимыми ресурсами земли, капитала, военной власти и церковных институтов. В 1544 г. от государственных служащих испанской короны в Милане потребовали, чтобы они отдали часть своей собственности короне, как традиционно требовала персональная клятва верности. Но они отказались на том основании, что доходы, которые они получают от своих постов, являются платой за оказываемые ими услуги, а не подарками короля — это, согласно Хабо-ду (Chabod 1964: 37), наилучший пример возникновения новой «бюрократии» и абсолютистского понятия государственной службы. Последствием этого решения было создание «постоянной армии», которая в дополнение к обязанности защищать территорию государства могла быть использована для подавления внутренних возмущений и повышения власти монарха над «гражданским обществом». Теории абсолютизма, которые я рассмотрю, изначально приписывали рост монархической власти некоему определенному состоянию «гражданского общества», особенно классовым отношениям. Существуют три конкурирующие теории: (1) абсолютизм представляет собой остатки феодального способа производства, или (2) его остатки плюс формирующийся капиталистический способ, или (3) продукт транснациональной классовой структуры, где ни один, ни другой не доминировали. Андерсон (Anderson 1974: 17–40) утверждает: расширение отношений производства и обмена означает, что феодальное крепостничество не могло больше получать политической поддержки от раздробленной манориальной (помещичьей) власти — отношения с зависимыми классами теперь требовали централизованной власти. Феодальное дворянство было основной опорой абсолютистских режимов. Валлерстайн (Wallerstein 1974) и Люблинская (Lublinskaya 1968) считают, что для возникновения капиталистических отношений требовалось сильное государство в центральных областях Европы для легитимации его социальной революции и защиты иностранной экспансии. Мойснир (Mousnier 1956) утверждал, что абсолютизм возник в транснациональный период, когда монарх мог настроить возникавшую буржуазию и традиционное дворянство друг против друга. Каждая теория обладает своими достоинствами, лучше объясняет одни государства, чем другие (Восточная Европа соответствует позднему феодализму, Испания — периоду возникновения капитализма, Франция — переходу между ними). Но у этих теорий также есть свои слабости. Во-первых, они слишком резко выражают различия между двумя формами режимов и двумя типами классовых структур, на которых они предположительно основаны. Во-вторых, они пренебрегают промежуточной ролью войны в объединении классов с формой режима. Прежде всего преставление о сильном режиме преувеличено. Мы должны различать два основных значения, вкладываемые в понятие «сильный режим»: власть над гражданским обществом, то есть деспотизм, и власть для координирования гражданского общества, то есть инфраструктурная власть. Инфраструктурно абсолютистские государства едва ли были сильнее своих предшественников. В международном масштабе Англия, конституциональное государство, по сути, стало доминировать. Вопрос о внутренней силе также не очевиден, поскольку все государства обладали монополией на создание законов и расширяли свои координационные возможности: елизаветинская Англия в той же мере, в какой Испания времен Филиппа II. Все это признаки деспотической власти, которую я собираюсь вскоре рассмотреть. К тому же существенные изменения в классовой структуре, которые оказывали влияние на государство, везде были одинаковыми: упадок великих баронов и их дворов, а также появление большего количества состоятельных семей требовали новой формы политической организации, отчасти чтобы подавить крестьянство, но в основном для того, чтобы помочь лордам организовать сбор налогов, оказывать влияние на монарха, заключать династические браки и в целом наслаждаться социокультурной жизнью. Тенденция к потере экономической и военной автономии баронами была общей для всей Европы, этот процесс шел и в «конституционных», и в «абсолютистских» режимах. Их превращение в «государственных служащих» не обязательно вело к абсолютизму. Если различия не были столь уж систематическими и если мы вспомним, что предмет нашего интереса — государство по-прежнему было слабым, мы должны допустить идиосинкразию государственного развития. Сутью абсолютизма было достижение монархом определенной степени финансовой автономии и автономии в человеческих ресурсах от его более могущественных и организованных подданных. Тем не менее указанная степень автономии не была такой уж большой. Если монарх избегал иностранных войн и мог жить за свой счет, он мог собрать небольшие излишки, обзавестись профессиональной армией, подавить представительные собрания, а затем получить больше денег произвольным способом. Как мы увидим, самая сложная часть начиналась потом. Прусский и российский абсолютизм базировался на частных поместьях своих правителей. Карл I следовал своему пути, когда, к несчастью для него, выяснилось, что армия, которую он собрал, состоит из шотландцев и пуритан, неподконтрольных определенному типу его абсолютизма. Яков II также создал профессиональный офицерский корпус, который впоследствии не поддержал его католицизм. Другим везло больше. Испанский абсолютизм был основан на золоте и серебре из Нового Света, французский абсолютизм, хотя и с опозданием, — на сложной стратегии торговли государственными должностями. Политическая осмотрительность, неожиданности во внешней политике и финансовые расходы направляли одни государства на путь абсолютизма, а другие — конституционализма. Если на верхушке этих, скажем, классовых организаций находятся общие причины, то необходимо искать их причины. В конце концов мы убедились, что классовые отношения во всех странах стали привлекать к себе внимание на уровне государственных партий только как побочный продукт геополитических отношений, который в этом контексте был самым важным аспектом государственной деятельности. Первой геополитической переменной, важной в этом отношении, является различие между сухопутными и морскими державами. Связь профессиональной армии с абсолютистскими режимами неподдельна, но, возможно, она была более специфичной, чем до сих пор полагали. Было бы просто интеллектуальной уловкой разделять абсолютистские и конституционные режимы по критерию наличия постоянной армии. Это эффективно исключает Англию и Голландию из абсолютистских. Но если мы включим в понятие постоянной армии постоянный флот, это вернет обе страны на место, особенно в период, когда они были полностью конституционными, — после 166о г. Армию можно было использовать для внутренних репрессий, флот нет. Английский парламент никогда не боялся профессионального флота так, как боялся профессиональной армии. Следовательно, флот и армия, как правило, соответствуют конституционному и абсолютистскому режимам. Лишь к Испании такое обобщение было неприменимо (будучи абсолютистской, она смешивала морскую и сухопутную власть). Когда основной государственной функцией было ведение войны, нет смысла объяснять их различие в терминах войны, а затем в терминах производных функций типа классовой регуляции. Но маргинальность государства по отношению к внутренней общественной жизни таким же образом сокращала силу самого абсолютизма. Идеология утверждала, что монарх подчиняется божественному, а не человеческому закону. Но монарх не был древним императором — он не был единственным источником закона, монет, весов, мер, экономических монополий и прочего скарба античной экономической инфраструктуры. Он не мог прибегнуть к принудительной кооперации. Он обладал лишь своими поместьями. «Частная» собственность, то есть «скрытая», была глубоко укоренена в европейской социальной структуре. Она была завещана феодализму транснациональными силами, а небольшие и средние государства-наследники практически ничего не могли с этим поделать, даже несмотря на то, что имели соответствующие планы. Каковы были планы правителя, вступившего на путь абсолютизма, создавшего небольшую постоянную армию на основе собственных ресурсов и государственных расходов? Он мог строить роскошные дворцы, устраивать щедрые приемы для гостей и подавлять своих внутренних противников, но ему было нелегко собрать суммы, необходимые для того, чтобы не отставать от своих иностранных коллег в эпоху роста военных расходов и практически патовой ситуации в сухопутных войнах. Тем не менее это по-прежнему была основная функция государства. Как проходила налоговая мобилизация или мобилизация человеческих ресурсов? Даже постоянная армия не могла гарантировать их изъятие. В доиндустриальных обществах, как я уже отмечал, было нелегко даже оценить земельную собственность (в качестве размера налоговой базы), не говоря уж о том, чтобы собрать с нее налоги. Доходы торговли были более открытыми — они циркулировали. Поэтому все аграрные государства следовали девизу: «Все, что движется, нужно обложить налогом!» Но торговля была небольшой и обычно чувствительной. Эффективное налогообложение для военных целей требовало оценки и сбора земельных богатств. Мобилизация населения на военную службу означала, что крестьян отрывали от земли. И то и другое требовало содействия крупных землевладельцев в передаче их крестьян, богатств, а также оценки и изъятия богатств их соседей. На практике все режимы зависели от крупных землевладельцев. В этих основных задачах конституционные и абсолютистские режимы различались фундаментальным образом. Изначально, в силу того что армии были профессиональными и относительно небольшими, мобилизация крестьян не требовалась. На начальном этапе различия заключались в «фискальных» средствах, а не в средствах «мобилизации». Англия и Голландия полагались на налогообложение богатых землевладельцев и торговцев после консультации с ними. Абсолютистские режимы полагались на обложение бедных землевладельцев и богатых торговцев, опираясь на совет и репрессивную помощь со стороны богатых землевладельцев. Причиной этого, безусловно, было большее распространение капитализма в классовых структурах первых стран. Дворянство, джентри, йомены и купцы — все они становились в большей степени похожими на капиталистов. Они становились более единообразными в своих политических ориентациях и менее подверженными монархической стратегии «разделяй и властвуй», чем в других странах. В большинстве абсолютистских режимов, в отличие от конституционных, земельное дворянство в целом было освобождено от налогов, тогда как крестьяне, купцы и городская буржуазия нет. Налоговые льготы для наиболее могущественных групп означали, что представительные собрания можно было не собирать, поскольку основной вопрос представительного правительства — налогообложение — не вставал. Напротив, двор был единственным институтом государства, и только дворянство имело к нему доступ. Торговля государственными должностями была дополнительной стратегией в качестве источника дохода и средства допуска в ряды состоятельного дворянства, в правящий класс (например, noblesse de la robe (аристократии) во Франции). Тем не менее деспотизм был значительно менее органическим по сравнению с конституционализмом, поскольку он функционировал через большее количество всевозможных различий и эксклюзий. Наряду с обычным разделением между включенными во власть и исключенными из нее существовали сильные территориальные фракции и фракции двора. В то время как конституционализм усиливал развитие органического капиталистического класса, абсолютизм, как правило, блокировал его развитие или разделял его своими политическими различиями. Поскольку абсолютизм был менее органическим, он был в первую очередь инфраструктурно слаб. Опять же это была симметричная переменная, поскольку слабость разоблачалась и каралась в военном порядке. Успех герцога Мальборо демонстрировал огромную силу хорошо организованной фискальной машины, снабжавшей профессиональную армию. Испания была первой из крупных держав, чьи недостатки были выявлены. Неспособное к единообразному налогообложению, государство передало фискальные и рекрутинговые полномочия сборщикам налогов, а также местным сообществам и баронам. Война децентрализовала Испанию Габсбургов и тем самым обеспечила ее фиаско. Как поясняет Томпсон (Tompson 1980: 287), «война была… не столько стимулом, сколько проверкой государства». Следующей была Франция. При Ришелье и Мазарини корона централизовала свою налогово-военную машину в XVII в., но только заручившись поддержкой дворянства и богатого крестьянства путем налоговых льгот (Bonney 1978). В XVIII в. участившиеся войны выявили эту слабость. Но даже если так, абсолютистские государства открыли для себя другую стратегию самоусиления. По мере увеличения армий и их огневой мощи солдат не успевали обучать необходимым профессиональным навыкам. Это было прежде всего результатом развития в XVIII в., которое привело к усовершенствованиям мушкетов и росту производительности сельского хозяйства и смогло высвободить больше мужчин и накормить более крупную армию. Крестьян можно было мобилизовать силой, и хотя их военная подготовка была хуже, чем у наемников, они хорошо проявляли себя в битвах. Таким образом, «мобилизующая» военная машина могла на равных конкурировать с «фискальной», соответственно, Британия и Голландия могли утратить лидирующие позиции. Надолго мобилизованные русские армии стали более полезными, призывные части прусской и австрийской армий стали больше и эффективнее. Франция колебалась между этими двумя путями в геополитическом, геоэкономическом и конституционном отношениях. Большинство французских политических мыслителей стали склоняться к конституционализму, после того как они терпели военные поражения от Британии. Их единственной победой была победа в союзе с американскими революционерами, которые были более конституционалистами по сравнению с британцами. Это давление вылилось во Французскую революцию, из которой развилась смертоносная, мобилизующая военная машина, которая могла быть адаптирована различными режимами. Но до этого абсолютистская форма правления Бонапарта была ослаблена партикуляризмом. Отныне перед абсолютизмом была открыта возможность получения коллективных усилий всех классов, но он ее проигнорировал. Это в меньшей степени отразилось в военной организации (по крайней мере в сухопутных войнах), чем в экономической организации. Абсолютистские государства не научились применять стратегии «догоняющего развития» вплоть до XIX в. До этих пор эффективное развитие в абсолютистских государствах проистекало из коллективных, но диффузно организованных усилий капиталистического класса. Парадокс абсолютистских государств рассматриваемого периода состоял в том, что они обладали лишь поверхностным классовым сознанием, тем не менее не смогли понять новизну и универсальную значимость классов, действуя как отдельные династии и домовладельцы, хотя и более крупные. Причиной их провала было определенное геополитическое и военное давление. Они в большинстве своем сражались в Центральной Европе, многие из них не имели выхода к морю, надеясь на расширение территории в игре с нулевой суммой. Поэтому они привлекали традиционные группы, наиболее заинтересованные в земле, — дворянство, особенно младших сыновей. Напротив, морские державы надеялись на выгоды от торговли и привлекали тех, кто обладал подходящим капиталом, то есть любого с солидной собственностью. Они могли мобилизовать внутренние налоговые потоки классов-собственников, что в конце концов объединяло последних в класс-нацию. Именно они, а не государство или династические привилегии, с которыми они традиционно сражались, обеспечивали динамизм европейского общества. Это тезис в защиту аргумента о том, что конституционные режимы были благоприятны для возникновения капитализма и ответственны за него, поскольку способствовали единству класса частных собственников. А абсолютистские режимы, как правило, охраняли социальную структуру феодализма и сдерживали различного типа собственников. Но эти внутренние различия были выражены в государственной политике посредством инструмента войны. Таким образом, конституционные и абсолютистские режимы были подтипами единой формы государства — слабого по сравнению с могущественными группами гражданского общества государства, но такого, которое все больше координировало деятельность этих групп вплоть до момента появления органического класса-нации, центральным местом которого был либо двор, либо двор/парламент государства. Проверка власти и автономии государства может быть обнаружена в колониальных империях. Практически полная государственная монополия на международные отношения давала ему больше свободы для маневра в колониальных, чем в национальных вопросах. Давайте посмотрим, как это происходило. Конституциональные отношения и отношения собственности в колониях были изначально различными, неся отпечаток различного устройства европейских метрополий. Португальская корона брала все торговые риски на себя вплоть до 1577 г., снаряжая свои корабли, покупая, продавая и забирая прибыль. Испанская корона пыталась осуществлять жесткий контроль за торговлей и правительством Советом по делам Индии[135] и лицензировала монополию консульства севильских купцов. Французская корона также была непосредственно вовлечена в торговлю, предоставляя большую часть венчурного капитала. Голландские и британские инициативы, напротив, обычно были частными, а их империи были всего лишь первым из крупных собственников таких огромных организаций, как индские компании Однако необходимо отметить общий признак, характерный для всех предприятий. Эти компании были национально ограниченными. Будь то государственное или частное управление, международная торговля и доминирование были в целом монополистическими и государственно ограниченными. Все конституционные формы подразумевали большую координацию военных и экономических организаций в каждом государстве и его колониальной сфере влияния. По мере развития колониализма возник общий образец. Что касается военной сферы, то к концу XVIII в. для военной защиты иностранной торговли и владений требовались капитальные инвестиции, превышавшие возможности частных компаний. Все государства приняли общую имперскую форму, при которой государство координировало военное и экономическое расширение. Что касается экономической сферы, развился обратный тренд: ни одно государство в действительности не распоряжалось колониальными экономиками. До определенной степени это было результатом военных успехов Англии. Критики режимов во Франции и Испании утверждали, что частная собственность была значительно эффективнее и вела к большему богатству и власти. Но королевский контроль был также подорван изнутри контрабандистами, включая их колонии и агентские связи с вражескими властями. Количество драгоценных металлов, вывезенных тайно из Америки, например, превышало то, которое было вывезено испанским Серебряным флотом. Абсолютизм был недостаточно силен, чтобы низвергнуть право частной собственности. Французы и испанцы вели себя в Новом Свете так же, как и на родине, а их короны никогда не демонстрировали, что хотят или обладают ресурсами, чтобы это изменить. Логистика власти лишь частично была на стороне короны. Военный или вооруженный торговый корабль был концентрацией огневой мощи, к тому же он мог покрыть большую часть морского пространства. Но его невозможно было использовать для принуждения на заморских территориях. До большинства колоний демонстрация короны в Европе могла доходить раз в год. Канцелярия была эффективной в поддержании широких пределов колониального правления в период между приходом кораблей из метрополии. Все администраторы были обязаны вести учет на регулярной основе, используя стандартные формы, выпускаемые массовым тиражом. Государственные служащие были грамотными, что касалось чтения и письма, поэтому предполагалось, что ошибки и упущения были преднамеренными. Но большую часть года, пока плыли корабли из метрополии, колонисты пользовались эффективной независимостью в ведении учета. Корона закрепила это институционально, награждая своих служащих доходами от должности, а не жалованьем. Государство было коммерческим даже внутри своего тела. В любом случае та же самая логистика внутреннего контроля могла связывать более крупные торговые компании с капиталистическими методами ведения бухгалтерского учета. В 1708 г., например, английская Ост-Индская компания революционизировала систему бухгалтерского учета, установив стандартные заголовки таблиц для капитального счета и счета текущих операций, а также используя систему двойной записи ежемесячного притока и оттока капитала. Начальник финансовой службы в Лондоне отныне мог легко оценить прибыльность каждой отрасти торговли, предвосхищая тем самым, как утверждает Чоудхури (Chaudhuri 1981: 46), методы транснациональной корпорации. Бумага была основным логистическим инструментом авторитетной власти и государств, и капиталистических предпринимателей, которые все теснее функционировали вместе. Этот союз предоставил инфраструктуру для того, что Стинс-гард (Steensgaard 1981: 254) называет «уникальной комбинацией временных перспектив власти с временными перспективами прибыли в… балансе между силами рынка и властью правительства». Таким был европейский колониализм. К XVIII в. ни одно государство не вмешивалось в свою экономику, будь то внутреннюю или колониальную, до той степени, которая была общей для древних империй. Две группы «гражданского общества» (дворяне и купцы), которые могли помочь работе колоний, вели свое происхождение из децентрализованных структур власти средневековой Европы. Их интерес состоял в поддержании этой структуры, а не в контроле над государством. Поэтому с XVII в. власть монархов продолжала подрываться изнутри. Как мы видели в главе 12, экономические сети уже были деполитизированы столетием ранее до возникновения капитализма. Государство было фундаментально ослаблено инфраструктурной неспособностью проникнуть в гражданское общество. Это верно и для абсолютистских, и для конституционных режимов. У досовременных конституционных и абсолютистских режимов было гораздо больше сходств, чем различий. В следующем разделе мы увидим, что их государственные финансы были по сути сходными. Этим режимам были присущи две основные характеристики: их власть в основном ограничивалась военными функциями и не распространялась на участие в праве собственности, к тому же они извлекали свои налоговые доходы и координировали внутренние классы исключительно из-за военных целей. Отличали их лишь формы координации (один режим двигался по направлению к органическому единству, другой — наоборот), детерминированные теми способами, при помощи которых две развивающиеся сети власти — классы и национальные государства взаимодействовали друг с другом на поле брани.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ И ВОЙНЫ 1688–1815 ГОДОВ
Точные годовые данные о бюджете центрального правительства Великобритании за период после 1688 г. были собраны и приведены к стандартному виду Митчеллом и Дин (Mitchell and Deane 1962) и Митчеллом и Джонсом (Mitchell and Jones 1971). Общепринято считать 1690-е гг. началом «долгого века» (до 1815 г.) регулярно сменявших друг друга периодов мира и крупных войн в Европе. Используя даты о государственных расходах за тот период, мы можем систематически проверить гипотезы, выдвинутые для ранних периодов. Хронология следующая. После ирландских кампаний и морских сражений Вильгельма III мир продлился с 1697 до 1702 г. В ходе этого периода в 1694 г. был основан Банк Англии, который стал центром займов английского правительства и выплат долга и который на регулярной основе существует по сей день. Затем война за испанское наследство, включавшая кампании графа Мальборо, продлилась с 1702 по 1713 г., за которыми последовал еще более продолжительный период мира вплоть до 1739 г. Затем началась война за ухо Дженкинса[136], которая вскоре стала войной за австрийское наследство и продлилась до 1748 г. Период тревожного мира был закончен Семилетней войной 1756–1763 гг. Затем мир просуществовал до войны за независимость Америки, вылившейся в долгие морские войны между 1776 и 1783 гг. Затем вновь наступил мир вплоть до 1792 г., с которого Французская революция и Наполеоновские войны более или менее непрерывно продолжались до 1815 г., хотя и с краткосрочным затишьем в начале века, обозначенным Амьенским миром 1801 г. Это была намного более регулярная последовательность войны и мира, чем в XIX и XX вв. Поскольку эта эпоха также предшествовала влиянию индустриализации на государственные расходы, она тем самым служит хорошей проверкой для всего доиндустриального периода. На рис. 14.1 основные результаты представлены в графической форме, разделяя совокупные расходы государства и их три основные статьи: военные, гражданские расходы и расходы на выплату долга. График расходов представлен в постоянных ценах, то есть с поправкой на инфляцию путем использования индекса цен Фелпс-Брауна и Хопкинса (Phelps-Brown and Hopkins 1956). В качестве базовых цен я использовал цены в 1690–1699 гг. — начала исследуемого периода[137]. Государственные расходы вместе с индексом цен представлены в табл. 14.3. Прежде всего отметим восходящий тренд в финансовых размерах британского государства: между 1700 и 1815 гг. реальные расходы выросли в пять раз (а в текущих ценах — в тридцать пять раз). Это, бесспорно, самый быстрый уровень роста, какой мы только видели за столетие. Мы предполагаем, что доля государственных расходов в валовом национальном доходе также росла. Используя подсчеты Дин и Коула (Deane and Cole 1967), основанные на современных оценках национального благосостояния Грегори Кинга, мы можем прийти к заключению, что рис. 14.1. Государственные расходы Британии в 1695–1820 гг. в постоянных ценах 1690–1699 гг. за 100%
в 1688 г. расходы составляли около 8 % валового национального дохода (о методике подсчетов см. Deane 1955)’ к г- они вы" росли до 27 %. Хотя эти цифры и не являются точными, порядок цифр впечатляет.
рис. 14.1. Государственные расходы Британии в 1695–1820 гг. в постоянных ценах 1690–1699 гг. за 100%
в 1688 г. расходы составляли около 8 % валового национального дохода (о методике подсчетов см. Deane 1955)’ к г- они вы" росли до 27 %. Хотя эти цифры и не являются точными, порядок цифр впечатляет.
Но восходящий тренд не был равномерным. Общие расходы неожиданно взлетали шесть раз. И совершенно не удивительно, что пять из этих взлетов пришлись на начало войн, а также что все шесть были непосредственным следствием большого роста военных расходов. Более того, выплаты по долгам, которые совершались исключительно для финансирования военных нужд, возрастали к концу любой войны и продолжали находиться на достигнутом уровне в первые годы мира. Этот паттерн является весьма регулярным: вскоре по окончании всех шести войн растущая кривая государственных расходов на выплату долга пересекла снижавшуюся кривую военных расходов, и расхождение после пересечения каждой войны становилось все больше. Это обстоятельство обладало эффектом сглаживания последствий войны. Если смотреть на годичную диаграмму, наибольшее увеличение совокупных расходах в текущих ценах над расходами предыдущего года составляло всего лишь чуть больше 50 % (в 1710–1711 гг. и 1793–1794 гг.), что гораздо ниже по сравнению с 200-1000 % увеличения, преобладавшего в начале войн вплоть до времен Генриха VIII. И в мирное время существовали большие военные расходы (особенно на флот) и расходы на выплату долга, которые держались на соответствующем уровне. Таблица 14.3. Государственные расходы Великобритании в 1695–1820 гг., млн фунтов в текущих и постоянных ценах 1690–1699 гг.
 Между 1770 и 1801 гг. детализованные пункты упали, исключая совокупные расходы, приблизительно до 500 тыс фунтов. Причины этого падения в источнике не приведены.
Данные 1785 г. соответствуют идиосинкразической системе бюджетирования.
Данные неполные.
Источники: Mitchell and Deane 1962; Mitchell and Jones 1971.
Между 1770 и 1801 гг. детализованные пункты упали, исключая совокупные расходы, приблизительно до 500 тыс фунтов. Причины этого падения в источнике не приведены.
Данные 1785 г. соответствуют идиосинкразической системе бюджетирования.
Данные неполные.
Источники: Mitchell and Deane 1962; Mitchell and Jones 1971.
«Перманентное военное государство» устанавливало себя все решительнее. Гражданские расходы оставались более постоянными и небольшими. За весь рассматриваемый период (за исключением 1725 г. после десятилетия мира) они не превышали 23 %. Однако в ходе Наполеоновских войн возник новый тренд. Начиная с 1805 г. гражданские расходы, остававшиеся неизменными на протяжении всего предыдущего столетия, стали расти. Я оставлю этот тренд для следующего тома. Перманентное военное государство также означало, что после каждой войны государственные расходы не возвращались к довоенным уровням, даже в реальном выражении. В середине века поэт Купер выразил это простым двустишием:
Таблица 14.4. Государственные расходы Австрии в 1795–1817 гг., %
 * Данные Бира несколько не полны за период 1795–1810 гг. В 1795 г., я полагаю, пропущенные суммы относились к гражданским расходам и в 1800–1810 гг. — к выплате долга. Это наиболее очевидная интерпретация. Поскольку Бир всегда предоставляет нам военные и совокупные расходы, доля военных расходов достаточно точна.** Бир подразделяет на составные части обычные расходы за 1815 и 1817 гг., а не совокупные расходы, которые составляют 132,9 и 122,1 млн гульденов соответственно.*** Солидные английские субсидии в период 1814–1817 гг. снизили государственный долг. Без них расходы на военные нужды составили бы большую долю, а гражданские расходы — меньшую. Источник: Beer 1877.
* Данные Бира несколько не полны за период 1795–1810 гг. В 1795 г., я полагаю, пропущенные суммы относились к гражданским расходам и в 1800–1810 гг. — к выплате долга. Это наиболее очевидная интерпретация. Поскольку Бир всегда предоставляет нам военные и совокупные расходы, доля военных расходов достаточно точна.** Бир подразделяет на составные части обычные расходы за 1815 и 1817 гг., а не совокупные расходы, которые составляют 132,9 и 122,1 млн гульденов соответственно.*** Солидные английские субсидии в период 1814–1817 гг. снизили государственный долг. Без них расходы на военные нужды составили бы большую долю, а гражданские расходы — меньшую. Источник: Beer 1877.
Данные, доступные за аналогичный период для Соединенных Штатов, представлены в табл. 14.5. В томе 2 я более систематически работаю с данными по США. Но нужно сделать одну оговорку: США — федеральная система. Для того чтобы получить более полную картину финансов американского «государства» (или «государств»), мы должны учитывать финансы составлявших их штатов. Но, к сожалению, достоверные данные по исследуемому периоду отсутствуют. Поэтому приведенные цифры несколько преуменьшают реальный размер «американского государства», к тому же они переоценивают военный компонент, поскольку вооруженные силы были по большей части обязанностью федерального правительства. Однако финансы федерального правительства напоминают финансы европейских государств, даже если мы примем во внимание особенности американской внешней политики. Единственным периодом объявленной войны были 1812–1814 гг., хотя напряженность в отношениях с британцами существовала на протяжении более длительного временного интервала — с 1809 г., а Соединенные Штаты заняли позицию справедливо настороженного нейтралитета с 1793 г. Эти периоды подлинного мира, вооруженного нейтралитета, открытой войны и затем снова мира отражены в табл. 14.5. В целом преобладание военных расходов и расходов на выплату долга не настолько значительно, как в Британии, но того же самого порядка, что и в Австрии. Инерционный эффект войны на государственные финансы, как в Британии, также должен был ощущаться.
таблица 14.5. Расходы федерального правительства США в 1790–1820 гг., %
 а Исключая выплаты ветеранам (см. том 2 для исследования этой важной статьи).ь Данные о расходах представляют собой среднее значение за период 1789–1791 гг., как указано в источнике.
с Данные за 1789 г.
d Данные за 1801 г.
а Исключая выплаты ветеранам (см. том 2 для исследования этой важной статьи).ь Данные о расходах представляют собой среднее значение за период 1789–1791 гг., как указано в источнике.
с Данные за 1789 г.
d Данные за 1801 г.
Отрывочные данные сохранились и для других стран. Пруссия гораздо позже пришла к дефицитному финансированию. Высокие доходы от поместий короны и большие возможности налогообложения крестьян и купцов позволили правителям финансировать войну без заемных средств до второй половины XVIII в. В 1688 г. «от половины до пяти седьмых [государственных расходов] шли на армию» (Finer 1975: И0)- ® 174° г-> последнем мирном году для Пруссии, три основные статьи прусского бюджета составляли армия (73 %), гражданская служба и двор (14 %) и резервный фонд (13 %) (Seeley 1968: I, 143–144). В 1752 г. Пруссия тратила 90 % своих доходов на военные цели в мирный год (Dorn 1963: 15). Но к середине 1770-х гг. армия поглотила 6о% доходов, тогда как гражданские службы расходовали всего лишь 14 % (Duffy 1974: 130–118) — был ли это баланс по обслуживанию государственного долга? Но именно так обстояли дела к 1786 г., когда тремя основными статьями были армия (32 %), двор и правительство (9 %) и долговые платежи (56 %) (Braun 1975: 294) — удивительное сходство с британским бюджетом на этот год. Практически каждый историк, специализирующийся на Пруссии, подчеркивает милитаризм ее режима с помощью известного афоризма: «В Пруссии не армия для государства, а государство для армии» (Dorn 1963: 90). Прусское государство действительно было одним из наиболее милитаристических в Европе XVIII в. Но это происходило не в силу характера государственной деятельности (она была такой же, что и у прочих государств), а скорее в силу размаха ее милитаризма (поскольку Пруссия отдавала большую часть своих ресурсов армии). В 1761 г. прусская армия составляла 4,4 % от численности ее населения по сравнению с аналогичной цифрой для Франции—1,2 % (Dorn 1963: 94). В конце XVII в. налоговое бремя Пруссии было в два раза тяжелее французского и в десять раз тяжелее английского (Finer 1975: 128,140), хотя эти цифры зависят от предположений о национальном доходе. Мы можем датировать развитие прусской административной машины, даже если не можем точно подсчитать ее финансы. Основные составляющие прусского абсолютизма, установленного Фридрихом Великим, — постоянная армия, существующая в мирное время, налоговая система, согласованная с юнкерами еще в 1653 г., развитое военное снабжение — были ответом на шведскую угрозу в Тридцатилетней войне. Следующим шагом было возникновение Генерального военного комиссариата (Generalkriegskommisariat) в 1670-е гг. Это позволило государству дотянуться до локального уровня, чтобы собрать налоги, провизию, человеческие ресурсы и ввести военных в гражданскую и полицейскую администрацию. Это также было ответом на шведские кампании (ср. Rosenberg 1958; Anderson 1974; Braun 1975: 268–276; Hintze 1975: 269–301). Российское и австрийское государства укрепились, хотя не так давно, в ответ на похожие внешние угрозы. Польша не смогла ответить на вызов шведского господства и прекратила свое существование. Как заключает Андерсон: Восточный абсолютизм был обусловлен в своей сути ограничениями международной политической системы, в которую объективно была интегрирована знать всего региона. Это была цена ее выживания в цивилизации, определявшейся упорной борьбой за территории. Неравное развитие феодализма обязало восточноевропейские страны соответствовать государственным структурам Запада гораздо ранее, чем они достигли сопоставимой стадии экономического перехода к капитализму [Anderson 1974: 197–217, цит. по: с. 202; Андерсон 2010: 189–190]. Неудивительно, что он, будучи марксистом, предваряет это отсылкой к марксистской теории войны. Большая часть французских королевских архивов сгорела в двух пожарах XVIII в. Относительно XVII в. Бонни (Bonney 1981) работал с уцелевшими сведениями одного главного служащего финансового интендантства. Цифры напоминают британские. Войны резко поднимали военные расходы, а «чрезвычайные расходы» (выплата долга?) росли к концу войны. Военные и чрезвычайные статьи расходов все время превышали гражданские за этот период (1600–1656 гг.) примерно в десять раз. Для XVIII в. нам остаются ремарки типа тех, которые делал Жак Неккер, министр финансов: в 1784 г. армия съедала две трети доходов, к тому же Франция обладала внушительным флотом (цит. по: Dorn 1963: 15). Приведенная доля военных расходов за указанный год намного больше английской. В Нидерландах между 1800 и 1805 гг. военные расходы, объединенные с выплатой долга, превышали 80% совокупных расходов (Scharma 1977: 389, 479’ 497) — сходные с английскими данные за аналогичные военные годы. В различных немецких княжествах в XVII и XVIII вв. военные расходы составляли 75 % бюджета на протяжении большей части лет, возрастая еще больше к середине войн (Carsten 1959)- ® т724 г- военные расходы Петра Великого составляли 75 % российских государственных финансов (Anderson 1974: 215–216). Каждое государство имело свои особенности, но всеобщий паттерн был очевиден. Государство, которое хотело выжить, было обязано увеличить свои способности по изъятию ресурсов с определенных территорий, чтобы обзавестись призывной и профессиональной армией или флотом. Те, кому это не удавалось, были сокрушены на полях сражений и включены в состав других государств — такова судьба Польши, Саксонии и Баварии в этом и следующем веках. Ни одно из европейских государств не пребывало в постоянном мире. Мирное государство прекращало свое существование еще быстрее, чем государство, неэффективное в военном плане. До настоящего момента я рассматривал военные функции государства как синонимичные внешним функциям. Но (это спорно) не использовались ли военные силы государства для внутренних репрессий и не были ли они неразрывно связаны с внутренними классовыми отношениями? Каждая европейская страна использовала свою армию для внутренних репрессий. Постоянные армии повсеместно рассматривались как инструмент неприкрытой классовой эксплуатации и деспотизма. Но внутренние репрессии не были причиной роста государства. Во-первых, как было показано, этот рост происходил в период войны между государствами и в меньшей степени в периоды внутреннего развития. Во-вторых, необходимость внутренних репрессий, организованных государством (а не местными землевладельцами), обычно была вызвана государственной потребностью в средствах для ведения войны. В-третьих, различия в степени внутренних репрессий разных стран также могут быть объяснены отсылкой к их военно-финансовым нуждам. Я цитирую Андерсона по поводу этого эффекта на примере Восточной Европы. Если сравнительно более бедные страны этого региона хотели выжить, они были вынуждены взимать налоги и мобилизовывать человеческие ресурсы более интенсивно, что предполагало больше внутренних репрессий с их стороны. В то же время богатые торговые страны, такие как Англия, могли поддерживать великодержавный статус без интенсивных поборов и, следовательно, без постоянной армии. К тому мы можем добавить геополитические соображения: у морских держав были проблемы с использованием сил для внутренних сухопутных репрессий. Таким образом, рост современного государства, измеряемый величиной его финансов, объясняется в первую очередь не в терминах внутреннего насилия, а в терминах геополитических отношений насилия.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ 1688–1815 ГОДОВ
За XVIII в. британской статистики по торговле и национальному доходу предостаточно. Дин и Коул (Deane and Cole 1967) собрали данные и рассчитали динамические ряды по торговле и национальному доходу на протяжении столетия. Их подсчеты относительно международной торговли, которые усовершенствовали первые исследования Шумпетером (Schumpeter i960) таможенных документов, могут быть использованы без каких-либо затруднений. Но это едва ли так для национального дохода. Не существует изначальных официальных источников. Есть лишь данные по выпуску отдельных товаров, каждый из которых может быть принят в качестве показателя сектора экономической активности — например, производства пива для потребительских товаров, угля — для потребления энергии, производства зерна — для сельского хозяйства. Объединение этих данных в совокупные показатели вдобавок ко всему требует экономической теории — теории относительной значимости различных типов деятельности во всей экономике. В XVIII в. это означает теорию экономического роста, в частности позиции по одной изосновных дилемм экономической теории — роли международной торговли в экономическом росте (Gould 1972: 218–294). К сожалению, это именно то, что мы хотим прояснить: отношения между международной торговлей и экономикой в целом. Поэтому методология Дин и Коула отчасти кольцевая. Она начинается с допущения, что международная торговля будет важной и включает (1) высокий вес экспортно ориентированной деятельности и (2) соответствующее допущение о том, что производительность сельского хозяйства оставалась на довольно низком уровне большую часть века. Последнее допущение было недавно оспорено авторами, к которым я вскоре обращусь. Они приходят к заключению, что существенные улучшения в сельскохозяйственном производстве, а также в стандартах потребления и питании сельскохозяйственного населения произошли в первой половине XVIII в. и продолжились во второй. То, какое воздействие это допущение оказывает на цифры Дин и Коула, было исследовано Крафтсом (Crafts 1975) — Первое допущение также выглядит не настолько сильным в случае, если сельское хозяйство, а не в целом экспортно ориентированные отрасли увеличивали свой вклад в национальный доход. Это также постулирует Эверсли (Eversley 1967): период «разогрева» с 1700 г. и далее к промышленному «рывку» после 1780 г. произошел вследствие роста сельскохозяйственных излишков, доступных для потребления в рамках домохозяйства, особенно средними социальными группами, которые стимулировали внутренний рынок сильнее, чем это делал экспорт. Рассматривая эти споры, обратимся к более простому уровню измерения национального дохода — оценкам Грегори Кинга и Артура Янга. Используя эти данные и сравнивая их с данными о торговле, которые имеют другое происхождение, можно дать приблизительные оценки соотношения торговли и национального дохода. Эти цифры представлены в табл. 14.6, которых достаточно, чтобы продемонстрировать общий порядок цифр за два первых периода, а также более точные данные за 1801 г. Согласно этим данным, международная торговля составляла около четверти всех торговых денежных операций в 1700 г. Эти цифры больше 15 %, в пользу которых свидетельствуют Грегори Кинг, Дин и Коул. Они могут быть завышенными. К 1770 г. это отношение могло представлять собой величину того же порядка, то есть около 20 %. Но к 1801 г. это отношение достигло одной трети. Не вызывает сомнений тот факт, что в два последних десятилетия XVIII в. международная торговля росла быстрее национального дохода. Дин и Коул (Deane and Cole 1967: 3°9-11) полагают, что этот рост был в три раза больше. Их аргументы касаются только первой половины XVIII в. Долгосрочный тренд в период 1500–1870 гг. заключался в том, что международная торговля росла быстрее, чем национальный доход в денежном выражении, но этот тренд был прерван или замедлился в период 1700–1770 гг. Каким бы ни был точный тренд, в 1800 г. британская международная экономика была меньше национальной экономики, но этот разрыв постепенно сокращался.таблица 14.6. Оценки национального дохода, международной торговли и населения 1700–1801 гг. в Англии и Уэльсе и в Великобритании
 * Данные о национальном доходе на основе оценок Грегори Кинга за 1688 г. составляют 48 млн фунтов; данные о международной торговле, пересмотренные Дином и Коулом (Deane and Cole 1967: 319), включая издержки страхования и перевозки импорта, взяты у Шумпетера (Schumpeter 1960); численность населения оценена Эверсли (Evers-ley 1967: 227).** Национальный доход — Артур Янг; международная торговля — Дин и Коул; численность населения— Эверсли.*** Данные по национальному доходу и численности населения взяты у Митчелла и Дина (Mitchell and Deane 1971: 6, 366); данные по международной торговле Дина и Коула немного увеличены пропорционально увеличению неучтенных данных Шумпетера между 1800 и 1801 гг., которые не были исправлены Дином и Коулом.
* Данные о национальном доходе на основе оценок Грегори Кинга за 1688 г. составляют 48 млн фунтов; данные о международной торговле, пересмотренные Дином и Коулом (Deane and Cole 1967: 319), включая издержки страхования и перевозки импорта, взяты у Шумпетера (Schumpeter 1960); численность населения оценена Эверсли (Evers-ley 1967: 227).** Национальный доход — Артур Янг; международная торговля — Дин и Коул; численность населения— Эверсли.*** Данные по национальному доходу и численности населения взяты у Митчелла и Дина (Mitchell and Deane 1971: 6, 366); данные по международной торговле Дина и Коула немного увеличены пропорционально увеличению неучтенных данных Шумпетера между 1800 и 1801 гг., которые не были исправлены Дином и Коулом.
Это свидетельствует не о сокращении экономической значимости национального государства перед транснациональной экономикой. Дин и Коул (Deane and Cole 1967: 86–88) приводят данные о географическом распределении рынков, которые демонстрируют обратное. В 1700 г. более 80% экспортной торговли и более 6о% импортной приходилось на Европу, но к 1797“*798 гг- эти цифры упали до 20 и 25 % соответственно. Причиной этого отчасти является торговля с Ирландией, островом Мэн и Нормандскими островами, что отражено в статистике заморской торговли, хотя она с очевидностью была частью внутренней сферы интересов Британии. Но значительная часть роста торговли Британии приходилась на торговлю с колониями Северной Америки и Вест-Индией. Эти рынки были по большей части закрыты для иностранных конкурентов. Действительно, рост колоний оказывал влияние на торговые структуры Великобритании на протяжении XVIII в. В 1699–1701 гг. шерсть и ткань, все еще остававшиеся основной статьей английского экспорта (до 47 % экспорта), сдали свои позиции, уступив лидерство реэкспортной торговле, в основном реэкспорту сахара, табака и хлопчатобумажной ткани из британских колоний в Европу. Навигационные акты и меркантилистский климат препятствовали развитию более прямой торговли между ними. Отныне реэкспортируемые товары составляли 30 % импорта и экспорта. В свою очередь, англичане экспортировали промышленные товары в свои колонии и продолжали импортировать предметы роскоши основных европейских соперников (Davis 1969а). Эти тренды росли в XVIII в., и к ним присоединился еще один — импорт сырья из северных и южных отдаленных областей Европы, особенно Балтики (Davis 1969b). Поэтому мы можем обнаружить лишь ограниченную транснациональную взаимозависимость. Британская сфера интересов включала Британские острова, британские колонии и более специальным образом европейскую периферию, особенно Скандинавию. Она не распространялась на другие крупные европейские державы, в которых доминировала внутринациональная торговля. Она тщательно регулировалась государством и в основном состояла из прямого импорта и экспорта товаров, включенных в производство или потребление меньшей части населения. Война за независимость США дала существенный толчок этой группе сетей, но она нанесла меньше вреда, чем боялись британцы. К 1800 г. американцы обнаружили, что потоки свободной торговли сходны с теми маршрутами, которыми проходила прежняя колониальная торговля. Они оставались в рамках британской сферы влияния. Торговые структуры каждого из крупнейших европейских государств различались. Но общим трендом было то, что большая часть роста международной торговли ограничивалась своей сферой влияния, несмотря на то что эти сферы распространились по всему миру. Сегментарные полосы сетей экономического взаимодействия развивались и усиливались, как мы уже видели, под воздействием политического, военного и идеологического давления. Между этими сегментами торговля, как правило, двигалась к двусторонним отношениям: импорт и экспорт приходили к равновесию с дефицитом и излишками, переведенными в слитки или двусторонние кредиты. То, что обычно называют ростом «международного» капитализма, необходимо писать через дефис, чтобы было понятно, что «между-народ-ный» капитализм еще не был транснациональным. Поэтому рассмотрим более внимательно национальную экономику. Даже до 1700 г. это была преимущественно денежная экономика. Согласно Грегори Кингу, в 1688 г. 25 % экономически активного населения практически полностью жили в денежной экономике с несельскохозяйственной занятостью. Относительно объема денежного обращения среди оставшихся 75 % в сельском хозяйстве трудно что-то утверждать, но практически никто уже не платил всю ренту в натуральном виде и не получал большую часть жалованья в натуральном выражении. Монеты с изображением короля или королевы стали обмениваться и могли свободно циркулировать на территории государства, но не так легко за его пределами. Кроме того, на пути свободной циркуляции практически не существовало политических или классовых препон: внутренних сборов, препятствий против экономической деятельности различных аскриптивных категорий граждан, а также значительных статусных или классовых барьеров. Единственным значимым барьером, ограничением политической или экономической деятельности была собственность. Любой человек, обладавший собственностью, мог вступить в любую экономическую транзакцию, гарантированную универсальным законодательством и принудительной властью национального государства. Отныне собственность измерялась в количественном выражении, ее ценовой и товарной стоимостью, как этого и можно было ожидать от капиталистической экономики. Поэтому буквально каждый обладал собственностью (хотя и в весьма различных количествах). Даже если ее было недостаточно, чтобы голосовать или служить присяжным, все еще можно было принимать участие в качестве отдельного актора в экономике. Однако эти две характеристики не гарантируют, что реально существовал национальный рынок — сети экономической интеграции выстраивались крайне медленно, а потому в течение XVIII в. центральные регионы и провинции были весьма слабо интегрированы. Но это не означало, что экономический рост мог протекать свободно и диффузно по всей нации, в географическом и иерархическом отношениях без авторитетного политического действия. В большинстве стран рассматриваемого периода ничего подобного и не было. Таким образом, в Британии как национальной единице капитализм был широко, равномерно и органично распространен по всей ее социальной структуре еще до того, как начался значительный экономический рост в конце XVIII в. Это особенно важно еще и потому, что рост принял форму, которая часто встречалась в средневековой и раннесовременной Европе. Он был сельскохозяйственным, локальным в своей основе, децентрализованным, диффузным и «квазидемократиче-ским». Он действительно представлял собой практики, распространявшиеся за пределы национал-капитализма, который был рассмотрен выше. Сельскохозяйственный рост сделал резкий рывок в 1700 г., возможно, несколько раньше[139]. В течение полувека он удвоил средние излишки от 25 до 50 % от общих расходов, что, вероятно, снизило возраст вступления в брак, увеличило рождаемость, сократило уровень смертности и все еще сохранило запасные резервные мощности. Поэтому, хотя сельскохозяйственный рост привел к росту населения, темпы первого превосходили темпы второго. Таким образом, мальтузианский цикл был сломлен (хотя две тяжелые фазы имели место в середине и в конце века). Он включал рост производительности. Вероятно, самым важным из них был постепенный отказ от вспашки земли под пар. Благодаря ротации и севообороту поля можно было использовать каждый сезон, чередуя злаки и овощи, для которых применялись различные химические компоненты или использовались разные слои почвы и которые восстанавливали почвы, истощенные другими культурами. Это практически та же агротехника, которую огородники используют в настоящее время. Поскольку культуры, предназначенные для корма скота, были частью системы ротации, удавалось откормить больше животных, что, в свою очередь, улучшало рацион питания, а также обеспечивало больше навоза для почвы. Ряд сельскохозяйственных культур были завезены из Нового Света: репа, картофель, маис, морковь, капуста, гречка, хмель, рапс, клевер и прочие кормовые растения. Другие улучшения были связаны с использованием лошадиной силы (что стало возможным благодаря корму для скота), усовершенствованием плуга и подков, широким применением железа для их изготовления и возросшим интересом к селекции семян и животных. Трудно объяснить, почему эти усовершенствования произошли именно в это время в Англии. Однако проще показать то, чего они не включали: сложных технологических изобретений — последних не было вплоть до самого конца века, достижений высокой науки, хотя она также развивалась, больших объемов капитала. Ими управляли не торговые города или классы, а фермеры в сельской местности — одни побогаче, другие беднее, то есть сельскохозяйственные группы среднего достатка. Эверсли называет их несельскохозяйственными ассоциациями «средних классов», но это имеет классово ограниченный привкус. Сельскохозяйственный рост также предполагал наличие безземельных сельских пролетариев, оторванных от своих земель в ходе нескольких столетий, готовых работать в качестве «свободно наемных» рабочих на фермеров. Меньшие объемы излишков, которые были произведены таким образом, были распределены среди большего количества населения. Это был предел того, что крестьянские семьи и их ассоциации могли потреблять в качестве основных продуктов питания, то есть эластичность потребляемых продуктов питания по доходу была малой. Поэтому излишки были доступны для обмена на более разнообразные товары домашнего потребления. Тремя кандидатами на то, чтобы стать товарами массового потребления, доступными благодаря маленьким мастерским и кустарной промышленности, были одежда, железные изделия и изделия из другого сырья, например керамики или кожи, которые были полезны в домохозяйстве. Массовое производство низкозатратных товаров всех типов переживало бум. Англия импортировала более чем в два раза больше хлопка-сырца ежегодно в период 1750-60-х гг., чем в период 1698–1710 гг. Потребление железа выросло более чем на 50 % между 1720 и 1760 гг., и это тогда, когда спрос промышленности на железо был ничтожным. По оценкам Байроха (Bairoch 1973: 491), домохозяйства собственноручно производили 15 % всей железной продукции к 1760 г. Здесь нам открываются непосредственные причины промышленной революции: бурное развитие основных отраслей — хлопковой, железной и керамической; их дальнейшее развитие, которое затем превратилось в технологическую и научную проблему, решенную в результате изобретения паровой тяги; капиталоемкость производства и фабричная система. В ходе XVIII в. Британия стала национальной экономикой: сетью экономического взаимодействия, основанной на среднем сельскохозяйственном домохозяйстве как производительной и потребительской единице, с медленно и затем (после 1780 г.) стремительно растущим промышленным сектором, который стимулировал спрос домохозяйств и в котором работали избыточные силы пролетариев. В этой главе я продемонстрировал взаимное проникновение капитализма и национальных основ индустриализма. Капиталистический способ производства, как он был определен ранее, является всего лишь экономической абстракцией. Реальная жизнь капитализма как формы экономики, которая реально восторжествовала в течение определенного времени по всей Европе и всему миру, действительно предполагала и включала в себя другие формы власти, особенно военную и политическую. В частности, наряду с производством капитализм состоял из рынков и классов, «органических» национальных государств, соперничавших внутри дипломатически регулируемой, мультигосударственной цивилизации. Европа была цивилизацией с множеством акторов власти, в которой основными независимыми акторами были владельцы индивидуальной собственности и классы-нации. Я продолжу их рассмотрение в рамках более широкого исторического контекста в следующей главе.
БИБЛИОГРАФИЯ
Anderson, Р. (1974). Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books; Андерсон, П. (2010). Родословная абсолютистского государства. М.: Территория будущего. Ardant, G. (1975). Financial policy and economic infrastructure of modem states and nations. In the Formation of National States in Western Europe, ed. C.Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Bairoch, P. (1973). Agriculture and the industrial revolution, 1700–1914. In the Fontana Economic History of Europe, Vol. 3: The Industrial Revolution, ed. C.Cipolla. London: Fontana. Batho, G. R. (1957). The finances of an Elizabethan nobleman: Henry Percy, 9th earl of Northumberland (1564–1632). English Historical Review, 9. Bean, R. (1973). War and the birth of the nation-state. Journal of Economic History, 33. Beer, A. de (1877). Die Finanzen Ostereiches. Prague. Bonney, R. (1978). Political Change in France under Richelieu and Mazarin. London: Oxford University Press. --. (1981). The Kings Debts: Finance and Politics in France, 1589–1661. Oxford: Clarendon Press. Braun, R. (1975). Taxation, sociopolitical structure and state-building: Great Britain and Brandenburg Prussia. In the Formation of National States in Western Europe, ed. C.Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Brown, D. M. (1948). The impact of firearms on Japanese warfare, 1543-98. Far Eastern Quarterly, 7. Brulez, W. (1970). The balance of trade in the Netherlands in the middle of the sixteenth century. Acta Historiae Neerlandica, 4. Carsten, F. L. (1959)- Princes and Parliaments in Germany. Oxford: Clarendon Press. Chabod, F. (1964). Was there a Renaissance state? In the Development of the Modern State, ed. H. Lubasz. London: Collier-Macmillan. Chandaman, C.D. (1975). The English Public Revenue 1660-88. Oxford: Clarendon Press. Chaudhuri, K. N. (1981). The English East India Company in the 17th and 18th centuries: a pre-modern multinational organization. In. Companies and Trade, ed. L. Blusse and F. Gaastra. London: University of London Press. Cipolla, C.M. (1965). Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion 1400–1700. London: Collins; Чиполла, К. (2007). Артиллерия и парусный флот. Описание и технология вооружения XV–XVIII вв. М.: Центрполиграф. Coleman, D. С. (ed.). (1969). Revisions in Mercantilism. London: Methuen. Crafts, N. F. R. (1975). English economic growth in the eighteenth century: a re-examination of Deane and Coles estimates. Warwick University Economic Research Papers, 63. Cressy, D. (1981). Levels of illiteracy in England, 1530–1730. In Literacy and Social Development in the West: A Reader, ed. H.J. Graff. Cambridge: Cambridge University Press. Creveld, M. van (1977). Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge: Cambridge University Press. Davis, R. (1969a). English foreign trade, 1660–1770. In the Growth of English Overseas Trade in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, ed. W. E. Minchinton. London: Methuen.--. (1969b). English foreign trade, 1700–1779. In the Growth of English Overseas Trade in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, ed. W. E. Minchinton. London: Methuen.--. (1973). The Rise of the Atlantic Economies. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press. Deane, P. (1955). The implications of early national income estimates. Economic Development and Cultural Change, 4. Deane, P., and W. A. Cole. (1967). British Economic Growth 1688–1959: Trends and Structure. Cambridge: Cambridge University Press. Dent, J. (1973)- Crisis in France: Crown, Finances and Society in Seventeenth Century France, Newton Abbot, England: David & Charles. Dietz, F. C. (1918). Finances of Edward VI and Mary. Smith College Studies in History, 3. --. (1923). The Exchequer in Elizabeths reign. Smith College Studies in History. 8. --. (1928). The receipts and issues of the Exchequer during the reign of James I and Charles I. Smith College Studies in History, 13.--. (1932). English public finance and the national state in the sixteenth century. In Facts and Figures in Economic History, essays in honor of E. F. Gray. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.--. (1964a). English Government Finance 1485–1558. London: Casso.--. (1964b). English Public Finance 1558–1641. London: Casso. Dorn, W. (1963). Competition for Empire 1740–1763. New York: Harper & Row. Dorwart, R.A. (1971). The Prussian Welfare State Before 1740. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Duffy, C. (1974). The Army of Frederick the Great. Newton Abbot, England: David & Charles. --. (1979). Siege Warfare. London: Routledge & Kegan Paul. Elton, G. R. (1955). England Under the Tudors. London: Methuen.--. (1975). Taxation for war and peace in early Tudor England. In War and Economic Development, ed. J. M. Winter. Cambridge: Cambridge University Press.--. (1979). Parliament in the sixteenth century: function and fortunes. Historical Journal, 22. Eversley, D.E.C. (1967). The home market and economic growth in England, 1750-80. In Land, Labour and Population in the Industrial Revolution, ed. E.L.Jones and G.E. Min-gay. London: Arnold. Falkus, M., and J.Gillingham. (1981). Historical Atlas of Britain. London: Grisewood and Dempsey. Finch, M. (1956). The Wealth of Five Northamptonshire Families, 1540–1640. London: Oxford University Press. Finer, S. (1975). State and nation-building in Europe: the role of the military. In The Formation of National States in Western Europe, ed. C.Tilly. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Fulbrook, M. (1983). Piety and Politics: Religion and the Rise of Absolutism in England, Wi-irttemberg and Prussia. Cambridge: Cambridge University Press. Goody, J. (1971)- Technology, Tradition and the State in Africa. London: Oxford University Press. Gould, J. D. (1972). Economic Growth in History. London: Methuen. Greeley, A. M. (1973). The Persistence of Religion. London: SCM Press. Hale, J. R. (1965). Gunpowder and the Renaissance. In from the Renaissance to the Counter-Reformation, ed. С. H. Carter. New York: Random House. Hanson, D. W. (1970). From Kingdom to Commonwealth: the Development of Civic Consciousness in English Political Thought. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Hartwell, R. M. (1967). The Causes of the Industrial Revolution in England. London: Methuen. Hechsher, E.F. (1955). Mercantilism. 2 vols. London: Allen & Unwin. Hill, C. (1980). Some Intellectual Consequences of the English Revolution. London: Weidenfeld & Nicolson. Hintze, О. (1975). The Historical Essays of Otto Hintze, ed. E Gilbert. New York: Oxford University Press. Holton, R. (1984). The Transition from Feudalism to Capitalism. London: Macmillan. Howard, M. (1976). War in European History. London: Oxford University Press. John, A. H. (1967). Agricultural productivity and economic growth in England, 1700–1760. In Agriculture and Economic Growth in England: 1650–1815, ed. E. L. Jones. London: Methuen.--. (1969). Aspects of English economic growth in the first half of the eighteenth century. In The Growth of English Overseas Trade, ed. W. E. Minchinton. London: Methuen. Jones, E. L. (1967). Agriculture and economic growth in England, 1660–1750: agricultural change. In Agriculture and Economic Growth in England, 1660–1815, ed. E. L.Jones. London: Methuen. Jordan, W. K. (1969). Philanthropy in England, 1480–1660. London: Allen & Unwin. Kiernan, V.G. (1957). Foreign mercenaries and absolute monarchy. Past and Present, 11. --. (1965). State and nation in western Europe. Past and Present, 31. Ladero Quesada, M.A. (1970). Les finances royales de Castille ala veille des temps moder-nes. Annales, 25. Lane, F. C. (1966). Venice and History. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Lang, J. (1975). Conquest and Commerce: Spain and England in the Americas. New York: Academic Press. Law, R. (1976). Horses, firearms and political power in pre-colonial West Africa. Past and Present, 72. Lousse, E. (1964). Absolutism. In The Development о f the Modern State, ed. H. Lubasz. London: Collier-Macmillan. Lublinskaya, A. D. (1968). French Absolutism: the Crucial Phase, 1620–1629. Cambridge: Cambridge University Press. McKeown, T. (1976). The Modern Rise of Population. London: Arnold. McNeill, W. H. (1982). The Pursuit of Power. Oxford: Blackwell; МакНил, У. (2008). В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. М.: Территория будущего. Mann, М. (1980). State and society, 1130–1815: an analysis of English state finances. In Political Power and Social Theory, ed. M. Zeitlin, vol. 1. Greenwich, Conn.: J Al Press. Martin, D. (1978). A General Theory of Secularisation. Oxford: Blackwell. Mitchell, B.R., and P. Deane. (1962). Abstract of British Historical Statistics. Cambridge: Cambridge University Press. Mitchell, B. R., and H.G. Jones. (1971). Second Abstract of British Historical Statistics. Cambridge: Cambridge University Press. Mousnier, R. (1954). Les XVIe et XVIIe siecles. Paris: Presses Universitaires de France. North, D. C. and R. P. Thomas. (1973). The Rise of the Western World: A New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press. Outhwaite, R. B. (1969). Inflation in Tudor and Early Stuart England. London: Macmillan. Parker, G. (1970). Spain, her enemies and the revolt of the Netherlands 1559–1648. Past and Present, 49.--. (1972). The Army of Flanders and the Spanish Road 1567–1659. Cambridge: Cambridge University Press.--. (1974). The emergence of modem finance in Europe, 1500–1730. In the Fontana Economic History of Europe: The Middle Ages, ed. C.M.Cipolla. London: Fontana. Parry, J. H. (1973). The Age of Reconnaissance: Discovery, Exploration and Settlement 1450–1650. London: Sphere Books.--. (1974). Trade and Dominion: European Overseas Empires in the Eighteenth Century. London: Sphere Books. Phelps-Brown, E.H., and S.V. Hopkins (1956). Seven centuries of the price of consumables. Economica, 23. Poggi. G. (1978). The Development of the Modern State. London: Hutchinson. --. (1984). Calvinism and the Capitalist Spirit. London: Macmillan. Roberts, M. (1967). The Military Revolution 1560–1660. In Roberts, Essays in Swedish History. London: Weidenfeld & Nicolson. Rosenberg, H. (1958). Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy: The Prussian Experience 1660–1815. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Scharma, S. (1977). Patriots and Liberators: Revolution in the Netherlands, 1780–1813. London: Collins. Schofield, R. S. (1963). Parliamentary lay taxation 1485–1547. Ph.D. thesis, University of Cambridge. Schumpeter, E.B. (i960). English Overseas Trade Statistics, 1697–1808. Oxford: Clarendon Press. Seeley, J. R. (1968). Life and Times of Stein. 2 vols. New York: Greenwood Press. Smaldane, J. P. (1972). Firearms in the central Sudan: a reevaluation. Journal of African History, 13. Sorokin, P.A. (1962). Social and Cultural Dynamics, vol. III. New York: Bedminister Press. Steensgaard, N. (1981). The companies as a specific institution in the history of European expansion. In Companies and Trade, ed. L. Blusse and F. Gaastra. London: London University Press. Stone, L. (1949). Elizabethan overseas trade. Economic History Review, ser. 2, vol. 2. --. (1965). The Crisis о f the Aristocracy /558-1641. London: Oxford University Press. --. (1973). Family and Fortune: Studies in Aristocratic Finance in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Oxford: Clarendon Press. Swart, K. (1949). The Sale of Offices in the Seventeenth Century. The Hague: Nijhoff. Thompson, I. (1980). War and Government in Habsburg Spain, 1560-/620. London: Athlone Press. U.S. Bureau of the Census. (1975). Historical Statistics of the United States. Bicentennial ed. pt. 2. Washington, D. C.: Government Printing Office. Vagts, A. (1959). A History of Militarism. Glencoe, Ill.: Free Press. Wallerstein, I. (1974). The Modern World System. New York: Academic Press; Валлер-стайн, И. (2015). Мир-система Модерна. Том I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. Wolffe, В.Р. (1971). The Royal Demesne in English History. London: Allen & Unwin. Wrigley, E.A., and R.S. Schofield (1981). The Population History of England, 1541–1871. London: Edward Arnold.ГЛАВА 15 Выводы по Европе: причины европейского динамизма — капитализм, христианство и государства
В ТРЕХ предыдущих главах я, по сути, рассказывал историю одного «общества» — Европы, у которой два центральных сюжета: как следует объяснять европейский динамизм и какими были отношения между политическими и экономическими организациями власти, государствами и капитализмом в рамках этих динамичных процессов? Теперь мы можем сделать заключение относительно обеих проблем.ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИНАМИКА
В середине XII в. Европа состояла из множества децентрализованных федераций деревень, поместий и мелких государств, слабо связанных нормативным умиротворением и порядком христианства. К тому времени это уже была наиболее изобретательная в сельскохозяйственном отношении цивилизация со времен железного века. Тем не менее ее динамизм был сокрыт внутри интенсивных локальных сетей власти. В экстенсивных, военных и геополитических терминах эта цивилизация не была могущественной, широко известной в мире. К 1815 г. этот внутренний динамизм вырвался наружу и стало очевидно, что именно эта цивилизация является самой могущественной в интенсивном и экстенсивном смысле из всех, которые мир знал до сих пор. Три предыдущие главы рассматривают и пытаются объяснить длинный путь роста власти, утверждая, что ранняя сельскохозяйственная динамика в рамках нормативного умиротворения и порядка была использована в трех более экстенсивных сетях власти: (1) капитализме; (2) органическом государстве модерна; (3) пронизанной соперничеством, дипломатически регулируемой мультигосударственной цивилизации, в которую были включены государства. Эта динамика в отличие от промышленной революции, к которой она привела, не была стремительной, прорывной или качественной. Это был растянутый на целые века, кумулятивный и, вероятно, до определенной степени неустойчивый процесс. Речь идет именно о процессе, продлившемся шесть, семь или даже восемь столетий, а не о событии. Именно эту процес-суальность, эту непрерывную динамику, начало которой едва ли можно точно датировать (поскольку отсутствуют записи о Темных веках), я и попытался передать в трех предыдущих главах, затем последовал более понятный и лучше опознаваемый этап 1150–1200 гг., дальше динамика продолжалась без перерыва вплоть до 1760 г. и начала промышленной революции. Это наглядно демонстрирует ограниченность наиболее популярных объяснений этой динамики. Фундаментальной причиной этой динамики не были города XII в., борьба между крестьянами и землевладельцами XIII–XIV вв., капиталистические методы учета XIV в., Возрождение XV в., навигационная революция XV в., научная революция XV–XVII вв., протестантизм XVI в., пуританство XVII вв., английское капиталистическое сельское хозяйство XVII–XVIII вв. и т. д. Каждое из этих событий было слишком незначительным, чтобы объяснить «европейское чудо» по одной причине: исторически они произошли слишком поздно. На самом деле ряд величайших теоретиков социальных наук (Маркс, Зомбарт, Пиренн, Вебер) сосредоточились на относительно меньших и поздних аспектах этого процесса, к тому же их последователи часто усиливали эту тенденцию. Например, последователи Вебера слишком зацикливались на роли протестантизма и пуританства, хотя их вклад был не столь важным и к тому же поздним. Тогда как сам Вебер подчеркивал именно общую долгосрочную природу «процесса рационализации». На самом деле это отличает все однофакторные объяснения, перечисленные выше. Но если все они так похожи, интересно узнать, в чем заключается причина этого сходства. Очевидно одно: если они обладали сходством и имели причинно-следственный характер, они должны были существовать к тому времени, когда обозначенные события уже начались. Какими они были? Сначала следовало бы спросить о методологии, к которой мы могли бы прибегнуть для ответа на этот вопрос. Есть два конкурирующих метода. Во-первых, сравнительный метод, к которому прибегают преимущественно социологи, политики и экономисты. С его помощью пытаются отыскать систематические сходства и различия между Европой, которая действительно рассматривается как чудо, и другими цивилизациями, которые изначально в определенных аспектах были сходны с ней, но подобной динамики не продемонстрировали. Этот метод был использован Вебером в его классических сравнительных исследованиях религии. По мнению Парсонса (Parsons 1968: глава 25), Вебер показал, что, хотя экономические и политические условия для развития капитализма в Китае (а возможно, и в Индии) были более благоприятными, религиозный дух был не там. Христианство в целом и пуританство в частности были решающими причинами, пишет Парсонс. Однако это едва ли соответствует тому объяснению, которое предлагал Вебер. Скорее он мыслил в том направлении, о котором собираюсь сказать я. Позвольте предложить более современное объяснение того, почему Китай не знал «чуда», подобного европейскому. Сначала необходимо отметить, что некоторые китаисты отвергают саму возможность сравнения. Имперский Китай, утверждают они, знал по крайней мере один долгий период социального и экономического развития при Северной Сун около1000-1100 гг. н. э. Это была «половина чуда», которое, вероятно, повторилось бы с другим результатом в более поздний исторический период, если бы остальные страны оставили Китай в покое вместе с его изобретениями. Тем не менее большинство китаистов рассматривают китайскую историю начиная примерно с 1200 г. как историю институциональной стагнации и имперских «династических циклов», а не динамизма. К несчастью, они предлагают по меньшей мере четыре правдоподобных объяснения этому: (1) экология и экономика бесконечно повторявшихся ячеек рисоводов сдерживали разделение труда, обмен товарами на большие расстояния и развитие автономных городов; (2) деспотичное имперское государство подавляло социальное изменение особенно тем, что препятствовало свободному обмену и чрезмерно облагало налогами поток товаров, который могло отслеживать; (3) геополитическая гегемония имперского государства означала полное отсутствие мультигосударственного соперничества, а потому динамические силы не могли проникнуть на китайские земли; (4) дух китайской культуры и религии (согласно Веберу) с древнейших времен превозносил порядок, конформность и традицию (Elvin 1973; Hall 1985). Все объяснения выглядят правдоподобными. Вполне вероятно, что все силы, на которые они указывают, внесли свой вклад и взаимодействовали между собой, а также что причина отсутствия «китайского чуда» была чрезвычайно сложной. Проблема состоит в том, что все четыре силы, вероятно, внесли в это свою лепту и что Европа отличалась в каждом из четырех аспектов. В европейской экологии не доминировало рисоводство; она была чрезвычайно разнообразной; европейские госу- дарства были слабыми; это была мультигосударственная цивилизация; ее религия и культура выражали дух рациональной неугомонности. Посредством сравнения невозможно узнать, какая из этих сил по отдельности или какая их комбинация могли сыграть решающую роль потому, что мы не можем провести четкого различия между действиями этих сил. Можно ли подобрать другие примеры цивилизаций, которые объединяют в себе воздействие этих сил, чтобы получить валидные различия в значимости переменных? К сожалению, нет. Обратимся к одному очевидному дополнительному примеру — исламской цивилизации. Почему «чудо» не произошло там? Литература, посвященная этому вопросу, также сложна и многотомна. Одной из отличительных черт ислама был трайбализм, другой — религиозный фундаментализм, черпавший силу из пустынной племенной базы. Поэтому одним из наиболее правдоподобных объяснений стагнации исламской цивилизации является объяснение Ибн Хальдуна или Эрнста Геллне-ра: бесконечный цикл борьбы между горожанами/торговцами/ учеными/государствами, с одной стороны, и сельскими сопле-менниками/пророками — с другой. Ни одна из сторон не могла поддерживать определенное направление социального развития (Gellner 1981). Но можно ли выделить подобную конфигурацию в других цивилизациях? Нет, она была уникальной для ислама. Существует больше релевантных сил и их конфигураций, чем примеров. Европа, Китай, Индия, Япония, ислам: есть ли другие примеры, к которым можно обоснованно обратиться за ответом на волнующий нас вопрос? Поскольку каждый пример отличается от других по многим важным аспектам, нет возможности использовать сравнительный метод таким образом, который Парсонс приписывает Веберу. К тому же на самом деле существует еще одно препятствие: ни один из этих примеров не был автономным. Ислам контактировал со всеми указанными цивилизациями, а также распространял среди них свое влияние. Ислам и Европа долгое время боролись между собой, не только оказывая огромное влияние друг на друга, но и ставя на карту войны будущее мировой истории. Давайте прислушаемся к довольно саркастическому комментарию Геллнера о спорах относительно «европейского чуда» в целом: Только представьте себе, что было бы, если бы в битве при Пуатье верх одержали арабы, если бы они покорили и исламизировали Европу. Без сомнения, все мы восхищались бы «Хариджитской этикой и духом капитализма» ибн Вебера, который убедительно демонстрировал, как современный дух рационализма, выраженный в бизнесе и бюрократической организации, мог возникнуть только вследствие неохариджитского пуританства в Северной Европе. В частности, эта работа показывала бы, почему современная экономическая и организационная рациональность никогда бы не возникла, если бы Европа осталась христианской, учитывая закостеневшую склонность этой религии к барочному, манипулятивному, патронажному и неупорядоченному видению мира [Gellner 1981: 7]. Сравнительный метод не может предложить решение этой проблемы, но не в силу некоторых общих логических или эпистемологических дефектов, которые он, возможно, содержит, а в силу работы с проблемой, для которой у нас не хватает достаточного количества автономных аналогичных примеров. Осознав эти эмпирические ограничения, следует прагматично обратиться ко второму методу: осторожному историческому нарративу, пытающемуся установить, «что случится затем», если «прослеживается» определенный образец, процесс или серия событий и случайностей. В этом случае нам нужны отчетливые, но широкие концепции и теории относительно того, как общества функционируют в целом, а также как ведут себя люди, но применять их мы будем в рамках исторического повествования, в поисках непрерывности или разрыва, паттерна или случайности. Историческая, а не сравнительная социология является моим основным методом. Что можно выявить при помощи этого метода и что мы уже выявили? В этот томе я преследую одну основную цель — системно осмыслить социальное изменение как генерируемое изнутри структурным напряжением, противоречиями и креативными силами данного общества. Это потому, что источники изменения географически и социально неупорядоченно перемешаны — они не проистекают изнутри социального и территориального пространства некоего данного «общества». Многие из них возникают благодаря воздействию геополитических отношений между государствами, но еще большая часть проходит интерстициально или транснационально прямо через государства, не придавая никакого значения их границам. Эти источники изменения усиливаются в случае социального развития. Поэтому мы заинтересованы не в непрерывной истории определенной области, а в истории «передовых фронтов», могущественных обществ и цивилизаций, где обнаруживаются наиболее развитые фронты власти. В Европе передовой фронт власти смещался на север и запад на протяжении трех предыдущих глав — от Италии к центральным торговым коридорам и территориальным государствам Северо-Запада и, наконец, к Великобритании. Таким образом, если мы хотим определить местонахождение динамического паттерна, нам придется принять во внимание две проблемы: географические сдвиги в центральной динамике и внешние и ситуативно обусловленные отношения с неевропейским миром[140]. В контексте глав, посвященных Европе, это значит принимать во внимание международное и транснациональное влияние, происходящее от ислама. Часть этого неевропейского влияния с европейской точки зрения рассматривалась как случайная, и наше заключение будет смешанным. Я обращусь к обеим проблемам. Сначала я рассмотрю «внутренние» аспекты европейской динамики, принимая во внимание ее смещение на Северо-Запад, но игнорируя присутствие ислама. Затем я обращусь к исламу. Начнем с понятных паттернов в главе 12, особенно на Западе к 1155 г. Запад включал несколько несоизмеримых сетей власти, взаимодействие которых способствовало социальному и экономическому развитию. Существовали небольшие крестьянские деревни, пересеченные поместьями землевладельцев, которые проникали и осушали тяжелые почвы, увеличивая сельскохозяйственные урожаи подальше от посторонних глаз на довольно широких просторах. Но этим группам были необходимы экстенсивные условия власти: они зависели от обмена товаров на большие расстояния, в котором лидировала другая географическая область — северные побережья Средиземноморья. Они зависели от норм, касавшихся прав собственности и свободного обмена. Права частной собственности гарантировались смесью из местных обычаев и привилегий, некоторых юридических регуляторов слабых государств, но прежде всего общей социальной идентичностью, предоставленной христианской Европой. Это была единая цивилизация, внутри которой не существовало единой религии, формы экономики, государства, класса или секты, способной полностью распространить свое господство на остальные. Это была, по сути, цивилизация соперничества (соперничество процветало внутри государственных границ, между государствами и поверх государственных границ), но соперничество нормативно умиротворялось и регулировалось. Комбинация социального и экологического разнообразия, а также соперничество с нормативным урегулированием вело к контролируемому экспансионизму и изобретательности, то есть, по Веберу, к «рациональной неугомонности». Как мы увидим в следующей главе, пронизанные соперничеством «цивилизации с множеством акторов власти» были одним из двух основных условий развития социальной власти. Европейский динамизм был симметричным. Во-первых, он был характерен для Европы в целом, на самом деле интегрируя ее разнообразие в единую цивилизацию. По своей природе формы, возникшие на северо-западе Европы, существенно отличались от тех, которые существовали в Средиземноморской и Центральной Европе. Но один и тот же дух распространился по континенту. Поэтому географические сдвиги динамизма действительно предполагали такое единство. Во-вторых, он был шаблонным в силу своего долгого протекания, преодолевавшего демографические и экономические кризисы, военные поражения от ислама, религиозные расколы и внутренние попытки установления имперской геополитической гегемонии. Эта двусмысленность перед огромным количеством вызовов демонстрирует, что он был системным. Но если мы намерены объяснить происхождение динамизма, то он уже не кажется таким системным. Если мы определим различные компоненты структуры XII в., то обнаружим, что ее источники разбросаны во множестве исторических эпох и областей. Мы можем упростить некоторые из них. Крестьянская чересполосица и сельские общины пришли непосредственно от германских варваров, поместья и основные торговые пути — в основном из позднего римского мира. Множество экономических, военных и политических практик отчетливо совмещали эти две традиции. Поэтому средневековый, возможно, «феодальный» паттерн удобно рассматривать как смешение двух паттернов — германского и римского. Андерсон (Anderson 1974), например, использует понятие способ производства настолько широко, что мы можем частично согласиться с его утверждением о том, что «феодальный способ производства» смешивал «способ производства германских племен» и «античный способ производства». Но даже это чрезмерно четко структурирует то, что действительно исторически произошло. Такой подход не слишком подходит для работы с другими типами региональных вкладов в результирующий паттерн, например характерный скандинавский вклад в морскую торговлю, навигационные технологии и маленькие сплоченные воинственные княжества. К тому же такой подход слишком уж легко встраивает христианство в этот паттерн в качестве передатчика, в том числе через Рим, «классического наследия». Тем не менее христианство несло с собой импульс Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока: Греции, Персии, эллинизма и иудейства. Оно было особым образом обращено к крестьянам, имеющим индивидуальное хозяйство, торговцам и слабым князьям по всей Европе, а потому позднее его влияние перешагнуло через границы Римской империи. Кроме того, структуры власти Рима были существенной основой для понимания, скажем, происхождения поместья, структуры власти германских племен — вассалитета, а истоки христианства были чем-то интерстициальным по отношению к обоим. Его способности к реорганизации не ограничивались только романо-германским слиянием. Более того, если мы заглянем внутрь германского и римского паттернов, то обнаружим не более чем совокупность, которая сама состоит из влияний различных эпох и мест. Например, в главах, посвященных самой ранней истории, я представил очень длинный временной ряд постепенного роста сельского хозяйства крестьян железного века. Эта постепенность была усилена экономической властью землепашцев, обрабатывавших тяжелые почвы, и военной властью крестьянской пехоты. Они шли рука об руку, на север вдоль римских границ в Германию во время римского принципата и затем вместе возвратились обратно в форме германских вторжений. Но далее они разошлись. Экономический тренд продолжился, экономическая власть медленно смещалась на север к фермерским хозяйствам среднего размера. А военный тренд развернулся в обратном направлении, поскольку условия оборонительной войны против негерманских варваров и доступные восточные модели тяжелой кавалерии позволили знатным рыцарям возвыситься над свободными крестьянами. Франкский феодализм, во многих отношениях служивший прототипом более позднего феодализма, был, таким образом, смесью очень древнего, глубоко укорененного движения «европейского» крестьянского и совершенно нового, оппортунистического «неевропейского» общества. В силу этих причин трудно избежать вывода о том, что источником «европейского чуда» была гигантская серия совпадений. Множество причинно-следственных путей развития, одни из которых были долгосрочными и устойчивыми, другие — внезапными и непредсказуемыми, одни сравнительно новыми, другие — древними, но прерывистыми (например, грамотность), вели свое происхождение от всех европейских, ближневосточных и азиатских цивилизаций и собрались вместе в определенный момент и определенном месте, чтобы создать что-то необычайное. В конце концов подобным образом я рассматривал истоки цивилизации сами по себе (в главах 3 и 4), а также динамизм Греции (в главе 7). Верно, что, рассуждая подобным образом, можно легко запутаться в сложных цепочках случайностей и обобщений с допустимой точностью. Но ниши обобщения не касаются «социальных систем». Средневековое или «феодальное» общество не было результатом динамизма и противоречий предыдущих социальных систем, «общественных формаций», «способов производства». Оно также не было результатом слияния двух и более из этих социальных систем. Один из основных лейтмотивов этой книги — продемонстрировать, что общества не являются унитарными.Напротив, они состоят из множества частично пересекающихся сетей. Ни одна из них не может полностью контролировать или систематизировать социальную жизнь в целом, но каждая может контролировать и реорганизовывать определенные ее части. Это значит, что «европейское чудо» нельзя интерпретировать как «переход от феодализма к капитализму», как это делают в рамках марксистской традиции. Мы рассматриваем феодализм, капитализм и соответствующие им способы производства как полезные идеальные типы. В их рамках мы можем организовывать и объяснять разнообразное эмпирическое влияние на европейское развитие, но мы не можем вывести удовлетворительное объяснение европейского развития из него самого. Для этого необходимо объединить подобные экономические идеальные типы с идеальными типами, разработанными вокруг и при помощи других источников социальной власти: идеологических, военных и политических. Поэтому наши обобщения на настоящем этапе касаются того, как различные сети власти, организовавшие различные, но частично пересекавшиеся сферы социальной жизни и европейских земель, объединились, чтобы создать особенно плодородную почву для социальной креативности. В качестве примера можно привести четыре основные сети власти, оказавшие свое воздействие в данном случае. Во-первых, христианский мир — в основе свой идеологическая сеть, отколовшаяся от восточной средиземноморской городской базы, чтобы трансформировать, реорганизовать и даже создать «европейский» континент. Его нормативное умиротворение и порядок в минимальной степени регулировали борьбу других менее экстенсивных сетей, и его полурациональное, полуапокалипсическое видение спасения наделило эту земную (посюстороннюю) креативность большей частью необходимой психологической мотивации. Без этой ойкуменической реорганизации ни рынки, ни собственность, ни «рациональная неугомонность» не возникли бы на этой территории. Во-вторых, внутри ойкумены небольшие государства обеспечивали некоторую долю юридического регулирования и подкрепления обычаев и привилегий. Их реорганизация, более ограниченная по своему масштабу и степени, различалась по всей Европе. В целом государства объединяли римские претензии (будь то имперские или городского духовенства) с германскими или скандинавскими племенными традициями и со структурами, которые недавно были изменены в силу военной необходимости (закованные в доспехи конные эскорты, замки, вассалитет, большие поборы с крестьян и т. д.). В-третьих, сети военной власти пересекались с ними и тем самым обусловливали большую часть специфической динамики раннесредневекового государства. Особенности оборонительной войны на местном уровне способствовали развитию феодального ополчения в одних частях Европы и городской милиции в других. В зависимости от локальных особенностей это также способствовало феодальным монархам или городским сообществам со всеми прочими смешанными видами между ними. Военная динамика внесла огромный вклад в реорганизацию классовых отношений. Она усилила социальную стратификацию, еще более подчинив крестьянство и часто смешивая их полосы земли с поместьями землевладельца. Возросшие поборы с крестьян позволили землевладельцам продавать больше товаров, к тому же это стимулировало развитие отношений между городом и деревней, а также между севером, западом и Средиземноморьем. В-четвертых, сети экономической власти были множественными, но тесно связанными. Местные производственные отношения различались в зависимости от экологии, традиций и воздействия перечисленных выше сетей. Я привел две основные и часто взаимозависимые единицы на севере: деревня и поместье. Достаточно большое количество их излишков продавалось в виде товаров, тем самым объединяя деревню и поместье в более экстенсивные торговые сети, особенно сети «север — юг». Они способствовали развитию коридоров «север — юг», пролегавших вдоль центральной части континента и большей части Италии, в качестве другой формы общества. Здесь князьки, епископы, аббаты, общины и купеческие олигархии создали менее территориальные формы интеграции между деревней и городом, производством и обменом. Начиная с самого раннего периода европейской летописи зародышевые формы сетей экономической власти демонстрировали чрезвычайный динамизм, особенно производительности сельского хозяйства на Северо-Западе. Эти четыре основные сети власти реорганизовали различные сферы и географические пространства раннесредневековой социальной жизни. Как следует из этого краткого обзора, их взаимодействие было комплексным. Применительно к рассматриваемой эпохе они были наполовину идеальным типом, наполовину реальной социальной специализацией. Один фактор — христианский мир я выделяю как необходимый для всего последовавшего. Остальные факторы также внесли существенный вклад в итоговую динамику, но были ли они необходимы, это уже другой вопрос. Могли ли другие конфигурации сетей власти заменить их, не разрушив тем самым динамику? На этот вопрос особенно трудно ответить в силу исторического развития указанной динамики. Каждая из сетей власти вносила свой решающий вклад в ее реорганизацию в различные периоды. Кроме того, каждая из сетей реорганизовывала себя вслед за другими. В главе 12 я охарактеризовал относительно интенсивный этап этой динамики, в рамках которого местные акторы власти, в основном землевладельцы и крестьяне, усовершенствовали сельское хозяйство в процессе нормативного умиротворения и порядка христианства. На этом этапе влияние государств было незначительным. Однако позднее военная логика обеспечила военно-налоговую поддержку власти государств. Это происходило параллельно расширению торговли. Именно эта комбинация военной/политической и экономической сетей власти привела к увеличению общей роли государств, включая секуляризацию геополитических пространств до вполне развившейся, дипломатически регулируемой мультигосударственной цивилизации. Затем регулируемое соперничество между государствами стало новой частью европейской динамики наряду с более традиционными формами соперничества между экономическими акторами, классами и религиозными группами. Поскольку значение последних сократилось после XVII в., европейская динамика, хотя и была непрерывной, обладала различными компонентами в различные периоды. Вторая проблема является следствием географических различий в европейской динамике. Различные части Европы внесли свой реорганизующий вклад на разных исторических этапах. Все «однофакторные теории» из списка, который я приводил выше, это упускают. Некоторые элементы динамизма проистекали из Италии, некоторые — из Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, Англии. На самом деле, если мы расширим перечень, чтобы включить в него факторы, которые, очевидно, помогли всей Европе, географическое структурирование динамики станет очень сложным. Именно теперь нам необходимо расширить фокус, чтобы обсудить ислам. Европа заимствовала у ислама ряд вещей, однако исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, какие именно. Внесли ли эти заимствования (прежде всего восстановление классического обучения посредством ислама) решающий вклад в европейское развитие, остается неясным. Но необходимость военной защиты — это другой вопрос. Если бы ислам или монголы завоевали весь Евразийский континент или по крайней мере его половину, никакой европейской динамики, а возможно, и никакой устойчивой динамики вообще не было бы. Европейскую оборону необходимо систематически проанализировать. На первый взгляд эта оборона не выглядела системной. Изначально она основывалась на княжествах, таких как франки, затем отчасти на норманнах, которые путешествовали по всей Европе, чтобы сражаться и основывать свои средиземноморские княжества. В период крестовых походов к ним присоединились некоторые великие монархии эпохи: Франция, Германия и Англия. С падением Византии, Бургундии и непродолжительными набегами французских рыцарей основное бремя сопротивления исламскому давлению легло на Венецию, Геную и славянские княжества. Затем угроза нависла над Испанией и Австрией. Финальная точка в этой борьбе была поставлена у ворот Вены в 1638 г. польским королем. Представляется, что всем пришлось внести свою лепту в защиту Европы. Иными словами, огромное разнообразие социальных структур Европы обрело защиту в виде ее организаций военной власти. На этом примере мы можем осознать и случайности, и шаблонность (паттерн) в исторических и географических сдвигах. Случайные факторы были важны, поскольку периоды исламского давления либо были прежде всего результатом внутренних исламских факторов, либо проистекали из восточной периферии Европы. Этот вклад в европейскую динамику редко был непосредственным и позитивным. Некоторые случайности имели огромное историческое значение. Когда турки захватили Константинополь и закрыли Восточное Средиземноморье, они изменили европейский баланс власти. Торговля центральных средиземноморских держав падала в тот самый момент, когда военная нагрузка росла. Атлантические власти не упустили возможности, и запад стал доминировать. В определенном смысле это была всемирно-историческая случайность. Но в другом смысле сдвиг власти был частью долгосрочного движения на запад и на север. Это движение наблюдалось на протяжении всей истории, изложенной в этом томе, а потому является подходящей темой для следующей, заключительной главы. Но сейчас к ней все же стоит обратиться, чтобы не принимать за местную случайность то, что могло быть частью общего паттерна. Исламское давление и его геополитические последствия не были всецело случайными. В ходе важнейших исторических периодов экспансия «передового фронта» цивилизации, коллективной власти на восток была затруднительной. Передовой фронт вел оборонительные и иногда проигрышные бои против агрессии восточных соседей. Лишь Александр Великий обратил вспять этот привычный порядок вещей, расширив эллинистическую цивилизацию на восток. Рим консолидировал эти завоевания, но не смог продвинуться в восточном направлении. В Европе в эту историческую норму укладывались два геополитических процесса. Во-первых, Европа была заблокирована на востоке. Она никогда даже отдаленно не угрожала исламу в самом его сердце — гуннам, монголам или татарам в степях. Даже если у Европы не было других вариантов, кроме экспансии, движение в восточном направлении было невозможно, равно как в северном и южном направлениях из-за экономики и климата. Во-вторых, весьма вероятно, что если бы восточные части европейской цивилизации вне зависимости от того, были они ее передовым фронтом или нет, успешно напрягли свои коллективные силы для защиты, то они остались бы обескровленными. После битвы при Пуатье и битвы на реке Лех и наверняка после XIII в. Центральная и Западная Европа была вне опасности. Но в долгосрочной перспективе восточные европейские царства: Византия, норманнские авантюристы, Венеция, Генуя и Испания — израсходовали такое количество ресурсов на непродуктивную борьбу, что ждать от них дальнейшего позитивного вклада в европейскую динамику не стоило. Лишь гораздо позже, когда набеги ослабли, Австрия и особенно Россия смогли выиграть от борьбы против ислама и татар. Теперь ислам никак не влиял на дальнейшее смещение передового фронта власти на запад. Для того чтобы это происходило и дальше, требовались совершенно другие условия. На этот раз уже Западу были необходимы возможности власти, таким образом, те, кто был обращен к нему, или те, кто шел на него войной, могли воспользоваться этими возможностями. Они желали этого, поскольку все остальные направления были заблокированы. Но могли ли они сделать это напрямую, зависело от того, на чем базировалась эта способность к использованию. Заметьте, я только что поменял местами то, что было обусловленным и что было случайным. У нас есть две части в общем зависящем от обстоятельств объяснения. С точки зрения каждой из них оставшаяся половина будет случайной. С точки зрения Западной Европы борьба Восточной Европы с исламом была случайной (и была для нее выгодна). С точки зрения Восточной Европы возможности, открывшиеся перед Западной, были случайными (и были для нее не выгодны). Возможности запада приняли две основные формы: сельскохозяйственные, которые открыли перед ней более глубоко вспахиваемые, влажные, плодородные почвы, а также локальные социальные структуры (описанные выше), хорошо подходившие для использования возможностей этих почв. Реализация первой формы началась в Темные века и с перебоями продолжалась вплоть до «сельскохозяйственной революции» XVIII в. Второй формой были навигационные возможности Атлантического и Балтийского побережий, а также подходившие местные структуры. Эта форма реализовалась в два отдельных этапа: ранней экспансии от викингов до норманнов и (с XV до XVII в.) экспансии «координировавших» и «органических» прибрежных государств средних размеров от Швеции до Португалии. Я сконцентрировал свое внимание на последнем этапе, в частности на форме государств и мультигосударственной системе, подходивших для использования этих возможностей (что я обобщу в следующем разделе). В результате этих процессов осталось одно органическое среднего размера островное государство с тяжелыми почвами, прекрасно расположенное, чтобы вырваться в лидеры, — Великобритания. Было это случайностью или частью макроисторического паттерна? Развернутый ответ последует далее. Европейская динамика была случайным совпадением двух макропаттернов: политической блокады на востоке и сельскохозяйственной и торговой возможности на западе. Первый паттерн был навязан Европе Средних веков и раннего Нового времени исламом и в меньшей степени татаро-монгольскими империями, структура и власть которых остались за пределами предмета этого тома. Второй паттерн и его воздействие на средневековую Европу были рассмотрены в трех предыдущих главах. В средневековый период сельскохозяйственные плюс навигационные возможности были исторической конъюнктурой, но такой, которая была использована внутренне обусловленным набором частично пересекающихся сетей. Имели место (1) нормативное умиротворение и порядок, обеспечиваемые христианством, которое позднее было в целом заменено дипломатически регулируемой мультигосударственной цивилизацией; (2) небольшие слабые политические государства, выросшие в территориально централизованные координировавшие и органические державы, которые тем не менее никогда не были внутренними или геополитическими гегемонами; (3) множество частично автономных, соперничавших местных сетей экономической власти (крестьянские общины, феодальные поместья, города, купеческие и ремесленные гильдии), соперничество которых постепенно вылилось в единый, универсальный, диффузный набор властных отношений частной собственности, который известен нам как капитализм. К 1477 г. эти сети власти развились в упрощенную современную форму: мульти-государственную капиталистическую цивилизацию, внутреннюю композицию которой мы рассмотрим ниже. Это совпадение, отчасти обусловленное процессом, отчасти историческими случайностями, представляется настолько тесным, насколько вообще можно подойти к общей теории европейского динамизма, используя исторические формы объяснения. Нехватка сравнимых кейсов не позволит нам ближе подойти к решению этой проблемы, используя сравнительный метод.КАПИТАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВА
Второй центральной темой, особенно последних двух глав, было исследование взаимоотношений и относительного вклада капитализма и государства в их синхронное воздействие на процесс европейского развития. Я руководствовался этим аргументом особым образом, используя методологию, примененную в начале главы 9: количественное исследование государственных финансов на примере Англии/Британии. Сохранившиеся бюджетные записи позволили нам ясно понять роль английского государства рассматриваемого периода, а также роль государства в становлении европейского капитализма и европейской цивилизации в целом. Поэтому резюмируем функции английского государства, которые были выявлены исключительно по бюджетным записям. По крайней мере из анализа государственных финансов следует, что функции возникшего государства были преимущественно военными и геополитическими, а не экономическими или внутренними. В течение более семи столетий примерно от 70 до 90 % финансовых ресурсов государства постоянно расходовались на наращивание и применение военной силы. И хотя эти силы также можно было использовать для внутренних репрессий, хронология их развития практически полностью детерминирована сферой и характером международных войн. В течение нескольких столетий рост государства был прерывистым и незначительным, поскольку каждый реальный момент роста был результатом военных событий. Большая часть мнимого финансового роста до XVII в. объясняется инфляцией. Он мгновенно исчезает, если пересчитать государственные финансы в постоянных ценах. Но в XVII и XVIII вв. реальный размер государственных финансов рос стремительно. До этого он был слабым по сравнению с ростом экономики, а также маргинальным по отношению к жизненному опыту большинства жителей государства (подданных). К1815 г. (разумеется, году основной войны) государства разрослись до угрожающих размеров по сравнению с их «гражданскими обществами». В результате так называемой военной революции возникло «государство модерна», которое приобрело постоянные и профессиональные армию и флот. Даже к 1815 г. публичные (гражданские) функции государства в терминах доли государственных расходов на них оставались крайне малыми. Это не довод в пользу военного детерминизма. Характер военных технологий тесно связан с общей формой общественной жизни, и в частности со способом экономического производства. Цели военных сражений также стали более экономическими в современном смысле этого слова, поскольку расширение европейской экономики теснее переплелось с военными завоеваниями и захватом рынков в той же мере, в какой и с захватом земли. Но тем не менее государства и мультигосударственная цивилизация развились отчасти в ответ на давление, исходившее из геополитической и военных сфер. Поэтому теории, которые в качестве основной функции государства рассматривают регуляцию его внутреннего «гражданского общества» (будь то в функциональных или в марксистских терминах классовой борьбы), все слишком упрощают. Все государства обладают подобными функциями, но на определенной географической и исторической территории они возникли в силу финансовых издержек, которые по большей части проистекали из их геополитической роли. Однако и такой аргумент все чрезмерно упрощает. Он основан на финансах, а следовательно, имеет тенденцию к недооценке функций, которые были относительно дешевыми, но могли рассматриваться как важные в другом отношении. Другим основным аспектом роста современного государства была монополизация им юридической власти, которая вначале ограничивалась вынесением судебных решений в спорах об обычаях и привилегиях, а затем расширилась до активного законодательства. Эта функция не требовала больших расходов, поскольку государство по большей части координировало деятельность могущественных групп «гражданского общества». В поздний средневековый период эти группы обладали существенной властью в провинциях (как всегда было в случае экстенсивных исторических обществ), а иногда также национальными организациями сословного типа. Но в силу смешанных экономических и военных причин координация становилась более тесной. Второй стадией современного государства стало возникновение органического государства. Государство и монарх (или гораздо реже республика) были тем центром, вокруг которого рос этот организм. В Англии принятой формой была конституционная монархия, окончательно установившаяся после 1688 г. Но организмом также стал капиталистический класс, который объединил земельные и торговые интересы (то есть дворянство, джентри, йоменов, буржуазию и т. д.), но исключил народные массы. Другие страны адаптировали несколько менее органическую форму государства — абсолютизм, который обычно включал дворянство, но исключал буржуазию. Абсолютизм достиг большей степени координации, организовав отношения между группами (в возрастающей степени классами), которые были организационно сегрегированы по отношению друг к другу. В результате он был несколько менее эффективным в инфраструктурном проникновении и социальной мобилизации по сравнению с более органическим конституционным государством (хотя это было в меньшей степени справедливо в отношении военных организаций власти, чем в отношении организаций экономической власти). Органические, особенно конституционные, государства были новым историческим феноменом на таких больших территориях. Они представляли собой упадок территориально федерального государства, характерного, как мы уже убедились, практически для всех экстенсивных обществ, существовавших прежде. До сих пор управление было компромиссным между центральной и провинциальными аренами власти, каждая из которых обладала существенной автономией. Отныне компромисс был централизованным, и возникло практически унитарное государство. Его инфраструктура была сильнее, и распространение центральной власти на территории было больше, чем у любого предшествовавшего экстенсивного государства. Остаточным фактором этого светского тренда было фискальное давление на государства, вытекавшее из международных военных потребностей. Но основная причина распространения координационной власти государства лежала в расширении классовых отношений на более протяженных географических территориях в силу перехода от «феодальной» к капиталистической экономике. Экономические ресурсы, включая местную автономию и приватность от государства (см. главу 12), постепенно выкристаллизовались в то, что мы называем частной собственностью. По мере роста производства и торговли местных единиц государства все больше погружались в регуляцию более отчетливых, технически оформленных и тем не менее более универсальных прав собственности. Государства стали вытеснять христианский мир в качестве основного инструмента нормативного умиротворения и порядка — процесс, который стал наглядным и необратимым в протестантском расколе и вызвал религиозные войны XVI–XVII вв. Однако заметьте, что я пишу «государства», а не «государство». Поскольку, какими бы ни были нормативные (и репрессивные) потребности капитализма, он не создал своего единого государства. Как я еще раз отмечу в следующем томе, не было ничего неотъемлемо присущего капиталистическому способу производства, что привело бы к развитию классовых сетей, каждая из которых ограничивалась бы территориями государства. Дело в том, что и координирующие, и органические государства были все больше национальными по своему характеру. Мы были свидетелями возникновения множества сетей экономической власти и множества случаев классовой борьбы, а также увековечивания многих государств, принадлежавших к единой цивилизации. И вновь, как в шумерской или греческой цивилизации во времена их расцвета, динамика цивилизации включала и небольшие, унитарные, государство-центричные единицы, и более широкую геополитическую «федеральную культуру». Таким образом, к моменту промышленной революции капитализм уже был в составе цивилизации соперничавших геополитических государств. Христианство больше не определяло сущностное единство этой цивилизации. Действительно трудно было уловить природу этого единства и выразить ее иначе, чем «европейское» единство (Европа). Дипломатические каналы составляли основу ее организации, а геополитические отношения включали торговлю, дипломатию и войны, которые государства не считали взаимоисключающими. Однако шире, чем они, было распространено ощущение общей европейской плюс христианской (а вскоре и «белой») идентичности, носителем которой не была ни одна из транснациональных авторитетных организаций. Тем не менее экономические взаимодействия происходили в основном внутри национальных границ, дополнялись экономическими отношениями с имперскими доминионами. Каждое передовое государство стремилось к установлению экономической сети, ограниченной его границами. Международные экономические отношения авторитетно опосредовались государством. Классовая регуляция и организация, таким образом, развивались в каждой из ряда географических областей, оформленных существующими геополитическими единицами. Таким образом, важной детерминантой процесса и результата классовой борьбы становились природа и взаимоотношения государств, как отмечали другие авторы. Тилли задается в чем-то бесхитростным вопросом, были ли на самом деле французские крестьяне XVII в. «классом» в том смысле, в каком этот термин обычно используют, поскольку вместо того, чтобы сражаться против своих землевладельцев, крестьяне нередко сражались на их стороне против государства. Почему, спрашивает он? Дело в том, что государственная потребность в налогах и людских ресурсах для международных войн вела к поборам крестьян и поощрению коммерциализации экономики, которая также угрожала правам крестьян. Тилли приходит к заключению, что французское крестьянство было правилом, а не исключением. Он пишет: «Двумя господствующими процессами (социального развития) являются расширение капитализма и рост национального государства и системы государств». Взаимосвязь этих двух процессов, утверждает он, объясняет классовую борьбу (Tilly 1981: 44–52,109–144). Эту историю начиная с XVIII в. развивает Скочпол. Она показывает, что современные классовые революции (французская, русская и китайская) были результатом взаимосвязи между классовой борьбой и борьбой между государствами. Конфликты крестьян, землевладельцев, бюргеров, капиталистов и других групп фокусировались на процессе сбора налогов государствами «старого порядка», сражавшимися, чтобы сдержать военную угрозу более развитых соперников. Класс был политизирован только потому, что это была мультигосударственная система соперничества. Теоретическое заключение Скочпол состоит в том, что государство имело две автономные детерминанты. Как утверждает Хинце, «это, во-первых, структура социальных классов и, во-вторых, внешний порядок государств…». Поскольку внешний порядок автономен по отношению к классовой структуре, государство несводимо к социальным классам (Skocpol 1979: 24–33). Хотя я согласен с этими эмпирическими утверждениями и заключениями, я предпочел бы поставить их в более широкие исторические и теоретические рамки. Автономия власти государства не является постоянной. Как мы видели в начальных главах, средневековые государства обладали крайне малой властью, оказывали небольшое воздействие на развитие классовой борьбы и гораздо большее — на исходе военных сражений, которые в основном были сражениями между конгломератами автономных феодальных ополчений. Однако постепенно государства заполучили все эти автономные власти, и я пытался объяснить, почему им это удалось. Государства предоставляли территориальную централизованную организацию и геополитическую дипломатию. Полезность подобной организации власти была маргинальной в ранние Средние века. Но функциональность таких организаций для господствовавших группировок стала расти, особенно на поле боя и в организации торговли. Вопреки контрудару, нанесенному территориально децентрализованными агентами, такими разнообразными, как католическая церковь, герцогство Бургундия, частные индийские компании, эта полезность стала расти. Однако, чтобы понять почему, нам необходимо выйти за пределы области, в которой мы принимаем такую вещь, как сильные государства, как нечто само собой разумеющееся. Именно это и есть момент создания исторической социологии в широком масштабе. В более узком временном интервале этой главы я описал два отдельных смысла, в которых отношения экономической, военной и политической власти могут влиять друг на друга и прокладывать пути для социального развития. Первый смысл касается оформления в пространстве возникающих классовых отношений существующими геополитическими единицами. Это аспект «коллективной власти» (см. главу 1). В этом случае растущая зависимость капиталистических классов от государств в регуляции прав собственности оформляла первых в пространственном отношении. Торговцы и землевладельцы-капиталисты входили в мир возникавших непримиримых, хотя и дипломатически регулируемых государств и усиливали его. Их потребности в государственном регулировании и уязвимость внутри государства и на геополитической арене, а также государственная потребность в финансах подталкивали классы и государства к территориально централизованной организации. Государственные границы становились более отчетливыми, а культурные, религиозные и классовые отношения — более натурализованными. В конечном итоге британская, французская и голландская буржуазия существовала, а экономическое взаимодействие между этими национальными единицами и классами было незначительным. Каждое основное геополитическое государство было само по себе виртуальной сетью производства, распределения, обмена и потребления (то, что я назвал «цепями практик») в широко регулируемом межгосударственном пространстве. Эти национальные параметры были установлены за несколько веков до того, как мы смогли обоснованно говорить о появлении второго основного класса капиталистического производства — пролетариата. Мир, в котором возник пролетариат, будет предметом следующего тома. Более того, политические и геополитические параметры подразумевали войну между соперниками таким образом, что капиталистический способ производства как «чистый» тип не существовал. Ничего в капиталистическом способе производства (или феодальном, если определять его экономически) не вело само по себе к возникновению множества сетей производства, разделенных и находившихся в состоянии войны, и в целом к классовой структуре, которая была национально сегментирована. То, что слабое маргинальное государство позднефеодального и раннесовременного периодов (которое уже было чрезвычайно довольно собой, если ему удавалось завладеть хотя бы 1 % валового национального продукта) обладало столь важной ролью в структурировании мира, в котором мы живем в настоящее время, было парадоксально. Рост значимости государства продолжится в XIX и XX вв. (см. том 2). Но мы уже убедились в роли государств в рамках мультигосударствен-ной цивилизации в исторической трансформации. В этом первом смысле реорганизация отчетливо проходила от отношений военной и политической власти к экономическим. Второй смысл является более привычным для социологической и исторической теории. Он касается «деспотической» власти государства и государственной элиты как оппонента власти определенных социальных классов, например парсонсианской «дистрибутивной власти» (она рассматривалась в главе 1). В предыдущих главах я утверждал, что античные имперские государства часто обладали решающей властью над классами, поскольку государственная «принудительная кооперация» была необходима для экономического развития. Средневековые государства уже не нуждались в «принудительной кооперации». Европейские колониальные государства нуждались в ней на первых этапах заграничной экспансии, но в конечном итоге необходимость в ней отпадала. Хотя первые завоеванные колонии обычно становились провинциями государств и армии, флот и гражданская администрация метрополий были необходимы для поддержания порядка, власть колониальных государств начиная с XVII в. была подорвана развитием деполитизированных, децентрализованных экономических отношений, которые всегда оказывались сильнее, чем государства их европейских метрополий. Я утверждаю, что цепи экономической власти были деполитизированы задолго до возникновения капиталистического товарного производства. Абсолютизм был не способен возродить контроль над цепями экономических практик. После заката Испании и Португалии ни одно государство никогда формально не владело средствами производства в своих колониях или метрополиях. Хотя средневековые государства оставались небольшими, они могли достигнуть большей автономии, обладая автономными финансовыми ресурсами и вымогая их у таких зависимых групп, как иностранные торговцы, евреи или плохо организованные отечественные купцы. Однако это подразумевало совсем небольшую власть над обществом. К тому же после военной революции ни одно государство не могло сохранить свою автономию и при этом выстоять в войне. Требовались дополнительные финансы и человеческие ресурсы на более продолжительный срок, а это подразумевало сотрудничество с более организованными группами гражданского общества, особенно с земельной аристократией и торговой олигархией в торговых государствах. Это сотрудничество постепенно превратилось в органическое единство государства и правящих классов. В ответ государства отклонились от абсолютистской и конституционной траекторий, и все без исключения стали сотрудничать с господствующими классами. Частные интересы и форму действий государственной элиты невозможно было различить. В XVII и XVIII вв. государство стало целесообразным описывать (перефразируя Маркса) как исполнительный комитет по делам капиталистического класса. Поэтому никакой существенной дистрибутивной власти над отечественными группами «гражданского общества» у государств указанного периода не было. Во втором смысле направление причинно-следственных связей было другим — от отношений экономической власти к государству. Не существует рационального способа ранжирования объяснительной силы двух противоположных причинно-следственных схем, при помощи которых можно было бы прийти к заключению типа: экономическая (или политическая/военная) власть детерминировала остальные «в последней инстанции». Каждая власть реорганизовала общества раннего Нового времени фундаментальным образом, а две последние [политическая и экономическая] были необходимы для промышленной революции и других фундаментальных паттернов современного мира. Они вынуждены будут продолжить свои тесные диалектические взаимоотношения, что мы увидим в томе 2. Отношения экономической власти (то есть способы производства и классы как реальные исторические сущности и силы) не могли «сами себя установить» без вмешательства идеологических, военных и политических организаций. То же с очевидностью, но в обратном порядке относится к государствам и политическим элитам. Как обычно и бывает в социологии, наши аналитические конструкты не надежны, реальные способы производства, классы и государства зависят от более широкого социального опыта. Ни экономический, ни политический или военный детерминизм ни к чему не приведет. Однако в настоящем контексте комбинация трех сетей власти (учитывая специфический упадок идеологической власти, свидетелями которого мы стали в главе 14) предложила сильное объяснение путей, проложенных для современного мира. К середине XVIII в. капиталистические экономические отношения и территориальные государства, обладавшие монополией на военную силу, пополнились вновь возникшими социальными формами: гражданским обществом (которое с этого момента следует писать без кавычек), ограниченным и регулируемым национальным (или в некоторых основных европейских примерах — многонациональным) государством. Все гражданские общества обладали значительным сходством, поскольку существовала мулътигосударственная цивилизация. Каждое двигалось по направлению к органическому целому, а не территориально федеративному конгломерату, как это было практически во всех существовавших до этого обществах. Все пронизывали диффузные власти, абстрактные, универсальные, внелич-ностные, не подчинявшиеся отдельным и иерархическим государствам, региональным и местным авторитетным лицам, принимавшим решения. Эти внеличностные силы произвели величайшую и самую непредсказуемую революцию в коллективной власти людей — промышленную революцию. К тому же их власть и тайна ее диффузной внеличностности также создали науку об обществе — социологию. В следующем томе я обращусь именно к социологическому анализу этой революции.БИБЛИОГРАФИЯ
Anderson, Р. (1974). Passages from Antiquity to Feudalism. London: New Left Books. Андерсон, П. (2007). Переходы от античности к феодализму. М.: Территория будущего. Elvin, М. (1973). The Pattern of the Chinese Past. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Gellner, E. (1981). Muslim Society. Cambridge: Cambridge University Press. Hall, J. (1985). Powers and Liberties. Oxford: Basil Blackwell. McNeill, W. (1974). The Shape of European History. New York: Oxford University Press. Parsons, T. (1968). The Structure of Social Action. 2nd ed. Glencoe, Ill.: The Free Press. Skocpol, T. (1979). States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press; Скочпол, T. (2017). Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая. М.: Изд-во Института Гайдара. Tilly, С. (1981). As Sociology Meets History. New York: Academic Press.ГЛАВА 16 Паттерны всемирно-исторического развития в аграрных обществах
РОЛЬ ЧЕТЫРЕХ ИСТОЧНИКОВ ВЛАСТИ
МЫ ДОСТИГЛИ кульминации этой долгой истории власти в аграрных обществах. Теперь можно остановиться и задать очевидный вопрос: учитывая все детали, можем ли мы выявить общие паттерны власти и ее развития? Мы не вправе давать решительный ответ на этот вопрос до тех пор, пока не сравним аграрные общества с индустриальными (это будет лейтмотивом тома 2). В любом случае попытка окончательного ответа, с необходимостью сложного и многословного, будет предпринята в томе 3. Но предварительно некоторые контуры этого ответа разглядеть все же можно. Общие очертания власти были очевидны в каждой главе после того, как я представил свою формальную модель в главе 1. Я рассказал историю власти в обществе (а следовательно, едва ли не всю историю общества вкратце} в терминах взаимодействия четырех источников власти и их организаций. Взаимодействие идеологической, экономической, военной и политической власти, рассмотренное систематически, представляет, как я утверждаю, приемлемую общую причину социального развития. Следовательно, история обществ, здесь рассматриваемых, была оформлена непосредственно сетями власти, а не другими феноменами. Разумеется, такой тезис требует уточнений. Как я отметил в главе 1, любое исследование общества помещает одни аспекты социальной жизни на авансцену, а другие — за кулисы. Один из закулисных аспектов этого тома — гендерные отношения будут ближе к авансцене в томе 2, когда станут претерпевать изменения. Тем не менее эти аспекты в целом находятся на авансцене в большинстве других исследований аграрных обществ, которые, по всей видимости, адекватно объясняются моей ИЭВП моделью организованной власти. Более того, основной причиной этого является та, с которой начинается глава 1. Власть наиболее целесообразно рассматривать как средства., организацию, инфраструктуру, логистику. Преследуя мириады своих изменчивых целей, люди создают сети социального сотрудничества, которые предполагают коллективную и дистрибутивную власть. Из этих сетей наиболее могущественными в логистическом смысле, способными принести дальнейшую кооперацию — интенсивную и экстенсивную — на определенном социальном и территориальном пространстве выступают организации идеологической, экономической, военной и политической власти. Иногда эти организации появляются в обществах в относительно специализированном виде и обособленно, иногда относительно слитыми друг с другом. Каждая вырастает благодаря характерным организационным средствам, которые она предлагает для достижения человеческих целей. Поэтому в различные «всемирно-исторические моменты» организации той или иной власти или их смеси способны реорганизовать социальную жизнь или, используя метафору, близкую к веберианской метафоре «стрелочника», прокладывать рельсы всемирно-исторического развития. Речь идет о тех средствах, с которых начинается глава 1. Идеологическая власть предлагает два различных средства: во-первых, трансцендентное видение социального господства. Она объединяет людей, утверждая, что обладает предельным смыслом, часто ниспосланными Богом общими качествами. Подобные качества рассматриваются как сущность либо самого человека, либо «секулярных» организаций экономической, военной и политической власти, в которых человек в настоящий момент участвует. В рассматриваемые исторические периоды трансцендентность обычно принимала божественную форму: искра, предположительно воспламенившая общую человечность, рассматривалась как ниспосланная Богом. Но это не было необходимым, как показал более светский случай классической Греции в главе 7. Более очевидная в наше время марксистская трансцендентность (хороший пример движения идеологической власти) является светской («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Становится ли идеологическая власть значимой в каждую конкретную эпоху и в каждом конкретном обществе, зависит от того, рассматриваются ли существующие господствующие организации власти социальными акторами как препятствия на пути достижения желаемых, реализуемых социальных целей через трансцендентное социальное сотрудничество. Возникновение религий спасения у интерстициальных групп торговцев и ремесленников, которые были трансцендентными по отношению к государственным границам и основным организациям эксплуатации аграрных классов, выступает очевидным устойчивым примером, который более подробно рассматривается в главах 10 и 11. Вторым средством идеологической власти выступает то, что я называю имманентностью, повышающей внутреннюю мораль определенной социальной группы путем создания в ней ощущения предельной значимости и осмысленности в космосе, усиления нормативной солидарности и предоставления общих ритуалов и эстетических практик. Поэтому экономические классы, политические нации и военные группы, которые достигали подобной имманентной морали, развивали большую степень самосознания,которая позволяла им сознательно трансформировать историю. Классическим примером этого выступает веберианский анализ воздействия пуританства на мораль ранних капиталистических предпринимателей и бюргеров. Однако на страницах этого тома наиболее очевидными примерами выступают скорее правящие классы империй. Мы видели, что достижения правителей Ассирии, Персии и Рима были вызваны их способностью отождествлять предельные определения «цивилизации», то есть осмысленной социальной жизни, с коллективной жизнью их собственного класса. Тем не менее необходимо добавить, что в аграрных обществах мы не обнаружили настоящих «наций», противостоявших более закрытым «нациям правящего класса» (хотя найдем их в промышленных обществах в томе 2). Тому были весомые логистические причины. В аграрных обществах была в целом затруднена отправка сообщений и символов вниз по социальной иерархии. Одной крайностью были простые иерархические команды, другой — общий диффузный и в чем-то неопределенно трансцендентный контекст религий. Эти два средства идеологической власти были диаметрально противоположными и часто сталкивались между собой. Там, где идеологические движения объединяли элементы обоих средств, противоречия имели огромные последствия для социального развития. Как мы убедились в главах 12 и 13, противоречия между трансцендентным спасением и имманентной классовой моралью средневековых землевладельцев, подпитываемые христианством, были центральной составляющей «рациональной неугомонности», то есть динамизма европейской цивилизации. Средства экономической власти представляют собой то, что я назвал цепями практики. Экономическая власть интегрировала особенно значительно две сферы социальной деятельности. Первой было активное вмешательство людей в природу посредством труда — то, что Маркс назвал практикой. Она весьма интенсивна в том, что касается включения групп рабочих в местное, тесное и плотное сотрудничество и эксплуатацию. Второй сферой была циркуляция взятых из природы товаров, которые обменивались в конечном счете для потребления. Для этих цепей характерны экстенсивность и разработанность. Таким образом, экономическая власть предоставляет доступ к рутине повседневной жизни и практикам множества людей, а также к разветвленным коммуникационным цепям обществ. Следовательно, она всегда представляет собой огромную и существенную часть стабильной структуры власти. Она тем не менее не являлась «движущей силой истории», как это хотел доказать Маркс. Во многие исторические эпохи и во многих обществах другие ресурсы власти оформляли и переоформляли формы экономической власти. В целом «слабость» экономических отношений власти (или, если угодно, социальных классов) зависела от дальнейшего расширения эффективных норм обладания и сотрудничества. В некоторые эпохи эти нормы устанавливались в основном благодаря военному умиротворению и порядку, который в главах 5, 8 и 9 я (вслед за Спенсером) называю принудительной операцией, в другие — благодаря нормативному умиротворению и порядку, то есть через трансцендентные нормы организаций идеологической власти. Нормативный порядок, как мы видели в главах и и 12, в основном обеспечивали религии спасения. В обоих случаях мы обнаруживаем, что экономическую власть и социальные классы преобразовали главным образом структуры военной или идеологической власти. Тем не менее мы также сталкивались с рядом важных примеров, в которых цепи практики сами выступали основным источником реорганизации, «путеукладчиком» истории. Это особенно верно для крестьян и торговцев железного века (из главы 6), достигших расцвета в ранней классической Греции (в главе 7). Впоследствии отношения экономической власти сохраняли огромное значение для социального изменения, хотя «в одиночку» переделать общество они не могли. Разумеется, этот том останавливает свое повествование именно в тот момент, когда значение классов и классовой борьбы необыкновенно выросло в качестве агента промышленной революции. Ниже я скажу еще несколько слов об истории класса. Средства военной власти представляют собой концентрированное принуждение. Это наиболее очевидно в ходе сражения (согласно принципам стратегии Клаузевица). Через военные сражения деструктивная военная власть может определять, какая форма общества будет доминирующей. Это очевидная реорганизующая роль военной власти на протяжении большей части истории. Но ее способности к реорганизации также могут быть использованы и в мирное время. Там, где формы социального сотрудничества можно социально и географически сконцентрировать, существует потенциал для увеличения доходов от такого сотрудничества путем усиления принуждения. В нескольких древних империях, рассмотренных в главах 5, 8 и д, мы видели, как это воплощалось в форме «принудительной кооперации», средстве контроля за обществами и увеличения их коллективной власти путем усиления эксплуатации концентрационных «карманов» труда. Они были тонко связаны воедино экстенсивными коммуникационными инфраструктурами во главе с армией, способными к ограниченному и карательному использованию власти на очень больших пространствах. Отсюда и характерный «дуализм» древних обществ, возглавляемых армией. Относительно новые и противоречивые аспекты моего анализа являются не просто признанием того, что подобные милитаристические империи существовали (факт их существования был признан давно), а тезисом о том, что эти империи стимулировали социальное и экономическое развитие военными средствами. Милитаризм не всегда был исключительно деструктивным или паразитическим вопреки широко распространенному убеждению доминирующих теорий сравнительно-исторической социологии, которые я подвергаю наиболее острой критике в конце главы 5. Первым средством политической власти является территориальная централизация. Государства были вызваны к жизни и усилены, когда господствовавшим социальным группам, преследовавшим свои цели, потребовалась социальная регуляция над замкнутой ограниченной территорией. Это с наибольшей эффективностью достигалось путем установления центральных институтов, которые монопольно очерчивали границы вокруг определенных территорий. Возникала постоянная государственная элита. Даже если изначально государство могло быть творением групп, которые устанавливали или усиливали государство, исторический факт состоит в том, что именно централизация, а не они давали логистические возможности для осуществления автономной власти. Однако автономные государственные власти были ненадежными. Централизация государства была не только его силой, но и слабостью, государствам не хватало проникающей власти в децентрализованные сферы «гражданского общества». Поэтому важная часть реорганизационных способностей политической власти была выражена не автономно, а как часть диалектического развития. Государствам, недавно достигшим централизации власти и потерявшим своих агентов, которые «растворялись» в «гражданском обществе», потом требовалось больше могущества, чем прежде, которое они затем снова теряли и т. д. В свою очередь, важной частью этого процесса было развитие того, что мы называем «частной собственностью», ресурсами, «сокрытыми» от глаз государств, которая (в отличие от буржуазной идеологии) была не естественной и изначально данной, а возникала из фрагментации и растворения коллективных организованных государством ресурсов. Я делаю больший акцент на этих проблемах в главах 5, 9 и 12. Но основное проявление политической власти не затрагивало автономную «деспотическую» власть, осуществляемую централизованной политической элитой. Эта власть, как показано выше, была ненадежной и временной. Основная реорганизационная сила политической власти скорее относилась к географическим инфраструктурам человеческих обществ, особенно к их границам. Я сделал основным аргументом этого тома тезис о том, что человеческие общества были не унитарными системами, а различными конгломератами множественных, частично пересекающихся, накладывающихся сетей власти. Но там, где росла политическая власть, там «общества» все больше становились унитарными, более ограниченными, отдаленными от других обществ, а также внутренне более структурированными. Вдобавок ко всему их взаимоотношения создали второе средство политической власти — геополитическую дипломатию. Ни одно из известных государств не было способно контролировать все отношения, пересекавшие его границы, и поэтому социальная власть всегда оставалась «транснациональной», оставляя очевидную роль для распространения транснациональных классовых отношений и трансцендентных идеологий. Но рост территориальной централизации также увеличивал упорядоченную дипломатическую деятельность — мирную и военную. Там, где централизация происходила на территории с более чем одним соседом, в результате развивалась мульти государственная система. Следовательно, в большинстве случаев рост внутренней власти государств одновременно сопровождался увеличением реорганизационных возможностей дипломатии внутри мультигосударственной системы. Показательным примером выступает Европа раннего Нового времени. Скорее незначительный рост внутренней власти прежде слабых государств (которое выступало непосредственным результатом военно-налоговых проблем) усилило социальные границы большей части Западной Европы. К 1477 г., когда обрушилось великое (и преимущественно нетерриториальное и ненациональное) герцогство Бургундия (что подробно изложено в главе 13), социальная жизнь была отчасти «натурализована». В главе 14 мы бегло взглянули на то, что будет центральной темой тома 2,— национальные государства (позднее — нации-государства), которые уже стали господствующим социальным актором наряду с социальными классами. Взаимоотношения между нациями-государствами и классами будут центральной темой тома 2. Но если современные нации-государства действительно уничтожат человеческое общество в ядерном холокосте, то причинно-следственный процесс может повернуться вспять (если, конечно, кто-нибудь выживет, чтобы заниматься социологией) по направлению скорее к непреднамеренной реорганизации власти слабых, но множественных государств. Способность государственной власти к переоформлению территориального масштаба человеческих обществ иногда достигала колоссальных размеров. Возможно, это был предел указанной способности. Необходимо отметить еще один набор особенностей политической власти — ее отношение к другим источникам власти. Как я отметил в главе 1, многие теоретики до меня утверждали, что политическую и военную власть можно рассматривать как идентичные. Хотя мы видели примеры, где это было не так, между ними, без сомнения, существует тесная взаимосвязь. Концентрация и централизация часто совпадают, как это происходит и с физическим принуждением, и с принуждением, проистекающим из монопольной регуляции ограниченной территории. Государства в целом стремятся к большему контролю над военными силами, а самые сильные государства обычно достигают практически монопольного контроля над ними. Ниже я прокомментирую это совпадение. Между политической и трансцендентальной идеологической властью, наоборот, существует что-то вроде обратной связи, как мы могли наблюдать в главах 10 и 11. Могущественные государства — древние и современные, вероятно, боятся даже больше, чем любого из своих оппонентов, того, что идеологические движения смогут установиться поверх их официальных каналов и границ. Особенности каждого из ресурсов власти и их комплексное взаимодействие будут более подробно освещены в томе 3. Здесь я затронул их только для того, чтобы показать сложности, стоявшие на пути любой общей теории источников власти как независимых «факторов», «измерений» или «уровней» обществ, которые мы находим, например, в марксистской и неовебери-анской теориях. Источники власти являются различными организационными средствами, полезными для социального развития, но каждый из них предполагает существование и взаимосвязи с другими в различной степени. Эти «идеальные типы» встречаются в социальной реальности крайне редко. Реальные общественные движения обычно смешивают элементы большинства, если не все источники власти, в более общие конфигурации власти. Даже если один источник власти временно преобладает, как в примерах, приведенных выше, он возникает в социальной жизни, используя свои «путеукладческие», реорганизационные возможности, и затем его все труднее отделить от социальной жизни. Я вернусь к этим более общим конфигурациям позднее. Более того, не существует очевидных общих паттернов взаимодействий источников власти. Например, к настоящему моменту вполне очевидно, что этот том не подтверждает общих положений «исторического материализма». Отношения экономической власти не представляют собой «финальной истины в последней инстанции» (по выражению Энгельса), история не является «бесконечной чередой способов производства» (Ва-libar 1970: 204), классовая борьба не является «двигателем истории» (по выражению Маркса и Энгельса). Отношения экономической власти, способы производства и социальные классы появляются и исчезают в исторических записях. В случайных всемирно-исторических движениях они решающим образом реорганизуют социальную жизнь; обычно они важны в сочетании с другими источниками власти, иногда они сами становятся объектом реорганизации с их стороны. То же самое можно сказать обо всех источниках власти: они приходят и уходят, появляются и исчезают из исторических записей. Поэтому особенно решительно я не могу согласиться с Парсонсом (Parsons 1966: 113), который пишет: «Я культурный детерминист… я верю, что… нормативные элементы более значимы для социального изменения, чем… материальные интересы». Нормативные и прочие идеологические структуры различаются по своей исторической силе: мы просто не найдем идеологического движения огромных реорганизующих мир сил раннего христианства или ислама во многие исторические эпохи и в обществах, что не отрицает их могущества в тот момент всемирно-исторического времени, когда они действительно изменили мир. Также неверно, как заявляли Спенсер и другие теоретики войны, что военная власть была решающим «путеукладчиком» в экстенсивных доиндустриальных обществах. Главы 6 и 7 демонстрируют массу исключений, самыми примечательными из которых выступают Греция и Финикия. Политических детерминистов не так много. Но их аргументы также были бы ограничены историческими приливами и отливами политической власти. Поэтому нас, вероятно, сносит обратно к своего рода агностицизму, который однажды определил Вебер в своем неповторимом стиле переменчивой уверенности относительно отношений между экономическими и прочими «структурами социального действия»: Предвзятым является даже то утверждение, что социальные структуры и экономика «функционально» связаны между собой — его невозможно исторически обосновать, если допустить недвусмысленную взаимозависимость. Причина в том, что, как мы снова и снова убеждаемся, формы социального действия следуют «собственным законам», кроме того, в каждом конкретном случае они могут определяться несколькими причинами, причем не обязательно экономическими. Тем не менее в какой-то момент экономические условия становятся важными и зачастую даже определяющими почти для всех социальных групп, включая те, которые обладают решающим культурным значением. И наоборот, экономика, как правило, также испытывает влияние автономной структуры социального действия, в рамках которой она существует. Никаких существенных обобщений относительно того, когда и как это происходит, сделать нельзя [Weber 1968: I, 340; подобное утверждение можно найти в I, 577; курсив мой, — Af.M.J. Неужели не существует никаких паттернов приходящего и уходящего? Я полагаю, что некие полупаттерны все же существуют и их необходимо обозначить. Я начну с наиболее общего, всемирно-исторического развития в целом. Затем я рассмотрю паттерны, которые различимы внутри него. Наряду с этим я продемонстрирую потенциальные паттерны, которые часто составляют важную часть социальных теорий.ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
На протяжении всего тома социальная власть продолжала свое развитие, хотя и до определенной степени неустойчиво, но тем не менее кумулятивно. Человеческие способности к коллективной и дистрибутивной власти (как они были определены в главе 1) увеличились в количественном отношении на протяжении периодов, которые я рассматривал. Позднее я уточню это тремя путями: указав на то, что ее развитие часто было результатом случайного стечения обстоятельств, что этот процесс был внутренне неравномерным, а также географически подвижным. Но в настоящий момент давайте остановимся на факте развития. Рассмотренная в крайне долгосрочной перспективе инфраструктура, доступная для властей предержащих и обществ в целом, постепенно возрастала. Множество различных обществ внесли в это свой вклад. Но однажды изобретенные основные инфраструктурные технологии практически никогда не исчезали из человеческих практик. Хотя верно и то, что часто ранее возникшие технологии власти не подходили для проблем последующего общества и потому исчезали. За исключением полностью устаревших, их исчезновение было временным, и впоследствии они возрождались. Процесс непрерывного изобретения, хотя и с потерями, должен был в результате иметь широкое, однонаправленное, одноуровневое развитие власти. Это очевидно, если мы будем исследовать либо авторитетное командование движением людей, материалов или сообщений, либо инфраструктуры, имеющие в своей основе универсальное распространение сходных социальных практик и сообщений (то есть то, что я назвал авторитетной и диффузной властью). Если мы измерим скорость передачи сообщения, передвижения солдат, товаров роскоши или сырьевых товаров, соотношение потерь армий, глубину вхождения плуга в почву, способности догм распространяться, при этом не изменяясь, мы обнаружим повсеместные процессы роста всех измерений власти (как и многих других). Поэтому общества, армии, секты, государства и классы, рассмотренные здесь, были способны применять все более разнообразные репертуары властных техник. В результате можно было бы даже написать своего рода восторженную эволюционную историю социальной организации, в которой каждое успешное изобретение лучше исполняло свои задачи, чем это делали предшествующие технологии. Из такой перспективы не так уж трудно составить перечень «скачков власти». Перечислим социальные изобретения, которые решающим образом увеличили властные возможности и роль которых я уже подчеркивал в этом томе: 1) приручение животных, земледелие, бронзовая металлургия — доисторический этап; 2) ирригация, цилиндрические печати, государство — около 3000 г. до н. э.; 3) клинопись, военное снабжение, рабский труд—2500–2000 гг. до н. э.; 4) письменный свод законов, алфавит, спицевое колесо на неподвижной оси — около 2000–1000 гг. до н. э.; 5) плавка железа, чеканка монет, морская галера — около1000-600 гг. до н. э.; 6) гоплиты и фаланги, полис, распространение грамотности, классовое сознание и борьба — около 700–300 гг. до н. э.; 7) легионы, вооруженные шестом Марии, религии спасения — около 200 г. до н. э. — 200 г.н. э.; 8) обработка тяжелых земель, тяжелая кавалерия и замки — около 600-1200 гг.; 9) координирующие и территориальные государства, навигация в открытом море, печать, военная революция, товарное производство —1200–1600 гг. Это довольно разношерстный список. Одни пункты являются экономическими, другие — военными, идеологическими или политическими. Некоторые кажутся узкими и техническими, другие — крайне широкими и социальными. Но все они позволяли улучшать инфраструктуру коллективной и дистрибутивной власти, к тому же проявили историческую устойчивость. Единственная причина, по которой они полностью исчезали, — простое вытеснение более могущественными инфраструктурами, как это, например, случилось с клинописью или шестом Марии. Таков, следовательно, описательный элемент первого паттерна всемирно-исторического развития. Затем мы можем объяснять его, фокусируясь на каждом отдельном скачке, как я это и делал на страницах этого тома. Но давайте на этом остановимся и отметим, что данный паттерн инфраструктурного роста препятствует возможности паттерна другого рода. Здесь мы имели дело с таким огромным кумулятивным ростом властных возможностей, что не можем просто объединить общества из разных исторических эпох в одни и те же сравнительные категории и обобщения. Действительно, в рамках повествования (особенно в главе 5) я критиковал сравнительную социологию именно за эту чрезмерную склонность. Категории «традиционные аристократические империи», «патримониальные империи», «феодализм» и «военные общества» теряют свое содержание, если применять их к слишком широкому историческому спектру. Это не потому, что история бесконечно разнообразна (хотя так оно и есть), а потому, что история развивается. Какой смысл в том, чтобы называть империю инков (расположенную около 2000 г. до н. э. во всемирно-историческом списке изобретений, приведенном выше) и испанскую империю (расположенную в последней части этого списка) одним и тем же термином «традиционная аристократическая империя», как это делает Каутский (Kautsky 1982)? Потребовалось всего лишь 160 испанцев с их инфраструктурой власти, чтобы полностью разрушить империю инков. Подобным образом «феодализм» средневековой Европы значительно отличался от феодализма хеттов своими ресурсами власти. Европейцы обладали религией спасения, каменными замками, железными плугами с отвалами, они могли плавать через моря, их кавалерия была, вероятно, в три раза тяжелее благодаря доспехам. Категории «феодализм» и «империи» (либо различные производные формы) не сослужат нам хорошей службы. Верно, что некоторая общая качественная динамика могла иметь место на протяжении всей мировой истории: отношения «лорд — вассал» в феодальных обществах или отношения «император — аристократия» в империях. Но эти термины не могут быть использованы для выражения всей полноты структуры или динамики обществ как таковых. Более убедительным в этом отношении является тщательный поиск места общества во всемирно-историческом времени. Поэтому большинство обозначений, используемых в этом томе для наиболее полного рассмотрения обществ и цивилизаций, применяются только к определенным эпохам всемирно-исторического времени. Эта теоретическая установка не нова. Скорее она направлена на то, чтобы быть эмпирической. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые демонстрируют по очереди все четыре источника власти, возглавляемые военными обществами. Во-первых, империи «принудительной кооперации» обладали определенной силой и связанной с развитием ролью по меньшей мере начиная с 2300 г. до н. э. до 200 г.н. э. Мы не могли отыскать их раньше, поскольку инфраструктуры, на которые они опирались (военное снабжение, рабский труд из перечня изобретений, предложенного выше), еще не были изобретены. И они устарели, когда возникли более развитые технологии диффузной власти, основанные на религиях спасения. К тому же даже в рамках этого большого периода существовали огромные различия во власти, которая была доступна вначале Саргону Аккадскому и ближе к концу — императору Августу. Это следствие разных источников, но прежде всего возникновения инфраструктуры культурной солидарности высшего класса, которая давала Римской империи колоссальное преимущество во власти над империей Саргона. «Принудительная кооперация» была заменена гораздо более широкими и могущественными конфигурациями власти в рамках периода своего доминирования. К тому же она никогда не доминировала полностью в рамках этого периода: она соперничала с другими, более диффузными децентрализованными структурами власти, например с Финикией и Грецией. «Принудительная кооперация» была актуальна лишь в определенных местах в обозначенную эпоху. Во-вторых, роль экстенсивных идеологических движений также была исторически ограниченной. Религии спасения привели в действие огромные трансформирующие силы начиная с 200 г.н. э. до, вероятно, 1200 г. До указанного периода это было невозможно, поскольку они зависели от недавних инфраструктурных изобретений, например распространения грамотности и возникновения торговых сетей, которые были интерстициальными по отношению к структурам современных им империй. Впоследствии их функция по обеспечению нормативного порядка была секуляризована в мульти государственную европейскую систему. Поэтому их трансформационный потенциал сократился. В-третьих, рассмотрим государства. Насилие по отношению к историческим записям, осуществляемое посредством слишком общих понятий, иногда доходит до чрезвычайных степеней. Понятие Виттфогеля «восточный деспотизм», например, приписывает древним государственным властям такую степень социального контроля, которая была просто немыслима для любого из исторических государств, рассмотренных в этом томе. На самом деле он описывает (и критикует) современный сталинизм, а не древние государства. Последние практически ничего не могли сделать, чтобы повлиять на социальную жизнь за пределами девятикилометрового предела досягаемости своих армий без того, чтобы затем пришлось полагаться на посредников, автономные группы власти местных уровней. Необходимо вновь подчеркнуть, что ни одно из государств, рассматриваемых в этом томе, не могло знать размера богатств своих подданных (за исключением тех, которые двигались по основным коммуникационным путям), к тому же они не могли извлекать часть этих богатств без заключения сделки с автономными децентрализованными группами. Это кардинально изменится в томе 2, в котором современные представления о власти унитарных государств становятся более релевантными. Государства, рассмотренные в этом томе, разделяют определенные общие качества, но речь идет о «несовременных» особенностях и маргинальности по отношению к социальной жизни. Как я уже отмечал, там, где государства трансформировали социальную жизнь, это редко происходило в терминах власти над другими внутренними властными группами. Эти изменения обычно касались территориального структурирования того, что обычно понимают под «обществами». Но эта способность, которая в целом игнорируется социологическими и историческими теориями, исторически варьировалась. Дело в том, что территориальность и ограниченность также обладали инфраструктурными предпосылками. То, что было достигнуто раннесовременным европейским государством, зависело от роста объема письменной коммуникации, методов учета, налоговых/военных структур и всего прочего, чего в целом не знали более древние государства.ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЛАССОВ
Эти же вопросы встают и в отношениях экономической власти. В этом томе я рассматриваю историю классов и классовой борьбы, используя стадиальную модель их развития, приведенную в главе 7. Теперь эту историю можно обобщить. В главе 2 мы видели, что доисторические общества обычно не содержали классов ни в какой форме. Ни одна группа не могла стабильно институционализировать эффективное обладание землей и/или экономическими излишками, а также лишить других средств к существованию. В этих обществах труд был на самом деле свободным: работа на кого-то еще была добровольной и не была необходимой для выживания. Затем в главах з и 4 мы видели возникновение классов, социальных коллективов с институционализированными дифференцированными правами доступа к средствам существования. В частности, некоторые медленно достигали эффективного обладания более плодородной или единственно доступной землей, а также правами для использования труда других. С настоящего момента классовая борьба между землевладельцами и крестьянами с различными статусами (свободные, крепостные, рабы и т. д.) за права на землю, труд и излишки была общей отличительной чертой аграрных обществ. Возможно, в самых первых цивилизациях городов-государств, рассмотренных в главах 3 и 4, борьба вокруг возникавших классовых различий была важной характеристикой социальной и политической жизни. Нехватка материальных источников ограничивает нас в этой уверенности. Но в последующих более экстенсивных обществах, особенно в первых исторических империях, это было не так. Классовые различия были ярко выраженными, но классовая борьба по большей мере оставалась латентной., то есть находилась на первой стадии развития, без сомнения простиравшейся на определенном местном уровне, но без экстенсивной организации. Конфликт был преимущественно «горизонтально», а не «вертикально» организованным — местных крестьян с большей вероятностью мобилизовали местные старосты в клановую, племенную, патрон-клиентскую, сельскую и прочие типы организаций, а не в классовые организации, как других крестьян. Это было также справедливо, хотя и в меньшей степени для лордов, чьи взаимоотношения преимущественно были индивидуальными и генеалогическими. Им в целом не хватало универсальных классовых чувств и организаций. В этих ранних империях классовая борьба определенно не была движущей силой истории. Я доказываю это в главе 5. Первый признак изменений появился у землевладельцев. В поздних империях, таких как Ассирийская и Персидская (глава 8), мы можем проследить появление экстенсивного (этап 2) и политического (этап 3) класса землевладельцев — экстенсивного, поскольку они обладали единообразным сознанием и организацией на большей части империи, и политического, поскольку они как класс помогали управлять государством. «Имманентная классовая мораль» землевладельцев стала явной. Но эта классовая структура не была симметричной. Крестьяне (и прочие подчиненные) были по-прежнему не способны к экстенсивной организации. Лишь один класс был способен к действиям в своих интересах. Ассиметричные структуры оставались характерными для большинства ближневосточных обществ на протяжении всего аграрного периода. Таким образом, классовая борьба аграрных классов не была движущей силой этого этапа истории, хотя единый правящий класс мог действовать в своих интересах в ближневосточной цивилизации в целом. Железный век принес новые классовые возможности другим регионам (см. главу 6). Наделив большой экономической и военной властью крестьянских землепашцев и пехотинцев, а также торговцев и гребцов галер, возможности железного века усилили коллективную организацию крестьянских собственников и торговцев против аристократов-землевладельцев на относительно небольших социальных пространствах. В классической Греции (глава 7) это вылилось в экстенсивную политическую симметричную классовую структуру (этап 4). Отныне классовая борьба была движущей, если не основной, силой истории в рамках небольших городов-государств. Подобную классовую борьбу, вероятно, унаследовали этруски, симметричная классовая борьба вновь возродилась в ранней Римской республике с повышением способности к экстенсивной организации низов. Тем не менее классовая борьба в Греции и Риме имела особый результат — триумф еще более укрепившейся ассиметричной классовой структуры, где господствовал экстенсивный политический правящий класс. В Македонии и эллинистических империях, а также в зрелой Римской республике/империи экстенсивная идеологическая и организационная солидарность земельных аристократов превосходила солидарность движения граждан низших классов. На этом этапе экстенсивная борьба политических классов не была латентной, но все меньше движущей силой истории. В Риме клиентелизм, а также политические и военные фракции сменили классы в качестве основных акторов власти (глава 9). Тем не менее сам успех подобных империй создал силы противодействия. Поскольку торговля, письменность, чеканка монет и прочие относительно диффузные и универсальные ресурсы власти развивались интерстициально внутри империй, «промежуточные» группы торговцев и ремесленников стали способны к более экстенсивной общинной солидарности. В Риме это в основном проявилось в виде раннего христианства (глава 10). Но на своем пути к власти христианская церковь шла на компромиссы с правящим классом империи. После периода неразберихи и катаклизмов христианство заявило о себе в средневековой Европе (глава 12) как об основном носителе обеих античных классовых традиций — солидарности высшего класса и классовой борьбы народных классов. Поскольку христианская цивилизация была более экстенсивной, чем территория любого из средневековых государств, а также поскольку ее организация пересекала государственные границы, классовая борьба, принявшая религиозные формы, часто была экстенсивной, иногда симметричной и гораздо реже политической, так как редко была направлена на трансформацию государства. Тем не менее с ростом натурализации европейской социальной жизни (главы 13 и 14) произошла политизация классовой борьбы. К концу этого периода наиболее развитыми государствами даже управлял актор, которого я называю «класс-нация». Но до сих пор это в меньшей степени способствовало солидарности низших классов и даже могло ослаблять их, поубавив эгалитаризм религий спасения в целом. Классовая структура приняла более ас-симетричную форму, по крайней мере в Великобритании — основной пример, рассматриваемый в соответствующих главах. Однако в других странах правящий класс был менее гомогенным, а классовая борьба и проблемы кипели, пока не взорвались. Повсеместно два основных процесса универсализации — коммерциализация сельского хозяйства и рост национальной идентичности подготавливали почву для возвращения к четвертой стадии — экстенсивной политической симметричной классовой борьбе (по крайней мере в рамках границ отдельных государств). Возникновение промышленного общества на некоторое время вновь превратило их в движущую силу истории. Имеют место три момента относительно истории классов. Первый момент: классы не всегда играли одинаковую роль в истории. Иногда классовая борьба была ее движущей силой, хотя никогда не была результатом только лишь предшествующих форм классовой борьбы (как утверждают ортодоксальные марксисты). В Греции и Риме военная и политическая организация была необходимой предпосылкой возникновения симметричных классов в той же степени, в какой организация национального государства была предпосылкой развития современных симметричных классов (см. том 2). Но вторая форма классовой структуры также играла основную историческую роль: общество, характеризующееся единым, экстенсивным и политическим правящим классом. Когда у землевладельцев появилось общее чувство сообщества и коллективной организации, произошли существенные социальные изменения и события, как можно обоснованно предположить на примере Ассирии и Персии, а также доказать на примере Рима. Возникновение высшего класса было решающим этапом всемирно-исторического развития. Два весьма различных типа классовой структуры внесли основной вклад как движущие силы истории. И сделали они это в те периоды, когда классовые отношения были намного менее значимыми сетями власти. Таким образом, очевидно, что любая общая классовая теория должна принимать во внимание такие существенные различия. Второй момент состоит в том, что история класса по сути сходна с историей нации. Это важно, поскольку современные мыслители обычно рассматривают классы и нации как противоположные. Общества, в которых классы стали необычно развитыми (Ассирия, Персия, Греция, республиканский Рим, раннесовременная Европа и, разумеется, Европа XIX и XX вв.), были также обществами с ярко выраженным национальным сознанием. Иначе и быть не могло, учитывая, что класс и нация имеют одни и те же инфраструктурные предпосылки. Они являются универсальными сообществами, зависящими от распространения одних и тех же социальных практик, идентичностей и установок на обширных социальных пространствах. Общества, интегрированные более узкими, федеральными, авторитетными сетями власти, не способны к передаче набора диффузных сообщений. Напротив, общества, способные на это, развивают и классы, и нации или зачастую различные ограниченные формы и того и другого (например, «правящий класс-нация»), которые я охарактеризовал. Сходство класса и нации станет основной темой тома 2, поскольку мы обнаружим, что все взлеты и падения классовой и национальной борьбы в XIX и XX вв. всегда были тесно связанными. Любой конкретный сценарий (скажем, революция или государство всеобщего благоденствия) зависел от истории обоих. Обрисовывая постепенное взаимосвязанное возникновение классов и наций на протяжении истории, я подготовил почву для господствующей борьбы за власть в наше время. Третий момент возвращает нас к всемирно-историческому времени, а следовательно, рассматривает, как могла бы выглядеть общая теория класса. Дело в том, что классы, как и любой другой тип акторов власти, имеют определенные инфраструктурные предпосылки, которые постепенно возникают в рамках исторического периода. Классы не могут существовать как социальные акторы, если люди, находящиеся в сходном положении по отношению к ресурсам экономической власти, не могут обмениваться сообщениями, материалами и персоналом друг с другом. Господствующим классам это всегда удавалось легче, чем подчиненным классам, но даже они не могли сделать это в экстенсивных обществах до тех пор, пока постепенно не были развиты инфраструктуры для обеспечения распространения среди них общего образования, образцов потребления, военной дисциплины, правовых и юридических практик и т. п. Что касается подчиненной классовой организации в городах-государствах Греции и Рима, мы имели дело с незначительными социальными пространствами. Но даже коллективная организация горожан на территории, такой же крошечной, как современный Люксембург, среди населения, сопоставимого с населением современного областного города, имела предпосылки, для развития которых потребовалось тысячелетие. Крестьянская ферма железного века, фаланга гоплитов, торговая галера, алфавитное письмо были инфраструктурными предпосылками для классовой борьбы, которые появились около 600 г. до н. э. и большинство из которых уже пришли в упадок перед более экстенсивными, авторитетными инфраструктурами власти к 200 г. до н. э. Подобные примеры показывают, что трансформационный потенциал классов зависит от инфраструктур всемирно-исторического развития. Теория класса с необходимостью должна быть подкреплена организационной теорией. Следовательно, во всех трех отношениях акторы власти и их достижения зависели от их местоположения во всемирно-историческом времени. Идеальные типы, как они определены в главе 1, могут быть применены ко всему историческому спектру, но реальные социальные структуры были более разнообразными, чем хотят показать большинство ортодоксальных концепций. Эти различия в широких пределах выступают типичными и объяснимыми, но только посредством исторических, а не сравнительных и абстрактных структур и теорий. Наши теории и понятия должны быть чувствительны к ходу всемирно-исторического времени.ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛУЧАЙНОСТИ
Но давайте уточним всемирно-исторические паттерны. Во-первых, они могут быть всемирно-историческими, но восприниматься как случайности. Это был единый процесс, но имели место этапы, особенно во время переселения индоевропейцев, а также в европейские Темные века, когда все предшествующие процессы, казалось, свелись к саморазрушению. Поскольку этот светский тренд был кумулятивным, другие «поворотные моменты» могли привести к совершенно различным процессам социального изменения. Усиленные собственной кульминационной динамикой, они могли иметь весьма различные финальные результаты. «Могли иметь» и «чуть было не стали» привели бы к фундаментально другим историческим путям. Если бы защитники ущелья в Фермопилах не стояли насмерть, если бы Александр не пил так горько в ту ночь в Вавилоне, если бы Ганнибал быстрее получил подкрепление после битвы при Каннах, если бы апостол Павел не провозгласил: «Нет ни эллина, ни иудея», если бы Карл Мартелл потерпел поражение в битве при Пуатье или если бы венгры одержали победу в битве при Никополе — все эти случайные «если бы» представляют собой один доминирующий тип. Они могли развернуть вспять движение власти с востока на запад, на которое я указываю как на один из основных всемирно-исторических паттернов этого тома. Как обычно, приводя примеры «чуть было не», я исключаю из их числа высшие силы «великих людей» и битв. Причина этого лишь в том, что в них легче разглядеть всемирно-исторические моменты. Но даже самое широкое социальное движение сталкивается с водоразделами, когда вся сеть анонимных социальных взаимодействий усиливает друг друга, чтобы перевести движение через водораздел, и затем быстро пролагает новый курс социального развития. Перед лицом преследования ранние христиане продемонстрировали экстраординарное мужество, которое в определенном смысле «доказывало», что они были избраны Богом. Испанцы так решительно продвигались на запад в поисках Эльдорадо вопреки жесточайшим лишениям, что должны были рассматриваться как боги. Тем не менее бургунды потерпели поражение в битве при Нанси. А Генрих VIII, очевидно, навсегда обратил Англию в протестантизм в качестве непредвиденного последствия продажи церковных земель джентри. Но мы предполагаем, что существование водоразделов обусловлено тем, что мы слабо понимаем непосредственную мотивацию множества людей, в них вовлеченных. Таким образом, всемирно-историческое развитие действительно происходит, но оно «не обязательно» является телеологическим результатом «мирового духа», «человеческой судьбы», «триумфа запада», «социальной эволюции», «социальной дифференциации», «неизбежных отношений между производственными силами и отношениями» или любой другой из этих действительно «гранд-теорий» общества, которые мы унаследовали от Просвещения и до сих пор радуемся их периодическому возрождению. Если мынастаиваем на рассмотрении истории «изнутри», как и во всех постпросвещенческих подходах, то результат будет теоретически разочаровывающим: история представляется только злоключениями, которые следуют одни за другими. Если всякие глупости структурированы, то только потому, что реально существующие люди навязывают им эти структуры. Они пытаются контролировать мир и увеличивать свои выгоды в нем, устанавливая организации власти различных, но шаблонных типов и силы. Эта борьба за власть и является основной структурирующей силой истории, но ее результаты часто бывают практически равными.НЕРАВНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ВЛАСТИ
Второе уточнение состоит в том, что, хотя в долгосрочной перспективе развитие власти может выглядеть кумулятивным, однонаправленным и одномерным, реальные механизмы, вовлеченные в него, разнообразны и неравномерны. Позвольте мне привести военный пример. К 2000 г. до н. э. армии были организованы настолько, что могли пройти 90 километров, затем дать бой и победить, получить подкрепление от вражеской армии и пополнить свои запасы, а затем снова совершить марш-бросок, чтобы повторить весь процесс. Различные последующие группы усовершенствовали экстенсивные технологии агрессивной завоевательной войны. Этот практически непрерывный и заметно кумулятивный путь развития власти закончился римским легионером — инженером-строителем и «мулом» в той же степени, в какой и бойцом, способным осуществлять марш-броски, рыть, сражаться, осаждать, умиротворять и наводить порядок среди любых врагов. Но затем столь агрессивные экстенсивные технологии стали менее применимы в своего рода интенсивных, требующих местной защиты поздних империях. Легион распался на местные силы милиции. Затем конные рыцари и их свиты с каменными замками и отрядами лучников укрепили эту защитную систему и сдержали самые могущественные армии ранних Средних веков (мусульман, гуннов, татар, монголов). С ростом государства, товарного производства и обмена потребовались более агрессивные экстенсивные силы. В XVII в. наиболее проницательные военачальники сознательно вернулись обратно к римскому легионеру, вновь превратив пехотинца (теперь вооруженного мушкетом) в инженера-строителя и мула. Это был очень неравномерный процесс. В долгосрочной перспективе армии кумулятивно достигли большей мощи. В краткосрочной перспективе каждая форма превосходила предыдущую лишь в том, в чем была призвана ее превзойти. Но между двумя уровнями лежало не развитие, а колебания между двумя типами военной борьбы, которую я упростил до колебания между экстенсивной агрессивной войной и интенсивной оборонительной войной. Следовательно, в рамках процесса в целом социальные предпосылки и социальное воздействие военной власти существенным образом отличались в зависимости от разных ролей. Развитие военной власти было по меньшей мере двухуровневым. Этот аргумент можно обобщить. Я провел различие между типами власти (интенсивной и экстенсивной, авторитетной и диффузной, коллективной и дистрибутивной), каждый из подтипов может быть более или менее приемлемым в той или иной ситуации для той или иной группы или общества. Поэтому вопреки моему предыдущему списку «всемирно-исторических изобретений» общества не могут быть просто расположены одно над или под другим в зависимости от их общей власти. В главе 9, например, я утверждаю, что Римская империя особенно преуспела в экстенсивной власти. Когда исследователи критикуют ее за отсутствие «изобретательности», они смотрят на нее с точки зрения нашего типа «изобретательности», который был по большей части интенсивным. Затем в европейском развитии я выделяю относительно интенсивный этап, продлившийся вплоть до 1200 г.н. э., за которым последовал этап с развивавшимися экстенсивными технологиями власти. Если мы сравним европейскую и китайскую цивилизации, мы можем прийти к заключению, что европейская была более могущественной только начиная с относительно более поздней даты, вероятно, с 1600 г. До этого ее власть была более интенсивной, но менее экстенсивной специализирующейся властью. В очень долгосрочной перспективе Британская империя была более могущественной, чем Римская; в свою очередь, Римская — более могущественной, чем Ассирийская; Ассирийская — более могущественной, чем Аккадская. Но я могу делать подобные обобщения только лишь потому, что я пренебрег всеми случаями вмешательства и всеми неимперскими обществами. Был ли Рим на вершине своего расцвета более могущественным, чем классическая Греция? Столкнись они на поле боя, победа, вероятно, была бы на стороне римлян (хотя исход морского сражения был бы менее предсказуемым). Римская экономика была более развитой. Не столь ясно дела обстояли преимущественно с факторами идеологической и политической власти. Греческий полис осуществлял более интенсивную авторитетную мобилизацию, римляне отдавали предпочтение экстенсивным авторитетным техникам. Римская идеология была широко распространена, но только среди правящего класса империи, греческая идеология распространялась поверх классовых границ. Результат этих сравнений не был только лишь гипотетическим. Это был реальный исторический результат, но он не был одномерным. Рим покорил государства, которые были наследниками классической Греции, но сам оказался покоренным наследником греческой идеологии, христианством. На исходный вопрос, кто могущественнее, невозможно ответить. Власть и ее развитие не являются одномерными.ДИАЛЕКТИКА МЕЖДУ ДВУМЯ ТИПАМИ РАЗВИТИЯ
Но этот негативный ответ ведет нас к возможности другого, более позитивного. Он ставит вопрос, существует ли паттерн для разнообразия интенсивной и экстенсивной, авторитетной и диффузной, коллективной и дистрибутивной власти? В частности, не просматривается ли потенциальный циклический или даже диалектический паттерн в их взаимодействии? Существует ряд свидетельств в пользу того, что это может быть так. В этой частной истории два основных типа конфигураций власти внесли первостепенный вклад во всемирно-историческое коллективное социальное развитие. 1. Империи доминирования объединили военное концентрированное принуждение с попыткой установления территориально централизованного государства и геополитической гегемонии. Поэтому они также объединили интенсивные авторитетные власти вдоль узких путей проникновения, к которым была способна армия с более слабой, но все еще авторитетной и более экстенсивной властью, чем та, которой обладало центральное государство над всей империей и соседними клиентелистскими государствами. Принципиальную трансформационную роль в данном случае играла смесь из военной и политической власти с доминированием первой. 2. Цивилизации с множеством акторов власти, децентрализованные акторы власти, соперничавшие друг с другом в общих рамках нормативной регуляции. Здесь экстенсивные власти были распространены и принадлежали всей культуре, а не какой-либо отдельной авторитетной организации власти. Интенсивной властью обладало множество небольших местных акторов власти, иногда государства в муль-тигосударственной цивилизации, военные элиты, классы и фракции классов, обычно смесь из них. Основными силами трансформации здесь были экономические и идеологические, хотя и в различных комбинациях и часто с политической и геополитической помощью. Основными примерами империй доминирования были Аккадская, Ассирийская и Римская империи; основными примерами цивилизаций с множеством акторов власти — Финикия и классическая Греция, а затем средневековая и раннесовременная Европа. Каждый из этих примеров был весьма креативным в своем использовании и развитии источников социальной власти, изобрел технологии власти, которые фигурируют во всемирно-историческом списке, приведенном выше. Таким образом, каждый внес заметный вклад в единый процесс всемирно-исторического развития. Факт состоит в том, что разные примеры обоих типов с очевидностью демонстрируют, что «единственный образец» или однофакторные теории социального развития не верны. Заметное место среди них занимает неоклассическая экономическая теория, которую я критиковал в различных главах. Эта теория рассматривает историю как историю капитализма в целом. Социальное развитие предположительно выступает результатом раскола общества «естественными силами» соперничества. Хотя эта теория может выглядеть как очевидное сходство с моим типом 2, она не может справиться с обоими основными различиями этой типологии. Во-первых, с этого вообще нельзя начать объяснение креативности типа 1 — империй доминирования, поскольку неоклассическая экономическая теория отрицает возможность такой креативности. Во-вторых, она не фиксирует того, что для понимания типа 2 — цивилизаций с множеством акторов власти необходимо объяснение, связанное с нормативной регуляцией. Регулируемое соперничество не является «естественным». Если соперничество не переросло во взаимное подозрение, агрессию и в результате в анархию, оно требует разработки тонких социальных мер, которые уважают сущностную гуманность, власть и права собственности различных децентрализованных акторов. В свете мировой истории неоклассическая теория должна рассматриваться как буржуазная идеология, ошибочно постулирующая, что современные структуры власти нашего общества легитимны, поскольку они «естественны». Но это не единственное влияние ложной теории. Я также уже критиковал более претенциозные теории исторического материализма, рассматривающие классовую борьбу как основной двигатель развития. Классовая борьба играет, очевидно, важную роль в типе 2, поскольку классы являются одними из основных выделяемых в таких цивилизациях децентрализованными акторами. Но они не являются единственными акторами и не всегда являются самыми важными. К тому же классовая борьба обладает меньшей креативной значимостью в большинстве примеров типа 1, как я утверждаю, в частности, в главах 5 и 9. Действительно, учитывая различия между двумя типами, трудно принять некую единую конфигурацию власти в качестве играющей решающую динамическую роль в мировой истории: не «идеи как стрелочник» и не всеобщий «процесс рационализации», как иногда считал Вебер, не разделение труда или социальная дифференциация, как заключали авторы от Конта до Парсонса. Тем более не единый исторический переход от одного определенного вида креативности к другому, скажем от военного общества к промышленному, как утверждает Спенсер. Оба типа динамизма, по всей видимости, смешивались и сменяли друг друга на протяжении большей части мировой истории. Из этого, в свою очередь, возникает еще более сложный потенциальный паттерн. Аккадская империя (и ее более ранние эквиваленты где бы то ни было еще) выросли из изначальной месопотамской цивилизации с множеством акторов власти. Финикия и Греция возникли на границах ближневосточных империй и зависели от них. Римская империя подобным образом зависела от Греции. Европейское христианство поднялось на римских и греческих развалинах. Была ли между двумя этими типами определенного рода диалектика? Был ли каждый из них способен на инновации, прежде чем достигал пределов возможностей своей власти? И было ли дальнейшее социальное развитие возможным, когда возникал противоположный ему тип, чтобы использовать именно то, что не мог предшествующий? Утвердительные ответы на эти вопросы будут, без сомнения, предполагать общую теорию всемирно-исторического развития. Но начинать ответ следует осторожно. Вспомним конъюнктурные качества этих процессов. Даже за время, превышающее пять тысячелетий, я нахожу всего несколько примеров, четко соответствующих одному из типов 1 или 2. К ним можно добавить несколько примеров, которые больше относятся к одному типу, чем к другому: поздние месопотамские империи, Персидская империя относились преимущественного к типу 1; города-государства Малой Азии и Палестины в начале первого тысячелетия до новой эры и предположительно этруски относились по большей части к типу 2. Но мы не обладаем достаточно большим количеством примеров и потому даже близко не стоим к возможности использовать статистический анализ. Макроистории просто не хватает, чтобы удовлетворить потребности сравнительной социологии. Последовательность типов не является неизменной, примеры не относятся исключительно к одному из типов, процессы смены не обладают социальным сходством или сходством географического пространства. Если здесь и существует взаимосвязь, вероятно, нам не следует называть ее «диалектической», учитывая историю как сущность и как систему. Вместо этого нам необходимо исследовать повторяющееся креативное взаимодействие между примерами, которые близки к двум идеальным типам динамизма власти. Этот более скромный уровень теории находит больше поддержки. Более того, некоторые из только что упомянутых возражений на самом деле служат дополнительным подтверждением подобной модели. Ни одна из империй на самом деле не была исключительно милитаристической, ни одна из цивилизаций соперничества не была всецело децентрализованной. Некоторые из менее чистых примеров, такие как Персия (рассмотренная в главе 8), смешивают практически равные пропорции обоих типов. Внутри относительно чистых примеров внутренняя динамика часто сходна с внешними процессами креативного взаимодействия. В главе 5 я утверждаю, что первые империи доминирования содержали диалектику развития (поскольку она была постоянной, я называл ее диалектикой). Через принудительную кооперацию их государства увеличивали коллективную социальную власть. Но эта власть не могла и дальше оставаться исключительно под контролем государства. Его собственные агенты «растворялись» в «гражданском обществе», забирая с собой государственные ресурсы. Поэтому успех государства также подкреплялся властью и «частной собственностью» децентрализованных борцов за власть, таких как аристократы и купцы, а ресурсы, которые начинали как авторитетные, заканчивали как диффузная власть — грамотность является превосходным примером этого. В этих диалектиках особенно интересно развитие частной собственности, поскольку то из ее перспективы, что происходило в империях доминирования, было всего лишь экстремальным примером более широкого исторического развития. Наши общества рассматривают частную собственность и государства как две различные противоположные силы. Либерализм считает права собственности как возникшие в ходе борьбы индивидов за эксплуатацию природы, извлечение ее излишков и передачу их семье или последующим поколениям. Из этой перспективы государственная власть, по сути, выступает внешней по отношению к правам частной собственности. Государство может быть использовано для институционализации прав собственности или рассматриваться как угроза, но государство не является частью создания частной собственности. Тем не менее мы не раз видели, что это противоречит историческим фактам. Частная собственность изначально возникала или обычно преумножалась через борьбу и фрагментирующие тенденции публичных организаций власти. Это чаще всего происходило тогда, когда централизованные коллективные единицы власти распадались на более мелкие фрагменты. Те, кто командовал локальными коллективными единицами, могли заполучить дистрибутивную власть над ними и скрыть ее от более крупных единиц, то есть могли сделать ее частной. Со временем она институционализировалась как частная собственность, признанная обычаем или законом. Мы видели, что это происходило в рамках трех основных прорывов: в доисторические времена у истоков цивилизаций и стратификации (главы 2 и 3), в империях доминирования по мере усиления процессов децентрализации и фрагментации (главы 5 и 9) и в средневековом христианском мире, когда землевладельцам и богатым крестьянам удавалось скрыть местные ресурсы власти, находившиеся под их контролем, от слабых государств и превратить свои обычные права в писаный закон (глава 12). По своему происхождению частная собственность не была чем-то противостоявшим публичной сфере, то же самое верно и для большей части ее исторического развития. Она возникла из конфликтов и компромиссов между соперничавшими коллективными акторами власти в публичной сфере, которая обычно была двух типов: местная (локальная) и потенциально централизованная, вовлеченная в конфедеративные отношения с другими. Частная собственность возникла из публичной, хотя и не унитарной общественной сферы и из использования коллективной власти в ее рамках. Теперь давайте обратимся к динамике другого идеального типа — цивилизаций с множеством акторов власти. В этом случае указанная динамика также, очевидно, вела к ее противоположности, к большей централизации гегемона, хотя это и не был такой же последовательный процесс (а потому я не повесил на него ярлык «диалектики»). Именно подобным образом мультигосударственная цивилизация ранней Месопотамии двигалась к господствовавшему контролю одного города-государства, а затем скатилась к империи доминирования. Греческая мультигосударственная цивилизация двигалась к альтернативной гегемонии Афин и Спарты, перед тем как пасть перед македонским империализмом. Европейская цивилизация двигалась от высоко децентрализованной регулирующей структуры, в которой регуляторами выступали церковные институты, государства, союзы военной элиты и торговые сети, к регуляции путем мультигосударственной дипломатии и затем к практически гегемонистской власти Великобритании (этот последний процесс будет рассмотрен в томе 2). Таким образом, в обоих типах довольно часто повторялось взаимодействие между силами, которые отдаленно напоминают основные характеристики двух указанных идеальных типов. И вновь все происходящее начинает выглядеть как единый всемирно-исторический процесс. Он протекал примерно следующим образом: преследуя свои цели, люди устанавливали организации сотрудничества, которые включали коллективную и дистрибутивную власть. Некоторые из этих организаций обоснованно обладали большей логистической эффективностью, чем другие. На этом первом уровне генерализации мы могли бы выделить четыре ресурса власти как высокоэффективные. Но затем мы можем выделить две более широкие конфигурации этих ресурсов — империи доминирования и цивилизации с множеством акторов власти, которые были наиболее эффективными. На самом деле они были настолько эффективными, что рассматриваются в качестве двух наиболее устойчивых прорывов исторического развития человеческой власти. Тем не менее каждый тип в конце концов достиг пределов своих возможностей. Ему не хватало адаптивности перед новыми возможностями или угрозами, созданными неконтролируемым интерстициальным развитием новых комбинаций сетей власти. Успех происходил из стабильной институционализации прежде доминировавших структур власти, которые теперь становились анахронизмами. Успех их развития приводил в движение другие сети власти, которые были противоположностью их собственным институтам. Империи доминирования непреднамеренно создавали более диффузные отношения власти двух основных видов в рамках своих интересов: (1) децентрализованные, владеющие собственностью землевладельцы, купцы и ремесленники, то есть высший и средний классы; (2) идеологические движения, распространявшиеся именно в среде указанных классов, которые также воплощали более диффузное и универсальное понятие сообщества. Если диффузные отношения власти продолжали расти интерстициаль-но, то возникала децентрализованная цивилизация с множеством акторов власти, будь то в результате распада империи или постепенной метаморфозы. Но, в свою очередь, возникающая цивилизация могла институционализировать себя, а затем также стать менее адаптивной в изменившихся условиях. Она также создавала свои противоположные интерстициальные силы, которые подталкивали ее к государственной централизации и милитаристическому насилию, вероятно, совпадавшими по времени с появлением геополитического государства-гегемона, которое могло в конце концов вновь привести к возникновению империи доминирования. В главе 1 я называю это общей моделью креативного взаимодействия институционализации и интерстициальных сюрпризов. Таким образом, я немного наполнил ее конкретикой. Но я не хочу превращать эту модель в «сущность истории» в силу ряда «вероятностных» утверждений в предыдущем разделе. В детальной истории, которую я подробно изложил, подобный паттерн появлялся по ряду причин. Имело место существенное различие во временной протяженности, занимаемой каждым отдельным этапом креативного взаимодействия. Детали существенным образом различались. То же самое касалось адаптивности доминирующих институтов. Я отмечал это, например, когда противопоставлял Римскую и Ханьскую империи. Обсуждая проблему «заката и крушения» в главе 9, я настаиваю, что перед поздней Римской империей были открыты альтернативные возможности: христианизация варварской элиты и дальнейшее завоевание. Тем не менее империя все же рухнула. Династия Хань столкнулась с похожей ситуацией. Ей удалось цивилизовать варваров и инкорпорировать диффузный класс и силы идеологической власти в свою имперскую структуру. Таким образом, развитие жизнестойких джентри/уче-ных, бюрократической/конфуцианской властной конфигурации направило Китай по совершенно другому историческому пути развития — три относительно ранних прорыва социального развития (Хань, Тан и Сун), за которыми последовали династические циклы, стагнация и в конце концов упадок. Мне также не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто я утверждаю, что судьба Запада заключалась в скатывании к более централизованным и насильственным формам общества и уж тем более к «военному социализму» Советского Союза. Как будет показано в томе 2, креативное взаимодействие между двумя типами конфигураций власти продолжается и в наше время, хотя более сложным образом, чем в прошлом. Что касается всеобщего процесса, я хочу подчеркнуть, что структурированный центр состоит из креативного взаимодействия между двумя макроконфигурациями власти и часть креативности заключается во множестве путей развития и соответствующих им результатах.СМЕЩЕНИЕ ВЛАСТИ
Третье и последнее уточнение, которое необходимо сделать о модели всемирно-исторического развития, касается его географического непостоянства. Мне приходится неустанно повторять, что те, кто считает мое исследование историческим, на самом деле ошибаются. Я написал исследование, посвященное развитию некой абстракции — власти. Я не описывал хроники одного «общества», государства или даже места, выбирал общества, государства и географические регионы довольно неупорядоченно, по мере того как они становились передовым фронтом власти, и оставлял их, когда они переставали им быть. Я перестал интересоваться Месопотамией, Ближним Востоком, Грецией, Италией и совсем недавно континентальной Европой. Это как нельзя лучше демонстрирует, что передовой фронт власти мигрировал на протяжении большей части истории. Следовательно, существует еще один потенциальный паттерн всемирно-исторического развития, который нельзя принять. Это не эволюция в статическом смысле слова. Развитие не может быть объяснено в терминах имманентных тенденций общества. Более поздние высокие стадии развития власти не могут быть объяснены исключительно в терминах характеристик предыдущих низших стадий. Это невозможно, когда мы имеем дело с разными географическими и социальными областями на двух этапах. Теории социальной эволюции полагаются на системное видение социального развития — на его «структурную дифференциацию», «противоречия» или «диалектики», соперничество между «наиболее приспособленными» людьми, группами или государствами, «процессы рационализации» и т. д. На это есть три возражения. Во-первых, на протяжении всей истории, рассмотренной в этом томе, никогда не существовало социальной системы. «Общества» всегда были частично накладывавшимися, пересекавшимися сетями власти, открытыми как для внешнего, трансграничного, интерстициального, так и для внутреннего воздействия. Во-вторых, более системные общества, в смысле жесткой структурированности и ограниченности, не играли большей роли в социальном развитии, чем менее системные. В-третьих, социальное развитие мигрировало, по-видимому, довольно неупорядоченно, будучи обязано иногда относительно «внутренним» процессам изменения, иногда относительно внешним, а скорее сложному взаимодействию между ними. Однако вопрос в том, структурирован ли процесс интерактивной миграции власти каким-либо еще образом, отличным от эволюционного? Да, структурирован, поскольку мы можем обнаружить два типа паттернов в этой миграции. Первый паттерн делает более точным выявленный ранее паттерн институционализации/интерстициального сюрприза. Это расширенная версия теории «военных вождей пограни-чий», сформулированной в главе 5. Регионально доминирующая, создающая институты, развивающаяся власть также повышает властные возможности соседей, которые перенимают ее техники власти, но адаптируют их к своим отличающимся социальным и географическим условиям. Там, где доминирующая власть достигает стабильности, специализированных институтов, будь то империи доминирования или цивилизации с множеством акторов власти, некоторые из интерстициально возникших сил, которые она генерирует, могут выйти за ее границы и направиться в приграничные области, где они будут менее ограничены институциональными или противоположными структурами власти. Поэтому носителями интерстициального сюрприза часто были военные вожди пограничий. Всемирно-исторический процесс овладевает их кочевыми ногами. Однако вновь я выдвигаю «вероятностные» суждения. Такая тенденция действительно имела место, но она не была инвариантной. Интерстициальные силы иногда эксплуатировались в географическом (если не «официальном») ядре существующего общества, как это, например, было в поздней Римской империи. В любом случае эта тенденция относительно военных вождей пограничий на данном этапе мировой истории могла быть в первую очередь обусловлена вторым типом миграционного паттерна. Второй паттерн касался движения передового фронта власти в западном, и северо-западном направлении. Я уже обсуждал это в первой части данной главы и не стану возвращаться к деталям. Надо лишь отметить, что первая часть этого процесса по большей части выступает следствием моего метода. Передовой фронт двигался на северо-запад от Шумера к Аккаду, затем дальше на северо-запад, на юг Малой Азии, в ассирийские земли. Но я игнорировал контртенденции этого периода, поскольку Азия не была в фокусе моего внимания. В рамках античного периода вплоть до Персидской империи экспансия происходила на восток к Индии и на северо-запад в Центральную Азию. Впоследствии лишь ислам объединил экспансию на запад и восток, но к тому времени западные границы ислама были реальным барьером для расширения. Но нерукотворной частью движения на запад были Финикия, Греция, Рим, и поздние европейские регионы на различных этапах развития постепенно смещали передовой фронт власти на запад, пока он не достиг Атлантического побережья. В следующем томе эта миграция продолжится на запад в Америку, а также пойдет из Европы на восток. Теперь стало очевидно, что не существует никаких общих преимуществ у акторов власти на западе по сравнению с востоком и югом. Как я объяснил в последней главе, движение в западном и северо-западном направлениях было результатом случайного совпадения трех экологических и социальных обстоятельств: (1) географических барьеров пустыни на юге, (2) барьеров могущественных империй и конфедераций со структурой, напоминающей ближневосточные на востоке и северо-востоке, и (3) взаимосвязанных экологических особенностей запада. Так случилось, что геологическая комбинация последовательного залегания более тяжелых, влажных, с глубоким пахотным слоем, увлажняемых дождями почв и судоходных разнообразных побережий Средиземного, Балтийского, Северного морей и Атлантического океана создавала возможности для развития на северо-западе в решающих, но повторяющихся исторических обстоятельствах. Северо-западные военные вожди пограничий, хотя действительно были относительно неподконтрольными, способствовали распространению и инновации доминирующих институтов (как предполагает теория военных вождей пограничий). Однако их постоянный успех был, разумеется, вовсе не социальным, а гигантской случайностью природы, связанной с серией исторических совпадений. Железо было открыто как раз тогда, когда торговля Восточного Средиземноморья могла «взлететь» (take off); так случилось, что залегало оно в тяжелых почвах, подходящих для возделывания железным плугом на всей территории Европы. Как раз тогда, когда Рим пал, а христианский мир уцелел, скандинавы открыли Балтийское и Северное моря, а германцы проникли глубже в почвы. Когда европейские государства стали соперничать на юге и в центральных областях, ислам перекрыл Гибралтарский пролив и Америка была открыта благодаря навигационным техникам Атлантического побережья. Я изо всех сил старался отыскать макропаттерны во всех событиях этой главы. Но необходимой чертой всех паттернов было случайное движение на запад всемирно-исторического развития. Это должно ограничить любые «значимые обобщения», которые мы можем предпринять в ответ на вызов Вебера, упомянутый выше. В этой главе я сделал обобщение об организационных средствах, предложенных четырьмя ресурсами власти, о двух наиболее могущественных конфигурациях этих ресурсов: империях доминирования и цивилизациях с множеством акторов власти, о диалектике между ними как ядре всемирно-исторического развития, а также о механизме институцио-нализации/интерстициального сюрприза, посредством которых это развитие происходит. Тем не менее в конечном итоге это единственные обобщения о развитии одной цивилизации, Ближнего Востока и Европы, которые также содержат множество случайных черт. Я остановил часы на 1760 г., даже до апогея этой цивилизации. В томе 3 я поднимусь на более высокий уровень теоретического обобщения, но сначала я должен обрисовать паттерны и случайности промышленных обществ.БИБЛИОГРАФИЯ
Balibar, Е. (1970). The basic concepts of historical materialism. In Reading Capital, ed. L. Althusser and E. Balibar. London: New Left Books. Hall, J. (1985). Powers and Liberties. Oxford: Basil Blackwell. Kautsky, J. (1982). The Politics of Aristocratic Empires. Chapel Hill: University of North Carolina Press. Parsons, T. (1966). Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Weber, M. (1968). Economy and Society. 3 vols. Berkeley: University of California Press. Вебер, M. (2016—…). Хозяйство и общество. M.: Изд. дом ВШЭ.Примечания
1
UCLA — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. (обратно)2
Interstitial (от Interstitium — расстояние. промежуток) — интерстициальный, промежуточный, внутритканевый, относящийся к промежуточным пространствам, одно из центральных теоретических понятий М. Манна. В частности, при помощи понятия «интерстициальное развитие» он описывает процесс, когда нечто новое не возникает и не развивается из старого, а долгое время в нем существует, получая развитие и выходя на первый план при определенных условиям — Примеч. пер. (обратно)3
IEMP (Ideology, Economy, Military, Political) — аббревиатура, соответствующая первым буквам четырех источников социальной власти, выделяемых М. Манном: идеология, экономика, военные силы, политика (ИЭВП). — Примеч. пер. (обратно)4
Статутное право — право, закрепленное в законах, «писаное» право. (обратно)5
Аллювиальное, приливно-отливное или наносное сельское хозяйство, полностью зависящее от сезонных факторов, хозяйство, основанное на возделывании аллювиальных почв, формирующихся благодаря аллювиальным отложениям в речных поймах и дельтах. Примером аллювиального сельского хозяйства является сельское хозяйство Древнего Египта, где плодородность почв повышалась после разливов Нила благодаря наносу водорослей, которые служили естественным удобрением. — Примеч. пер. (обратно)6
Гидденс (1981) также различает четыре типа институтов власти: символический порядок/режимы дискурса, экономические институты, закон/режимы санкций/ репрессий и политические институты. (обратно)7
Фактически работа вышла в 1896 г. (обратно)8
Эндосмос и экзосмос (биол. понятия) — диффузия веществ из окружающей среды внутрь клеток и, соответственно, обратно через их полупроницаемые мембраны. — Примеч. пер. (обратно)9
Пикинеры — вид пехоты в европейских армиях XVI — начала XVIII в., вооруженной 5-6-метровыми пиками, которые обусловливали ее эффективность в обороне от кавалерии, а также линейно-групповое построение и низкую мобильность. (обратно)10
Битва при Куртре, известная как «Битва золотых шпор» в ходе Фламандского восстания 1300 г., была первой средневековой битвой, в которой пехота разгромила рыцарскую конницу. — Примеч. пер. (обратно)11
7. В переводе с фр. «мораль», «боевой ;\ух.». — Примеч. пер. (обратно)12
С этого момента я буду использовать термин «способ производства» вместо словосочетания «способ производства, обмена, распределения и потребления». Тем самым я не подразумеваю преимущества производства над другими сферами. (обратно)13
Регулировщик, диспетчер. (обратно)14
Подробнее см.: Steward 1963: 122–155; Fried 1967: 154–174; Lee and DeVore 1968; Wobst 1974- (обратно)15
В оригинале Parish дословно означает приход (территория, находящаяся в ведении одного священника), округ, район, административно-территориальная единица в Средние века. В данном случае, поскольку речь идет о зонировании, осуществляемом этнологией, мы говорим об этносе как о пространственной единице. — Примеч. пер. (обратно)16
«Кубковая культура», «кубковый стиль», «кубковый народ» — термины, введенные английским археологом Джоном Аберкромби для обозначения археологической культуры, распространенной в доисторической Западной Европе начиная с позднего неолита вплоть до раннего бронзового века. Отличительной чертой этой культуры является общая форма керамических питьевых сосудов (кубков). — Примеч. пер. (обратно)17
Донгшбнская культура— доисторическая археологическая культура азиатского бронзового века, существовавшая на территории Индокитая. Название происходит от вьетнамского поселения Донгшон, где были обнаружены ее артефакты (наиболее известны бронзовые ритуальные барабаны). — Примеч. пер. (обратно)18
Хоупвеллская культура, или Традиция Хоупвелл, — комплекс сходных археологических культур североамериканских индейцев, существовавших в 200–500 гг.н. э. на юго-востоке современных С ША до юго-восточного побережья озера Онтарио. — Примеч. пер. (обратно)19
Джеронимо — военный предводитель чирикауа-апачей, который в течение 25 лет возглавлял борьбу против вторжения США на землю своего племени, а в 1886 г. был вынужден сдаться американской армии. — Примеч. пер. (обратно)20
Объект всемирного культурного наследия, относящийся к эпохам позднего неолита и ранней бронзы, находящийся в графстве Уилтшир на юге Англии. — Примеч. пер. (обратно)21
Силбери-Хилл — 40-метровый искусственный (меловой) курган неподалеку от Эйвбери. — Примеч. пер. (обратно)22
Мтетва — племенное вождество в Южной Африке, возникшее в XVIII в. в восточной части Южной Африки, к югу от залива Делагога, от народа нгуни. Иногда Мтетва, в дословном переводе означающее «тот, кто правит», называлась «империей». — Примеч. пер. (обратно)23
ю. Дингисвайо (1780? — 1817) — вождь Мтетва, при котором оно достигло наибольшего развития. Военная модернизация и завоевания Дингисвайо способствовали консолидации территорий вдоль юго-восточного побережья Южной Африки, впоследствии сформировавших этническую общность и державу зулу. — Примеч. пер. (обратно)24
и. Наталь — республика Наталь, государство буров (1839–1843), в настоящее время провинция ЮАР, входящая с 1994 г. в состав Квазулу-Наталь. — Примеч. пер. (обратно)25
Чака (1787?-1828) — основатель и первый правитель державы зулу Квазулу, сформировавшейся на месте распавшегося вождества Мтетва, военачальник Дингисвайо и продолжатель его дела. — Примеч. пер. (обратно)26
Допуская, что древние перуанцы обладали функциональным эквивалентом письменности в рамках их уникальной системы кипу (глава 4). (обратно)27
Вот почему «демографическое давление» было менее значимым в качестве фактора роста цивилизаций, чем обычно предполагают. Демографические модели возникают отчасти для того, чтобы компенсировать недостатки других влиятельных моделей, например модели «инвайронментальных ограничений», предложенной Carnerio 1970, 1981; Webb 1975. (обратно)28
«Плодородный полумесяц» — условное название региона на Ближнем Востоке, объединявшего плодородные аллювиальные земли от Нила до Тигра и Ефра-та и составлявшего «колыбель современной цивилизации». Термин введен американским археологом Дж. Г. Брэстедом в книге «Древние летописи Египта» (1906 г.). Располагался на современных территориях Египта, Ливана, Израиля, Сирии, Ирака, юго-востока Турции и северо-запада Иордании. —Примеч. пер. (обратно)29
Я могу добавить, что, хотя и рождение вне брака, и долговая кабала могли «изнутри» производить эксплуатируемый труд, они не обеспечивали достаточного количества или стабильности институализированной эксплуатации в примитивных обществах, необходимых для стратификации. (обратно)30
Гибсон (Gibson 1976) настаивал на значимости случайных факторов для повышения этой роли у шумеров. Около 3300 г. до н. э. восточная ветвь Евфрата внезапно высохла, поскольку вода нашла новые каналы на запад. Таким образом, массовая эмиграция к западной ветви была результатом и с необходимостью организована на экстенсивной основе (возможно, посредством храмов). По его убеждению, города Киш и Ниппура были основаны по этой причине. (обратно)31
Доказательства различных форм собственности у шумеров могут быть найдены в работах Kramer 1963; Gelb 1969, Lamberg-Karlovsky 1976; Oates 1978. К сожалению, непереведенными остаются исследования советской школы Дьяконова, которые подчеркивают раннюю роль концентрации частной собственности, за редким исключением(01акопоАГ 1969) — О ведении бюджета храмами см. Jones 1976. (обратно)32
Помимо уже процитированных работ источниками, посвященными гидравлическому сельскому хозяйству, являются: Chi 1936; Eberhard 1965: 42–46, 56–83; Perkins 1968; Needham 1971: IV, 3; Elvin 1975. Я также хочу отметить результаты двух интересных дебатов в Лондонской школе экономики, семинара «Паттерны истории», 1980–1981, проведенных Марком Элвином и Эдмундом Личем. (обратно)33
Источники, используемые в этом разделе: Allchin and Allchin 1968; различные эссе Lamberg-Karlovsky and Sabloff 1974; Sankalia 1974: 339–391; Chakrabarti 1980 and Agra-wal 1982: 124–197. (обратно)34
Основные источники этого раздела: Cheng 1959, i960; Creel 1970; Wheatley 1971; Но 1976; Chang 1977; Rawson 1980. (обратно)35
Лессовые почвы — одна из уникальных материнских пород черноземных и сероземных почв, отличающаяся макропористой структурой, повышенной размокае-мостью и размываемостью. Поры леса значительно превосходят размеры частиц, из которых он состоит. — Пр имеч. пер. (обратно)36
Основные источники: Wilson 1951; Vercoutter 1967; Cottrell 1968; Edwards 1971; Smith 1971; Hawkes 1973; Butzer 1976; Murray 1977; Janssen 1978; O’Connor 1974, 1980. (обратно)37
Хотя они могли бы быть удивлены строительством ракетных шахт MX в США (см. том 2) — оба памятники непроизводительного труда. Для современных авторов вообще характерно включаться в спекулятивные рассуждения о строительстве пирамид: «Что было на уме тех рабочих, которые возводили настолько величественные и тем не менее бесполезные памятники?» и т. д. Возможно, мы могли бы спросить об этом рабочих и строительных инженеров Юты. (обратно)39
Отсылка к «рациональной неугомонности» (rational restlessness), которая, по мнению М. Вебера, была одной из ключевых детерминант динамизма христианской Европы в раннее Новое время (см. главу 12). По всей видимости, Манн хочет показать, что некоторая «неугомонность» была присуща и Египту рассматриваемого периода, но она не была «рациональной», а также со временем стихла. — Примеч. пер. (обратно)40
Я использовал следующие источники: Nilsson 1950; Branigan 1970; Renfrew 1972; Chadwick 1973; Dow 1973; Matz 1973; Warren 1975; Cadogan 1976. (обратно)41
Помимо источников, которые уже упоминались, краткое изложение данных о Мезоамерике можно найти в работе O’Shea 1980 и более подробное — в работе Sanders and Price 1986. См. также эссе Jones and Kautz 1981. (обратно)42
ю. Пернатый Змей — Уицилопочтли или Колибри-Левша. Ацтеки, как и их предшественники, населявшие Мезоамерику, поклонялись божеству, представляемому в виде змея, покрытого перьями, чей «второй приход» оканчивал ацтекский календарь и был ошибочно связан ацтеками с испанскими конкистадорами, принятыми за «бледных предков». — Примеч. пер. (обратно)43
(обратно)
44
Основные источники по этому разделу: Lanning 1967; Murra 1968; Katz 1972; Schae-del 1978; Morris 1980, а также различные эссе Jones and Kautz 1981. (обратно)45
suit of Power (1983), «В погоне за мощью» (2008). За археологическими подтверждениями обращайтесь к Ядину (Yadin 1963). (обратно)46
Приблизительная хронология различных династий представлена на рис. 5.1. (обратно)47
Эдикт Диоклетиана о ценах — один из исторических примеров государственного ограничения цен на товары первой необходимости в Римской империи в конце 111 в. н. э., известный благодаря записям, найденным в XVI11 и XI X вв. в Кари, Египте и на островах Средиземного моря. В данном случае М.Манн приводит этот пример, поскольку согласно эдикту рост цен объяснялся не только алчностью торговцев, но и транспортными издержками. — Примеч. пер. (обратно)48
Относительно этого в эдикте, к сожалению, есть некоторая двусмысленность (подробнее см. в главе 9). Если в качестве наземного транспорта использовались верблюды, эдикт сокращал издержки на 20 %. (обратно)49
Фуражировка — заготовка или сбор в поле или населенных пунктах продовольствия и фуража (корма для животных), производимая войсками. — Примеч. пер. (обратно)50
Речь идет о рассказе Ксенофонта «Анабасис Кира», который повествует о неудачной экспедиции Кира Младшего и об отступлении 10000 греков из Персидской империи. Гибель Кира Младшего оставила нанятых им греческих наемников в центре незнакомой, враждебной им страны. Под предводительством Ксенофонта они пробирались на север, добывая пропитание в стычках с местными жителями. — Примеч. пер. (обратно)51
«Можно создать империю, сидя верхом на коне, но нельзя управлять империей, сидя верхом на коне (оставаясь в седле)». Высказывание, приписываемое Чингисхану или Чуцай, чжун-шу лину (первому министру) при дворе монгольских ханов. — Примеч. пер. (обратно)52
Спенсер использует свою теорию предельно общим образом для всей древней истории в целом. Я раскаиваюсь в том, что в своей статье 1977 г. вслед за ним делаю расширенное обобщение о принудительной кооперации. В данной работе я применяю это понятие относительно свободно к империям, обсуждаемым в этой главе, а также к Римской империи (см. главу 9) и более настороженно по отношению к некоторым империям, испытавшим вмешательство, — Ассирийской и Персидской. Это понятие совершенно неприменимо к таким цивилизациям, как классическая Греция и Финикия, и применимо весьма косвенно к ранним «индоевропейским» обществам, рассмотренным в главе 6. (обратно)53
Флективный язык (от лат. flectivus — «гибкий») — тип синтетического языка, имеющего строй, при котором доминирует словоизменение при помощи флексий (окончаний). Флективным языкам противопоставляются агглютинативные, в которых доминирует агглютинация — словообразование путем «приклеивания» различных форматов (суффиксов и префиксов), причем каждый из них несет только одно значение. Язык аккадцев был флективным, а язык древних шумеров — агглютинативным. — Примеч. пер. (обратно)54
ю. Бодец — колющее, ранящее орудие, заостренный кол. (обратно)55
«Нуминозное» — понятие Якобсена, выражающее нечто таинственное, ужасающее, завораживающее, неизменное и непознанное. — Примеч. пер. (обратно)56
Полезными общими источниками для этого раздела были Crosslans 1971, Drower 1973 и Gurney 1973. (обратно)57
Дискуссия о значении открытия железа по большей части базируется на работе Хичелхейма (Heichelheim 1958). (обратно)58
Основные источники по Финикии: Albright 1946; Gray 1964; Warmington 1969; Harden 1971; Whittaker 1978; Frankenstein 1979 и, разумеется, Ветхий Завет. (обратно)59
О происхождении чеканки монет см.: Heichelheim 1958; Grierson 1977. (обратно)60
За исключением работ, уже упомянутых в главе, основные источники, которые были использованы в этом разделе, следующие: Snodgrass 1971, 1967; Hammond 1975; Hopper 1976; Meiggs 1972; Austin and Vidal-Naquet 1977; Davies 1978; Murray 1980; Vernant 1981; and Runciman 1982. (обратно)61
(обратно)
Последние комментарии
6 часов 18 минут назад
8 часов 49 минут назад
8 часов 57 минут назад
1 день 20 часов назад
2 дней 28 минут назад
2 дней 2 часов назад