[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
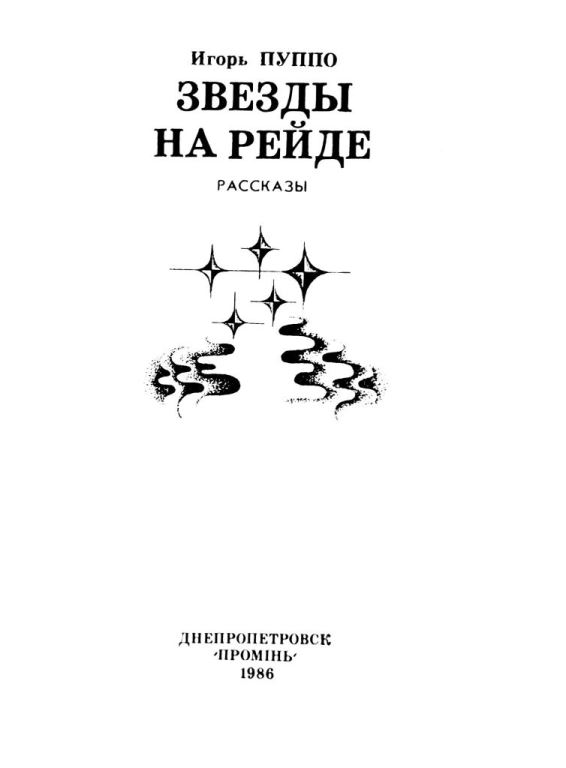
Игорь ПУППО ЗВЕЗДЫ НА РЕЙДЕ РАССКАЗЫ
NO PASARAN!
В моем маленьком домашнем музее, рядом с камешками, собранными у подножья Парфенона, возле пирамиды Хофу, и черно-белым осколком гранита, привезенным сыном Виталькой из Антарктиды, хранится целлофановый мешочек с горсткой крымской земли. Рыжеватобурая, мерцающая кристалликами сивашской соли, эта безжизненная, словно лунный грунт, щепотка щемяще дорога мне, потому что взята на том самом месте, где соль земли обильно смешана с соленой человеческой кровью… Двадцать лет назад я уже писал об этих парнях, об их удивительном подвиге, но теперь, по прошествии стольких лет, стали известны новые факты их жизни и смерти, и свет их метеоритной вспышки существеннее видится на фоне полыхающего пожара Великой Отечественной войны, на фоне всенародного подвига. А началось с того, что испанские товарищи, живущие в нашем городе, пригласили меня принять участие в памятной поездке, и я, конечно же, согласился и прихватил с собой десятилетнего сынишку-пионера: для него все, что предстоит увидеть и услышать, будет особенно полезным. Испания, органично вошедшая в детство моего поколения, непременно должна была войти в сердце и ему, рожденному в 1955 году…На любом перекрестке планеты,Эту землю и солнце любя,По одним нам знакомой приметеЯ узнаю, товарищ, тебя.На улыбку улыбкой отвечу,Только ты, как условленный знак.Подними мне, товарищ, навстречу,По-рот-фронтовскисжатый кулак!..
* * *
Детство моего поколения грезило сражающейся Испанией, жило ею. Мы пели о ней песни, мы сетовали, что не родились на десяток лет раньше, и с гордостью носили шапочки-испанки с кисточкой впереди, на манер бойцов-республиканцев. В некоторых наших пионерских дружинах и по сей день носят такие шапочки, только надо бы почаще рассказывать детям, откуда они пришли к нам и когда… Зеленые младшеклассники, мы приветствовали друг друга тогда лозунгами республиканцев «Но пасаран!» — «Они не пройдут!» — и поднимали при этом сжатую в кулак ладонь. В 1940 году, став пионером, я, помнится, отыскал в книге для чтения стихотворение «Синий автобус» — о том, как вывозили из пылающего Мадрида ребятишек, — увозили от смерти, а привезли — в смерть. Имя автора стихов меня тогда не волновало, а само стихотворение потрясло, и я мгновенно запомнил его:* * *
Там, в Крыму, в степной его части, на околице села Шубино — невысокий гранитный обелиск. Собственно, обелиска сейчас не видно: венок на венок — и вот уже до самой звездочки могила утопает в цветах. Цветы из Киева и Симферополя, из Донецка и Джанкоя. Маки из Казахстана, розы из Душанбе. Отныне с ними рядом — и венки, привезенные из Днепропетровска… А вокруг братской могилы все круче закипает людской прибой и выносит на крохотный гранитный островок розовато-белую пену цветов. Памятник соорудили шубинские колхозники на собственные сбережения. Он поднялся не по случаю юбилея или праздника. Никто не давал указания крымским хлеборобам соорудить его. Никто, кроме собственных сердец. «Вечная слава героям-десантникам, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками…»* * *
От обелиска — степью до побережья гнилого моря Сиваш — километра два-три… На вязком болотистом дне высохшего лимана — отпечатки тысяч подошв. Соленый, но по-майски горячий ветер дует нам в лицо, он слизывает густую жижицу, выступающую из-под каблуков, и тотчас же на том месте, где только что ступила нога человека, серебристо вспыхивают кристаллики соли… Люди все идут и идут. Старики, женщины, дети… Топает, прихрамывая, Владлен Николаевич Анчишкин, и вся его сутулая фигура издали очень напоминает аршин землемера, чуток наклоненный вперед. А вообще-то бывший комбат, как мне известно, никому и никогда не кланялся. Семенит, позвякивая анчишкинскими наградами, Виталька-пионер. Дай бог и тебе, сынок, чтобы ты никогда, никому — даже пулям, не кланялся! Ослепительно сияет на его груди орден Александра Невского. Идут испанцы, украинцы, русские… Тут, на плоском, низком берегу, почти у самой белоснежной соленой кромки — изуродованный взрывами и временем, необычной, круглой формы окоп. Как будто те, кто вырыл его, ожидали врагов со всех сторон — с юга, с востока, с севера и с запада. Правда, сейчас это уже не окоп, а просто — круглая, плоская яма. На дне — груды винтовочных и автоматных гильз, позеленевших, старых, а вокруг них — живыми темно-алыми сгустками полыхают тюльпаны и маки. Много лет приходили сюда шубинцы, отдавая дань уважения безымянным героям, — тем, кто принял смерть на скользком сивашском берегу в бою с врагом, который был в десятки — нет, в сотни, в тысячи раз сильнее. Те немногие жители затерянного в степях небольшого крымского села, которым посчастливилось остаться в живых, хорошо помнят, как в далеком марте 1943-го двое суток не смолкала на побережье пальба, как вереницей двигались, буксуя, к Сивашу тупорылые итальянские грузовики, битком набитые жандармами и солдатней. Назад машины возвращались, нагруженные ранеными и убитыми. И еще говорили люди, что на побережье высадился целый полк десантников, что они дерутся, как львы, и не сдаются живыми в плен. А когда бой окончился и каратели убрались восвояси — в Керчь, в Джанкой, в Симферополь, — жители села Шубино пришли на берег и увидели в полуразрушенном, неглубоком окопе-яме десять мертвых парней. Их суровые лица были покрыты копотью и кровью. Карманы комбинезонов были пусты. Ни клочка записки, ни звездочки, ни солдатских медальонов. И только по стреляным гильзам да по тяжелым кирзовым сапогам шубинцы поняли — это наши. И ночью похоронили безымянных героев в братской могиле, на краю села… Безымянные герои. Какие ледяные слова! Безымянных героев нет и быть не может. Настоящий подвиг не должен остаться без адреса. Этого не простят потомки. Тысячи красных следопытов ежегодно уходят в походы. Тысячи неизвестных ранее имен вспыхивают золотом на мраморе. К тысячам убитых горем матерей и вдов вновь возвращаются сыновья и мужья, чтобы навсегда, навеки остаться с нами, живыми… Председатель Токаревского сельсовета Федор Степанович Клименко тоже начал поиск. Ночами ныли раны у старого солдата. Он хорошо знал цену ратному подвигу… Не одну сотню километров протопал Федор Степанович дорогами войны: ходил в атаки, выбирался из окружения, хоронил друзей. Он помнил, чье имя носит его село. В 1942 году боевой летчик Токарев, приземлившись на пылающем самолете в этих местах, был окружен фашистами и бандой предателей-полицаев. До последнего патрона бился отважный сокол в пешем строю, а ту, заветную пулю пустил в свое сердце… А как же эти десятеро? Неужели останутся безымянными?! Семь лет разыскивал Клименко имена героев. Сотни ночей и дней. Он писал письма в Министерство обороны, в архивы и военкоматы областей, краев и республик, в редакции газет и журналов. Десятки неизвестных друзей в разных городах и селах помогали ему. В поиски включились работники крымского радио, журналисты, пионеры. И вот…* * *
«Полетное задание Герою Советского Союза Кошубе. Самолет «Ли-2», Командир корабля — Кошуба, штурман — старший лейтенант Волков. Готовность к полету — 13.III.1943 г. в 21.00. Время старта — 22.00. Иметь на борту группу десантников-парашютистов в количестве 10 человек и специальное снаряжение, уложенное в грузовые парашюты. Самолет в 22.00 стартует с аэродрома с заданием: до 00 часов 30 минут выйти в квадрат 18–80. После тщательной ориентировки командир сбрасывает парашютистов и груз обязательно по северо-западному курсу, имея по правому борту не менее километра кромки берега»… Над Адлером клубились черные тучи. Сизый туман сползал с гор, клочьями повисал над взлетной полосой. Ветер утих, но разболтанное вчерашним штормом Черное море неистово било в береговой гранит. И когда наступила ночь, самолет поднялся в черную непролазную мглу неба и лег курсом на Крымский полуостров. Молча, зажав между колен приклады ручных пулеметов, сидели десантники в ряд. Когда зажглась синяя лампочка, один из них подошел к сидящему с краю у дверцы плечистому командиру: — Меня зовут Егор Кузякин. Я местный. Разрешите прыгать первым? Бровастый улыбнулся: — Я плохо понимаю по-русски. Что значит — местный? — Родился тут. Местность знаю. Еще шире улыбка, едва различимая в полумраке: — Меня зовут Хосе Фусиманья. Я родился в Каталонии — это очень далеко. Но первым прыгать буду я. Я — комиссар. Прославленный полководец испанской республиканской армии Энрике Листер в своих мемуарах пишет: «На место Альвареса комиссаром дивизии был назначен Хосе Фусиманья — каталонский рабочий, способный, умный, быстро завоевавший любовь и уважение наших бойцов. Фусиманья был комиссаром 11-й дивизии… а затем стал комиссаром XV армейского корпуса, в рядах которого и закончил войну. Затем Фусиманья уехал в Советский Союз и погиб, сражаясь в рядах Советской Армии против гитлеровцев…»* * *
«В ночь на 14 марта 1943 года для выполнения специального задания командования на территорию Крыма была сброшена группа парашютистов-десантников. Задание выполнено. После тщательной ориентировки группа десантников-парашютистов (10 человек) и грузы сброшены в квадрате 18–80, причем справа по борту имелось примерно полтора километра кромки берега. Капитан Кошуба, Герой Советского Союза». …Что же это за специальное задание командования, о котором так сухо упоминается в рапорте командира самолета? Оно было непосредственно связано с дальнейшим развитием событий на фронтах Великой Отечественной войны, в частности, с нашей будущей победой в грандиозной битве на Курской дуге. В ту зиму фашистское командование в обстановке глубокой секретности развернуло подготовку к так называемой операции «Цитадель», которая, по его расчетам, призвана была коренным образом изменить шаткое положение гитлеровцев на Восточном фронте. После позорного поражения под Сталинградом операция «Цитадель» была единственным и последним шансом фашистов на реванш. «Зима — блаженство для русских. Мы побеждаем летом!» — уверяли фашисты. Самым подходящим для сокрушительного удара по Красной Армии им виделся сильно укрепленный нами Курский выступ, преодолев который, можно было бы попытаться вновь ринуться на Москву. Но чтобы раскусить такой орешек, нужны были крепкие зубы. Вот почему на заводах Рура и на предприятиях стран-сателлитов ускоренными темпами и при строжайшей конспирации разрабатывалась и изготовлялась новейшая и мощнейшая техника, способная, по мнению фашистов, сокрушить сопротивление русских. Но прежде, чем все эти новые самолеты и танки ринутся в бой, их надлежало испытать на секретных полигонах и танкодромах. Один из таких полигонов фашисты соорудили близ села Шубино в Крыму. Военнопленные, возводившие этот объект, были немедленно расстреляны, и, как говорится, концы в воду. Под покровом ночи в крымских портах разгружались пузатые транспорты с техникой. Полуостров сотрясался от могучего рева дизелей. Расчет фашистов был прост: русские навряд ли додумаются, что в этой безжизненной, пропитанной солью хлябистой равнине, куется им поражение. Рассекретить фашистский полигон — значило подобрать ключи к «Цитадели». Точнее — один из ключей.* * *
Где-то в конце марта 1943 года старенькая испанская политэмигрантка Родригес Антониа, эвакуированная из Ростова в Актюбинск, получила справку из военкомата: «Ваш сын, комсомолец Варра Родригес Хосе Лупс, старший сержант, действительно является заместителем командира группы 66-й воинской части действующей армии. Справка выдана для получения льгот, полагающихся семьям военнослужащих». Она была поражена, удивлена, обрадована. А получив скромный паек — рис, маргарин, сахар, отнесла его ребятишкам эвакуированного детдома. До конца войны носила туда половину своего пайка. Примерно в это же время такую же справку принес почтальон в нетопленую московскую квартиру, в которой проживал профессор Андрей Тарновский. Старый профессор прошелся по своему запущенному кабинету, искоса взглянул на портрет сына, на его задиристый хохолок, веселые прищуренные глаза, вздернутый нос: — Ишь ты, комса!.. Кормишь родителя!.. Всплеснула руками Родригес Антониа: — О, диос мио![1] Старший сержант! Да ему ведь нет еще и восемнадцати! Мой Хосе — командир!.. Подумать только, давно ли ее светлоглазый мальчишка с торжествующими воплями гонял футбольный мяч во дворе их дома — здесь, на юге гостеприимной Советской страны, и соседи с восторгом глядели на юного форварда с осанкой и грацией заправского тореадора. Любили подростка-электрослесаря и на автосборочном заводе — за трудолюбие, за белозубую, щедрую улыбку. — Понимаешь, мама: в зале четыреста человек, и все за меня голосуют, единогласно! И он бережно протягивает на ладони серенькую книжечку с силуэтом Ильича… Как хорошо они жили до войны! Целый подъезд большого пятиэтажного дома был заселен испанскими эмигрантами. Оторванные от своей пылающей родины, они не чувствовали себя здесь на чужбине. Плечо друга — надежное, крепкое, и крепкую дружескую ладонь постоянно чувствовали они. Рядом с ними всегда находились советские братья, родители и друзья тех, кто добровольно шагнул в огонь, встав на защиту республиканской Испании, кто покрыл себя неувядаемой славой под Барселоной и Уэской, под Мадридом и в Харамском сражении, чья горячая кровь пролилась на сухую, изувеченную взрывами пиренейскую землю… А потом в подъезде поселился веселый красавец Хуан Арментерос со своей юной русокосой женой Валентиной. Вот идет Хуан зеленым проспектом Ленина — стройный, красивый, русские девушки заглядываются на него: у Хуана высокий, смуглый лоб, орлиные брови вразлет, лукавые быстрые глаза и упрямые складочки возле рта. Только зря заглядывались девушки: очень любил Хуан свою Валюшу. Косы у Вали пахли русской пшеницей, и испанские женщины, в свою очередь, ахали от восхищения и просили разрешения потрогать эти косы. И когда испанский подъезд усаживался за общий стол на чьем-либо семейном торжестве, среди всех русских друзей Валентину всегда сажали на самое видное место. И еще в этом подъезде запахло небом, потому что гроза немецких «юнкерсов» и желто-зеленых итальянских «фиатов», пилот Хуан Арментерос приехал на побывку. Он храбро дрался в небе над Малагой и над горами Сьерра-Невады, но увы, все эти тихоходные утюги — «нотезы», устаревшие «ньюпоры» и кургузые «девюатины» не могли соперничать с техникой фашистов. Молодой республике нужны были позарез опытные летчики. Но хотя обучение шло ускоренными темпами, испанским пилотам так и не пришлось вернуться домой. Над Испанией надолго повисло черное фашистское знамя со свастикой. Вот почему все меньше смеха и песен звенело в подъезде некогда веселого дома на проспекте Буденного. Вот почему, как только началась война, все мужчины испанцы, все, кто мог носить оружие, отправились в военкомат. Обо всем этом подумала старенькая испанская коммунистка Родригес Антониа, снова и снова перечитывая письмо-справку о сыне. Справка была датирована 15 марта 1943 года. И конечно же, мать не могла предполагать, что полковой писарь отстукал ее на машинке как раз в ту минуту, когда ее сын — молодой и самый глазастый из десантников, старший сержант Варра Родригес Хосо Луис, сквозь непроницаемую пелену тумана первым разглядел атакующие цепи фашистов и отвел рукоятку затвора ППШ в крайнее заднее положение… Кроме Родригес Антониа и профессора Андрея Тарновского такие же справки, датированные 15 марта 1943 года, получили еще в нескольких испанских и советских семьях. Не вручили бумагу лишь Павлу Ивановичу Кузякину, жителю затерявшегося в крымских степях села Шубино, потому что Крым был в это время глубоким немецким тылом, а почта, как известно, через линию фронта не ходит. И не знал Павел Иванович, что как раз в это время его сын, коммунист Егор Кузякин окопался почти рядом с отцовским домом, но не может и никогда уже не сможет переступить родной порог…* * *
О чем они говорили, о чем думали в последние дни, часы, минуты, мгновения своей жизни? Об этом мы не знаем и никогда не узнаем. О том, что они совершили, известно доподлинно. Есть документы, ставшие достоянием истории, есть свидетельства местных жителей об их последнем, бессмертном поединке. Возможно, это было так. Егор Кузякин приладил новый диск к своему ручному пулемету, потрогал раскаленный кожух ствола и прищелкнул языком: — Однако!.. Потом свернул две козьи ножки — одну себе, а вторую командиру, майору Мигелю Бойсо. — Держи, командир. — Спасибо, компаньеро! Сам Мигель Бойсо не мог свернуть самокрутку. Во-первых, ему никак не удавалось овладеть этой хитрой русской техникой, а во-вторых, полчаса назад осколком гранаты ему раздробило пальцы левой руки. Голубой махорочный дым поплыл над окопом. — Здорово мы их причесали! Теперь, в сумерках, не полезут! — улыбнулся радист Вадим Тарновский. — А хоть и полезут — все равно не пройдут. Патроны есть еще, — подытожил Алексей Кубашев. — Но пасаран! — сверкнул глазами опьяневший от боя, самый младший — Хосе Луис Варра Родригес. Они сделали свое дело. Уже Вадим Тарновский передал на Большую землю точные координаты тайного фашистского полигона, сведения о новой военной технике. Теперь слово за авиацией — ждите, фашисты, гостинцев! А потом радист отстучал последний привет десантников. Они окружены. Кольцо не прорвать. За спиною море. Перед глазами — смерть. Но пусть Родина верит — десять ее сыновей дорого отдадут свои жизни. Они знали, на что идут. Испанские товарищи хорошо знали, на что идут. Конечно же, армия наша, как ни трудно приходилось ей в те дни, обошлась бы без горстки отважных испанцев. Их пытались уберечь от риска как могли, но разве откажешь людям в самом святом и сокровенном! Вот почему на иных обелисках рядом с именами русских, украинцев, белорусов, казахов, грузин — можно порой прочесть и испанские имена… Бой начался вскоре после того, как фашисты запеленговали нашу рацию. На поимку или уничтожение горстки смельчаков был брошен эсэсовский батальон. На плоском, как блюдце, берегу защищаться, укрываясь лишь за хлипким бруствером оплывающего окопа, трудно. Но и атаковать на ровном месте — тоже не удовольствие. Постепенно сжимая вокруг окопа смертельное кольцо, шли, проваливаясь по колено в соленую жижу, подбадривая себя визгом и улюлюканьем, цепи предателей-бандитов. Прячась за спинами холуев, шагали цепи эсэсовцев и полевых жандармов. Когда перед взором фашистов открылся молчаливый окоп, атакующие для острастки открыли огонь из сотен автоматов. Но прежде чем автоматные пули стали долетать до бруствера, в упор по цепям врага хлестнули полдюжины «дегтярей». Неуклюж по нынешним стандартам ручной пулемет Дегтярева, большая морока снаряжать его круглый плоский диск, но обладает это оружие немаловажной особенностью: прицельностью боя, а его пули летят втрое дальше, чем пули хваленых «шмайсеров». Первый атакующий батальон десантники «выложили» почти полностью — мало кому удалось уцелеть, увернуться от беспощадного огня пулеметов. Фашисты подвезли артиллерию, минометы. С моря дул ледяной пронзительный ветер. Мокрый снег перемешивался с болотной жижей. Едкий дым застилал побережье. Черные фонтаны земли и соленой воды вздымались вокруг окопа. Трое суток сражался в дикой солончаковой степи окруженный полчищами врагов крохотный гарнизон. Судя по найденным в окопе многочисленным гильзам и от немецких автоматов, можно предположить, что последние атаки разведчики отражали с помощью оружия, добытого ночью у убитых фашистов. По храбрецам били пушки, их бомбили с неба. Они продолжали сражаться… А потом все реже стали раздаваться выстрелы десантников и умолкли взрывы гранат. И когда фашисты бросились к окопу, стремясь захватить хоть кого-нибудь из разведчиков живым, из груды мертвых тел поднялся страшный, окровавленный человек и последним усилием вырвал чеку из последней гранаты. Он сжал ее в ладони и вскинул сжатый свой кулак в гордом рот-фронтовском жесте: — Но пасаран! «…Они сражались под командованием майора Мигеля Бойсо, которого русские товарищи знали под именем Георгия Георгиевича Боброва. Они погибли, как герои… От себя лично и от всех испанских товарищей я хочу выразить глубокую благодарность жителям села Шубино за их отеческую заботу о могиле этих героических воинов, за скромный памятник, увенчавший их подвиг. …Вечная слава нашим товарищам, павшим в борьбе. Они были достойными сынами нашего народа и нашей партии и скрепили своей кровью узы братской дружбы между народами Испании и Советского Союза в совместной борьбе против фашизма. Председатель ЦК Компартии Испании Долорес Ибаррури».* * *
Сияют золотом на мраморе имена тех, кто из того боя навсегда ушел в рассвет Победы, вошел в историю борьбы народов против фашизма, борьбы за свободу, за мир. Вот они: Мигель Бойсо — член Компартии Испании. Хосе Фусиманья — член Компартии Испании. Вадим Тарновский — комсомолец, москвич. Хосе Пераль — член Компартии Испании. Егор Кузякин — коммунист, крымчанин. Хуан Армантерос — член Компартии Испании. Хосе Луис Родригес — комсомолец. Педро Панчаме — член Компартии Испании. Алексей Кубашев. Хуан Понс — член Компартии Испании.* * *
И вот мы стоим над старым окопом, алым от гвоздик и тюльпанов. И выходит вперед седовласая коммунистка Мария Луиза Карбональ: — Я ношу возле сердца щепотку земли Испании, теперь буду носить рядом с нею и эту землю, советскую, в которой смешалась испанская кровь с кровью сынов России. Пусть знают наши враги — они не пройдут!.. И все мы нагибаемся и берем по горстке крымской соленой земли, и стоим, крепко сжав кулаки, и никто не скрывает слез. Стоит художник Альфредо Герра-Колорадо, инвалид Великой Отечественной войны. Стоит Владлен Анчишкин — русский писатель и бесстрашный солдат, кавалер пяти боевых орденов. Стоит директор совхоза «Присивашный» Тимофей Федорович Колесников, русский человек с черными, красивыми, как у Шевченко, усами. Стоит его заместитель, Иван Максимович Торяник, украинец, прошедший с боями едва ли не всю Европу. Стоит, как часовой на посту, Федор Степанович Клименко. Спасибо ему за поиск-подвиг. Застыли в почетном карауле пионеры, колхозники, воины. Сегодня — 9 мая 1965 года. И кажется, будто поднимаются из земли и встают рядом с нами десятеро отважных, железных парней — бессмертных сыновей Советской Родины. А с ними рядом — пилоты прославленной эскадрильи «Нормандия — Неман», норвежские антифашисты, французские «маки» — синие береты, болгарские, греческие, югославские партизаны и очень похожие на них «барбудос» Фиделя Кастро. И такая нас несметная сила — живых и мертвых, — что никому и никогда нас не одолеть. И рядом со взрослыми стоит мой сынишка, десятилетний Виталька — пионер, сверкая анчишкинскими орденами. Он собирает в гармошку непомерно длинный рукав пиджака и, глядя на взрослых, повторяя их жест, поднимает на уровне глаз свой маленький твердый кулачок: — Но пасаран! Они не пройдут. Будут впереди у нас трудные годы: будет кровь Вьетнама и трагедия Чили. Дредноуты Великобритании и Соединенных Штатов станут палить из орудий по Сейшельским островам и Ливану. Самая могущественная империалистическая держава всей своей мощью обрушится на крохотный остров Гренаду. Будут обливаться кровью Никарагуа и Сальвадор. Но они не пройдут. История — неумолимая штука. Мы избавили мир от безумца-маляра, пытавшегося перекрасить планету в коричневый цвет. Помните об этом, господа! Но пасаран!С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
А в самом деле — с чего она начинается? Помните прекрасную песню из кинофильма о советском разведчике? Да, для нас Родина начинается и с картинки в букваре, и с хороших верных товарищей, и с колыбельной, которую мать напевает тихонько над кроваткой дитяти, а несмышленыш с ее голосом впитывает красоту и мелодичность родной речи… И со старой отцовской ли, дедовской буденовки, пилотки или иной солдатской реликвии, случайно обнаруженной в детстве — в старом шкафу или бабушкином сундучке… Для одного из моих земляков родной дом, родной город, Родина — начались с маленького краснозвездного обелиска, голубеющего над кромкой оврага… Обелиск стоял на бугре, над крутым обрывом, и в ясную погоду был виден далеко. Пирамидка небесного цвета, увенчанная звездой, как бы парила над рощицей, напоминая очертаниями крыло самолета… «Неизвестному летчику, погибшему в 1943 году». …Живет в нашем городе скромный человек средних лет — Борис Юрьевич Печеный. Работает механиком в Доме торговли. Почти столько же, сколько помнит себя Борис, помнит он и этот обелиск. В войну дети взрослели рано. Даже малыши хорошо понимали, кто враг, а кто свой. Жил Борис на самой окраине Лоцкаменки, почти за городом, но и здесь ведь свирепствовал «новый порядок» оккупантов. Однажды летом в 1943 году он, семилетний мальчуган, вместе с соседскими ребятишками наблюдал за воздушным боем и запомнил все до мелочей. Наш краснозвездный «ястребок» появился из-за Днепра неожиданно и тотчас вступил в схватку — сразу с тремя «мессерами»! Видно, пилот был настоящим асом: его самолет волчком вертелся в огненной карусели, мастерски уклонялся от смертоносных трасс, а его очереди неизбежно достигали цели. Поджег одного «мессера», расстрелял второго в считанные мгновенья, третьего достал тараном — наверное, кончились боеприпасы. Фашистский стервятник рухнул в Днепр, недалеко от нынешней ГРЭС. «Он еще и после войны торчал из воды, — рассказывает Борис, — и мы, мальчишки, когда рыбачили, привязывали лодки к его фюзеляжу…» Наш пилот попытался, видимо, посадить свою изувеченную машину. Трехлопастный «ЛаГ» срезал плоскостями несколько деревьев лесополосы близ Запорожского шоссе и тяжело ткнулся носом в рыхлый склон оврага. Старожилы Лоцкаменки вспоминают, что когда они добрались к месту падения, самолет был объят пламенем, а из кабины свешивалось полуобгоревшее тело пилота. Чтоб фашисты не надругались над ним, люди поспешно предали останки героя земле, а когда оккупантов прогнали, на могиле кто-то соорудил обелиск и оградку. Борис с товарищами часто приносил сюда цветы. Подрос, пошел в школу — стали ходить на могилку всем классом. Красили, ремонтировали оградку, а в засушливую погоду поливали посаженные тюльпаны. Борис все думал, все размышлял о неизвестном летчике, он как бы породнился с ним. Пришла пора служить в армии — попросился в авиацию. Приезжал на побывку — скорее к обелиску. Вернулся домой — снова ухаживал за могилкой, годами приходил сюда — зимой и летом, в будни и праздники. Приводил сюда и семью, прикрепил однажды к обелиску новую табличку из нержавейки. …И вот мы идем к обелиску — Борис Печеный, генерал в отставке Геннадий Михайлович Куликов, археологи исторического музея, солдаты, вооруженные лопатами и всем необходимым для раскопок. У комиссии ответственная задача — надо по возможности установить имя героя и перенести с почестями его останки на братское кладбище. Смещен обелиск, снят верхний слой земли. Может быть, впервые выполняя команды женщины, археолога Людмилы Петровны Блиновой, осторожно работают лопатами молоденькие солдаты. Контур из давнего чернозема, напоминающий фигуру человека, явственно проступает на дне широкой ямы. — Здесь он лежал, — убежденно говорит Людмила Петровна, — но, теперь, пожалуй, его здесь может не оказаться. Ведь много воды утекло с военной поры… Солдаты осторожно сняли верхние слои почвы, дошли до материковой глины… и, действительно, не нашли ничего. Тут кто-то вспомнил, что сразу же после освобождения города от фашистов летчики прославленной 17-й воздушной армии собрали и перезахоронили останки всех своих крылатых собратьев. Почти сорок лет Борис Печеный ухаживал за символической могилой. Сорок лет! Скажите, а что в этом противоестественного? Ведь вся наша огромная земля от Карпат до Волги хранит в себе многие тысячи безымянных солдатских могил. Значит, делал человек святое и благородное дело — спасибо ему за это. И работа комиссии, кстати, была отнюдь не безрезультатной: пока шел поиск неизвестного пилота, в овраге за жилмассивом Сокол обнаружили место падения еще одного летчика, погибшего в 41 году, и место захоронения четырех (пока безымянных) разведчиков — в Амур-Нижнеднепровском районе. Пройдите, к примеру, по улице Писаржевского — одной из немногих, относительно уцелевших в пожаре минувшей войны. Почти на всех старинных двух- и трехэтажных особняках чернеют давние надписи: «Проверено. Мин нет». И далее подписи красноармейцев, сержантов, офицеров-саперов. Это все — памятники высокого человеческого и воинского мужества, потому что прежде чем мы вошли в этот дом, прежде чем здесь поселились радость, музыка, смех, прежде чем родились и выросли наши дети — сюда однажды заходил воин с миноискателем, и миллиметр за миллиметром ощупывал наш дом, чтобы обезвредить и уничтожить коварную смерть, припрятанную врагами. И кто знает, дожил ли до победы этот красноармеец Иванов или сержант Смирнов, не подорвался ли он на мине в соседнем доме или на соседней улице, потому что, известное дело — саперы ошибаются в жизни всего один раз. Наверное, для многих детишек, проживающих в таких домах, Родина начинается именно с этой надписи, и это воистину прекрасно. Но вот кому-то одна из этих надписей помешала и ее попытались содрать: на стене свежие царапины… Мне кажется, что это — кощунство. Иными словами такое деяние не назовешь. А по соседству, в доме № 5 по этой же улице Писаржевского, нашелся добрый душевный человек. Надпись «Проверено. Мин нет» взяли под стекло на четыре крепких болта, а вокруг соорудили железную рамку-козырек от дождя и снега. И появилась на улице неузаконенная мемориальная доска, и думается, что горсовет не станет возражать против ее существования. Город наш — огромный живой организм, с пульсирующими артериями проспектов и улиц, с миллионами окон-глаз, с зеленой кровью садов и бульваров. Город — это наш дом, а дом свой человеку надлежит любить, но любить не потребительски, не созерцательно, а созидательно, действенно. Кто-то из великих, кажется, Виктор Гюго, устами одного из своих героев изрек добрую и мудрую истину: «Смысл человеческой жизни заключается не в том, чтобы брать, а в том, чтобы давать». И тот, кто посадил у памятника или просто на бульваре тюльпан, вырастил деревце или покрасил солдатский обелиск, может с чистой совестью ходить по этим улицам. Но ведь есть совершенно иные индивидуумы, рвущие тюльпаны у обелисков, бездушно сдирающие со стены надпись, оставленную саперами в далеком уже 1943 году… Их мало, таких людишек с равнодушной душонкой. Мало, но они есть… С чего же еще начинается Родина? «С той самой березки, что во поле, под ветром качаясь, растет?» Для некоторых детишек из старинного дома № 7 по улице Рогалева Родина, бесспорно, начиналась с огромного орехового дерева во дворе. Под его душистой благодатной сенью мамаши «выгуливали» в колясках малышей, и первое, что видели они, — огромные глянцевые листья над головой. Осенью могучее дерево щедро одаривало ребятишек со всей улицы крупными вкусными плодами. Но вот объявился в одной из квартир новый частновладелец. Первым делом новосел спилил орех («он мне мешает, закрывает солнце»), потом принялся за другие деревья. Приехали из Зеленстроя, оценили убытки, нанесенные зеленому убранству города, почти в тысячу рублей, но кто возместит убытки чисто моральные, нравственные, кто залечит душевную обиду и детям, и взрослым? Деревьев уже не вернешь, а новые вырастут не скоро. Видать, не для всех Родина начинается «с березки, что во поле…» Я начал этот разговор рассказом о неизвестном летчике, а в конце хочу вспомнить о летчике, хорошо всем известном. Жил в нашем городе до войны на улице Фабричной скромный человек Михаил Степанович Столяров. Слесарил рядышком, за углом — на маленьком заводике. Отсюда ушел в авиацию. В 1943 году, накануне освобождения города, прилетел майор Столяров бомбить фашистскую переправу. Блестяще выполнил боевое задание, однако не удержался Михаил Степанович от великого соблазна: помахать крылышками своим землякам и соседям, дать знать о себе — дескать, жив Мишка Столяров! Видать, проснулся в прославленном асе тот самый озорной мальчишка — с улицы Фабричной. И в этот момент снаряд фашистской зенитки поразил самолет. Очевидцы утверждают, что пилот мог бы спастись, выпрыгнув с парашютом, но он предпочел вместо позорного плена геройскую смерть. Самолет врезался в городскую электростанцию, и фашисты надолго очутились в темноте… Майор Столяров хорошо знал свою улицу, он знал, куда падал! Упал и как бы вознесся в небеса благодарной человеческой памяти. Прошли годы. Улицу Фабричную переименовали в Фестивальную, потом, если не ошибаюсь, снова в Фабричную. Почему не в улицу имени Столярова? И вот рабочий паренек Валерий Цвик пошел в атаку на незыблемое «слушали-постановили». Он вел поиск, переписывался с однополчанами и родными Столярова, слал в газеты статью за статьей. И добился своего, потому что любил наш город самоотверженно, действенно. Валерий Цвик — нынче профессиональный журналист, трудится на Центральном телевидении. А для многих маленьких граждан нашего города Родина начинается с улицы, носящей имя бесстрашного их земляка.«ПРИКАЗ ПОНЯЛ. ВЫПОЛНИТЬ НЕ МОГУ»
В полуторастах километрах от Днепропетровска, на крутых берегах реки Волчьей, раскинулось старинное украинское село Покровское. Знавало Покровское татарские набеги и кровавый разгул махновцев, обжигало его улицы пламя минувшей войны. Но, как феникс из пепла, снова встало село, зазеленело садами; от новой четырехэтажной школы протянулись, сверкая асфальтом, его улицы, лес антенн поднялся над черепичными крышами веселых кирпичных домиков. И лишь одна хатка над обрывом долго чернела старой соломенной кровлей. Но и для нее пришел час обновления. Как-то веселой гурьбой нагрянули во двор комсомольцы. Перекрыли хату, поправили наличники, двери, поставили новый штакетник и зеленой краской покрасили. Вышла на порог старая седая женщина, смахнула рукавом набежавшую слезу, тихо сказала: — Спасыби, сыночки. Возьмите вот — на память про Володю… Очень он любил на ней играть. — И протянула ребятам домру…Он стоял, как положено, у крыла своего «Яка» и щурился от ослепительного снежного блеска. Он уже знал, что с нынешнего утра будет обслуживать самолет французского летчика из эскадрильи «Нормандия», которая прибыла сюда, в Россию, чтобы вместе с Советской Армией громить фашистов. И вот эта предстоящая встреча очень волновала Володю: интересно, каков он, француз. Только слышал Володя краем уха, будто опытный он ас, дворянин, граф… Этого нам только не хватало. Вот и стоит сержант Белозуб, переминаясь с ноги на ногу, и внимательно вглядывается туда, откуда из штабных землянок должны появиться прибывшие ночью французы… Проглядел сержант Белозуб! Сперва услышал песню, мысленно перевел ее, а потом уже повернулся кругом и застыл от удивления. Прямо к нему, улыбаясь и палевая, шел высокий, стройный парень — на вид совсем еще юноша. Тоненький, затянутый в щегольскую кожаную курточку, весь какой-то игрушечный — планшетка и пистолет на длиннющих ремешках шлепают по глянцевым голенищам сапог. Ишь ты, мороз такой, а он в сапожки вырядился! И шлемофон в руке, голова непокрытая, а усики на гладко выбритом лице, словно нарисованные. Пижон! Однако Володя не оплошал — ступил шаг вперед, поднес руку к ушанке, доложил по-французски давно заготовленную фразу: — Мой командир, машина к полету готова. Теперь пришла очередь удивляться французу. Но лишь на миг сбежались у глаз его морщинки и брови вздернулись ввысь. Он шагнул, улыбаясь, к технику, крепко пожал руку: — Морис-Филипп де Сейн. Лейтенант. — Владимир Белозуб, старший сержант. — О, Володя! Браво, Володя! Потом, восхищенно задравши голову, техник следил за смелыми пируэтами, которые выписывал в воздухе де Сейн. Самолет, послушный опытной руке, чертил в бездонном небе замысловатые виражи, валился в штопор, свечой взвивался ввысь и стремительно бросался в пике. Вот он подруливает, вот, отдернув фонарь, Морис прыгает на снег — раскрасневшийся, счастливый, улыбчивый: — Прекрасное небо! Прекрасная машина! Прекрасный снег! О ла-ла!
…Французы тренировались долго и упорно. День за днем, день за днем. Техники ворчали сердито: — Война идет, каждый миг дорог, а они горючку зря жгут, кренделя в небе выписывают. Этим разговорам раз и навсегда положил конец командир полка полковник Голубков — сам опытнейший ас: — Пусть летают. Им учиться надо. Французы привыкли летать и драться в одиночку, о взаимной поддержке понятия не имеют. Вот и перенимают наш опыт. Но пришел день первого боевого вылета. Одно за другим уходили звенья зеленокрылых, краснозвездных «Яков» с белыми стрелами вдоль фюзеляжей — туда, где ухал, грохотал и дымился фронт… Были томительные минуты ожидания, были тревожные раздумья: не отказал бы мотор, не подвели пулеметы. Но, конечно, была и радость встречи. — Мой командир, на фюзеляже 16 пробоин! — О, Володя, тот, кто попортил мне фюзеляж, больше никогда не будет стрелять. Мы с тобой укокошили боша. — Почему — «с тобой»? — Потому что ты готовишь мне машину к полету. В мороз и в дождь. И делаешь это виртуозно… Володька сбегал в каптерку, принес ведерко с белой краской, кисточку и аккуратно намалевал на фюзеляже крестик — могильный крест над сбитым фашистом. Морис молча наблюдал за ним: — Дорисуй мне еще один крестик. — ? — Первого боша я сбил во Франции, почти что над своим домом, а точнее — над лицеем Сен-Луи, где учился до летной школы. Кстати, я все собираюсь тебя спросить: откуда ты знаешь французский язык? — Я тоже окончил лицей. Перед войною. — Царскосельский? — Нет, Покровский. — Странно. Я считал, что в России был только один лицей. — У нас в каждой деревне лицей. И в городах. — А где это — Покровска? — Село такое на Украине. Возле Днепра. Морис задумался, погладил усики: — Значит, ты из деревни. У твоего отца, наверное, было очень много земли. Иначе как бы ты мог учиться в лицее? — Да, у моего отца было много земли. От Бреста до Камчатки. Вот прогоним фрицев, и снова вся земля — наша. Морис улыбается понимающе: — Ах, я и забыл, что у вас все по-другому…
Храбро дрались французские летчики в русском, советском небе. Славные страницы в историю Великой Отечественной войны вписали пилоты Марсель Лефевр, Гастон Дюран, первый командир эскадрильи Пьер Пуйяд. Плечом к плечу с советскими асами сражались потомственный дворянин Роллан де ля Пуап и парижский пролетарий Марсель Альбер. Казалось, сам озонный воздух России, — разряженный, очищенный грозами революций — благотворно содействует этому братству. Орденом Красной Звезды был награжден летчик Морис-Филипп деСейн. Ему было присвоено звание капитана. Медаль «За боевые заслуги» и французская награда украсили грудь старшины Белозуба… Они отмечали годовщину своей встречи. Морис издалека завел «политический» разговор. К тому времени он знал уже много русских слов, и друзья могли свободна изъясняться на двух языках: — Что означает твоя фамилия, Володя? У вас, русских, очень странные фамилии. — Моя означает — «белые зубы». — У тебя действительно белые зубы! Очень красивые! А у меня вот болят нестерпимо. — Надо было в детстве меньше шоколадом баловаться. Небось, нянек был полон дом?.. Морис помолчал. Потом спросил тихо: — А ты коммунист, Володя? — Я комсомолец. Но у нас все — коммунисты. Морис рассмеялся. — Я написал письмо матери. Написал, что у меня в России есть друг. Брат. Младший брат — ты ведь моложе меня на целых 10 лет. Что ночью, когда я сплю, он готовит мне машину и латает дыры. И ждет меня с полета. Я написал, что у нее теперь есть второй сын — Володя! Очень бы она удивилась, если бы узнала, что этот сын — коммунист! — Дворяне тоже бывают разные, — уклончиво ответил старшина. — О декабристах слыхал? — Так, может быть, ты и меня хочешь обратить в свою веру? Володя задумался, собрался с мыслями. — Мы никого не неволим. Мы очень уважаем Францию — колыбель революционного движения, Парижской коммуны. Убеждение человека — это его личное дело. Но сейчас самое главное — разбить фашистов. Вы храбро деретесь, и за это вам почет и уважение. Бить фашистов — это ведь тоже драться за революцию… Катился на запад фронт. Вместе с советскими войсками продвигались французские летчики. Эскадрилья была преобразована в полк «Нормандия — Неман». Но на выжженной российской и белорусской земле оставалось много фанерных обелисков и холмиков с красными звездочками, под которыми вечным сном спали парни из далекой Франции. Русское небо навсегда застыло в их глазах, русские березки оплакивали их. А где-то далеко в лесах за Руаном и Марселем пускал под откосы фашистские поезда национальный герой Франции, командир неуловимых маки, украинский хлопец — Василь Порик. 15 июля 1944 года полк «Нормандия» получил приказ перебазироваться из белорусской деревни Дубровки на аэродром в район литовской деревушки Микунтани. Лететь нужно было над лесами, где бродили еще гитлеровцы из остатков окруженной и почти полностью уничтоженной группировки фашистов. Вот взлетела и скрылась за лесом эскадрилья во главе с Пуйядом, выруливала на старт вторая эскадрилья капитана Мурье. Готовились к взлету «дугласы» с техническим персоналом и штабом полка. Морис де Сейн подошел к командиру полка майору Луи Дельфино: — Мой командир, разрешите взять с собой Белозуба. — Вот уж ниточка с иголочкой, — пошутил майор. Весь полк знал о трогательной дружбе Мориса и Володи. — Куда же вы его посадите? — В хвостовой отсек. Потрясет немножко при взлете, но ничего — он парень крепкий. — Хорошо. Только забирайтесь повыше — по лесу бродят боши… Володя радостно подхватил вещмешок и скатку, с трудом втиснул свои широкие плечи в хвостовой отсек фюзеляжа — за бронеспинкой пилотской кабины. — Потерпи малость, Володя, — улыбался Морис, — на вот куртку, подмости. Полчаса — и мы на месте… И захлопнул люк. Володя лежал и думал, что вот скоро кончится война и они приедут с Морисом в Покровское, а там и брат Пашка-артиллерист домой вернется. И батя, старый партизан, выкатит из погреба зарытый еще перед войной бочонок вина, и сядут они за стол на крутом берегу Волчьей, и девчата будут восторженно коситься на красавца-француза. А Морис вел машину и, наверное, думал о Париже, о Елисейских полях, о шумных и уютных кафе Монмартра, которые он скоро покажет своему брату — тому самому, чье биение сердца раздается рядом. Перегруженный «Як» низко летел над белорусскими лесами, едва не цепляясь за верхушки деревьев, над чащами, где бродили озверевшие от голода окруженные фашисты. И один из них, обреченных, пустил в бессильной злобе длинную пулеметную очередь вдогонку краснозвездному «Яку»…
…Те, кто еще оставался на аэродроме, вдруг увидели самолет, неожиданно вынырнувший из-за горизонта. Он летел какими-то непонятными зигзагами, рывками, волоча за собой тонкий белый шлейф дыма. — Это де Сейн! — воскликнул вдруг всегда спокойный майор Дельфино. И тотчас же в динамике раздался хрипловатый голос Мориса: — Я де Сейн! У меня поврежден маслопровод. Парами застлало глаза. Я ничего не вижу! Наводите!.. Его пытались навести в створ посадочной полосы. — Левее, левее, Морис!.. Снижайся! — кричал в микрофон Дельфино. Снова и снова заходил «Як» на посадку. Вот уже цель близка, и зеленая трава аэродрома, кажется, сама просится под колеса шасси… Но нет, утерян единственный миг, и снова пилот берет ручку на себя и уводит ковыляющую машину ввысь: — Я ничего не вижу! Нечем дышать! Наводите!.. Наступает такая тишина, что слышно, как стрекочет в траве кузнечик. Наконец Дельфино решается: — Де Сейн, вы не посадите машину. Прыгайте. У вас нет другого выхода… В динамике треск, шум… Долетают слова Мориса: — У меня за спиною Володя!.. Он стучит мне в спинку… — Прыгайте!.. — У него ведь нет парашюта! Наводите — я ничего не вижу!.. Снова попытка — снова безрезультатно. Тогда микрофон берет представитель советских войск, старший инженер полка майор С. Агавельян. Голос его срывается: — Капитан де Сейн… Вы подчиняетесь советскому командованию. Белозуба спасти нельзя. Это бессмысленная жертва. Приказываю — прыгайте!.. Медленно, мучительно долго тянутся секунды. Тихо потрескивает динамик. Кузнечик стрекочет в траве. И вдруг оттуда — из высокого чистого, жестокого неба долетает тихий задыхающийся голос: — Приказ понял… Выполнить не могу… Последним раз взвивается ввысь краснозвездный «Як», мотор захлебывается, самолет опрокидывается навзничь и камнем падает вниз…
Их несли на плечах боевые товарищи. Французы несли Володю, и гроб его был покрыт красным полотнищем. А русские летчики несли на плечах гроб капитана Мориса де Сейна, покрытый французским флагом. Сухие залпы салюта разодрали воздух. Маленький холмик со звездою вырос на ромашковом лугу…
* * *
…Где-то на берегу Сены, в фамильном своем замке полуслепая от давнего горя женщина долго смотрит на два портрета в черной рамке: — Ты не мог поступить иначе, потому что тогда бы ты не был моим сыном. Потом она садится и пишет письмо пионерам на Украину — в далекое Покровское, в школу: «Дорогие ребята! Я очень стара и больна, и поэтому не могу воспользоваться вашим приглашением — боюсь, что не доеду. Посылаю вам две фотографии Мориса, снятые в детстве. Здесь я одна смотрю на них, а там на них будут смотреть много друзей Мориса. Я знаю, что в вашей замечательной стране вы все растете героями…» Три портрета в черной рамке висят в просторной украинской хате. Паша, Володя, Морис… …Ночью, когда засыпает село, в покровском школьном музее тихо звенит домра. Она поет старые украинские песни — о чистом небе, сивом конике, острой сабле да казацкой доле… И слышите, слышите — она поет песни Франции, далекой Франции.ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ — В МАЕ
Сергей Бойко трижды прокричал петухом в палисаднике, и я тотчас выпрыгнул через распахнутое окно в парующие росные лопухи, а за мною, согласно «субординации» — мой младший двоюродный брат Петька (по-домашнему Потя) — долговязый, заспанный и кудрявый, как ягненок. Молча побрели через сад, дрожа от утренней прохлады, от мокрой травы, неприятно щекотавшей ноги. В саду Сергей остановился, критическим взглядом окинул нас с головы до ног и сердито сплюнул сквозь зубы: — Дрожжи продаете, вшивая команда! Дрейфите! Удочки прихватили бы для блезиру. Ладно уж — возьмите у меня одну… Сергею уже тринадцать. Он почти на год старше меня, мускулы у него на руках — пальцем не придавишь, да что уж там мускулы! Сергей умеет курить взатяжку: наберет полный рот ядовитого махорочного дыма, проглотит: «И-и-и! А моï ж вiвцi — в лозах!» — и выпускает медленно через нос две тоненькие сизые струйки. Слезы катятся по щекам, а он — хоть бы хны! А еще он умеет вырезать из лозы ажурные тросточки и свистки и переплывает наш пруд в оба конца без передышки хоть сто раз! Для нас он — бесспорный авторитет и потому я пристыженно беру тяжелое и скользкое удилище; Потя, беззастенчиво позевывая, топчется на месте. За садом, за совхозными мастерскими — люцерновое поле, а за полем синеет лес, и в эту сиренево-синюю полосу вкраплены белые островки расцветшего терновника и розовые — абрикос. Оно и лес — не лес, а так, лесополоса, с километр шириной, в длину — километра три. Одним концом лес упирается в Мелкую балку, другим — в Глубокую. Сергей напрямик шагает к Мелкой балке, и мы, путаясь в цепкой люцерне, неуклюже тащимся за ним. Зайчонок пушистым мячиком выкатывается из-под ног, но сегодня я не обращаю на это внимания… Возле Глубокой балки мы никогда не играем, обходим ее стороной. Она и впрямь глубокая, ее склоны густо поросли непролазным кустарником, и в его черных дебрях, на дне, даже летом тускло поблескивает тяжелая, ледяная вода. Балка начинается где-то за Саксаганью, рассекает степи и холмы, проходит под железнодорожной веткой и тянется далеко за Комиссаровку. А там, где в Глубокую балку упирается наш лес, поздней осенью сорок первого года немцы расстреливали людей… Я видел их, расстрелянных. Прошлой весной мы бродили с Потей по лесу, собирали на склонах подснежники и ненароком вышли к Глубокой балке. Помню, как вихрилась и ревела под обрывом черная вода, как кружились в ней ветки и солома… И вдруг Петька побледнел и взвизгнул от ужаса. Я тотчас поглядел туда, куда уставился он круглыми, выпученными глазами — там, внизу, под обрывом, под стремительной мутной водою навзничь и ничком лежали люди. Казалось, они чуть шевелились среди ветвей и коряг, словно толстые неуклюжие рыбы, и торчала из воды черная ступня, а рядом с ней, непонятно почему — четыре конских копыта… Пройдет много лет, но те люди долго будут сниться мне по ночам… А сегодня — Первое мая 1943 года. И мы тащимся напрямик через люцерну, едва поспевая за Сергеем, не оглядываясь на Глубокую балку, но мне почему-то кажется, что ребята тоже сейчас думают о ней. …А на поляне, густо поросшей янтарными одуванчиками и рубиновыми костерками тюльпанов, нас уже заждались. Тут оба Володьки: Володька Доброгорский — курносый задиристый парень, тот, у кого дядя-военком тоже лежит в Глубокой балке, и Володька Ивер — коротышка, даже мне едва достающий до плеча, но человек солидный: вот уже месяц самостоятельно работает конюхом. Он и сейчас не расстается со своей гордостью — кнутом, собственноручно сплетенным из сыромятной кожи. И еще тут, на поляне, брат и сестричка Герек и Ляля — двое близнецов-поляков из Кракова, два крохотных осколка всемирного горя, горячими ветрами войны неизвестно как занесенных сюда, в приднепровские степи… Оба светленькие, словно одуванчики, оба синеглазые, только у Ляли глаза огромные и никогда не мигают, а у Герека они сужены до щелочек — от постоянного тихого страха, который, кажется, навеки поселился в них… Он такой бледный, Герек, что сквозь кожу видны тончайшие синеватые жилки на лбу и переносице, и, конечно же, он никогда бы не отважился прийти сюда, если бы не Ляля, которую он любит самозабвенно и пошел бы за нею в огонь и воду… В совхозе они недавно. Живут с больной матерью в кое-как приспособленном под жилье старом сарае, и у них нет огорода. Тетка моя, а Петькина мать, суровая сельская учительница Ольга Васильевна говорит, что люди не дают им умереть с голоду, и сама помогает полякам, как может… Теперь мы все в сборе. И все взгляды прикованы к Володьке-малому, а он не спеша достает из-за пазухи большой красный платок и привязывает его к гладкому кнутовищу. — Червоный штандарт, — восхищенно вздыхает Ляля, — до гуры взнесь!.. — Начнем? — деловито перебивает ее Сергей. Вот теперь настала моя очередь, и все взоры обращены ко мне, потому что начинать буду я. Это право дается мне с молчаливого согласия всей нашей команды, и я очень горжусь им. Потому, что среди друзей я единственный, кто был в Москве, и не просто в Москве, а на Красной площади, на первомайском параде. На последнем мирном параде был не кто-нибудь, а я, видел Буденного на белолобом гнедом коне, и Ворошилова видел на трибуне Мавзолея. — Начинай! — нетерпеливо говорит Сергей, и я набираю полные легкие воздуха и дрожащим от волнения голосом запеваю:СЕРДЦЕ ПАРТИЗАНА
Мы жили в одном городе, и в городе нашем его знали тысячи людей. Мы жили под одной крышей, и в доме нашем, в нашем дворе его знали все: взрослые и дети. Двор огромный, людей много, но навряд ли нашелся бы человек, который не уважал бы его. Да, моего соседа уважали даже те, кому встреча с ним обещала одни лишь неприятности. Как-никак — заместитель начальника облуправления милиции. Каждой весной, на рассвете первого апрельского воскресенья, когда на молодых каштанах стремительно набухают почки, наш подъезд просыпался от его задорного густого баритона: — Эй, лежебоки, подъем! Выходи на воскресник — пора косточки размять! И тотчас на всех этажах хлопали двери, раздавался топот ног и даже не по возрасту располневший, солидный инженер Валентин Александров, кряхтя, присоединялся к веселой гурьбе: — Креста на вас нет! Никакой тебе субординации! А ну, давайте лопату! Вот эти каштаны, которые нынче достают кронами пятый этаж, посажены нами. И тополя, и акации, и цветы. И штакетник поставлен нами — нами и Виктором Михайловичем. Под его веселым руководством. Он работает — как песню поет. Всех зажигает азартом. А потом мы все собирались в его квартире за широким гостеприимным столом. Приятно ноют мышцы, дышится широко. Раечка, жена его, рада гостям. Аппетиты — на славу. Отобедав, обязательно просили: «Виктор Михайлович — расскажите!» И он рассказывал о не столь уж давнем прошлом, и чувствовалось — в рассказах тех не было ни капли вымысла. Он замечательный рассказчик, Виктор Михайлович. А потом приходил Первомай и День Победы, и в эти праздники наш сосед сменял скромный гражданский костюм на полковничий мундир цвета маренго. И надевал ордена и медали. Их много у Виктора Михайловича Бурого, по ним можно изучать всю историю Великой Отечественной. Одна из наград — самая дорогая. «Партизан Отечественной войны».* * *
Глухо шумит ветер в кронах столетних сосен. Потрескивает, дымится в костре сырой хворост, зыбкие красноватые блики ложатся на пушистые хвойные ветви, на задумчивые и суровые лица партизан. И, кажется, просто из сердца плывет тихая, суровая, как наша правда, песня:…Когда дописывались эти строки, из Киева пришла скорбная весть — Виктора Михайловича Бурого не стало. Он умер, как птица на лету, — от разрыва сердца. Он не прочтет этого очерка, но весной в нашем дворе зажгутся белые свечи каштанов. Жизнь, которую так любил Виктор Михайлович, продолжается.
МАТЬ
В семнадцать лет сыновья уходили на фронт. Первым — Николай. Потом Митя. Отец ушел раньше.* * *
Я был подростком. И этой дорогой ходил в школу: нашу 2-ю мужскую «гвардейскую» заняли под госпиталь, и нас, пацанов, к великой радости, распределили по женским школам. Впрочем, строго блюдя мужское достоинство, мы не афишировали свои чувства… Я попал в 81-ю женскую и теперь ходил в школу по улице Серова. И каждое утро на углу улицы Серова и проспекта Карла Маркса у проходной треста «Южэлектромонтаж» встречал пожилую женщину-вахтера. — Доброе утро, Наталья Евсеевна! Она улыбалась нам издалека, и когда улыбалась, вокруг глаз разбегались солнечные морщинки. — Здравствуйте, «гвардейцы» разжалованные! А ну, подставляйте ладони! И сыпала нам полные пригоршни душистых, по одной ей известному рецепту каленных семечек. Был тяжелый год. Только что отгремела война. Было голодно. Не ищите сейчас этого дома на улице Серова. На его месте выстроен ресторан «Юбилейный»…* * *
Когда закончилась война, их осталось трое. А весной 41-го было шестеро. Он — Семен Сергеевич — плечистый черноусый великан. Она — Наталья Евсеевна — маленькая, светлоглазая и тоненькая, как стебелек. Шестнадцатилетний Коля. Митя — младше на год. Десять лет Ивану. А Юрке — один год.* * *
Отец возвращался с работы поздно. Усталый. Но всегда — в отличном настроении. Его прихода ждали все. Четверо «обормотов» бросались на батю, повисали на плечах, трепыхались в его могучих лапищах, как воробьишки. Отец смеялся: своя ноша к земле не гнет! Иногда во время этой веселой возни у отца задиралась сорочка и тогда на широкой спине четко проступали бледно-розовые полосы. — Это что? — однажды спросил Иван. — Это, друзья мои, память… От атамана Орлика. Спасибо — друзья-чоновцы на выручку подоспели…* * *
В Новосибирске, куда они были эвакуированы, всей семьей пошли работать. Отец, Николай и Митя — на завод, вывезенный из Ленинграда. Мама брала домой заказы с швейной фабрики. Шили для фронта. Когда у матери слипались глаза, за машинку садился Ваня. Старался, чтобы строчки на гимнастерках ложились ровненькие — как у мамы. А Юрась работать еще не мог.* * *
Первым на фронт ушел отец. Враг стоял под Москвой. Отец сказал матери: — Пойду я в военкомат. Кажись, стрелять еще не разучился. Мама ничего не ответила. Напекла на дорогу коржиков. Связала отцу теплые носки и рукавицы с двумя пальцами — чтоб можно было стрелять. Все ребята с завистью примеряли отцовские обновки. Когда от отца приходили письма, в маленьком деревянном домике, аж до окон занесенном снегом, наступал настоящий праздник. По очереди вчетвером читали они вслух эти коротенькие весточки с полей великой битвы: «Гоним фашистов — бьем и в хвост и в гриву, однако моему «максимке»-пулемету предстоит еще много потрудиться». Маленький Юрка-несмышленыш слушал, не перебивая.* * *
Когда от отца перестали приходить письма, в военкомат пошел Николай. Он так и сказал матери: — Пойду я, мама, в военкомат. Мама не сказала ни слова. Ночью она распустила свою шаль — отцов подарок и связала Колюне рукавицы с двумя пальцами — чтоб удобно было стрелять. От той распущенной шали остался большой моток — величиной с батин кулак. И опять каждый вечер она подолгу поджидала письмоносца — не прилетит ли долгожданная весточка с фронта. И однажды почтальон принес весть об отце. Отец погиб под Сталинградом.* * *
«Каждый вылет сержанта Николая Перепелицы отмечен боевым успехом… Если он не подерется с вражеским истребителем, то непременно обстреляет группу фашистских солдат пли колонну автомашин. Мужество и отвага Перепелицы в бою — безграничны!..» Мама много раз перечитывала вырезку из фронтовой газеты. Потом читал Митя. Потом Иван. А Юрка слушал.* * *
«…Ваш сын, Перепелица Николай Семенович, в боях за Советскую Отчизну, проявив геройство и мужество…» В пакете вместе с извещением лежали фотографии. Много фотографий. Их прислали однополчане Николая. Вот он среди офицеров-летчиков, в расстегнутой меховой куртке, вот — в кителе, с двумя орденами Красной Звезды на груди… Вот Колюня в длинноухом шлеме, улыбаясь, выглядывает из задней кабины штурмовика. На обратной стороне снимка надпись незнакомой рукой: «В последний полет».* * *
Каждый вечер мать раскладывала на столе эти фотографии. И однажды Дмитрий не выдержал. — Мама, я утром пойду в военкомат. Она сказала: — Попросись в авиацию, сынок… Митя до войны увлекался авиамоделизмом. Его модели побывали на выставках в Киеве, Харькове, Москве… Дмитрия взяли в авиацию, хотя ему не исполнилось еще семнадцати лет. Военком мог отказать мальчишке, но матери он отказать не посмел. Ночью из оставшегося мотка пряжи мама и ему связала теплые рукавицы с двумя пальцами — чтобы удобнее было стрелять. Уже отгремела Курская дуга. Уже над руинами родного города заполыхал наш багряный флаг… Кончался переломный, титанический 1943-й… Катилась война на запад…* * *
У каждого в сердце есть свои зарубины, свои вехи. Незабываемые, неизгладимые. И у нее есть три зарубины. Три белых конверта, надписанных чьим-то незнакомым, неумолимым почерком.* * *
Я был студентом и этой дорогой ходил в университет. И всегда на углу улицы Серова и проспекта встречал седовласую маленькую женщину. — Доброе утро, Наталья Евсеевна! Она в ответ улыбалась приветливо: — А, гвардеец? Ну, как успехи? Латынь-то пересдал? Иван шлет тебе привет. Их крейсер сейчас в походе… Отслужил Иван, вернулся, женился и дождалась бабуся внука. Мальчуган — вылитый Митя! И глаза большие, как сливы, и ресницы длинные и нос — кнопкой. Все Перепелицы — курносые, и оттого кажется, что все они в небо смотрят. Гордая порода. А вскоре и Юрка привел невесту в дом. И скоро, возможно, появится на свет новый курносый человечек. Может быть, внук удастся в дядьку своего, в Николая…* * *
Председатель горисполкома Днепропетровска Николай Евстафьевич Гавриленко был человеком, далеким от пафоса и сантиментов. Но когда снесли старое здание треста «Южэлектромонтаж», а с ним — и крохотную квартирку, в которой проживала династия Перепелицы, он сказал: — Дать матери квартиру просторную. На улице Ленина. Она это заслужила. На улице Ленина!ЖИЛ МАЛЬЧИК ЖЕЛТОВОЛОСЫЙ…
«Желтоволосый, с голубыми глазами…» Не знаю отчего, но стоило только взглянуть на автопортрет Володи, мгновенно выплыли из памяти и зазвенели в сердце эти щемяще-обнаженные есенинские строки. …Некоторое время назад умерла одна старенькая женщина, наша землячка — Прасковья Павловна Евдокиенко. Родственники и знакомые похоронили ее, как положено, справили поминки, разделили нехитрый старушечий скарб — не корысти ради, а скорее для памяти. И мне досталось, хотя с Прасковьей Павловной я не был знаком и в родичах ее не числюсь. Принесли мне толстую пачку каких-то бумаг, обернутую целлофаном. — Вот поглядите. Авось пригодится для работы. Покойница ими очень дорожила… Я развернул целлофан, просмотрел пожелтевшие, побуревшие от времени письма, документы, рисунки и тотчас понял: пригодится. И сейчас мы с вами, читатель, рассмотрим это скромное наследство — стопку ломких листков, которые она бережно хранила до последнего вздоха. Обложка от старинного альбома — сейчас таких альбомов не делают. Под обложкой рисунки — много рисунков, выполненных детской, но довольно-таки уверенной рукой. Даже не будучи тонким знатоком в области изобразительного искусства, можно с уверенностью заявить: юный художник был даровит. Все рисунки датированы 30-ми годами, последние выполнены накануне войны. Сегодняшним мальчишкам любопытно было бы поглядеть на то, что рисовал их сверстник почти полвека назад: контуры сказочных городов и самолетики, которых нынче уже нет и в помине. Огурец и спичечный коробок. Лица одноклассников и мордашки собак и кошек. Очень много днепровских пейзажей: мальчик жил на берегу, рисовал лодки, водные станции и берег — такой, каким его сегодня помнят разве что те, кому за полвека. На некоторых рисунках — поправки преподавателя, но везде одна оценка: «отлично», «отлично», «отлично»… Отдельной стопочкой — портреты вождей и выдающихся людей той эпохи: Сталин, Стаханов, папанинцы… А однажды нарисовал свой автопортрет…Теперь раскроем тоненькую канцелярскую папку. В ней, на манер филателистических кляссеров, аккуратно вклеены бумажные карманчики. В самом верхнем — записка, наверное — рукой матери: «Володя Евдокиенко. Родился 19. VI. 1926 г. Вес — 12 фунтов. Первые зубы — 8 месяцев. Встал на ножки — 10 месяцев. Начал говорить — в 1 год. Пошел самостоятельно — 1 год и 1 месяц»… Тут же в конвертике — прядка волос, светлых-светлых, аж солнечных. Помните: «Эти волосы взял я у ржи»?.. В следующем кармашке — выцветший красненький ученический билет, выданный ученику II группы Вове Евдокиенко дирекцией Днепропетровской средней школы № 28. Между прочим, владелец этого билета пользовался «правом входу через переднiй ганок трамваю». Серьезный документ! Вот еще любопытная справка — сохраняю стиль того времени: «Лучшему ударнику детсанатории ГПУ. Вова — лучший ударник в нашей группе. На протяжении 12 дней пребывания в санатории он показал себя одним из лучших детей. Хороший товарищ. Лучше всех исполнял режим дня санатория. Вова принял участие в организации нашей выставки»… Групповод (подпись). Завсанатории (подпись). В следующем кармашке — несколько ведомостей об успеваемости и переводные свидетельства, выданные Володе Евдокиенко — ученику сперва 28-й, а затем 67-й школы города Днепропетровска. Как он учился? По-всякому, как большинство мальчишек. Были и «тройбаны», но по рисованию — исключительно пятерки, а в одной графе преподаватель не удержался и рядом со словом «вiдмiнно» поставил жирный восклицательный знак.
Две стороны папки — как две эпохи. На второй странице собраны документы и письма иного рода. Вот записочка на обратной стороне обрывка какой-то немецкой ведомости с унылыми «ауфбауфирма» и «арбайтбараккен»: «Дорогая мамочка! Мы сейчас работаем на мясокомбинате, куда ты можешь приезжать лодочкой к 12 или после 5 часов. Привези мне, пожалуйста, такие вещи: старые ботинки, трусы, мыло, иголку с нитками, майку, потому что моя совсем разлезлась. Если есть — штаны старые. Две пуговицы, полотенце, гребешок и порошку от вшей и блох — обязательно!!! Главное — привези побольше хлеба и еды, т. к. работа очень тяжелая. Тут нам дают 150–200 граммов цвелого хлеба и «баланду». И мелко-мелко — отчаянная приписка: «Мамочка, ну почему ты приносишь так мало хлеба. Я тут голодаю целый день». Эта записка не нуждается в пространных комментариях. Согнанных за колючую проволоку подростков фашисты истязали голодом и непосильным трудом. Пожалуй, трудно придумать пытку изощреннее: голодающие работали на… мясокомбинате. За попытку утаить хоть крошку съестного — расстрел на месте. Ежедневная порция побоев была куда щедрей, чем хлебный паек. В первый же день освобождения левобережья от фашистов Володя добровольцем вступил в Красную Армию. Видно, у юного художника имелся к оккупантам свой особый счет. Судя по письмам, он форсировал Днепр в районе Войскового, в стороне от родного дома… В следующем бумажном карманчике — солдатские письма-треугольники. Их одиннадцать штук — коротеньких, всего по нескольку фраз в письме. Вот я разложил их в строгом хронологическом порядке и хочу процитировать хотя бы по фразе из каждого письма, и мы с вами увидим, как в считанные дни вчерашний подросток мужал, становился воином, и каким он, в сущности, оставался мальчишкой: «26.XI.43. с. Марьевка. Здравствуй, мамочка! Я жив и здоров. Нахожусь в 39-й гвардейской дивизии. Сейчас мы на передовой. Извини, что пишу мало: некогда. Пиши ты побольше. Целую крепко — Вова. Привет знакомым». «10.XII.43. с. Соленое. Здравствуй, дорогая мамочка! Я нахожусь в гвардейской дивизии. Чувствую себя хорошо. Очень интересуюсь узнать, как у нас дома, что с папой. Мой адрес: полевая почта 39369 «А», бойцу Евдокиенко. Целую крепко — Вова». «16.XII.43… Не знаю, чем объяснить, что от вас до сих пор нет писем. Очень хочется знать, как у нас дома. Чувствую себя хорошо. Пишите побольше». «14.1.44. С новым годом, дорогие мама и пана! Неужели к вам не доходят мои письма? Как там дома? Уцелел ли наш домик? Я все время нахожусь недалеко от Днепропетровска, говорят, что город пострадал очень сильно. Вообще, писать мне некогда — очень редко бывает возможность написать. Интересно, как там Наташа? Р. S. Если долго буду молчать — не волнуйтесь. Целую крепко — Вова». «16.1.44. Я еще не получил от вас ни одного письма — очень волнуюсь. Мамочка, если узнаешь мой адрес, напиши штук 20 писем, может быть, я хоть одно получу. А пока желаю вам всего наилучшего, крепко целую — Владимир». «30.1.44. Здравствуйте, дорогие! Я жив-здоров, нахожусь от Днепропетровска километров около ста. Не хочет немец уходить с Украины, приходится нам драться за каждый километр…» «11.II.44. Здравствуйте, дорогие мои! Получил от тебя, мамочка, еще 2 письма. Теперь немного успокоился. Я чувствую себя хорошо, немного, правда, устал — немец так удирает, что приходится двигаться день и ночь. Сейчас у нас большое наступление, мы возле Никополя, немца прижали к Днепру. У меня пока мало новостей, да и те, пока дойдет письмо, будут старыми… За меня не волнуйтесь… Крепко целую — Володя». «17.II.44. Мамочка, здравствуй! Получил письма от Веры, от Шуры. Последнее шло очень долго — оно было опущено 19 января. У меня, мамочка, маленькая радость: я получил медаль «За отвагу» — награда, хоть и небольшая, но приятная. Чувствую себя хорошо. Дома, наверное, раз 20 простудился бы, на фронте же болезнь не пристает. Очень хорошо, что ты купила козочку — прикажи папе, чтобы не болел. Любящий вас сын Володя». «18.II.44. ст. Апостолово. Здравствуй, дорогой брат Шура! Очень рад, что ты вернулся, работаешь по специальности, теперь уж, если меня не станет, то будет у папы и мамы на старость поддержка. Я пошел в армию, как только был освобожден наш город. Служу уже 4 месяца, недавно получил медаль «За отвагу». Чувствую себя хорошо. Насчет маминых опасений, что немцы вернутся — не бойся! Они не вернутся, ручаюсь! Ты знаешь, Шура, папа был в концлагере, в селе Новониколаевка, а наша дивизия как раз освобождала это село. Как жаль, что нам не удалось с ним встретиться…» «18.III.44 …Я, мамочка, может, не буду писать, т. к. сейчас у нас горячее время. Скоро услышишь из газет. Опять будем наступать. Нашей дивизии присвоили звание Никопольской»… «27.III.44 …Как у нас сейчас, наверное, хорошо на Днепре! Я очень волнуюсь за домом, но ничего, мамочка, конец войны — не за горами. Осталась Одесса и еще несколько городов — и Украина очищена…» Так заканчивается последнее письмо. Юному солдату осталось жить 3 дня. Когда мама получит этот последний треугольник (а случится это 19 апреля), рядовой Володя Евдокиенко будет лежать в братской могиле… В последнем вкладыше папки лежало два документа. Первым извещением, датированным 15 февраля, командир войсковой части поздравляет Прасковью Павловну с награждением ее сына медалью «За отвагу». Во втором сообщалось, что красноармеец Владимир Иванович Евдокиенко в боях за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен в бою и умер от ран 30 марта 1944 года, похоронен в Широковском районе, селе Николаевка-Козелик. Вот и вся история молоденького солдата-днепропетровца с улицы Овраг-Поля, светловолосого, с голубыми глазами, которому не суждено было стать знаменитым художником. Одного из сотен тысяч рядовых солдат великой войны. Может быть, вездесущие следопыты из 28-й и 67-й школ, где учился Володя, разыщут оставшихся в живых его однополчан, и мы узнаем, за какой подвиг получил он свою первую и, увы, единственную боевую высокую награду. Может быть, юноши и девушки с мольбертами, облюбовавшие нынче склоны паркаимени Шевченко, задумаются на миг, вспомнив совсем недавнее, а для них уже легендарное прошлое, и это будет лучшей памятью Володе и тысячам его ровесников, ушедшим в бессмертие, не дописав своих полотен и стихотворных строк, «не долюбив, не докурив последней папиросы».
ТРИ ВЕТКИ СИРЕНИ
С востока вслед за солнцем, через всю необъятную нашу страну мчались телеграммы, обгоняя друг друга. Самая дальняя — с мыса Шмидта Магаданской области — от Вали Смирновой. «Поздравляю… обнимаю… желаю…» Из Хабаровска и Читы, из Якутска и Омска, из Алма-Аты и Ташкента, из Риги и Таллина, из Тбилиси и Сочи, из Москвы, Ленинграда, Киева летели поздравительные телеграммы в Днепропетровск все одному и тому же адресату: улица Философская, 29, бывший детский дом № 4, Григорию Минаевичу Левину. А вслед за телеграммами погожим январским утром стали прибывать их отправители: заслуженный шахтер из Донбасса и академик из Белоруссии, директор прославленного Ленинградского оперного театра и металлург из Запорожья, учительница из Казахстана и моряк-тихоокеанец. Съезжались рабочие и врачи, инженеры и артисты. Штатские и военные. С детьми и с внуками. При орденах и медалях. Нарядные, как в дни самых больших праздников. И всех их встречал Учитель. Высокий, плотный, по-солдатски стройный, с открытым волевым лицом. В строгом темном костюме. Позвякивали на груди правительственные награды. Лукаво и мудро светились добротою глаза из-под больших очков. Вот только привычная большая трубка на сей раз не дымилась у него во рту: как-никак повсеместно идет борьба с курением, а ему не пристало показывать дурной пример «детям». На вид Григорию Минаевичу полвека от силы. На самом деле, сегодня ему — 75. Из них 40 лет он отдал детям, и не просто ребятне, а тем мальчишкам и девчонкам, у которых войны, болезни либо какие иные бедствия и несчастья отобрали родителей… У героев этого репортажа, у питомцев юбиляра сегодня не будет отчеств, ибо в этом зале — все они вмиг помолодели, стали юными. Рассказывает педагог Зина Козаченко: «В далеком 1932 году Григорий Минаевич привез меня сюда — совсем крохотную. Я испугалась, забилась в угол. И вдруг в руках моих оказалась кукла, чудесная кукла! Это была первая настоящая радость в маленькой моей жизни. С тех пор я вроде уже и не плакала никогда»… …Поднималась на ноги страна, грохотали первые пятилетки, вместе со страною поднимался детдом, обрастая новыми мастерскими, классами, удобными и просторными бытовыми помещениями. Все лучшее — детям! И ребята-детдомовцы вместе со всей нашей молодой страной учились держать в руках рашпиль и молоток, а главное — учились любить свою Родину-мать, которая одним из первых своих революционных декретов провозгласила: в Советской республике нет и не будет сирот. Никогда! В страшном 1941 году Григорий Минаевич спасал детей от гибели — увозил их в глубинку, в далекий тыл. А вскоре большая семья детдомовцев провожала на фронт первых добровольцев: отсюда на битву уходили только добровольцами. «Думать о Родине нас учили наши замечательные воспитатели». И, махая платочками, как издавна повелось на Руси, бежали за составом детдомовские девчонки, провожая своих братишек. Петр Шпурик, Николай Шендрик, Владимир Пацыло и многие другие ребята-добровольцы сложили головы за Отечество. А иные дошли до Берлина, вернулись с победой. Рассказывает бывший военный моряк, а ныне начальник цеха одного из металлургических заводов Запорожья Сергей Зеленский: «В сорок первом мы с товарищем сбежали на фронт. Было нам лет по пятнадцать. Естественно, нас задержали на ближайшей станции, вернули в детдом. Ну, думаем, влетит теперь от строжайшего Григория Минаевича! А он посмотрел на нас грустно-грустно и сказал: — Молодцы, мальчики. Только подрастите малость. Подросли и пошли воевать. На флоте я понял, что такое детдомовская выучка: чувство локтя, чувство ответственности не только за себя, чувство справедливости, обостренное чувство любви к Родине — вот что воспитал в нас детдом»… …А тем временем продолжается встреча, и бывший детдомовский, а ныне зал школы-интерната заполнился до отказа, но гости все прибывают. Я не стану излагать даже вкратце все взволнованные, трогательные слова, произносившиеся в адрес юбиляра. Только что посланцы Алма-Аты облачили Минаевича в роскошный казахский халат. Киевляне вручают ему медаль на муаровой ленте, отлитую в единственном экземпляре — специально к юбилею. Немало наград у юбиляра, но эта медаль, вероятно, одна из самых дорогих. А вот еще подарок: бандероль, а в ней — ноты: «От бывшего проказника и непослушника. «Воспоминания о детском доме». Вокализ. Автор — Валентин Пушкарев». Григорий Минаевич вспоминает: — Вскоре после войны инспектировал Днепродзержинский детдом. Гляжу — на лавочке паренек чумазый, на губной гармошке играет, да так виртуозно! Говорю директорше: отдайте парнишку. Она аж засияла от восторга: «Да я пятерых ваших возьму — только избавьте меня от этого Тома Сойера». Крепко пришлось повозиться с Валентином. Теперь это известный дирижер, музыкант, композитор… А вот на трибуну поднимается плечистый улыбчивый человек — Олег Ольховский, директор Синельниковского комбината коммунальных предприятий. Задумчиво глядя в переполненный зал, вспоминает: — Трижды бежал я из детдома. Сейчас оглядываюсь на свое детство и удивляюсь: как вам удалось из меня человека сделать? Вот вам три ветки сирени — за каждый мой побег по ветке!.. Сирень в январе! Она благоухала на весь зал… «В трудные послевоенные годы, — вспоминает бывшая детдомовка Людмила Слободская, — директор умудрялся даже одевать нас нестандартно, не хуже сверстников, у которых были родители. Душевно богатыми были наши праздники, отличались веселым убранством. А на демонстрациях колонна детдома традиционно выглядела одной из лучших в городе! Все это вместе помогало нам освобождаться от затаенного чувства одиночества». «Матросы часто удивляются тому, что я все умею. Это потому, что в детском доме меня научили всему, что необходимо в жизни. В слесарной мастерской я научился рубить металл, не глядя на головку зубила. Я умею сапожничать, фотографировать и рисовать. В духовом оркестре научили любить музыку, в биологическом кружке — наблюдать в природе то, чего я раньше не замечал»… Это из воспоминаний капитана II ранга Юрия Андреевича Войтовича, чей портрет на фотомонтаже помещен в центре стенда. Вот что писала о нем недавно флотская газета: «Нельзя говорить без восхищения об акварельных этюдах, принадлежащих кисти офицера Юрия Андреевича Войтовича. В ярких лаконичных работах художнику удалось показать природу разных уголков нашей Родины, где ему посчастливилось побывать»… Вы обратили внимание: этого питомца детдома мы назвали по имени-отчеству. Замечательный, мужественный человек — Юрий Андреевич так мечтал прибыть на традиционную встречу! Но, к сожалению, его уже нет в живых. Нет, не в море погиб он, не в бою. Защищая родную землю и все живущее на ней, он был убит предательским выстрелом браконьера… В суровом молчанье на мгновение замирает зал. Продолжается жизнь, продолжается бой: битва добра со злом… Вспоминает Григорий Минаевич: — Однажды в конце сороковых годов меня вызвал первый секретарь обкома партии. Он сказал: — Ко мне приходила делегация ваших питомцев, приглашала на праздник. К сожалению, я не мог приехать — времени нет абсолютно. Ребята рассказали мне о своей жизни, о том, как много доброго и хорошего делается у вас в коллективе. Великое вам спасибо за отеческую заботу о детях. Главное, они хорошо понимают послевоенные трудности страны, в разговоре с ними я не услышал нытья и жалоб. Тут нам удалось выявить кое-какие резервы. Бюро обкома партии приняло специальное постановление об улучшении снабжения детских домов… «В ответ на проявленную обкомом заботу ребята пообещали еще лучше учиться и работать. Мы почувствовали значительную прибавку к нашему рациону, в ребячьих гардеробах появилось больше одежды, а в комнатах обновилось кое-что из мебели. Мы еще раз почувствовали, что дети в нашей стране являются привилегированным сословием», — вспоминает в недавнем прошлом майор-инженер, а ныне сотрудник одного из киевских научно-исследовательских институтов Владимир Монский. «Он был очень строг, но справедлив, наш директор, — рассказывал мне сидящий рядом мой университетский товарищ Василий Потапов — тоже детдомовец. — Именно благодаря ему и я, и доцент горного института Михаил Корнеевич Михеда, и многие другие наши однокашники стали педагогами: было с кого брать пример!..» …А потом бывшие питомцы пели свои, детдомовские песни и смотрели фильмы о себе, фильмы любительские и профессиональные — десяти-, двадцати-, двадцатипятилетней давности. И вскрикивали радостно, узнавая себя и товарищей, и педагогов. И смеялись, и всхлипывали от волнения, возвращаясь в свое дружное детдомовское детство. Они смотрели фильмы, а на них с материнской любовью смотрела исполинская наша страна, наша Родина, которая с первых своих революционных декретов заявила: в Советской республике нет и не будет сирот. Никогда!ТРИ СТРАНИЦЫ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ (Из рассказов старого чекиста)
Когда выдается свободная минута, мы прогуливаем с ним в парке наших малышей. Я — сына, он — внучку, Иришку-комаришку. В эти минуты вы мне можете позавидовать, потому что я слышу такие истории, которые не во всяком детективе прочтешь… — Ушастый! — кричу я сынишке, которого поминутно надо одергивать. — Не лезь на клумбу, не топчи цветы! Собеседник мой улыбается: — Обижаешь деда! Это ведь и в мой огород камешек. Бог и меня ушами не обидел! В сущности, какой он дед? Ни усов, ни бороды, ни лысины. Разве что фамилия стариковская — Дидусь. Очень худой жилистый пожилой человек с пронзительными, цепкими, добрыми глазами. Такой взгляд бывает у людей, много повидавших на своем веку, переделавших уйму тяжелой работы. Непосильно тяжелой работы, которая, кажется, и через много лет давит на плечи. — Василий Иванович, — говорю я, — вот вы книги пишете, тысячи земляков знают вас, в основном, как литератора, как лектора-атеиста, а о вас самих, между прочим, можно запросто роман написать. Только я бы вместо слов «глава первая», «глава вторая», писал бы — «пуля первая», «пуля вторая» или что-то в этом роде. И роман этот назывался бы примерно так: «А до смерти четыре шага». Мой собеседник перестает улыбаться: — Меня-то пули миновали. Заговоренный вроде бы, заколдованный. Друзей похоронил много — о них писать надо. Какие парни были!.. Василию Ивановичу Дидусю тогда исполнилось 70 лет. Совсем мальчишкой батрачил у кулака. В 1921 году вся семья Дидусей вступила в сельскохозяйственную коммуну «Интернационал», организованную для бедняков в Николаевской области. Здесь Вася работал наравне со взрослыми, потому как впервые на себя трудились! Был пастухом, разнорабочим. После смерти Ильича по Ленинскому набору вступил в комсомол. В 1930 году стал коммунистом. Считай, половину жизни отдал борьбе с врагами Советской власти. Удостоен самых высоких наград Родины, заслужил звание почетного сотрудника Комитета государственной безопасности… Очень скромный человек Василий Иванович Дидусь — коммунист, чекист, писатель. Я бы сказал — редкой скромности человек. И все же о нескольких эпизодах из его жизни, с его позволения, мы расскажем читателям. Итак, П У Л Я П Е Р В А Я. СЕМЬ ДНЕЙ У БОЧКИ С КЕРОСИНОМ В большом портовом городе на судоверфи Василия Дидуся знали многие. Отсюда «комса» провожала Васю в чекисты, сюда он часто заглядывал по делам и просто навестить старых товарищей. Однажды повстречала его группа комсомольцев, чем-то очень взволнованная. Цеховой секретарь Володька за всех выпалил одним духом: — Хорошо, что встретили тебя, я как раз звонить в ЧК собирался… Странный тип у нас объявился в округе — в чайной к рабочим подсаживается — угощает, деньги пачками швыряет, что твой Рокфеллер. Все про «малютки» выспрашивает. Что да как? Время было тревожное. В Испании разгоралась война с фашистами. Самураи пошаливали на Дальнем Востоке — силы пробовали. Корабелы города только что приступили к выпуску подводных лодок — «малюток». Многих агентов иностранных разведок, охочих до наших военных секретов, вылавливали тогда чекисты. — Ну, насчет Рокфеллера ты загнул малость. Тот зря сорить деньгой не будет. А не в меру любопытного могли бы и сами задержать, да и к нам привести! — упрекнул Василий старого друга. Володька пригладил рукой непокорную рыжую шевелюру, вздохнул виновато, ответил за всех: — Ротозеи, конечно. Пока за милицией сбегали, его и след простыл. Но я-то его хорошо запомнил. Руки в волосьях!.. В управлении Василию строго-настрого приказали: — Раз ты на него вышел — тебе и карты в руки. Ищи. День за днем бродил Василий по городу. Заглядывал во все пивные, просиживал вечера в чайных — незнакомец не появлялся. Как-то вечером прибегает к Василию домой запыхавшийся Володька-комсорг, пуще прежнего расстроенный: — Сегодня встретил этого, волосатого! Керосин он покупал на Базарной. Ну, думаю, теперь не улизнет! Он в переулок, я — за ним. На расстоянии, конечно, как ты учил. Он во двор — я переждал маленько и снова за ним. А двор-то гляжу — проходной… Тю-тю! Ушел, гад! — Он тебя заметил? — Не! Навряд ли. — А бидон большой был? — Не. Литра на два. Да при чем здесь бидон? — вконец расстроился Володька. — Я ему про шпиона, а он про бидон!.. А надобно вам сказать, что в те времена тысячи горожан готовили пищу исключительно на примусах и керосинках. Вот и смекнул Василий: раз керосин брал, значит, обжился основательно, а раз бидон небольшой — значит «клиент» вскоре придет за горючим снова. С утра чекист Дидусь занял очередь к керосиновой бочке на Базарной. В кепке с пуговкой, в вылинявшей косоворотке, он ничем не выделялся из толпы горожан. Медленно продвигаясь в обществе стариков и домохозяек, Василий подходил почти к самой раздатчице, а потом с пустой банкой под мышкой выходил из толпы, снова становился в хвост очереди, среди десятков лиц ища одно. И так ежедневно — множество раз. О том, что его заприметят, заподозрят, Василий не беспокоился: домохозяйки — народ запасливый, приходили все больше с объемистой тарой, а наполнив, спешили восвояси по своим житейским делам. Но как же надоело ему толкаться часами в очереди, слушать бесконечную болтовню обывателей и вдыхать с утра до вечера ставший до тошноты омерзительным запах керосина!.. На пятый день вечером, когда Василий, отстояв свою «вахту» вплоть до закрытия бочки, пошатываясь от голода и нестерпимой боли в ногах, перешагнул порог управления, начальник сказал шутя: — Отойди от стола — дышать нечем. Тоже мне, Диоген из нефтебочки! Да гляди не чиркни спичкой — взорвемся! Недовольство руководства можно было понять: в управление поступали оперативные данные о том, что разыскиваемый агент не сидит сложа руки. На шестой день долго не привозили керосина, и очередь не двигалась. Стоять на одном месте на солнцепеке было невыносимо. На седьмой день Василию явно не повезло: дважды ему, зазевавшемуся, наполняли банку керосином и приходилось, оглядываясь, опорожнять ее в ближайшей канаве. Того и гляди — оштрафует милиция. — «Теряешь бдительность, чекист Дидусь! — ругал себя Василий мысленно. — Эдак дело не пойдет! Терпи!» И снова становился в «строй». А на восьмое утро, уже привычно пристроившись в хвосте очереди, он чуть не вскрикнул от неожиданности, потому что в двух шагах от себя увидел того, кого искал… Он! Ошибки быть не может! Все приметы — тютелька в тютельку! Нестерпимо медленно продвигалась очередь. Медленно тянулось время… …Невысокий коренастый человек в помятой шляпе и черном не по сезону плаще не спеша идет по пыльной улице вдоль приземистых глинобитных домишек. Каблуки на штиблетах скособочены. Ни дать ни взять — провинциальный бухгалтер или иной какой мелкий служащий. В левой руке — бидончик с керосином: сейчас придет к себе в каморку, заправит примус, станет жарить картошку на постном масле. И это он сорил деньгами, как купчина! А между прочим, правая рука неестественно глубоко опущена в карман плаща, и в изгибе ее локтя чувствуется напряженность, и напряженность во всей его пружинистой и подчеркнуто небрежной походке. И когда незнакомец поравнялся с постовым милиционером, Василий мгновенно принял решение. С грохотом и звоном раскалывается о мостовую ненавистная стеклянная банка, со всего размаху брошенная Василием. Здесь задействован психологический эффект: «волосатый» вздрагивает от неожиданности и на какую-то минуту теряет контроль над собой. Этого мгновения как раз достаточно: Василий резко выдергивает руку незнакомца из плаща, выламывает из волосатой лапы пистолет и кричит растерявшемуся было милиционеру: — Подсоби, товарищ! Я из ЧК! П У Л Я В Т О Р А Я, вернее, не пуля, а ОБЫКНОВЕННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУЛОЧКА Шел 1940 год. Пол-Европы пылало в пожарах. Миллионы людей стонали под гнетом фашистского ига. Над нашими западными границами сгущались грозовые тучи. Но над территорией некоторых областей Западной Украины и Белоруссии впервые ярко сияло долгожданное солнце свободы. Распрямились спины бедняков. В свою землю падали свои зерна и давали обильные всходы. Дети вчерашних батраков садились за парты… А в спины тем, кто нес народу свет новой жизни, целились стволы бандитских револьверов. Кулачье и не успевшие улизнуть магнаты, религиозные фанатики, буржуазные националисты и агенты мирового империализма в своей звериной ненависти к Советской власти были беспощадны. Особенно свирепствовали члены польской террористической организации СДЛ (смертельная дружина людова). Однажды вечером в Ровенское ЧК поступили сведения, что в Клевань прибывает самый главный руководитель СДЛ всей Волыни. Приедет десятичасовым вечерним поездом, остановится у учителя местной школы, пробудет у него всю ночь. — Ого, какой долгожданный гость осчастливил нас своим визитом, — взволнованно потирая руки, говорил Дидусь своему заместителю Петру Ефимовичу. — Ваше мнение? — Надо брать и немедленно. Иной возможности может не представиться. Василий Иванович быстро взглянул на часы. До прихода поезда — считанные минуты. До Клевани немало километров. Жаль, «дорогого гостя» не удастся встретить на вокзале. Оно, может, и к лучшему, — отшутился Петр Ефимович. — Ну где ты цветы раздобудешь? Проверили оружие. — Вперед! Две «эмки» с чекистами стремительно мчатся по шоссе, рассекающему лес. В лучах фар причудливо пляшут стволы сосен. Крупные капли дождя лупят в ветровое стекло… На опушке свернули с дороги, укрыли машины в кустах. Прямо к лесу приткнулась окраина городка. Ни огня, ни собачьего лая. Спит городок. Тихо. Даже не верится, что в нескольких десятках метров за крепкими кирпичными стенами притаился матерый бандит. Вот и дом учителя. Чекисты бесшумно перемахнули через палисадник. Казалось, в доме все спят: ставил закрыты наглухо. И лишь в одном окне сквозь щелочку пробивается тонюсенькая полоска света. Стараясь не дышать, прильнули глазами к щелке. В слабо освещенной комнате, за столом, уставленным бутылками и обильной снедью, сидят двое. Один пожилой, лысоватый — вероятно, хозяин. Зыбкий свет керосиновой лампы падает на лицо гостя — очень высокого, жилистого человека лет тридцати. Белесые волосы гладко зачесаны назад. Глубоко посаженные глаза как бы сверлят собеседника. Вот он потянулся через стол, отломил гусиную ножку, что-то сказал собеседнику… О чем они говорят? Чекисты осторожно отошли от окна. Посовещались. — Гуся жрут, черти, — вздохнул не успевший поужинать Петр Ефимович. — Ну что, будем брать с ходу? — Этак нельзя, — возразил Дидусь. В доме, как тебе известно, старики, дети. Рискованно. А если он, к тому же, начнет палить — всполошим весь городок. Надо ждать. — Придется, ничего не поделаешь, — снова вздохнул заместитель. Летняя ночь коротка, и все-таки чекисты промокли до нитки и продрогли до костей. — Не стучи зубами, — пробовал еще шутить Петр Ефимович. — На весь городок слышно! К рассвету дождь прекратился. А когда на востоке заалела бледная зорька, дверь учительского дома беззвучно приоткрылась, и из нее вышел высокий человек. Вовсе не крадучись, пошел по направлению к лесу. Он как бы плыл в рассветном тумане, над которым возвышались лишь голова да широкие плечи. И когда он шагнул на опушку, от сосен отделились несколько теней и замкнули кольцо вокруг незнакомца: — Ни с места. Сопротивление бесполезно. Но высокий, по всему видать, и не собирался сопротивляться. Он спокойно, даже с улыбкой разглядывал чекистов. — Прошу. Только вы, вероятно, с кем-то меня перепутали. Я ни в чем не виновен. — Это мы сейчас проверим, — сказал Дидусь. — Если невиновны, извинимся перед вами. Что у вас в карманах? — Прошу, — снова улыбнулся высокий и с готовностью поднял руки: мол, обыскивайте сами, коли не доверяете честному человеку. В карманах брюк у незнакомца (он был без пиджака, в простой крестьянской полотняной рубашке) — ничего подозрительного не обнаружили. Пачка сигарет, картонные спички и… булочка. Обыкновенная французская булочка, или, как сейчас говорят, — городская. Черствая булочка. Дидусь нахмурился: «Просто удивительно. Брать с собой в дорогу всего лишь черствую булочку! На столе-то пироги лежали сдобные — целая миска!» — А я не ем сдобы! — резко сказал незнакомец, тревожно следя глазами за пальцами Василия Ивановича, вертевшими булочку. — В таком случае, посмотрим, что за начинка у нее в середине! И Дидусь разломил булку. Лицо незнакомца заметно побледнело. Он рванулся было к Дидусю, но чекисты придержали его за локти: — Спокойно! А в булочке, в самой середине, оказался крохотный листок бумажки, свернутый в трубочку. Уже совсем рассвело, и Василий Иванович, развернув бумажку, прочел следующее: «Я (дальше шли имя и фамилия) даю настоящую присягу в том, что беру на себя обязанности руководителя областной организации СДЛ. Да поможет мне бог»… — Так кто же вы все-таки? — спросил Дидусь уже в машине у задержанного. — Руководитель Волынского СДЛ, вы же знаете, — злобно ответил тот. …Вскоре «смертельная дружина» на Волыни перестала существовать… ПУЛЯ ТРЕТЬЯ. А К НЕЙ ГРАНАТА. ДАЖЕ ДВЕ ГРАНАТЫ И снова Ровно, первое послевоенное лето. Смолк над Европой грохот орудий. Вереницы беженцев возвращались к родным пепелищам. Жизнь понемногу входила в мирное русло. Украшенные гирляндами цветов, звенящие трофейными аккордеонами эшелоны увозили на восток истосковавшегося по мирной жизни воина-победителя: домой, домой, домой… И только для чекистов продолжалась война. Жестокая битва не на жизнь, а на смерть. Днем и ночью… Тот август был особенно жарким — во всех смыслах этого слова. Знойные дни сменяли душные ночи. Казалось, зной навсегда поселился в узких, непродуваемых, каменных лабиринтах ровенских улиц. Уже который день чекисты буквально валились с ног в поисках Богуна — такова была кличка главаря банды украинских буржуазных националистов. Богун был жесток и дерзок, а его немногочисленная банда — неуловима. Терроризируя местное население, убивая военнослужащих, сельских активистов, банда объявлялась в самых неожиданных местах. Оставив кровавую отметину, она бесследно исчезала в буераках и схронах, чтоб завтра снова дать о себе знать. Вот почему этой ночью в душном прокуренном кабинете майор Дидусь снова не мог уснуть, ворочаясь на жесткой кушетке. А под утро, едва забылся в дреме, его разбудили, доложив, что внизу дожидается какой-то человек, желающий сообщить важную новость. — Я, — говорит, — только начальнику сообщу. Но, кажись, что-то с Богуном связанное, — сделал свой вывод дежурный. — Немедленно пропусти, — приказал Василий Иванович, разглаживая ладонями небритый подбородок и застегивая воротничок кителя. Вместе с заместителем Соколовым они внимательно слушали неожиданного визитера. Круглолицый, лет двадцати крепыш в расстегнутой чесучевой рубашке (душно) и простеньких брюках, заправленных в кирзовые сапоги, чем-то располагал к себе, а его голубые, по-юношески чистые глаза глядели подкупающе прямо, как бы говоря: верьте мне! Зовут его Стась. Родом из Клевани («опять эта Клевань» — поморщился Дидусь, вспомнив свою предвоенную одиссею). Стась связан с бандой Богуна — в его функции входит осведомлять последнего об опасности, сообщать ему разные нужные сведения. — Я молод и хочу жить, — твердо сказал Стась. — Честным признанием хочу искупить свою вину. Он охотно рассказал, сколько человек в банде, как они вооружены. Вспомнил и о последних операциях, назвал настоящую фамилию главаря. Поскольку чекисты уже располагали этими данными, стало ясно, что Стась не лжет. На вопрос же, где пребывает банда, Стась пообещал немедленно сообщить ее местопребывание, если ему гарантируют полную свободу. — Я советский офицер, — сказал Василий Иванович, — и слову моему верить можете. А если вы боитесь оставаться тут, мы вам поможем на время уехать в безопасное место. И Стась указал адрес усадьбы в Клевани, где прячется нынче Богун. Прощаясь у порога, сказал: — Обратите внимание на куст жасмина в углу двора… И с тем ушел восвояси. А вскоре чекисты окружили указанную усадьбу и приступили к обыску. Они тщательно осмотрели дом, чердак, пристройки, и угрюмый хозяин исподлобья следил за ними. Он повеселел лишь тогда, когда чекисты ни с чем собрались уходить. — А что это за куст, разрешите полюбопытствовать? — сказал вдруг Дидусь. Хозяин заметно стушевался. А чекисты тем временем разгребали аккуратно уложенный дерн — вместе с кустом, вместе с аккуратно вставленной трубкой. Стало быть, через эту трубку дышали. Подняли деревянный ящик, и взорам открылся лаз в бункер. Бункер оказался пустым. По остаткам пищи, по свежим бинтам чекисты без труда установили, что банда улизнула буквально из-под носа. Да и хозяин не отрицал этого. Куда они скрылись — ему было неизвестно. — Надо срочно искать Стася, — решил Василий Иванович. Но Стась не замедлил объявиться сам. …Он сидел в уголке кабинета на краешке стула, и по лицу его было видно, что парень явно чем-то встревожен. Сидит в неудобной позе, пальцы нервно подрагивают на коленях, а сам поминутно поглядывает то на раскрытое окно, то на двери. И, странное дело, несмотря на духоту, на нем длиннополый двубортный пиджак — явно не по росту. Странное поведение гостя не ускользнуло от глаз чекистов. А Стась, обливаясь потом, говорил и говорил… Да, он знает, куда перебралась нынче банда, но не доверяет Дидусю, он боится, что банду выловят, а потом и его, Стася, посадят за решетку. И поэтому он откроет тайну только самому главному начальнику — желательно генералу. Уж тот наверняка не подведет его, Стася… Что ж, требование посетителя было вполне законным, если бы не… Если бы не этот хриплый, срывающийся голос, нервные пальцы, поминутно то расстегивающие, то застегивающие пуговицы пиджака, и если бы не этот пиджак, непонятно зачем напяленный в такую жару. А под мышкой у Стася явно что-то отдувалось. — Ладно, — сказал Дидусь, — ладно, не доверяете мне — дело ваше. Будет вам генерал. Чекисты незаметно переглянулись, и Василий Иванович вышел из комнаты, а вскоре возвратился еще с одним сотрудником. Он как бы невзначай, стал справа от Стася, сотрудник — слева, а Соколов шагнул вперед. — Пойдемте, — сказал Дидусь, — генерал ждет вас! И в тот миг, когда Стась поднимался со стула, Соколов резко распахнул полы его пиджака: — Не жарко ли? Стась потянулся было рукой за пазуху, но чекисты молниеносно перехватили его запястье. — Еще бы, — резюмировал Василий Иванович, извлекая у задержанного из кармана взведенный пистолет, снимая с пояса две «лимонки» с запалами. — От такого снаряжения — как не вспотеть! Отпираться было бесполезно, и Стась признался во всем. Инсценировку с кустом жасмина они разработали вместе с Богуном, чтобы Стась таким образом вошел в доверие к чекистам. А нынче, добившись до «самого главного начальника», он должен был, покидая его кабинет, швырнуть через порог гранаты, уничтожить одним махом весь руководящий состав управления госбезопасности и с пистолетом пробиваться к выходу, где неподалеку его подстраховывали верные дружки. Надо ли говорить, что вскоре эти «дружки» — вся банда во главе с Богуном — предстали перед справедливым судом.* * *
Вот и перевернуты три страницы из жизни нашего славного земляка, скромного и мужественного человека Василия Ивановича Дидуся. В библиотеках вы найдете его книги — бесхитростные, откровенные — ровно настолько, насколько автору этих книг позволяла специфика его профессии. И со страниц этих книг глянет на вас чекист Дидусь — пронзительными, мудрыми, добрыми глазами. А книгу о Василии Ивановиче я так и не успел написать. И теперь уже никогда ее не напишу — со слов героя. Опоздал я и не могу простить себе этого опоздания…ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
Лейтенант Виктор Сапрыкин занемог. То ли сказалось переутомление от последних напряженных дней и ночей боевой учебы, то ли этот монотонный, непрекращающийся дождь был всему виною. Так или иначе, но начмед, заглянув ему в горло и покачав головой, строго приказал: — Немедленно в постель! …Мне правится лейтенант Сапрыкин. Нравится его открытое волевое лицо, прямой взгляд прищуренных, чуть-чуть с улыбинкой глаз, вся его ладная спортивная фигура. Есть в его облике, в приветственном жесте, в манере разговаривать с собеседником какая-то подчеркнутая флотская элегантность, что ли. Приятно спрашивать его по утрам, где стоять при подъеме флага мне, в сущности постороннему на корабле человеку. Любопытно наблюдать, как он, помощник командира, производит утренний осмотр: тщательно изучает блеск матросских ботинок; смотрит, чтоб носки были по форме, а не канареечного цвета, а форменные воротнички фланелевок чистые и отутюженные — «не единой красоты ради, а дабы у подчиненных на шеях раздражения не было». И этакая полушутливая манера объяснять свои действия тоже нравится мне. А когда в походе катер швыряет так, что, кажется, можно в любую минуту проглотить собственный язык, лейтенант Сапрыкин каменно стоит на мостике — стройный, сильный, и, глядя на него, чувствуешь себя увереннее и стараешься не хвататься судорожно за леера. Но одно дело — на мостике, а другое — в пустой палате медсанчасти. Не так уж часто болеют моряки — в палате лейтенант один-одинешенек. Зябко кутаясь в синий байковый халат (ох уж эти хозяйственники, до сих пор не затопили!), лейтенант захлопывает книгу (читать надоело) и в который раз спускается вниз, к телефону. Там за столиком сидит веснушчатый курносый матросик в таком же видавшем виды халате и строчит письма родным и близким. Он строчит их с утра до вечера мелким почерком, «поскольку места мало в рюкзаке». — Звонили? — коротко спрашивает Сапрыкин. — Никак нет, товарищ лейтенант! — почему-то радостно отвечает матрос. Лейтенант возвращается в палату и долго смотрит в окно на серый бесконечный осенний дождь. «Не звонят… Не приходят… Забыли!» — навязывает он себе обидную мысль, потому что отлично знает: никто его не забыл, просто ребятам сейчас на катере дел невпроворот. Молодому командиру лейтенанту Иванову ой как трудно без помощника. Опытный мичман Валерий Голомедов в отпуске, а лейтенант Василий Елисеев, недавно прибывший на корабль, только входит в курс дела. Лейтенант ложится на койку, закрывает глаза, пытается думать о чем-то веселом, солнечном, но мысли приходят отнюдь не мажорные, и он почему-то вспоминает о том, как взорвался крейсер… Крейсер взорвался со страшной силой, и носовую башню отбросило далеко в сторону. От едкого дыма потемнело в глазах. К счастью, Виктор отделался легким испугом: обожгло ресницы и брови — только и всего. Но на новеньком коврике, на котором проводился пробный залп, зияла огромная дыра, краска на полу выгорела, облупилась, а беленькие занавески на окнах стали черными, как пиратские флаги. Виктор сидел над обломками корабля и размазывал по лицу обильно текущие слезы. Не близость неминуемого возмездия угнетала его. Сколько труда и выдумки вложил он в этот крейсер! Башни корабля вращались, машины работали, ходовые огни горели. Оставалось только испытать орудия, для чего пришлось разрядить несколько патронов отцовской берданки. Скрипнула дверь. На пороге появился отец. Он закашлялся и протянул руку к висящему на гвозде широкому флотскому ремню: — Дом сжечь хочешь, стервец! Дом был гордостью шофера Николая Васильевича Сапрыкина. Немало трудов вложил он и четверо его старших сыновей в это просторное и светлое сооружение. — После такой войны все должны жить и работать красиво! — любил повторять отец. Крут нрав у бывшего моряка-водолаза, участника двух войн. И рука у бати тяжелая, когда осерчает. Это Виктор знал хорошо. Отец шагнул на середину комнаты, увидел изуродованный крейсер и Витькины слезы. Рука с ремнем, занесенная для удара, медленно опустилась… Потом были районные и областные олимпиады юных физиков и неизменные дипломы победителя. Учителя дружно агитировали поступать в машиностроительный институт. Виктор избрал другое. Откуда у парнишки из Курской области, с крохотной речушки Кшень, которую даже курица перелетит, этакая тяга к морю? Что пробудило ее? Может, скупые отцовы рассказы? Блестяще сдав вступительные экзамены, поразив медкомиссию бицепсами, Виктор поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени В. И. Ленина.* * *
ЦВЕТЫ ТЕРНЕЯ
Терней — небольшой городок, главной своей улицей вытянувшийся вдоль берега Японского моря. С запада, с лобастых сопок прямо на улочки спускается тайга, с востока городок отчерчен белоснежной линией прибоя. Есть такие города на просторах матушки-Руси, раз посетив которые, ощущаешь почему-то с потаенным волнением, что ты вернулся в детство. Таким, во всяком случае, показался мне Терней — «столица» Сихоте-Алиньского заповедника, где, слава богу, ходят еще на воле знаменитые уссурийские тигры, изюбры и крохотный безрогий олень-кабарга, о котором незадачливый поэт написал: «по снегу мчится кабарга, закинув за плечи рога». В Тернее живут рыбаки, охотоведы, ученые. Каждое дерево, каждый камень Тернея связаны с именем замечательного таежного следопыта Капланова, убитого браконьерами в тайге весной 1943 года… Наш учебный корабль бросил якорь на внешнем рейде Тернея. С борта корабля спустили бот: лучшим матросам, отличившимся в трудном походе, было разрешено осмотреть городок и богатый музей заповедника. Разминая отвыкшие от твердой почвы ноги, мы шли не спеша по тернейской улице вдоль деревянных домишек, чьи фасады, обращенные к морю, были обшиты толем (от сырости), вдоль палисадников, перевернутых старых баркасов и бесконечных гирлянд сохнущих рыбачьих сетей. Стояла поздняя осень. Тайга, ярко-алая и золотая, поднималась по сопкам слева от нас, упираясь в пронзительно-голубое небо. Справа, за палисадниками, синело море. Городок был пуст — все в море. Пусты были и палисадники — огороды давно прибрали — и от этого дворики казались тоскливыми и серыми. Но возле одного двора моряки удивленно остановились. Весь палисадник утопал в цветах. Везде виднелись астры — необыкновенно яркой расцветки: лиловые и желтые, оранжевые и огненно-пунцовые. Были хризантемы величиной с блюдце — ослепительной белизны. И еще какие-то незнакомые цветы. Над двориком плыл тонкий, пьянящий аромат. Казалось, воздух далеко вокруг насыщен, напоен этим пронзительным, горьковатым и терпким ароматом осенних цветов… — Вот те на, — восхищенно произнес наш боцман Василь Васильич, кряжистый белорус с рыжеватыми пушистыми усами, — а говорят, что на Дальнем Востоке солнце не греет, девушки не любят, цветы не пахнут! Вот так чудо! К калитке подошла женщина. Откуда она появилась — никто не заметил. Худенькая, по самые брови закутанная в тонкий шерстяной платок, с очень красивым, очень правильным лицом. Бывают такие лица — не понять, сколько человеку лет: двадцать, тридцать, сорок… — Нравится? — спросила женщина. — Еще бы! — тихонько воскликнул кто-то из матросов. — Не то слово!.. — С родины моей, с Украины… Семена сестра присылает, а я уж тут сама развожу как могу… Прижились… Мы еще полюбовались малость и, попрощавшись, пошли дальше. Но не прошли и двухсот метров, как позади раздалось шлепанье — не топот, а именно шлепанье ног. Теряя большие глубокие тапки, тяжело дыша, нас догнала наша недавняя знакомая. К груди она прижимала огромную охапку — целый сноп — цветов. Она догнала нас — раскрасневшаяся, счастливая. Из-под кружевного тонкого платка выбилась смоляная, тяжелая прядь. Глаза женщины сверкали: — Вот, возьмите, морячки… Это — вам! — Милая женщина, — воскликнул Василь Васильич, — зачем же нам столько! Куда мы их девать-то будем! — Раздайте матросам. Вы похвалили мои цветы. Спасибо вам! На корабль мы возвращались все той же длинной улицей. Знакомый нам дворик опустел — ни одного цветка. …Цветов хватило на все каюты. Их рассовали по графинам и банкам, и на камбузе вмиг поубавилось тары. Потом нас трепал штормяга и злющий тайфун с ласковым названием «Лариса». К родному пирсу мы пришли недели через две. Цветы захватили с собой — жаль было оставлять. Они все еще пахли. Ни один цветок не завял. Вот вам и пословица: «Солнце не греет, девушки не любят…»УЛЫБКА ЧАПАЯ
Мальчик был очень болен. Он давно не поднимался с постели, врачи сокрушенно разводили руками, и только один старенький доктор, много повидавший на своем веку, все еще не верил в печальный исход. — И все-таки, коллеги, я уверен, что мы имеем дело с сугубо психоастеническим фактором! Слово «фактор», ему, вероятно, нравилось, и он постоянно делал на нем ударение. Из низкой, краснокирпичной, построенной задолго до Семашко земской больницы мальчика решили перевезти домой, где и уютней, и просторней. Мальчик лежал на вышитых бабушкиных подушках и большими синими глазами смотрел на никелированные побрякушки, затейливо украшавшие спинку кровати. Его отец, коренастый, хмурый, с виду очень сильный человек, молча сидел у постели больного, уронив на колени тяжелые и сейчас как бы лишние ладони. И если бы мальчик мог догадаться, что его ожидает, он понял бы, почему за стеною так тихо плачет мать и почему старенький доктор, уткнувшись бородкой в темное вечернее окно, упрямо бормочет: — Нет, как бы там ни было, но это чисто психоастенический фактор… Сугубо психоастенический… В комнате пахло лекарствами и сосновой смолой. В печке потрескивали дрова, сквозь конфорки пробивались красные дрожащие отблески, и потому свет не зажигали. Вдруг мальчик попросил: — Папа, расскажи мне про Чапая… На белом коне… Молчавший дотоле отец встрепенулся: — Но я уж рассказывал тебе вчера о Чапае. Может, тебепрочесть о Коньке-Горбунке? — Нет, — тихо сказал мальчик. — Не надо про Конька. Расскажи про Чапая… на белом коне… Отец склонился над кроватью, чуть касаясь тяжелой ладонью, погладил влажные волосы сына, и если бы в комнате было светлее, мальчик, наверное, увидел бы, как дрожит отцовский подбородок, рассеченный давним шрамом. «…И окружили беляки наш отряд, налетели черною тучей, конца-краю им не видно. Кони у них злые, землю копытами роют, а зубами грызут стальные удила. Лица у казаков красные, в бородищах капуста застряла, а паши бойцы вот уже три дня (точь-в-точь, как ты!) — ничего не ели. Вот выехал вперед генерал да как заревет густым басом: — Эй вы, мужики-лапотники! Сдавайтесь на милость нашу, а не то всех вас шашками порубим, из винтарей побъем, на острые пики нанижем! Даю три минуты на размышление! Только красные бойцы не дрогнули: — Колите нас и рубите, — отвечают. — Все равно не сдадимся. Будем драться до последнего, Чапай нас в беде не оставит… И только сказали они эти слова, задрожала земля от топота копыт. Расступились тучи, и все увидели: на высокую крутую гору Урал выехал Чапай на белом коне. Конь под ним тонконогий и сильный, грива золотистая, как лучи солнца, а сам Чапай великан из великанов, плечи у него, как скалы, бурка за спиною, как Черное море, и шпоры сверкают, как две молнии. Папаха на затылок лихо сдвинута, из-под нее русый чуб выбивается, а глаза у Чапая синие-пресиние, совсем, как у тебя. Подкрутил усы Василь Иванович, поглядел на беляков, прищурился и легко выхватил из ножен звонкую сабельку… Засуетились, забегали вдруг беляки, стали палить в Чапая из винтовок. Только пули пролетали мимо него или застревали в мохнатой бурке и шипели, словно змеи. Очень удивились, пуще прежнего рассердились беляки, выкатили вперед тяжелую пушку-мортиру. А Чапай стоит себе, улыбается грозно, а снаряды от него отскакивают, словно горошины, и землю роют у ног коня, да все понапрасну. Испугались тут казаки, закричали от ужаса, а Чапай махнул звонкой саблей, рассек ею тучи, и из туч молнии посыпались на головы белых разбойников, — всех до одного порешили. Рассмеялся Чапай. Подмигнул друзьям-соратникам, и светлее стало в мире от его улыбки, и подняли головы красные бойцы. С тех пор всегда и везде, там, где добрые люди дерутся со злом, там, где друзьям худо, появляется Василий Иванович Чапаев на белом коне…» Отец замолк, вспомнив вдруг настоящего начдива двадцать пятой, невысокого, худощавого, отнюдь не великана. А мальчик пошевелился в постели, поднял тонкую прозрачную руку и тихо спросил: — Значит, Чапай и к нам придет? Настала тишина, гнетущая тишина. Было слышно, как на кухне из умывальника мерно шлепаются капли в медный таз, а в подполе попискивают мыши. Старенький доктор, который все свое свободное время проводил теперь у постели мальчика, обрадованно объявил: — Я ведь вам говорил, что это сугубо психоастенический фактор!* * *
В городе этом была небольшая книжная лавка и всего одна библиотека. В лавчонке, в пропыленных картонных переплетах стояли сочинения Александра Пушкина, Лидии Сейфуллиной, Федора Гладкова, а также брошюры для слушателей рабфака. В библиотеке нашлось несколько портретов челюскинцев и только два крохотных портрета Чапая — в учебнике истории и на обложке детской книжонки «Рассказы о героях». Да и то на обложке этой лицо Чапая было таким маленьким, что разглядеть его можно было разве что в большую подзорную трубу. Но зато библиотекарь с полуслова уловил, в чем дело, и сказал, что на прошлой неделе, возвращаясь от дочки из Н-ска, он своими глазами видел в зеленом вокзальном киоске большой портрет Чапая… а возможно — Щорса. И человек с волевым подбородком, рассеченным шрамом, выбежал из библиотеки, на ходу застегивая пальто. На городской площади вскочил в старую пролетку, которая торчала тут, вероятно, со времен русско-японской войны. Человек со шрамом растормошил дремлющего извозчика, тот понимающе всплеснул руками, и подслеповатая лошаденка помчалась к вокзалу так быстро, как только может скакать двадцатилетняя заезженная кляча. А потом паровоз «Феликс Дзержинский» помчал по рельсам так стремительно, как только может мчать паровоз «Феликс Дзержинский», когда человек очень торопится. А человеку со шрамом все казалось, что поезд движется чересчур медленно; он поминутно доставал из кармана большие серебряные часы-луковицу, на полированной крышке которых блестела гравировка: «Храброму бойцу-пулеметчику 25-й Чапаевской дивизии — за доблесть». Наутро он очутился на перроне сонного вокзала города Н-ска и, перепрыгивая через багажные тюки, побежал к знакомому по рассказу зеленому киоску… Но было еще очень рано, на дверях киоска висел большой замок с контрольной бумажкой в скважине. И тогда человек опустился на массивную, как рояль, вокзальную скамью. Закрыл глаза… Ему снилась полутемная комната и сосновые поленья, потрескивающие в печи, и тоненькая прозрачная ручка, свисающая с пуховиков… И еще ему приснились лютые ночи Бугуруслана, пылающая Уфа, черный Лбищенск, распятый казачьими штыками… А когда человек проснулся, было уже совсем светло, рядом со скамьей шелестела по асфальту метла, и милиционер в смешном треухе тормошил его за плечо… — Нет Чапаева, — позевывая, ответил небритый киоскер. — Намедни какие-то пионеры купили… Погоди, погоди, парень — да ты никак плачешь? Что он друг тебе, Чапай? Али родственник какой? Погоди, погоди, сердечный, а ты утренние газеты читал? Нет, конечно же, он не читал утренней газеты. А в ней между речью Калинина по случаю пуска новой домны и выступлением Косиора в связи с приездом делегации зарубежной компартии, светлой нонпарелью было напечатано: «Сегодня художник Н. открывает выставку, посвященную XVII годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На выставке широко представлены портреты полководцев и героев гражданской войны».* * *
…Тучный мужчина с лоснящимся лицом и длинными седоватыми волосами не спеша прохаживается вдоль пустой и звонкой от холода комнаты. Он стряхивает пепел толстой папиросы на вельветовый живот и по-хозяйски командует: — Коля, вы совершенно не чувствуете цвета! Вы дальтоник, юноша. Нюра, да помогите же ему! «Оборону Царицына» сюда — напротив окна. «Котовский» светлее — его направо. Осторожно с «Кронштадцами» — свежая краска. Чапаева — в левый угол. — Погодите, — сказал человек в мокром пальто и заляпанных грязью высоких сапогах. — Погодите вешать эту картину! — закричал он, перешагнув порог, и почти побежал к портрету. — Выставка еще не открыта! — Великан сделал предупредительный жест рукой. — Ерунда, — сказал человек. — Отдайте мне Чапаева. — Вы сумасшедший… Что с вами? Кто вы? — Ерунда, — повторял человек. — Какое это имеет значение? Не вешайте этот портрет. Отдайте его мне или продайте… — Да кто вы такой? — ослабевшим голосом отозвался художник. — Мне дорога каждая минута, — прошептал человек, поспешно выворачивая карманы. — Спрячьте свои идиотские деньги, иначе я позову милиционера!.. — Плевать, — сказал человек, — если вы мне не уступите этот портрет, тогда… — И он отчаянно махнул рукою… — Ладно, уговорили, — сдался художник. — Нюра, — позвал он. — В левый угол повесьте Буденного. А Чапаева заберет этот человек. Осторожнее, товарищ, очень тяжелая рама… Рама-то вам зачем?* * *
В то утро, впервые за много дней, сквозь тучи пробились скупые осенние лучи. Призрачные, тонкие, они проникли сквозь щели ставень, заплясали на подоконнике, скользнули вниз, задержались на бледном лице ребенка, почти сливавшимся с подушкой… Мальчик открыл глаза. Прямо на него с огромного портрета глядел Чапаев. Мохнатая папаха лихо сдвинута набекрень. Русая прядка упала на высокий лоб. За спиною бурка — словно Черное море. Чапай улыбался. Мальчик чуть приподнялся на локтях, а потом… отбросив одеяло, спрыгнул с постели. Он пошатнулся на непослушных ногах, но вдруг ухватился за… солнечный луч и выпрямился. Крохотные пылинки, кружащиеся в солнечном луче, словно пули, кинулись врассыпную — ни одна не осмелилась ужалить. И дубовые половицы превратились в стремена, и беленький коврик — в лихого коня, а мягкие комнатные туфли — в ботфорты, и солнечный луч зазвенел вдруг, словно сабля, в его руке. И если бы мальчик оглянулся, то увидел бы, как сквозь приоткрытые двери следят за ним три пары удивленных, просветленных от счастья глаз и как дрожит у отца подбородок, рассеченный давним шрамом…КИСЕЛЕВСКИЕ ТРАССЫ
— Вот ведь времечко настало, хай ему грець, — тяжело вздохнул Володя Киселев, и в сердцах сплюнул в радужную от солярки воду. — Ребята в море пойдут, стрелять будут, а тут — торчи на пирсе, нажимай на художественную литературу! Я уже знал историю Володи. Родом он с Николаевщины — края корабелов и моряков. И, разумеется, с детства мечтал о голубых океанских просторах, видел себя то на капитанском мостике, то за штурвалом бригантины или в орудийной башне линкора. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но вдвойне плох тот, кто только мечтает, но ничего не предпринимает для этого. А посему Володя усиленно готовился к морской службе — учился гребле, плаванью, прыжкам в воду, и в школе многие одногодки и даже старшеклассники ему завидовали. И надо же случиться беде: однажды, прыгая с высоковольтной опоры в Буг, не рассчитал Володя высоты, крепко ударился о воду, повредил позвоночник. Выходили врачи парня, и со временем этот неприятный случай забылся. После окончания десятилетки работал Володя трактористом, но мечте своей не изменил. И когда пришло время уходить на воинскую службу, он утаил от медкомиссии последствия своего неудачного «пикирования» с высоченной опоры в Буг и многомесячной больничной маяты. Долгожданная мечта сбылась: отлично окончив учебное подразделение, он прибыл на торпедный катер. Прошло время. Старшина второй статьи Владимир Киселев, отличник боевой и политической подготовки, был назначен командиром отделения комендоров. И вскоре в подразделении заговорили о том, что на катере, которым командует лейтенант Геннадий Иванов, есть круглолицый, усатенький комендор, чьему меткому глазу мог бы позавидовать знаменитый охотник Дерсу Узала… Вот только злополучный давний прыжок нет-нет да и напоминал о себе. И однажды в море, при сильной болтанке, Киселеву стало плохо. В базе врачи определили: болезнь скоро пройдет. Но в штормовую погоду выходить в море категорически запретили…* * *
— По местам стоять, со швартовых сниматься! Отступил, отодвинулся родной причал. Ветер ударил в грудь, запел, загудел в вантах. Вздыбился за кормой белый бурун. Густые барашки потянулись навстречу. Катера вышли в открытое море. Головным идет катер под командованием лейтенанта Геннадия Иванова. Увеличены обороты двигателей. Катер вышел на крылья и стремительно понесся по вспененному морю. В те короткие мгновения, когда сквозь облака проглядывало солнце, за бортом вспыхивала радуга. — Стрельба предстоит не из легких, — сказал мне Геннадий Александрович, стирая с лица брызги белоснежным платком, — болтанка сильная… Глаза командира светились радостью. Мне понятна эта радость: во-первых, Геннадию Александровичу лишь через месяц «стукнет» 23 года, и на корабле есть даже матросы и мичманы постарше его. А во-вторых, он совсем недавно назначен командиром боевого корабля, и эти стрельбы для него — серьезное испытание. А пока торпедный катер идет в походном строю и каждый член экипажа занят своим делом. Несмотря на штормовую погоду, уверенно несут свою нелегкую вахту мотористы мичман Виктор Гончарук, старшие матросы Михаил Зуев и Павел Кусов и совсем еще молодой матрос, мой земляк Саша Белоконь. На руле, четко выполняя команды, стоит первоклассный специалист, старшина 1-й статьи Владимир Опацкий… Боевая тревога! Радиометристы сообщают: цель обнаружена. Взоры всех, кто находится на мостике, устремлены в небо. В глазах командира вспыхивает мальчишеский азарт! — Обнаружившему самолет — дополнительный «борташ»! Комендора — к орудию! Эх, Киселева бы сюда! Конечно, моряка-катерника дополнительным бортпайком не удивишь, хотя состоит он из довольно лакомых вещей. Всех, кто находился на мостике, удивило нечто другое: — Товарищ командир, разрешите стрельнуть! Просьба прозвучала совсем не по-уставному. А лейтенант аж вздрогнул, услыхав этот голос. В беретке со звездой, в ладной «канадке» Киселев стоял перед командиром, смущенно улыбаясь. Глаза лейтенанта сурово сузились: — Вы откуда взялись? — Ясное дело — из кубрика. Нешто тут усидишь в береговой базе — стрельбы ведь ответственные! Товарищ лейтенант, дайте стрельнуть, а потом уж нака… И тотчас, будто забыв обо всем на свете, закричал громко: — Справа по борту — самолет! Дистанция… — Ладно, — сказал лейтенант Иванов. — Вернемся в базу — разберемся. Киселев — на колонку! Самолет то появлялся, то прятался в низких кучевых облаках. Зато на их белесом фоне была отчетливо видна длинная «колбаса» — конус. Быстро, уверенно действовал Владимир Киселев. Стволы артустановки послушно повиновались каждому его движению. И вот, разрывая воздух протяжным громовым раскатом, огненные трассы устремились к конусу. Тут уж никто не мог оставаться равнодушным. Молодой помощник командира лейтенант Виктор Сапрыкин в одной рубашке с погончиками тоже выскочил на мостик — под проливной соленый водопад… Вскоре стало известно, что артрасчеты всех катеров отстрелялись с высокой оценкой. Но лучше всех стрелял старшина второй статьи Владимир Киселев. Старший начальник лично передал по радио благодарность старшине. — Что ж, победителей не судят, — сказал лейтенант Иванов, крепко пожимая Киселеву руку и вручая дополнительный «борташ», — с отпуском вас, старшина! — Не возражаю, — сказал Киселев. — А бортпаек братишке повезу. Так сказать — подарок от Нептуна. Он у меня, брательник, тоже в моряки метит. Плавает хорошо, ныряет, с вышки прыгать — мастак…ДОРОГА В ГОРЫ
— Хотите папиросу? Украинская! — предложил я не без тщеславия, когда мы легкой трусцой миновали околицу Чунджи и по утренней непылящей дороге стали подниматься в горы. …Поначалу в Казахстане я никак не мог привыкнуть к местному куреву, и мама иногда присылала мне бандерольки с родными днепропетровскими «Шахтерскими». В такие дни я бегал по редакции, назойливо потчуя сотрудников: «Нет, вы обязательно попробуйте мою!», — они снисходительно принимали угощение, похваливали, покашливали, поплевывали и незаметно отправляли папиросину в урну. Узун-Кулах был куда откровеннее моих редакционных коллег и наставников. Он аккуратно обмотал поводья вокруг высокой деревянной луки седла, всем своим непомерно тощим и длинным телом перегнулся ко мне, ловко выхватил папиросу из протянутой пачки и, раскурив, резюмировал коротко и веско: — Не табак — овечий помет… Запомни, дорогая, — лучший в мире табак — «Дюбек-44». Растет в соседнем районе — в Чиликском совхозе. Там и виноград — самый сладкий… После такой резолюции мне оставалось лишь молча негодовать, что я и делал. Узун-Кулах — мой проводник. Накануне меня вызвал ответственный руководитель телеграфного агентства Юсуп Алтайбаевич и сказал, что есть острая необходимость в репортаже о жизни чабанов на отгонных пастбищах-джайляу, а посему мне необходимо срочно выехать в Чунджу. В райцентре, куда я добрался из Алма-Аты на «попутняке», секретарь райкома партии, быстро убедившись в полнейшей беспомощности мальчишки-репортера, не знающего ни языка, ни местности, ободряюще похлопал меня по плечу: — Жаксы[7]. Дадим хорошего помощника, с ним не пропадешь. Люди в горах интересные — о них писать надо. А чтоб ты не написал, что чабаны плохо снабжаются, захватишь вот питание для приемников. В гостинице — приземистом унылом бараке — я долго ворочался на спрессованном, как древесно-стружечная плита, матраце под громоподобный храп шоферов, лекторов, строителей и другого заезжего люда. Только задремал — тут же проснулся от ощутимого толчка в плечо: — Корреспондентка, вставай! Ехать надо! Протираю глаза и вижу у койки высокие и мягкие, из тонкого хрома сапоги, затем синие шевиотовые брюки, аккуратно заправленные в них, выше — такой же пиджак и воротничок чесучевой рубашки и уже под самым потолком, в полумраке — голову человека, повторяющего фальцетом: — Вставай, корреспондентка. Я твоя проводник. Поехали… — Между прочим, с морфологией у вас не все в порядке, — ворчу я, недовольно натягивая галифе и «керзуху» — неизменные атрибуты экипировки казахстанских репортеров начала целинной эпопеи. Незнакомец легко подхватил мою сумку, набитую увесистыми кирпичиками батареек, табаком и чаем для чабанов и тощими блокнотами. Уже за порогом ответил беззлобно: — Я преподаю не язык, а географию. И не в Сорбонне, а в кишлаке. Так что извини, дорогая… Теперь я могу, как следует, разглядеть своего спутника. Он едва ли не вдвое выше меня, да и по возрасту, видать, вдвое старше. Тощ, как жердь, а лицо точеное, смуглое, красивое, без единой морщинки, и глаза-щелочки улыбаются из-под войлочной чабанской шапки-треуголки. Пока мы шагаем сонной улицей, он говорит не спеша, но и без пауз, спрашивая и, не дожидаясь ответа, отвечая, как бы самому себе. — Поедем верхом. Ты умеешь ездить верхом? Если не умеешь — не страшно. Я подобрал тебе кобылка хороший, смирный. Ей сто лет и она совсем слепой. Но сильный, как трактор «С-80». И дорогу хорошо знает… Как меня зовут — все равно не запомнишь. Называй меня Узун-Кулах, что значит «длинное ухо». Я слышу все. — Интересно, что же это вы такое слышите? — Все слышу. Как трава растет, слышу. Как комар перед твоим носом пищит, слышу. Как тебе ехать неохота, слышу. Как твоя мама дома, на Украине, не спит, о тебе думает, — все слышу. Далеко гора Муюн-Кум, а как она поет — слышу. Муюн-Кум всегда поет, даже в тихая погода. Песчинки трутся, и получается песня, как у Пушкина: «То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Вот станешь аксакалом, как Узун-Кулах, тоже научишься слышать все… Тут он явно хватил лишку. На аксакала он совсем не похож, однако лет сорок, пожалуй, уже набежало. У райкомовской коновязи пофыркивает наш, уже оседланный, транспорт. Узун-Кулах указывает мне на высокую белую кобылу, я, отвязав, подвожу «старушку» к крыльцу и с верхней ступеньки, вспомнив полусельское свое детство, одним махом вскакиваю в седло и разбираю поводья. Вроде бы порядок, вот только стремена подтянуть нужно малость и седло какое-то непривычное, с высокой лукой. Осторожно кошусь на проводника: Узун-Кулах старается показать, что не заметил моей прыти, но по лицу видно — доволен. Сам же он восседает на крохотной и злой мохнатой лошаденке — острые колени его торчат чуть ли не на уровне плеч. Со стороны наш дуэт напоминает, наверное, Дон-Кихота и Санчо Пансу, по странному случаю обменявшихся «плацкартами». Однако малышка под Дон-Кихотом рысит бойко, и вот мы уже поднимаемся с увала на увал, все выше и выше, туда — к царственно сверкающим ледяным коронам Алатау. Голубые тянь-шаньские ели застыли в серпантине утреннего тумана, росные травы достают до стремян, от алой кипени тюльпанов и маков больно глазам, и кажется, что мы не едем, а плывем по какому-то сказочному красно-зеленому морю. А бабочки величиной с ладонь! А напоенный росными травами и хвоей горный воздух! Все было бы ничего, только душу мою все еще грызет обида за оскорбленную честь днепропетровских «Шахтерских». Кажется, Узун-Кулах прочитал мои мысли: — А и не надо курить натощак. Дыши, дорогая. В горах воздух целебный, как кумыс. А кумыс в Казахстане самый сладкий. И степь самая широкая в мире. Ты видел когда-нибудь сырдарьинские дыни? Самая большая дыня на свете. Ишак за дыню спрячется — только хвост и уши торчат. Ты не женат еще? У нас в горах девушки — самые красивые, каждая как две капли воды на Назгум похожа… Пошел, поехал… Ишь как похваляется! Чтоб прервать эту тираду, спрашиваю: — А кто такая Назгум? Узун-Кулах усмиряет плеткой маленького агрессора, норовящего укусить за грудь моего Росинанта. — Девушка такая была — красивая, гордая. Как Жанна д’Арк. Вот в этих самых местах жила. Уйгурка. Хотели ее за бая замуж отдать, но красавица даже отцовской воле не покорилась. Взяла она мультук — ружье такое длинное, собрала бедняков и пошла громить баев. Такого случая в истории Востока до нее не было, чтоб кыз — девчонка то есть — мужчинами командовала… — И что же дальше с ней приключилось? — Погибла Назгум. Вернешься в Алма-Аты, пойди в оперный театр — там все увидишь. Оперу композитор Кужамьяров написал, он тоже из этих мест. Тем временем солнце уже припекало, белая моя кобыла стала пегой от пота. Привал! У ручья мы расседлали коней, пустили их пастись. Узун-Кулах достал из подсумка и разложил на попоне плоские лепешки-чуреки, ноздреватый домашний сыр и привычную пищу тех лет — конскую колбасу «козы». Никогда в жизни я не завтракал с таким аппетитом и не пил такой студеной, такой чистой, такой сладкой воды. А наевшись, растянулся на потнике, стал глядеть, прищурясь, в бездонное, звонкое небо и незаметно задремал. Проснулся я внезапно от неясного, неосознанного ощущения смертельной опасности. Что-то нестерпимо холодное давило мне на грудь, и, казалось, холод этот проникал в самое сердце. Я открыл глаза, и волосы зашевелились на голове: небольшая желто-серая змея, уютно свернувшись в клубочек у меня на груди, пронзительно глядела мне в глаза двумя немигающими свинцовыми бусинками. Вот сейчас (сколько лет прошло!) — пишу эти строки, а мороз, как тогда, проходит по коже. Час ли, минуту пролежал, окаменев от ужаса, — одному змеиному богу известно. Протянулась большая костлявая ладонь. Щелчок — и только в траве зашелестело. — Вставай, корреспондентка, проснись! Если бы ты знала, кого пригрел на своей груди! Я с трудом взгромоздился в седло. В горле пересохло, в ушах стоял звон… К вечеру мы подъехали к одинокой юрте. — Это еще не джайляу[8]— пояснил мне Узун-Кулах — здесь живет аксакал — отец чабанов, о которых ты будешь писать. Здесь заночуем. На негнущихся, затекших ногах я едва добрался до кошмы. Лишь пиала крепкого зеленого чая малость оживила меня. Двенадцатилетний круглолицый мальчик Идрис, днем ранее приехавший из райцентра проведать прадедушку, украдкой с любопытством разглядывал гостя из столицы. Засыпая, я слышал, как Узун-Кулах о чем-то долго рассказывал старику, но ничего кроме слов «Украина» и «джигит» не понял. Чьи-то большие и теплые руки заботливо укрыли меня… Поутру дальше в горы меня сопровождал Идрис. По этому случаю он вычистил свой вельветовый костюмчик, повязал пионерский галстук и долго придирчиво проверял, хорошо ли затянуты подпруги у моего Росинанта. Узун-Кулах уехал назад — его, как пояснил Идрис, торопили депутатские дела. На обратном пути, в райцентре, я, к сожалению, не застал его, и больше мы не виделись никогда. — О чем он говорил аксакалу? — спросил я Идриса, когда мы углубились в горы по одному ему известной тропке. Мальчик лукаво улыбнулся: — Он говорил, что ты приехал из далекой прекрасной страны Украины, где живут самые храбрые красные аскеры и джигиты, и что ты среди них — самый храбрый джигит и герой. И еще он говорил, что там течет самая большая в мире речка — Днепр, до середины которой может долететь далеко не всякая птица. — Но ведь ты же, как я погляжу, парень грамотный. Значит, тебе известно, что Днепр — не самая большая речка в мире? — Верно, — согласился Идрис. — То Гоголь про птицу просто так написал — для красоты. Есть, однако, Волга, Енисей, Лена. Они — побольше. Но Узун-Кулах никогда не обманывает. Он знает все. Он воевал на Украине. У него за Днепр орден есть… …Через пару лет, вернувшись на Украину, я долго не мог привыкнуть к домашнему куреву, и бывшие мои наставники и коллеги иногда присылали мне бандерольки с алмаатинским «Беломором». Я обходил редакцию, всех угощал, товарищи великодушно принимали подношение, закуривали, хвалили, кашляли, сплевывали и незаметно отправляли папиросину в урну. Прошло более четверти века. Я много ездил по стране и не раз бывал за пределами Родины. Но как ни планирую, все не удается посетить Казахстан, наверное, потому, что в юность обратной дороги нет. А недавно мой друг, вернувшись из командировки в Алма-Ату, положил мне на стол пачку сигарет «Медео», и я тотчас вспомнил историю, которую только что вам рассказал.Я ЕМУ РАССКАЗАЛ О БОЛГАРИИ
За полчаса до погружения мы со старшим лейтенантом Иваном Довженко курим на ходовом мостике. Точнее, курю я, а Иван, прищурившись, всматривается в горизонт. Русая прядь выбилась из-под черной пилотки, в лучах заходящего солнца она кажется огненной. Солнце, огромное, красное, подожгло океан, набрякли багрянцем облака, холодный сверкающий шар медленно погружается в пучину. — Завтра ветрено будет, — говорит Иван так, между прочим, ни к кому не обращаясь. И болтанка будет — баллов семь… Крохотная, поменьше воробья, желтая пичуга неожиданно садится рядом с нами на обод сигнального фонаря, недоверчиво косится на людей черной бисеринкой глаза. Далеко залетела, отчаянная, умаялась, видно. Иван смотрит на птичку, улыбается. Познакомились мы с Иваном несколько неожиданно. Сначала на базе у подводников я увидел на Доске почета фотографию приглянувшегося мне офицера — коммуниста и отличного специалиста, как было сказано в подписи под снимком. А через два часа повстречался с ним на лодке и тотчас же узнал его. И теперь я знаю, что этот высоченный красавец-офицер с такой знаменитой фамилией — мой земляк. Родился в Черкассах, учился в Ленинграде, женился в Севастополе. Окончив училище, направлен сюда — на Тихий. Служит командиром боевой части на отличной подводной лодке, последние дни дохаживает в лейтенантах. Правда, на рассказы о себе Иван скуповат, сдержан. Собеседника слушает очень внимательно, о себе же — обронит, да и то редко, лишь два-три слова. — А в Болгарии вы бывали? — неожиданно спрашивает он, как бы продолжая начатый в отсеке разговор. — Приходилось, всю ее изъездил в свое время, — говорю я не без удовольствия, тоном много повидавшего на своем веку человека. — Расскажите, — коротко бросает Иван, и в просьбе его слышен оттенок приказа. Я собираюсь с духом и настраиваюсь на долгий разговор. — Видите ли, о Болгарии коротко рассказать невозможно. Болгария необычайна — море света, тепла… Но лучше всего туда приезжать весной, в мае, когда цветут сады, благоухают розы. Там звезды в ночи сверкают, крупные, как апельсины, и девушки ослепительно-улыбчивы и красивы… — Расскажите о памятниках, — нетерпеливо просит Довженко. — Меня интересуют памятники. В Софии, в частности… Я несколько обижен, но виду не подаю. О памятниках, так о памятниках. Пожалуйста. Сколько угодно. — Начинать, пожалуй, надо с Пловдива, а не с Софии, — говорю я. — Начинать надо с Алеши. С того самого русского солдата Алеши, о котором в известной песне поется: «Цветов он не дарит девчатам, они ему дарят цветы». В плащ-палатке, в пилотке стоит Алеша на высокой-высокой горе над древним и юным городом… Величественная каменная фигура в ясную погоду видна за десятки километров. Но что интересно — у подножия монумента есть маленький, не слишком приметный крестик — могила русских солдат, павших при освобождении Пловдива от турок сто лет назад. Эта могила, как, впрочем, все другие памятники в Болгарии, всегда утопает в цветах. А в дни фашистской диктатуры одна очень старенькая женщина ежедневно приносила сюда по живой розе и клала на могилу русским освободителям. Фашисты-чернорубашечники били старуху, отбирали у нее цветы, однажды даже упрятали в тюрьму. Но стоило ей выйти на волю, и она снова ежедневно поднималась на крутую гору и приносила цветы братушкам, так ласково называют болгары русских. Старушка эта давно умерла. Так теперь пионеры Пловдива отыскали ее могилу и каждый день приносят ей по одной живой розе — за то, что в самое трудное для Родины время она не изменила любви к братьям-освободителям. — А в Софии? — спрашивает Иван, и глаза его сужаются, чуть поблескивают вопросительно из-под длинных ресниц. — В Софии, — продолжаю я, — мне очень запомнился памятник Василю Левскому. Он воздвигнут на месте бывшей виселицы, где капала кровь Василя Левского… Это был легендарный народный герой, вроде нашего Пугачева или Кармалюка, только пограмотней, пожалуй, человек необычайного мужества и огромной физической силы. Левским назвали его люди за львиное сердце. Он работал сельским учителем, позже ходил из деревни в деревню, из города в город, обучал детей родному языку, грамоте, призывал народ на борьбу с турецкими поработителями. Не раз хватали его янычары, но Василь Левский всегда убегал из самых неприступных темниц и опять продолжал борьбу. Наконец турки снова выследили героя, тяжело ранили, заковали в цепи. Посреди Софии соорудили виселицу и согнали народ на казнь. Тогда Василь, чтобы не даться живым палачам, с разбега разбил голову о каменную стену. Он погиб за несколько месяцев до освобождения родины от турецкого ига… — А какие еще в Софии памятники? — спросил Иван, глядя туда, где красный ободок солнца чуть-чуть еще выглядывал из-за волн. — Был я в Мавзолее Георгия Димитрова и в Центральном парке, на могиле советских солдат. Там воздвигнут целый мемориальный ансамбль, а главный обелиск так высок, что, кажется, звездою цепляется за тучи… — И цветы там есть? — быстро спросил Иван. — Конечно же! — Там лежит мой отец, — вдруг не сказал, а тихо выдохнул Довженко. Он меня никогда не видел. Я родился уже после… Он встал, старший лейтенант Довженко, выпрямился во весь свой двухметровый рост, всей грудью вдохнул прохладного воздуха и шагнул к люку. — Спасибо за рассказ… Через мгновение я услыхал, как трап загудел под его могучим телом…СЫНОВЬЯ ПРИНИМАЮТ ПРИСЯГУ
Ослепительно сверкает снег. Синий предрассветный снег. Он выпал только что ночью, серебристым маскхалатом укутал овражки, кусты и озимь, и вековые ели нахлобучили на макушки седые генеральские папахи. Каждая такая ель сияющим новогодним чудом украсила бы самую широкую городскую площадь… В декабре светает поздно. Фиолетовой дымкой подернут плац. Пуст плац — лишь вдалеке у КП маячат фигурки часовых. И тихо — так тихо, что слышно, как падают с елей пушистые хлопья снега и высоко в небе позванивают ледышками замерзшие звезды… Тонко запела труба. Ее призывный, пронзительный голос, словно луч прожектора, рассек сумрак; тотчас грянул оркестр — медноголосо, солнечно, как-то по-особому молодо — и весь военный городок, и перелески, и даже большие высокие звезды содрогнулись от ритмичного шага сотен солдатских сапог. «Легендарный Севастополь», — пели трубы в морозном воздухе — «неприступный для врагов…» Почему Севастополь, — вдруг подумалось мне, — почему именно Севастополь — здесь, за тысячи километров от черноморских берегов? Ах, ну как же я сразу не догадался — ведь это шагает прославленный гвардейский мотострелковый Севастопольский Краснознаменный полк! Вот и марш подобрали — соответствующий… За оркестром плывет полковое знамя. Вьются над древком орденские ленты, посверкивают обнаженные клинки эскорта. Поротно, побатальонно входит полк на плац. Четкие слова команды — замерли серые квадраты выстроенных рот. В тот же миг широко распахнулись ворота городка и легкий шелест прошел по шеренгам солдат. Потому что на плац ступили сотни гражданских — потянулись неуверенно, обходя колонны, густой, плотной толпой обтекая трибуну. Шли мамы — с чемоданчиками, клуночками, сумками с домашними гостинцами, степенно вышагивали отцы. И каждый из молодых солдат украдкой косил глаза влево, отыскивая дорогое лицо. И улыбался, узнавая. А материнские взоры жадно тянулись к замершим серым шеренгам: попробуй среди многих сотен таких, на первый взгляд, одинаковых отыскать своего! Мчится время — славные старые традиции, живущие в нашей армии, приобретают новый смысл. Раз в жизни юноша присягает на верность Отчизне, и надо, чтоб этот день запомнился навсегда. Вот и побеспокоились командиры — прибыли родители из Киева и Днепропетровска, из Харькова и Донецка, и даже… из Хабаровска. Спрашиваю «свою» роту и по кромке плаца приближаюсь туда, где перед высоким, очень молодым лейтенантом застыли шеренги солдат с воронеными АКМ на груди. Перед строем столик, покрытый красной скатеркой. На столике в красной папке — текст боевой Присяги. Поодаль толпятся родители. Безошибочно узнаю днепропетровцев. Вот, переминаясь с ноги на ногу, волнуется кряжистый Анатолий Александрович Чичетка, машинист разливочного крана большого мартена завода имени Карла Либкнехта, солдат первого послевоенного призыва: сейчас присягу будет принимать его сын Александр — токарь того же завода. Один за другим, отбивая парадный шаг, выходят к красному столу Вячеслав Булыгин — слесарь днепропетровской ремонтно-эксплуатационной базы флота, Игорь Блинов — вальцовщик шинного завода, Александр Кириченко — слесарь-наладчик завода шахтной автоматики. Берут в руки красную цапку Присяги, поворачиваются лицом к товарищам, к отцам, к матерям — ко всей стране! — и звучат над плацем священные слова: — Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик… Волнуется Любовь Филипповна — травильщица трубного завода ВНИТИ. Пока добиралась к сыну — глаз не сомкнула всю ночь. Но когда Саша Кириченко произнес последние слова Присяги, не выдержала мать, огибая строй, бросилась к сыну, обняла, поцеловала. Стало суровым худощавое лицо Саши: «Отойди, мама, ну разве так можно!» Но лейтенант Евгений Сергеевич Галочкин молча кивнул — можно! — и у лейтенанта почему-то дрогнули губы. А я стоял и неотрывно смотрел на третьего парня с левого фланга, на его широкие плечи и большие руки, крепко сжимающие автомат. И на его покрасневшие от мороза уши. И почему-то вдруг вспомнил, как у него, тогда еще совсем маленького, ночью вдруг разболелись уши, и я, утопая в сугробах, нес его по студеной спящей Алма-Ате до ближайшей больницы. Даже не верится, какие уже большие стали наши дети! Какие сегодня они сильные! А потом начался митинг. Родители напутствовали сыновей. И старослужащие солдаты приветствовали их по-братски. И седовласый офицер, участник Великой Отечественной войны Анатолий Филиппович Ковров сказал им: — Сыны мои! Страшной, дорогой ценой мое поколение отстояло для вас эту мирную землю, это небо, эти сосны… Вот стоят сегодня здесь ваши матери, отцы, невесты… Берегите их, берегите нашу святую землю. А вы, родители, верьте — ваши парни вернутся здоровыми и невредимыми, и такими же хорошими, как и пришли сюда, а кое-кто станет еще и лучше. Родителям показали классы, оснащенные по последнему слову техники. Папы и мамы пристально всматривались в совершеннейшую учебную аппаратуру, задумывались о чем-то дорогом, о своем… И в то же время, чувствовалось, это была дума о делах общих, раздумья о прошлом и будущем родной Отчизны. Повели их в казармы — просторные и светлые, и дивились мамы чистоте (здесь научат порядку!), придирчиво ощупывали новенькие шерстяные одеяла (не мерзнут ли?), пробовали наваристые армейские щи (всегда ли так вкусно кормят?)… …Шагает полк. Мерно покачиваются четкие квадраты взводов. Покачиваются серые ушанки и вороненые стволы автоматов. И я думаю о том, что нам, офицерам запаса моего поколения, которым через несколько лет придется сниматься с воинского учета, можно быть спокойными: сыновья не подведут. Шагает полк. Задиристый мальчишеский голос запевалы высоко звенит в морозном воздухе:ПАМЯТНИК
…Он освистал меня, окутал молочно-белым облаком колючего банного пара и весело умчался вдаль по сверкающим рельсам, таща за собою пульман, нагруженный еще теплыми глянцевитыми трубами. Голубые волны подогретого воздуха тончайшей кисеей вились над ними. Еще раз мелькнул в оконце будки русый чубчик, улыбчивое румяное лицо, — машинист помахал мне рукой и скрылся в осенней туманной дымке. Паровозик-реликт? В наше-то время? Или всеобщая тяга к «ретро» коснулась и заводского транспортного хозяйства? Стоп! Да это же он, мой старый знакомый, тот самый № 7565. И припомнилось мне, как много лет назад, вот таким же туманным осенним утром мы шли бесконечными заводскими площадями и нас обогнал симпатичный голубенький паровозик с ярко-алым и золотым значком на свежеокрашенном боку, освистал нас и, выкупав в облаке колючего, забивающего дыхание пара, стремительно помчался вперед, — чумазый, курносый машинист помахал нам рукой и растаял в туманной дымке… В комитете комсомола я, помнится, тогда спросил, откуда это чудо с трубой и дымом в эпоху электровозов и тепловозов. И старый мой приятель, вожак заводской комсомолии Ваня Крот, поведал мне удивительную историю и познакомил с ее действующими лицами. Я написал о них очерк, опубликовал в газете и даже получил какую-то премию. Прошло двадцать лет, старые блокноты не сохранились, годы выветрили из памяти многие имена и детали, но я все-таки попытаюсь рассказать вам, как было дело…* * *
Начало шестидесятых. Лето. Утопающий в садах маленький южный город на берегу рукотворного моря. В маленьком этом городе есть огромный завод, известный на всю страну. В самом дальнем углу заводской территории площадка, пересеченная, словно тыльная сторона старческой ладони, ржавыми узловатыми венами железнодорожных путей, заросших густым бурьяном. Это так называемый «черметовский» участок, кладбище отжившей, износившейся техники, дожидающейся своей очереди в мартен. Груды искореженного, мертвого металла, когда-то верно послужившего человеку, громоздятся вдоль путей. Сюда не долетает гул цехов, людские голоса — только мыши попискивают в траве, да вверху над ними орут горластые желторотые скворчата, уютно себя чувствующие в приспособленных под гнезда разбитых фарах паровозиков-«кукушек». Старые паровозики тоже ждут своей очереди — на переплавку.* * *
Многие мальчишки в детстве мечтают стать машинистами. Но у Васи Швеца на это все основания. Дед его еще до революции водил поезда по Екатерининской дороге, а в гражданскую носился по громыхающим просторам на бронепоезде имени товарища Худякова с легендарным матросом Железняком во главе. Отец до войны работал на заводе, в транспортном цехе. Отсюда, в грозном августе сорок первого, повел на Урал эшелон с заводским оборудованием, да не добрался до места назначения — сгинул где-то в пути, в огненной круговерти… Отца Васек не помнил — слишком уж мал он был в том дымном августе сорок первого года. Но запомнил Швец-младший, как уже после победы однажды громко постучали в дверь, и, поскрипывая костылями, порог переступил высокий военный в черной железнодорожной шинели. Мать бросилась навстречу, а Васек, узрев на погонах белые паровозики, а в лице пришедшего — знакомые черты, радостно закричал: «Папка, папка приехал!» Но был то не отец, а давний отцов приятель и сослуживец, дядя Игнатий, — тоже машинист. В тот вечер они долго сидели за столом, пили чай с шипучим сахарином, привезенным Игнатием; он рассказывал, мама плакала, а Василек уяснил для себя одно: отец не вернется никогда. И могилки его на земле — не существует. — Бомба попала прямо в паровоз — хоронить некого было… Теперь уж и разъезда того не припомню. А я был в конце состава, на «толкаче», очухался в госпитале аж через месяц. Так и не знаю, кого благодарить, кто меня из того пекла вытащил! Только эти слова и запомнил мальчик, засыпая на руках отцова друга, вдыхая запахи угля, железа и горьких ветров войны… Окончил Васек железнодорожный техникум, в железнодорожных войсках отслужил срочную. А вернувшись домой, пошел на завод, в тот самый транспортный цех, где до войны работал отец. — Это прекрасно, — сказали ему на заводе, — что у нас в резерве объявился помощник машиниста с армейским опытом. Но сейчас нам позарез нужны слесаря-ремонтники: переводим наши паровозики на мазут, чтоб копоти было поменьше. В слесаря, так в слесаря — дело знакомое. А вскорости Васек благодарил судьбу в лице кадровика, определившего его в бригаду слесарей. И вот почему. Однажды ремонтировали они маневренный тепловоз, и какой-то там детали к воздушному тормозу под рукой не оказалось. — Не знаешь, где взять? — пришел на выручку Афанасий Мащенко, мужик опытный, башковитый, к тому же мастер на все руки. — Дуй на «черметовскую» линию, сними с какого-нибудь старого котла все, что тебе нужно. Там этого добра — хоть греблю гати! Пустырь встретил Василия настороженной тишиной, прерываемой лишь птичьим щебетом да стрекотаньем кузнечиков. Унылые остовы паровозиков. Кипы железного лома. Пыльные травы. Покой. Запустение. Раз-другой обошел вереницу стареньких «кукушек». Казалось бы, чего ходить-то: забирайся в любую будку, снимай необходимое. Однако Васек уйти не может: то ли непривычная для уха кладбищенская тишина, то ли вид печальных этих паровозиков, по ступицы утопающих в траве, так разбередили душу. Бредет Васек вдоль шеренги мертвецов, чувствует, как сердце стучит до странности учащенно. Бредет, а сам нет-нет, да и оглянется — тянется взором к паровозику, на боку которого сквозь грязь и старую копоть четко проступает цифра 7565. Что за магическая цифра такая? Словно магнитом притягивает паровозишко парня. Подошел, сковырнул ногтем с заводского клейма прилипшую грязь: ба, да он совсем молодой еще, сорокового годарождения, даже его, Васьки, на год моложе! Поднялся в будку, постоял малость, да так и не достал из кармана разводной ключ и отвертку. С трудом дождался конца смены, — домой не шел, а бежал. И скорее — к шкатулке, где семейные снимки хранились. Вот она, фотокарточка искомая. Вовсе не пожелтела, будто вчера снимали. А на ней отец — в спецовке, в козырькастой фуражке с молоточками, молодой, Васькиных лет, и улыбающийся! Рядом — дядя Игнатий в тужурке с петлицами, а за спиной у них — паровозик, и на тендере его четко виден все тот же номер — 7565!* * *
Какой уж тут сон, еле дождался рассвета. И началась с того утра у Василия двухсменная трудовая пора: в цехе само собой, старается от ребят не отстать, а сердцем — там, на «черметовских» путях. Домой после смены не торопится — спешит к «своему» паровозику. Для начала оборвал бурьян вокруг, обеспечил подход к рабочему месту. Паклен обзавелся, керосином — ржавчину очищать. Выпросил на складе пару ведер небесно-голубой краски, резонно смекнув: надобно паровозу сперва внешний облик вернуть, чтоб его ненароком не порезали на металл до того, как он от газорезчиков своим ходом сбежит… Дома мать всполошилась — приходит Васька домой затемно, с ног валится. Что-то с сыном творится непонятное: пить вроде бы не пьет, всю получку домой приносит. Однако отцовский инструмент зачем-то из чулана унес куда-то. А Васек только отшучивается, ни матери, ни товарищам по работе — ни слова. Однако вскоре понял: не под силу одному такая работа. Да и зачем скрывать от друзей, разве он что-нибудь плохое затеял? — А мы давно уже «в курсе дела», — сказал ему Мащенко. — Все ждали, когда ты дурью маяться перестанешь и на помощь позовешь. Тоже мне, одинокий рыцарь печального образа! Наутро в кабинете начальника цеха произошел крупный разговор. На просьбу комсомолии — разрешить отремонтировать паровоз № 7565 в цеховых условиях — начальство категорически возразило: — Нечего всяким барахлом цех загромождать, и без того повернуться негде. — Никакое это не барахло, я его сам осмотрел, — вмешался Афанасий Мащенко, — паровозик крепкий, а котел, головой ручаюсь, еще тридцать лет пыхтеть будет. Начальник аж вскочил со стула: — Нужна мне твоя голова! Кончайте шуточки-улыбки, делом занимайтесь. Новый легче построить. Однако поглядев на решительные лица ремонтников, понял — никто шутить не собирается. — Оно, конечно, может быть, и впрямь легче новый построить, — угрюмо сказал Мащенко, — но это, Михайлович, не просто паровоз. Это… — он подыскал подходящее слово и закончил решительно. — Это — реликвия! Николай Михайлович Заречный, начальник цеха, только рукой махнул. — Ладно. Шут с вами, делайте, как знаете. Только имейте ввиду — не в рабочее время! Вскоре паровоз № 7565 перекочевал с «черметовской» линии в цех. Над его реставрацией работали все и с таким азартом, что поименно никого выделить невозможно. Включилась в дело бригада вагонных мастеров, хотя их персонально никто не приглашал, в свободное от работы время приходили трубопрокатчики, все члены заводского комитета комсомола отработали на «комсомольском» паровозе: чистили, латали, красили. Короче говоря, разобрали и собрали паровоз по винтику, хотя цех не был приспособлен для такого ремонта. Одновременно работали заводские экономисты. Они подсчитали, что спасенный комсомольцами паровоз даст предприятию чистой экономии 10 тысяч 959 рублей 30 копеек — ежегодно. Но ребят, как вы сами понимаете, больше интересовала не материальная, а моральная сторона этого вопроса…* * *
…И пришел день, когда коммунист Афанасий Иванович Мащенко — мастер на все руки, и комсомолец Василий Швец поднялись в будку паровоза. И Васек взялся рукой за рычаг, который, казалось, сохранил тепло отцовской ладони. Весело, раскатисто пропел свисток, вздрогнули могучие колеса, и № 7565, сверкая голубой краской и ало-золотистым комсомольским значком, заново рожденный, вышел в свой первый рейс на заводские магистрали. А хлопцы, те, что вернули его из небытия, стояли, обнявшись, у ворот цеха, глядели ему вслед и, как вспоминают очевидцы, пели любимую песню комсомольцев 20-х годов: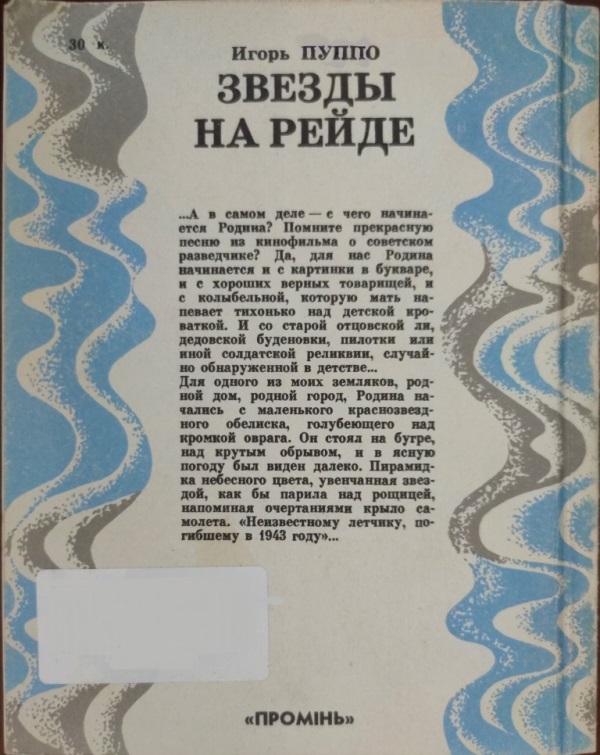 Игорь ПУППО
ЗВЕЗДЫ НА РЕЙДЕ
…А в самом деле — с чего начинается Родина? Помните прекрасную песню из кинофильма о советском разведчике? Да, для нас Родина начинается и с картинки в букваре, и с хороших верных товарищей, и с колыбельной, которую мать напевает тихонько над детской кроваткой. И со старой отцовской ли, дедовской буденовки, пилотки или иной солдатской реликвии, случайно обнаруженной в детстве…
Для одного из моих земляков, родной дом, родной город, Родина начались с маленького краснозвездного обелиска, голубеющего над кромкой оврага. Он стоял на бугре, над крутым обрывом, и в ясную погоду был виден далеко. Пирамидка небесного цвета, увенчанная звездой, как бы парила над рощицей, напоминая очертаниями крыло самолета. «Неизвестному летчику, погибшему в 1943 году»…
Игорь ПУППО
ЗВЕЗДЫ НА РЕЙДЕ
…А в самом деле — с чего начинается Родина? Помните прекрасную песню из кинофильма о советском разведчике? Да, для нас Родина начинается и с картинки в букваре, и с хороших верных товарищей, и с колыбельной, которую мать напевает тихонько над детской кроваткой. И со старой отцовской ли, дедовской буденовки, пилотки или иной солдатской реликвии, случайно обнаруженной в детстве…
Для одного из моих земляков, родной дом, родной город, Родина начались с маленького краснозвездного обелиска, голубеющего над кромкой оврага. Он стоял на бугре, над крутым обрывом, и в ясную погоду был виден далеко. Пирамидка небесного цвета, увенчанная звездой, как бы парила над рощицей, напоминая очертаниями крыло самолета. «Неизвестному летчику, погибшему в 1943 году»…
«ПРОМIНЬ» Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Последние комментарии
19 часов 8 минут назад
22 часов 5 минут назад
22 часов 6 минут назад
23 часов 8 минут назад
1 день 4 часов назад
1 день 4 часов назад